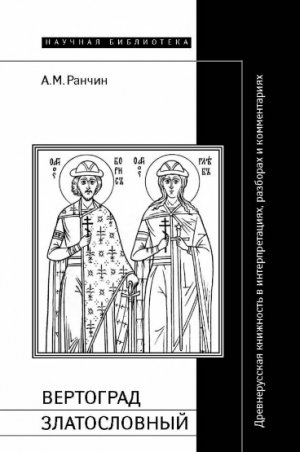
Об этой книге
Книга А. М. Ранчина представляет собой сборник научных статей, посвященных древнерусской книжности и сгруппированных в несколько тематических «блоков»: общие проблемы интерпретации памятников древнерусской словесности; история создания Борисоглебской агиографии, формирование почитания святых Бориса и Глеба, поэтика житий святых братьев-страстотерпцев; историософия и поэтика в раннем летописании, в «Слове о полку Игореве», в книжности московского периода; поэтика пространства в древнерусской словесности; формирование автобиографического повествования в словесности конца XVI–XVII вв. (сочинения Мартирия Зеленецкого, Елеазара Анзерского, Аввакума и Епифания). Автор книги, исходя из абсолютно справедливого, хотя и сейчас недостаточно учитываемого положения о религиозной природе древнерусской книжности и ее связи со Священным Писанием, анализирует глубинные структуры в древнерусских сочинениях, раскрывает их «неявную» символику. Этот подход представляется мне очень плодотворным и насущным для современной отечественной медиевистики. Очень интересными и новаторскими являются многие идеи А. М. Ранчина, в частности, связанные с формированием памятников Борисоглебского цикла. (Эти статьи образуют в книге большой цикл, по существу «маленькую монографию».)
Интерпретация памятников древнерусской книжности в этой книге основана на внимательном и очень тонком их прочтении. Порою это приводит к неожиданным выводам, которые, однако же, не представляются голословными. Пример такого рода — истолкование историософских идей и трактовки истории в «Слове о полку Игореве». Несомненное достоинство включенных в эту книгу исследований заключено в многочисленных параллелях с произведениями, принадлежащими к другим литературным традициям.
Я на протяжении значительного времени внимательно слежу за работами А. М. Ранчина и оцениваю их весьма высоко. Его книга — это серьезное научное исследование, написанное автором, участливо относящимся к древнерусской словесности и — сколь ни банально это звучит — любящим ее. Мне думается, эта книга будет небезинтересна[1] не только для медиевистов.
24 декабря 2004 г.
Владимир Николаевич Топоров,действительный член Российской Академии наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН.
Вместо предисловия
Саше и Эльфу
Работы, включенные в книгу, посвящены различным периодам в истории древнерусской литературы — с XI по XVII век. Исследуются жития князей-страстотерпцев (прежде всего, Сказание о Борисе и Глебе), Житие Феодосия Печерского, Повесть временных лет, сочинения протопопа Аввакума и другие памятники. Анализируется семантика древнерусских произведений и категории текста, отражающие мировосприятие древнерусских книжников. Особое внимание уделяется оппозиции «прошлое — настоящее» и символическому наполнению различных повторяющихся триад (утроенных событий и «персонажей»). Представляется, что единство подхода и проблем, затрагиваемых в этих работах, позволяет рассматривать книгу не как сборник статей, а, скорее, как монографию, посвященную исследованию семантических структур древнерусской книжности. Вместе с тем я намеренно отказался от устранения некоторых повторяющихся в разных работах фрагментов, содержащих одни и те же интерпретации и замечания, когда сохранение таких повторов диктовалось общей идеей исследования.
Большинство работ прежде публиковались в научных сборниках и журналах; примерно половина вошла в мою книгу «Статьи о древнерусской литературе» (М.: Диалог-МГУ, 1999), изданную символическим тиражом в 100 экземпляров.
При републикации прежде печатавшихся статей исправлены закравшиеся в них опечатки и допущенные неточности. Тексты некоторых статей переработаны — сокращены или же, напротив, очень существенно расширены.
За время, прошедшее после первой публикации работ, включенных в этот сборник, некоторые цитируемые в них статьи отечественных исследователей вышли в свет в переработанном виде в составе монографий; появились и новые научные издания анализируемых в этой книге текстов. Тем не менее, я счел возможным не ссылаться последовательно на новые публикации, ограничившись необходимой унификацией сносок.
Указания на исследования последних лет включены в случаях, когда они содержат принципиально новые идеи или фактические сведения, непосредственно относящиеся к темам статей. Наблюдения и интерпретации, представленные в этих исследованиях, отражены и оценены в комментариях.
Древнерусские тексты цитируются в упрощенной орфографии: не употребляются церковно-славянские буквы, отсутствующие в современном алфавите. «Ъ» и «Ь» сохраняются во всех позициях (за исключением случаев, когда они отсутствуют в публикации текста); «ѣ» заменяется буквой «Е». Прекрасно памятуя и о правилах изданиях древнерусских текстов, установленных в научной серии «Труды отдела древнерусской литературы», предписывающих сохранять «ѣ» по крайней мере при цитировании текстов XI–XIV вв., и также помня настояние известного палеографа В. Н. Щепкина: «<…> следует точно воспроизводить употребление знаков Е и ѣ» [Щепкин 1999. С. 200], автор этой книги осмелился заменить «ѣ» на «Е» во всех цитатах из древнерусских текстов, поскольку в некоторых из цитируемых научных изданий такая замена уже была произведена. Отказ от воспроизведения «ѣ» в первоначальных версиях текста ряда из переиздаваемых в моей книге статей объяснялся техническими причинами.
Ограничивающая унификация представлялась мне при подготовке книги более уместной, чем разнобой, отражающий эдиционные принципы разных изданий. Различение «Е» и «ѣ» существенно прежде всего в лингвистических и палеографических исследованиях, однако вопросы лингвистики и палеографии в моей книге не рассматриваются. В качестве примера современных ценных исследований, в которых буква «ѣ» не воспроизводится при цитировании древнерусских текстов, укажу, например, книгу В. Я. Петрухина «Древняя Русь: Народ. Князья. Религия» [Петрухин 2000б] и книгу М. Б. Плюхановой «Сюжеты и символы Московского царства» [Плюханова 1995].
Буква «ѣ» сохраняется во фрагментах древнерусских текстов, приводимых другими исследователями, работы которых я цитирую.
Титла раскрываются посредством помещения сокращенных букв в скобки, если в цитируемом издании-источнике они не раскрыты, выносные буквы выделены курсивом. В большинстве статей при раскрытии титл буквы заключаются в квадратные скобки. Выносные буквы набраны курсивом, если они выделены в цитируемом издании. Пунктуационные знаки в цитатах из древнерусских текстов расставлены в соответствии с современными правилами.
Все выделения в цитатах, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежат авторам цитируемых текстов.
В предисловии к книге «Статьи о древнерусской литературе» мною уже была выражена глубокая признательность В. М. Живову и В. Н. Топорову, которые любезно согласились ознакомиться с некоторыми из моих работ, высказали доброжелательные и критические замечания и указали на ряд неизвестных автору исследований. Также я выразил благодарность О. В. Гладковой, в беседах с которой оформились некоторые вошедшие в ряд моих работ наблюдения. Я считаю приятным долгом повторить эти слова признательности и сейчас. Сейчас я хотел бы добавить к этому выражению признательности также благодарность А. В. Лаушкину и И. Чековой (Димитровой).
В Приложении под названием «Фрески» печатается цикл стихотворений автора этой книги, посвященных событиям и лицам древнерусской истории или навеянных памятниками древнерусской книжности. Эти поэтические тексты выражают «другой» (в сравнении с научными статьями) взгляд на далекое прошлое Руси. Сочетание этих двух точек зрения придает воссоздаваемой картине древнерусской словесности стереоскопичность и приближает мир прошлого к настоящему — или же свидетельствует об их безмерной отдаленности друг от друга. От переложения древнерусского текста до его иронической, скорее, не деконструкции, а деструкции — таковы границы поэтического видения.
I
К герменевтике древнерусской словесности[2]
Кардинальные понятия герменевтики — предструктура понимания и герменевтический круг. Сжатая характеристика герменевтического круга принадлежит Х.-Г. Гадамеру: «Всякое правильное истолкование должно отрешиться от произвола озарений и ограниченности незаметных мыслительных привычек и сосредоточить внимание на „самих фактах“ (для филолога ими являются осмысленные тексты, которые, в свою очередь, говорят о фактах). Очевидно, что позволить фактам определять его действия является для интерпретатора не каким-то внезапным „смелым“ решением, но действительно „первой, постоянной и последней задачей“. Ведь речь идет о том, чтобы придерживаться фактов вопреки всем искажающим воздействиям, которые исходят от самого толкователя и сбивают его с верного пути. Тот, кто хочет понять текст, постоянно осуществляет набрасывание смысла. Как только в тексте начинает проясняться какой-то смысл, он делает предварительный набросок смысла всего текста в делом. Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь потому, что мы с самого начала читаем текст, ожидая найти в нем тот или иной определенный смысл. Понимание того, что содержится в тексте, и заключается в разработке такого предварительного наброска, который, разумеется, подвергается постоянному пересмотру при дальнейшем углублении в смысл текста»[3].
Необходимое, но недостаточное условие правильного, адекватного понимания текста — отсутствие при интерпретации смысловых «лакун», «разрывов», неясностей. Недостаточным это условие оказывается прежде всего в случае интерпретации художественных текстов, отличительная особенность которых — наличие нескольких, вступающих в сложное взаимодействие языков (в семиотическом смысле слова) кодов. Интерпретатор может игнорировать, не заметить какой-либо из этих кодов, в результате чего структура текста будет обеднена и смыслы, существенные для составителя или составителей этого текста, окажутся утрачены или редуцированы. Вместе с тем текст будет осмыслен, очевидные «лакуны», возможно, и не возникнут.
Изучение древнерусской словесности создает как раз одну из таких герменевтических ситуаций. С одной стороны, значительная часть памятников древнерусской книжности обладает несомненными признаками «литературности». С другой — эта «литературность» не осознается в качестве самостоятельного феномена, так как подчинена иным, внеэстетическим функциям: религиозно-экзегетической, дидактической. Соответственно, древнерусская культура в отличие от культур латинского Запада и Византии до XVII столетия не знала текстов металитературного характера — риторик и поэтик, содержащих правила, по которым создаются словесные тексты. Исследователь, занимающийся истолкованием древнерусских словесных произведений, вынужден выводить правила, по которым они построены, из самих этих текстов. Ситуация представляется относительно благополучной, когда анализируется памятник, принадлежащий к значительной группе текстов однородной структуры. Так, интерпретации жития, хожения или летописи способствует контекст, который составляют соответственно другие агиографические произведения, описания паломничеств или летописные своды. Совсем иной случай — понимание уникальных текстов. Классический пример — Слово о полку Игореве, проблема истолкования которого наиболее емко и выразительно была обозначена Б. М. Гаспаровым:
«Изучение художественной структуры „Слова о полку Игореве“ является особой, уникальной исследовательской задачей. Понимание того, как организован художественный текст, в чем состоит его природа как произведения словесного искусства, в сильнейшей степени зависит от ряда предварительных сведений об этом тексте: знания <…> эпохи и культурного ареала, к которым он принадлежит, жанровой природы текста, литературной традиции, в которую он вписывается, наконец, степени сохранности дошедших до нас копий. Все эти сведения служат исходной точкой отсчета, определяющей тот угол зрения на рассматриваемый текст, под которым исследователю открываются внутренние закономерности его построения. Радикальное изменение этой исследовательской презумпции неизбежно ведет к столь же радикальному изменению в понимании того, что представляет собой данный текст как художественное целое и какое значение имеют те или иные отдельные компоненты этого целого».
[Гаспаров 2000. С. 5]
Ситуация с интерпретацией этого произведения представляется почти тупиковой:
«Не располагая непосредственными данными, которые позволяли бы получить прямой ответ на все эти вопросы, исследователь вынужден извлекать возможный ответ косвенным путем, на основании рассмотрения самого текста. <…>
Таким образом, возникает замкнутый круг: характер изучения текста попадает в зависимость от сведений, которые, в свою очередь, могут быть получены только как косвенный результат изучения этого текста».
[Гаспаров 2000. С. 7–8]
Разногласия исследователей в истолковании Слова о полку Игореве, несомненно, вызваны именно этими обстоятельствами и являются очень серьезными. Мнения об отношении составителя этого произведения к князю Игорю колеблются от идеи о прославлении или по крайней мере симпатии к новгород-северскому правителю до уверенности, что Игорь безусловно и бесповоротно осужден. Языческие элементы в Слове о полку Игореве интерпретируются и как метафоры (в широком смысле слова), и как свидетельства конфессиональной принадлежности составителя этого текста. Но получила распространение и точка зрения на Слово о полку Игореве как на христианскую по духу повесть, в которой развернуты библейские мотивы. При таком истолковании языческая образность превращается в «маргиналии» на полях христианского текста. Недавно это мнение уверенно высказал Р. Пиккио:
«Если библейский лейтмотив действительно лежит в основе всего „Слова о полку Игореве“, то не трудно будет поместить немногие риторические „языческие“ (или, можно сказать, „нехристианские“) элементы, которые действительно присутствуют в „большом отступлении“, в ораторский контекст примечания к повести, не меняя при этом наше прочтение самой повести в религиозном ключе, в соответствии с жанровыми схемами exemplum’a, общими для всех средневековых христианских литератур.
<…> Если мы действительно сможем поместить „Слово о полку Игореве“ в его естественный религиозный контекст, мы будем способствовать преодолению вековых предубеждений».
[Пиккио 1997. С. 443]
Другой древнерусский памятник (или взаимосвязанная пара текстов), вызывающий крайне разноречивые интерпретации, — Слово (и Моление) Даниила Заточника. Не установленным остается статус текста. Оценки интерпретаторов разнятся вплоть до диаметрально противоположных: мнение о пародичности Слова, о Слове как об игровом тексте соседствует с истолкованием этого памятника как произведения безусловно серьезного; наряду с представлением о Данииле Заточнике как о «литературной маске», условном образе искусного витии и мудреца, вкусившего бедствий и жаждущего милости от правителя, бытует идея о Данииле как об историческом лице, действительно испытавшем гонения.
Слово о полку Игореве и Слово Даниила Заточника — произведения, не имеющие аналогов в древнерусской словесности. (Сколь бы ни был обширен список параллелей из других памятников книжности к отдельным фрагментам этих двух произведений, это не меняет существа дела.) Но и в отношении древнерусских текстов, относящихся к сложившимся типам словесности, существуют определенные проблемы. Ограничусь двумя примерами.
Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона — произведение, относящееся к торжественному церковному красноречию. Богословский смысл этого памятника, и прежде всего ключевой оппозиции «Ветхий завет Моисея с Богом — Новый завет человечества с Богом через Иисуса Христа», в общем и целом понятен. Сложности возникают при интерпретации актуальной семантики текста, его прагматического (в семиотическом смысле слова) аспекта: какое насущное, злободневное значение имела эта оппозиция в применении к современной ситуации, в применении к Киевской Руси? Какую историософскую идею собирался Иларион донести до слушателей/читателей? Как похвала Владимиру-крестителю Руси контекстуально связана с оппозицией «иудаизм — христианство»? В отечественной медиевистике распространена следующая точка зрения: Иларион подспудно полемизирует с византийской религиозно-государственной идеей о верховенстве Константинополя над новокрещеными «варварскими» странами и утверждает равное христианское достоинство Руси и Византии[4]. Согласно другому мнению, актуальной для Киева середины XI столетия была оппозиция «иудаизм — христианство» как таковая: в городе обитала влиятельная иудейская община и спор иудаизма с христианством не был решен окончательно[5]. Относительно недавно была представлена новая интерпретация Слова о Законе и Благодати: С. Я. Сендерович, отвергнув мнения о полемике Илариона с византийцами и иудеями, истолковал текст Илариона как развертывание восходящего к апостолу Павлу мотива о превосходстве младшей ветви (Исаака над Исавом, русского народа над византийцами) [Сендерович 1999. С. 43–57].
Другой случай — Повесть о Петре и Февронии Ермолая-Еразма, произведение, функционировавшее как агиобиография (включавшееся в состав сборников житийного состава) и содержащее ряд эпизодов, типичных для агиографии, но построенное на сюжетных мотивах змееборчества и брака князя с мудрой девой, инородных для жития и имеющих аналоги в фольклоре. Традиционное в отечественной медиевистике мнение заключается в том, что Повесть о Петре и Февронии — повествование о любви сказочно-новеллистического характера, лишь формально адаптированное к требованиям, предъявляемым к агиобиографии[6]. Однако высказывалось и другое, противоположное мнение: произведение Ермолая-Еразма — текст с религиозной семантикой, имеющий символическую природу: это символическая реализация мотивов брака правителя-змееборца и Премудрости [Плюханова 1995], притча об одолении грехов, благочестивом супружестве, смирении и отказе от мирских страстей [Демкова 1996].
Герменевтические проблемы, возникающие в случае анализа уникальных, единичных текстов, по-видимому, не могут быть однозначно разрешены в принципе. Любое понимание, приближение к таким текстам остается не просто относительным, но рискованным, и может претендовать лишь на права гипотезы. Интерпретация же текстов, вписывающихся в определенную традицию, может в принципе претендовать на бесспорность, хотя и здесь истолкование конкретных текстов далеко не всегда оказывается неопровержимым и несомненным.
Произведение — это не только письменный текст как таковой, но и его прочтения, обязательные для современников автора. Для адекватного истолкования текста необходимо соблюдение ряда герменевтических правил.
Первое — это презумпция религиозной семантики интерпретируемого текста: древнерусская словесность и шире, litteratura Slavia Orthodoxa, религиозна по своей сущности; письменный язык (славянская азбука) создан по благодати Божией для перевода сакральных текстов, означаемое и означающее связаны в нем непроизвольно, неконвенционально[7]. Соответственно, интерпретация древнерусского памятника как произведения, воплощающего религиозные мотивы, всегда предпочтительна в сравнении со стремлением обнаружить в нем, например, государственно-политические идеи (Слово о Законе и Благодати) или любовную тему (Повесть о Петре и Февронии). Обратное допустимо лишь тогда, когда произведение никак не вписывается в круг церковной книжности и когда иные, не религиозные мотивы представлены в нем в эксплицитной форме.
Показательный и убедительный пример анализа древнерусского памятника в религиозном контексте — интерпретация Повести временных лет И. Н. Данилевским, открывающая библейские семантические архетипы даже у тех летописных сказаний, которые принято рассматривать как письменную фиксацию фольклорных произведений, исторических преданий[8].
Однако презумпция религиозной семантики древнерусской словесности автоматически не доказывает правильность того или иного конкретного прочтения определенного текста как хранителя символических религиозных смыслов. Истолкования Повести о Петре и Февронии, предложенные М. Б. Плюхановой и Н. С. Демковой, остаются (и, по-видимому, останутся) замечательными гипотезами, а не бесспорной истиной. Традиционная же характеристика победы князя Петра над змеем и женитьбы на мудрой деве Февронии как фольклорных мотивов представляется некорректной. Даже если Ермолай-Еразм воспользовался сюжетом волшебной сказки или опирался на предание о болезни и браке рязанского князя, в новом контексте, в повествовании о святых супругах эти сюжетные элементы приобрели иной, христианский смысл, оказались подчинены поэтике агиобиографии.
Вообще, при интерпретации древнерусских памятников весьма актуально требование о разграничении генезиса и функции[9], которое можно назвать «вторым герменевтическим правилом». Тот или иной мотив, образ, эпизод, сюжет должен определяться не по своему происхождению, а по функции в тексте. К примеру, определение сказаний (прежде всего — этиологического содержания) в начальной части Повести временных лет как исторических преданий, вероятно, корректно генетически, но не учитывает семантики этих фрагментов в новом контексте. Так, повествование о Кие и его братьях, вероятно, восходящее к фольклорному преданию[10], в летописи встроено в целостный ряд событий, в «текст о происхождении власти на Руси». Это ряд фрагментов, содержащих тернарные структуры: сказания о трех правителях, разделяющих между собой некую территорию. Таковы, прежде всего, рассказы о разделении земли между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом, о княжении Кия, Щека и Хорива и о призвании варягов Рюрика, Трувора и Синеуса. Представление о трех братьях-прародителях и основателях имеет глубинные мифологические истоки. В Повести временных лет сказание о Кие и его братьях включено в общий текстовой пласт с открывающим ее рассказом о расселении народов-потомков трех сыновей Ноя. История в осмыслении средневековых книжников представала повторением и «обновлением» неких архетипических событий [Лотман 1993]. Сим, Хам и Иафет, делящие землю, — прообраз триады русских правителей, символизирующих автохтонный исток власти (Кий и его братья), и триады варягов, персонифицирующих «внешнюю», иноземного происхождения власть, устанавливающую порядок[11].
Другой пример — летописное сказание о княгине Ольге, включенное в Повесть временных лет под 6463 (955) годом. Согласно распространенному мнению, высказанному еще А. А. Шахматовым, эта летописная статья имеет компилятивный характер и в ней будто бы соединены известия двух различных источников: церковной легенды о крещении Ольги и фольклорного текста — предания о сватовстве императора к русской княгине и о его посрамлении Ольгой [Шахматов 1908. С. 110–118, 468–469; ср. Шахматов 2001. С. 26–90, 391]. Это мнение было оспорено С. Ф. Платоновым, указавшим на целостный характер летописной статьи о посещении русской княгиней Царьграда: «Цель автора — наглядно противопоставить отношение Ольги к патриарху ее же отношению к царю и извлечь из мудрой политики вещей княгини поучительный пример и образец для всей Руси. <…> Летописец не упускает случая лишний раз отметить, чего именно искала Ольга в Царьграде, — сопоставлением ее с царицею Эфиопскою. Та желала узнать мудрость царя Соломона, мудрость „человеческую“; она же искала Божией премудрости. Не „Соломон“ византийский привлекал ее; в своих исканиях она стремилась в Царьград не к царю, а к самому истинному Богу, ничего не ища у царя» [Платонов 1919. С. 286–287].
Однако в повествовании о сватовстве императора к Ольге представлен характерный для фольклора мотив «сватовство — хитроумный отказ», прежде встречавшийся также в сказании о мести Ольги древлянам под 6453 (945) годом[12]. В рассказе же о крещении Ольги патриархом мотивов, присущих фольклорным произведениям, нет. Это отличие может действительно указывать на фольклорный генезис сюжета об Ольге и императоре. Формально А. А. Шахматов, вероятно, прав. Но в контексте Повести временных лет этот сюжет и сюжет о крещении княгини патриархом составляют единое целое, и потому по существу прав все-таки С. Ф. Платонов.
Еще одно естественное правило: предлагаемая интерпретация должна основываться на данных текста как целого, а не его отдельного фрагмента. В отношении произведений Нового времени это требование не является обязательным, так как они часто построены из сравнительно самостоятельных, семантически разнородных частей. Но памятники древнерусской словесности — семантически целостные тексты, а потому интерпретация должна учитывать все элементы их структуры. С этой точки зрения, истолкование Слова о Законе и Благодати С. Я. Сендеровичем более убедительно, чем иные интерпретации, поскольку в полной мере учитывает функцию текста — произведения церковного красноречия и встраивает фрагмент, посвященный Руси и князю Владимиру, в единый богословско-историософский ряд, в котором воплощен мотив благословения младшей линии: Исаак — младший сын Авраама, христианство — как бы младшая ветвь иудаизма, христианство на Руси — младшая в сравнении с византийским христианством отрасль христианской веры.
Эта интерпретация в принципе не исключает антииудаистской и антивизантийской направленности Слова о Законе и Благодати, однако такая направленность произведения Илариона недоказуема.
Показательный пример зависимости истолкования от структуры текста как целого — интерпретации Сказания о Борисе и Глебе. В отечественной медиевистике советского времени господствовала идея об утверждении принципа подчинения старших князей младшим как о лейтмотиве Борисоглебских памятников[13]. Сторонники противоположной точки зрения интерпретировали Борисоглебский культ и тексты (в том числе Сказание о Борисе и Глебе) как воплощение мотива о добровольной жертве в подражание Христу[14]. Непротивление старшему брату Святополку действительно присуще и Борису, и Глебу. Однако текст открывается цитатой из Псалтири (Пс. 111:2): «Родь правыихъ бл[а]ословить ся рече прор[о]къ и семя ихъ въ бл(а)гословлении будеть»[15]. Текст обнаруживает соответствия с евангельским повествованием о распятии Христа. Ночное уединенное моление Бориса[16] соотнесено с молением Христа о чаше; слова Бориса убийцам, выражающие приятие горестного и вместе с тем радостного жребия, напоминают о Христе, приемлющем предуготованное; Борис молится перед иконой Христа, прося его сподобить такой же смерти. Тело умершего Христа пронзено копьем (Ин. 19: 34), убийцы копьями пронзают тело Бориса. Борис уподобляет себя овну: «въмениша мя яко овьна на сънедь» [Успенский сборник 1971. С. 49, л. 126]. Глеба убивает ножом, как агнца, собственный повар Горясер; эти именования Бориса и Глеба уподобляют их Христу — Агнцу Небесному. Роль повара-предателя похожа на роль отступника Иуды. Глеб, обращающий слова моления к убийцам, именует себя молодой лозой — а ведь виноградной лозой называет себя Иисус Христос (Ин. 15:1–2).
При интерпретации конкретного текста другие тексты, составляющие его смысловое окружение, семантическое поле, выступают для исследователя в роли кодов. Но если прямые отсылки к этим текстам отсутствуют, то должны учитываться только сведения из них, имеющие «общеобязательный» характер, отражающие «картину мира», содержащие набор категорий, присущих средневековому сознанию.
Вписывание произведения в семантическое окружение, в смысловой контекст, обязательный для составителя и первых читателей-современников, часто представляет собой герменевтическую проблему. Частный случай такой проблемы — интерпретация древнерусских книжных памятников посредством фольклорных мифопоэтических кодов. В замечательной статье Ф. Бадалановой-Покровской и М. Б. Плюхановой «Средневековая символика власти в Slavia Orthodoxa» повествование о Владимире Святом в Повести временных лет интерпретировано так: «Князь Владимир — креститель Руси всеми обстоятельствами был подготовлен на роль Нового Константина. В легендах Начальной летописи образ Владимира задан как образ могучего властителя — царя. Будучи язычником, он обеспечивает процветание земли своей мужской мощью. Его беспредельное женолюбие подобно женолюбию великих ветхозаветных царей — Давида и Соломона. Приняв крещение, он, как Константин, устроил страну силою креста. <…> Владимир берет город, <…> вступает в брак с царевной, крестится, излечивается от болезни. Каждый из этих мотивов является условием появления другого и символически тождествен любому другому <…>. В житии Константина из всех перечисленных мотивов редуцирован только мотив брака» [Бадаланова-Покровска, Плюханова 1993. С. 118–119].
Реализация в Корсунской легенде о крещении Владимира (Повесть временных лет под 6496 (988) г.) мифологемы «взятие города — брак» несомненна. Сходная цепь мотивов содержится в повествовании о взятии Владимиром Полоцка и превращении полоцкой княжны в наложницу киевского правителя[17]. Эквивалентность для летописца мотивов овладения городом и брака доказуема, однако, прежде всего не в контексте дохристианской мифопоэтической традиции, которая могла отторгаться летописцем-монахом, а в свете неоспоримой для древнерусских книжников библейской символики города-девы и города-блудницы[18]. Несомненна и соотнесенность Владимира с Соломоном — не только как женолюбцев, но и как храмостроителей[19]. Однако «блудный нрав» киевского князя до крещения, для языческого сознания связанный с обеспечением могущества и плодородия земли, не мог так же восприниматься летописцами-христианами. Хотя прямая оценка женолюбия Владимира-язычника в Повести временных лет не дана, в летописном тексте похотливость князя могла восприниматься только как грех, с которым контрастирует целомудрие Владимира-христианина, вступившего в благочестивый брак с византийской царевной Анной.
Проблема интерпретации повествования о Владимире-блуднике связана с различной семантикой текста в диахронии и синхронии: в исторической ретроспективе похотливость Владимира может прочитываться как ритуальное поведение, обладающее символико-магическим смыслом, но в синхронии, для христианских книжников-летописцев и их древнерусских читателей, эта исходная поведенческая семантика утрачена.
Вполне возможно и допустимо прочтение текста с целью обнаружить стоящие за ним реалии и мифологемы, отраженные книжником ненамеренно: древнерусский книжник как бы «проговаривается», интерпретатор же стремится «уличить» его. Так Е. Рейсман и Г. Ленхофф анализируют Сказание о Борисе и Глебе. Г. Ленхофф обнаруживает в деталях описания чудес, происходящих возле брошенного убийцами тела Глеба, пережитки язычества (культ огня) в народном почитании страстотерпца; сообщение, что эти чудеса созерцали купцы, охотники и пастухи, она трактует как свидетельство о первоначальном народном, а не княжеско-боярском характере почитания Глеба [Lenhoff 1989. Р. 37–40]. Е. Рейсман, анализируя детали убиения Глеба и погребения в лесу, утверждает, что убийцы следовали архаическому ритуалу жертвоприношения правителя [Reisman 1978].
Эти интерпретации небесспорны, однако вполне правомерны. Но необходимо отдавать себе отчет, что такая процедура — это не истолкование смысла текста, а реконструкция исторических событий и ментальности, совершаемая одновременно благодаря и вопреки свидетельствам текста.
Помимо проблемы выбора конфессионального контекста (реликты языческой мифопоэтики и/или христианская символика) интерпретация произведения словесности связана и с вопросом о выборе социально-культурного контекста, в котором должен рассматриваться этот словесный текст. Выразительный пример — Хоженые за три моря Афанасия Никитина. Б. А. Успенский, основываясь преимущественно на фольклорном материале и книжных свидетельствах о народной вере, пришел к выводу о дуальном характере древнерусской культуры, в которой были противопоставлены истинное поведение (благочестивое, христианское) и антиповедение (неблагочестивое, нехристианское); при этом выбор одной или другой поведенческой модели диктовался, в частности, семантикой пространства, в котором находился человек: в «чистом месте» предписывалось благочестивое поведение, в «нечистом» — антиповедение. В рамках этой концепции загадочные молитвы тверского купца на макароническом татарско-персидско-арабском языке интерпретируются как антиповедение в «нечистом месте» — в нехристианской Индии, естественное для русского средневекового человека [Успенский 1979; Успенский 1996б]. Это мнение было оспорено исследователями, указавшими, что антиповедение было распространено на Руси в простом народе, но его никак не мог признать правильным в «нечистом месте» образованный христианин, которым бесспорно был составитель Хожения за три моря. «Восточные» молитвы в сочинении Афанасия Никитина свидетельствуют, что в Индии он перешел в мусульманство [Ленхофф, Мартин 1993].
Выявление неявных смыслов, растворенных в тексте, но бесспорных для древнерусских книжников и читателей, должно подтверждаться несколькими свидетельствами этого текста. Попробуем показать это на примере анализа семантики пространства в Сказании о Борисе и Глебе.
Пространство в средневековом культурном сознании не было нейтральной географической категорией: «<…> земля как географическое понятие одновременно воспринимается как место земной жизни (входит в оппозицию „земля — небо“) и, следовательно, получает не свойственное современным географическим понятиям религиозно-моральное значение. Эти же представления переносятся на географические понятия вообще: те или иные земли воспринимаются как земли праведные или грешные. Движение в географическом пространстве становится перемещением по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей, верхняя ступень которой находится на небе, а нижняя — в аду» [Лотман 1996. С. 239].
Такое восприятие пространства — частный случай мифологического и религиозного осмысления мира. По характеристике М. Элиаде, «для религиозного человека пространство неоднородно: в нем много разрывов, разломов; одни части пространства качественно отличаются от других. „И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая“ (Исход, III, 5). Таким образом, есть пространства священные, т. е. „сильные“, значимые, и есть другие пространства, неосвященные, в которых якобы нет ни структуры, ни содержания, одним словом, аморфные. Более того, для религиозного человека эта неоднородность пространства проявляется в опыте противопоставления священного пространства, которое только и является реальным, существует реально, всему остальному — бесформенной протяженности, окружающей это священное пространство. <…>
Появление священного онтологически сотворяет мир. В однородном и бесконечном пространстве, где никакой ориентир невозможен, где нельзя ориентироваться, иерофания обнаруживает абсолютную „точку отсчета“, некий „Центр“»[20].
Помимо Священного Писания, которым определялось древнерусское культурное сознание, существуют и многочисленные свидетельства подобного восприятия пространства, отраженные в древнерусской градостроительной практике и письменности. Раннесредневековый Киев создавался «во образ и подобие» священных городов — Иерусалима и Константинополя, а также Небесного Иерусалима, как он описан в Откровении святого Иоанна Богослова. Ориентация на эти модели священного города отражена как в планировке, так и в топонимике (Святая София по подобию цареградской, Золотые ворота по подобию иерусалимских и цареградских)[21]. Осмысление Киева как священного города присуще и древнерусской книжности: оно имплицитно содержится в Слове о Законе и Благодати Илариона [Топоров 1995. С. 269–276]. Предыстория, архетипическое начало христианского бытия Русской земли в Повести временных лет — благословение Киевских гор апостолом Андреем. Киев, стоящий на горах, и населяющие его кроткие и ведающие закон поляне противопоставлены летописцами древлянам, живущим в лесах «звериным обычаем»: в оппозиции «открытое место — лес» поле и город противопоставлены как «чистое» пространство пространству «нечистому»; в то же время Киев как высокое место, приближенное к небу контрастирует с низинами, заросшими лесом. В свете библейской традиции киевские горы приобретают дополнительный сакральный смысл[22].
Попробуем распространить эту модель на поэтику пространства в Сказании о Борисе и Глебе, в котором пространство и отдельные локусы, «точки» лишены прямых семантических характеристик. Исходная ситуация в Сказании такова: Вышгород — своеобразный субститут Киева (резиденция киевских князей в окрестностях столицы) — становится местом пребывания нечестивца Святополка; именно здесь Святополк ночью совещается с убийцами и отсюда посылает их на совершение злодеяния. Великий грешник, ставший киевским князем, овладевает священным городом, — это нарушение исконного, истинного соответствия между местом в пространстве и человеком, этим местом владеющим. Святые же Борис и Глеб, которые и должны пребывать в сакральном пространстве, гибнут вдали от Киева по разные стороны — к югу и к северу — от стольного града. Тело Глеба было брошено без погребения, в лесу — в «нечистом» месте. Таким образом, несоответствие между семантикой пространства и положением в этом пространстве житийных «персонажей» усугублено. Святополк и его приспешники на самом деле причастны адскому миру, ад как бы локализуется там, где они находятся. Не случайно сообщение о возвращении убийц к своему господину сопровождается цитатой из Псалтири (Пс. 9:18): «Оканьнии же они убоице възвративъше ся къ посълавшъшюуму я, яко же рече Д[а]в[ы]дъ: Възвратять ся грешьници въ адъ и въси забывающии Б[ог]а» [Успенский сборник 1971. С. 53, л. 15а]. И напротив, пустынное место, где брошено тело Глеба, освящается мощами святого и превращается в храмовое пространство, возле тела святого чудесно возгораются свечи и слышится пение: проходившие мимо купцы, охотники и пастухи «овогда свеще горуще и пакы пения анг[е]льская слышааху» [Успенский сборник 1971. С. 54, л. 156].
С победой Ярослава, отомстившего за братьев окаянному Святополку, истинное соответствие между «персонажами» жития и сакральным пространством восстанавливается. Тела Бориса и Глеба с почестями переносят в Вышгород и погребают в церкви. Мощи святых оказываются в центре Руси, братоубийца изгоняется на периферию русского пространства. Святополк бежит из Русской земли и умирает «зле» в «пустыне» «межю Чехы и Ляхы» [Успенский сборник 1971. С. 54, л. 15 г], то есть как бы в пространственном вакууме, в межграничье, «нигде»[23]. Передвижению «персонажей» Сказания о Борисе и Глебе в пространстве по горизонтали, имеющему ценностный символический смысл, соответствует такое же символическое движение по вертикали. Святополк «и муце, и огню предасться. И есть могыла его и до сего д(ь)не, и исходить оть нее смрадъзлыи <…>» [Успенский сборник 1971. С. 55, л. 15]. Злой смрад — знак пребывания души Святополка под землей, в аду. Души же Бориса и Глеба возносятся в небо, к престолу Бога, а их тела, нетленные и не источающие смрада, положены в Вышгороде — городе, в чьем названии присутствует сема «вышина», «высота». Агиограф обыгрывает внутреннюю форму названия «Вышгород», наделяя этот город признаком избранности и славы, связанной со святыми братьями: «Блаженъ по истине и высокъ паче всехъ градъ русьскыихъ и вышии градъ, имыи въ себе таковое скровище, ему же не гьчьнъ ни вьсь миръ. По истине Вышегородъ наречеся, вышии и превышии городъ всехъ» [Успенский сборник 1971. С. 57, л. 156]. Прославлению Вышгорода предшествует цитата из Евангелия от Матфея (5:14–15), в которой также сказано о городе, находящемся в высоком месте, на горе: «Яко же рече Г[оспод]ь: Не можеть градъ укрыти ся врьху горы стоя» [Успенский сборник 1971. С. 55–56, л. 16 в].
Одновременно святое, истинное начало как бы совершает экспансию в пространство, прежде захваченное началом греховным: по воле Божией Ярослав одерживает окончательную победу над Святополком в том самом месте, где был убит Борис; корабль, в котором был предан смерти Глеб, был символом скорби, корабль, на котором перевозят тело Глеба в Вышгород, становится знаком торжества Бога и его исповедников.
Вероятно, иное восприятие Святослава — сводного брата Бориса и Глеба, также убитого Святополком, но не канонизированного и не почитавшегося, объяснялось не только тем, что его почитанию препятствовало представление о Борисе и Глебе как о благословенной паре, двоице[24], но и обстоятельства смерти Святослава, который был настигнут убийцами «в Уграх», за пределами или на границе Русской земли.
Такая интерпретация пространственного кода в Сказании о Борисе и Глебе опирается на неотъемлемые для древнерусского сознания представления и подтверждается значительным рядом свидетельств текста, причем эти свидетельства образуют устойчивую структуру.
Рассмотренные вопросы, конечно, не исчерпывают всех проблем герменевтического характера, связанных с анализом древнерусской словесности. Но очевидно, что при анализе этих произведений необходима постоянная рефлексия по поводу используемых подходов и инструментов анализа.
Еще раз о библеизмах в древнерусском летописании[25]
Стремление к изучению древнерусских летописей с точки зрения их соотнесенности со Священным Писанием отличает работы многих отечественных медиевистов — историков, антропологов, литературоведов (В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, В. М. Живова, В. Я. Петрухина, Н. С. Борисова, А. Н. Ужанкова и др.) Заметное явление в этом ряду — работы И. Н. Данилевского[26], который во многом и сделал данный подход к изучению предметом научной рефлексии, очертив трудности, с которыми сталкивается интерпретатор русских средневековых текстов: «о мировосприятии (древнерусского книжника. — Авт.) можно составить впечатление в основном по косвенным данным и едва ли не случайным „проговоркам“. Возникает некоторый порочный круг в изучении древнерусских источников (в изучении источников, скажем, западноевропейских такая проблема тоже, видимо, существует, но не приобретает такой остроты): с одной стороны, понять как следует содержание информации источника можно лишь после уяснения его общего смысла, с другой же стороны, понять цель создания источника, его социальные функции и основную идею можно, только выяснив, о чем, собственно, говорит его автор (а в явной форме он признаваться в этом чаще всего не хочет)» [Данилевский 1998а. С. 10–11].
Описанная ученым трудность действительно составляет проблему, обозначенную в герменевтике выражением-термином «герменевтический круг»[27]. Главным средством выхода за пределы этого круга И. Н. Данилевский считает анализ литературных форм, через которые «следует восстановить актуальное для его автора и потенциальных читателей содержание отдельных сообщений, памятника в целом, а уже тогда пытаться вычленить базовую идею, вызвавшую к жизни данное произведение» [Данилевский 1998а. С. 15]. Исходя из положения о религиозном характере всей древнерусской словесности (в том числе и летописания), И. Н. Данилевский видит одной из задач исследователя обнаружение параллелей с событиями Священного Писания; при этом он предлагает отказаться от традиционных критериев текстуального сходства: «Отсутствие прямых текстуальных совпадений вряд ли может служить сколько-нибудь веским аргументом для отрицания близости приведенных текстов. Здесь, видимо, речь должна идти о принципиально ином уровне текстологических параллелей, доказательство которых должно быть достаточно строгим, хотя и не основываться на буквальных повторах» [Данилевский 1998а. С. 12–13].
Презумпция религиозного содержания древнерусской словесности, в том числе летописей, равно как и мысль, что значимые параллели летописных фрагментов с библейскими сказаниями совершенно необязательно должны иметь вид точных цитат, не вызывают сомнения. «Восприятие истории в Средние века в значительной мере определялось знакомством с библейскими текстами: происходящие или произошедшие события воспринимались как значимые постольку, поскольку они соотносились с сакральными образцами <…>. Чем яснее, выразительнее было это соотнесение, тем значимее представали события; в предельных случаях могло иметь место непосредственное отождествление тех или иных событий или явлений с библейскими прообразами.
Библия, можно сказать, служила моделью восприятия мира, она задавала парадигму его прочтения: соотнесение с библейскими событиями определяло вообще достоверность, подлинность происходившего. И напротив, то, что не находило соответствия в священных текстах, воспринималось как незначительное или вовсе не замечалось, т. е. выпадало из культурного сознания»[28].
Древнерусская словесность, как и словесность других православных славянских стран (litteratura Slavia Orthodoxa), имеет религиозный характер и ориентирована на библейские образцы[29], при этом архетипические мотивы и ситуации из Священного Писания выполняют в древнерусских текстах роль «тематических ключей»[30]. В полной мере библейские образцы значимы и для русского летописания, особенно ранней поры. По характеристике В. Я. Петрухина, древнерусские летописцы, стремясь «выяснить историю включения древнейшей руси в мир славянства и христианской культуры», использовали «библейский „историко-генеалогический“ метод». В. Я. Петрухин даже склонен рассматривать композицию начальной части Повести временных лет (далее — ПВЛ) как подражание библейским книгам Бытия и Исхода: «<…> принципы построения своей истории оставались библейскими: славяне расселялись среди 70 языков, продолжая традицию Священного писания, и достигли центра будущей Русской земли — Среднего Поднепровья, Киева <…>. Вводная космографическая часть Повести временных лет завершается рассказом об избавлении славян (племени полян) от хазарской дани и власти русских князей над хазарами, подобно тому, как „погибоша еюптяне от Моисея, а первое быша работающе им“. Таким образом, обретение полянами своей земли в Среднем Поднепровье и утверждение там власти русских князей сопоставлялось с избавлением избранного народа от египетского плена и обретением земли обетованной — будущей христианской Руси <…>…Композиция Повести временных лет <…> воспроизводит традиционное деление библейских книг на Пятикнижие Моисеево (в частности, сюжеты Бытия и Исхода) и „исторические“ книги (Иисуса Навина, Судей, Руфь, 1–4 Царств). Пафос „пророческих“ книг передается летописцем в поучениях о „казнях Божиих“, обличением „двоеверия“ и т. п.» [Петрухин 2000б. С. 66–69][31]. Можно оспаривать утверждение о строгом соответствии структуры Ветхого Завета и ПВЛ и отдельные толкования[32], но не сам подход к летописному тексту, построенному на библейском коде. Плодотворность такого подхода засвидетельствована и работами И. Н. Данилевского, в которых, в частности, проанализированы параллели в ПВЛ «Владимир Святославич — царь Соломон», «одоление юношей кожемякой печенежина — победа Давида над Голиафом»[33]. Очень интересно толкование сказания о хазарской дани: обоюдоострые мечи, которые хазары получают как дань с полян и в которых «старци козарьстии» видят свидетельство будущей победы полян, интерпретированы И. Н. Данилевским в свете библейских параллелей как указание на богоизбранный народ [Данилевский 1998а. С. 327–335]. Труднооспоримы параллели между Библией и Житием Александра Невского и Библией и Повестью об убиении в Орде Михаила Тверского [Данилевский 2000. С. 181–182, 250]. Ценность и справедливость многих истолкований несомненны.
Увлечение этим подходом, однако же, сослужило исследователю плохую службу, введя в искушение искать библейские прообразы едва ли не для любого сюжета ПВЛ.
Считая представителем и идеологом «традиционного» интерпретационного подхода Д. С. Лихачева, И. Н. Данилевский направляет против него острие своей критики. За утверждение о тождестве мышления средневекового книжника с современным мышлением и за преуменьшение роли религиозного начала в воззрениях летописцев Д. С. Лихачев заслуживает от него упрек в лукавстве или искажении истины [Данилевский 2000. С. 13–14, 219]. Это замечание едва ли корректно: достаточно вспомнить, что третье издание книги Д. С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы», на которое ссылается И. Н. Данилевский, вышло в свет в 1979 г., когда акцентирование идеи о религиозном характере древнерусской культуры, мягко говоря, не приветствовалось. Полемизируя с мыслью Д. С. Лихачева о «литературном этикете» как эстетической основе устойчивых словесных формул, топосов в древнерусской книжности, И. Н. Данилевский настаивает на библейском происхождении этого феномена: древнерусские книжники повторяют выражения и речевые обороты, восходящие к Священному Писанию и апокрифам, и эти повторы предназначены для уподобления описываемых событий библейским образцам или событиям эсхатологическим[34].
В отдельных случаях это объяснение оправданно, но оно не опровергает идеи о «литературном этикете». Прежде всего, далеко не все словесные формулы в древнерусских текстах имеют библейское происхождение. Нет библейского источника у ряда «воинских формул», исследованных еще в начале XX в. А. С. Орловым. Формула, характеризующая святого в древнерусской агиографии, начиная со Сказания о Борисе и Глебе[35] и Жития Феодосия Печерского[36], — «земной ангел и небесный человек» — восходит к переводному Житию Саввы Освященного, написанному Кириллом Скифопольским[37], а не к Библии. Причем в древнерусской агиографии эта формула «оторвалась» от своего исходного контекста и воспринимается не как цитата (значимое вкрапление «чужого» текста), а как нефункциональное заимствование[38], «общее место» житийного стиля. Что же касается словесных формул, восходящих к Библии, то и они (точнее, часть из них) могут быть объяснены как пример «литературного этикета». Например, совершенно необязательно «библейская» поэтика в том или ином летописном фрагменте должна уподобить изображенное летописцем событие архетипу из Священного Писания: «библейский» стиль может применяться только как набор устойчивых словесных формул, не отсылающих непосредственно к Писанию[39].
Мысль И. Н. Данилевского о том, что точность цитирования не может быть критерием обнаружения соотнесенности между Священным Писанием и летописью, не вызывает сомнений[40]. Но при этом в тексте должен быть некий маркер библейского кода, метатекстовой элемент, указывающий на соотнесенность с Библией (отсылка, указание на источник), — либо соотнесенность с библейским архетипом должна прослеживаться как минимум в двух элементах интерпретируемого произведения. Мотивы и ситуации из Священного Писания в этом случае входят в глубинную структуру древнерусского текста, соответствуют его теме и идее. Из несомненного тезиса о проекции событий, запечатленных в древнерусском летописании, на события священной истории, еще не следует, что эта связь носит тотальный характер (как это получается в истолковании И. Н. Данилевского). Кроме того, даже при наличии такой соотнесенности совершенно неочевидно, что для древнерусского текста значимы отсылки именно к тем фрагментам Библии, которые называет интерпретатор. Когда критерием соотнесенности является только совпадение отдельных слов или оборотов в летописи и библейских книгах (а такие случаи у И. Н. Данилевского весьма часты), сопоставительный анализ особенно уязвим: ведь в Писании могут быть найдены и другие соответствия. Серьезный изъян сопоставительного анализа, предпринятого исследователем, заключается и в том, что древнерусские тексты сравниваются с переводом Библии на современный русский язык.
Наибольшую опасность таят для исследователя попытки раскрыть одинокие «микроцитаты» из Библии — на уровне одного-двух слов. При этом не всегда учитывается, что эти «микроцитаты» могли уже давно оторваться от библейского контекста и, следовательно, их использование не является сознательной отсылкой к тому или иному месту Священного Писания. Оборотами, почерпнутыми из Библии, полна церковная служба, сочинения христианских авторов, проникают эти обороты и в живую речь христиан, превращаясь в поговорки и присловья. Понятно, что восстановить путь попадания такой цитаты в исследуемый текст, а значит, дать корректную трактовку этому текстологическому факту, крайне трудно. Впрочем, иногда можно с достаточной долей уверенности говорить о «небиблейском» происхождении того или иного библейского выражения в тексте.
К примеру, анализируя известие ПВЛ о Любечском съезде под 6605/1097 г., И. Н. Данилевский попытался пересмотреть традиционный в литературе взгляд на оборот «отселе имемся въ едино сердце» как на взаимный призыв князей к единству. По мнению ученого, «оборот „единое сердце“ не выдуман летописцем, а заимствован им из Библии. „Единое сердце“ — Божий дар народам Иудеи, которым отдана земля Израилева. Этот дар сделан им, „чтоб исполнить повеление царя и князей, по слову Господню“, „чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом“» (2Пар. 30:12; Иез. 11:19–20). И далее: «При таком понимании смысла выражений, в которых зафиксированы результаты княжеских переговоров, яснее становятся результаты Любечского „снема“ 1097 г. Залогом мирного „устроенья“ стало „держание“ (правление, соблюдение) каждым князем своей „отчины“… При этом, видимо, подразумевалось, что каждый из них будет „ходить по заповедям“ Господним и соблюдать Его „уставы“, не нарушая „межи ближнего своего“» [Данилевский 1998а. С. 178–180]. Таким образом, предлагаемый И. Н. Данилевским взгляд на летописное известие серьезно меняет его смысл: исчезает идея единства князей, а на ее место приходит почти что буржуазный принцип уважения частной собственности, освященный авторитетом Священного Писания. Насколько такой взгляд оправдан?
Прежде всего, следует указать на весьма произвольную трактовку И. Н. Данилевским библейских текстов. В 30-й главе Второй книги Паралипоменон речь идет о том, как после восстановления богопочитания иудейский царь Езекия вместе со своими князьями решил восстановить и празднование Пасхи, для чего послал «во весь Израиль» ко всем людям, «да приидут сотворите Пасху Господу Богу Израилеву во Иерусалиме». Однако многие не пожелали сделать этого. И тогда «бысть рука Господня дати имъ сердце едино приити, еже сотворити по повелению цареву и князей». Таким образом, Бог сам объединил людей для выполнения благочестивого повеления правителей. И если летописец и вправду хотел намекнуть читателю на это чтение Второй книги Паралипоменон — не самой популярной, надо сказать, в христианском обиходе, — то смысл этого намека мог быть только один: «сердце едино» — это дарованное Богом единство всех людей Израиля. Не в меньшей степени идея единства народа отличает и процитированный И. Н. Данилевским фрагмент Книги пророка Иезекииля. В нем Господь обещает собрать остаток рассеянных людей дома Израилева, вернуть им их землю. Причем в церковно-славянском переводе Бог намеревается даровать своим людям не «единое сердце», а «сердце ино» [Библиа 1988. Л. 129 (2-я паг.)] (здесь и далее все выделения наши. — А.P., A.Л.) — плотяное (плотское) вместо каменного. Есть и еще одно место в Писании, не указанное исследователем, где используется разбираемый оборот, причем в одной из самых ходовых книг Библии — Деяниях святых Апостолов. Смысл оборота однозначен и находится в полном противоречии с предложенной И. Н. Данилевским трактовкой: «Народу же веровавшему бе сердце и душа едина, и ни единъ же что от имений своихъ глаголаше свое быти, но бяху имъ вся общя» (Деян. 4:32).
Впрочем, как ни заманчиво усилить известие о Любечском съезде только что приведенной библейской параллелью, приходится признать, что, скорее всего, источником оборота в летописи была вовсе не Библия. Выражение «единем сердцем» ежедневно звучит в каждом храме, в котором совершается литургия. Причем произносит его священник в одном из самых напряженных и важных мест службы — в конце Евхаристического канона, испрашивая у Бога единения всех присутствующих в молитве перед приобщением Святых Тайн: «И дажь нам единеми оусты и единемь с(е)рдц(е)мь славити и въспевати Пр(е)ч(е)стное и Великолепое Имя Т(вое)»[41]. Без сомнения, этот оборот был «на слуху» у каждого церковного человека[42] и порождал не столько библейские, сколько евхаристические ассоциации.
Еще один пример того же рода — интерпретация И. Н. Данилевским летописного известия о Кие и его братьях Щеке и Хориве. И. Н. Данилевский видит в имени Хорива аллюзию на Священное Писание, в котором упоминается гора Хорив — отрог Синая: по его мысли, летописец, указывающий, что имя Хорива связано с киевской горой Хоревицей[43], включил в летописный текст аллюзию на Библию: «уже само упоминание имени третьего из легендарных братьев, построивших Киев, вполне может рассматриваться как намек на библейский Синай» [Данилевский 1998а. С. 360].
Особая отмеченность Киевских гор в ПВЛ несомненна: их благословил апостол Андрей, они, населенные «кроткими» полянами, противопоставлены низине (лесу), где обитают древляне, не ведающие нравственного закона. Не исключена и соотнесенность их со священными горами Палестины, хотя семантика гор, вероятно, имеет и дохристианские истоки[44]. Однако библейской параллели к имени Хорива у летописца нет, а имена двух старших братьев (один из которых, Кий, — центральный «персонаж» этого сказания) никак не соотнесены с библейской ономастикой. Вполне возможно, что имя Хорива производно от горы Хоревица, чье название сходно с именем синайской горы Хори в. Топоним «Хоревица» отражает присутствие еврейской, иудео-хазарской общины в Киеве; однако для летописца эта связь киевского урочища с палестинской горой осталась незамеченной[45].
К деяниям русских князей-язычников И. Н. Данилевский приводит ветхозаветные параллели. Олег, подчиняющий Киев, подвластный Аскольду и Диру, велит вынести на руках малолетнего Игоря, называя его истинным киевским князем (ПВЛ под 6390/882 г.). Исследователь усматривает в этом воплощение речения из Книги пророка Исайи об обетовании Бога народам: «Вот, одни придут издалека, и вот — одни от севера и моря, а другие из земли Синим <…> Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое племенам, — и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах» (Ис. 49:12, 22) [Данилевский 1998а. С. 362]. Олег с Игорем и войском действительно приходят в Киев с севера, из Новгорода, и малолетнего князя несут на руках. Но обетование Бога народам едва ли применимо к Олегу и Игорю, описанным в ПВЛ как язычники, один из которых был покаран за гордыню, а другой — за алчность. Кроме того, в Книге пророка Исайи упоминается о приходе народов не только от севера, но и от земли Синим, которая в традиции толкования Библии связывалась с югом[46]. Между тем с юга никто с Олегом и Игорем не приходит. С равным, если не с большим основанием пророчество Исайи можно привязать к Владимиру Святославичу, сначала приходящему в Киев с севера, а затем приносящему из южного, корсунского похода в стольный град христианскую веру. Что же касается упоминания о сыновьях на руках, то здесь И. Н. Данилевского, по-видимому, подвел русский перевод: по крайней мере в славянском тексте Острожской Библии и в ряде рукописей, в том числе ранних, фрагмент этого стиха читается совсем иначе: «и приимуть с(ы)ны твоя в лоне»[47].
Принесение князя-ребенка на руках в сказании ПВЛ под 882 г. имеет, видимо, иной смысл: это символическое вокняжение Игоря, которого показывают подданным.
Недостаточно аргументированно и утверждение, что водружение Олегом щита на вратах Царьграда знаменует принимаемую на себя князем роль защитника великого христианского города: такой смысл символического деяния Олега устанавливается при сопоставлении с Книгой пророка Иезекииля, в которой говорится о воинах, защищавших город Тир и вешавших в нем щит и шлем (Иез. 27:10) [Данилевский 1998а. С. 364–366]. Однако сама эта параллель представляется натянутой. Во-первых, традиционное толкование отнюдь не противоречит тексту летописного рассказа: деяние Олега всё-таки может быть прочитано как ознаменование победы над городом. Можно вспомнить сходный, но более ранний случай — приписанное византийским хронистом протоболгарскому хану Круму намерение вонзить копье в константинопольские ворота в знак покорения города (на самом деле протоболгарам не сдавшегося)[48]. Во-вторых, Тир в Книге пророка Иезекииля — город, отпавший от Бога и покаранный за «беззаконие». Ничто не говорит о таком восприятии Царьграда книжниками, работавшими над русской летописью в XI — начале XII в., и вообще, в русской культуре того времени.
Встречается в работах И. Н. Данилевского также и случай, когда для истолкования древнерусского текста, действительно соотнесенного со Священным Писанием, выбран не тот библейский лейтмотив. По предположению И. Н. Данилевского (поддержанному АЛ. Юргановым [Юрганов 1998. С. 11–12]), в Повести об убиении Андрея Боголюбского содержится тайный подтекст [Данилевский 1998а. С. 232–233]. В ней, как известно, неверно указана отрубленная рука князя: вместо левой, которая пострадала на самом деле [Рохлин, Майкова-Строганова 1935], в Повести фигурирует правая («десная») [БЛДР-IV. С. 212]. На соответствующей же миниатюре Радзивиловской летописи отрубленная рука изображена правильно [Радзивиловская летопись 1902. Л. 215). Отталкиваясь от этого, исследователь полагает, что, «несомненно, автор Повести знал, какую именно руку отрубили убийцы», но сознательно отступил от истины, желая отослать читателя к евангельскому тексту: «если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя» (Мф. 5:30). «Каким же образом правая рука, — продолжает И. Н. Данилевский, — могла „соблазнять“ Андрея? Ответ можно найти в Апокалипсисе. Людям, поклоняющимся Антихристу, „положено будет начертание на правую руку“ с именем „зверя“ и числом имени его» (Откр. 13:16). Обратив затем внимание еще и на то, что характеристики Андрея в Повести и «зверя» в Апокалипсисе схожи (обладание великой властью, наличие смертельных ран, владение мечом), ученый делает вывод: «отсечение у Андрея Боголюбского (по Повести) именно правой руки может вполне рассматриваться как осуждение его если не как самого Антихриста, то, во всяком случае, как его слуги. На это же указывает и то, что, по словам автора Повести, Андрей „кровью мученическою омывся прегрешений своих“, т. е. мученический конец как бы искупил грехи (и, видимо, немалые!) князя».
Если учесть, что пафос Повести заключается в доказательстве святости князя-страстотерпца, то предложенная И. Н. Данилевским трактовка казуса с рукой (сравнение Андрея с известным персонажем Апокалипсиса или же с его подручным) вновь создает ситуацию непримиримого конфликта между буквальным содержанием памятника и якобы заключенной в нем «тайнописью». Насколько такой взгляд оправдан?
Вначале следует отметить, что верное изображение отрубленной руки на миниатюре отнюдь не является достаточным доказательством того, что автор Повести точно знал, какую именно руку потерял князь, и, таким образом, нарочито искажал факты. (Тем более учитывая, что над памятником, возможно, трудился не один книжник, а несколько [Колесов 1987. С. 366], и неизвестно, под пером которого из них появилось пресловутое указание на «десную» руку.) Автор (авторы?) памятника и миниатюрист не были современниками, причем последний работал в какой-то мере независимо от имевшегося в его распоряжении текста Повести, на что указывает не только путаница с руками, но и изображение в числе убийц загадочной женщины, о которой Повесть ничего не знает. (Тут художник опирался, видимо, на устные рассказы о участии в заговоре против Андрея его жены, отразившиеся также в некоторых поздних источниках[49].) Таким образом, судить об осведомленности автора Повести по осведомленности миниатюриста вряд ли корректно. Следует также учесть, что из данных обследования скелета Андрея Боголюбского вообще не ясно, была ли рука, серьезно поврежденная в нескольких местах, полностью отделена от туловища или нет. Если верно последнее, то «качество запоминаемости» этой детали должно было сильно снизиться. Вопрос о том, знал ли книжник доподлинно, какая рука у князя была изрублена (и в таком случае сознательно исказил истину или попросту ошибся), или же не знал (и вписал подробность о правой руке исходя из некой художественной логики образа), остается открытым.
Неудачной представляется и попытка связать указание на правую руку князя именно с названными местами Писания. В Библии правая рука упоминается неоднократно, и в сумме эти упоминания говорят лишь о том, что она в символическом плане считается важнее левой (что усиливается сквозным библейским образом правой руки Божьей — «десницы», которая выступает как орудие Его могущества). Возложение правой руки знаменуем старшинство (Быт. 48:13–22), правая рука ритуально орошается кровью жертвы (Исх. 29:20; Лев. 8:23–24, 14:14, 25), она может быть полна мздоимства (Пс. 25:10), соблазнять (Мф. 5:30), подавать милостыню (Мф. 6:3), за нее Господь поддерживает человека (Пс. 72:23, 120:5; Ис. 41:13, 45:1), ведет Моисея из египетского плена (Ис. 63:12), на ней будет положено «начертание» «зверя» (Откр. 13:16) и др. В церковном обиходе правая рука как бы связывает человека с Богом. Именно ей творится крестное знамение, ей священник преподает благословение, причащает Святых Тайн. В некоторых древнейших русских чинах таинства миропомазания полагается наносить миро (ставить «печать Духа Святаго») лишь на одну руку — правую [Одинцов 1881. С. 76–78]. Таким образом, само по себе упоминание об отсечении правой руки еще не ведет к Апокалипсису, тем более, что там речь идет о изображении на ней некого знака, без которого нельзя будет «ни покупать, ни продавать», а в Повести — об ее отчленении. Аналогия тут не напрашивается. Скорее приходит в голову, что в разбираемом образе (отрубленной правой руки) можно увидеть обвинение убийц в вероломном стремлении двояко разоружить князя: и как христианина, которого держит за эту руку сам Господь и который ею творит крест — «орудие нашего спасения», и как воина, который более не может обороняться[50].
Однако допустим, что неточность с рукой все же не была следствием механической ошибки, а явилась сознательной или (скорее) подсознательной заменой. Как можно объяснить это?
Найти ответ помогает обращение к архетипическим особенностям повествований о князьях-страстотерпцах. Как известно, в таких повествованиях на первый план выдвинут общий для агиографической литературы мотив христоподобия святого. Смерть правителя от рук убийц рассматривается как вольное подражание «страстям» Сына Божьего. У истоков данного взгляда лежит характерное для многих народов Европы (и уходящее своими корнями в языческую и ветхозаветную архаику) представление об особом христианском подвиге — мирском служении Богу благочестивого государя. Это служение достигает своего предельного выражения в ситуации «невинного убиения», когда царь или князь принимает добровольную смерть «за правду Христову». «Невинное убиение» служителя Божия не только омывает его собственные грехи, но и имеет характер искупительной жертвы, повторяющей искупительную жертву Христа[51] (что, по-видимому, в значительной мере и формирует основание для прославления убитого в качестве святого)[52].
Все элементы этой схемы присутствуют в Повести. Своей благочестивой жизнью, стремлением к «правде» Андрей вызывает ненависть Сатаны, который толкает придворных князя на совершение страшного преступления. Как и положено по канону, князь последовательно уподобляется Христу: убийцы замышляют против него, «якоже Июда на Господа», он, как и Сын Божий, суть «Агнец непорочный» (ср.: 1 Пет. 1:19), умирая, он произносит те же слова, что и Спаситель: «Господи, в руце Твои предаю Тобе духъ мой» [БЛДР-IV. С. 212] (ср.: Лк. 23:46) и т. д. Автор «явно верит в святость жертвы»[53] и интерпретирует реальные события в соответствии с житийной схемой, причем в одних случаях делает это удачно, а в других — нет. (Как уже неоднократно отмечалось в литературе, житийному идеалу противоречит, к примеру, документальное указание на попытку Андрея сопротивляться убийцам[54].) В эпизоде с рукой, как можно полагать, схема берет верх, и агиограф помещает самую тяжелую рану Андрея с той же стороны, с которой, согласно иконографическому преданию, имел рану Иисус, пораженный копьем в правую часть груди. Таким образом, возникает еще одна важная перекличка между литературным образом князя и его библейским архетипом. Показательно, что эту аналогию остро почувствовал один из позднейших редакторов Повести, усиливший ее такой новой «подробностью» смерти Андрея: «Петръ же отсече ему руку десную и копиемъ ребра ему прободе» [ПСРЛ Никоновская 1862. С. 249]. Источник этого дополнения — Евангелие от Иоанна, где о распятом Христе говорится: «единъ от воиновъ копиемъ ребра Ему прободе» (Ин. 19:34).
Нет ничего необычного и во фразе «кровью мученическою омывся прегрешений своих», на которую И. Н. Данилевский указывает как на еще одно доказательство особой (с точки зрения автора Повести) греховности Андрея Боголюбского. Это не более чем агиографический штамп, который можно Встретить во многих мученических житиях и в котором содержится еще одна вариация на тему христоподобия (кровь мученика омывает его собственные грехи так же, как кровь Христа — грехи всего человечества).
Каким бы ни был этот правитель в жизни, в Повести он однозначно изображен угодником Божьим, страстотерпцем, положившим душу «за самого Творца»[55].
Пример интересного, но спорного истолкования — интерпретация летописной годовой статьи под 6360/852 годом — первой годовой статьи в ПВЛ, сообщающей: «Въ лето 6360 <…> наченшю Михаилу царствовати, нача ся прозывати Руска земля» [ПВЛ. С. 12]. И. Н. Данилевский объясняет отнесение первой летописной даты к царствованию византийского императора Михаила тем, что летописцы отождествили императора с Михаилом из Откровения Мефодия Патарского (далее — ОтМП), чье правление является одним из знамений грядущего конца света. Древнерусские книжники, работавшие над ПВЛ, по мнению И. Н. Данилевского, рассматривали исторические события прошлого и настоящего в перспективе близящегося Страшного суда, и царствование Михаила рассматривалось ими как очевидное свидетельство наступающих «последних времен». Доказывая эсхатологическую направленность ПВЛ, исследователь истолковывает слово «временных» как указание на годы, времена, предваряющие конец света. Он цитирует Толковую Палею (далее — 777) 1406 г., в которой содержится речение Христа: «Несть вамъ разумети временъныхъ леть, яже О[те]ць Своею властию положи»[56].
Несмотря на изящность, это истолкование очень проблематично. Одно смелое прочтение обосновывается посредством другого, также не бесспорного: семантика слова «временные» в заглавии ПВЛ неясна и вызывает разногласия среди исследователей[57]. Список 777, на который ссылается И. Н. Данилевский, значительно моложе не только собственно ПВЛ, но и древнейшего из сохранившихся списков (Лаврентьевской летописи 1377 г.); соответственно, он мог испытать ее влияние, либо слово «временные» могло получить к началу XV в. новое значение[58]. «Временные лета» в 777 соответствуют «временам и летам» («временам или срокам»), о которых Иисус Христос говорит ученикам в Деяниях святых Апостолов (1:7). Соответственно, эпитет «временные» в тексте 777 не обладает обязательным значением «последние», как им не обладает само по себе и выражение «времена и лета». Значение «последние времена» эти выражения и в Деяниях святых Апостолов, и в 777 приобретают, но значение это «связанное», контекстуально обусловленное. Недавняя интерпретация И. Н. Данилевским названия «Се повести времяньных лет <…>» [ПВЛ. С. 7] как «указания на конечную цель повествования („Се — по вести временных лет“, т. е. „до знамения конца света“)»[59] не более чем языковая игра. Ссылки на ОтМП в ПВЛ встречаются (статья 6604 (1096) г.), но явного осмысления описываемых событий как «последних времен» нет. Других, кроме статьи 852 г., данных, которые могли бы свидетельствовать об особенном интересе древнерусских летописцев к Михаилу III, императору Византии, в летописи также нет.
В ОтМП легендарный царь Михаил представлен победителем иноплеменников и устроителем благословенного царства, он правит сначала в Константинополе, а затем в Иерусалиме, где и умирает. Исторический император Михаил, упоминаемый в летописной статье 852 г., в Иерусалиме, естественно, не царствовал. ОтМП относит правление легендарного царя Михаила именно к «последним племенам»: при нем выходят из гор дикие народы, заточенные там Александром Македонским [Истрин 1897а. С. 180–183]. Между тем летописец сообщает в ПВЛ о «заклепанных» в горах диких племенах и об их будущем освобождении и нашествии только под 1096 г., то есть спустя более чем два века после царствования Михаила III. Древнерусский книжник, ссылаясь на ОтМП, ожидает выхода этих племен из горных темниц лишь в неопределенном будущем.
В сознании современников исторический Михаил III, отразивший набег русов и «восстановивший» православную веру, действительно ассоциировался с Михаилом из ОтМП[60]. Однако совершенно неочевидно, что такое уподобление было значимым для составителей ПВЛ, работавших в первые десятилетия XII в.
852 год избран летописцами как начальная точка отсчета исторического времени, так как в этот год Русь якобы становится известна миру, «открывает себя», приходя в столицу Империи — Константинополь. Дополнительное объяснение, связывающее появление этой даты с эсхатологическими мотивами ОтМП, является избыточным, хотя и возможным.
Один из герменевтических принципов, свойственных И. Н. Данилевскому, заключается в выявлении неких таинственных, сокровенных смыслов, якобы присущих древнерусским произведениям (в частности летописям) и находящихся в конфликте с очевидным, эксплицитным смыслом этих же произведений. Древнерусские произведения, действительно, нельзя читать буквально. Впрочем, это относится к любому тексту: чтобы понять его смысл, необходимо знать язык (в семиотическом, а не лингвистическом значении слова), на котором он написан. Рефлексия над кодом, используемым в тексте, обязательна, если этот текст принадлежит к культуре, отличной от культуры, к которой принадлежит исследователь: в этом случае код не дан интерпретатору изначально, а должен быть реконструирован. Это положение — аксиома герменевтики и теории информации. Но от него до утверждения о семантическом конфликте между явным и потаенным смыслами древнерусских произведений — дистанция огромного размера… Интерес к иносказаниям и наделение текстов символическими смыслами, конечно, присущи Средневековью, и русской словесности в том числе. Но для того чтобы искать в летописании или агиографии «тайнопись», противоречащую прямому смыслу текста, необходимо привести бесспорные случаи таких семантических конфликтов. До сих пор они известны не были. Не приводит их и И. Н. Данилевский.
Вопреки настойчивому утверждению исследователя о строгой научности его подхода и стремлению дистанцироваться от постмодернистского/постструктуралистского дискурса[61], истолкования И. Н. Данилевского часто представляют собой радикальную форму деконструкции, навязывающую тексту-источнику смысл, которого тот исконно лишен (ср: (Юрганов 2006. С. 51–66]).
И. Н. Данилевский утверждает, что летописец, рассказывая об убийстве Бориса Святополком Окаянным (под 6523/1015 г.), на самом деле якобы в зашифрованной форме сообщает, что Святополк не был убийцей Бориса [Данилевский 1998а. С. 336–364]. Эта интерпретация построена на очень непрочных аргументах, представляя собой последовательность сомнительных предположений (при этом она была сразу же принята некоторыми историками как бесспорный факт). Следуя известиям скандинавской «Саги об Эймунде», И. Н. Данилевский признает убийцей Бориса не Святополка, а Ярослава. Но и достоверность сообщений саги и отождествление «Бурицлейва» саги с Борисом (а не, например, истолкование этого имени как контаминации имен польского правителя Болеслава и Бориса) недоказуемы[62]. Приписывание эпитету Святополка «окаянный» значения «несчастный» совершенно произвольно (кстати, так же именуется в борисоглебских памятниках и убийца Глеба Горясер, и его подручные, и Глебов повар, исполняющий повеление посланцев Святополка[63]). Слово «окаянный» в церковно-славянском языке, действительно, имело исходное значение «несчастный, жалкий, бедный, достойный сожаления». Но в Борисоглебских памятниках у этой лексемы «актуализируется значение „проклятый, отрешенный от Бога“», и это слово фонетически сближается со словом «Каин»[64]. Исследователь утверждает, что упоминание Святополка седьмым в перечне сыновей Владимира в ПВЛ под 6488/980 г. соотносит его с седьмым сыном Иакова Даном. Таким образом летописец будто бы указывает на невиновность Святополка в грехе убийства: ведь в Сказании Епифания Кипрского о 12 драгоценных камнях на ризе первосвященника (которое отражено в ПВЛ) говорится о задуманном, но не совершенном Даном грехе братоубийства. Однако совершенно неочевидно, что для летописца было значимо сближение перечня детей Владимира со Сказанием Епифания Кипрского. К библейскому перечню ближе второй список сыновей Владимира под 6496/988 г. в ПВЛ (здесь их, как и у Иакова, двенадцать, а не десять, как в статье 6488/980 г. Однако в этом перечне Святополк не седьмой, а четвертый. Наконец, в перечне сыновей Иакова в ветхозаветном повествовании Дан — девятый, а в рассказе о рождении детей Иакова он назван пятым (Быт. 30:6, 35:25). Предположение И. Н. Данилевского о хитроумно зашифрованном сообщении летописца, призванном засвидетельствовать перед Богом невиновность Святополка, не согласуется с особенностями древнерусского религиозного сознания: такая «зашифрованная», «непрямая» правда могла восприниматься только как двуличие и лицемерие. Но главное, ни на чем не основана априорная убежденность интерпретатора в том, что летописец не считал Святополка подлинным убийцей Бориса. Даже если принять истолкование известий так называемой «Саги об Эймунде», поддержанное И. Н. Данилевским[65], остается высокая вероятность, что летописец был знаком с иной версией событий, называвшей преступником именно Святополка; эту версию (им воспринятую, а не измышленную) он и отразил в ПВЛ. Таким образом, едва ли оправданны сомнения в том, что Святополк представлен в ПВЛ злодеем-братоубийцей[66]. Никаких оснований для пересмотра содержания целого цикла ранних произведений о Борисе и Глебе и для обвинения их авторов во лжи не находится[67].
В качестве примера, когда буквальный текст летописного фрагмента находится в противоречии с «сокровенным» подтекстом, И. Н. Данилевский рассматривает также эпизод, предшествовавший первой битве Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого (под 6524/1016 г.) [Данилевский 1993б. С. 86–88]. Тогда, как сообщает ПВЛ, после трехмесячного «стояния» на Днепре, воевода Святополка (Волчий Хвост) начал «укаряти» новгородцев, пришедших вместе с Ярославом, «глаголя: „Что придосте с хромьцемь симь, а вы плотници суще? А приставимъ вы хоромове рубити нашихъ!“». В ответ оскорбленные новгородцы объявили Ярославу, что намерены, не медля, начать сражение. Ранним утром следующего дня Ярослав двинул свои войска на противника, одолел его и затем в первый раз вокняжился в Киеве [ПВЛ. С. 62–63].
И. Н. Данилевский предположил, что в нарочитом упоминании летописцем хромоты князя (имевшей место в действительности[68]) заключен некий тайный умысел, разгадать который помогает обращение к Библии, а именно — к 5-й главе Второй книги Царств. В 6–9 стихах этой главы описано завоевание царем Давидом хананейской крепости Сион (стоявшей на месте будущего Иерусалима). Перед решающей битвой хананеи (иевуссеи) говорили Давиду, что он не сможет войти в их землю, так как против него восстанут «хромии и слепии». Взяв крепость, Давид приказал избивать хромцов и слепцов, «ненавидящих души Давидовы».
По мнению исследователя, в летописи между событиями 1016 г. и историей покорения Сиона проведена символическая связь (хотя такая трактовка, по его словам, и не является «единственно возможной»). Истолкована эта связь может быть «в качестве признака того, для кого путь в Иерусалим (в нашем случае — Киев), завоеванный Давидом (у нас — Святополком), закрыт». Другими словами, Святополк как бы уподобляется Давиду, а Ярослав — нечестивым хананеям. Если вспомнить, что на словах летописец полностью на стороне Ярослава и осуждает братоубийцу Святополка, то, по реконструкции И. Н. Данилевского, при переходе с уровня буквального текста на уровень подтекста происходит полная перемена знаков. Посмотрим, оправданно ли такое предположение.
Первое, что бросается в глаза, — несимметричность сопоставляемых ситуаций в предлагаемой трактовке. В библейском повествовании хананеи защищают принадлежащий им город, в летописи же Ярослав, соотнесенный И. Н. Данилевским с ними, напротив, стремится к захвату города. Хананеи заранее бахвалятся своей грядущей победой («не внидеть Давидъ семо!»), в летописи же хвастается не Ярослав, а воевода Святополка (обещающий приставить новгородцев к строительным работам — «хоромове рубити нашихъ»). Хананеи терпят поражение и теряют город, Ярослав же побеждает и становится князем в Киеве. Таким образом, если оставить в стороне частный мотив хромоты, все остальное ведет скорее к соотнесению с хананеями Святополка, а Ярослава — с Давидом (тем более, что слова последнего несколькими строками выше вложены в уста Ярослава: «суди ми, Господи, по правде, да скончается злоба грешнаго» — ср.: Пс. 7:9–10). Но дело не только в этом.
Даже если принять предположение И. Н. Данилевского, что в упоминании хромоты князя все же заключена некая библейская аллюзия, то неясно, почему д ля ее расшифровки был выбран именно названный эпизод Второй книги Царств (или по другой, менее обосновываемой исследователем версии, — поединок Иакова с Богом (Быт. 32:24–32), в ходе которого патриарх охромел). Хромчество в Библии упоминается многократно и в целом оценивается амбивалентно. С одной стороны, оно, как и другие физические недостатки, выступает в качестве знака Божьего проклятия. Именно в этом значении, очевидно, «хромцами» и «слепцами» и названы хананеи в разобранном выше отрывке. Хананеи — потомки Хама, проклятые его отцом Ноем (Быт. 9:25). Сам Господь говорит Моисею, что никто, имеющий телесный изъян, включая и хромоту, не может приступать к жертвеннику и приносить жертву (Лев. 21:16–24), как не может быть приносимо в жертву и телесно ущербное животное (Втор. 15:21). Однако, с другой стороны, проклятие не вечно. Пророки, обещая грядущее избавление иудеев (в чем христианское богословие видит обетование о спасении всего человечества), уже свидетельствуют о хромцах как о части избранных, которые были наказаны Господом, но от Него же получат исцеление и награду (Иер. 31:8; Мих. 4:6–7; Соф. 3:19). «Укрепитеся, руце ослаблен ыя и колена разслабленая, — говорит пророк Исайя, — утешитеся, малодушнии умомъ, укрепитеся, не бойтеся. Се Богь нашъ судъ воздаеть и воздастъ, Той приидеть и спасеть насъ. Тогда отверзутся очи слепыхъ, и уши глухихъ услышать. Тогда скочитъ хромый, яко елень…» (Ис. 35:3–6). Пророчества сбываются в новозаветное время. Хромцы и слепцы, исцеляемые Христом и апостолами (Мф. 11:5; 15:30–31; 21:14; Лк. 7:22; Деян. 3:2–10; 8:7; 14:8–10), оказываются участниками пира в знаменитой притче о «званных» и «избранных», т. е. становятся причастниками Царствия Небесного (Лк. 14:12–24). Есть в Священном Писании и иные положительные образы хромцов. Таков Иаков, захромавший во время своего загадочного поединка с Господом, за который он получил Божье благословение и новое имя — Израиль. Таков и Мемфивосфей, внук Саула, окруженный трогательной заботой царя Давида (2 Цар. 4:4; 9:3–13 и др.). Как видим, Библия дает самое широкое поле для возможных символических трактовок хромоты.
Впрочем, для того чтобы ответить на поставленный И. Н. Данилевским вопрос о причинах напоминания о хромоте Ярослава в известии 6524 г., необязательно обращаться к Библии. Ответ можно отыскать ближе — в самой летописи, причем одновременно и на уровне сюжета, и на уровне художественной образности повествования о борьбе братьев.
Оскорбительная фраза воеводы Святополка о Ярославе-хромце и новгородцах-плотниках нужна летописцу для того, чтобы объяснить причину начала сражения. Причем эта фраза вводится рассказчиком в клишированную сюжетную конструкцию: затишье перед сражением — провоцирующее оскорбление одной из сторон — битва — поражение оскорбителя. Оскорбление противника выступает тут в качестве признака переоценки собственных сил, гордыни, которая затем наказывается. В ПВЛ содержатся другие примеры использования этой конструкции. Точно так развиваются события в легенде о юноше-кожемяке. Кожемяка побеждает в единоборстве «превеликого» печенежина, который перед боем смеялся над ним, поскольку юноша был «середний теломъ» (под 6500/992 г.) [ПВЛ. С. 55]. Также происходит зачин боя Ярослава с польским королем Болеславом (под 6526/1018 г.). Воевода Ярослава Блуд обещает проткнуть «толъстое черево» короля, но в разгоревшейся вскоре битве Болеслав берет верх [ПВЛ. С. 63]. Едва ли не дословный повтор разбираемого эпизода (в части, касающейся новгородцев) находится в повествовании Лаврентьевской летописи о противоборстве владимирцев и ростовцев под 6683/1175 г. Ростовцы горделиво называют владимирцев своими «холопами» и «каменьницами» (каменщиками) [ПСРЛ Лаврентьевская 1962. Стлб. 374], но в конце концов терпят от них поражение — так же, как Святополк Окаянный от «плотников»-новгородцев.
В художественном отношении, хромота Ярослава в известии 6524 г. перекликается с совершенной физической немощью Святополка после его конечного разгрома. Архетипическая модель действует здесь в полной мере: пройдя через испытания, герои меняются местами, хромой Ярослав одерживает победу, а у здорового Святополка «раслабеша кости», «и несяхуть и (его. — Авт.) на носилехъ» [ПВЛ. С. 63].
Таким образом, для предположения о существовании антагонистического подтекста в эпизоде с упоминанием хромоты Ярослава под 6524 г. оснований не находится. Напротив, мотив хромоты Ярослава, возможно, усиливает общую позитивную оценку этого героя и оттеняет «окаянство» Святополка. Семантические слои повествования не сталкиваются, а взаимно дополняют друг друга.
К сожалению, сомнительные и недоказанные интерпретации в работах И. Н. Данилевского не ограничиваются приведенными случаями. У нас не было желания дискредитировать само понимание древнерусских произведений, и прежде всего Повести временных лет, как текстов, построенных на библейском коде. Но корректная интерпретация этих текстов возможна только тогда, когда учитывается структура летописных рассказов и их семантика.
О «неявной» символике в древнерусской агиографии
Семантическую основу древнерусской словесности составляет Священное Писание; древнерусские тексты представляют собой развертывание библейских мотивов и образов-символов. По выражению Р. Пиккио, речения и символы, восходящие к Библии, выполняют в памятниках древнерусской словесности роль «тематических ключей», или «тематических нитей» («thematic clues»)[69]. Естественно, такая соотнесенность с Библией должна быть особенно значимой в тех текстах, где религиозная семантика является безусловно доминантной. К числу таких текстов принадлежат жития святых.
Соотнесенность с библейскими образами-архетипами в агиографических произведениях часто выражена в форме цитат или аллюзий — как с указанием на источник, так и без такового[70]. Однако помимо очевидного повторения и варьирования речений и символико-метафорических образов из Священного Писания в житиях встречаются и примеры менее явной соотнесенности с Библией; условно я называю их «неявной» символикой — условно потому, что «неявными», «скрытыми» эти символические смыслы представляются исследователю, носителю внешней точки зрения. Вместе с тем, с внутренней точки зрения, в восприятии древнерусских книжников и/или читателей такие смыслы могли быть бесспорными.
Обратимся к двум примерам из хорошо известных и достаточно подробно изученных древнерусских житий.
Первый текст — Житие Феодосия Печерского. Описывая уход Феодосия из материнского дома в Киев, Нестор, составитель Жития, упоминает о купеческом обозе, вслед за которым святой идет к стольному городу: «И се по приключаю Божию беша идоуще поутьмь те коупьци на возехъ с бремены тяжькы. Оуведевъ же я бл[а]женыи, яко въ тъ же градъ идоуть, прослави Б[ог]а. И идяшеть въ следъ ихъ издалеча, не являя ся имъ. <…> Единомоу Богоу съблюдающю и»[71]. В. Н. Топоров так интерпретирует Несторов рассказ о пути Феодосия в Киев: «Нестор описывает его трехнедельное путешествие достаточно кратко. Две особенности этого описания бросаются в глаза — ведомость Феодосия Богом, охраняющим его, и исключительно экономно переданная атмосфера этого путешествия, сочетание конкретных деталей (тяжело груженные возы, ночное становище, юноша, боящийся, что его заметят, и следующий за купцами поодаль, скрываясь от их взглядов), не допускающих сомнений в своей подлинности, с каким-то сверхреальным колоритом, почти мистериальным ожиданием предстоящего и переживанием совершающегося, легко восстанавливаемыми по скупой скорописи жития» [Топоров 1995. С. 665].
Однако интерпретация выражения «бремены тяжькы» как предметного описания представляется небесспорной — прежде всего потому, что предметная детализация чужда агиографической поэтике. Возможное объяснение его семантики дает последующее известие Жития Феодосия Печерского, сообщающее о приходе святого в пещеру Антония: «Тъгда же бо слышавъ о бл[а]женомь Антонии, живоущиимь въ пещере, и, окрилатевъ оумъмь, оустрьми ся къ пещере» [Успенский сборник 1971. С. 80 (Л. 316)]. Метафора «окрилатевъ оумъмь» построена на идентификации святого как «земного ангела» («по истине земльныи анг[е]лъ и н[е]б[е]сныи ч[е]л[о]в[е]къ» [Успенский сборник 1971. С. 88 (Л. 36г-37а)] с крылатыми небесными силами[72]. Но также она основана и на уподоблении человека птице, восходящем к сравнениям из Священного Писания. Уподобление бегства человека (души) от опасностей птице, летящей на гору, и птице, вырвавшейся из силков, встречается в Псалтири: «Како речеот[е] д[у]ши моей: „превитаи по горамъ, яко птица“» (10:1); «д[у]ша наша, яко птица, избавися от сети ловящыхъ» (123:7) [Библиа 1988. Л. 2 об., 25 об. (2-я паг.)]; близкий образ — в Книге Премудрости Соломона (6:5)[73]. Правда, в первом из приведенных примеров говорится о бегстве нежеланном, но сходство в плане выражения этого фрагмента Псалтири и Жития Феодосия Печерского всё же несомненно. Нежеланное бегство, о котором упоминает десятый псалом, противопоставлено желанному и богоугодному удалению святого от мира. Между прочим, в Житии «печерский» локус маркирован как горный. В свете сопоставления со вторым библейским фрагментом бегство Феодосия предстает исходом, освобождением святого/души от тенет, сетей — соблазнов мира[74].
Еще одна библейская параллель к метафоре Жития Феодосия Печерского — речение Христа: «Възьрите на птиця н[е]б[е]сьскыя, яко не сеють, ни жьнють, ни събирають въ житьницю, и О[те]ць вашь н[е]б[е]сьскыи питееть я» (Мф. 26) [Архангельское Евангелие. С. 98, л. 28 об.][75].
Библейское уподобление человека птице достаточно часто встречается в произведениях древнерусской книжности. В числе примеров — письмо Владимира Мономаха Олегу Черниговскому, где о своей снохе Владимир говорит: «сядет акы горлица на сусе древе желеючи» [ПЛДР XI–XII 1978. С. 412] (наиболее близкая параллель — Пс. 101:8); Житие Авраамия Смоленского, в котором о святом, схваченном толпою, сказано: «Блаженый же бе яко птица ять руками <…>» [ПЛДР XIII 1981. С. 80].
Вернемся к семантике выражения «бремены тяжькы». Коннотации «тяжесть, тягость», содержащиеся в обеих лексемах этого выражения, контрастируют с коннотациями «легкость, полет, устремленность вверх», присущими выражению «окрилатевъ оумъмь». Создается оппозиция «привязанность к миру и его суетным ценностям (метонимически обозначенными товарами купцов) — стремление к истинному, нетленному благу». Два эти выражения разделены небольшим фрагментом текста в Житии Феодосия Печерского, но, тем не менее, их соотнесенность более чем вероятна.
Кроме того, «бремены тяжьки» соотносятся по принципу семантического контраста с легким бременем, которое возлагает Иисус Христос на уверовавших в него: «Възьмете иго Мое на себе и наоучитеся от Мене, яко кротькъ есмь и съмеренъ с[ь]р(д)[ь]ц[ь]мь, и обрящете покои д[у]шам вашимь. Иго бо мое бл[а]го, и беремя Мое льгъко есть» (Мф. 11:29–30) [Архангельское Евангелие. С. 320, л. 139 об.]. Предметное значение выражения «бремены тяжькы» контрастирует с метафорой легкое бремя. Но именно благодаря этой контрастной соотнесенности оно также приобретает дополнительный метафорический смысл «ложные ценности, тяжесть мирского, „бытового“ бытия»[76].
Второй пример — чудо с расцветшими деревцами в Повести о Петре и Февронии: «На брезе же том блаженному князю Петру на вечерю его ядь готовляху. И потче повар его древца малы, на них же котлы висяху. По вечери же святая княгини Февронии ходящи по брегу и видевши древца тыя, благослови, рекши: „Да будут сия на утрии древие велико, имущи ветви и листвие“. Еже и бысть. Вставши бо утре, обретоша тыя древца велико древие имуще ветви и листвие»[77]. Это чудо, совершенное Февронией, имеет для агиографа особенный смысл: оно упомянуто в заключительной похвале святым супругам как одно из проявлений благодати, дарованной им Христом: «Радуйся, дивная Февроние, яко твоим благословением во едину нощь малое древие велико возрасте и изнесоша ветви и листвие» (с. 222). В то же время чудо с превращением Февронией хлебных крошек в «ливан добровонный и фимиян» (с. 217) в этой похвале не названо.
В работах последних лет, посвященных Повести о Петре и Февронии[78], была оспорена точка зрения Р. П. Дмитриевой, считающей Повесть текстом преимущественно сказочно-новеллистического характера с любовной тематикой, лишь формально принадлежащим к агиографии [ППФ 1979. С. 4, 29]. Н. С. Демкова и М. Б. Плюханова обратили внимание на символическое смысловое пространство этого текста, прежде всего на символику змея и змееборчества и на символику образа мудрой Февронии. Н. С. Демкова также отметила особое значение чуда с деревцами, интерпретировав его как «знак возрождения жизни» [Демкова 1996. С. 84]. Эта интерпретация верна, но имеет слишком общий характер: не учитывается собственно символико-религиозный смысл чуда, который может быть раскрыт только в соотнесенности со Священным Писанием. Расцветшие деревья знаменуют святость супругов и, кроме того, будущее благополучие (вскоре после этого чуда бояре призывают изгнанных Петра и Февронию вернуться в Муром)[79]. Уподобление человека-праведника плодоносящему и дающему обильную листву дереву восходит к Псалтири: «И будеть яко древо сажено при исходищихъ водъ, иже плодъ свои дастъ въ время свое, и лист его не отпадетъ» (Пс. 1:3) [Библиа 1988. Л. 1 (2-я паг.)]. Прямое, эксплицитное уподобление праведника такому дереву встречается в древнерусской агиографии, например в Житии Ферапонта Белозерского, в котором о святых Кирилле и Ферапонте Белозерских сказано: «Новосаждена бо — бяху якоже некаа „древеса при исходищихъ водъ“ — требует многа отреблениа» [Преподобные 1994. С. 216].
Два контрастных значения приобретает образ древа — метафора человека в Житии Стефана Пермского [Стефан Пермский 1995]. В начале Жития с «древом плодовитым» (образ из Псалтири, Пс. 1, ст. 2–3), сравнивается святой Стефан (с. 58); в конце же неплодной смоковницей (образ из Библии, ср.: Мф. 21, 19; Мф. 3:10, Ин. 15:2) именует себя сам Епифаний (с. 260). Так текст Жития искусно замыкается в изящное композиционное кольцо: древу плодовитому — праведнику Стефану противопоставлен грешный создатель Жития, древо неплодное.
Плодоносящее древо как символико-метафорическое обозначение святого или его добродетелей и благих дел часто встречается в Житиях митрополита Петра. В краткой и пространной (Киприановской) редакциях Жития митрополита Петра (составлены в XIV в.) мать святого, будучи им беременна, видит чудесный сон: «Мнеше бо ся ей агньца на руку держати своею, посреде же рогу его древо благолиствно израстъше и многыми цветы же и плоды обложено, и посреде ветвей его многы свеша светящых благоуханна исходяща. И възбудившися, недоумеяшеся, что се или что конець таковому видению. Обаче аще и она недомышляшеся, но конець посъледе съ удивлением яви, еликыми дарми угодника Своего Богъ обогати» (текст пространной редакции)[80].
Но к чуду с деревцами может быть приведена и другая объясняющая его смысл библейская параллель. Это рассказ из Книги Чисел о процветшем жезле Аарона: «И бысть наоутрие, и вниде Моисии и Аарон в храмъ сведениа, и се прозябе жезлъ Ааронь, <…> израсти ветвию, и процвете цветец, и израсти орехи» (Числ. 17:8) [Библиа 1988. Л. 69 (1-я паг.)][81].
На первый взгляд, это сопоставление может показаться недостаточно обоснованным: если в Повести о Петре и Февронии расцветают срубленные деревца, то в Книге Чисел дает листья и плоды жезл. Но и срубленные деревца, и жезл имеют общую сему «древесное»: жезл — изделие из дерева, «срубленное дерево». Кроме того, сходны ситуации, в которых происходят чудеса: евреи ропщут на Моисея и Аарона, бояре изгоняют князя Петра и его жену Февронию. Похож и смысл чудес: процветший жезл Аарона подтверждает его право быть первосвященником, расцветшие деревца свидетельствуют и о святости Петра и Февронии, и об их праве на власть в Муроме. Не случайно вскоре после этого чуда (хотя и не из-за этого чуда) бояре и просят их вернуться в погрязший в безвластии и смуте город.
Но самое главное — в христианской традиции, унаследованной Русью, существовала очень тесная семантическая связь между концептами деревья (древо) и жезл. Как прообразующий символ, жезл Аарона истолковывался в экзегетике в качестве иносказательного обозначения преизбыточествующей и возрождающей благодати Божией в церкви Христовой. Такое толкование жезла Ааронова содержится в третьей песни Канона на Воздвижение Честного Креста, составленного Косьмой Маюмским: «Жьзлъ въ образъ тайне приемлеться, прозябениемь бо рассуди иерея. Неплодящии же прежде цьркъвь ныне процвьте древо крьста въ дьржаву и утвьржение» [БЛДР-II. С. 486]. Для Повести о Петре и Февронии, содержащей апологию самодержавной власти, символика Креста должна была быть значимой: праздник Воздвижения, а также видение Креста святому равноапостольному императору Константину ассоциировались с идеей освящения и утверждения царской власти[82]. В Повести о Петре и Февронии заключено и дополнительное свидетельство, что символика праздника Воздвижения составляет один из ее подтекстов: князь Петр обретает чудесный Агриков меч, которым он убьет «неприязниваго змия», в церкви, которая находилась «в женстем монастыри Воздвижение честнаго и животворящаго креста» [ППФ. С. 212][83].
В Каноне на Воздвижение Честнаго Креста Косьмы Маюмского символически соотнесены жезл и крест: жезл Моисея — прообраз креста: «Крьстъ начьртавъ, Моиси въпрямъ жьзлъмъ Чьрмьное пресече <…>» [БЛДР-II. С. 484]. Крест Христов в Каноне также прообразуется «древом», к которому Моисей привязал изображение змея, дабы избавить народ от жалящих змей (Числ. 21:6–9); крест неизменно именуется Косьмой Маюмским «древом» [БДДР-II. С. 486, 488][84].
Таким образом, в символическом библейском коде Повести о Петре и Февронии чудесно расцветшие деревца соотнесены с процветшим жезлом Аарона и знаменуют святость и царственность Петра и Февронии: эта соотнесенность установлена их претекстом — Каноном Косьмы Маюмского. Если процветший жезл Ааронов знаменует благодать церкви Христовой, то, следовательно, в том числе — и благодать, которая дарована муромским святым. «Змий» в Повести, конечно же, порождение и/или персонификация дьявола, как об этом уже писалось ([Демкова 1996]; [Плюханова 1995]). Петр соотнесен с Христом, искупившим крестной смертью первородный грех и тем самым победившим дьявола-змия. Неслучайно в Каноне Косьмы Маюмского именно Моисей как победитель змей прообразует Христа, а «древо», создав которое Моисей избавляет свой народ от змей, является символом Крестного Древа.
Символика процветшего мертвого древа соотносит Повесть о Петре и Февронии также с апокрифическим Словом о крестном древе. В этом тексте рассказывается о древе, выросшем из венца Адама и разделенном на три ствола. Головни от одной из частей обрел Лот. Авраам повелел Лоту поливать головни в наказание за совершенный грех; процветание головней означает прощение грешника: «<…> З-щ на день доносеше въ устех своих и поливаше главня, и тако прорастоша. И възыде древо пречюдно и прекрасно зело» [БЛДР-III. С. 284]. Еще одна часть древа была обретена Моисеем, которому его показал ангел: «И въземь Моиси от древа, и крестаобразно посади въ реце, и усладися вода от древа. И израсте древо превеликое зело и чюдно, и преукрашенно»[85]. По толкованию, содержащемуся в Слове о крестном древе, три части древа означают Христа, Адама и Еву; из трех древ были сделаны кресты, на которых распяли Христа и двух разбойников.
Петр и Феврония же соотнесены с Адамом и Евой как первой супружеской парой, но эта соотнесенность не однозначна. Если Ева ввергла супруга Адама в грех, то Феврония исцеляет суженого Петра, а затем поддерживает в бедствиях; если Ева стала орудием змия-дьявола и по ее вине послушался искусителя Адам, то Феврония врачует Петра от последствий убиения змия-дьявола.
Конечно, деревца из Повести о Петре и Февронии — не символы Крестного Древа, но соотнесены с символическим рядом «жезл — древо — крест», выстроенным в Каноне на Воздвижение Честного Креста: символические смыслы как бы «мерцают» сквозь этот образ расцветших деревьев[86].
Но сами Петр и Феврония несомненно соотнесены с Христом как Жертвой и Искупителем. Повесть открывается пространным введением богословского характера, роль которого в тексте не вполне разъяснена, хотя исследователи обращались к анализу вступления в его семантической связи с последующим повествованием[87]. Одна из смысловых нитей, связывающих центральный фрагмент вступления, посвященный Христу-Искупителю («Сей бо пострада за ны плотию, грехи наша на кресте пригвозди, искупив ны миродержителя лестца ценою кровию своею честною» [ППФ. С. 210]), с повествованием о Петре и Февронии — мотив страдания, и прежде всего страдания ради Христа. Не случайно во фрагменте, завершающем вступление и говорящем о святых, акцентированы их страдания во имя веры: «мученицы и вси святии, Христа ради страдавше в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениих, в трудех, во бдениих, в пощениих» [ППФ. С. 211].
Страдания Петра — это боль от ран, от струпьев, которые покрыли его тело, обрызганное кровью «змия». Н. С. Демкова истолковывает язвы Петра как символические «грехи человеческие» [Демкова 1996. С. 83–84]. Но возможна и другая интерпретация семантики болезни князя. Петр «острупел» в борьбе со «змием», которого убил. На поединок со «змием» он вышел ради своего брата Павла: деяние Петра — пример служение ближнему и готовности помочь ему, рискуя жизнью. В этом Петр подобен самому Иисусу Христу. Соответственно, в символическом коде и его язвы соотнесены с крестными муками Христа[88].
Подобны Христу Петр и Феврония и как гонимые (изгнание князя и его жены из Мурома)[89].
Можно предположить, что и социальное происхождение Февронии, и род занятий ее отца (он «древолазец») в символическом коде Повести о Петре и Февронии прочитываются как указание на ее духовное «дочеринство» по отношению к Христу, взошедшему на Крестное Древо; по крайней мере, род занятий отца Февронии, названной «дщерью древолазца», отмечен, очевидно, не случайно. Но, вероятно, оправданнее видеть в этом случае не христологические аллюзии, а варьирование «концепта» древа, перенесение этой семантемы с богословско-символического уровня на бытовой.
Христологические ассоциации, возможно, связаны и с мотивом омовения Петра, получающего исцеление от Февронии, в бане. В обыденном сознании баня воспринималась как нечистое место, но в Повести о Петре и Февронии упоминание о бане, вероятно, соотнесено с выражением «баня пакибытия» — метафорой Таинства Крещения. Петр словно бы получает от Февронии «второе крещение» и очищается от струпьев — грехов. Параллель к этому исцелению — исцеление после крещения Константина Великого от струпьев.
Процветшие деревца из Повести соотнесены и с образами чудесных деревьев в одной из версий (так называемый «апокриф В»[90]) апокрифического Мучения Георгия. Царь Дадиян задает мученику неисполнимое задание: «Царь рече: Есть, Георгие, столовь полате мое 25. Кьждо ихь оть различьныхь садовь, и аште твоими молитвами прозебьноуть, и ветвие створить плодь, яко бесплодьно есть, то и азь вероую кь Богоу твоемоу. Та же моученикь Христовь Георгие, помоливь се ко Богоу чась единь, и коньчавь же молитвоу, и рече: аминь. И тогда прозебноуше столи и плодь створише ветвие, кыиждо плодь свои»[91]. В другом варианте: «И рече емоу ц[а]рь: О Георгие, столие соуть вь полате моей 14, коиждо имать различныихь древь. Да аще м[о]л[и]твами твоими столи прцветоуть, и боудоуть сь вет’вами плод[о]вити, да и азь вероую Б[ог]оу твоемоу. С[вя]тыи же м[у]ч[е]никь вьста оу томь часе и створи м[о]л[и]твоу, и столи процвьтоше и листвие и прорастите сь цвети, и коеждо древо плод свои дас[ть]»[92].
Подобное чудо Георгий совершает и в доме одной вдовицы: «камень <…> прозебе, и створи вене [вариант: ветвие] 15, каяжде расль лакьть» [Novsković 1876. S. 85]. В другом варианте: «прозебе стльпь и сьтвори листвиэ сь ветвьми великыими зело <…> Прииде жена и виде чюдо быв’шее, яко древо на камени прозебьшее, и реч[е]: вь истиноу се ес[ть] Б[ог]ь Галилеискыи» [Описание рукописей. С. 336]. Сановник царя «виде древо надь полатами вьзраштьше, и глагола кь дроужине, иже бехоу сь нимь: Како се есть чюдо створило, людие? Людие отвынташе емоу они: тоу есть затворень чловекь галилеискы» ([Novaković 1876. S. 86]; [Описании рукописей. С. 336]).
Как заметил А. И. Кирпичников, прообразом и образцом этих чудес в версии В Мучения Георгия является процветший жезл Аарона[93].
Чудес с древами нет в других версиях апокрифического Мучения Георгия[94] и в проложном житии мученика[95], но Ермолай-Еразм, составитель Повести о Петре и Февронии, мог ориентироваться именно на версию В. Святой Георгий — самый известный и наиболее почитаемый змееборец; побеждая змея, он спасает дочь царя, обреченную на съедение чудовищем[96]. Сходство с этим сюжетом Повести несомненно: Петр побеждает змея и освобождает от его посягательств свою невестку.
Символика Креста, столь значимая для Повести о Петре и Февронии как победа святого над змием (дьяволом), содержится в «Чуде с[вя]таго Георгия об отрочати, егоже змия уязви», включаемом в Пролог под 23 или 24 апреля или (реже) под 26 ноября. (Варианты надписания чуда: «О пастухе (муже, отроке), егоже змие уяде»; это 7-е чудо в цикле Чудес святого великомученика Георгия [Творогов, Турилов 1987. С. 145–146].) В тексте Чуда повествуется о явлении великомученика Георгия некоему старцу; мученик велит старцу отправиться в путь, чтобы исцелить отрока, укушенного шеею. Святой повелевает старцу облить водою крест над чашею и дать испить эту воду отроку, чтобы тот исцелился[97].
В исследованиях Повести о Петре и Февронии господствует представление о фольклорном генезисе сюжета памятника (исключение — мнение М. Б. Плюхановой); при этом, однако, обыкновенно утверждается, что соединение мотивов змееборчества и женитьбы на мудрой деве в одном произведении неизвестно русскому фольклору. В действительности примеры объединения двух мотивов в русском фольклоре есть[98], но тем не менее устное происхождение этого индивидуального сюжета, самой истории Петра и Февронии, недоказуемо. Обращение Ермолая-Еразма к фольклорным сюжетным схемам, к парадигмам, заимствованным из устной словесности, несомненно; но эти схемы и парадигмы семантически инвертированы, наделены смыслом, диаметрально противоположным исконному.
Так, образ змея в фольклорной традиции двойственен. Змей и, в частности, его кровь, могут быть вредоносными[99]. Но его образ также связан с «дарами здоровья, крепости сил и молодости; ибо все это составляет непременное условие полноты жизни, проводником которой является Огненный Змей». Змеи призываются в заговорах против болезней и хворостей, «[п]омазание кровью дракона, по немецкому преданию, укрепляет против всякого повреждения. <…> Гермес своим змеиным жезлом пробуждал мертвых». В былине о Потоке-богатыре и в немецкой сказке змеиная кровь обладает чудотворной целительной силой воскрешения умерших[100]. В Повести о Петре и Февронии, напротив, кровь убитого Петром змея вредоносна: обрызганное ею тело князя покрывается струпьями.
Феврония как целительница, приготовившая для больного князя снадобье, противопоставлена вредоносному «неприязнивому» змею. Между тем именно «[з]меям поверья приписывают знание целебных трав», а дар целительства, по народным поверьям, присущ колдунам и ведьмам (впрочем, как и способность вредить людям). Любопытно, что в заговоре-заклинании от вредоносных чар встречается собирательный образ ведьмы Муромской наряду с Киевской: Муромская земля представляется вредоносным, нечистым краем[101]. (Согласно Повести, Феврония — уроженка известной искусными врачевателями Рязанской земли, но ассоциируется, естественно, прежде всего с Муромским княжеством.)
В Повести о Петре и Февронии всё наоборот: девушка-целительница противопоставлена змею и лишена каких бы то ни было черт ведьмы: ее целительство — дар божественного происхождения.
Трактовка змея и мудрой врачевательницы в житии — всецело христианские. «Перевернутые» в Повести о Петре и Февронии фольклорные парадигмы тонко уловил и обыграл А. М. Ремизов, наделивший в своей повести о Петре и Февронии героиню одновременно чертами святой и ведьмы[102].
Приведенные примеры из Жития Феодосия Печерского и из Повести о Петре и Февронии — лишь частные случаи «неявной» (для исследователя) символики в памятниках древнерусской агиографии. Их анализ, как мне представляется, свидетельствует о необходимости большего внимания к символическому подтексту сочинений древнерусской словесности, образуемому Священным Писанием. При анализе интертекстуальных связей памятников древнерусской книжности с Библией необходимо учитывать не только цитаты и аллюзии в собственном смысле слова, но и ассоциативные связи между образами из этих произведений и символами-архетипами Библии, задаваемые единой парадигмой, которую составляли эти образы и символы в средневековом сознании. При этом соотнесенность образов, создаваемых в агиографии, с библейскими архетипами может представлять собой не тождество смыслов, а «мерцание» архетипа в его образе-отражении и неполном подобии. Памятуя о том, что для средневекового сознания истинный смысл мира — это смысл сокровенный и непостижимый, мы вправе ожидать воплощения такого мироотношения и в древнерусской поэтике. Сама соотнесенность со Священным Писанием и его символикой оказывается в данном случае «символической», то есть создается в символическом коде.
Разумеется, помимо такой установки в древнерусской агиографии была широко распространена и установка иная, при которой житие строилось как прямая реализация евангельских речений или «почти повторение» ситуаций и эпизодов из библейских претекстов. Но это отдельная тема.
Предварительно допустимо высказать соображение, что «неявная символика» свойственна прежде всего раннесредневековой древнерусской культуре, в которой символические архетипы, праобразы из Священного Писания словно растворены в мире вещественном. Помимо Жития Феодосия Печерского показательные как примеры — Борисоглебские жития, в которых соотнесенность святых братьев с Христом не подана открыто, не стала предметом метаописания, и Повесть временных лет, в которой библейский претекст также скрыт в глубине текста[103].
В культуре и словесности «зрелого» русского Средневековья, в XV–XVI вв. на первый план выходит самоанализ, саморефлексия культуры, и, соответственно, символические структуры приобретают более очевидный характер и становятся предметом метаописания в текстах, в которых содержатся. Помимо возросшего в Московской Руси интереса и внимания к проблемам толкования Священного Писания и Предания, эта тенденция выразилась и в построении текстов, и в использовании риторических средств, подчиненном четкой цели. Таковы агиографические произведения Епифания Премудрого и Пахомия Логофета, в которых библейские соответствия изображаемых событий, как правило, отмечены и истолкованы. Повесть о Петре и Февронии, составитель которой, Ермолай-Еразм, по-видимому, воспринял и переосмыслил фольклорные сюжеты в агиографическом символическом коде, — явление двойственное. С одной стороны, символика в центральной части Повести носит тот «неявный» характер, который более характерен для книжности эпохи Киевской Руси. С другой же — метаописание этого символического кода всё же дано в тексте произведения, но не прямо (во вступлении к Повести).
Христианская культура исполнена живого противоречия: противоречия между трансцендентностью, неотмирностью Бога, с одной стороны, и присутствием Бога в тварном мире, в том числе в слове человеческом, с другой. Эту неразрешимую тайну, этот парадокс веры [Аверинцев 2003] и стремится выразить книжник… Стремится выразить невыразимое.
II
К вопросу о текстологии Борисоглебского цикла
Цель данной статьи — рассмотреть соотношение произведений Борисоглебского цикла: летописной повести о убиении Бориса и Глеба, Съказания и страсти и похвалы святую мученику Бориса и Глеба и Чтения о житии и погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба, написанного Нестором (далее обозначаются сокращенно: ЛП, СУ, Чт.)[104].
Соотношение Чт. и СУ трактовалось обычно как первичность либо Чт[105], либо СУ[106]. В 1916 г. в предисловии к первому тому «Повести временных лет» А. А. Шахматов пришел к выводу о том, что схождения Чт. и СУ можно объяснить влиянием общего источника. Существование несохранившегося произведения о Борисе и Глебе предполагал Д. В. Айналов [Айналов 1910]. В существовании такого произведения убежден Л. Мюллер [Мюллер 2000. С. 83][107]. ЛП по Начальному своду, составленному около 1095 г. и отразившемуся в Новгородской первой летописи, рассматривается обычно как источник СУ[108]. Далее под ЛП подразумевается повествование об убийстве Бориса и Глеба по Начальному своду; однако, поскольку Новгородская первая летопись не сохранила эту повесть целиком по Начальному своду, а сохранившаяся часть тождественна тексту сказания по Повести временных лет[109], при сопоставлении ЛП с другими произведениями о Борисе и Глебе я обращаюсь к повествованию о святых братьях в составе Повести временных лет.
Вопрос о соотношении ЛП, СУ и Чт. связывался с вопросом о соотношении их со Съказанием чюдесъ святую страстотьрпьцю Христовоу Романа и Давыда (далее — СЧ), составленным после 1115 г. и читающимся в древнейшем списке вместе с СУ. А. А. Шахматов связывал СЧ с СУ[110]. Как изначально одно произведение рассматривает СУ и СЧ Н. Н. Воронин. С. А. Бугославский, напротив, считает, что СЧ и СУ первоначально существовали отдельно[111]. В пользу этой точки зрения говорит следующее. В древнейшем списке СУ и СЧ читаются одно за другим, однако не составляют единого произведения. Прежде всего их разделяет то, что СЧ имеет отдельное заглавие, причем это не подзаголовок внутри произведения. СУ заканчивается общей похвалой святым братьям, где сообщается и о чудесах, поэтому автор о чудесах не повествует (я не рассматриваю приписку «О Борисе, какъ бе възъръм», так как она, по-видимому, попала в конец текста случайно). СЧ начинается со вступления (заключения в СЧ нет, поскольку текст, видимо, не дописан). Как доказал С. А. Бугославский, текст СУ в древнейшем списке очень близок к первоначальному [Бугославский 1928. С. XI–XII], причем СУ и СЧ отличаются друг от друга особенностями стиля[112]. Необходимо добавить, что СЧ разительно отличается от СУ и тем, что в СЧ мирским именам братьев предпочитаются христианские. В списках СУ, близких к первоначальному тексту, христианское имя Глеба вообще не приводится. Руководствуясь вышеприведенными соображениями, я не рассматриваю СЧ в своем текстологическом анализе[113].
Прежде всего сопоставим ЛП и СУ[114]. А. А. Шахматов, отвергая влияние СУ на ЛП, видит доказательство его отсутствия в том, что «житийное сказание не содержит в себе ничего существенного, чего бы не было в летописи, оно отличается от летописного сказания одною риторикой»[115]. Однако наличие в тексте СУ дублировок свидетельствует о том, что составитель СУ располагал двумя текстами, связанными с ЛП. Если ЛП и может быть признана источником для СУ, то лишь второстепенным. А. А. Шахматов не признает наличия общего источника для ЛП и СУ[116], однако текстуальные изыскания опровергают данное мнение. И ЛП, и СУ повествуют о смерти Владимира. В СУ весть о смерти отца получает Борис (ему же сообщают, что Святополк скрывает смерть отца); в ЛП же сначала описывается смерть Владимира и то, как ее утаивают. Далее СУ приводит плач Бориса по отцу и его размышления; сообщается о раздаче даров киевлянам (в ЛП о раздаче даров сообщалось до известия о возвращении Бориса). Вслед за этим повествуется о том, что Святополк приходит в Вышгород и отдает приказ убить Бориса, идет рассуждение о дьяволе и Святополке. После этого читаются: неожиданная фраза — «Тъгда призва к себе» Святополк Путьшу и других (Святополк отдает приказ убить Бориса) и цитата из Соломона (она есть и в ЛП). Дублируется известие о возвращении Бориса (но нет сообщения Борису о смерти отца, не упоминается о вестнике Святополка).
Во всех редакциях СУ, кроме редакции Торжественника и двух контаминированных, читаем: «Блаженыи же Борись яко же ся бе воротилъ и сталъ бе на Льте шатьры» [Жития 1916. С. 32]. Наличие в этом сообщении плюсквамперфекта может быть вызвано стремлением автора избежать дублировки, так как выше уже говорилось о возвращении Бориса из похода. Но как объяснить, что в форме плюсквамперфекта стоит и предикат сообщения об остановке Бориса на Альте, о чем ранее не упоминалось? Если сообщение об обоих этих событиях взято автором СУ не из более раннего текста, а написано им самим, то почему об остановке на Альте, которую автор относил ко времени до приказа Святополка, пишется после сообщения о приказе, а не до него? Вероятно, объяснение таково. В источнике СУ говорилось о возвращении Бориса и остановке на Альте в форме аориста или имперфекта (это было первое упоминание о возвращении Бориса). Заимствуя это сообщение, автор СУ обратил внимание на то, что в создаваемом им тексте появляется дублировка; чтобы избежать ее, он заменил аорист на плюсквамперфект, однако ошибочно сделал это и в известии об остановке Бориса на Альте, о которой ранее не упоминал.
Анализируемый фрагмент подвергся изменению в редакции Торжественника: «Борись же блаженыи ста на Альте шатры <…>» [Бугославский 1928. С. 6] — пропуск известия о возвращении Бориса и замена плюсквамперфекта аористом явно вызваны стремлением избежать дублировки. Несомненно, что перед нами фрагмент неизвестного текста, и это никак не текст ЛП: сначала Святополк отдает приказ убить Бориса, и лишь потом повествуется о возвращении Бориса. Фрагмент из несохранившегося текста начинается, вероятно, с рассуждения о намерении дьявола погубить Бориса руками Святополка, поскольку это рассуждение должно следовать до приказа Святополка убить Бориса, как мотивировка приказа (именно так они даются в Чт.).
Если исходить из предположения о том, что на СУ влияла лишь ЛП, то дублировки объяснить невозможно (гипотеза о том, что Чт. также влияло на СУ, не объясняет наличия этих дублировок, ибо в Чт. композиция в целом аналогична композиции СУ до появления дублировок). Но вероятна связь ЛП и с этим неизвестным нам текстом (назовем его условно Житие, далее — Жит.): в ЛП цитата из Соломона читается, как и в Жит. После дублировок идет текст, близкий к ЛП (это еще раз доказывает наличие связи между ЛП и Жит., поскольку трудно предположить, что составитель СУ использовал Жит. лишь ради дублировок). Дублировка известий о приказе Святополка и возвращении Бориса может быть объяснена тем, что автор — составитель СУ — неправильно поставил знаки на компилируемых текстах и поэтому переписал фрагменты, которые сообщали об известиях, уже упоминавшихся в составляемом тексте.
Надо также отметить, что Жит. нашло отражение не только в СУ, но и в так называемой второй разновидности проложного жития Бориса и Глеба (далее — П2). Д. И. Абрамович предполагал, что П2 опирается на СУ [Жития 1916. С. XVI]. Однако композиция П2 сходна с композицией Жит.: сначала Святополк отдает приказ убить Бориса, потом — возвращение Бориса и его остановка на Альте. Отсутствует упоминание о вести Борису по поводу смерти отца (этого упоминания нет и в той части СУ, которая восходит к Жит., но есть в начальном фрагменте). Так как трудно согласиться с тем, что составитель П2 опустил известие об этом сообщении (оно читается в первой разновидности проложного жития), то остается предположить, что в Жит. данного известия не было, как, возможно, и рассказа о вестнике Святополка явившемся к Борису со словами о мире (читается в ЛП, начальной части СУ, первой разновидности проложного жития). Тот факт, что в П2 говорится о том, что приказ убить Бориса был отдан Святополком в Вышгороде, а во фрагменте из Жит. в СУ об этом не сообщается, можно объяснить тем, что автор СУ отказался от включения его в текст с целью избежать дублировки, либо один из переписчиков опустил этот эпизод.
Очень сложно объяснить композиционное отличие ЛП от начальной части СУ. То, что об остановке Бориса на Альте в ЛП повествуется до сообщения о приказе Святополка убить его, а в начальном фрагменте СУ об остановке Бориса вообще не говорится, позволяет утверждать, что СУ едва ли восходит к ЛП и в этом фрагменте. Жит. имеет определенную близость к ЛП, но об остановке Бориса на Альте в Жит. сообщается после приказа Святополка, а не до него, как в ЛП. Возможно, ЛП и СУ опираются на общий источник: Древнейший летописный свод (далее — ДСв.)[117]. В нем известия о смерти Владимира и возвращении Бориса читались, видимо, в той же последовательности, что и в ЛП и начальной части СУ (до дублировки): возвращение Бориса, сообщение ему о смерти отца, весть от Святополка о мире, приказ Святополка убить Бориса. Автор Жит. не использовал текст ДСв. В Жит. содержится известие о приказе Святополка убить Бориса, затем говорится о возвращении Бориса и остановке его на Альте. О вестнике Борису, оповестившем князя о смерти отца, и о посольстве Святополка с предложением мира в Жит. не сообщалось. Автор ЛП заимствует из Жит. упоминание об остановке Бориса на Альте. Автор СУ по ошибке заимствовал из Жит. не только нужное ему сообщение об остановке Бориса на Альте (возможно, многие общие сообщения ЛП и СУ восходят именно к Жит., а не к ДСв.), но и сообщение о приказе Святополка и о возвращении Бориса, о чем автор СУ уже упоминал. Разумеется, так как сам факт существования Жит. — всего лишь выдвинутая мною гипотеза, а характер летописной повести об убиении Бориса и Глеба в составе ДСв. нам неизвестен, решение вопроса о соотношении ЛП, СУ, Жит. и ДСв. — не более чем предположение.
Для установления характера связей между ЛП, СУ и Чт. особенно важен эпизод убийства Бориса. В ЛП о нем сообщается следующее: Бориса ранят и везут на телеге; о том, что он дышит, сообщают Святополку. Святополк посылает двух варягов убить Бориса. Один из них убивает Бориса ударом меча в сердце. В СУ о смерти Бориса сообщается дважды: сначала он умирает около шатра, затем его убивают варяги (так же, как в ЛП). В Чт. Бориса убивают около шатра ударом в сердце; убийства варягами здесь нет[118].
А. А. Шахматов приводит именно этот эпизод как доказательство влияния Чт. на СУ[119]. В пользу гипотезы, согласно которой СУ не могло влиять на Чт., говорит и отсутствие в Чт. таких эпизодов, читающихся в СУ, как молитва Бориса перед иконой, размышления его о мучениках, плач окружающих по Борису, речь отрока Георгия. Эти эпизоды подчеркивают праведность Бориса и ничем не нарушают агиографического канона. То, что СУ не было источником Чт., доказывает прежде всего отсутствие в Чт. размышлений Бориса о мучениках. Нестор (как в Чт., так и в Житии Феодосия Печерского) довольно часто проводит параллели между описываемым святым и другими святыми. Таким образом, нет оснований считать, что СУ оказало влияние на Чт., как это предполагал С. А. Бугославский. На мой взгляд, отличие СУ и ЛП от Чт. может быть объяснено предложенной гипотезой о соотношении этих произведений с ДСв. и Жит. Как предполагал А. А. Шахматов, в описании убийства Бориса автор Чт. пользуется ДСв. [Шахматов 1908. С. 64–66]; ср. [Шахматов 2001. С. 54–57]. Версия об убийстве Бориса варягами принадлежит автору Жит. Составители ЛП и СУ пользовались как версией ДСв., так и версией Жит., с чем и связаны алогичность описания убийства Бориса и дублировка в СУ[120].
Все рассмотренные выше схождения ЛП, СУ и Чт. не опровергают гипотезу о том, что ЛП, СУ и Чт. не имеют прямой связи друг с другом[121], выявляя тем самым проблематичность гипотез А. А. Шахматова (Чт. — источник СУ) и С. А. Бугославского (СУ — источник Чт.).
Следующий существенный эпизод — убийство Святополком Глеба. В ЛЯ об убийстве Глеба читаем: Глеб, призываемый Святополком, отправляется в Киев; Ярославу приходит весть от Предславы о смерти Владимира и об убийстве Бориса Святополком; Ярослав посылает вестника к Глебу; Глеб узнает о смерти отца и брата, молится[122]. Далее в рассказе о Ярославе в Новгороде повествуется о том, что «в ту же нощь приде ему весть ис Кыева от сестры его Передъславы си: „Отець ти умерлъ, а Святополк седить ти в Киеве, убивъ Бориса, а на Глеба посла, а блюдися его повелику“» [ПЛДР XI–XII. С. 154]. Известие, полученное Ярославом от сестры, А. А. Шахматов рассматривает как вставку[123], объясняя это тем, что составителю Новгородского свода (из которого заимствует известия о Ярославе Мудром в Новгороде составитель Киевского Начального свода) не могло быть известно, от кого получил весть Ярослав. «Но если составитель Начального свода вставил слова „ис Кыева оть сестры его Передъславы“ в новгородский рассказ о сборах Ярослава, то ему уже можно приписать вставку приведенного выше сообщения о том, что в то время, когда Глеб ехал в Киев, к Ярославу пришла весть от Передславы о смерти отца и убиении Бориса и что Ярослав послал известие об этом Глебу» [Шахматов 1908. С. 80].
А. А. Шахматов приводит и другие доказательства в пользу гипотезы о вторичности известия о сообщении, присланном Предславой Ярославу[124].
Сообщение об извещении Глеба Ярославом, близкое к ЛП, читается и в СУ (в Чт. об убийстве Глеба рассказывается иначе — Глеб бежит от Святополка). Д. В. Айналов приводит доказательства того, что весть Предславы и предостережение Ярослава — позднейшие вставки[125]. Надо, однако, заметить, что первое из доказательств вторичности предостережения Глеба Ярославом в СУ очень спорно. Фраза: «Уже не имамъ васъ видети в житии семь, зане разлучаемъ еемь отъ васъ с нужею» может относиться лишь к дружине. Обращение «спасися» можно адресовать и умершему. Поэтому слова Глеба возможно трактовать как заступничество за умерших: Бог может внять милосердной молитве святого (ср., например, r Хоженый Богородицы по мукам). Но есть и чисто текстуальные доказательства того, что обращение Глеба «спасися» могло читаться только в СУ, т. е. оно возникло одновременно с включением в текст сообщения о вести Ярослава Глебу. Если обращение Глеба «спасися» к отцу, матери и брату Борису вполне понятно (Борис и Глеб были сыновьями Владимира I от одной и той же матери), то как понять его обращение к Ярославу и Святополку? Вероятнее всего предположить, что указанные в тексте внесения возникли под влиянием сообщения о вести Ярослава Глебу (тогда понятно и то, почему из всех братьев Глеб выделяет именно Ярослава, и то, откуда известно Глебу, кто его убийца). Но в дальнейшем Глеб говорит о Борисе как стоящем у престола Бога (этот фрагмент мог появиться только одновременно с сообщением Ярослава Глебу об убийстве брата). Перед тем же Глеб обращается к Борису «спасися» (из второго же обращения следует, что Глеб мыслил о Борисе как об уже спасшемся). По-видимому, фрагмент с речью Глеба не мог быть внесен в текст тем же автором, что и фрагмент со второй речью[126]. Так как вторая речь тесно связана с извещением Глеба о смерти Бориса, она не могла появиться до этого извещения. Слова Глеба в первой речи о Святополке и Ярославе также едва ли могли быть написаны ранее появления в тексте сообщения вести Глебу. Мнимость противоречия между обращением Глеба к Владимиру и Борису («спасися») и известием о их смерти доказывает то, что в это обращение вносятся и слова к Ярославу и Святополку, основывающиеся на известии, полученном Глебом от Ярослава. Но противоречие между двумя речами Глеба столь значительно, что обращения к Ярославу, Святополку и Борису, скорее всего, не могут принадлежать одному и тому же автору, хотя оба фрагмента основываются на вести Глебу.
Учитывая текстологические данные о существовании двух текстов, на которые опиралось СУ, можно предложить следующее толкование. В тексте ДСв. отсутствовала весть Ярослава Глебу. Автор Жит., не знакомый с ДСв., сообщает о вести Глебу и одновременно пишет молитву Глеба с обращениями к Ярославу и Святополку. Автор-составитель СУ вписывает в текст молитву Глеба к Борису. Отмеченное Д. В. Айналовым противоречие между известием Глебу об умысле Святополка и его ожиданием почестей от убийц объясняется тем, что первое сообщение принадлежит автору Жит. (откуда оно и попадает в ЛП), а второе — ДСв. Этому же своду принадлежит и сообщение о том, что Глеб поплыл навстречу убийцам. Автор ЛП, пользуясь Новгородским сводом, вставляет в его фрагмент имя Предславы. Он же сокращает Жит. (отбрасывая как противоречащую сообщению об известии Глеба фразу, где говорится, что Глеб ожидал почестей от убийц); а сообщение о том, что Глеб поплыл навстречу убийцам, заменяет словами о том, что он стоял на Смядыни. Автор СУ оставляет версию ДСв. и Жит. о плывущем навстречу убийцам Глебе, так как она соответствует агиографическому канону поведения святого (ср. поведение Бориса перед убийством). Правда, как полагает А. А. Шахматов, в ДСв. читалась та же версия убийства Глеба, что и в Чт. Нестора. Если, вслед за А. А. Шахматовым, признать, что в описании убийства Бориса ДСв тождествен с Чт. Нестора, то сообщение об ожидании Глебом почестей («целования») могло читаться только в Жит., но не в ДСв. (ибо там Глеб бежал от Святополка, зная о готовящемся убийстве). Сообщение об ожидании Глебом почестей, несомненно, первично по отношению к известию о предупреждении его Ярославом. Тогда получается, что в СУ второе сообщение могло попасть только из ЛП. В этом случае ЛП все-таки признается источником СУ, хотя и второстепенным. Вторую речь Глеба, где Борис удостаивается предстояния перед Богом, можно считать вставкой более поздней по отношения к СУ в целом. Однако эта версия не опровергает решающего значения не дошедших до нас текстов. Слова СУ «а сь целования чаяяше отъ нихъ прияти» [Жития 1916. С. 40] не встречаются в ЛП и, следовательно, не могли оттуда попасть в СУ. Они не могли быть написаны и автором СУ, так как явно противоречат сообщению о предостережении Глеба Ярославом. Следовательно, и в этом эпизоде прослеживается влияние не дошедшего до нас текста[127].
Попытаемся обобщить полученные выше результаты. В своей работе автор СУ опирался на два текста. ЛП (по Начальному своду) либо не влияла на СУ вообще, либо ее можно рассматривать как дополнительный источник, поскольку она влияла на текст СУ, идентичный в остальном нам известному.
Таким образом, результаты текстологического сопоставления ЛП, СУ и Чт. предполагают существование двух несохранившихся произведений о Борисе и Глебе, одно из которых можно отождествить с ДСв. Чт., восходящее к ДСв., ближе к СУ, чем к ЛП [Жития 1916. С. VII–X]. Чт. ближе по композиции к части СУ, восходящей к ДСв., и к ЛП. Текстологические схождения между СУ и ЛП, которых нет в Чт., можно объяснить влиянием Жит. (фактами, доказывающими влияние Жит. на Чт., мы не располагаем).
А. А. Шахматов предполагал в числе письменных источников Древнейшего свода «краткую запись Вышегородской церкви об их (братьев. — А.Р.) убиении, погребении, обретении мощей, прославлении и об их чудесах» ([Шахматов 1908. С. 476]; ср. [Шахматов 2001. С. 340], литературно не обработанную. Однако, как утверждает сам А. А. Шахматов, прославление Бориса и Глеба «было важно не только для церкви, но и для правящего князя» ([Шахматов 1908. С. 474]; ср.: [Шахматов 2001. С. 339]), т. е. Ярослава, при котором и был составлен ДСв.[128]. О том, что записи о чудесах братьев не относятся к числу источников Дсв., свидетельствует их отсутствие в дошедших до нас летописях.
Наконец, текстологические данные дают некоторые основания для суждений о времени написания СУ. Первоначальный текст СУ использовал Древнейший свод и, вероятно, не использовал Начальный. Начальный свод был составлен около 1095 г. По крайней мере, трудно предположить, что СУ составлено около 1113–1118 гг., когда были созданы редакции Повести временных лет, в которые под 1015 г. входило повествование, близкое Начальному своду. Впрочем, высказанные предположения носят характер исключительно гипотетический.
Сказание и Чтение о Борисе и Глебе в составе Великих Миней Четиих митрополита Макария
В Великие Минеи Четии (далее — ВМЧ) митрополита Макария были, как известно, включены оба пространных жития Бориса и Глеба — Чтение, написанное киевопечерским монахом Нестором, и так называемое «анонимное» Сказание. Первый памятник читается в ВМЧ под 2 мая, второй — под 24 июля.
Согласно распространенному (и подтвержденному исследованием ряда текстов ВМЧ) мнению, макариевские книжники перерабатывали, редактировали жития различных святых при включении в ВМЧ, придавая «жанрово аморфным» произведениям необходимые черты «правильной» агиобиографии (риторические вступления и заключения и т. д.). Случай с Борисоглебскими текстами, однако, не подтверждает этого мнения. В ВМЧ вошло не только соблюдающее требования «жанра» агиобиографии (наличие вступления, повествования о жизни святых до их мученической кончины, рассказа о посмертных чудесах) Чтение, но и лишенное «жанровой однозначности» Сказание, в котором отсутствуют рассказы о жизни святых и посмертных чудесах, но есть фрагмент чисто «летописного» характера о битвах Ярослава со Святополком[129]. Значимой особенностью текста Сказания в ВМЧ (хотя она встречается и в некоторых иных списках этого произведения) является упоминание в заглавии христианских имен святых: «Сказание страсть и похвала убиении святую Христову мученику Бориса и Глеба, во святомъ крещении нареченныхъ Романа и Давыда» (список РНБ, Соф. 1323, л. 283 об.) [Revelli 1993. Р. 61]; [Жития 1916. С. 27], объяснимое, может быть, в частности, соседством этого произведения в ВМЧ с другим борисоглебским памятником — Сказанием о чудесах Романа и Давыда. Соответственно, в заглавие Сказания о чудесах вставлены «мирские», «княжие» имена святых братьев: «О проявлении мошей святыхъ страстотрьпеиь Бориса и Глеба, нареченною на святомъ крещении Романа и Давыда» (список Соф. 1323, л. 287 об.) [Revelli 1993. Р. 426]; [Жития 1916. С. 52]. (Обыкновенно же в списках Сказание о чудесах «княжие» имена святых-страстотерпцев не называются.)
Можно предположить, что составители ВМЧ воспринимали Сказание о Борисе и Глебе и Сказание о чудесах как единый текст или, точнее, «ансамбль» текстов; об этом же, вероятно, свидетельствует и сокращение ими заключительной пространной похвалы в первом тексте (Соф. 1323, л. 287–287 об.). Однако оба текста все-таки остаются и здесь самостоятельными законченными сочинениями. Сказание о Борисе и Глебе завершается заключением с «аминем», выступающим как знак окончания текста. Далее следует «заметка» <«Сказание о образе и о возрасте святаго мученика Бориса»>[130]. Осознавая необычность этого фрагмента в качестве заключения жития, макариевские книжники выделили его как отдельный, самостоятельный текст — «сказание» (ср. традиционное заглавие «О Борисе како бе възъръмь»). Текст Сказания о чудесах в ВМЧ имеет собственное заглавие и вступление [Revelli 1993. Р. 426]; [Жития 1916. С. 51].
При выборе Борисоглебских житий книжники макариевского скриптория руководствовались отнюдь не критерием «чистоты жанра» (этот пример в некоторой степени подтверждает мнение ряда исследователей — Р. Пиккио, Г. Ленхофф, К.-Д. Зееманна[131] — о неактуальности или небесспорности «жанрового принципа» для древнерусской словесности). Включение Сказания о Борисе и Глебе в ВМЧ объясняется, по-видимому, несколькими причинами. Во-первых, Сказание отличают несоизмеримо большая экспрессивность, эмоциональность тона и искусность построения (а соответственно, и воздействие на читателя/слушателя), нежели Чтение Нестора[132]. Во-вторых, в Сказании присутствует чрезвычайно важный для культа Бориса и Глеба и для русской религиозности вообще мотив прощения и любви к врагам. Этот мотив, как заметил Н. Ингем, — отличительная особенность русского памятника в сравнении с сильно отразившимся в нем так называемым «первым славянским житием» чешского князя Вячеслава — Востоковской легендой [Ingham 1984. Р. 31–35]. Не прослеживается мотив любви к убийцам страстотерпца, кажется, и в других житиях западных и славянских правителей, павших от руки родственников или подданных: его нет в агиобиографиях и мартириях святых Олава, Эдуарда Мученика, Стефана Дечанского (Passio el miracula beati Olaui [Passio 1881], Passio sancti Eadwardi, regis et martyris [Edward 1971], Житие Стефана Дечанского, написанное Григорием Цамблаком [Стефан Дечански 1983. С. 64–136])[133]. И, наконец, для Московской Руси середины XVI века была очень значима идея благословенности, избранности князей Рюрикова дома, «рода праведных», которая более акцентирована в Сказании, хотя есть и в Несторовом житии.
Однако, вероятно, самое существенное соображение, побудившее включить в ВМЧ оба жития невинно убиенных братьев, было иное. Чтение и Сказание излагали во многом различные версии убиения и Бориса (в Сказании оно как бы «утроено» в сравнении с «однократным» убийством святого у Нестора), и Глеба (у Нестора князь бежит из Киева от Святополка, зная о его злом намерении, в Сказании Глеб, ничего не ведая, направляется в Киев по зову Святополка и лишь в пути получает весть от брата Ярослава об умысле братоубийцы). Разночтения двух версий подробно проанализировал А. А. Шахматов [Шахматов 1908. С. 33–84]; ср.: [Шахматов 2001. С. 29–75]. Таким образом, макариевские книжники включали в корпус ВМЧ обе версии, ставшие как бы «взаимодополняющими», и не пытались выбрать лишь одну из них в качестве достоверной.
Вместе с тем, в списках Чтения в составе ВМЧ есть и фрагмент, свидетельствующий о попытке согласования противоречащих друг другу версий Чтения и Сказания об убийстве Глеба. Отрывок, приводимый ниже по списку Чтения в корпусе ВМЧ (РНБ, Соф. 1321, л. 150; ср. список: ГИМ, Син. 180, л. 317–317 об.), читается также и в ряде других (преимущественно минейных) рукописей начиная с XVI в. (РГБ, ф. 209, № 539; РГБ, ф. 312, № 6; РНБ, Пог. 654; РНБ, Сол. 514/532 и др. [Revelli 1993. Р. 599, 693–694]). По терминологии Дж. Ревелли, данные списки Чтения составляют Минейный вид Северной группы. Однозначно утверждать, что контаминация Чтения и Сказания впервые была осуществлена именно в корпусе ВМЧ, было бы неосторожно — вопрос требует специального анализа. Однако даже если такой контаминированный текст уже был в источнике ВМЧ, не случаен и показателен сам выбор источника составителем ВМЧ.
Вслед за сообщением об убийстве отроков Бориса (отсюда начинается вставка из Сказания) читается: «И пакы посла по блаженнаго Глеба, рекъ: „Приеди въ борзе. Отець зоветь тя и не здравить вельми“. Онъ же въ борзе и въ мале дружине вседъ на конь, поеде и приеха на Волгу на усть Тмы, во рве подчеся подъ нимъ конь. И надломи ногу ему мало. И оттоле въ насаде къ Смоленьску поиде. И ста на Смядыни яко зримо отъ Смоленьска едино. И въ то время весть Ярославу прииде о отне смерти и о братне. И, прислав Ярославъ къ Глебу, рекъ: „Не ходи, брате, отець ти умеръ, а брать Борисъ от Святополка убьенъ бысть“. Се же Глебъ слышавъ, возопи плачемъ горкимъ и сердечною печалью весь смущашеся и плачася юрко и сетуя по отце и по брате, како безъ милости прободенъ бысть. И сице ему стонящу и слезами землю мочащу и въздыхании частыми Бога призывающи, приспеша внезапу отъ Святополка послании его, злыя слуги лютыя зело, сверепа звери душу имуще. Сретоша и на усты Смядыны въ насаде. Святыи же Глебъ възрадовася душею пострадати за Христа. И глагола своимъ слугамъ: „Брать мои Святополкъ посла по мя“»[134] (выделены дополнения списков Минейного вида по сравнению с текстом Сказания).
В соответствующем отрывке Сказания сообщалось, что Глеб ожидал принять «целование» от встречающих его корабль-насад убийц, посланных Святополком. Такое поведение Глеба, очевидно, противоречит приведенному выше в Сказании (и воспроизведенному в тексте Минейного вида Чтения) известию о его предупреждении Ярославом. Еще А. А. Шахматов ([Шахматов 1908. С. 86–87], ср.: [Шахматов 2001. С. 64]) и Д. В. Айналов [Айналов 1910] трактовали это известие как позднейшую вставку. Согласно высказанной мною гипотезе, Чтение, Сказание и летописная повесть о Борисе и Глебе (в Повести временных лет под 1015 г.) текстологически связаны не прямо, а опосредованно, через два несохранившихся Борисоглебских памятника[135]. Одним из оснований для такого предположения и послужило противоречие в Сказании между сообщениями о предупреждении Глеба и о неведении святого.
В Чтении (в неконтаминированном тексте) рассказ об убиении Глеба лишен такого противоречия: Глеб бежит от Святополка — его корабль настигают убийцы — Глеб знает их намерения и, не сопротивляясь и не желая гибели своих слуг, безропотно принимает смерть. Составитель списка-протографа Минейного вида Чтения (книжник макариевского скриптория?), обнаружив близость эпизодов гибели Глеба в Сказании и в Чтении (смерть на реке в «насаде»), соединил две версии. При этом было устранено сообщение об ожидании Глебом «целования» от убийц и, соответственно, противоречие, присутствовавшее в источнике — Сказании: теперь Глеб знает о намерениях убийц и с радостью принимает смерть в подражание Христу. В Сказании «вольная жертва»[136] святого не называлась смертью «ради Христа», так как Глеб не был мучеником за веру в собственном смысле слова; однако редактор обозначил смерть Глеба как мученичество во имя Христово, уподобив не имеющий соответствий в византийской агиографии подвиг Глеба «традиционному» принятию смерти мучеником, отказавшимся отречься от Христовой веры. Это редакторское добавление свидетельствует о слабом разграничении в сознании средневековых русских книжников двух «типов» святости — мученичества во имя Христа и добровольного, непротивленческого приятия смерти (страстотерпчества); впрочем, эта вставка («ради Христа») может свидетельствовать и о том, что составитель протографа Минейного вида стремился представить подвиг Глеба подобием мученического, ориентируясь на греческие «образцы» — жития мучеников за веру (тем самым как бы затенялась «необычность» — с точки зрения традиции — «вольной жертвы» Глеба). При этом традиционализм проявлялся на формальном уровне (в этикетной формуле «ради Христа», «за Христа»), выступавшем в качестве более значимого, но не на событийном: смерть Глеба в описании Чтения (в том числе, естественно, и списков Минейного вида) все-таки не имеет ничего общего со страданием за веру. (Впрочем, выражение «за Христа» может быть истолковано в этом контексте и просто как «в подражание страданиям и крестной смерти Христа».)[137]
Составитель протографа Минейного вида Чтения сократил при переработке источник — эпизод Сказания и несколько «засушил» его: исчезла антитеза «радующийся душою святой — омрачившиеся душою убийцы». Составитель протографа Минейного вида как бы подражал «скупому» и маловыразительному стилю Несторова жития.
Что касается добавления слова «пакы» во фразу, повествующую о лживом посольстве Святополка к Глебу, то она объясняется стремлением составителя протографа Минейного вида подчеркнуть двойной грех братоубийцы, дважды посылавшего с лживыми словами о дружбе и любви вестников к обоим братьям (в Чтении говорится о таком вестнике Святополка, посланном к Борису, — в Сказании этот эпизод также есть). Таким образом, книжник (макариевского скриптория?) создавал значимый сюжетный повтор. Возможно, что близость сообщений о посольстве Святополка к Борису в Чтении и к Глебу в Сказании навела этого книжника на мысль вставить в Чтение эпизод убийства Глеба из Сказания. В обоих случаях братоубийца Святополк ведет себя одинаково, и версия Сказания о вероломном убиении Глеба могла показаться переписчику-редактору более достоверной, так как соответствовала «почерку» «нового Каина».
Искусное устранение одного противоречия привело, тем не менее, к возникновению новых: Глеба, убежавшего от Святополка и знавшего о его злом умысле и об отцовской смерти, Святополк завлекает известием о болезни отца, зовущего к себе Глеба. Полностью непротиворечивое согласование версий Сказания и Чтения оказалось невозможным.
Если переработка эпизода убиения Глеба в Чтении объясняется стремлением книжников представить логичную и достоверную версию этого события, то еще одна инновация в Чтении (в рукописях Минейного вида) носит, условно говоря, не «логический», а «идеологический» и «церемониальный» характер. В этих списках читается подробное описание перенесения обретенных мощей Глеба в Киев и Вышгород: «Бывшю же строину ветру, приплыша в нарочитый градъ» (далее — интерполяция списков Минейного вида, цитируется список ВМЧ PH Б, Соф. 1321, л. 152 об.), «еже есть Киевь. Тако бо зовомъ бяше искони. И сретоша князь Ярославъ и священный митрополить съ игумены и прозвутеры и дьяконы съ свещами и темьяномъ. И взяша телеса святого Глеба и несоша въ Вышгородъ, и мнози недужнии ту исцеление приимьша»[138].
Вторичность этого фрагмента особенно очевидно засвидетельствована характерной «опиской» книжника: повествуя о перенесении мощей Глеба (о положении тела Бориса в Вышгороде уже сообщалось в Чтении), он употребляет, тем не менее, форму множественного числа — «телеса», а не «тело». По всей видимости, на это описание повлияли рассказы Борисоглебских памятников о позднейших перенесениях мощей уже обоих святых братьев.
Включение описания встречи мощей Глеба князем Ярославом и священнослужителями в текст Чтения в ВМЧ и в близких к нему рукописях объясняется намерением подчеркнуть, усилить «церемониальность», торжественность Несторова жития и восполнить смысловую лакуну Чтения: составитель жития, Нестор подробно сообщал о торжественных перенесениях тел Бориса и Глеба и не описал лишь первого положения мощей Глеба в Вышгороде. Тщательное соблюдение «литературного этикета», любовь к торжественным, «пышным» формам были, как известно, особенно свойственны XVI веку (Д. С. Лихачев), времени, когда создавались ВМЧ. Характеристика Киева как «исконного» града также соотносится с вниманием русских книжников — «идеологов» Московского царства к истокам Руси, с утверждением правопреемства от киевских князей и обоснованием права на «киевское наследство».
Более детальный анализ текстологических связей между списками Чтения позволит, может быть, однозначно ответить на вопрос, являлись ли именно составители ВМЧ создателями текста-протографа Минейного вида. Представляется также интересным и рассмотрение Сказания и Чтения по спискам ВМЧ в контексте других, включенных в труд митрополита Макария, житий киевского времени, прежде всего княжеских.
Формирование культа святых князей Бориса и Глеба: мотивы канонизации
Формирование культа святых Бориса и Глеба относятся к числу мало документированных событий русской церковной и светской истории. Значительная часть исследователей скептически относится к известиям основных древнерусских источников — Чтения о Борисе и Глебе Нестора и анонимного Сказания о чудесах Романа и Давыда — о причислении братьев к лику святых в период княжения Ярослава Мудрого; ряд ученых (А. Поппэ[139], М. Х. Алешковский [Алешковский 1971] и др.) считали датой подлинной канонизации 1072 г., в последнее время А. Н. Ужанков назвал вероятной датой канонизации начало 90-х гг. XI столетия ([Ужанков 1992]; [Ужанков 2000–2001]). Рассмотрение гипотез о времени канонизации Бориса и Глеба не входит в задачи автора статьи. Мне представляется убедительным подход Г. Ленхофф, рассматривающей формирование культа и канонизацию святых князей как поэтапный процесс, как длительное по времени событие. По мнению Г. Ленхофф, первоначально, при Ярославе Мудром, совершается местная канонизация Бориса и Глеба, при этом культ страстотерпцев распространяется прежде всего в низовой, народной среде (это положение спорное); позднее, при Ярославичах, устанавливается общерусское почитание братьев [Lenhoff 1989].
Не менее туманна и загадочна история эволюции смыслового наполнения культа Бориса и Глеба. Ряд данных позволяет предполагать, что первоначально культ святых братьев был не Борисоглебским, но Глебоборисовским, то есть более почитался и был «доминантным» в паре не старший по возрасту Борис, а младший Глеб. Об этой особенности почитания святых братьев свидетельствуют данные истории и археологии [Лесючевский 1946], именование Бориса в чешской Сазавской хронике под 1095 г.[140], а, по некоторым мнениям, также и различие в именовании Бориса и Глеба в Чтении Нестора (Борис у Нестора последовательно именуется «блаженным», а Глеб «святым» [Биленкин 1993]). Давно установлено учеными расхождение свидетельства Борисоглебских памятников и косвенных летописных данных с содержащейся в летописи хронологией событий, согласно которой Борис и Глеб в момент смерти должны были быть не юношей и отроком, а зрелыми мужчинами. Большинство исследователей считают известия Борисоглебских житий намеренным отступлением от истины[141], некоторые (например С. М. Соловьев[142], А. Е. Пресняков[143], М. Д. Приселков [Приселков 2003. С. 28, 38], Г. В. Вернадский[144], в последнее время — А. Поппэ [Поппэ 2003. С. 308–313]) склонны доверять информации Сказания и Чтения о возрасте Бориса и Глеба (см. также: [Татищев 2003. С. 614, примеч. 163]).
Остается не вполне проясненной и канонизация лишь двух из трех преданных смерти Святополком князей: сводный брат Бориса и Глеба Святослав канонизирован никогда не был и никаких сведений о его почитании у нас нет[145].
Наконец, остается не вполне проясненной и сама семантика культа, мотивы канонизации. Как отмечал еще Г. П. Федотов, тип святости Бориса и Глеба не был знаком Византии, и, соответственно, греки-митрополиты в святости братьев сомневались: «Нужно сознаться, что сомнения греков были вполне естественны. Борис и Глеб не были мучениками за Христа, но пали жертвой политического преступления в княжеской междоусобице, как многие до и после них. <…> Канонизация Бориса и Глеба ставит между нами, таким образом, большую проблему» [Федотов 1990. С. 40–41]. Г. П. Федотов заметил, что «святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин „страстотерпцев“ — самый парадоксальный чин русских святых»[Федотов 1990. С. 50][146].
Характер страстотерпческого подвига святых братьев подробно исследован Г. П. Федотовым, отметившим особенное значение мотива смерти и страданий в подражание Христу, жертвы; по мнению исследователя, именно жертвенная невинная смерть, а не добровольное приятие страдания, отличает образ страстотерпца (добровольный характер смерти не всегда обязателен). В. Н. Топоров подчеркнул значимость именно «вольной жертвы» в подвиге Бориса и Глеба, как он зафиксирован в житиях братьев-страстотерпцев [Топоров 1995. С. 415–440, 490–507]. Ученые также многократно обращали внимание и на типологическое и генетическое сходство (в случае со святым Вячеславом Чешским) истории убиения Бориса и Глеба и сюжетов о невинной смерти-убиении правителя, отраженных в памятниках славянской и западноевропейской агиографии[147].
В работах советского периода наиболее часто в качестве причины канонизации святых братьев назывались политические соображения, интересы княжеской власти: причисление Бориса и Глеба к лику святых как бы освящало правящую династию и придавало особый авторитет принципу подчинения младших князей власти старшего (см., напр.: [Лихачев 1954]; см., впрочем, еще у М. С. Грушевского [Грушевський 1905].
Как недавно отметил В. Я. Петрухин, утверждение, что непротивление Бориса и Глеба было своеобразным освящением принципа старшинства, небесспорно: возможно, на Руси в первые десятилетия XI в. этот принцип еще не укоренился глубоко [Петрухин 2000б. С. 176]; ср.: [Живов 2005. С. 727]. «Не русский „политический“, а иной образ в „житиях“ был более действен для Бориса: юный Давид, который, возглавляя дружину, не наложил руки на помазанника Господня (1 Цар. 24:7) — преследовавшего его царя Саула. Но Борис был сыном крестителя Руси, который упокоился с „праведными“, и он избрал самый высокий для христианина сыновний образец. Его предсмертная молитва (в Чтении Нестора. — А.Р.) уподобляет его смерть жертве Христа <…>» [Петрухин 2000б. С. 178].
К упомянутым трактовкам хотелось бы добавить ряд соображений и дополнений. Культ Бориса и Глеба, конечно, имел несомненное политическое значение (ср.: [Живов 2005. С. 727]), хотя придавать ему решающую роль не стоит. Как заметил еще Г. П. Федотов, непротивление Бориса и Глеба братоубийце Святополку — сверхдолжное деяние, не требуемое никакими нормами княжеской политической морали [Федотов 1990. С. 44]. По характеристике Г. Ленхофф, «акт братоубийства, совершенный Святополком, <…> взывал к отмщению. Если реакция Ярослава (отомстившего Святополку за грех братоубийства. — А.Р.) справедлива в глазах клана (и, понятно, находится в пределах закона), то и от Бориса и Глеба можно было бы тоже ожидать сопротивления, тем более что напавшие на них не были ни братьями, ни князьями, но всего лишь наемными убийцами. Пассивное сопротивление такого рода не могло рассматриваться как княжеская добродетель, потому что компрометировало способность князя править: это была, скорее, добродетель святого, и она выходит на передний план в текстах, отражающих позднейшие стадии культа» [Lenhoff 1989. Р. 36].
Непротивление Бориса и Глеба как сверхдолжный подвиг парадоксальным образом реализовывало еще не выявленную и, в этом смысле слова, не сформированную модель поведения. Экстремальная (в этическом смысле) ситуация предполагала особенную, отсутствующую в обыденной земной жизни линию поведения: Борис и Глеб подвергаются угрозе от старшего брата, перед которым ни в чем не повинны. Ситуация разительно напоминает историю первого убийства на Земле, умерщвление Авеля братом Каином. (Это сходство многажды отмечено и в Сказании, и в Чтении.) Но в отличие от первого убийства на Земле, убиение Бориса и Глеба совершается в христианское время, которое одновременно и как бы локальное начало истории для новокрещеной Руси. Русская история оказывается изоморфна вселенской, библейской. И здесь, и там начало событийного ряда (земной жизни в первом случае и христианского пути Руси во втором) отмечено «первоубийством». Как отметил Ю. М. Лотман, в древнерусском (и шире — в средневековом и, еще шире, архаическом) сознании особенно значимо, символически выделено именно «начало времени» — исток и прообраз последующих событий[148]. Святополк — великий грешник, ибо он — «зачинатель греха». Соответственно, Борис и Глеб — «зачинатели святости». Как грех Святополка несоизмеримо тяжелее вины Каина (Святополк знает о возмездии, Святополк — христианин, Святополк убивает не одного, но двоих), так и подвиг страстотерпцев превозносит их над невинноубиенным Авелем (впрочем, семантика жертвы, приносимой на заклание, сближает их, особенно зарезанного поваром Глеба, с первожертвой — Авелем). О непротивлении Авеля убийце и о желании принять смерть Книга Бытия ничего не сообщает.
Изоморфность вселенской истории и начала христианской истории Руси свидетельствовала для русского религиозного сознания об обетовании, данном Руси на будущее: проявлением этой изоморфности могло бы стать некое подобие Христова завета. Не случайно, в Чтении о Борисе и Глебе Нестора убиение Бориса и Глеба вписано в историософскую «рамку» событий священной истории. Мученическая кончина Бориса и Глеба — свидетельство особой призванности Руси, придающее новый смысл другому событию — крещению страны. В Памяти и похвале князю Владимиру Иакова мниха, созданной (по крайней мере, в своей основе) примерно в одно время с Борисоглебскими памятниками, князь-креститель Руси прославляется, в частности, и как отец святых страстотерпцев, и упоминается о его венце, хотя святой Владимир мучеником не был[149].
По-видимому, совершенно неслучайно канонизируются многие правители именно в новокрещеных странах. Среди чина страстотерпцев X–XI вв. это, кроме Бориса и Глеба, Вячеслав Чешский и Олав Норвежский. Причисление клику святых князя как бы освящает его страну и говорит о ее подлинно христианском исповедании веры (ср.: [Живов 2005. С. 726–727]).
Особенное положение Борисоглебских житий заключается в том, что они выступают в функции этико-религиозного образца для верующих и литературного образца для книжников — в функции, которую традиционно для древнерусского человека выполняли Священное Писание и переводные жития. Борисоглебская агиография лежит у истоков житийной разновидности — текстов агиографического характера, посвященных князьям-страстотерпцам.
Особенное положение братьев «в начале» сакральной истории Руси определило и их роль покровителей, патронов страны. Борис и Глеб предстают в Сказании не просто как два святых, но как удвоенная, превосходящая все святость: «И на месте иде же мученичьскымь венецьмь увязоста ся създане быста цьркви въ имя ею»[150] — сообщает составитель Сказания. Замена грамматически и логически требуемой формы двойственного числа от слова «венец» формой единственного числа если и является опиской в первоначальном тексте, то сохраняется в многочисленных списках без исправления, по-видимому, вполне осознанно.
Как показал В. Н. Топоров, текст Сказания содержит многочисленные парные антитезы и параллелизмы; принцип парности, по наблюдению ученого, реализуется не только на стилистическом, но и на мотивном уровне: благодатной парности братьев противопоставлена греховная двойственность Святополка [Топоров 1995. С. 495–500].
Особенное положение братьев у истока христианской истории Руси обусловило и их функции небесных заступников. Борис и Глеб — покровители всей Русской земли — противопоставлены автором Сказания святому Димитрию Солунскому — покровителю лишь одного города Солуни; покровительство и забота о всей Руси выражена с помощью формулы «А вы не о единомь бо граде, ни о дъву, ни о вьси попечение и молитву въздаета, нъ о всей земли русьскеи» (Р. 401). Но одновременно составитель Сказания, прославляя Вышгород, в котором покоятся тела братьев, уподобляет его Солуни и превозносит, обыгрывая внутреннюю форму названия, выше всех городов. Оппозиция «один город — вся земля» снимается. Вышгород воспринимается как воплощение благословенной «русскости» (в сознании древнерусского человека XI или начала XII в. Вышгород, расположенный рядом с Киевом, был, вероятно, субститутом «стольного града»[151]).
Особенное значение Бориса и Глеба проявляется и в некоем зеркальном соответствии обстоятельств убиения и функций святых: братья — небесные защитники от иноплеменников, от междоусобных распрей и от внезапной смерти без покаяния (Сказание — Р. 410, 414). Если функция заступника от иноплеменников может быть связана с успешным походом Бориса на половцев, то две следующие противопоставлены обстоятельствам смерти братьев, которые погибают в междоусобных распрях и внезапно. Контрастное сочетание функций и обстоятельств смерти святых князей соотносит их с Христом, поправшим смерть смертью, распятом на кресте, который стал символом победы новой веры.
Парность святых была, вероятно, одной из причин, обусловивших невнимание книжников к третьей жертве Святополка — Святославу. Святослав — сводный брат Бориса и Глеба разрушал принцип парности, исключительно значимый для восприятия святых; как сводный брат, Святослав в соединении с Борисом и Глебом не создавал и триады (в роли третьего праведного князя и в Сказании, и у Нестора предстает отец святых страстотерпцев Владимир). Имя Святослава включалось бы в один семантический ряд со Святополком, имя которого, по тонкому замечанию В. Н. Топорова, содержит своеобразную сему «ложная, нечестиво заявляемая святость». Кроме того, аксиологический подход к святым и их убийце, как показывают и Чтение, и особенно Сказание, определяется, не в последнюю очередь, их положением в пространстве. Борис и Глеб гибнут на пути к Киеву — святому центру русской земли, которым завладел нечестивец, тела их захоронены под Киевом; Святополк бежит из Киева и гибнет в чужой стране, за пределами Руси (по Сказанию «межю Чехы и Ляхы»[152]). Но и Святослав был настигнут убийцами также на рубеже Руси, в Угорских горах: гибель во время бегства в чужую землю, на границе Руси была свидетельством некоего «изгойства», отчужденности.
Наконец, триада праведных князей в Сказании и в Чтении построена по признаку возрастной градации: «невинная чистая жертва, отрок Глеб — юноша-воин Борис — мудрый старец Владимир». Святополк, подлинным отцом которого был не Владимир, а Владимиров брат Ярополк[153], выпадает из этих соотношений уже с точки зрения родства. Фактическим «отцом», которого слушается «второй Каин» (ср. как контраст мотив послушания Бориса отцу и отцовско-сыновние отношения, связывающие Бориса и Глеба), является сатана.
Перечисленные соображения не отменяют утверждения Г. Ленхофф об отсутствии чудотворения от тела Святослава как причины, сделавшей невозможной его канонизацию [Lenhoff 1989. Р. 37–39]. (Есть основания полагать, что тело Святослава не было отыскано[154], хотя реальные обстоятельства трех преступлений Святополка едва ли могут быть достоверно и исчерпывающе реконструированы.) Предпринятый анализ Борисоглебских памятников позволяет также установить дополнительное значение мотива «детскости» Глеба, хотя и не дает никаких выводов, подтверждающих либо опровергающих известия житий о возрасте святых братьев.
Мотивный анализ Борисоглебских житий раскрывает одну из граней их структуры и способствует освещению некоторых вопросов формирования культа Бориса и Глеба.
Пространственная структура в летописных повестях 1015 и 1019 годов и в житиях святых Бориса и Глеба
В архаическом сознании пространство осмыслялось иначе, нежели в современном, рационализированном восприятии. Пространство не было семантически нейтральным физическим и географическим явлением[155]; в нем выделялись сакральные и профанные (мирские) локусы. Сакральность могла убывать или возрастать при движении в пространстве; кроме того, пространство «чистое» было противопоставлено «нечистому»; пространство также образовывало оппозицию не-пространству — тому, что находится за пределами своего, обитаемого мира и осмысляется как принадлежащее небытию, несуществующее[156]. Такое восприятие пространства в трансформированном виде сохраняется и в средневековой культуре, в частности в культуре древнерусской.
По характеристике Ю. М. Лотмана, «[в] средневековой системе мышления сама категория земной жизни оценочна — она противостоит жизни небесной. Поэтому земля как географическое понятие одновременно воспринимается как место земной жизни (входит в оппозицию „земля/небо“) и, следовательно, получает не свойственное современным географическим понятиям религиозно-моральное значение. <…> Движение в географическом пространстве становится перемещением по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей, верхняя ступень которой находится на небе, а нижняя — в аду». Движение в географическом пространстве интерпретируется в ценностном ключе и приобретает религиозно-нравственную семантику: «<…> земная жизнь противостоит небесной как временная вечной и не противостоит в смысле пространственной протяженности. Более того, понятия нравственной ценности и локального расположения выступают слитно: нравственным понятиям присущ локальный признак, а локальным — нравственный. География выступает как руководитель этического знания.
Всякое перемещение в географическом пространстве становится отмеченным в религиозно-нравственном отношении. <…> В соответствии с этими представлениями, средневековый человек рассматривал и географическое путешествие как перемещение по „карте“ религиозно-моральных систем»[157].
Пример весьма сложно и искусно построенной пространственной структуры содержат жития святых Бориса и Глеба, написанные в XI или начале XII в.: так называемое «анонимное» Сказание о Борисе и Глебе и Чтение о Борисе и Глебе, принадлежащее печерскому монаху преподобному Нестору, а также летописная повесть об убиении Бориса и Глеба и летописное сказание об окончательном поражении и гибели Святополка (Повесть временных лет под 6523/1015 и 6527/1019 гг.). Пространственная структура этих текстов сходна в главном, но в Сказании о Борисе и Глебе пространственные оппозиции развернуты более последовательно и явно. Пространственная структура в летописных повестях тождественна поэтике пространства в Сказании, но структурирована менее отчетливо, так как между погодными статьями 1015 и 1019 гг. находятся статьи, повествующие о войне между Святополком и Ярославом Мудрым; в этих статьях пространство не структурировано. Кроме того, в летописных повестях нет цитат из Священного Писания, в Сказании указывающих на пространственный код текста. Сказание — своеобразный ключ, «метатекст» по отношению к пространственной структуре всех памятников. Поэтому большинство примеров далее приводится именно из этого агиографического произведения.
Я не касаюсь вопроса о соответствии известий Борисоглебских памятников историческим фактам. Бесспорное воссоздание реальной картины убийства Бориса и Глеба едва ли возможно. Но даже если в Сказании или в летописных повестях или же в Чтении Нестора точно воспроизведены подлинные события и их локализация диктуется историей, значимо и осмысление произошедшего. Реалии совпали с символическими локусами в ментальной модели пространства и благодаря этому приобрели символический смысл.
Все памятники начинают повествование о мученической кончине братьев с упоминания о походе Бориса на печенегов: посланный отцом в Степь, Борис не обрел врагов и вернулся на Русь. Не дойдя до Киева, он узнал о смерти отца и об умысле брата Святополка. К югу от Киева, на реке Альте, Борис был убит посланцами Святополка. Место убиения Бориса наделяется символическими, а не физическими признаками тесноты, узости благодаря цитате из Псалтири (21:17): «Обидоша мя пси мнози и уньци тоучьни одержаша мя»[158]. Река Альта в Борисоглебских житиях — своеобразная граница между миром жизни и смерти; другая ее семантическая функция — преграда, отделяющая Бориса от Киева. Младший брат Бориса, святой Глеб был также предан смерти на реке (при впадении Смядыни в Днепр, у Смоленска)[159].
Странный путь (кружной, по Волге к Смоленску, а не прямой, пролегавший южнее), избранный Глебом для поездки в Киев, возможно, объясняется колебаниями князя, от Смоленска намеревавшегося или идти в Новгород к Ярославу, или плыть к морю по Западной Двине, чтобы достичь Скандинавии (мнение В. Я. Петрухина)[160]. Но если исторически это и так[161], то показательно, что в Сказании нет никаких свидетельств об этом: Глеб, пусть и непривычным путем, идет в Киев к старшему брату.
В Сказании о Борисе и Глебе и в летописной повести страстотерпцы движутся навстречу друг другу к центральной точке русского пространства — Киеву, но встречи не происходит. Разлученность двух братьев в пространстве подчеркнута посредством библейской параллели. Борис помышляет: «То поне оузьрю ли се лице братьца моего мьньшааго Глеба, яко же Иосиф Вениямина?» [Успенский сборник 1971. С. 44–45, л. 9в-9г]. (В Чтении о Борисе и Глебе Нестора отрок Глеб бежит от убийц из Киева, где пребывал при отце, и поэтому в Несторовом тексте отсутствует четкая структура пространства, характерная для Сказания.)
Раннесредневековый Киев создавался во образ и подобие священных городов — Иерусалима и Константинополя, а также Небесного Иерусалима, как он описан в Откровении святого Иоанна Богослова. Ориентация на эти модели священного города отражена как в планировке, так и в топонимике (Святая София по подобию цареградской, Золотые ворота по подобию иерусалимских и цареградских)[162]. Осмысление Киева как священного города присуще и древнерусской книжности: оно имплицитно содержится в Слове о Законе и Благодати митрополита Илариона [Топоров 1995. С. 264–276]. Предыстория, архетипическое начало христианского бытия Русской земли в Повести временных лет — благословение Киевских гор апостолом Андреем. Киев, стоящий на горах, и населяющие его кроткие и ведающие закон поляне противопоставлены летописцами древлянам, живущим в лесах «звериным обычаем»: в оппозиции «открытое место — лес» поле и город противопоставлены как «чистое» пространство пространству «нечистому»; одновременно Киев как высокое место, приближенное к небу контрастирует с низинами, заросшими лесом. В свете библейской традиции киевские горы приобретают дополнительный сакральный смысл[163].
Исходная ситуация в Сказании такова: Вышгород — своеобразный субститут Клева (резиденция киевских князей в окрестностях столицы)[164] — становится местом пребывания нечестивца Святополка; именно здесь Святополк ночью совещается с убийцами и отсюда посылает их на убиение Бориса. Великий грешник, ставший киевским князем, овладевает священным городом, — это нарушение исконного, истинного соответствия между местом в пространстве и человеком, этим местом владеющим. Святые же Борис и Глеб, которые и должны пребывать в сакральном пространстве, гибнут вдали от Киева по разные стороны (к югу и к северу) от стольного града.
Движение обоих братьев в Сказании и в летописной повести зеркально симметрично: один идет к Киеву с юга, другой — с севера; в пути, по версии Сказания, оба вспоминают друг о друге и об отце, оба получают весть об умысле Святополка.
Тело Глеба было брошено (возможно, без погребения[165]) в лесу — в «нечистом» месте[166]. Таким образом, несоответствие между семантикой пространства и положением в этом пространстве житийных «персонажей» усугублено. Святополк и его приспешники на самом деле причастны адскому миру, ад как бы локализуется там, где они находятся. Не случайно сообщение о возвращении убийц к своему господину сопровождается цитатой из Псалтири (Пс. 9:18): «Оканьнии же они убоице възвративъше ся къ посълавшъшюуму я, яко же рече Д[а]в[ы]дъ: Възвратять ся грешьници въ адъ и въси забывающии Б[ог]а» [Успенский сборник 1971. С. 53, л. 15а]. И напротив, пустынное место, где брошено или погребено тело Глеба, освящается мощами святого и превращается в храмовое пространство, возле тела святого чудесно возгораются свечи и слышится пение: проходившие мимо купцы, охотники и пастухи «овогда свеще горуще и пакы пения анг[е]льская слышааху» [Успенский сборник 1971. С. 54, л. 156]. Свечи и ангельское пение напоминают о богослужении, а огненный столп — выражение присутствия Святого Духа и ангела в церковном пространстве[167].
С победой Ярослава, отомстившего за братьев окаянному Святополку, истинное соответствие между «персонажами» жития и сакральным пространством восстанавливается. Тела Бориса и Глеба с почестями переносят в Вышгород и погребают в церкви. Мощи святых оказываются в центре Руси, братоубийца изгоняется на периферию русского пространства (осмысляемого, вероятно, как сакральное[168]). Святополк, потерпев поражение на том самом месте, где был предан смерти Борис[169], бежит из Русской земли, и его бегство — реализация речения из Книги Притчей Соломоновых (28:1, 17) о бегстве и скитаниях, на которые обречен нечестивец, даже если он никем не гоним; напоминает рассказ о бегстве Святополка и упоминание о страхе, на который обречен Каин Богом (Быт. 4). Сходно повествование о бегстве Святополка с историей злой смерти нечестивца Антиоха IV («Гордого») Епифана, пустившегося в паническое бегство и мучимого жестокими болями[170], и с историей царя Ирода, изложенной в хронике Георгия Амартола[171]. Убийца святых Бориса и Глеба умирает «зле» в «пустыне»[172] «межю Чехы и Ляхы» [Успенский сборник 1971. С. 54, л. 15 г.], то есть как бы в пространственном вакууме, в межграничье, «нигде»[173].
Пространственный вакуум, в который исторгнут из Русской земли Святополк, напоминает «злую землю», в которую бежит от лица Господня Каин, совершив братоубийство (ср. параллели «Святополк — Каин» в Борисоглебских памятниках). Вот как об этом сказано в переводной Христианской топографии Козьмы Индикоплова: «Таче пакы по братооубиении, Каинъ, яко от Б[ог]а отгнанъ, яко же пишется, изыде Каинъ от лица Б[о]жиа, и вселись въ землю Наидъ, да речеть, яко изьгнанъ бысть Каинъ от лица Б[о]жиа, и посланъ бысть въ заточение в землю зблоу»[174].
Кроме того, бегство Святополка в «пустыню», видимо, соотнесено с гибелью «в пустыне» императора Юлиана Отступника: два «боярина», посланные персидским царем, заманили войска Юлиана в пустынную местность: «введоста и в пустую землю и безводную»; на протяжении нескольких предложений в рассказе. Хроники Иоанна Малалы о злосчастном походе Юлиана, закончившемся смертью нечестивца, убитого святым Меркурием, трижды повторяются лексемы с корнем «пуст-» (дважды «пустыня» и один раз «пустое место»)[175]. В Сказании и в Чтении Нестора Святополк прямо сравнивается с римским императором[176].
Борис так же, как и Святополк, умер почти на рубежах Руси. Река Альта, на которой разбил свой стан Борис и на которой он был предан смерти убийцами, посланными Святополком, в сознании жителей Киевской Руси XI — начала XII в. (в том числе составителя Сказания и его первых читателей) обладала особым смыслом: она была одним из пограничных рубежей между Русью и Степью: «Борис был покинут воинами своего отца <…> и встал лагерем на реке Альте — в Средние века она представляла собой нечто вроде Рубикона на пути к кочевникам и обратно <…>» [Франклин, Шепард 2000. С. 270]. Но всё же Альта — река в Русской земле в отличие от условного «вакуума», «не-пространства», в котором умирает Святополк Окаянный. Внешнее сходство мест, где умирают убиенный святой и его убийца — лишь средство подчеркнуть глубинное различие этих двух видов пространства, этих двух локусов.
Обстоятельства бегства Святополка Окаянного из Русской земли, казалось бы, напоминают путешествие святого Глеба к Киеву, как оно описано в Сказании. На Святополка «нападе <…> бесъ и раслабеша кости его, яко не мощи ни на кони седети, и несяхоуть его на носилехъ» [Успенский сборник 1971. С. 54, л. 15 г]. Но и Глеб, по-видимому, не смог продолжать путешествие на коне и пересел в ладью (насад), ибо повредил себе при падении ногу: «и пришедъ на Вългоу, на поле потьче ся подъ нимъ конь в рове, и наломи ногоу мало» [Успенский сборник 1971. С. 50, л. 13 г]. Именно так, как указание на повреждение ноги Глебом, а не его конем, интерпретировал известие Сказания А. А. Шахматов [Шахматов 2001. С. 62][177]. (В летописной повести однозначно сообщалось о повреждении ноги Глеба, а не коня.) Внешнее здесь подано как средство указать на глубинную противоположность ситуаций: святой направляется в руки убийц и смиренно принимает смерть, великий грешник бежит прочь, гонимый гневом Божиим[178].
Движение Святополка в пространстве — это перемещение, «перебегание» от центра (Киева/Вышгорода) к периферии и за пределы пространства (к Берестью и пустыне «межю Чехы и Ляхы»). В географических координатах это перемещение с востока на запад[179]. В христианском сознании Средневековья запад и восток были понятиями не столько географическими, сколько ценностными: запад — край погибели, обитель смерти, место захода солнца (там мог локализоваться ад), восток — средоточие жизни, место восхода солнца, символ жизни (там мог локализоваться земной рай[180]). «И так, потому, что Бог есть духовный свет, и Христос в Писаниях назван солнцем правды и Востоком, для поклонения Ему должно посвятить восток. Ибо все прекрасное должно быть посвящено Богу <…>. Говорит же и божественный Давид: Царства земная пойте Богу, воспойте Господеви, возшедшему на небо небесе на востоки. А также Писание еще говорит: Насади Бог Рай в Едеме на востоцѣхъ, и введе тамо человѣка, егоже созда; его, согрешившего, Он изгнал, и всели прямо Рая сладости, без сомнения, на западе. И так, мы, отыскивая древнее отечество и пристально смотря по направлению к нему, покланяемся Богу. А также и скиния Моисеева на востоке имела завесу и очистилище. И колено Иудово, как более уважаемое, располагалось станом с востока. А также и в славном храме Соломоновом врата Господни находились к востоку. <…> И, возносясь, Он (Иисус Христос. — А.Р.) поднимался по направлению к востоку <…>» [Иоанн Дамаскин 1894. С. 217].
Эта оппозиции прослеживается, например, и в Шестодневе Иоанна экзарха Болгарского: «Въсади рай Б[ог]ъ въ Едеме на въстоце. Почто не во ино[и] стране, но на инои стране порода (рай; ср. более ясное чтение других списков: „нъ на въстокъ порода“, точнее соответствующее исходному греческому тексту. — А.Р.)? Отнюду же начало течению светильникома, оттоуду начало житию ч[е]л[ове]чю преже весть даеть Б[ог]ъ боудушемоу на въстоце рая полагаеть ч[е]л[ове]ка, да покажеть якоже и тьи светилници въсходяще текоуть на западъ и заходять. Тако же и емоу от житиа въ см[е]рть тещи и заити по образоу светильномоу, и другыи въстокъ пакы прияти изъ въскр[е]сениа м[ь]ртвыхъ. Таче Ада[мъ] к западоу, западе въ гробъ, въследоваша его край земленыи, и погребенъ бысть съ падъшимъ. Приде Х[ристо]с и сътвори възыти западъшемоу. Сего деля писание о немь. Се моуже въстокъ имя емоу и по[дъ] нимъ въсходить рекъше изъ гроба. Въ Адаме заиде и въ Х[рист]е възиде»[181].
Может быть, когда в начале Чтения о Борисе и Глебе цитируется рассказ Книги Бытия (2:8), не случайно сохраняется упоминание о насаждении Рая «на востоце».
Передвижению «персонажей» Сказания о Борисе и Глебе в пространстве по горизонтали, имеющему ценностный символический смысл, соответствует такое же символическое движение по вертикали. Святополк «и муце, и огню предасть ся. И есть могыла его и до сего д[ь]не, и исходить отъ нее смрадъ злыи <…>» [Успенский сборник 1971. С. 55, л. 55]. Злой смрад — знак пребывания души Святополка под землей, в аду[182]. Мотивы смерти на чужой стороне[183] и зловония от могилы отсылают к Книге Левит (26:17) [Барац 1924–1926. Т. 2. С. 179]. Показательно, что в повествовании Новгородской первой летописи о гибели братоубийцы упоминается дым, поднимающийся от его могилы: «яже дым и до сего дни есть» [Новгородская летопись 1950. С. 175, л. 179 об., Комиссионный список]. А в нескольких списках Несторова Чтения вместо упоминания о раке («раце»), в которой погребено тело Святополка Окаянного, говорится о мраке, в котором он пребывает: «видевши в мраце его» [Revelli 1993. Р. 665, note 11]. Это сообщение, по-видимому, вторичное, но показательно как свидетельство осмысления гибели «второго Каина»: это заключение души в аду. Лексема «мрак» появилась в тексте, поскольку она содержит коннотации, связанные с адом. Мрак, окружающий могилу Святополка, контрастирует с огненным столпом над местом погребения святого Глеба. Оба были захоронены в глухих местах, но Глеба Бог прославил, Святополку же воздал, наказав за великое зло[184].
Души Бориса и Глеба возносятся в небо, к престолу Бога, а их тела, нетленные и не источающие смрада, положены в Вышгороде — городе, в чьем названии присутствует сема «вышина», «высота»[185]. Агиограф обыгрывает внутреннюю форму названия «Вышгород», наделяя этот город признаком избранности и славы, связанной со святыми братьями: «Блаженъ по истине и высокъ паче всехъ градъ роусьскыихъ и вышии градъ, имыи въ себе таковое скровище, ему же не тъчьнъ ни вьсь миръ. По истине Вышегородъ нарече ся, вышии и превышии городъ всехъ» [Успенский сборник 1971. С. 57, л. 176]. Прославлению Вышгорода предшествует цитата из Евангелия от Матфея (5:14–15), в которой также сказано о городе, находящемся в высоком месте, на горе: «Яко же рече Г[оспод]ь: „Не можеть градъ укрыти ся врьху горы стоя, ни свеще въжыъше спудъмь покрывають, нъ на светиле поставляють, да светить тьмныя“, — тако и <…> си святая постави светити въ мире премногыими чюдесы» [Успенский сборник 1971. С. 55–56, л. 16в]. В тексте Сказания нарисованы как бы два разных Вышгорода: темный и светлый. Святополк совещался с боярами об убийстве Бориса ночью, — этой физической, природной тьме противопоставлен божественный свет святых. Так цветовой код искусно встраивается в код пространственный.
Вероятно, в тексте Сказания о Борисе и Глебе проведена параллель между цитатой из Книги Притчей Соломоновых (2:21; 14:32) и похвалой городу Вышгороду. Борис перед смертью «помышляаше слово премудраго Соломона: „правьдьници въ векы живуть и отъ Г[оспод]а мьзда имъ, и строение имъ отъ Вышьняаго“» [Успенский сборник 1971. С. 46, л. 11а]. Структура слов «Вышгород» и «Вышний» («Вышьний») похожа: оба содержат один и тот же корень. Обретению блаженства Борисом в вечности (у престола Вышнего) соответствует в земном пространстве перенесение мощей страстотерпца в Вышгород, который предстает богоизбранным, святым городом. Не случайно и погребение святых именно в храме Святого Василия: Василий — также христианское имя их отца Владимира; святые братья символически воссоединяются с отцом после своей смерти, будучи похоронены в церкви, носящей имя святого — небесного покровителя Владимира[186].
Именно Вышгород становится местом, где происходит посмертное соединение Бориса и Глеба (их мощей) в земном пространстве, в то время как их души встречаются у престола Господа в пространстве небесном. В летописной повести об этом говорится так: «И съвкуплена телома паче же душама, у Въладыкы Всецесаря пребывающа в радости бесконечней, во свете неиздреченьнемь» [ПВЛ. С. 61]. Этот мотив Борисоглебской агиографии тонко подмечен А. Ю. Карповым:
«Так соединились тела святых братьев, как соединились в небесах их безвинные души…
Тело Бориса перевезли к Вышгороду, можно сказать, в „Святополков“ город, и похоронили в простом деревянном гробу возле церкви Святого Василия <…>. Особо отметим, что похоронили даже не в церкви, как всегда хоронили князей, а вне ее стен, словно какого-то отступника или злодея. Так Борис обрел покой в городе своих убийц. И вот — вечный парадокс истории — именно этот город станет городом его славы, главным центром почитания Бориса и его брата Глеба, и именно сюда, к их гробницам, потянутся тысячи русских людей <…>, прося у святых братьев защиты и покровительства. <…>
…[Т]о, что город этот породил убийц святого Бориса, что он принял святые тела Бориса и брата его Глеба, останется в веках и прославит его „паче всех городов Русских“».
[Карпов 2001. С. 106–107]
Так оказывается в двух «планах» бытия преодолена разъединенность благодатной пары святых. Как подчеркивал В. Н. Топоров, в Сказании о Борисе и Глебе благодатной парности Бориса и Глеба противопоставлена греховная «двойственность» Святополка, рожденного «от двух отцов» (Владимир взял в жены его мать уже беременной от Владимирова брата Ярополка) и гнетомого грехом как названого отца Владимира (бывшего в ту пору еще язычником), так и матери, расстриженной монахини-гречанки, нарушившей иноческий обет. «„[П]арность“ Бориса и Глеба конструируется в связи с направлением главной оси — противопоставлением этой „пары“ святых и блаженных окаянному Святополку. Благодатная парность Бориса и Глеба, достигнутая их подлинно христианской кончиной, противостоит греховной „двойственности“ Святополка, их будущего убийцы, вызванной к существованию целой цепью предшествующих грехов» [Топоров 1925. С. 495].
Ложно признав двойной грех — матери и нареченного отца — основанием для своего собственного осуждения, Святополк решается удвоить уже совершенный собственный грех братоубийства и замышляет расправу с юным Глебом. При этом злодей стремится избежать двух вероятных угроз — отмщения со стороны других сыновей Владимира и изгнания: «<…> дъвоего имамъ чаяти: яко аще братия моя, си же варивъше, въздаять ми и горьша сихъ; аще ли не сице, то да ижденоуть мя и боуду чюжь престола о[ть]ца моего и жалость земле моея сънесть мя и поношения поносящиихъ нападоуть на мя и къняжение мое прииметь инъ и въ дворехъ моихъ не боудеть живоущааго» [Успенский сборник 1971. С. 50, л. 13а]. Однако в итоге всё совершается именно так, как того боялся и пытался избежать Святополк: Ярослав выступил мстителем за невинноубиенных, а Святополк был изринут из Русской земли. «Двойственность» не преодолена, она воплотилась в земной и посмертной судьбе братоубийцы — как две потери, как две гибели; при этом и земная, и посмертная участь в свой черед делится надвое, и всё свершившееся оказывается страшной потерей. Святополк лишается и княжения, и жизни, а в мире загробном — Царства Небесного, и оказывается в аду: «и тако обою животоу лихованъ бысть: и сьде не тъкъмо княжения, нъ и живота гонезе, и тамо не тькъмо Ц[а]рствия Н[е]б[е]с[ь]нааго и еже съ ангелы жития погреши, нъ и моуце и огню предасть ся» [Успенский сборник 1971. С. 54–55, л. 16а].
Убийство оказывается самоубийством. Происходит «инверсия» греховного деяния: оно обращается против того, кто его сотворил. Стрела, выпущенная рукою убийцы, поворачивает вспять и пронзает его самого. Этой «инверсии» в пространственном коде Сказания о Борисе и Глебе соответствуют движение и перемещение святых и их ненавистника. Исторжение Святополка из родной земли представлено в Сказании как реализация библейской цитаты: «Оканьнии же они оубоице, възвраивъше ся къ пославъшоумоу я, яко же рече Д[а]в[ы]дъ <…>: „ороужие звлекоша грешьници, напрягоша лоукь свои заклати правыя сьрдьцьмь, и оружие ихъ вънидеть въ с[ь]рд[ь]ца, и лоуци ихъ съкроушать ся, яко грешьници погыбноуть“ [Пс. 15:20]. И яко съказаша Святопълку, яко сътворихомъ повеленое тобою: и си слышавъ, възнесеся срьдьцьмь. И събысть ся реченое псалопев[ь]цемь Д[а]в[ы]дъмь: „Чьто ся хвалиши, сильным, о зълобе? Безаконие вь сь д[ь]нь, неправьдоу оумысли языкъ твои, възлюбилъ еси зълобоу паче благостыне, неправьдоу, неже глаголаати правьдоу, възлюбилъ еси вься <…>. Сего ради раздроушить тя Богь до коньца, въстьргнеть тя и преселить тя отъ села твоего и корень твои оть земля живоущихъ“ [Пс. 51:3–7]» [Успенский сборник 1971. С. 53, л. 15а-15б][187]. Святополк реально, физически исторгнут из родной земли. Он, плод злого корня, противопоставлен роду праведных — Борису, Глебу и их отцу Владимиру. Сказание начинается с цитаты из Псалтири, говорящей о благословении рода праведных, отнесенной к Владимиру и его сыновьям-страстотерпцам: «„Родъ правыихъ бл[а]гословить ся, рече пророкъ, и семя ихъ въ бл[а]гословении боудеть“ [Пс. 111:2]. Сице оубо бысть малъмь преже сихъ» [Успенский сборник 1971. С. 43, л. 86]. Это речение — лейтмотив Сказания о Борисе и Глебе, в котором, как заметил Р. Пиккио, развернут мотив благословения рода праведных [Picchio 1977. Р. 15]; ср.: [Пиккио 2003. С. 448–449]. Сказание начинается рассказами о смерти трех праведников, а заканчивается описанием гибели грешника. Владимиру, Борису и Глебу смерть отворяет дверь в вечность. Святополка же физическая смерть обрекает на «гибель вечную». Благословенная судьба Бориса и Глеба противопоставлена пути Святополка — пути греха и смерти.
Итак, текст Сказания организован по двум пространственным осям — горизонтальной и вертикальной. На горизонтальной оси противопоставлены центр и периферия: великий грешник исторгается на периферию и за пределы «своего» пространства, а святые (их мощи) занимают положение в центре. В вертикальном измерении контрастируют верх (земной, Вышгород, и небесный — престол Господа и место пребывания душ страстотерпцев и их отца) и низ (ад, место вечных мучений Святополка).
Одновременно святое, истинное начало как бы совершает экспансию в пространство, прежде захваченное началом греховным: по воле Божией Ярослав одерживает окончательную победу над Святополком в том самом месте, где был убит Борис; корабль, в котором был предан смерти Глеб, был символом скорби — корабль, на котором перевозят тело Глеба в Вышгород, становится знаком торжества Бога и его исповедников.
Вероятно, иное восприятие Святослава, сводного брата Бориса и Глеба (также убитого Святополком, но не канонизированного и не почитавшегося) объяснялось не только тем, что его почитанию препятствовало представление о Борисе и Глебе как о благословенной паре, двоице[188], но и обстоятельства смерти Святослава, который был настигнут убийцами «в Уграх», за пределами или на границе Русской земли[189]. Гибель Святослава в русско-венгерском пограничье, вне «своей» земли, в пространственном вакууме напоминает о смерти исторгнутого из пределов Руси Святополка Окаянного, как она описана в Повести временных лет и в Борисоглебской агиографии. Такая кончина, вероятно, могла восприниматься как свидетельство, что убитый не заслуживает почитания.
Сказание о Борисе и Глебе в древнерусской письменности было памятником намного более читаемым и чаше переписываемым, нежели Несторово Чтение о Борисе и Глебе. Одной из причин этого, скорее всего, была лучшая структурированность этого произведения, содержащая глубокие символические смыслы.
Канонизация Бориса и Глеба
(О статье А. Н. Ужанкова «Святые страстотерпцы Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий»)[190]
Статья А. Н. Ужанкова, напечатанная на страницах журнала «Древняя Русь: Вопросы медиевистики», безусловно интересна и содержательна, и каждый из медиевистов, изучающих словесность и историю Киевской Руси, должен отнестись с вниманием к выводам автора. История складывания Борисоглебского культа и Борисоглебской агиографии продолжает оставаться одним из «темных мест», несмотря на то, что изучением книжных памятников и иных свидетельств о святых братьях занимались известнейшие отечественные и зарубежные медиевисты (А. А. Шахматов, С. А. Бугославский, Д. И. Абрамович, Н. Н. Воронин, А. Поппэ, Л. Мюллер, Н. Ингем, Г. Ленхофф, Дж. Ревелли и др.). И дело здесь даже не в том, что с необходимой бесспорностью не известны обстоятельства и характер смерти Бориса (так, скандинавская «Сага об Эймунде» сообщает, что Бориса велел убить Ярицлейв — Ярослав Мудрый, а не Святополк). В конце концов, большинство историков не склонны доверять известиям саги (хотя и у ее версии есть сторонники[191]). Но не установлено время канонизации святых братьев (историки называют и княжение Ярослава Мудрого, и 1072 г.), не имеют точных датировок посвященные им памятники (особенно Сказание о Борисе и Глебе, датой создания которого называют и середину XI в., и начало XII в.). Отсутствует единодушие и в вопросе о текстологических связях между Сказанием и Чтением о Борисе и Глебе: А. А. Шахматов в своей книге 1908 г. «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» доказывал, что Чтение первично, а Сказание вторично; С. А. Бугославский же настаивал на первичности Сказания[192].
В качестве исследователей, наиболее четко и настойчиво изложивших противоположные мнения относительно текстологии Борисоглебского цикла, в статье А. Н. Ужанкова представлены А. А. Шахматов и С. А. Бугославский, а как главные выразители противоположных мнений о времени канонизации страстотерпцев — Л. Мюллер (полагающий, что Борис и Глеб были причислены к лику святых при Ярославе Мудром) и А. Поппэ (считающий, что канонизация произошла в 1072 г.).
Ход рассуждений и выводы А. Н. Ужанкова таковы.
Одним из свидетельств о времени канонизации является наличие или отсутствие именования братьев святыми в летописи. После описания смерти Бориса и Глеба под 1015 г. и вплоть до статьи 1072 г. о перенесении их мощей летопись вообще умалчивает о страстотерпцах. Под 1072 г. Борис и Глеб названы святыми, но А. Н. Ужанков не склонен доверять этому известию, считая его позднейшей вставкой. В статье 1072 г. дана неверная датировка дня этого перенесения (2 мая вместо 20-го, как указывают другие, вне-летописные источники), и это свидетельствует о редактуре статьи 1072 г., сделанной после 2 мая 1115 г., когда состоялось новое перенесение мощей. По мнению исследователя, именно летописец-«редактор», работавший после 1115 г., внес именование Бориса и Глеба святыми. Эти соображения интересны, но небесспорны: дело в том, что только в сочетании друг с другом утверждение об ошибке в датировке дня перенесения мощей и мысль об именовании Бориса и Глеба святыми как о позднейшей интерполяции приобретают необходимую убедительность. Между тем недостоверность даты 2 мая 1072 года всего лишь вероятна[193]. Но, главное, невозможно бесспорно доказать, что изменение даты с 20 мая на 2 мая и именование Бориса и Глеба святыми принадлежат одному и тому же книжнику-редактору, перерабатывавшему летописный текст вскоре после 2 мая 1115 г.
Под 1086 г. Борис и Глеб упомянуты, но святыми не названы. И лишь в статье 1093 г. они именуются святыми; при этом праздник 24 июля, им посвященный, назван новым.
Отсюда делается вывод первый, праздник Бориса и Глеба был установлен незадолго до 1093 г.: «Совершенно очевидно, что если бы праздник святых Бориса и Глеба установился для всей Русской земли в 1020 или 1021 г., или даже в 1035 г. при Ярославе Мудром, то спустя 70 или даже 58 лет, то есть в третьем поколении, он уже и не мог быть „новым праздником в Русской земле“. Даже если бы он был установлен и в 1072 г., то есть спустя 21 год, он не был бы такой уж и новый, ведь целое поколение людей выросло. И кто бы запретил монаху-летописцу сообщить об этом в свое время. К тому же, если вести отсчет от 1072 г., то нужно говорить о дне памяти Бориса и Глеба 20 мая, когда было осуществлено перенесение их мощей, а не 24 июля — дне памяти Бориса!» (2000. № 2. С. 37).
Аргументы А. Н. Ужанкова не новы: ранее их приводил А. Поппэ, ссылаясь также на статью 1093 г. и отстаивая версию о канонизации святых в 1072 г.[194] В интерпретации эпитета «новый» автор статьи не оригинален. До А. Н. Ужанкова также А. Поппэ на основании именования праздника в летописной статье 1093 г. «новым» отнес канонизацию братьев к 1072 г. [Поппэ 1973. С. 19]. Но А. Н. Ужанков первенство А. Поппэ не отмечает. Эти соображения были подвергнуты критике Л. Мюллером: «Однако что означает выражение „праздник новый Русской земли“? Летописец сопоставляет относительно новый, недавно установившийся только на Руси, праздник святых Бориса и Глеба и древний праздник Вознесения Христова, который уже тысячу лет отмечался во всем христианском мире. По отношению к нему праздник 24 июля, разумеется, новый, независимо от того, возник ли он в 1072 г. или, скажем, в 1038 г., т. е. 21 год или 55 лет назад» [Мюллер 2000. С. 78].
Признать бесспорность вывода А. Н. Ужанкова я бы не решился по двум причинам. Во-первых, как известно, именование какого-либо праздника или святого «новым» порой сохраняется в рукописях, отстоящих от времени его установления на сотни лет (примеры дает бытование житий в минейных сборниках). Семантика слова «новый» — не только временная, но и ценностная. «Новый» означает часто не «недавно возникший», но «непохожий на прежде бывшее, уникальный» (ср. выражение «новыя люди» в повествовании Повести временных лет о крещении Руси под под 6496/988 г. и в статье 6504/996 г.[195] и выражение «новы люди» в Слове о Законе и Благодати[196] и, конечно, в Библии[197]). Поэтому присутствие этой лексемы не может быть бесспорным «индикатором», маркером хронологического характера. Между прочим, в статье Повести временных лет под 1093 г. слово «новый» употреблено, вероятно, как раз в значении «прежде не бывший, впервые созданный», а не в значении «недавно появившийся или начавшийся, недавний, молодой»[198].
Во-вторых, молчание летописи об установления праздника при Ярославе Мудром или в 1072 г., конечно, нельзя обойти вниманием. Но резонен и другой вопрос, обращенный к самому А. Н. Ужанкову: а как объяснить молчание летописи об установлении праздника в конце 1080-х — начале 1090-х гг?[199] Природа подобных умолчаний нам вообще не очень ясна. Приведу лишь один пример: точное время канонизации Владимира Святого (крестителя Руси, равноапостольного князя, прародителя всей русской династии, правившей до 1598 г.!) нигде в старинных источниках не указано.
И, наконец, может быть, самое главное: последний случай не-именования в летописи братьев Бориса и Глеба святыми едва ли может быть датирующим признаком, датой post quern. А. Н. Ужанков в полемике со мной привел в качестве дополнительного аргумента на сей счет пример канонизации Владимира Святославича, который в Ипатьевской летописи под 1229 г. еще не именуется святым, впервые назван святым в этой же летописи под 1254 г., а к лику святых был причислен немного раньше, 15 июля 1240 г. [Ужанков 2002. С. 115]. Однако эта традиционно называемая (но по существу всецело гипотетическая) дата канонизации Владимира небесспорна. «Сейчас появляются основания относить прославление равноапостольного князя к более раннему времени. Чтение „жития князя Владимира“ предписывается богослужебным уставом по рукописи конца XII — начала XIII в. (Курский краеведческий музей, № 20959 <…>). Это сдвигает на полвека <…> наиболее вероятную датировку Жития <…>»[200]. Правда, интерпретация этой записи о чтении жития Владимира в день поминовения святых Бориса и Глеба, принадлежащая В. М. Живову, не единственно возможная. Например, А. В. Назаренко высказывает иное мнение, полагая, что свидетельство месяцеслова рукописи из собрания Курского краеведческого музея позволяет говорить лишь о местном почитании равноапостольного князя в XII — начале XIII в.: «эта запись может служить основанием думать, что до официального прославления и установления памяти 15 июля память св. Владимира могла кое-где праздноваться 24 июля вместе с памятью его сыновей-страстотерпцев» [Назаренко 2001. С. 435][201].
Но, так или иначе, а первое летописное упоминание о Владимире как о святом, очевидно, не обладает значением безусловного датирующего признака.
Вполне вероятно, что датирующим признаком не может быть и первое упоминание о Борисе и Глебе в Повести временных лет. Между прочим, братья могут иногда не называться святыми даже в летописных записях, составленных несколько десятилетий после их канонизации[202].
Во время раскопок 1999 г. в Новгороде была найдена берестяная грамота (№ 906), относящаяся к 1050–1070-м гг. В ней наряду с другими святыми названы Борис и Глеб (в настоящее время это самое раннее упоминание о братьях-князьях как о святых)[203]. Текст грамоты — сильное и трудно опровергаемое свидетельство, что Борис и Глеб были причислены к лику святых ранее, чем утверждает А. Н. Ужанков. Обнаружение этой грамоты словно бы предостерегает от поспешных попыток установления бесспорных дат, исходя из наличествующих источников: до нас дошло слишком мало источников, чтобы на их основании высказывать безапелляционные утверждения; появление новых сведений может радикально изменить наши представления о событиях далекого прошлого.
Называя позднюю дату канонизации Бориса и Глеба, А. Н. Ужанков, конечно, не может игнорировать известий Сказания о чудесах (Ужанков именует его «Сказанием страсти…») и Чтения о почитании братьев еще в годы правления Ярослава Мудрого. Объясняя эти свидетельства, он утверждает, что при Ярославе Мудром утвердилось местное почитание страстотерпцев. Таков вывод второй. Он, безусловно, изящен, так как позволяет в известной степени примирить противоположные мнения Л. Мюллера и А. Поппэ. Добавлю, что дополнительным подтверждением мысли А. Н. Ужанкова могли бы стать наблюдения Г. Ленхофф, сделанные на ином материале, на основе социокультурного изучения почитания святых братьев и также косвенно указывающие на отсутствие общерусского почитания при Ярославе Мудром. Исследовательница полагает, что в годы правления Ярослава Мудрого существовало лишь местное почитание страстотерпцев, причем оно носило преимущественно «низовой», народный характер[204]. В работе А. Н. Ужанкова исследование Г. Ленхофф не учтено[205].
Скрупулезно анализируя чудо с мощами Глеба по рассказам Повести временных лет. Чтения и Сказания о чудесах, А. Н. Ужанков обратил внимание на тот факт, что в Сказании митрополит Георгий благословляет князей — участников перенесения мощей рукою Глеба, при этом ноготь святого остается в волосах князя Черниговского Святослава. При этом в рассказе Сказания владыка Черниговский Неофит, участвующий в перенесении мощей, назван митрополитом. В Чтении же Нестора благословение совершается рукою Бориса, и митрополитом именуется только Георгий. A. Н. Ужанков связывает эти разноречия двух агиографических текстов с политическими симпатиями книжников. В Сказании, по его мнению, прослеживаются прочерниговские симпатии: владыка Черниговский назван митрополитом, и черниговский князь получает благодатное знамение (ноготь святого) от мощей Глеба, который первоначально почитался более, нежели Борис[206].
Эпизод с благословением рукою одного из страстотерпцев (Глеба или Бориса) в Сказании о чудесах был уже проанализирован B. Биленкиным, пришедшим к отчасти сходным результатам [Биленкин 1993. С. 61–62]. Но эта работа в статье А. Н. Ужанкова не учтена. Не уделяет А. Н. Ужанков внимания и опровержению идеи В. И. Лесючевского, который полагал, что имя Глеба в описании благодатного знамения при перенесении мощей 1072 г. вторично и им заменено имя Бориса, содержавшееся в первоисточнике [Лесючевский 1946. С. 238]. Также никак не учитывается и мнение М. Х. Алешковского о повествовании, посвященном перенесению мощей, в составе Сказания. М. Х. Алешковский пришел, как позднее и А. Н. Ужанков, к выводу об особом почитании Глеба Святославом Черниговским (и считал имя Глеба в Сказании исходным, а имя Бориса в Чтении — поздней, начала XII в., заменой). Но в отличие от А. Н. Ужанкова он полагал, что протографом описания перенесения мощей 1072 г. в Сказании послужил «авторский» текст Повести временных лет под 1072 г. [Алешковский 1972. С. 119, примеч. 55].
А. Н. Ужанков напоминает о том, что муромские земли, принадлежавшие Глебу, вошли в состав Черниговского удела, в то время как Ростовское княжество Бориса перешло к линии Всеволода Ярославича и его сына Владимира Мономаха, почитавшего, как показывает автор статьи, прежде всего именно Бориса.
А. Н. Ужанков нашел соответствия тексту о перенесении мощей 1072 г. в составе Сказания о чудесах в Воскресенской и Софийской первой летописях и попытался доказать, что в Воскресенской летописи сохранился первоначальный вариант этого эпизода. Наблюдения исследователя не лишены интереса.
Однако и текст Воскресенской летописи сохранил следы редактуры. Он содержит противоречие — «шов», свидетельствующий, вероятно, о контаминации разных источников. Вот фрагменты текста этой летописной статьи: «<…> [И] пришедше со кресты, и съ кандилы и со свещами многыми, идеже лежать телеса пречистаа, сотворивъ молитву повеле окопати прьсть, сущую на гробе святою. Копающимъ же имъ, исхождаше благоуханнаа воня оть гробу святою, и окопавше изнесоша оть земля; и приступивъ митрополитъ Георгий со прозвиторы, со страхомъ и любовию, откры гробъ святою, и видеша чюдо преславно, телеса святыхъ никакоя же язвы не имуща, но все цело, и лица ихъ светла бяста яко аггела, яко дивитися архиепископу зело, и всемъ исполъшимся благоуханна много. (Здесь заканчивается текст, не совпадающий с известным нам текстом Сказания о чудесах; дальнейшее практически тождественно тексту Сказания. — А.Р.) И сотвориша празнество светло, и вземше святаго Бориса в древяной раце на рама своя, понесоша князья, и предъидущим преподобнымъ чръноризъцемъ со свещами, и по нихъ диакономъ с кандилы, таче прозвитеры, и по сихъ ношаху мифополитъ и епископи, и по сихъ ношаху раку; и принесше и поставиша въ новой церкви, юже содела Изяславъ, яже стоить и доныне. И отвръзоша раку, и исплънися церковь благоуханна и воня пречюдныя: и си видевше, прославиша Бога. Митрополита же обыде ужасъ, бяше бо не твердо веруя ко святыма, и паде ниць просяще прощениа; и целовавше мощи его, вложиша в раку камену. По семь же вземыпе Глеба въ раце каменне, воставивше на сани и емше ужи, и повезоша и: и яко быста в дверехъ, и ста рака, не поступащи оть места. И повелеша народом звати: „Господи помилуй;“ и моляся Господеви и святыма мученикома, и абие подвижеся рака, и повезоша и, и положиша месяца маиа въ 2 день» [ПСРЛ Воскресенский список 2001. С. 341].
В этом тексте содержится дублировка: дважды сообщается о перенесении тел Бориса и Глеба, при этом митрополит Георгий, не веривший в святость братьев, продолжает сомневаться и после открытия гробницы и нахождения мощей нетленными (в Сказании о чудесах это первое свидетельство о нетлении тел страстотерпцев отсутствует). И лишь после второго свидетельства о нетлении (когда от тел, положенных в церкви, распространяется благоухание) митрополит Георгий оставляет все сомнения. Таким образом, текст, сохраненный в Воскресенской летописи, «дефектен», хотя и по-иному, чем текст Сказания о чудесах. В статье Воскресенской летописи под 6580/1072 г. сохранились два описания перенесения мощей святых братьев, второе из которых заимствовано из фрагмента Сказания о чудесах, описывающего перенесение мощей 1072 г. (Сказание об убиении и Сказание о чудесах были источниками всех известий летописи: в описании убиения Бориса и Глеба в статье Воскресенской летописи под 6523/1015 г. приводится текст, заимствованный из Сказания об убиении [ПСРЛ Воскресенский список 2001. С. 318–324].) Начало же летописной статьи 6580/1072 г. А. Н. Ужанков возводит к первоначальному виду Сказания (названному исследователем Сказанием о гибели Бориса и Глеба, или Протосказанием): «Единственно возможным источником как для Воскресенской, Софийской и других сходных с ними новгородских летописей, так и для „Сказания о Борисе и Глебе“, принявшего известный нам вид после 1115 г., могло быть только существовавшее самостоятельно „Сказание о гибели Бориса и Глеба“, написанное прочерниговским автором во время княжения в Киеве с 22 марта 1073 г. по 27 декабря 1076 г. черниговского князя Святослава Ярославича» (2000. № 2. С. 44). А. Н. Ужанков полагает, что «текст из „Сказания о Борисе и Глебе“ — это сокращенный и слегка отредактированный вариант текста, легшего в основу статьи 1072 г. Воскресенской летописи» (2000. № 2. С. 43).
Действительно, А. Н. Ужанков показал, что в Воскресенской летописи сохранены в ряде мест чтения лучшие, более правильные, нежели в Сказании о чудесах. Однако он ограничился сопоставлением текста Воскресенской летописи только с одним, пусть и древнейшим, списком Сказания о чудесах (списком Успенского сборника XII–XIII вв.), который отстоит от времени создания Сказания о чудесах на несколько десятилетий, если не на столетие, притом не доказано, что это протограф всех остальных списков. Естественно, такое сопоставление совершенно не показательно: позднейшие списки Сказания могли сохранить более правильное чтение, и летописец мог воспользоваться таким более исправным текстом Сказания о чудесах, а вовсе не текстом гипотетического Протосказания.
На самом деле все так и обстоит. Если Успенский список содержит дефектное чтение «И по литургии вься братия и обедаша вси на коупь» (пропуск между словом «братия» и союзом «и»), то целый ряд других списков лишен этой лакуны и дают вполне исправное чтение: «братия идоша и обедаша вси на коупь»[207]. Правда, Воскресенская летопись содержит иное чтение: «По литургии вся братиа идоша съ бояры своими койждо и обедаша вкупе» [ПСРЛ Воскресенский список 2001. С. 341], но доказать, что это чтение первично по отношению к тексту списков Сказания, лишенному лакуны, на мой взгляд, представляется невозможным.
Кроме того, дублировка в составе статьи Воскресенской летописи свидетельствует о ее вторичном характере по отношению к Сказанию о чудесах: не в Сказании сокращен источник летописной статьи, а в начале статьи Воскресенской летописи текст Сказания дополнен по какому-то другому источнику. Если бы А. Н. Ужанков потрудился внимательно прочитать текст, он обнаружил бы, что источником описания открытия мощей Бориса и Глеба в начальной части статьи 1072 г. Воскресенской летописи является не некий гипотетический источник (Протосказание), в а все то же Сказание о чудесах — только не рассказ о перенесении мощей 1072 г., а эпизод, повествующий об открытии и перенесении тел братьев при Ярославе Мудром и митрополите Иоанне. Вот текст этого фрагмента по Успенскому списку, почти дословно совпадающий с текстом летописи: «Наставъшю же дьни, иде архиепископъ Иоанъ съ крьсты, иде же лежаста святою телеси перьстьнеи. И, сътворивъ молитвоу, повеле откопати пьрьсть соущюю надъ гръбъмь святою. Копающемъ е и исхожаше благая воня отъ гробоу ею святою. И откопавъше, изнесоша я отъ земле. И пристоупивъ, митрополитъ Иоанъ съ презвутери съ страхомъ и любъвию откры гроб и святою» [Revelli 1993. Р. 488, л. 19б-19в].
Трудно объяснить, почему в тексте статьи 1072 г. Воскресенской летописи произошла контаминация двух известий Сказания о чудесах (о перенесении мощей при Ярославе Мудром и при его сыновьях). Возможно, в распоряжении летописца был дефектный список Сказания, в котором два описания не были отделены друг от друга; возможно также, что летописец, сличая два описания, пришел к выводу о недостоверности данных о перенесении тел святых и установлении памяти братьям при Ярославе Мудром, так как второе известие содержало свидетельство о неверии в святых митрополита Георгия (таковое неверие могло показаться книжнику невозможным, если Борис и Глеб были ранее канонизированы). Летописец, усомнившись в обнаружении тел братьев нетленными и в их канононизации еще при Ярославе, отнес известие об этом событии ко времени перенесения мощей при Ярославовых сыновьях, в 1072 г. Впрочем, эти соображения — не более чем догадки.
Таким образом, А. Н. Ужанков на основании сопоставления Сказания о чудесах и Воскресенской летописи приходит к идее о существовании некоего Протосказания («Сказания о гибели Бориса и Глеба»), написанного с прочерниговской точки зрения в период княжения Святослава в Киеве (1073–1076 гг.) и отражающего глебоборисовскую стадию культа (2000. № 2. С. 44). Таков вывод третий. Как гипотеза он безусловно интересен, но очень слабо аргументирован[208].
Однако на самом деле, даже если признать справедливость всех аргументов А. Н. Ужанкова, они имеют отношение исключительно к истории текста и датировке Сказания о чудесах, а не всего Сказания о Борисе и Глебе (включая Сказание об убиении). В рукописной традиции эти произведения представляют собой, как представляется, два самостоятельных текста. В древнейшем списке (в Успенском сборнике) Сказание о чудесах имеет самостоятельное заглавие и открывается собственным вступлением. Сказание об убиении завершается похвалой братьям (приписка об облике Бориса попала в конец текста явно случайно[209]). Также отделено Сказание о чудесах от Сказания об убиении и в других списках, близких к Успенскому[210]. Как показал С. А. Бугославский, текст Сказания об убиении в древнейшем списке близок к первоначальному, причем два произведения различаются особенностями стиля[211]. Исследователь (в отличие от А. А. Шахматова[212] и — более поздняя работа — Н. Н. Воронина) считал эти тексты двумя изначально самостоятельными произведениями[213]. Аргументы С. А. Бугославского А. Н. Ужанков не учитывает и не опровергает[214]. Также он никак не рассматривает свидетельства рукописной традиции. Между тем из 226 списков, учтенных в наиболее авторитетном в настоящее время издании Борисоглебских житий, подготовленном Дж. Ревелли, в 175 текст Сказания о чудесах не следует за текстом Сказания об убиении: оно либо предшествует Сказанию об убиении (иногда они разделены другими текстами), либо идет за ним, но не сразу (между ними находятся какие-либо иные тексты); наконец, во многих рукописях его просто нет. В тех же списках, где Сказание о чудесах является непосредственным продолжением Сказания об убиении, очень часто содержится еще и Чтение Нестора (как правило, предваряющее Сказание об убиении[215]). В этих списках Сказание о чудесах имеет собственное заглавие, как и Чтение, и Сказание об убиении. Очевидно, все три памятника воспринимались как самостоятельные части цикла. Рукописная традиция бытования двух памятников свидетельствует, что они также чаще воспринимались как два совершенно самостоятельных текста, чем как элементы единого целого[216].
А. Н. Ужанков относит рассказ о перенесении мощей 1072 г. к первоначальному ядру Сказания (Протосказанию), описание же посмертных чудес святых приурочивает к более позднему времени. Но рассказ о перенесении мощей страстотерпцев входит в состав Сказания о чудесах, а не Сказания об убиении, и произвольное вырывание его из исконного контекста требует дополнительного обоснования[217].
Наблюдения А. Н. Ужанкова могут быть применены только к Сказанию о чудесах. Но компилятивный («трехслойный») его характер был указан еще тем же С. А. Бугославским в работе, учтенной А. Н. Ужанковым, причем С. А. Бугославский также относил формирование первого «слоя» к времени правления в Киеве Святослава (т. е. к периоду до 1076 г.) [Богуславский 1914][218].
Временем создания Чтения Нестора А. Н. Ужанков считает период между 1086–1088 гг. (2001. № 1 (3). С. 48). Это вывод четвертый. Оспорить его довольно трудно. В этой части работы, по-моему, наиболее интересны и неопровержимы аргументы, относящиеся к времени написания Жития Феодосия Печерского — другого произведения Нестора, созданного вслед за Чтением. А. Н. Ужанков придерживается версии о создании этого текста в 1080-х гг. (2000. № 2. С. 46–50).
Однако утверждение А. Н. Ужанкова о том, что Сказание (Протосказание) предшествовало Чтению, диаметрально противоположно мнению А. А. Шахматова о первичности Чтения, повлиявшего на формирование текста Сказания. А. А. Шахматов обосновал свою гипотезу сильными аргументами, и противоположная гипотеза должна основываться на аргументах, опровергающих шахматовские построения. Но А. Н. Ужанков этого не делает.
Сказание в полном виде (с описанием чудес), по мнению А. Н. Ужанкова, сложилось после перенесения мощей, имевшего место 2 мая 1115 г., и до 1118 г., когда Сильвестр — предполагаемый автор Сказания — стал епископом Переяславским. В нем выражена промономаховская точка зрения. А. Н. Ужанков отводит возможность авторства епископа Переяславского Лазаря (мнение Н. Н. Воронина), утверждая, что Сказание возникло в Киеве, и связывает его создание с Выдубицким монастырем и, соответственно с его игуменом Сильвестром (2001. № 1 (3). С. 37–40, 48–49). Таков вывод пятый.
Эти соображения носят характер допущений, которые автор статьи не стремится строго аргументировать[219]. В частности, можно задать такие вопросы: а почему Сильвестр или Лазарь не могли написать такое произведение вне Киева, в период епископства в Переяславле? Неужели не могло быть в Киевской Руси других центров книжности, кроме Выдубицкого монастыря, где благоволили к Владимиру Мономаху? А. Н. Ужанков понимает, что уязвимое место его гипотезы — это обращение Мономаховых выдубицких книжников к проглебовскому и прочерниговскому (а сын Святослава Олег — враг Мономаха и его отца![220]) Сказанию об убиении (Протосказанию) 1070-х гг., а не к «политически нейтральному» Несторову Чтению. Исследователь высказывает ряд соображений на этот счет, но мне они представляются недостаточными: он объясняет обращение промономаховских книжников к Протосказанию так: «На мой взгляд, это можно объяснить несколькими причинами. Вышедшее из стен Печерского монастыря „Чтение о Борисе и Глебе“ являлось строго каноническим житием святых, написанным для церковной службы на 24 июля — общерусского праздника, известного и в других странах — имело уже почти тридцатилетнюю практику употребления, т. е. не требовало переделок. К тому же в нем были и своя концепция событий, отличная от более поздних интерпретаций, летописной статьи 1015 г. и „Сказания о Борисе и Глебе“, и своя идеология, противная выдубичанам. Последнее, видимо, и сказалось на окончательном решении. Выдубицкий автор остановил свой выбор на бесхозном „Сказании о гибели Бориса и Глеба“, может быть, и по подсказке Владимира Мономаха, одно время княжившего в Чернигове и, несомненно, хорошо знавшего его. „Сказание“ нетрудно было приспособить для новых нужд — дополнить рассказами о чудесах, творимых святыми, и сделать редактуру и некоторые переделки, направленные на соединение двух произведений в одно целое.
За сорок с лишним лет после его написания стерлась важная в свое время для Святослава Ярославича проглебовская направленность произведения. Установился прочно Борисоглебский культ, и для автора „Сказания о Борисе и Глебе“ уже не столь было актуально, рукой какого святого благословлялись князья, главное, что благословлялись» (2001. № 1(3). С. 40).
«Политико-идеологическое» объяснение, почему текст Несторова Чтения не был продолжен составителем или составителями Сказания о чудесах, до А. Н. Ужанкова выдвигал М. Д. Приселков[221].
На мой взгляд, «канонический» характер Чтения нимало не препятствовал его доработке[222]. Во-первых, значимость для древнерусских книжников следования так называемому житийному «канону» проблематична. Древнерусская словесность, по-видимому, не была организована по жанровому принципу[223]. Во-вторых, если бы житийный «канон» принимался во внимание промономаховскими книжниками, было бы логичным ожидать именно продолжения ими текста Чтения, якобы соответствующего «канону», а не Протосказания, далеко от «канона» отходящего (однако списки Сказания абсолютно преобладают над списками Чтения). Распространение текста Чтения новыми посмертными чудесами Бориса и Глеба не изменило бы повествовательной структуры составленного Нестором жития.
Мысль об авторитетности Чтения, освященного тридцатилетним бытованием в церковном обиходе, как аргумент «неприкосновенности» текста не очень понятна, поскольку Протосказание оказывается примерно на десять лет старше.
А. Н. Ужанков также доказывает свою гипотезу, сопоставляя Борисоглебские жития с службами святым: он приходит к выводу о близости Чтения к более ранней службе 24 июля и о текстуальной связи Сказания с более поздней службой 2 мая. Эти наблюдения очень интересны и представляются достаточно убедительными. Однако сами по себе они не могут служить датирующими признаками для этих житий. По-видимому, и у Сказания, и у Чтения имелись тексты-«предшественники» (см. примеч. 216 к моей работе). Соответственно, текстуальные совпадения со службами Борису и Глебу могут восходить к этим не дошедшим до нас произведениям и не свидетельствовать о времени составления двух нам известных житий.
Несогласие у автора этих строк вызывает и «политизированный» подход к древнерусской книжности. Жития святых рассматриваются А. Н. Ужанковым как памятники идеологии, а их создатели предстают какими-то малопривлекательными, малопочтенными и суетливыми (если не продажными) пропагандистами интересов того или иного князя. Картина выглядит удручающей, древнерусская словесность превращается в арену борьбы между различными средневековыми политтехнологами и «пиарщиками» — печерскими, выдубицкими и прочими. Несомненно, древнерусские книжники не были чужды мирским интересам и симпатиям, но уже сам религиозный характер древнерусской словесности препятствовал превращению ее произведений в идеологические тексты[224].
И все же, хотя высказанные в статье А. Н. Ужанкова идеи не видятся мне бесспорными (а что может бесспорным в медиевистике?), ценность его работы несомненна, и не только потому, что ее автор вновь заострил внимание на важных проблемах. Многие соображения А. Н. Ужанкова глубоки, наблюдения нетривиальны. А вопросы атрибуции и датировки в принципе едва ли могут быть решены с той почти предельной точностью, на которую претендует автор статьи. Но это уже другая тема[225].
Князь — страстотерпец — святой:
семантический архетип житий князей Вячеслава и Бориса и Глеба и некоторые славянские и западноевропейские параллели
Сопоставление житийных произведений о чешском князе Вячеславе (Вацлаве) с агиографическими текстами, посвященными русским князьям Борису и Глебу, проводилось неоднократно[226]. Основанием для такого сравнения было упоминание в Сказании о Борисе и Глебе о том, что Борис «помышляшеть же мучение и страсть <…> святаго Вячеслава, подобно же сему бывъшу убиению»[227]. Кроме того, как установил Н. Ингем, в описании чудес Бориса и Глеба с узниками в темнице (Сказание о чудесах Романа и Давыда, Чтение о Борисе и Глебе Нестора) отразилось влияние вацлавских текстов; причем это описание ближе не к славянскому житию Вячеслава с чудесами (так называемой Легенде Никольского), а к латинским памятникам: Crescente fide и так называемой Легенде Кристиана, что заставляет предположить существование на Руси (или еще в Чехии) не дошедших до нас славянских житий Вячеслава, близких к латинским [Ingham 1965. Р. 166–182].
Близость древнечешских и древнерусских произведений не случайна. По характеристике С. Матхаузеровой, «они (жития Вячеслава, его бабки Людмилы, Бориса и Глеба. — А.Р.) моделировали ситуацию зарождения раннефеодальных славянских государств, и это, кроме собственно культовых функций, обусловило особенно значение прославления мучеников. Легенда о злодее Болеславе и мученике Вячеславе была распространена на Руси, потому что выполняла важную нравственную функцию» [Mathauserová 1988. S. 46].
Б. Н. Флоря в результате развернутого сопоставления житий Вячеслава и Сказания и Чтения о Борисе и Глебе пришел к выводу, что серьезных следов воздействия чешских произведений в русских текстах нет: в Борисоглебских памятниках отсутствует аскетическая трактовка князя (Сказание о Борисе и Глебе) или аскетизм князя обрисован без стилевых совпадений с чешскими памятниками; отсутствует и мотив борьбы с язычеством; наконец, в легендах о Вячеславе нет следов той политической проблематики, которая характерна для Борисоглебского цикла[228].
Выводы Б. Н. Флори были довольно убедительно опровергнуты Н. Ингемом. Американский исследователь указал, что Б. Н. Флоря при сопоставлении с русскими житиями неоправданно ограничился почти исключительно Легендой Никольского (вторым славянским житием Вячеслава), в то время как Востоковская легенда (первое славянское житие Вячеслава) не содержит сильного аскетического элемента. По мнению Н. Ингема, в славянских житиях Вячеслава и Бориса и Глеба сходны прежде всего нарративные схемы, «сюжет» (plot) [Ingham 1984. Р. 36–39]. Так, в чешских и русских памятниках совпадают такие эпизоды, как тайное совещание брата-убийцы с приближенными; лицемерие и обман, с помощью которых убийца завлекает святого в место предполагаемого нападения; предупреждение святого о заговоре, которым тот пренебрегает; место убиения, далекое от территории, подвластной святому; убийство, совершаемое утром, после ночных молитв страстотерпца. Они не являются, в отличие от многих других общих элементов Вацпавских и Борисоглебских житий, отражением архетипа — евангельского рассказа о тайной вечере и крестной смерти Христа. «Показательно, что, выстроенные в единую модель (pattern), нарративную схему, они уникальны <…>. Если даже поразительная похожесть судеб Вячеслава и русских князей — не более чем совпадение, — что очень маловероятно, — эта похожесть была очевидной для киевских книжников, которые обратились к истории Вячеслава как к прецеденту» [Ingham 1984. Р. 38]. Отсутствие прямых, дословных текстуальных совпадений, с точки зрения Н. Ингема, еще не свидетельствует о невозможности влияния древнечешских произведений на русские жития.
Строго говоря, утверждения Н. Ингема требуют некоторой корректировки: совпадающие эпизоды в чешских и русских житиях, теоретически, могли возникнуть независимо. Идентична прежде всего стоящая за всеми этими текстами «ментальная схема» (об этом далее). И, тем не менее, внутреннее родство этих памятников бесспорно.
Слово «воздействие», однако, не вполне подходит к этому контексту, как указал Н. Ингем: «Привычные выражения „заимствование“, „влияние“ и „подражание“ неточны, когда употребляются при описании распространения культурных феноменов того времени в пространстве, ныне разделенном национальными границами» [Ingham 1984. P. 32][229]. Н. Ингем опирался на соображения Р. Пиккио, согласно которому термин «влияние» не в состоянии отделить «общие, экстратекстуальные парадигматические инварианты от конкретных, контекстуально обусловленных компонентов литературного высказывания (performance)» [Picchio 1978. P. 631]. Вместо терминов «заимствование» (borrowing) и «подражание» (imitation) Н. Ингем предложил — «преемственность» (continuity).
По моему мнению, один из продуктивных подходов к изучению агиографических произведений заключается в восстановлении их семантического архетипа, то есть заложенной в них «ментальной парадигмы», «характера», «образа» святости, мотивов прославления и канонизации. Такой подход особенно существен, поскольку изучение средневековой (в частности, древнерусской) словесности с точки зрения жанра как собственно категории поэтики связано с большими трудностями[230].
Семантический архетип житий Вячеслава и Бориса и Глеба может быть кратко определен как повествование о правителе — праведном и невинном страдальце, воплощающем идеал христианского непротивления, добровольно принимающем смерть не за исповедание веры, но в подражание страданиям Христа[231]. Утверждение Г. П. Федотова о Борисе и Глебе как выразителях особого типа чисто русской святости[232], повторенное иеромонахом Иоанном Кологривовым [Кологривов 1961. С. 21–27] (на эту характеристику опирается и В. Н. Топоров в своей работе, посвященной Борису и Глебу и русской святости[233]), в свете последних западных славистических работ представляется неточным. Как показал Н. Ингем, правитель-мученик — явление не исключительно русское и даже не исключительно славянское; этот тип святого встречается и на германском Западе [Ingham 1973. Р. 1–17]; ср. [Живов 2005. С. 724–727].
Возможно, и сами Борис и Глеб были известны на Западе: по интересному наблюдению Г. Кругового, Борисоглебские сказания отразились во французском романе Le Queste del Saint Graal из цикла о короле Артуре и перешли из него в роман Томаса Мэлори Смерть Артура (история рыцаря Bohoris’a/Bors’a)[234]. Г. Круговой предполагает возможное чешское посредничество в проникновении житий Бориса и Глеба на Запад[235]; в Западной Европе сказания о Борисе и Глебе могли вызвать особый интерес у еретиков замка Монтефорте, «в извращенной форме» исповедовавших добровольное принятие смерти [Krugovoj 1973. P. 368][236].
Соответственно, реконструкция семантического архетипа Вацлавских и Борисоглебских житий, предложенная автором этой статьи, отчасти может быть применена и к другим текстам. Ограничение ряда сопоставляемых текстов преимущественно чешскими и русскими памятниками носит достаточно условный характер.
В исследованиях, посвященных Борисоглебскому циклу, неоднократно поднимался вопрос о характере соотношения княжеского сана и святости братьев[237]. Г. П. Федотову принадлежит тонкое наблюдение о том, что княжеская святость исчезает на Руси пропорционально возрастанию автократического начала власти. В первые века русской истории несколько князей (в частности, за их служение Русской земле, как защитники и «собиратели»), были причислены к лику святых. С усилением самодержавия из князей московского периода не был канонизирован никто [Федотов 1990. С. 90–91]. Наблюдения Г. П. Федотова могут быть дополнены. Если в домонгольский период только несколько князей были канонизированы не как мученики за веру, а как невинноубиенные («страстотерпцы»), то в московское время мы встречаем святых — не князей — безвинно убиенных (монах Адриан Пошехонский) и до срока умерших (умерших неестественной смертью и в этом отношении близких к страстотерпцам), — утонувших в бурю (крестьяне Иоанн и Логгин Яренские) или погибших во время грозы (крестьянин отрок Артемий Веркольский)[238] и в то же время не находим святых страстотерпцев-князей.
Г. П. Федотов объяснял исчезновение княжеского типа святости тем, что князь канонизировался за общественное служение земле, а нарождающееся самодержавие утверждало самоценность сана государя[239]. Это суждение может быть развито. В Московской Руси начинал сакрализоваться сан правителя, становящегося как бы «наместником Бога»[240]; святость же по существу своему имеет личностный характер[241].
Более сложный вопрос: почему до московского периода не было святых из мирян вне княжеского рода? Для начала можно предположить, что признание святости страстотерпца в ранние периоды русской истории как-то связывалось с его княжеским саном, хотя особой сакрализации сана (как в Московской Руси примерно со второй половины XV в.) не было[242]. В последующее время подвиг страстотерпца теряет прикрепленность к фигуре князя и становится возможным прославление святых мучеников некняжеского достоинства, то есть почитается уже только сам святой как личность.
В славянском житии Вячеслава (Востоковской легенде) содержится описание обряда пострига Вячеслава. Ритуал пострига — языческий, но в данном тексте он христианизирован: «Бе же князь велик славою, в Чехах живыи именем Воротислав и жена его Дорогомир. Родиста же сына первенца и, яко крестиста и, нарекоша имя ему Вячеслав. И възрасте отрок, яко бы уяти ему волос, и призва Воротислав князь епископа етера с всем клиросом. И певшим литургию в церкви святыя Мария, и взем отрока, постави на степени пред олтарем и благослови и се рек: „Господь Иисус Христос благослови отроча се благословением, им же благословил еси вся праведники твоя“. И постригоша князи ини. Тем же, мним, яко убо благословением епископа но молитвами благоверными нача отрок рости, благодатию Божиею храним» [Сказания о начале 1970. С. 36].
В новом, христианском сознании княжеские постриги приобрели характер церковного обряда, как бы предваряющего вокняжение, начало «земного» служения Богу. Показательно, что постриг Вячеслава совершает епископ; аналогичным образом, архиепископ совершал постриг малолетнего русского князя Ростислава Михайловича: «Въ то же лето князь Михаилъ створи пострегы сынови своему Ростиславу Новегороде у святей Софии, и уя влас архепископъ Спиридон; и посади его не столе <…>» (Новгородская первая летопись старшего извода под 6738/1230 г.) [ПСРЛ Новгородская 2000. С. 69, л. 110–110 об.]. Обряд постригов, безусловно, ассоциировался с ветхозаветным помазанием царя и как бы включал в себя будущую интронизацию. (Характерно, что о самом вокняжении Вячеслава по смерти его отца в Востоковской легенде лишь кратко сообщается[243].) Воспринимаемый составителем жития как более важная процедура, постриг как бы означал вступление ставшего «взрослым» князя в «семью» князей, в княжеское братство[244].
В предании о происхождении династии Пястов, содержащемся в польской латиноязычной Хронике Галла Анонима, пострижение Земовита — сына крестьянина Пяста, очевидно, не случайно синхронизировано с княжеским пиром и предвещает будущее вокняжение крестьянского ребенка:
«Этот бедный крестьянин решил приготовить кое-какое угощение в честь пострижения своего сына именно тогда же, когда и господин его, князь, готовил пир в честь сыновей <…>.
<…> Когда же по обычаю начался пир и всего оказалось в изобилии, эти чужеземцы (два чудесных странника, тепло принятые Пястом. — А.Р.) совершили обряд пострижения мальчика и дали ему имя Земовит, согласно предсказаниям о будущем».
[Славянские хроники 1996. С. 332]
Сходный религиозный характер, возможно, имели постриги на Руси[245] (упоминания о постригах князей-отроков в летописях относятся лишь к XII — началу XIV в., но они, бесспорно, совершались и в более раннее время; сведения об этом не фиксировались летописцем, вероятно, именно из-за распространенности обряда.)
В анализе семантического наполнения образа князя в древнечешском и древнерусском культурном сознании многое открывает сопоставление Вячеслава и Владимира Святого. Эта параллель напрашивается сама собою: правительница (и по некоторым сведениям, крестительница Чехии) святая мученица Людмила была бабкою святого Вячеслава, поддерживавшего и распространявшего христианство и боровшегося с язычеством; сходным образом, бабкою святого Владимира, крестителя Руси, была первая русская христианка из княжеского рода, Ольга. «[Исторический параллелизм между парой русских святых правителей, бабушки и внука, и чешской парой <…> поразителен», — заметил P. O. Якобсон [Якобсон 1987. С. 52]. Он предположил, что в похвале княгине Ольге в Повести временных лет под 969 г. читается цитата из латинской гомилии Homelia in festo sancte Ludmile или ее церковно-славянского прототипа[246]. По его гипотезе, составитель первой редакции Повести временных лет Нестор (обыкновенно отождествляемый с составителем Чтения о Борисе и Глебе) обращался и к несохранившемуся славянскому, чешскому тексту Привилегия моравской церкви. Существование этого гипотетического чешского памятника в таком виде, как его реконструирует P. O. Якобсон, разделяется не всеми учеными (критику этой позиции предложил О. Кралик [Кралик 1969]; [Кралик 1963]), но сами по себе обнаруженные P. O. Якобсоном параллели довольно убедительны.
Если произведения, посвященные святой Людмиле, отразились в похвале святой Ольге в Повести временных лет, то перекличек и реминисценций из Вацлавских житий мы вправе ожидать в рассказах летописи о святом Владимире. Блок известий об Ольге и Владимире в основе своей (наиболее значительная позднейшая вставка — Корсунская легенда) восходит, по А. А. Шахматову, к предполагаемому им Древнейшему своду, составленному около 1037 г. [Шахматов 1908]; ср.: [Шахматов 2001. С. 3–508]. Д. С. Лихачев выступил с идеей, что произведение, называемое А. А. Шахматовым Древнейшим сводом, посвящено преимущественно приготовлению к принятию христианства и Крещению Руси; Д. С. Лихачев обозначил этот текст как Сказание о распространении христианства на Руси [Лихачев 1947]; [Лихачев 1975. С. 22–110].
Исходя из этой гипотезы, тем более следует ожидать каких-то цитат из Вацлавских житий в рассказах о Владимире Святом. Чехия и Русь при Владимире были культурно и политически близкими государствами; в частности, А. В. Флоровский, опираясь на мнение Е. Е. Голубинского, полагал, что у Владимира были две жены — «чехини», христианки, и, возможно, именно они убедили русского князя принять новую веру [Флоровский 1935. С. 42].
Отсутствие в древнерусских текстах сопоставления русских князей (Ольги и Владимира) с чешскими (Людмилой и Вячеславом) может объясняться тем, что эта параллель была вытеснена в сознании древнерусских книжников другой, значимой в борьбе и соревновании с Византией за равное христианское достоинство[247]: Ольга и Владимир сопоставлялись со святыми императрицей Еленой и ее сыном императором Константином Великим (Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона, Память и похвала князю Владимиру Иакова мниха, Повесть временных лет).
Следы влияния Вацлавских житий на летописный рассказ о Владимире предположил Н. К. Никольский; в летописной статье 6504/996 г. слова о Владимире «И живяше Володимир по устроенью отьню и дедню» он истолковал как цитату из Вацлавских славянских житий, в которых также встречается слово «устроение» [Никольский 1930. С. 90–91]. Вряд ли это так, — скорее здесь не более чем совпадение слов[248]. Тем не менее, рассказ о Владимире под 6504/996 г. обнаруживает другие явные параллели с вторым славянским житием Вячеслава (Легендой Никольского), хоть назвать их бесспорными заимствованиями было бы, возможно, слишком смело.
«Живяще же Володимеръ в страсе Божьи. И умножишася зело разбоеве, и реша епископи Володимеру: „Се умножишаяся разбойници; почто не казниши ихъ?“ Он же рече имъ: „Боюся греха“. Они же реша ему: „Ты поставленъ еси от Бога на казнь злымъ, а добрымъ на милованье. Достоить ти казнити разбойника, но со испытом“» [ПЛДР XI–XII 1978. С. 140, 142]; ср.: [ПВЛ. С. 56].
А. В. Карташев [Карташев 1991. С. 128–129] и А. Власто [Vlasto 1971. Р. 266] видели в отказе Владимира казнить разбойников свидетельство особого христианского милосердия и любви к ближнему. Между тем этот рассказ о Владимире перекликается с рассказом Легенды Никольского о Вячеславе, который «и людем себе порученым противу съгрешению казнити стыдяшеся, аще ли достойнаго закона лютость не твори, любы греха в том блюдешеся. Но се размышление не долго на полы предели размыслив, тако путь прав мудро восхитив, да сего Земъски творити не опустился бы любо ли онаго к небесным ради простираяся от себе, непщевати на будущая не ужаснулся бы» [Сказания о начале 1970. С. 73–74].
Таким образом, Вячеслав и Владимир сближены не только как миссионеры, но и как правители, принимающие на себя тяжелое бремя земного служения («Друг дружия бремена понесеть»[249]). Если в следовании Христову завету любви к ближнему князья всё же ограничены земным законом, предписывающим карать разбойников, то в помощи ближнему, обязанности напоить и накормить его они очевидно уподобляются Христу.
Всякому приходящему к нему помогает Вячеслав. Он заботится и о людях, и о церкви, приготовляя вино и просфоры для причастия. Владимир, в свою очередь, приказывает развозить по Киеву хлеб, мясо, рыбу и меды для народа. Пиры, устраиваемые Владимиром, имели, может быть, религиозный смысл, генетически восходящий к языческим русским и скандинавским обрядам[250]. Религиозный характер пиров ощущался летописцем, выделившим их как особенное деяние Владимира-христианина; с христианской точки зрения, пиры Владимира напоминают о чудесах Христа с хлебами и рыбами[251] и о трапезе любви первых христиан — агапе; на пиру преодолевается дистанция между князем и подданными.
Особое значение раздаяние еды и питья еще более отчетливо выступает в так называемой Повести об убиении Андрея Боголюбского (Ипатьевская летопись под 6683/1175 г.[252]), в описании, восходящем к летописной статье 996 г. о Владимире [ПЛДР XII 1980. С. 326–328].
Религиозный ореол праздников Владимира выделен в Памяти и похвале князю Владимиру Иакова мниха[253]: «И праздноваше светло праздникы господьскыя, три трапезы поставляше: первую митрополиту с епископи и с черноризце и с попы, вторую нищим и убогим, третьюю собе и бояром своим, подобяся царемъ святымъ блаженыи князь Вълодимир пророку Давыду, царю Езекею, и преблаженому Иосею, и великому Костянтину, иже избраша и изволиша Божии законъ боле всего и послужиша Богу всимъ сердцемъ и получиша милость Божию и наследиша рай и прияша царство небесное и почиша с всими съвятыми, угожыпими Богу. Тако же блаженыи князь Володимиръ послуживъ Богу всимъ сердцемъ и всеюдушею» [Зимин 1963. С. 320].
Параллели с другими праведными и святыми властителями следуют как бы непосредственно из упоминания о пирах Владимира. Такой странный переход, возможно, объясняется не только неискусностью составителя Памяти и похвалы. Параллель с ветхозаветными царями как бы рождает сопоставление: завет с русской землей, божественная забота о Руси подобны завету, заключаемому Богом с еврейским народом и его царями; но Русь — участница не Ветхого, а Нового, благодатного завета[254]. Киевские пиры Владимира, по-видимому, ассоциировались с ветхозаветными празднествами, трапезами, но христиански переосмысленными[255].
В культурной парадигме, восстанавливаемой по Вацлавским и Борисоглебским житиям и близким к ним повестям об убиении князя, поступки истинного князя воспринимались как «кенотическое» подражание Христу, увенчанное, как наградою, мученическим венцом (Легенда Никольского и, в меньшей мере, Востоковская легенда, Чтение о Борисе и Глебе, Повесть об убиении Андрея Боголюбского). В случае святого Владимира мученический венец достался не ему (хотя в Памяти и похвале Иакова мниха упомянут венец, полученный Владимиром от Бога, а сам князь назван «агнцем»), а его сыновьям — Борису и Глебу. Но в древнерусских произведениях образ Владимира как бы сливался с образами его сыновей[256], — так что Владимир прославлялся не только как креститель Руси, но и как отец святых мучеников: «Радуйся, Володимире, примыи венець от вседержителя Бога <…> Радуйся, честное древо самого рая, иже воздрасти нам святей леторасль святую мученику Бориса и Глеба, от нею же ныне сынови рустии насыщаются, приемлюще недугом ицеление» (краткая проложная редакция жития святого Владимира) [Серебрянский 1915. С. 15. 2-я паг.].
И в текстах «владимирского» цикла, и в житиях Вячеслава и Бориса и Глеба в основе поступков святого князя лежит кенотическое самоумаление, смиренное и любовное служение Богу и ближнему: Вячеслав и Владимир привечают ближних и питают их, Борис и Глеб, не желая пролить крови подданных брата Святополка и своих подданных, не сопротивляются убийству. Самоумаление князя проявляется в преодолении черт, свойственных самому княжескому сану — привязанности к мирскому богатству, гордости, жажды мести (ср. Вячеслав, особенно в Легенде Никольского, Борис и Глеб, а также Андрей Боголюбский, Давыд Смоленский[257], Владимир Василькович Волынский[258]).
Уподобление княжеского служения земной жизни Христа поддерживалось представлением о князе как о носителе родового начала, предстательствующего за своих предков и потомков и за всю землю — «отчину и дедину»[259]. Не случаен сквозной мотив «рода праведных» в Борисоглебских житиях (Сказание о Борисе и Глебе[260]). Князь (герм. *kuningos) — «родовой вождь», исторически — вождь и жрец одновременно[261], он «глава» «тела» — Русской земли. Семантика образа князя как носителя родового начала поддерживается (в памятниках о князе Владимире) сравнениями с библейскими царями, воспринимавшимися в Ветхом Завете как представители того или иного рода.
Показательны строки о святой Ольге в Повести временных лет под 955 г.: «и поучи ю патреархъ о вере, и рече ей: „Благословена ты в женах руских, яко возлюби светь, а тьму остави. Благославити тя хотять сынове рустии и в последний родъ внукъ твоих“» ([ПЛДР XI–XII 1978. С. 74]; ср.: [ПВЛ. С. 32]). Русская княгиня Ольга, фактически не первая христианка на Руси, но первая — княгиня-христианка, прославляется особенно, потому что в ее лице как бы вся Русская земля знакомится с светом новой веры (ср. в летописном некрологе: «Радуйся, руское познанье къ Богу, начатокъ примиренью быхомъ» [ПЛДР XI–XII 1978. С. 82]). Сходным образом выражено и прославление Владимира в Памяти и похвале Иакова мниха: «И вси людие Рускыя земли познаша Бога тобою, божественыи княже Володимере» [Зимин 1963. С. 68]; ср.: [БЛДР-I. С. 320][262].
Об особенном отношении к князю как фигуре, наделенной сакральным ореолом, свидетельствует почитание одежд первых русских князей, которые хранились в киевских храмах в память об их деяниях (Лаврентьевская летопись под 6711/1203 г.[263]), и почитание их оружия, часто также сохранявшегося в церквях (меч Болеслава I Храброго[264], копье святого Вячеслава, копье Олава Святого[265], мечи Всеволода-Гавриила и Довмонта[266], меч Святого Олава в константинопольском храме[267]).
Отношение к князю как к фигуре, «олицетворяющей», воплощающей в себе всю полноту рода и страны[268] (потому и полученная им благодать как бы снисходит и на его потомков и подданных) прослеживается и в Вацлавском культе в Чехии[269].
Таким образом, князь предстает в чешской и русской агиографии древнейшего периода исполнителем особого христианского подвига, мирского служения Богу (характерно, что постриг Вячеслава осмыслен составителем Востоковской легенды как аналог монашеского пострига). Монашеская жизнь почиталась более богоугодной (и потенциально «более святой»), чем жизнь в миру; аналогично и благочестивый князь скорее, нежели мирянин-простолюдин, мог быть причислен к лику святых[270]. Не случайно в первые века христианства на Руси неизвестны (за исключением собственно мучеников за веру, как отец и сын варяги) не только миряне-страстотерпцы, но и вообще местные святые-миряне. (В греческой церкви существовал «тип» святого, удостоившегося канонизации за богоугодную жизнь в миру.)
Особое значение образа князя-святого проявляется в том, что в древнечешских и древнерусских агиографических памятниках ему постоянно «ищутся» архетипы-соответствия в священной истории[271], «подбираются» христологические мотивы и символы. История убиения Бориса и Глеба обладала богатыми возможностями для подобного рода уподоблений, так как целый ряд библейских изречений (о любви к братьям) обретал в Борисоглебских житиях прямой, а не «расширительный» смысл: Борис, Глеб, Святополк и Ярослав были действительно братьями. Семантический ряд: «Борис — Глеб — их отец Владимир» соответствовал соотношению Христа и его небесного Отца[272]. В Борисоглебских текстах, как и в Вацлавских, была реализована также архетипическая «схема» убиения Авеля Каином. Такие — не метафорические, а непосредственные — совпадения Борисоглебских памятников с библейскими архетипами, возможно, отчасти, объясняли включение рассказов о святых братьях в Паремию, вместе с ветхозаветными текстами. Жития Бориса и Глеба до некоторой степени становились не отражениями библейского архетипа, а текстами «одного уровня» с историческими книгами Ветхого Завета[273].
Сопоставление Вацлавских житий с произведениями о князе Владимире позволяет приблизительно реконструировать семантику фигуры князя как правителя. Сравнение житий чешского князя и русских братьев с древнерусскими произведениями, условно обозначаемыми как «повести о княжеских преступлениях»[274] (так называемые Повесть об убиении Игоря Ольговича, Повесть об убиении Андрея Боголюбского[275], Рассказ о преступлении рязанских князей), раскрывает смысл образа князя-страстотерпца[276]. Мотив искупления грехов, омытых кровью убитого или претерпевшего страдания князя, присутствует во всех текстах[277]. В Вацлавских и Борисоглебских памятниках, а также в Рассказе о преступлении рязанских князей[278] он очевиден; в Повести об ослеплении Василька Теребовльского не столь явен (слова князя о кровавой сорочке, в которой он хотел бы предстать перед Богом)[279]. Мотив непротивления, не-бегства от грозящей смерти присутствует в Вацлавских житиях — Легенде Никольского, Crescente fide, легендах Кристиана, Гумпольта и Лаврентия[280] (за исключением Востоковской легенды, в которой Вячеслав не знает о готовящемся убийстве и сопротивляется брату), Борисоглебских (смерть Бориса) и в Повести об убиении Андрея Боголюбского (князь Андрей знает о заговоре, но не предпринимает мер против врагов[281]).
Но сюжетный мотив непротивления и добровольной смерти не был обязательным для «повестей о княжеских преступлениях», в героях которых летописцы видели «потенциальных» святых: в Рассказе о преступлении рязанских князей и в истории убиения Глеба этого мотива нет. Но, невзирая на его отсутствие, убитые оцениваются как святые: говорится об их мученических венцах, они уподобляются Агнцу Небесному — Христу (жертвы вероломства «прияша венця от Господа Бога, и съ своею дружиною, акы агньци непорочьни предаша душа своя Богови» [ПЛДР XIII 1981. С. 128]). Факультативны и мотивы любви к убийцам и всепрощения и юности князя-жертвы. Общее и для собственно житий князей-страстотерпцев, и для «повестей о княжеских преступлениях» основание для прославления князя как святого заключается в неожиданном и вероломном убиении князя, как правило, его родственниками или приближенными[282]. Вероломное убиение невинного князя в некоторых текстах, как в Рассказе о преступлении рязанских князей, — это вообще единственное основание для отношения к князю как к «потенциальному» святому[283].
В Вацлавской и Борисоглебской агиографии в наиболее полном и разработанном виде воплощена схема «повести об убиении невинного князя», общая для житий князей-страстотерпцев и «повестей о княжеских преступлениях». Совпадающие элементы «сюжета» произведений о Вячеславе и Борисе и Глебе: совещание князя-врага с приближенными, злыми советниками — нападение убийц на князя на чужой для него территории — гибель князя на рассвете. Эти мотивы, в которых Н. Ингем видел вероятные вкрапления фрагментов Вацлавских текстов в Борисоглебские, восходят к архетипической схеме «вероломного убийства» и вполне могли бы зародиться в чешских и русских произведениях самостоятельно (сходная «матрица» обнаруживается и в фольклоре[284]). В архетипе чешских и русских произведений об убиении князей заложена поэтика контраста и полной смены знаков (а также установления новых, противоположных отношений между знаками и означаемыми) в процессе развертывания текста. Друг, подданный, брат оказываются злейшими врагами, их любовь — лицемерием; место радости и мира — сценой кровавого преступления. Убийство происходит на рассвете, мрак на земле рассеивается, но в первых утренних лучах угасает святой[285], душа его (свет) восходит к Богу, а над упавшим телом загорается свеча или лампада. В полном виде почти все эти мотивы содержатся только в житиях Вячеслава, но наиболее искусно некоторые из них «разыграны» в Сказании о Борисе и Глебе. Борис и Глеб погибают в пустынных местах, на пути к Киеву, городу-центру Русской земли[286], в котором вступил на престол лжебрат и лжекнязь Святополк. Движению, пути, который проходят святые (и в прямом, и в переносном смысле слова: в пути они, особенно Борис, приготовляются к смерти) соответствует неподвижность, «скованность» Святополка. Борис и Глеб отдалены друг от друга (Святополк — между ними), но «в центре» над ними — Бог и их отец Владимир, «через» которых святые и обращают друг к другу свои речи. Совершается злодейство, и приходит возмездие: теперь Святополк в движении, но не в спокойном и медленном, как святые. Он бежит из Клева, «никем не гоним», и умирает «в пустыне межю Чехы и Ляхы»[287]. Победитель Святополка и брат Бориса и Глеба Ярослав вступает на киевский престол. Тела Бориса и Глеба переносят в вышгородскую церковь Святого Василия (Василий — христианское имя их отца). Пространство и люди приходят в соответствие друг другу. Status quo восстанавливается[288].
История вероломного убийства, создающая ситуацию «смены знаков» и контраста беззащитности и прикрытой лицемерием злобы, лежит в основе «повести о невинноубиенном князе», потенциально способной превратиться (и превращающейся) в житие. Стремление князя пострадать, мотивы братской любви к убийцам усиливают мартирологическое начало в таких текстах, но не являются обязательными для них. «Повесть о невинноубиенном князе» составляет своеобразный «протожанр» житий князей-страстотерпцев и «повестей о княжеских преступлениях»[289]: агиобиографические тексты отличаются большей структурированностью, соотнесенностью с библейскими архетипами (убийство Авеля Каином, крестная смерть Христа); в «повестях о княжеских преступлениях» эти черты ослаблены[290].
С точки зрения поэтики, жития князей-страстотерпцев гораздо ближе к «повестям о княжеских преступлениях», чем к другим видам княжеских житий (собственно мученическим, «воинским» и т. д.). Княжеские жития (кроме преподобнических, для которых княжеский сан святого может быть не существен) роднит не сходство нарративной структуры, а фигура князя, ее особый семантический ореол. Соответственно, можно говорить об агиобиографии князя-страстотерпца как о житийном «поджанре», существующем в двух разновидностях — мартирии (Востоковская легенда и Минейная редакция жития Вячеслава и, с существенными оговорками, Сказание о Борисе и Глебе) и собственно агиобиографии (Чтение о Борисе и Глебе Нестора). Вместе с тем, в отличие от других житийных «поджанров» (преподобнических, миссионерских житий), тексты о разных князьях-страстотерпцах отличает меньшая вариативность.
«Повесть о княжеских преступлениях» относится к житию князя как «заготовка» к «чистовому тексту» (ср. Повесть об убиении Андрея Боголюбского и ее так называемую «церковную переделку»).
Дополнительным архетипическим мотивом повестей о невинноубиенном князе являются реминисценции из Книги Иова. Они присутствуют в Сказании о Борисе и Глебе [Picchio 1977. Р. 14–15], имя Иова вспоминают князь Игорь Ольгович [ПСРЛ Ипатьевская 1962. С. 350] и Андрей Боголюбский [ПЛДР XII. С. 330]. В свете сопоставления с Иовом предсмертные страдания и гибель князя предстают испытанием праведника.
Невинноубиенный князь почитался и как до срока взятый Богом (что свидетельствовало об особой праведности), и как чистая юная жертва; почитался он и за «сораспятие» Христу, как исполнивший завет Спасителя. Но основной, общий для всех «повестей о невинном убиении» мотив был несколько иным — князь-страстотерпец прославлялся просто «за» совершенное над ним злодейское убийство[291] (такой случай показан в Повести об убиении Андрея Боголюбского [ПЛДР XII. С. 328]; ср.: [БЛДР-IV. С. 210]). Одна лишь проливаемая кровь князя свидетельствует о нем как о страстотерпце Христовом. И, подобно Христу, Андрей Боголюбский умирает за людей (русский народ)[292].
В восприятии мученической смерти князя, возможно, содержатся рудименты языческого представления об искупительной силе особо ценной жертвы, приносимой богам[293]. Но в основном это восприятие порождено христианскими воззрениями. Сверхстрадание, переживаемое князем перед смертью, очищает его душу и помыслы, и за муку свою он и его народ получают благодать от Бога. (Князь, как бы воплощающий в себе полноту жизни своего рода и подданных, подобен Христу, который заключает в себе все человечество.)
В ситуации убиения невинного правителя как она обрисована в древнерусских памятниках, не так значима личность князя-жертвы (он может быть фигурой пассивной, — ср. убитых князей в Рассказе о преступлениях рязанских князей), как его антагонисты. Убиваемый как бы принимает на себя накопившийся в мире «разряд» зла[294].
В Сказании и Чтении о Борисе и Глебе, а также, отчасти, в Вацлавских житиях князья-страдальцы и изображены как христиане, безропотно отдающие себя на смерть, чтобы не поднять руки на старшего брата и не пролить крови своих врагов и подданных. Для формирования «повести о невинноубиенном князе» достаточно было лишь «семантического ядра» — вероломного, жестокого убийства безвинного правителя. История убиения невинного князя была отрефлектирована составителями Борисоглебских произведений — что, кстати, позволило последующим книжникам при написании «повестей о княжеских преступлениях» не развертывать систему собственно христианских мотивов при изображении заклания князей, а просто называть имена Бориса и Глеба как «эмблемы» святого князя-страстотерпца. У истоков Борисоглебских житий стояли славянские (чешского происхождения) агиобиографии князя Вячеслава (Вацлава). Воздействие Вацлавских житий на русскую письменность было облегчено тем, что в основе и чешских, и русских произведений лежал единый архетип — «повесть об убиении невинного князя», — благословенного правителя, страстотерпца, святого.
Князь-страстотерпец в славянской агиографии
Особую группу княжеских житий образуют жития страстотерпцев, то есть правителей, убитых соперниками-властителями или подданными, а не мучеников за веру. На Руси к числу таких князей относятся Борис и Глеб, Игорь Ольгович, Михаил Тверской, а также местно почитавшийся Андрей Боголюбский; в Чехии — Вячеслав (Вацлав); у южных славян — диоклейский князь Иоанн-Владимир и сербский — Стефан Дечанский. Семантический архетип этих житий может быть кратко определен как повествование о князе — праведном и невинном страдальце, воплощающем идеал христианского непротивления и подражания страданиям Христа [Ingham 1984. Р. 41–43]. Сходные тексты существуют и в англосаксонской и скандинавской традиции[295].
Для выявления характера связи между княжеским саном и святостью невинных страдальцев необходимо рассмотреть страстотерпческие жития в контексте агиографии и культа святых князей. Показательна ситуация на Руси. Г. П. Федотову принадлежит тонкое наблюдение, что княжеская святость убывает на Руси пропорционально возрастанию автократического начала[296]: в первые века русской истории несколько князей были причислены к лику святых, из князей московского периода, правивших начиная с XV в., не был канонизирован никто. Наблюдения Г. П. Федотова могут быть дополнены. Если в домонгольский период исключительно князья канонизировались не как мученики за веру, но как невинноубиенные, то в московское время мы встречаем святых — не князей: как безвинно убиенных (монах Адриан Пошехонский), так и умерших неестественной смертью и в этом отношении близких к страстотерпцам (Иоанн и Логгин Яренские, Артемий Веркольский), и не находим новых страстотерпцев-правителей, за исключением царевича Димитрия, в культе которого, впрочем, отроческая невинность не менее значима, чем сан.
Г. П. Федотов объяснял исчезновение княжеского типа святости тем, что князь канонизировался за общественное служение земле, а нарождающееся самодержавие утверждало самоценность сана государя. Можно добавить, что в Московской Руси сам сан правителя начинал сакрализоваться и затмевал потенциальную личную святость самодержца[297]. Более сложный вопрос: почему до московского периода не было святых-мирян, в том числе и страстотерпцев, вне княжеского рода[298] (исключение — отец и сын варяги, но они — мученики за веру)?
Можно предположить, что признание святости страстотерпцев в ранние периоды русской истории связывалось с княжеским статусом, хотя особой сакрализации сана, как в Московской Руси примерно со второй половины XV в., не было. В последующее время эта прикрепленность страстотерпческого подвига к фигуре князя разрушилась[299].
Князь воспринимался как исполнитель мирского служения Богу, его жизнь в миру соотносилась с подвигом монаха вне мира. Подобно монашескому, княжеское служение в идеале приближало к святости, хотя, конечно, не каждый князь, как и не каждый монах, признавался святым. Постриги — обряд пострижения волос, совершаемый над князем-ребенком — напоминали монашеский постриг. В христианском сознании они, по-видимому, могли приобретать смысл церковного обряда, как бы предваряющего вокняжение, начало земного служения Богу (ср. постриг св. Вячеслава в Востоковской легенде [Сказания о начале 1970. С. 23]; постриги здесь как бы означают вступление князя в «семью» князей, в княжеское братство).
Смысл княжеского сана и власти амбивалентен: с одной стороны, это искус, который должен быть преодолен. Правитель-христианин «умаляет» собственную власть, отказывается от некоторых прерогатив (ср.: не участвующий в вынесении смертных приговоров Вячеслав в Легенде Никольского и Владимир Креститель в Повести временных лет под 6504/996 г., отменяющий казни). С другой стороны, именно властитель, князь призван исполнить волю Царя Небесного. Сквозной мотив всей княжеской агиографии — пир. Трапеза, на которую князь приглашает народ, возможно, имеет религиозный смысл, генетически восходящий к языческим обрядам. Религиозный характер пиров св. Владимира Киевского, видимо, ощущался летописцем, выделившим их как особенное деяние Владимира-христианина (Повесть временных лет под 6504/996 г.; ср. в Памяти и похвале Иакова мниха). С христианской точки зрения, княжеские пиры восходят к Тайной вечере (князь на пиру прообразует Христа — милосердного Правителя и Жертву) и к трапезе любви первых христиан — агапе[300]. В Легенде Никольского посмертный пир святого приобретает значение литургического символа; символ литургического вина прикровенно содержится и в Сказании о Борисе и Глебе (посмертное моление Глеба — см.: [Picchio 1983. P. 367]); хлеб и вино велит раздавать нищим Стефан Урош (Хроника сербских кралей архиепископа Даниила и продолжателей [Животи кралюва 1866. С. 135]); сближение евхаристической трапезы-причащения и княжеского пира прослеживается в некрологе Василька Ростовского, убитого татарами (Лаврентьевская летопись под 6746/1237–1238 гг.). Сходный мотив встречается и в текстах (в частности, мартирии), повествующих об английском короле Эдуарде Мученике: убийцы закалывают святого, подавая ему чашу с вином [Edward 1971].
Внутренняя родственность ритуальной трапезы, разделяемой с подданными, с добровольным приятием страдания и смерти от руки врага заключается в том, что князь умаляет себя, подражая кенозису Христа: как бы отказывается от своего превосходства перед подданными или от своего статуса и самой жизни.
В основе сближения князя — правителя и невинной жертвы — с Христом лежало архаическое представление о князе как носителе родового начала, воплощающем всю полноту жизни рода (не случаен лейтмотив рода праведных в Сказании о Борисе и Глебе). Князь (от герм. *kuningos, готск. kunyggs — «родовой вождь») — исторически — вождь и жрец одновременно[301]. (Ср. соединение мотивов верности Господу и господину в восклицании св. Олава Норвежского: «Вперед, люди Христа, люди креста, люди конунга!» в главе CCV Саги об Олаве Святом из «Круга Земного» [Снорри Стурлусон 1995. С. 344].) Показательно, что, например, русские князья осознавали свой дом как своеобразное религиозное братство (ср. образ княжей свечи в речи Льва Данииловича Галицкого в Ипатьевской летописи под 6796/1288 г. и в духовной грамоте Симеона Гордого и обряд, связанный с так называемой «братской», «церковной» или «мирской» свечой). Как носитель полноты жизни своего рода и своих подданных, князь-страстотерпец как бы искупал в жертвенной смерти не только собственные, но и их грехи. (В Московской Руси такое воззрение на князя постепенно отмирает, между ним и подданными возникает пропасть; в этом — одна из причин «угасания» княжеской святости.)
Правитель, устанавливающий законы и распространяющий истинную веру, защитник своей земли от иноземцев, страстотерпец, кровью омывший грехи, небесный покровитель страны — таков полный набор атрибутов святого — «вечного короля» (perpetuus rex), как Вячеслав в Чехии или Олав в Норвегии. На Руси архетипы князя-правителя и апостола веры и князя-страстотерпца были закреплены за разными святыми (Владимиром, с одной стороны, и Борисом и Глебом, с другой). Отчасти именно поэтому здесь и не сложился культ «вечного короля»[302]. Но глубокая взаимосвязь образов святого-правителя и святого-мученика прослеживается и в русской письменности: Владимир прославляется в том числе и как отец Бориса и Глеба, в Памяти и похвале Иакова мниха он как бы невольно уподоблен мученику (упомянут венец, полученный Владимиром от Бога, а сам князь назван «агнцем»), Страстотерпческий венец — идеальное завершение жизни князя, в котором книжник видел святого (ср. образы Давыда Смоленского в так называемом Слове о князьях, Владимира Волынского в некрологе Ипатьевской летописи под 1289 г., Бориса Тверского в Слове похвальном инока Фомы [ПЛДР XV. С. 310], Стефана II Уроша Милутина в Хронике сербских кралей — умершие своей смертью правители сравниваются в этих текстах со страстотерпцами за перенесенные ими тяготы и неправды). В логическом пределе, жития князя-правителя и страстотерпца образовывали единый текст. Показательно Житие Стефана Дечанского, написанное Григорием Цамблаком — агиобиография поборника православия, защитника земли, страстотерпца (характерно, что в одном из основных источников Жития — Хронике сербских кралей — набор атрибутов святого князя у Стефана Дечанского был неполным: ничего не говорилось о борьбе Стефана с варлаамитским учением, отсутствовали сведения о его убийстве по приказу сына).
По мнению Н. Ингема, обязательными элементами агиографических произведений о князьях-страстотерпцах являются мотивы убиения без вины и непротивления убийцам, добровольного приятия смерти [Ingham 1984]. Эти выводы нуждаются в уточнении. Ситуация (протосюжет) убиения невинного правителя определяется не только фигурой князя-жертвы, но и его антагонистов, их особенным статусом: они — люди близкие святому, по своему положению обязанные пребывать с ним в любви и мире или подчиняться ему. Это брат (Болеслав — убийца Вячеслава, Святополк — убийца Бориса и Глеба, Инги Горбун, по-видимому, отдающий приказ об убийстве брата Эйстейна; впрочем, в гибели конунга виновен прежде всего его бывший подданный и друг, Симон Ножны[303]), мачеха (жена Стефана Уроша II Милутина, по проискам которой он ослепил Стефана Дечанского, своего сына; Элфрид, убившая Эдуарда Мученика Английского — сведения о причастности ее и сына, сводного брата святого, к убийству впервые появляются именно в мартирии Эдуарда), князь-родственник (Юрий Московский — убийца Михаила Тверского, исполнитель убийства — Романец, русский, отступник от веры), родственник (Владислав, родственник жены Иоанна-Владимира, лицемерно заманивающий святого на казнь [Летопис попа Дуюьанина 1928. С. 331–341]), народ (киевляне — убийцы Игоря Ольговича), подданные (бонды — убийцы Олава Норвежского[304] и бояре — убийцы Андрея Боголюбского[305]). При этом страстотерпец знает своих убийц: ему или известны их намерения заранее, или же истина узнается в момент гибели; знание об измене близких усиливает страдания святого, вслух или безмолвно как бы обличающего неправду[306]. Внезапная гибель, «удар в спину», когда князь не видит лица убийцы, а инициаторы заговора остаются нераскрытыми, не воспринималась как убиение невинного правителя. Так был убит половцами русский князь Роман Святославич в 1079 г., и это событие не вызвало у составителя Повести временных лет никаких ассоциаций со смертью страстотерпца. Сходным образом, и версия убийства Бориса, изложенная в скандинавской Саге об Эймунде (если принять его торжество с Бурицлейвом [Бурицлавом] саги), — убийство ночью в шатре (во сне?) наемниками брата — открытого врага — далеко отстояла от ситуации невинного убиения. С другой стороны, описание в Повести временных лет под 6605/1097 г. вероломного ослепления князя Василька Теребовльского Святополком Киевским и Давыдом Волынским напоминает «эскиз» страсто-терпческого жития. Не случайно и осуждение мести Василька: летописца отталкивает не сама по себе жестокость ослепленного князя, а нарушение им канона поведения страстотерпца: страстотерпец, принимая страдания, поднимается над земными помыслами о мести (ситуация отмщения невозможна, конечно, для князя-мученика и чисто физически — его убивают). Показательна также оценка летописцем вероломного убийства Ярополка Изяславича.
Казнь Вальтеофа (Вальтьова), сына Сиварда (Сигурда) — правителя Нортумбрии, произведенная по решению суда за измену сюзерену — Вильгельму Завоевателю, в традиции саг превратилась в вероломное убийство по приказу пообещавшего ему безопасность Вильгельма. Эта трансформация, несомненно, связана с почитанием Вальтеофа: «Вильям (Вильгельм Завоеватель. — А.Р.) был провозглашен конунгом Англии. Он послал Вальтьову ярлу предложение примириться и обещал ему безопасность на время встречи. Ярл поехал в сопровождении немногих людей, но когда он доехал до пустоши севернее Касталабрюггьи, ему навстречу вышли двое посланцев конунга во главе отряда и схватили его, заковали в цепи и затем обезглавили. Англичане считают его святым»[307].
Непротивление князя убийцам, готовность на добровольную смерть необязательны для ситуации убиения невинного правителя: нет этого мотива в мартирии Эдуарда Мученика Passio sancti Eadwardi, regis et martyris (король не подозревает до последнего мгновения о намерениях убийц), он редуцирован и в первом славянском житии Вячеслава. В описании смерти Глеба в Сказании и Чтении о Борисе и Глебе, летописном рассказе об убиении Игоря Ольговича, выдержанном в стиле мартирия (Ипатьевская летопись под 1147 г.), непротивление — не сюжетный (князья не могут избежать смерти), а стилевой мотив (молитвы, выражающие приятие смерти). В рассказе Новгородской первой летописи (Синодальный список) об убийстве рязанскими князьями своих родственников (6726/1218 г.) сюжетный мотив добровольной готовности умереть также отсутствует (убийство совершается внезапно), но тем не менее летописец видит здесь именно невинное убиение и уподобляет убитых Борису и Глебу, а заговорщиков — Святополку[308].
Для сюжетного канона страстотерпческого жития мотив непротивления (желание святого пострадать, подобно Христу, радостное приятие смерти) необязателен. Он относится к агиографической топике, характерен для «риторически украшенного» жития, но не является абсолютно необходимым для страстотерпческой агиографии. Для ситуации убиения невинного правителя, характеризующей жития князей-страстотерпцев, существенны прежде всего антагонисты святого: безвинно убиенный князь может быть фигурой чисто пассивной, на нем как бы разряжается царящее в мире зло. Инверсия актантных ролей: «подданные/родственники — убийцы», «князь (могущественный и почитаемый) — жертва» — конструктивный признак агиографических произведений о князьях-страстотерпцах. Эпизод убийства — кульминационная точка, в которой происходит полная смена «семантических знаков», характеристик актантов: антагонисты святого окончательно попирают свой статус близости к князю и нисходят во тьму, страстотерпец же, проходя через страдание и смерть, самоумаляется как земной правитель, но возвышается в этом «ритуале перехода» как святой.
Принцип замены семантических характеристик на противоположные обнаруживается не только в функциях актантов, но и в пространстве действия, и в образной системе. Король Эдуард Мученик, отправившийся в лес на охоту с собаками, сам оказывается добычей «зверей» — заговорщиков; но в абсолютном, религиозном смысле он — победитель (Passio sancti Eadwardi, regis et martyris). Борис и Глеб удалены от святого центра русской земли — Киева, который захватил окаянный Святополк, и погибают в пустынных местах. Занятому нечестивцем центру противопоставлен небесный «эмпирей», в котором — Царь Небесный и их отец Владимир, «через» которого обращаются друг к другу перед смертью братья. Но совершается убийство, и персонажи занимают истинное, им подобающее положение в пространстве. Души святых восходят на небо, к Богу и отцу; тела Бориса и Глеба переносят под Киев; Святополк бежит из Киева и гибнет «в пустыне межю Чехы и Ляхы». Поэтика контрастной смены семантических оценок проявляется и в отдельных образах: холодный, «аки вода», блеск мечей убийц, стерегущих Глеба на реке, — теплый огонь свечей, чудесно возжигающихся над телом Глеба (Сказание о Борисе и Глебе); ладья как место мученической смерти Глеба — ладья, символизирующая торжество святых братьев, спешащих на помощь в видении Пелугия (Сказание о Борисе и Глебе и Житие Александра Невского[309]); рассказ о пересечении Михаилом на пути в Орду реки, на которой он прощается с боярами («граница пространства смерти») — рассказ о перевозе его тела через реку по пути на Русь, отделяющий скорбное повествование о мученичестве от фрагмента о бренности всего земного и описаний чудес, которыми прославил святого Бог (Повесть о Михаиле Тверском); видение конунгом во сне лестницы, ведущей на небо, — пробуждение и гибель от руки подданных, горний путь через земную смерть (Passio el miraeula beati Olaui, Хроника Адама Бременского. Lib. II, cap. LXI. Schol. 41 (42) [Passio 1881. P. 74]; [Adami Bremensis Gesta 1917. P. 120]). Антиномичен мотив гибели на рассвете (Вячеслав, Борис в Сказании о Борисе и Глебе, Андрей Боголюбский в Ипатьевской летописи под 6683/1174–1175 г.): смерть в момент пробуждения мира, падение тела — восхождение солнца, подобно которому восходит к Богу душа святого.
Поэтика антиномии и полярной смены семантических характеристик, свойственная княжеским страстотерпческим житиям, присуща в разной степени всей мартирологии (и не только ей) и отражает евангельский рассказ о крестной смерти Христа. Но в житиях князей-страстотерпцев эта поэтика имеет структурообразующий характер, формирует ядро текста. Антиномичны ветхозаветные рассказы — об убийстве Авеля и об искушении Иова, — на которые ориентируются эти жития.
Агиобиографии правителей-страстотерпцев становятся в некотором смысле как бы метатекстами по отношению ко всей мартирологии, обнажая, высвечивая ее парадигму.
Показательно соотношение этих житий и Священного Писания. Если обыкновенно агиографические тексты представляют «развертывание» библейских прообразов, то целый ряд княжеских житий отличают прямые повторения библейских ситуаций (убийство Авеля Каином — убийство Вячеслава и Бориса и Глеба братьями) или даже реализация, «материализация» метафор и символов писания (Христос — жертвенный агнец[310] и заколотые или зарубленные, как ягнята, ножом повара Глеб и секирой — Магнус Оркнейский; убитый ножом «кроткий агнец» Эдуард Мученик [Edward 1971. Р. 4]; бремя Христово — ярмо, возложенное татарами на плечи Михаила Тверского). В Чтении о Борисе и Глебе убийство братьев включено в контекст священной истории (ср. Повесть о Михаиле Тверском), Сказание о Борисе и Глебе сближает с историческими книгами Ветхого Завета неожиданная для агиографического текста «летописная» часть — рассказ о битвах Ярослава со Святополком. Обычно в житии события обладают прямым и символическим смыслами, воспринимаясь как знаки библейских прообразов. В житиях князей-страстотерпцев в двух разных кодах — «спиритуальном» и «земном» — может повторяться сообщение об одном и том же событии. Так, Борис и Глеб возвращаются к отцу Владимиру духовно (встреча в небесной обители) и как бы физически (их тела переносят в церковь Св. Василия; Василий — крестное имя Владимира). Тексты, связанные с князьями-страстотерпцами, и вообще княжеские агиобиографии, обладают чертами самореферентности, сближаясь в этом отношении со Священным Писанием, а не с большинством житий.
Князя-страстотерпца окружал целый комплекс мотивов и образов, восходящих к Библии. Этикетной, почти обязательной при прославлении князя, в том числе и мученика, была евангельская формула о городе, стоящем на вершине горы, и о свече, ставимой на свещнице (Мф. 5:14–15). Она встречается в Сказании о Борисе и Глебе [ПЛДР XI–XII 1978. С. 298], в Повести о Михаиле Тверском [Древнерусская книжность 1985. С. 17], в Хронике сербских кралей [Животи кралюва 1866. С. 131], первая часть этого же изречения употреблена и Константином Багрянородным в трактате Об управлении империей для характеристики власти византийского василевса [Константин Багрянородный 1989. С. 34–35]. Светильник — символический образ, обозначающий князя и его власть, постоянно встречается в Хронике сербских кралей и Житии Стефана Дечанского, в русских памятниках: этот образ ассоциируется со словами Исайи о свете правды правителя, цитируемыми в Хронике [Животи кралюва 1866. С. 107–114] и со светильником — символом Христа (ср. сравнения русских и сербских князей с солнцем, иносказательно означающим Христа[311]). Но прежде всего этот образ восходит к светильнику мудрых дев из евангельской притчи о разумных и неразумных девах, ожидающих жениха-Христа (Мф. 25:1–13).
Анализ страстотерпческих житий приводит к выводам, касающимся их «жанровой» природы и характеризующим отношение к тексту в средневековой словесности[312]. Это — особый вид агиографии со своими (не обусловленными ритуальными функциями, политическими целями и иными внешними ограничениями) «литературными», структурными признаками, достаточно устойчивым набором мотивов и образов. Именно структурные элементы определяют сущность этих житий — а не «агиографический стиль», связанный скорее с предметом изображения, чем с типом текста. Устойчивость структурной схемы выделяет страстотерпческие жития на фоне довольно разнородной агиографии, унаследованной христианским миром от Византии. Для характеристики княжеских житий существенны не только особенности поэтики, но и семантический архетип, отчасти общий для разных агиографических групп — страстотерпческих, миссионерских, воинских житий.
Княжеские жития находились в системных связях с другими произведениями, являясь своеобразным «метатекстом» по отношению к ним. Так, русская страстотерпческая агиография основывалась на летописных «повестях о княжеских преступлениях», структурно незавершенных и являющихся не особым «жанром», а как бы «черновиком» для страстотерпческих житий.
Вариации внутри текстов этого вида не затрагивали структурной основы и объяснялись конкретной установкой агиографа: на углубление библейских и литургических ассоциаций, на создание психологического воздействия или на информативную конкретность и детализацию.
В славянской и североевропейской агиографии языческая по своим истокам мифологема родового вождя и жертвы приобрела новый, собственный христианский смысл.
«Дети дьявола»: убийцы страстотерпца
В повествованиях об убиении страстотерпца (святого, канонизированного за смерть в подражание страданиям Христа) его убийцы наделены особенными характеристиками, как бы выводящими преступников за пределы человеческого. Это не вполне люди, грех их не просто велик, но и бесчеловечен, внечеловечен. Совершенное ими оценивается как акт сознательного проявления сатанинской воли, бросающей вызов Богу и миропорядку. Преступление их уподобляется бунту и отпадению дьявола от Творца.
Убийцы страстотерпца — это его близкие. Близость или родство заговорщиков-преступников со святым — едва ли не обязательная особенность страстотерпческих агиобиографий. В древнерусских летописных повествованиях и житиях убийцы — брат святого (Святополк, отдающий приказ умертвить Бориса и Глеба[313]), подданные (киевляне, растерзавшие Игоря Ольговича[314]), приближенные, вельможи (бояре, поднявшие руку на Андрея Боголюбского, уподобленного летописцем страстотерпцам и местно почитавшегося[315]), князь-родственник вместе с соотечественником — бывшим единоверцем (Юрий Московский, строящий козни против Михаила Тверского, и отступник от веры Романец, исполняющий волю Юрия[316]). Последний случай особенно показателен, так как в убийстве Михаила участвовали прежде всего татары; однако составитель Повести о Михаиле Тверском не случайно упоминает о роли Романца: в сопоставлении с иноверцами и иноплеменниками русский, пусть и не являющийся подданным святого, воспринимается как «свой», изменивший долгу любить и почитать русского князя, ставшего жертвой заговора[317].
Сходная ситуация представлена и в западноевропейской (в том числе в западнославянской) и в южнославянской агиографии[318]: Болеслав — убийца брата Вячеслава (Вацлава) Чешского[319]; отец сербского князя Стефана Дечанского, по наговорам ослепляющего святого, и сын Стефана Дечанского Стефан Душан, безвинно лишающий отца жизни [Стефан Дечански 1983. С. 66–134]. Сходный случай в западноевропейской словесности: описание смерти Эдуарда Мученика Английского, оказавшегося жертвой заговора, составленного мачехой и сводным братом святого [Edward 1971. Р. 1–9]. От руки подданных погибает норвежский правитель Олав Святой, двоюродный брат убивает Магнуса Оркнейского[320]. Родственниками был предан смерти король восточных саксов (Эссекса) Сигберт III Святой, и повествующий о его убиении Беда Достопочтенный особенно подчеркивает как это обстоятельство, так и жестокосердие убийц, возненавидевших святого за его милосердие: «Длительное время приобщение народа к небесной жизни процветало в том королевстве к радости короля и всего народа; но случилось так, что король был по наущению Врага всякого добра убит своими же родичами. Это преступление совершили два брата; когда их спросили, почему они это сделали, они смогли лишь ответить, что обозлились на короля и возненавидели его оттого, что он всегда был готов миловать своих врагов и прощал им все зло, что они делали, как только они просили прощения. Таково было преступление, за которое он принял смерть, — ревностное исполнение евангельских правил» ([Беда 2003. С. 96], кн. 3; 22, пер. с лат. В. В. Эрлихмана). Братом Авелем был вероломно убит датский конунг Эрик Плужный Грош, который почитаться как святой, хотя и не был канонизирован. Убийцу ждала насильственная смерть:
Значимость родственных — в буквальном или в более широком смысле слова — отношений святого и его врагов для сюжета страстотерпческой агиографии заключена в архетипической природе мотива «попираемых» убийцами родства/близости. Ситуация убиения становится отголоском и повторением библейских архетипов — истории убиения Авеля Каином, а также рассказа о распятии Христа людьми, созданиями Божиими, и о предательстве, совершенном Иудой[321]. «Авелевско-каинский» код непосредственно введен в Сказание о Борисе и Глебе. Ярослав перед битвой со Святополком так взывает к Богу: «Се кръвь брата моего въпиеть к Тебе, Владыко, яко же и Авелева преже. И ты мьсти его <…>» [Жития 1916. С. 46]. Составитель Сказания и сам отмечает сходство повествования о первом убийстве на земле с событиями мученической смерти русских святых братьев: «И обретъ, яко же преже Каина на братоубииство горяща, тако же и Святопълкь, поистине въторааго Каина, улови мысль его, яко да избиеть вся наследьникы отца своего, а сам прииметь единъ всю власть» [Жития 1916. С. 32].
Святополк — первый правитель-братоубийца в христианской Руси, как Каин — первый (брато)убийца в мире[322]. Он не просто грешник, но «зачинатель греха». «Тот, кто вершит „первое“ дело, несет ответственность перед Богом, поскольку оно не исчезает уже, а вечно существует, обновляясь в последующих поступках: „И поиде [Ярослав] на Святополка, нарекъ Бога. Рекъ не я почахъ избивати братию, но онъ“»[323].
В образах и поступках убийц страстотерпца акцентированы злоба и вероломство; убиение не мотивируется обидой и какой-либо объяснимой враждой преступников и жертвы. Отношение преступников и жертвы друг к другу «асимметричны», глубоко различны: страстотерпец любит своих врагов и прощает им, но эта любовь лишь ожесточает их сердца. Наиболее значимый случай: молитва юного Глеба в Сказании о Борисе и Глебе за участников и инициатора его убиения — Святополка. «Он же, видевъ, яко не вънемлють словесъ его, начать глаголати сице: „спасися, милый мой отче и господине Василие! Спасися мати и госпоже моя! <…> Спасися и ты, брате и поспешителю Ярославе! Спасися и ты, брате и враже Святопълче! Спасетеся и вы, братие дружино вси, спасетеся! уже не имамъ вас видети в житии семь, зане разлучаемъ есмь от васъ съ нужею“» [Жития 1916. С. 41].
Бесчеловечная сущность убийцы — «нового Каина» — особенно очевидно выражена в Сказании о Борисе и Глебе. Святополк — грешник, как бы лишенный земного отца. Точнее, он родился «от дъвою отьцю и брату сущю» [Жития 1916. С. 28]. Владимир взял в жены его мать, похищенную русами греческую монахиню, уже беременной от прежде убитого им Ярополка. Вот как интерпретирует этот мотив В. Н. Топоров: «Благодатная парность Бориса и Глеба, достигнутая их подлинно христианской кончиной, противостоит греховной „двойственности“ Святополка, их будущего убийцы, вызванной к существованию целой цепью предыдущих грехов. Действительно, грехам Святополка предшествует грех его настоящего отца Ярополка, который расстриг монахиню-гречанку „красоты деля лица ея… и зача от нея сего Святоплъка оканьнааго“, грех его названного (официального) отца князя Владимира, который „поганъи еще, убивъ Яропълка и поять жену его непраздьну сущю“, и грех его матери („Обаче и матере моея грехъ да не оцеститься…“). От „насильственной“ жены двух мужей „и родися сии оканьный Святопълкъ, и бысть отъ дъвою отьцю и брату сущю“. Тем самым Святополк, подобно Эдипу, оказывается персонажем, реализующим двойную парадигму: он выступает одновременно как сын и племянник князя Владимира, своего отца и дяди. Двойственность по происхождению и определяемому им актуальному статусу становится неотъемлемой характеристикой его нравственного облика: Святополк, конечно, злодей, но само злодейство находит себе путь вовне (реализуется) через его роковую раздвоенность („двойственность“) между мыслью и словом, словом и делом. Отсюда особая роль лицемерия, обмана, двойной тактики, двойной морали в поведении Святополка, резко отличающая его от первого братоубийцы Каина (можно думать, что эти черты Святополка в сильной степени определили устойчивость и эмоциональность отрицательной оценки этого князя, который был не только братоубийцей, но и „первообманщиком“). В этой „двойственности“ сам Святополк, пожалуй, не был виновен, но она оказалась тем изъяном, который предопределил грех и преступление Святополка. Иное дело — благодатная парность Бориса и Глеба, увенчивающая разный жизненный путь каждого из братьев» [Топоров 1995. С. 495–496].
Можно добавить, что и в поступках Святополка — убийстве сначала Бориса, а затем Глеба — проявляется порочная двойственность, «парность» (удвоенный грех). О предании смерти Святополком третьего брата, Святослава, упоминает лишь летопись, но не жития[324].
В Святополке воплощаются, материализуются грехи его подлинного и приемного отцов и матери. Святополк как бы наказан своей греховностью за вины Владимира, матери и Ярополка; уже из-за своего рождения он был избран дьяволом для совершения убийства. Грех рождения и происхождения Святополка не исключает спасения, однако делает его трудным, соблазняя удвоить самому грех матери, который он считает неискупимым.
Убийцы страстотерпца — скорее не люди, но «дети дьявола». Сказание о Борисе и Глебе, в котором в эксплицитной форме представлены все основные топосы страстотерпческой агиобиографии, содержит и этот мотив: отцом Святополка и его злых советников — Путьши, Тальца и прочих — назван Сатана.
Дьявольская природа проявляется и в обстоятельствах совершения убийства, которое происходит во время отдыха жертвы, ночью (смерть Андрея Боголюбского, Эдуарда Мученика, а также Олава Норвежского — по версиям его агиобиографии и хроники Адама Бременского[325]), в оскверняемом убийцами сакральном пространстве или на его границе с пространством «мирским» (нападение заговорщиков на Вячеслава возле храма[326], нападение на Игоря Ольговича в монастыре), в глухом, безлюдном месте, в лесу (Чтение о Борисе и Глебе Нестора и Сказание о Борисе и Глебе). С ночным пространством особенно тесно связан Святополк в Сказании о Борисе и Глебе: ночью он предпринимает меры, чтобы утаить смерть Владимира, ночью он совещается со своими боярами об убийстве Бориса.
Абсолютной жестокости зла, олицетворяемого убийцами, противопоставлены невинность, доброта и кротость святых («кроткий агнец» Эдуард Мученик [Edward 1971. Р. 4]; Глеб в Сказании о Борисе и Глебе, закалываемый ножом[327] убийцами). Страстотерпец часто не противится своим врагам, хотя и имеет такую возможность (Вячеслав во всех житиях, кроме Востоковской легенды[328], Борис и Глеб, Олав в версии агиобиографии и хроники Адама Бременского)[329]. Не случайно в Чтении Нестора и особенно в Сказании о Борисе и Глебе подчеркнуты молодость Бориса и отроческий возраст Глеба. «Молодость Глеба подчеркивается (помимо иконографии. — А.Р.) и в письменных текстах. Ср.: „Помилуйте уности моее… Не порежете лозы не до коньца взъдрастъша… Аз, братие, и зълобиемь и въздрастьмь еще младеньствую“(в этом отношении Глеб как бы повторяет прошлое Бориса: „вьсячьскы украшенъ акы цветь цвьтыи въ уности своей“). Ср. еще: „Бе же Глебъ велми детескъ, а блаженыи Борисъ в разуме сы…“ („Чтен.“); „а святаго Глеба у себе остави, одиначе бо бе унъ теломъ“ („Чтен.“) (ср. также сопоставление Глеба, христианское имя которого было Давыд, с пророком Давидом, свидетельствовавшим о себе: „мнии бе в братьи моей и унии въ дому отца моего“)» [Топоров 1995. С. 556, примеч. 105][330].
Описание Бориса-юноши и Глеба-отрока в их житиях противоречит, как известно, сведениям летописи, согласно которым и Борис, и Глеб в год убийства были уже зрелыми мужчинами. Большинство исследователей считало свидетельства Борисоглебской агиографии сознательным отступлением от истины (наиболее полно это мнение развивал И. П. Еремин [Еремин 1966. С. 18–27]; ср. также утверждение О. В. Творогова [Творогов 1980а. С. 55]); однако не исключено, что известия житий вполне достоверны (С. М. Соловьев[331], А. Е. Пресняков [Пресняков 1993. С. 356–357], М. Д. Приселков [Приселков 2003. С. 28, 38], Г. В. Вернадский[332], в последнее время — А. Поппэ [Поппэ 2003. С. 308–313]).
Мотив добровольного приятия смерти страстотерпцем, непротивления убийцам встречается, впрочем, далеко не во всех повествованиях. Так, обстоятельства смерти Игоря Ольговича и Эдуарда Мученика исключали возможность сопротивления убийцам, а Вячеслав в Востоковской легенде борется с заговорщиками [Сказания о начале 1970. С. 37][333]. Убиенный признается святым прежде всего не по своим поступкам, но действиям убийц. Гонение, воздвигнутое против страстотерпца, и его страшная кончина сами по себе удостоверяют святость мученика, ибо такая смерть не могла бы совершиться без особого изволения Божия и без злой воли дьявола, восставшего на чистого Божьего слугу. Вероломство и жестокосердие врагов объяснимы только сверхрационально. Так гнать и преследовать можно лишь святого, подобно тому, как был гоним сам Христос. Христологические мотивы есть, между прочим, и в летописной Повести об убиении Андрея Боголюбского из Ипатьевской летописи под 6683 годом (страдания князя за самого Христа)[334], и, не в столь прямой форме, в Повести о Михаиле Тверском (готовность, желание святого принять смерть во имя спасения своей земли и подданных от врагов).
Абсолютное зло «братоубийства» не имманентно человеческой природе, но приходит извне. Князю-убийце часто нашептывают советники. Действует не один человек, но группа. Зло имперсонально, оно овладевает целым «стадом» нечестивцев. Заговоры инициированы дьяволом (Сказание о Борисе и Глебе и т. д.). Вместе с тем, убийцы, в отличие от бесов, не боятся Бога и потому хуже их. В бездне падения человек ниже дьявола так же, как в святости он выше ангелов.
Имперсонально, «стадно» обычно и убийство страстотерпца: Эдуарда, Вячеслава, Олава, Бориса, Глеба, Игоря Ольговича, Андрея Боголюбского, Михаила Тверского. Одновременно оно и особенно «не-человечно»: Эдуарда Мученика и Глеба закалывают ножом, как агнцев, Магнусу Оркнейскому разрубают голову ударом секиры.
Чужеродность, иноприродность, «экстерриториальность» убийц миру, пространству, в котором жил страстотерпец, проявляется в мотиве их изгнания (бегства) из родной земли. Самый известный пример — бегство и гибель никем не гонимого Святополка в пустынном месте «межю Чехы и Ляхы» [Жития 1916. С. 47], описанные в Сказании о Борисе и Глебе. (Это идиоматическое выражение, означающее — «нигде» (ср.: [Флоровский 1935. С. 42–43]), хотя записанные поговорки с таким значением могут быть следствием переосмысления указания Сказания). В позднейшем духовном стихе Святополк прямо проваливается под землю [Голубиная книга 1991. С. 271]; смрад — запах ада от его могилы упомянут уже в Сказании о Борисе и Глебе. Другие случаи: изгнание Вячеславом матери Драгомиры за убийство бабки Людмилы[335] и судьба двух убийц Людмилы[336], из которых один гибнет, а другой бежит из чешской земли[337].
Роль антагонистов святого-страстотерпца в «протосюжете» о его убиении, лежащем в основе хроникальных и агиографических текстов, посвященных страстотерпцам, исключительно велика. Она связана с «анти-», «не-человеческими» характеристиками убийц[338].
Огненный столп в древнерусской агиографии: ветхо- и новозаветные истоки
Чудесное явление огненного столпа описано в ряде древнерусских агиографических памятников. Огненный столп видят над брошенным или погребенным в «пусте месте» телом убитого Глеба проходящие мимо охотники, купцы, пастухи (Сказание о Борисе и Глебе [Жития 1916. С. 43–44]). Огненный столп восходит к небу, знаменуя смерть Феодосия Печерского (Житие Феодосия Печерского [ПЛДР XI–XII 1978. С. 390]). Огонь является над храмом, в котором отпевают тело невинноубиенного князя Игоря Ольговича (сказание о нем в Прологе[339] и в Степенной книге[340]). В житиях мучеников князя Михаила Черниговского и боярина Феодора говорится об огненном столпе над их телами, оставленными в пустынном месте татарами[341]. Два огненных облака, а затем огненный столп видят над брошенным убийцами телом князя-страстотерпца Михаила Тверского (Пространная редакция Повести о Михаиле Тверском[342]). Семантическое наполнение этого образа раскрыто недостаточно.
Г. Ленхофф, отталкиваясь от сообщения Сказания о Борисе и Глебе (в котором говорится о небрежении церковных и светских властей, проявленном в отыскании тела Глеба и прославлении мученика), предположила, что для церкви и христианизированной княжеско-боярской среды христианский характер чуда был сомнителен [Lenhoff 1989. Р. 37–40]. Вероятно, языческие реликты в чуде с огненным столпом действительно присутствуют, хотя текст Сказания не дает бесспорных оснований для такой трактовки.
Небрежение же властей в отыскании тела Глеба сам составитель Сказания объясняет тем, что еще не закончилась борьба Ярослава со Святополком [ПЛДР XI–XII 1978. С. 296]. Кроме того, вряд ли следует искать в тексте точные сведения о событиях 1015–1019 гг. Во-первых, культ Бориса и Глеба, как показал А. Поппэ, получил широкое распространение и официальное признание всего княжеского дома и церкви только в 1072 г.[343]; соответственно, Сказание скорее всего было написано не ранее этого времени, и знания автора об обстоятельствах обретения и перенесения тела Глеба были весьма приблизительными. Во-вторых, сообщения в Сказании о Борисе и Глебе подчинены повествовательным приемам. Отсутствие среди видевших огненное чудо князей, бояр или церковников свидетельствует о всеобщем забвении памяти святых, о трагичности начала их посмертной земной судьбы — и контрастно подчеркивает будущую заслугу Ярослава, увековечившего память о братьях, и будущую славу святых. (Кстати, о почитании Бориса и Глеба купцами, пастухами или охотниками, видевшими огненные чудеса, в Сказании ничего не говорится.) Наконец, известие о пастухах (и других «простых» людях), видевших огонь и свечи возле тела Глеба, возможно, напоминает о евангельском рассказе о Рождестве Христовом, которое из всего еврейского народа ангел открыл лишь пастухам. Не случайно в позднейшем духовном стихе о Борисе и Глебе рассказывается о приходящих поклониться огненному столпу царях из разных стран [Голубиная книга 1991. С. 284–286] (ср. поклонение волхвов).
Основной источник и прообразы чуда с огненным столпом существуют в иудеохристианской традиции. Сами древнерусские книжники истолковывали огненный столп как явление ангела, помня о ветхозаветном рассказе об ангеле Господнем в образе огненного столпа, ведшем евреев через пустыню в Землю обетованную (Повесть временных лет под 1110 г. [ПЛДР XI–XII 1978. С. 274, 276]; ср. Повесть о Михаиле Тверском). Но это объяснение не исчерпывает всей многозначной семантики образа.
Огонь свидетельствует также и о божественном присутствии, в частности об угодности приносимой Господу жертвы. Это значение восходит к сказанию 3-й Книги Царств (18:23–38) об испытании истинной веры, предпринятом по слову пророка Илии. Илия предложил: пусть жрецы Ваала и он принесут жертвы, чтобы истинный Бог свел огонь на жертвенник угодных ему. Огонь не посетил жертвы язычников, Господь свел огонь на принятую Им жертву Илии.
Огненный столп также, безусловно, символизирует отходящую к Господу душу: в Житии Феодосия Печерского огонь поднимается к небу в момент смерти преподобного. Об огненной природе души писал Иоанн Дамаскин [Иоанн Дамаскин 1913. С. 183]. Огонь — также божественная энергия (ср. явление Бога в огне Моисею) или ангел, оберегающий тело святого от нечестивцев. Таково чудо с огнем (светом), поднимающемся с места, где лежало тело убитого святого Олава Норвежского, в Саге об Олаве Святом из «Круга Земного» Снорри Стурлусона и чудо с огнем, отгоняющим нечестивца от гроба святых, в Чтении о Борисе и Глебе Нестора [Жития 1916. С. 16]; ср.: [Жития 1916. С. 53] (на близость этих двух описаний чудес обратил внимание Ф. Шакка[344]). Таков и огонь, исходящий от гроба Стефана Уроша, переносимого в церковь и опаляющего лица мятежных горожан (Хроника сербских кралей [Животи кральова 1866. С. 158]).
В переводном Житии Саввы Освященного, составленном Кириллом Скифопольским, огненный столп над пещерой — богосозданным храмом уподоблен лестнице Иакова, связывающей горний и дольний миры; огонь обозначает, что здесь — Дом Божий: Савва «помышляше гл[агола]нна Писаниемъ о лествици, показавъшеися Иакову, гл[агол]я, яко страшно место се, нес[ть] се ино что, но Дом Б[о]жии» (цит. по: [Лёнгренн 2001–2002. Ч. 2. С. 886, л. 214 об.]).
В древнерусской агиографии контекст чуда с огненным столпом таков: огонь встает у гроба над телом умершего или чаще убитого (мученики и страстотерпцы) святого. К русским памятникам можно добавить известие о перенесении мощей короля Нортумбрии Освальда из Церковной истории народа англов (III; XI) Беды Достопочтенного[345], мартирий св. Эдуарда Мученика Английского Passio Sancti Eadwardi, regis el martyris и гимны ему[346], упоминание в Оркнейской саге о чудесном свете над могилой Магнуса Оркнейского. Обыкновенно огненный столп является над храмом или над местом, где будет воздвигнут храм (Житие Феодосия Печерского, в котором эти чудеса восходят к переводному Житию Саввы Освященного[347]; проложное сказание об Игоре Ольговиче), или огонь сопровождает тело, которое переносят к храму для погребения (рассказ о перенесении мощей Феодосия Печерского в Повести временных лет под 6599/1091 г.[348] и в Киево-Печерском патерике[349]). Глухое место, в котором брошено тело святого мученика, также обладает характеристиками сакрального храмового пространства[350]: возле покоящегося в пустынном месте тела Глеба виден не только огонь, но и горящие свечи и слышно ангельское пение (Сказание о Борисе и Глебе). Горящие свечи упоминаются и в текстах нескольких редакций житий Михаила Черниговского и боярина Феодора. Известие о свече или свечах, возжигающихся над могилой страстотерпицы Людмилы Чешской, содержится в ее проложном славянском житии, составитель которого особо подчеркивает значительность этот чуда: «Бог бо показа от нея знаменья и чюдеса на месте, идеже бе погребена; но бе бо в церкви, нъ под стеною града, идеже являжу (так! — А.Р.) ся по вся нощи свеща горяща» (вариант: «свещи горящи» [FRB 1873–1874. Vol. 1. Р. 124]; ср.: [Сказания о начале 1970. С. 107–108]). Сходный эпизод читается в латинских памятниках о святой Людмиле[351]. Огонь эквивалентен свечам и пению — над телом Глеба «овогда бо видима стьдпъ огньнь, овогда свещи горуще и пакы пения ангельская слышааху» [Жития 1916. С. 43–44]. В Саге об Олаве Святом из «Круга Земного» Снорри Стурлусона также говорится о свечах, чудесно возжигающихся сначала на месте боя, а потом в храме, где был погребен убитый конунг[352].
В пределах христианской традиции огненный столп можно осознавать как божественную энергию (ср. выше). Бафяный огненный свет сходит на лампады в Храме Гроба Господня в Великую Субботу (Хожение игумена Даниила[353]). Возжигание от божественного огня только трех лампад, несомненно, символизирует святую Троицу. Подобно этому три столпа являются над храмом Печерского монастыря, в который переносят мощи св. Феодосия Печерского (Киево-Печерский патерик и Повесть временных лет под 6599/1091 г.).
В древнерусской агиографии чудо с огненным столпом преимущественно встречается в житиях мучеников за веру и страстотерпцев княжеского сана, принимающих смерть во имя Христа. Конечно, отчасти такой факт может объясняться тем, что книжники, писавшие об Игоре Ольговиче, Михаиле Черниговском и боярине Феодоре или Михаиле Тверском, следовали эталонному тексту — Сказанию о Борисе и Глебе. Упоминание в некоторых редакциях житий Михаила Черниговского и Феодора о свечах, горящих возле тел мучеников, впрочем, лексически совпадает с сообщением о чуде над могилой святой Людмилы в списках славянского проложного жития, опубликованных в первом томе издания «Fontes rerum Bohemicarum», хотя утверждать, что русские книжники заимствовали этот фрагмент именно из жития Людмилы, было бы слишком смело.
Для «соединения» огненного чуда с фигурой страстотерпца (и, прежде всего, страстотерпца-князя) были, возможно, и более глубокие основания. Святой (особенно страстотерпец, принявший смерть в подражание Христу) — жертва, принесенная Богу[354]. Е. Рейсман заметил, что захоронение Глеба между двумя колодами воспроизводит языческие скандинавские обряды. Исследователь предположил, что убийство Глеба, как оно описано в Сказании о Борисе и Глебе, имеет характер обрядового жертвоприношения князя [Reisman 1978]. Убийства древнерусских и скандинавских правителей, совершенные их родственниками в борьбе за власть, действительно обнаруживают разительное сходство, позволяющее говорить о реликтах ритуального предания правителя смерти. Святых Глеба и Магнуса Оркнейского закалывают повара (Магнус был убит ударом секиры), Василька Теребовльского ослепляет ножом овчарь (Повесть временных лет под 6605/1097 г.). Убиение князя напоминает жертвоприношение, заклание ягненка, в христианском коде оно прочитывается как подражание закланию Агнца — Христа. В границах ветхозаветной традиции огненный столп осознается как знак принятия Богом угодной ему жертвы. В христианской традиции эта жертва осмысляется как литургический символ. Одним из метафорических обозначений литургического таинства был огонь. В Житии Сергия Радонежского описано явление огня на святой трапезе в алтаре, входящего в потир, из которого причащается Сергий [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 402]. Вкушением огня представлено причащение и в приписываемом Симеону Новому Богослову евхаристическом каноне: «Огнь и свет буди ми, Спасе, приятие пречистых и животворящих твоих тайн, пожигая греховных плевел и просвещая всего <…>» [Каноник 1651. Л. 168]. Протопоп Аввакум в своем Житии иносказательно называет сожженного никонианами инока Авраамия хлебом, принесенным Господу [Аввакум 1979. С. 57–58].
Литургические и христологические ассоциации окружали фигуру князя-страстотерпца. В памятниках, посвященных князьям-страстотерпцам, они уподоблены Христу, а их смерть — «повторение» крестного подвига-жертвы Христа. Показательны реализация библейских метафор («Царь Небесный» — князь, король[355]; жертвенный агнец — и закалываемые ножом «кроткий агнец» [Edward 1971. Р. 4] св. Эдуард и Глеб) или воспроизведение чудесных знамений, сопровождавших смерть Христа (затмение в памятниках, посвященных Олаву Святому[356] и в Слове о житии Димитрия Иоанновича, землетрясение в проложном сказании об Игоре Ольговиче). В Средние века (особенно на Руси) правитель воспринимался как двуединый «знак» Христа — Царя и Жертвы (М. Чернявский [Cherniavsky 1961. P. 11–34]). Литургические коннотации могли приобретать в литературных памятниках княжеский пир и трапеза (древнечешская Легенда Никольского о князе Вячеславе [Сказания о начале 1970. С. 80–81], рассказ древнерусской Лаврентьевской летописи об убийстве татарами князя Василька Ростовского [ПЛДР XIII 1981. С. 142]) или хлеб и княжеская кровь (чудо Олава, исцеляющего ребенка хлебом, вылепленным в форме креста; целительные свойства крови убитого конунга — Сага об Олаве Святом [Снорри Стурлусон 1995. С. 342, 364–365][357]).
В богословии — в частности византийском — храм воспринимался как модель мира, а мир — как богосозданный храм[358], жертвенник храма символизировал тело Христа (напр., у Симеона Солунского[359]). Подобно этому и тело умершего или убиенного святого (и, может быть, особенно — тело убиенного князя) воспринималось и как «малый храм», и как знак, символ-«подобие» Христа — жертвы, положенный в мире-храме. Огонь, в свою очередь, выступал как зримый образ благодати Святого Духа, пребывающей в этом мысленном храме и в «малой церкви» — теле святого мученика (или преподобного, как Феодосий)[360]. Апостол Павел называет тела верующих во Христа храмом Святого Духа («Или не весте, яко телеса ваша храмъ живущаго въ васъ с[вя]таго Д[у]ха суть <…>» — 1 Кор. 6:19).
Глухое (нечистое) место или лес, в котором убийцы оставляли тело убитого святого, приобретало сакральный смысл, наделяясь признаками, присущими храму[361]. Для связи храма с огненным образом-символом показателен рассказ Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году Нестора Искандера об огненном столпе, выражающем неизреченный свет благодати Святого Духа, почившей во храме Св. Софии [ПЛДР XV 1982. С. 242, 244][362]. Значима форма огненных столпов в летописном и патериковом рассказах о перенесении мощей Феодосия Печерского: три столпа имеют вид дуг, т. е. напоминают церковные закомары.
Для связи фигуры князя с храмом показательны изображения князей-ктиторов с храмами в руках. Интересно, что и Борис и Глеб, о храмостроительной деятельности которых ничего неизвестно, изображены на энколпионах (как полагает, например, Ф. Шакка) с храмами в руках (поверхность энколпионов плохо сохранилась, поэтому выдвигались и иные версии)[363]. По мнению Ф. Шакка, эти изображения святых братьев восходят к изображениям болгарского князя Бориса-Михаила и императоров Юстиниана и Константина с храмами в руках [Sciacca 1983. Р. 62–70].
Связь огненного столпа в русской агиографии со Святым Духом демонстрирует так называемое Слово о князьях, над телом князя Давыда Святославича появляется голубь — этот символ Святого Духа в данном эпизоде как бы эквивалентен огненному столпу. (Составитель текста, может быть, желая избежать слишком дерзких ассоциаций с явлением Святого Духа при крещении Христа, истолковывает голубя над телом князя как посещение ангела [ПЛДР XII. С. 340].) Такая эквивалентность была задана богословской традицией, которая истолковывала голубя, явившегося при крещении Христа, как символ Святого Духа; об огненных языках, символизирующих сошествие Святого Духа на апостолов, повествуют Деяния святых Апостолов.
В Киевской Руси особенно значимыми, возможно, были ассоциации образа огненного столпа с огнем, в котором явил себя Бог Моисею: древнерусские книжники проводили мысль о благословении Богом новокрещенной Руси, подобно благословению еврейского народа, и противопоставляли Ветхий Завет, союз Бога с евреями, Новому, участницей которого стала христианская Русь. Не случайна в этой связи полемика с иудеями Феодосия Печерского (укажу в Киево-Печерском патерике сравнение-противопоставление Феодосия в день Пасхи с Моисеем, возвращающимся после откровения с Синая [ПЛДР XII. С. 460], а также настороженное отношение и осуждение монахов, читающих и толкующих Ветхий Завет). Может быть, и число столпов, встающих над Печерским храмом при перенесении тела Феодосия и символизирующих Троицу, как бы напоминает о спорах игумена с иудеями и «обличении» католиков.
Представления об истории в Повести временных лет: тернарные структуры
Исторические воззрения древнерусских летописцев (и, прежде всего, составителей Повести временных лет) неоднократно анализировались исследователями. Но при этом предметом внимания ученых были преимущественно представления, выраженные в непосредственной, эксплицитной форме — историософские идеи. Между тем, историософия в летописях также выражена в самой структуре текста: в отборе событий, в их внутренней соотнесенности. Сознание составителей Повести временных лет (далее — ПВЛ) носит во многом мифологический характер, и поэтому осмысление истории летописцами проявляется в первую очередь не в прямом истолковании событий, но в наделении их символическим смыслом. Этот символический смысл был очевиден для древнерусских книжников, но часто ускользает от ученого-интерпретатора. Для установления этих символических значений необходимо соотнесение ПВЛ с мифопоэтической традицией и со значимыми для летописцев религиозными текстами. Раскрытие историософских воззрений летописцев невозможно без выявления структуры памятника, так как само построение ПВЛ порождает символические смыслы. Принцип упорядоченности текста ПВЛ для ее составителей тождествен принципам, лежащим в основе самой истории. Это естественно для мифологического сознания, которое не разграничивает обозначаемое и обозначающее, текст и описанную в нем реальность. Точнее, составители ПВЛ, упорядочивая исторический материал (отбирая его и распределяя на временной оси), как бы выявляют упорядоченность, внутренне присущую истории. Конечно, сознание летописцев не является мифологическим в чистом виде: в ПВЛ есть и элементы рационализированного подхода (критика источников и т. д.), но господствует все же усваиваемое летописцами историческое предание[364] и, в первую очередь, библейский код.
Недавно была напечатана статья М. Н. Виролайнен «Автор текста истории: Сюжетообразование в летописи»[365], затрагивающая проблему историософских воззрений составителей ПВЛ. Автор статьи подробно анализирует символико-мифологический смысл и внутреннюю соотнесенность таких мотивов, как княжение Кия и его братьев, призвание варягов, взятие Владимиром Полоцка и овладение Рогнедой, покорение Корсуня и крещение. Интерпретации М. Н. Виролайнен интересны. Однако едва ли оправданна характеристика трехчленного паралелизма «взятие города / брак / воцарение» (М. Н. Виролайнен обнаруживает реализацию этой парадигмы в рассказах о Владимире и Рогнеде и о крещении Владимира) как элементов «фольклорного кода». Эти элементы, действительно, характерны для сказок[366]. Однако в трансформированном виде эта модель сохранена и в Житии равноапостольных Константина и Елены[367]. Спорна и мысль М. Н. Виролайнен о «диалоге» в ПВЛ двух кодов — фольклорного и церковного. Никакого «диалога» между ними не происходит — по крайней мере в понимании М. М. Бахтина (при всей неопределенности и почти метафоричности понятия «диалог» в его работах), на которое ориентируется М. Н. Виролайнен. Два кода сплавлены между собой и могут быть выделены только с внешней, исследовательской позиции. Попытки расчленения ПВЛ на повествования фольклорного и церковного характера (в частности, в работах Д. С. Лихачева) могут объяснять генезис ПВЛ, но отнюдь не функции этих двух пластов в наличествующем цельном тексте.
Несостоятельно, на мой взгляд, и жесткое противопоставление М. Н. Виролайнен двух типов повествования в ПВЛ — текста, трансформирующего реальность, сюжетно организованного, и речи, адекватно ее описывающей[368]. «Документализм» и «публицистическое» начало действительно господствуют в части ПВЛ, относящейся к середине XI — началу XII в. Но, во-первых, публицистический «дискурс» — такая же трансформация реальности, как и «фольклорный код» текста[369]. Кроме того, в ПВЛ события второй половины XI — начала XII в. символически тесно связаны с событиями из начальных времен русской истории. (Об этой соотнесенности — ниже.) Кроме того, дихотомия «текст — речь» не очень удачна, так как обременена ассоциациями с бинарной оппозицией «язык — речь» («langue — parole»), введенной в лингвистику Ф. де Соссюром, а также ассоциациями со структурально-семиотической парой понятий «текст — код».
При интерпретации ПВЛ я исхожу из постулата, что это единый целостный текст со своей историософией. Он представляет собой соединение нескольких сводов; тем не менее, в рамках избранного подхода этим очевидным фактом допустимо пренебречь. В древнерусской летописной традиции ПВЛ осознается и функционирует как целостный памятник[370].
В тексте выделяются структуры, которые можно назвать тернарными. Это повествования о трех правителях, разделяющих между собой некую территорию. Таковы, прежде всего, рассказы о разделении земли между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом, о княжении Кия, Щека и Хорива и о призвании варягов Рюрика, Трувора и Синеуса. Представление о трех братьях-прародителях и основателях власти имеет глубинные мифологические истоки[371]. Предание о Кие и его братьях[372] включено в общий текстовой пласт с открывающим ПВЛ рассказом о расселении народов-потомков трех сыновей Ноя. Как Сим, Хам, Иафет — прародители человечества, так Кий, Щек и Хорив как бы прародители Русского государства. Сыновья Ноя — своеобразная архетипическая триада. Ее повторениями («отражениями» этого «первообраза») являются Кий, Щек, Хорив, затем Рюрик, Трувор, Синеус. Далее следует своеобразное иссякание, «порча» истории: триада братьев Ярополк, Олег, Владимир. Между братьями — не любовь, а раздор. Ярополк оказывается виновником гибели Олега и сам гибнет от руки Владимира. Возможно, символическим разрушением исходной триады является и убиение Святополком Окаянным трех братьев — Бориса, Глеба и Святослава. Но вслед за тем происходит символическое восстановление триады: Ярослав изгоняет Святополка из Руси, мстя за смерть своих братьев Бориса и Глеба (религиозно осмысленное символическое единство «Борис — Глеб — побеждающий их покровительством Ярослав»). Затем рассказывается о распаде новой триады — триумвирата Ярославичей: Святослав и Всеволод изгоняют из Киева старшего брата Изяслава, что становится причиной многолетних междоусобиц, захватывающих и поколение их сыновей.
В роли своеобразных архетипов в ПВЛ выступают и события христианского времени. Так, история вероломного убийства Бориса и Глеба Святополком отражается в рассказе под 6605 (1097) г. об ослеплении князя Василька князьями Давыдом и Святополком (сходство имен двух князей не могло пройти мимо внимания древнерусских книжников). Символическая соотнесенность подчеркнута метафорическим упоминанием Владимира Мономаха о «ноже» вражды, который «ввергли» среди князей Давыд и Святополк, ослепив Василька: ведь реальным ножом — ножом повара был убит святой Глеб. Не случайна и такая деталь, как ослепление Василька овчарем Берендеем. «Кроткий агнец» Глеб, зарезанный поваром Торчином, соотнесен с Васильком, которому наносит увечье овчарь. Оба стали, по-видимому, жертвами степняков: берендеи и торки — кочевые народности, служившие русским князьям.
В ПВЛ «доброе» старое время противопоставлено нынешнему времени раздоров и ослабления Русской земли перед лицом новых врагов — половцев. (Наиболее выразительный пример такого противопоставления — летописная статья 6601 (1093) г., которой, возможно, заканчивался реконструированный А. А. Шахматовым так называемый Начальный летописный свод.) Крупные территориальные приобретения и победы заканчиваются еще во времена Владимира Святославича. «Порча», охватывающая триады князей, демонстрирует это истощение, иссякание исходных полноты и могущества[373].
Нужно, однако, учесть, что помимо такого архаического представления о времени в ПВЛ присутствует и дополняющее его христианизированное воззрение на историю. В его рамках история описывается как внесение упорядочивающего, законотворческого начала, тесно связанного с христианством. Это рассказы об установлении оброков и дани Ольгой (еще язычницей) под 6455 (947) г. и о наказании разбойников Владимиром-христианином, а также завещание Ярослава под 6562 (1054) г., в котором дается христианское наставление сыновьям. Своеобразные аллюзии на это наставление рассеяны в летописи на протяжении последующих десятилетий (см.: [Подскальски 1996. С. 348]).
Упорядочивающее начало власти проявляется и в рассказах о первых русских правителях. Само существование княжеской власти для летописца — свидетельство существования «закона», «порядка», который противопоставляет полян, имевших князей (Кия и его братьев) другим, не знающим «закона» славянским племенам. Роль же Рюрика же с братьями — установление порядка и мира, прекращение междоусобных распрей. Позднейшие междоусобицы христианского времени в ПВЛ — своеобразное возвращение к древнему «хаосу», особенно удручающее, ибо зачинщиками распрей выступают князья-христиане.
Но одновременно события настоящего являются в летописи и обетованием торжества над врагами, причем торжества более успешного, нежели прежние победы князей-язычников. ПВЛ описывает победы над половцами в 6618 (1110) и 6619 (1111) гг., представленные как торжество христианства над язычеством. При этом враги терпят страшное поражение на собственных землях, русские князья завоевывают их города. Таким образом, события, описанные в статьях 6618 и 6619 гг., не менее славны, чем походы Олега и Святослава.
Оппозиция «природа — культура» в историософии Повести временных лет
Присущая современному сознанию оппозиция «природа — культура» древнерусскому мировосприятию в чистом виде не знакома и не была предметом рефлексии составителей Повести временных лет (далее — ПВЛ). Вместе с тем значимость антитезы «природного» и «культурного» начал для летописцев несомненна при оценке и интерпретации ими событий мира людей. Эта оппозиция — инвариант свойственных ПВЛ антитез: «внечеловеческое (животное) — человеческое», «лишенное смысла — осмысленное», «до-историческое — историческое», а также, в известной мере, и «чужое — свое», и «языческое — христианское». Совмещение внутренней (зафиксированной в тексте) и внешней (исследовательской) точек зрения при анализе ПВЛ в рамках категориальной пары «природа — культура» позволяет выявить своеобразие историософских воззрений летописцев, в том числе и эксплицитно не выраженных и не осознанных.
При интерпретации ПВЛ я исхожу из постулата, что это единый целостный текст со своей историософией: будучи соединением нескольких сводов, тем не менее, в древнерусской летописной традиции этот текст осознается и функционирует как целостный памятник[374].
Антитеза «природного» и «культурного» в ПВЛ проявляется прежде всего в противопоставлении «доисторического» периода («пред-истории») и исторического времени. Вехой в истории славяно-русов оказывается основание Киева Кием. Кий, его братья и сестра как бы дают свои собственные имена киевским урочищам (горам и реке), то есть природная среда как бы «антропологизируется». Окончательное вхождение славяно-русов в историю, начало их исторического бытия связывается с их походом на Константинополь, отнесенным летописцем к 6360 (852) году: «В лето 6360, индикта 15, наченшю Михаилу царствовати, начася прозывати Руска земля. О семь бо уведахомъ, яко при семь цари приходиша Русь на Царьгородъ, якоже пишется в летописаньи гречьстемь» ([ПЛДР XI–XII 1978. С. 34]; ср.: [ПВЛ. С. 12]). Характерно, что появление этого названия прикреплено к точной дате — в отличие от появления этнонимов «древляне», «поляне» и т. п., обозначающих славянские племена преимущественно по местам их обитания. После статьи под 852 годом в ПВЛ идет сплошной поток погодных статей, в летопись вносятся даже «пустые» годы, без рассказа о событиях. Часы Истории включены, и время наполняется и упорядочивается. Именно этой ролью «хроно-маркера» и объясняются, по-моему, «пустые» годы в ПВЛ, а также в западных хрониках и анналах. Распространенное мнение, что летописцы перечнем «пустых» годов намечали для себя или продолжателей лакуны, требующие заполнения, едва ли оправданно: летописцы конца XI или начала XII в. вряд ли полагали, что они или последующие историографы найдут, например, сведения, относящиеся к «пустым» датам середины IX столетия[375].
И. П. Еремин, анализируя значение погодного принципа в ПВЛ, заметил: «Существующая в его (летописца. — А.Р.) время система летосчисления (от Сотворения мира) оказала ему в этом отношении незаменимую услугу: каждый факт нашел свое время, зыбкие до и после получили свои четкие границы. Первая летописная дата (852 г.) — случайна: поскольку события рассматривались им только во времени, он мог подчинить свое изложение существующей системе летосчисления в любом месте, что он и сделал, воспользовавшись случайным упоминанием о „Русской земле“ в „летописаньи гречьстемь“ („Летописец вскоре“ патриарха Никифора)» [Еремин 1966. С. 73]. По-видимому, вслед за И. П. Ереминым считает также случайной первую дату в ПВЛ и М. Н. Громов: «Условно была выбрана точка отсчета для единого летосчисления. Таким образом, русская история оказалась подключена к мировой» [Громов 1975. С. 9].
С этим мнением никак нельзя согласиться. Выбор 852 г. как начала русской истории совсем не случаен[376]. Свидетельством возникновения, реального существования Руси оказывается ее упоминание чужеземным историографом — Георгием Амартолом[377] — подданным великой и единственной Империи — Византии. Свидетельство извне — своеобразное условие, необходимое для признания подлинности исторического бытия Руси. Приуроченность похода на Царьград к конкретной дате, открывающей начало сплошного потока датированных записей, объясняется тенденцией вписать русские события в контекст всемирной истории[378]. Эту тенденцию емко и точно охарактеризовал Н. С. Трубецкой: «Для образованных русских книжников византийские хроники были последним словом исторической науки, и они испытывали потребность в том, чтобы история их родины также была поставлена на такой научный уровень. Для них русская история предстает частью описываемой византийскими хрониками мировой истории. Поэтому географически-этнологическая основа русской истории должна быть поставлена в перспективу всеобщей исторической географии и этнографии, а между русской и общей хронологией должно быть установлено синхронное согласование. При этом русский автор вовсе не желал действовать произвольно и догматически: он хотел объяснить читателю основания того, почему он определяет для фактов русской истории именно эту, а не иную позицию в этнографически-географической и хронологической перспективе мировой истории» [Трубецкой 1995. С. 559].
Два события — княжение Кия и обретение русскими известности в Византии — первоисток истории, противопоставленной природному вневременному существованию, и подтверждение совершившегося исторического бытия Руси. Не случайно в Новгородской первой летописи, в значительной мере сохранившей текст предшествующего ПВЛ Начального свода, известие о Кие и его братьях синхронизировано с сообщением о походе руси на Царьград и отнесено к точной дате — к 6362 (854) г.: «В лето 6362. Начало земли Рускои. Живяху кождо съ родомъ своим <…> И быша три братия <…>» [Новгородская летопись 1950. С. 104, л. 28] (текст младшего извода, Комиссионный список; ср.: [ПСРЛ Новгородская 2000. С. 104]). Явные «швы», следы вторичности в этой статье Новгородской первой летописи свидетельствуют, что датировка событий, связанных с Кием, 6362 годом в тексте Начального свода отсутствовала и появилась сравнительно поздно[379]; однако интересно само намерение позднейших редакторов-летописцев свести воедино две точки отсчета: признание-упоминание о Руси греками и установление автохтонной власти в Киеве. Значимость знакомства с Русью Византии как подтверждения исторического, а не «природного» бытия Русской земли очевидна, впрочем, и в рассказе о Кие и его братьях и сестре: сообщение о путешествии Кия в Царьград приводится как опровержение слухов, что Кий был не князем, но простым перевозчиком [ПЛДРXI–XII 1978. С. 28]; ср.: [ПВЛ. С. 9].
«Летописный» принцип повествования (рубрикация исторического материала по годам) позволяет составителям ПВЛ противопоставить историю — до-истории, установить точку отсчета, «начало» своей страны и государства на оси времени. Первая дата — это начало именно «национальной» истории (события иностранной истории, предшествующие первому датированному известию, относящемуся к Руси, в ПВЛ лишены даты). Сходно значение «летописного», «погодного» принципа и в хрониках, созданных в других новокрещенных странах примерно в одно время с ПВЛ. В чешских хрониках (у Козьмы Пражского и в Градиштской хронике) точка отсчета — крещение чешского князя Борживоя, датируемое — исторически неверно — 894 г. [Козьма Пражский 1961. С. 256, 57]; [FRB 1873–1874. Vol. 2. Р. 386].
В отличие от составителей ПВЛ, начало истории чешские анналисты связывают именно с крещением страны. Впрочем, Козьма Пражский в этиологическом введении, повествующем о происхождении чешского народа и об утверждении власти и закона среди чехов, называет и имена первых, живших задолго до Борживоя, правителей — Чеха (героя-прародителя) и Крока, Кази, Тэти и Либуше, основавших первые города и назвавших их своими именами. Сходным образом Киев получает имя Кия, именами его братьев Щека и Хорива названы холмы Щековица и Хоривица, а именем сестры — речка Лыбедь: «И быша 3 братья: единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ, и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, гдеже ныне увозъ Боричевъ, а Щек седяше на горе, гдеже ныне зовется Щековица, а Хоривъ на третьей горе, от него же прозвася Хоревица. И створиша градъ во имя брата своего старейшего, и нарекоша имя ему Киевъ» [ПЛДР XI–XII 1978. С. 28]; ср.: [ПВЛ. С. 9]. И содержащий даты рассказ ПВЛ о языческом прошлом Руси, и не подлежащее четкой «локализации» на хронологической оси исконное чешское прошлое — это тоже история, противопоставленная до-государственному (до Либуше и Пршемысла, до Кия с братьями и сестрой), природному существованию среди лесов и рек. Но у Козьмы Пражского трактовка этой древнейшей эпохи как части истории — возможна, но не обязательна: сам хронист не убежден в истинности, историчности известий о времени до Борживоя. В хронике Градиштского аббатства повествование прямо начинается с известия о крещении Борживоя, чешская же «пред-история» (сообщения о Гостивите, о Чехе, о трех девах — Кази, Тэти, Либуше — и т. д.) изложена в ретроспективном фрагменте-«отступлении».
Использованием «погодного» принципа распределения исторического материала, позволяющего противопоставить догосударственное, природное бытие славян и существование Руси в мире культуры и истории, ПВЛ кардинально отличается от византийских хроник (бесспорно известных на Руси в славянских переводах). У греческих хронистов исторический материал группируется не по годам, но по царствованиям[380], господствует «монархический» принцип. Так, Георгий Амартол, фрагменты хроники которого использованы в тексте ПВЛ, особо выделяет Крона как первого царя, а империю Александра Македонского избирает своеобразным водоразделом истории. (В хронике Симеона Логофета, по-видимому, переведенной в Болгарии в XIV в., Крон представлен как первый царь Сирии [Симеон Метафраст. С. 11].) Повествование в первой книге хроники Амартола начинается от Адама и заканчивается рассказом о создании всемирной монархии Александра и ее распаде по смерти основателя. Во второй книге рассказ вновь начинается с Адама и его потомков [Истрин 1920. С. 29–53]. При этом первая книга, с одной стороны, и последующие — с другой, представлены как бы двумя самостоятельными произведениями. Первая книга — своего рода «парадигма», ключ к последующим событиям. Показательно, что именно перед второй книгой читается заглавие, которое скорее относится ко всей хронике Амартола: «Начало временьным книгам Георгия Мниха» [Истрин 1920. С. 53]. Всемирная империя Александра — как бы прообраз и Римского царства, и «нового Рима», христианского Рима — Византии, и одновременно как бы преемница ветхозаветного Израильского царства. Бог является Александру в образе израильского «архиерея» — первосвященника и побуждает македонского царя к походу против персов; Александр приходит в Иерусалим, узнает в израильском архиерее явившегося ему мужа и склоняется перед его духовной властью [Истрин 1920. С. 46].
Единство Империи для византийских хронистов — своеобразная «реализация» в земном мире духовного единства христиан и как бы условие, предпосылка того, что проповедь Христа будет услышана. Георгий Амартол истолковывает четыре царства и их преемника-победителя в видении пророка Даниила (Дан., гл. 7–11) как символ одновременно и Христова воплощения и Царства — и Римской державы, в которой не случайно родился Царь Небесный: «4-м стоухиямъ творець и четвероконечныи весь миръ сими связавыи Иисусъ Христосъ въплътися нашего ради спасения, теме поистине разделеными царствии всеми понеже въднехъего цесарь всехъ Господь родися <…>» [Истрин 1920. С. 206]. Императоръ Тиверий, согласно Симеону Логофету, Христа «иесарьскимъ образомъ помысли нарещи Его Бога; но сие оубо взъброненоему бысть отсинъглита». На Пилата же за распятие Христа Тиверий воздвиг гнев [Симеон Метафраст. С. 30]. Идея связи pax Romana и христианской веры отчетливо звучит и в богослужении: «Так, например, в канун Рождества Христова богослужение провозглашало провиденциальное значение pax romana, выраженное в IV веке Евсевием Кесарийским: „Августу единоначальствующу на земли, многоначалие человеков преста… Под единем царством мирским гради быша, и во едино владычество Божества языци вероваша. Написашеся людие повелением кесариевым, написахомся вернии именем Божества“» [Мейендорф 2005. С. 164–165]. Таким образом, между царем земным, правителем всемирной империи — Рима, и Царем Небесным устанавливается некая корреляция, соответствие[381]. Земной владыка — властелин всемирного царства как будто бы не может быть гонителем Царя Небесною и вселенской веры. Эта идея была одной из кардинальных для византийского самосознания — при том что в Византии (то есть в уже христианский период существования империи) отношения христианства и «цезаристского переживания священной державы» были внутренне противоречивы — антиномичны и драматичны (см.: [Аверинцев 2005. С. 25–27]).
И Амартол, и Симеон Логофет выделяют «первого римского царя» Августа как своего рода «культурного героя», дающего собственное имя одному из месяцев года и титулу римских и византийских монархов: «от негоже Августа прозвашася Гръчьстии царие и месяцъ августь <…>» [Симеон Метафраст. С. 29]; ср.: [Истрин 1920. С. 205]. В Летописце вскоре патриарха Никифора царствование Августа также выделено — не только посредством указания, что при Августе «родися по плоти от с[вя]тыя дивице М[а]рия Г[оспо]дь нашь И[соу]сь Х[ристо]съ», но и благодаря указанию числа лет, прошедших от Адама до начала царствования Августа. В дальнейшем в Летописце вскоре подобный отсчет лет дается только в отношении царствования двух императоров — Диоклетиана (от Адама до смерти императора, от распятия Христа до начала царствования императора) и Константина (от Адама до смерти императора); значимость правления этих двух императоров мотивирована тем, что Диоклетиан — последний языческий, а Константин — первый христианский правитель Рима. До Августа подобный отсчет лет от Адама приведен только по отношению к царствованию одного античного правителя — Александра Македонского, создателя первой мировой империи; и при этом верхней точкой является не начало правления, а смерть царя[382].
Рубрикация материала по царствованиям давала возможность представить мировую историю как смену, преемственность династий и царств. Так, Георгий Амартол строит линию династической и государственной преемственности: Египетское царство и его последний правитель Нектанав (Нектонав), бежавший от персов в Македонию и ставший отцом Александра — Александр, наследник Персидской монархии по праву победы и Египта — по крови и одновременно как бы духовный наследник Израиля (выше упоминалось об эпизоде встречи македонского царя с израильским первосвященником) [Истрин 1920. С. 39–45]. Симеон Логофет выстраивает аналогичную схему правопреемства и смены царств, наследующих власть друг друга: Еврейское царство — Персидская монархия — держава Александра Македонского — Египет Птолемеев — Рим Юлия Цезаря и Августа — Византия [Симеон Метафраст. С. 18–29].
Принцип распределения материала по царствованиям, сочетающийся с идеей преемствственности мировых монархий, исключал возможность противопоставления «природного» и «культурного (исторического)» периодов в существовании людей. ПВЛ в данном случае совершенно независима от византийских образцов. Утверждение об ориентации русских летописцев на византийскую историософскую модель, высказанное, например, Н. С. Трубецким [Трубецкой 1995. С. 558–559], не вполне соответствует действительности.
Д. С. Лихачев обратил внимание на этиологическую направленность исторической мысли летописца [Лихачев 1950а. С. 136]; ср.: [ПВЛ. С. 274–276]. Давно установлено, что в космографическом введении — возможно, не восходящем к предшествующим сводам [Гиппиус 1994] — ПВЛ следует за хроникой Георгия Амартола и, может быть, за компилятивным Хронографом по великому изложению. Тем не менее космографическое введение ПВЛ по своему смыслу глубоко оригинально: Русь включена в круг народов, и определено ее место среди них; разделение земель между прародителями-сыновьями Ноя становится исходной точкой бытия славян. Русь оказывается причастной всемирной и библейской истории не через государственное, но через этническое преемство и родство. Таким образом, сохраняется идея преемства наряду с оппозицией «природного» и «исторического/культурного» периодов в жизни славян.
Символическая связь между историей расселения народов-потомков трех сыновей Ноя устанавливается благодаря тройному повтору триады прародителей — первых властителей: Сим, Хам, Иафет — Кий, Щек, Хорив — Рюрик, Трувор, Синеус (ср.: [Данилевский 1998б]). Призвание варягов в ПВЛ — второй (после Кия) первоисток Руси: государственная власть у славяно-русов одновременно и автохтонна, и привносится извне, организуя природное хаотическое существование славянских племен[383].
По «этническому» принципу построены многие хроники и исторические сочинения западноевропейских средневековых авторов X–XII вв. (например, Чешская хроника Козьмы Пражского, произведения Адама Бременского [Adami Bremensis Gesta 1917. P. 4–5] и Видукинда Корвейского [Видукинд 1975], однако в них нет космографических введений и бытие народа не представлено как часть всемирной истории (у Козьмы Пражского лишь содержатся параллели с ветхозаветным рассказом о приходе евреев в Землю обетованную при описании прихода Чеха в Богемию).
В византийских хрониках рассказ о расселении народов после потопа занимает «периферийное» место. В тексте перевода хроники Георгия Синкелла из так называемой Летописи Авраамки он — своеобразная вставка, читающаяся «не на своем месте», вслед за повествованием о Моисее. У Георгия Амартола этот рассказ включен во вторую книгу, открывающуюся повествованием об Адаме [Истрин 1920. С. 58–59]. У Георгия Синкелла [ПСРЛ Летопись Авраамки 1889. С. 1–2] и Симеона Логофета [Симеон Метафраст. С. 4–6,14] хроники начинаются с описания Сотворения мира. В кратком повествовании об отдельных исторических событиях — Паралипоменоне Зонары — рассказ о потопе отсутствует [Паралипоменон Зонары 1847]. От сотворения Адама начинается повествование в хронике Иоанна Малалы [Истрин 1897б]; ср.: [Истрин 1994].
Согласно ПВЛ, для истории — в отличие от «пред-исторического» существования среди лесов и рек — характерны персонализм (маркированность именами князей) и линеарное время.
Противопоставление до-исторического (природного) и исторического бытия славяно-русов не равно антитезе «языческого» и «христианского»[384]: Крещение Руси отделено от 852 г. и от 862 г. (призвания варягов) примерно 130 годами. (Впрочем, сами истоки славянской праистории в ПВЛ как бы «христианизированы», отмечены миссией апостола Андрея.) Оппозиция «природа — культура» не равна и оппозиции «до-история — история». Среди славянских языческих племен, живущих как бы «внутри» природного мира, выделяются «кроткие» поляне, соблюдающие брак, слушающиеся старших, гнушающиеся нечистой едой — в отличие от «скотски живущих» «звериным образом» древлян и других племен[385]. Культурные запреты отделяют «человеческое» поведение от «животного». Летописец подчеркивает, что поляне не просто населяли леса (как древляне и другие племена), но «сидели на горах». Здесь можно видеть противопоставление «леса — не-лесу» (горам и т. д.) как дикого пространства — окультуренному, освоенному (так и в Слове о полку Игореве киевские горы противопоставлены половецкой степи). Кроме того, указание на горы как на место обитания акцентирует связь полян с историей: киевские горы, названные по имени Кия и его братьев, «неанонимны», отторгнуты от темного, «беспамятного» природного мира[386].
Своеобразно соотношение оппозиции «языческое — христианское» с оппозицией «природное — культурное». Критерии оценки поступков князей дохристианского времени иные, нежели при оценке христиан. Не осуждаются как греховные ни убийство Игоря древлянами, ни изощренно жестокая месть Ольги, и вообще месть не вменяется в грех[387]. И напротив, христианин Василько Теребовльский укоряется за казни своих гонителей в статье 6605 (1097) г. Коварное убийство Владимиром (еще язычником) его брата Ярополка летописец не обличает, в противоположность братоубийству, совершенному крещеным Святополком в статьях 6523–6527 (1015–1019) гг. Осуждается не Владимир, а воевода Блуд, предавший своего князя Ярополка. Поведение человека дохристианского времени судится не по христианской, а по дохристианской же морали (предательство — великая вина и для язычников)[388]. Мораль (признак «культуры») не тождественна христианской этике. Князья-язычники не осуждаются летописцем; так и Иларион в Слове о Законе и Благодати прославляет власть первых киевских правителей, не обвиняя их в приверженности ложной вере [ПЛДР XVII 1994. С. 606, 608]; ср.: [БЛДР-I. С. 42, 48]. Но не случайно все они — кроме прародителя Рюрика и его братьев — умирают не своей смертью: языческое бытие не упорядочено, таит в себе роковую угрозу.
Человек дохристианского времени может быть наделен прозорливостью, как бы «природной мудростью» и «природной силой». Таковы «природная хитрость» Ольги и «лютость» Святослава, не варящего мяса и спящего под открытым небом. Прозорливость язычника относится к явлениям материального мира: волхв «видит» смерть Олега от коня (статья под 6420 (912) г.), Олег «видит» яд в кубке с вином, поднесенном ему греками (статья под 6415 (907) г.). Знаменателен «природный» характер волшебства мага Аполлония Тианского, повелевающего комарам и птицам (в статье под 6420 (912) г.)[389]. В то же время все пророчества волхвов в христианское время оказываются ложными (статья под 6579 (1071) г.). И напротив, прозорливы монахи: Матвей, «духовным оком» видящий докучающих инокам бесов (статья под 6582 (1074) г.), Феодосий Печерский, прорицающий о погребении жены Яня (статья под 6599 (1091) г.). Интересно, что летописец в двух статьях (912 и 1071 гг.) называет чудеса, совершенные магами-«волхвами» Аполлонием и иными, бесовским наваждением и объясняет их «попущением Божиим». Но лишь в статье 1071 г., основная часть которой относится к русским волхвам христианского времени, прямо подчеркнута «иллюзорность» «мечтанием совершенных» чудес магов[390].
Языческие и христианские пророчествования в ПВЛ оказываются как бы двумя «метаязыками», описывающими реальность и находящимися до известной степени в отношениях «дополнительной дистрибуции» друг к другу: в дохристианские времена и через язычников возвещалась истина, в христианские же — все прорицания волхвов ложны. Конечно же, при этом и рассказы о языческой прозорливости «обрамлены» собственно христианской интерпретацией.
Семантика и структура рассказов об Олеге и Ольге в Повести временных лет[391]
В исследованиях последних лет, посвященных Повести временных лет (далее — ПВЛ), в противоположность доминировавшему в отечественной медиевистике со времен А. А. Шахматова текстологическому подходу (исходящему из понимания ПВЛ как свода, компиляции различных, прежде всего летописных, текстов), высказывается мнение, что мы имеем дело с целостным произведением, обладающим единой структурой и содержащим инвариантные мотивы и образы[392].
Летописные рассказы о киевских правителях Олеге и Ольге обнаруживают значительное структурное сходство при несовпадении семантического наполнения. Безусловно, в определенной мере похожесть этих повествований обусловлена сходством самих событий, ситуаций, участниками которых были князь и княгиня. Тем не менее такое объяснение недостаточно. Во-первых, историческая достоверность ряда известий сомнительна (таковы известие о ладьях русов, поставленных Олегом, осаждавшим Царьград, на колеса[393]; предание о смерти князя от укуса змеи[394]; повествование о мести Ольги древлянам[395]). Во-вторых, показателен сам отбор сведений об Олеге и Ольге в ПВЛ: большинство из них укладываются в рамки одной структурной схемы. Эти соответствия не были отрефлектированы летописцами, не стали предметом метаописания, однако представляется, что их анализ позволит реконструировать историософские воззрения составителей ПВЛ, мифопоэтическую основу летописи[396]. Сама композиция текстов, сходство в событиях имплицитно заключают в себе историософские идеи[397].
Сходство двух летописных повествований может быть порождено, в частности, тождественностью имен князя и княгини: имя «Ольга» (скандинавское Helga) — женский вариант мужского имени «Олег» (скандинавское Helgi)[398]. Обоих киевских князей окружает сакральный ореол, заключенный в имени (Helgi/Helga — «священный (-ая), святой (-ая)»)[399]. Об Олеге под 6415 (907) г. сообщается: «И прозваша Олга — вещий: бяху бо людие погани и невегласи» [ПВЛ. С. 17]. Слово «вещий» в этом контексте «говорило о сверхъестественной силе и знаниях этого князя-кудесника» [Комарович 1960. С. 93]. Сакральная харизма Олега мыслится как ложная, эпитет «вещий» — это означающее, лишенное означаемого. Лжесвятости язычника Олега противопоставлена истинная святость христианки Ольги: она именуется блаженной, в некрологической записи под 6477 (969) г. о ней сказано: «Си бысть предьтекущия крестьяньстей земли, аки деньница предъ солнцемъ и аки зоря предъ светомъ. Си бо сьяше аки луна в нощи, тако и си в неверныхъ человецехъ светящеся аки бисеръ в кале: кальни бо беша грехомъ, неомовени крещеньемь святымь. <…> Мы же рцемъ к ней: „Радуйся, руское познанье к Богу, начатокъ примиренью быхомъ“. Си первое вниде в царство небесное от Руси, сию бо хвалят рустие сынове аки начальницю: ибо по смерти моляше Бога за Русь. <…> О сяковыхъ бо Давыдъ глаголаше: „В память вечную праведникъ будет, от слуха зла не убоится; готово сердце его уповати на Господа, утвердися сердце его и не подвижется“» [ПВЛ. С. 32–33]. Особую значимость этой похвале придает цитата из Евангелия, варьирующая обращение архангела Гавриила к Деве Марии: «Радуйся, обрадованная, Г[оспод]ь с тобою, бл[аго]с[ло]вена ты в женах»[400].
В ПВЛ Олега и Ольгу роднит мудрость. Олег благодаря своей мудрости покоряет Царьград, поставив ладьи на колеса, и прозревает отраву в вине и брашне, преподносимых ему греками, и те в страхе говорят о князе русов как о втором святом Димитрии (летописная статья под 6415 (907) г.)[401]. Ольга убивает древлянских послов, загадывая им обрядовые загадки, — она намеревается предать их смерти, они же превратно прочитывают действия княгини как свидетельства почтения к ним[402]. Проявлением изощренного ума княгини оказывается и «легкая» дань голубями и воробьями, приводящая к сожжению враждебного Искоростеня, и ответ Ольги — уже христианки — императору, позволивший избежать нежеланного замужества. Мудрость Ольги памятна позднейшим поколениям — бояре ее внука Владимира Святославича называют Ольгу: «мудрейши всех человекъ» [ПВЛ. С. 49].
При всем несомненном сходстве мудрость княгини контрастирует с прозорливостью и умом князя-воителя. Олег не может предугадать час своей смерти и горделиво смеется над предсказанием волхва, предрекшего ему гибель от коня[403]. Поведение Олега — гордыня язычника, не знающего смирения. Змея, укусившая Олега, в христианском коде может интерпретироваться как орудие дьявола, завладевшего душой князя-«невегласа» после его смерти[404].
Ольга, напротив, предвидит срок смерти за три дня и смиренно приуготовляется к ней (статья под 6477 (969) г.). Повествование об Олеге и Ольге воплощает оппозицию «неполная, ущербная мудрость Олега — истинная, благодатная мудрость Ольги».[405]
Образы князя-воителя и княгини-вдовы в ПВЛ содержат общий признак — «удачливость в покорении врагов, в овладении чужими городами». Олег сначала с помощью хитрости завоевывает Киев, выманивая за пределы его стен Аскольда и Дира (оцениваемых как мятежники, отложившиеся от законной власти) и пряча своих воинов в ладьях (статья под 6390 (882) г.). При этом завоевание города совершается в пользу малолетнего Игоря, которого Олег показывает Аскольду и Диру, прежде чем предать их смерти. Находчивость Олега способствует победе над греками под Царьградом. Ольга же хитростью овладевает Искоростенем, взбунтовавшимся против законной власти киевских князей. Сражение, открывшее войну с древлянами, символически начал малолетний Святослав, метнув копье между ушей коня (статья под 6454 (946) г.). Различие в деяниях Олега и Ольги заключается в том, что князь-воитель демонстрирует не только ум, но и волю, смелость, а княгиня — именно хитроумие. Военная удачливость Ольги предстает как женская «ипостась» удачливости Олега[406]; направленность военных акций княгини и князя при этом различна: Ольга собирает прежде покоренные князьями-воинами земли (Древлянская земля), Олег завоевывает прежде независимые города (Киев) или воюет в чужих странах (в Византии).
Сходство известий о приходе Олега и Ольги в Царьград, на первый взгляд, ограничивается самим фактом посещения обоими византийской столицы: Олег приходит в Византию как завоеватель, Ольга — как просящая о крещении, как взыскующая истин веры; она сопоставляется с «персонажем» из Священного Писания — с царицей Савской, пришедшей к Соломону. Завоеванию материальных ценностей Олегом соответствует обретение духовных сокровищ Ольгой, уподобляемой святой Елене, обретшей крест Господень (в проложных житиях Ольги эта символическая параллель, содержащаяся в исходном тексте проложного сказания, была неверно истолкована как перенесение русской княгиней креста из Константинополя[407]). Исследователи неоднократно указывали на идентичную модель «сватовство — хитроумный отказ» в повествовании о мести Ольги древлянам под 6453 (945) г. и во фрагменте под 6463 (955) г., посвященном поездке русской княгини в Царьград[408]. Между тем не менее существенны различия двух сюжетов. Отвечая на сватовство древлянского князя Мала, Ольга прибегает к изощренно жестоким убийствам[409], а не только к хитрости; реагируя на предложение византийского императора, она просто демонстрирует проницательность: прозорливо догадавшись о его намерениях, русская княгиня просит царя стать ее крестным отцом, а затем отвечает на его предложение: «Како хочеши мя пояти, крестивъ мя самъ и нарекъ мя дщерею? А въ хрестеянехъ того несть закона, а ты самъ веси» [ПВЛ. С. 29–30]. Не случайно Ольга именно в этом летописном фрагменте уподобляется лицам Священной истории: помимо царицы Савской это Сара (см.: [Чекова 1993. С. 7]).
Но соотношение описания похода Олега на Царьград и путешествия Ольги в Константинополь не сводится к различиям. На более высоком уровне, при абстрагировании от конкретных деталей, военной победе Олега над греками соответствует победа русской княгини над сердцем императора и ее моральная победа над ним. Однако при этом Ольга пренебрегает земными ценностями, властью в великом городе земли — Царьграде: «Цель автора — наглядно противопоставить отношение Ольги к патриарху ее же отношению к царю и извлечь из мудрой политики вещей княгини поучительный пример и образец для всей Руси. <…> Летописец не упускает случая лишний раз отметить, чего именно искала Ольга в Царьграде, — сопоставлением ее с царицею Эфиопскою. Та желала узнать мудрость царя Соломона, мудрость „человеческую“; она же искала Божией премудрости. Не „Соломон“ византийский привлекал ее; в своих исканиях она стремилась в Царьград не к царю, а к самому истинному Богу, ничего не ища у царя»[410].
Различие сюжетов о сватовстве Мала и о сватовстве царя к Ольге обусловлено неодинаковым статусом княгини в обоих историях: с коварной и хитроумной язычницей контрастирует добродетельная и мудрая христианка. От всех остальных правителей языческого времени Ольгу отделяют два признака: гендерный (она единственная женщина среди правителей-мужчин) и конфессиональный (она единственная христианка). И летописная биография Ольги заканчивается иначе, чем истории князей-язычников: все они, кроме стародавних Кия и его братьев и сестры и родоначальника династии Рюриковичей Рюрика и его братьев, умирают не своей смертью. Олег гибнет от укуса змеи, Игоря убивают древляне, Святослава — печенеги, Олег и Ярополк — жертвы междоусобной борьбы[411].
Повествование о княгине Ольге — одна из переломных точек в описании перехода Руси от язычества к христианству. «Киеву была уготована роль „второго Иерусалима“: эту роль он обрел после крещения Руси Владимиром, который сравнивается в летописи с Соломоном, и возведения им Храма — Десятинной церкви. И это — уже сюжет „исторических“ книг Библии <…> и, соответственно, „исторической“ части летописи» [Петрухин 1998 в. С. 94]. Приуготовила Русь к крещению, согласно историософии ПВЛ, именно Ольга. Владимир же соотнесен не только с царем Соломоном, но также с ветхозаветным праотцом Иаковом (у обоих двенадцать сыновей), внуком праведных Авраама и Сарры[412]. Таким образом, имплицитно в ПВЛ устанавливается параллель «Ольга — Сарра» (не случайно эта параллель представлена и в Слове о Законе и Благодати митрополита Илариона, содержащем развернутую историософскую концепцию предназначения и места христианской Руси в мире). История Ольги в ПВЛ — это в отдельных деталях как бы повторение истории Олега и вместе с тем как бы снятие тех изъянов, которые были ему присущи.
Хроника Георгия Амартола и Повесть временных лет: Константин равноапостольный и князь Владимир Святославич
Особенность средневекового историософского сознания — выделение в потоке истории ряда событий, которые воспринимаются как прообразы, архетипы последующих деяний. Символическое значение этих событий проявляется в том, что позднейшие свершения, поступки и происшествия представляются их повторением, отблеском или эхом[413]. Многочисленные примеры соотнесения событий, проявляющиеся в сравнениях деяний правителей прошлого и настоящего, содержит Повесть временных лет (далее — ПВЛ). Наиболее значимые уподобления событиям Священной истории и аналогии с ними обнаруживаются в повествовании о крещении Русской земли князем Владимиром Святославичем. Это естественно, так как крещение для летописца[414] является событием, преображающим Русь, первоистоком ее совершенно новой, христианской истории. Деяние Владимира, согласно отраженным в ПВЛ христианским воззрениям, определяет судьбу Руси — и в этом отношении приравнивается к выбору Константина равноапостольного, просветившего Римское царство Христовой верою[415].
Именование Владимира Святославича новым Константином содержится в некрологической статье летописи под 6523 (1015) г.: «Се есть новый Костянтинъ великого Рима, иже крестивъся сам и люди своя: тако и сь створи подобно ему» [ПВЛ. С. 58]. Это сопоставление проводится уже и в более ранних древнерусских текстах (XI в.): трижды уподобляется русский правитель римскому императору в Памяти и похвале князю русскому Владимиру Иакова мниха [БЛДР-I. С. 320]; сравнивает Владимира с Константином и митрополит Иларион в Слове о Законе и Благодати [БЛДР-I. С. 48].
Параллель «Владимир — Константин Великий», содержащаяся в этих текстах, неоднократно истолковывалась исследователями как формальная, поверхностная. Так, еще М. И. Сухомлинов, сопоставляя версии обращения в христианство императора Константина в Хронике Георгия Амартола и Владимира в ПВЛ, заметил: «Вероятно, чтение хроники или другого подобного ей произведения дало возможность русскому автору сделать такое сравнение своего князя с греческим императором: „се есть новый Костянтин великаго Рима, иже крестивъ ся самъ и люди своя: тако и сь створи подобно ему“ <…>. Но разве только в этом сравнении и выразилось знакомство писавшего о жизни и крещении Владимира с византийскими хронографами. В других же обстоятельствах принятие христианской веры Константином, по описанию Амартола, и св. Владимиром, по описанию летописца, руководимого домашним источником, представляет более различия, нежели сходства, а последнее заключается в самых событиях, а не в их изложении.
И Константин, и Владимир поражены болезнью пред крещением, и исцеляются от нее при совершении таинства; но болезни их различны. <…> Совершенно иначе, как известно, описаны в нашей летописи болезнь и исцеление Владимира» [Сухомлинов 1856. С. 97–98). О поверхностности аналогии «Владимир — Константин» писал спустя более чем сто лет после М. И. Сухомлинова иеромонах Иоанн Кологривов: «В их (княгини Ольги и князя Владимира. — А.Р.) агиографическом образе быть может сильнее всего отражается Константинопольское влияние. Автор, писавший их „похвалу“, подчеркивал у них сходство со святыми императором Константином и матерью его Еленой, из биографий которых он и заимствовал титул „равноапостольных“. Монах Иаков, перу которого принадлежит древнее похвальное слово князю Владимиру и княгине Ольге, называет их даже <…> „новой Еленой“ и „новым Константином“. Но по существу это — всего лишь наивное выражение патриотизма автора, стремящегося показать, что русская земля любима Богом и что она тоже выдвинула христианских князя и княгиню, достойных сравнения с великим Константином и его матерью. Если оставить в стороне эти отдельные религиозные обороты речи, то данный документ показывает нам образ князя, весьма отличный от византийских образов святых императора и императрицы» [Кологривов 1991. С. 64–65].
Такая интерпретация, действительно, имеет определенные основания: безусловно, сходная роль римского императора и русского князя как крестителей своих стран для древнерусских книжников была достаточным мотивом, чтобы провести аналогию между Владимиром и Константином Великим[416]. Подобное же сходство между римским императором и князем Борисом-Михаилом, крестителем Болгарии, позволило константинопольскому патриарху Фотию прибегнуть к уподоблению болгарского правителя Константину Великому: Борис-Михаил, «возносящийся к свету благочестием» и делами, приближается, как пишет Фотий, к Константину, и патриарх призывает князя новокрещенной страны подражать святому императору ромеев в помыслах и намерениях и хранить нерушимой христианскую веру[417]. Однако история крещения Бориса-Михаила и обращения в христианство Константина Великого (ни в версии Евсевия Памфила, ни в версии Константинова жития, отраженной у Георгия Амартола) совсем непохожи.
Таким образом, уподобление древнерусскими книжниками Владимира Константину Великому еще не свидетельствует о сходстве семантики, содержащейся в текстах, посвященных русскому князю и римскому императору. Тем не менее некоторые исследователи пытались ее выявить[418]. Развернутый сопоставительный анализ версии о крещении Владимира, изложенной в ПВЛ (так называемой Корсунекой легенды), и легендарной биографии Константина, представленной в его житии, был проведен недавно М. Б. Плюхановой. Исследовательница пришла к выводу: «Корсунская легенда — сюжет о становлении христианского властителя, имеющий аналогии <…> в самом житии Константина и Елены. Владимир берет город (по мнению Шахматова, Корсунь в легенде — субститут Царьграда), вступает в брак с царевной, крестится, излечивается от болезни. Каждый из этих мотивов является условием другого и символически тождественен любому другому. В житии Константина из всех перечисленных мотивов редуцирован только мотив брака» [Плюханова 1995. С. 120][419]. Развивая мысль М. Б. Плюхановой, М. Н. Виролайнен отмечает изоморфность сюжетов повествования о крещении Владимира и другого рассказа ПВЛ — сказания о завоевании Владимиром Полоцка и о принуждении полоцкой княжны Рогнеды вступить с ним в брак[420]. Между тем сходство историй крещения Владимира и Константина, а также повествований о взятии Владимиром Полоцка и Корсуня является не столь существенным и полным (хотя на глубинном уровне все они — трансформации одной мифологемы).
Сопоставим сначала Корсу некую легенду с рассказом о Константине в составе хроники Георгия Амартола. Предпочтение этого источника житию Константина в данном случае оправданно, так как ПВЛ ссылается именно на Амартола и структура летописного повествования ближе к произведению византийского хрониста; впрочем, рассказ Амартола о Константине восходит к версии жития.
В Хронике говорится о болезни Константина (его тело покрывается струпьями) и о совете «идольекых иереев» для исцеления омыться в купели кровью младенцев. Император отвергает нечестивое «антикрещение» — деяние, достойное второго Ирода. Явившиеся во сне апостолы Петр и Павел указали Константину на некоего Сильвестра («Селивестра», Папу Римского), который излечит его силою «бож[е]ствьнаго и сп[а]снаго источника, въ немьже коупавъея не точью телесное сдравье приимеши, но и д[у]шевное яко паче» [Истрин 1920. С. 331). Епископ Сильвестр крестит Константина в купели, и император излечивается. С божественной помощью, после видения креста, Константин побеждает своего соперника язычника Максенция («Максеньтия»), который тонет в реке. Владимир же выступает в поход нехристианский (принадлежащий Византии) город Корсунь, будучи еще язычником (хотя и задумавшимся о принятии христианства)[421]; он побеждает благодаря помощи корсунянина Анастаса, а не явленной в знамении божественной воле. После падения города Владимир требует отдать ему в жены сестру императоров Василия и Константина и получает согласие при условии принятия им христианской веры; однако и здесь князь медлит, и лишь поразившая его болезнь (слепота) и совет невесты Анны понуждают правителя быстрее креститься. Корсунь же возвращается Ромейской империи в качестве вена[422].
Русский «новый Константин», осаждающий Корсунь, в изображении летописца совсем непохож на победителя Максенция. К крещению Владимира приводит не твердо принятое решение, а цепь внешне случайных и не связанных друг с другом событий. В летописном рассказе под 6494 (986) г. повествуется о приходе к Владимиру болгар-магометан, пытающихся обратить князя в свою веру; затем содержится пространная речь грека (так называемая Речь философа), изложившего русскому правителю учение христиан. Склоняясь к христианству, Владимир, однако же, решает испытать, какая вера лучше. Рассказ об испытании вер внесен в летопись под следующим, 6495 (987) г. Владимир убеждается в превосходстве религии, исповедуемой греками. Летописец не эксплицирует причинно-следственных связей между выбором веры и походом на Корсунь, отнесенным в ПВЛ к 6496 (988) г. Интерпретация этого похода как своеобразного завоевания веры принадлежит исследователям[423]; сам же летописец не раскрывает код, применяемый в повествовании о крещении Владимира. Намерения князя в летописи неясны; он не объявляет ни о принятии новой веры как о цели похода, ни о политических мотивах осады Корсуня, ни о своих матримониальных планах. Требование выдать за него царевну Анну формулируется Владимиром только после падения города. Намерение Владимира благодаря взятию Корсуня облегчить труд религиозного просвещения Русской земли выражено в другом памятнике — в Памяти и похвале князю русскому Владимиру[424]. Но Владимир, по версии Памяти и похвалы, крестился задолго до осады Корсуня; поступки же его в Корсунской легенде не могут быть так истолкованы — здесь князь сам медлит креститься. В этом отношении рассказ об осаде Корсуня резко отличен от повествования о сватовстве Владимира к Рогнеде, которое строится по модели: «сватовство — отказ — взятие города — принуждение к браку»; завоевание Полоцка имеет очевидные причину и цель. Рогнеде, неразумным отказом и насмешкой над «робичичем» Владимиром навлекшей гибель на отца и братьев и повинной в разорении Полоцка, противопоставлена мудрая Анна, браком с Владимиром спасающая Царьград и обращающая язычника в истинную веру.
Роль Рогнеды пассивна: она жертва Владимира, своим отказом пробуждающая в нем ярость и жестокость; роль Анны — деятельная: она спасительница, наставница русского князя в вере. Подобным образом и блудник язычник Владимир, муж Рогнеды, контрастирует с Владимиром-христианином, супругом Анны.
Отказ летописца от объяснения поступков Владимира, по-видимому, не случаен. Побуждения Владимира укрыты тайной, не названы, ибо для повествователя сама ситуация его обращения таинственна и неизъяснима; но за необозначенными смутными мыслями и чувствами князя угадывается божественная, провиденциальная воля, ведущая к неведомой Владимиру цели. В отличие от неоспоримого торжества победителя христианина[425] Константина над Максенцием победа язычника Владимира над Корсунем неоднозначна. Город сдается Владимиру благодаря помощи русскому князю корсунянина Анастаса: ни мужество осаждающих, ни доблесть их предводителя, ни божественное покровительство Владимиру в рассказе ПВЛ не отмечены; победа не является доблестной, в отличие от описанных ранее походов Владимирова отца Святослава. Принятие христианства воплощается в «завоевании трофеев» новой веры: Владимир переносит из Корсуня и передает в кафедральный храм Руси — Десятинную церковь — мощи святого Климента, епископа Римского[426], и его ученика Фива. Перенесение мощей святого Климента в религиозном сознании Киевской Руси, несомненно, осознавалось как установление символического преемства по отношению к Риму (не как к столице империи, но как к святому апостольскому городу) и римской епископии. Свидетельством тому является и созданное в XI или в XII в.[427] Слово на обновление Десятинной церкви[428], и поставление в митрополиты Климента Смолятича в 1147 г. «главою с[вята]го Климента» без хиротонии Константинопольского патриарха[429]. О значимости «римского наследия» для Киевской Руси свидетельствует и ПВЛ. Рим занимает центральное место в описании пути «из Варягъ в Греки и изъ Грекъ по Днепру» и через «море Варяжьское» к Царьграду. Рим упоминается и в летописном рассказе о путешествии апостола Андрея, который и проходит путь «изъ Грекъ по Днепру» и далее [ПВЛ. С. 8–10].
Соседство имен Владимира Святого и Климента Римского в Корсунской легенде, по-видимому, порождало новые смыслы: устанавливалась соотнесенность «Климент — Владимир». В переводном житии Климента[430] и в Слове на обновление Десятинной церкви (первая часть которого — текст жития римского первосвященника во второй редакции — см.: [Карпов 1992]) повествуется о том, как язычник Сисин, подозревавший свою жену Феодору, что она изменяет ему с Климентом, врывается в храм, где служил святой, но по воле Божией теряет зрение и слух. По прошению Феодоры Климент исцеляет Сисина, а апостол Петр, явившийся Феодоре, сообщает: «тебе ради целъ былъ Сисинъ, да збудется реченное братомъ моимъ Павломъ Алостоломъ: святится мужь неверенъ женою верною, и се рекъ, отъиде» [Слово на обновление 1992. С. 103]. Покаявшийся муж-язычник становится христианином.
Язычник Сисин слепнет, когда пытается схватить святого Климента, язычник Владимир слепнет после захвата Корсуня и промедления в исполнении обета креститься. Исцелению обоих помогают женщины-христианки — жена Сисина Феодора и невеста Владимира Анна.
Подобные параллели (и противопоставления) содержатся в рассказе об обретении Климентом Римским воды возле Корсуня и в повествовании о Владимире, лишающем корсунян воды. Климент, сосланный в Корсунь, находит там две тысячи христиан, страждущих в каменоломнях от недостатка воды (чтобы добраться до воды, нужно было пройти шесть поприщ). «И тогда абие святый Клименть рече имъ, глаголя: помолимъ Господа Иисуса Христа, да исповедникомъ вере его источникъ воду отверзше и прорази камень въ пустыне Синайстей, и потекоша воды до избыток; то и намъ обильну воду подасть, да веселимся о подаянии его. Егда скончаша молитву и възревъ на десную нашу руку, узре агнець стоящь, яко показая место Клименту; тогда блаженный отець нашъ Клименть и блюстель разуме Господа суща, егоже инъ никтоже не виде, но точию в тъ самъ приступляй рече, во имя Отца и Святаго Духа, ударите въ се место, и начаша копати около нь на месте, идеже стоя агнець. Тогда святый Клименть вземъ матычицу малу и легъкъ ударивши то самое место, еже бе подъ ногою агнецу, и ту источникъ искыпе и проливаниемъ краснымъ потече; тогда святый Клименть всемъ радующимся притчу рече: речная устремление веселять Божий [град. — конъектура публикатора А. Ю. Карпова. — А.Р.]» [Слово на обновление 1992. С. 105–106].
Таким образом, христианин святой Климент дарует томящимся корсунским христианам воду[431], язычник Владимир, напротив, лишает христиан Корсуня воды. Но затем эта оппозиция снимается, и на высшем, символическом уровне функции Климента и Владимира оказываются сходными: римский епископ благодаря чуду открывает для корсунян источник земной воды, Владимир погружает крещаемых русских в воду крещения. Вода в повествовании о святом Клименте соотнесена с агнцем как символом Христа, Днепр, в водах которого крестятся киевляне, напоминает об Иордане, в котором был крещен Спаситель. В тексте Корсунской легенды Владимир как бы последовательно переходит от «амплуа» конснеющего в ложной вере язычника, второго Сисина, к «роли» крестителя и просветителя наподобие Климента Римского.
Мирским символом победы и для Владимира, и для летописца были, по-видимому, две медные статуи и четверка медных коней, вывезенные князем из Константинополя и поставленные возле Десятинной церкви. Е. Е. Голубинский усматривал в этом деянии Владимира своеобразный символический «жест» князя-просветителя [Голубинский 1997. Т. 1. Первая половина тома. С. 719–720]. Однако едва ли допустимо представлять себе новокрещенного князя X в. по аналогии с Петром I адептом античной культуры, стремящимся создать на Руси светское искусство. Недавний язычник, наставленный в новой вере, Владимир мог осознавать античные статуи только как профанных двойников славянских языческих богов — и водружение корсунских статуй в Киеве должно было осознаваться именно как акт десакрализации идолов и как знак торжества христианства. Не случайно воздвижение корсунских статуй сопровождалось, как рассказывается в погодной статье ПВЛ под 988 г., поруганием славянских богов. Скульптуры из-за необычность материала (меди, вместо привычного для киевлян дерева) и облика порождали недоуменное и отталкивающее чувство.
В то же время статуи были трофеями, знаками победы, подобно константинопольской квадриге, перевезенной в Венецию после взятия в 1204 г. византийской столицы крестоносцами и украсившей портал собора Сан-Марко. Медные кони, увезенные Владимиром, могли метонимически означать триумф над самим Царьградом, если русский князь видел в них сходство с константинопольской квадригой[432].
Воздвижение Владимиром статуй в Киеве в контексте повествования Хроники Георгия Амартола о деяниях Константина воспринимается как своеобразное подражание римскому императору, как imitatio Constantini. Константин, «обновивъ градъ Оузантии, древле създана Визомь, ц[е]с[аре]мь Тракисьскымь», воздвиг «кумиръ, егоже принесе от С[о]лнча града Фригыискыя страны. <…> Прельстишас[я] же некыя несмысльныя простьца ни, паче реши, неуметеля не сушу ему единокаменьну» [Истрин 1920. С. 339]. Константин-христианин, ставший полновластным правителем империи, градостроитель и «обновитель» Византии, сходен с Владимиром-христианином, украсившим новыми зданиями Киев. Статуи, поставленные русским князем, напоминают дивный столп, воздвигнутый римским императором. Похоже и отношение константинопольских и киевских невежд к этим памятникам: русские считают медные скульптуры мраморными, а ромеи не верят, что Константинова колонна является цельнокаменной.
Военная победа Владимира амбивалентна. Она оказывается и поражением князя-язычника, наказанного слепотой, и высшей, духовной победой крещения. Двойственность проявляется и в образной структуре повествования о крещении Владимира и Руси: одни и те же образы входят в различные семантические ряды и приобретают контрастирующие смыслы. Нехватка воды в осажденном Корсуне (русские, перекопав трубы, «преяша воду. Людье изнемогоша жажею и предашася» [ПВЛ. С. 50]) — причина падения христианского города и победы язычника Владимира; это «обыкновенная» вода, явление природного, феноменального мира. Но и торжество христианства символизируется водной стихией; однако вода на сей раз не в недостатке, а в изобилии и воплощает сакральное, трансцендентное начало. В днепровской воде священники крестят киевлян: «Влезоша в воду, и стаяху овы до шие, а друзии до персий от берега, друзии же младенци держаще, свершении же бродяху, попове же стояще молитвы творяху. И бяше си видети радость на небеси и на земли, толико душь спасаемыхъ <…>» [ПВЛ. С. 53]. Крещение — центральное событие в повествовании о Владимире; внешне сходные предметы и «персонажи» (актанты), описанные в эпизодах, предшествующих и последующих крещению, образуют контрастные пары. Таковы не только вода, питающая корсунян, и вода, в которой крестятся киевляне, но и Рогнеда (единственная названная по имени жена Владимира-язычника) и Анна (жена Владимира-христианина), роль которых в повествовании уже была охарактеризована выше.
Таким образом, повествование о крещении Владимира в ПВЛ серьезно отличается от воплощенной в Хронике Георгия Амартола версии обращения Константина. В греческой хронике изображается чудесная победа христианина Константина над язычником Максенцием, торжество Креста. «Константиновская легенда» оказалась продуктивной моделью при описании принятия христианства варварами. Согласно Истории франков Григория Турского, обращению в христианство правителя франков Хлодвига предшествовала победа над язычниками-алеманами; Хлодвиг не крещен, но он обещает стать христианином, если выиграет битву, и после победы исполняет обет. Григорий Турский именует Хлодвига «новым Константином». Но крещение изображено и как победа Христовой веры над гордыней языческого властелина[433].
Составители ПВЛ были лишены возможности подражать «Константиновой легенде», поскольку рассказывали о язычнике, побеждающем христиан[434]. Невозможность воплощения в повествовании о Владимире этой модели была, однако, воспринята летописцем не как стесняющее ограничение, но как побуждение к созданию семантически неодномерного, многозначного текста. История крещения Константина оказалась не отброшена, а трансформирована.
И Константин у Георгия Амартола, и Владимир в ПВЛ изображаются как восстановители единства страны: Владимир отбирает Киев у старшего брата Ярополка, Константин завоевывает территории, принадлежавшие его соправителям. Уподобление Владимира Константину и символическая соотнесенность двух властителей поддерживаются тезоименностью римского императора брату царевны Анны, одному из двух соправителей-василевсов, с которыми благодаря своему христианскому новому браку породнился русский князь[435]. Прослеживается также и сходство между событиями, происходившими в Римской империи после прихода к власти сыновей Константина и на Руси после кончины Владимира. В обоих случаях начинаются междоусобицы: Святополк, занявший Киев, убивает братьев Бориса, Глеба и Святослава и изгоняется Ярославом Мудрым; после смерти Константина «трие с[ы]нове его обладаша Римьскою и Гречьскою страною, въстокомь владяше Костянтинъ, западомь же Коньстантинъ и Костя, и оубивъ брата своего Костянтина, и ц[а]рствова единъ <…>, и оубьенъ быс[ть] народомь» [Истрин 1920. С. 352]. Но на Руси Ярослав восстанавливает порядок и продолжает христианское просвещение Руси (об этом рассказывается в летописной статье под 8545/1037 г.[436]). Сын же Константина Констанций, уже единоличным властителем, «въ Арьянскыи оумъ впадъ» (с. 357), стал еретиком, отступником от христианства. После смерти Констанция в империи, — рассказывает хроника Амартола, — произошло еще одно отступление от христианской веры: Юлиан, став императором, отринул христианство и реставрировал язычество. Послевладимировская Русь в изображении ПВЛ не знает ничего подобного. Правда, братоубийца Святополк в летописи несомненно уподоблен Юлиану: оба «нечестивца» гибнут в пустыне, и их гибель является божественным возмездием[437]; оба — племянники равноапостольных правителей (Святополк, по словам летописца, на самом деле сын Ярополка, а не Владимира). Но все же злодеяния Святополка не являются возвращением к языческой вере[438]. Христианство в ПВЛ побеждает на Руси бесповоротно при крещении страны Владимиром; и после его смерти новой вере ничто не угрожает. В изображении летописца уклонений, отступлений от христианской веры Русь (в отличие от послеконстантиновской Римской империи) не знает.
Предложенная здесь интерпретация повествования ПВЛ о крещении Владимира может быть оспорена с двух различных позиций. Во-первых, в исследовательской литературе встречаются утверждения, что летописный образ Владимира не соответствует агиографическому «канону», что русский князь изображен лицемерным, лукавым, непостоянным и лишенным воинской доблести[439]. Наиболее отчетливо это мнение было выражено недавно А. С. Деминым. Он утверждает, что Владимир «христианскую веру <…> принял, исходя из своих языческих вкусов, а не по наитию свыше — это обстоятельство летописец раскрыл вполне ясно. Владимир вовсе не был исконно предрасположен к принятию православия, но первоначально он даже склонялся к мусульманству <…>. В разных верах Владимира как язычника интересовала прежде всего внешняя, физическая сторона: что положено есть и пить, как обращаться с женщинами и в особенности — богослужение народов» [Демин 1998. С. 75]. Обвиняет А. С. Демин русского князя и в том, что Владимир «использовал предателя» Анастаса для взятия Корсуня [Демин 1998. С. 76].
На мой взгляд, это прочтение не учитывает смыслов древнерусского текста, является его «модернизацией». Если бы летописный рассказ о крещении Владимира содержал предосудительные сведения о князе, он неизбежно бы подвергся переработке в идеализирующем духе. Но этого не случилось, потому что образ Владимира-христианина в ПВЛ лишен негативных черт. Готовность русского князя последовать совету корсунянина Анастаса не бросает тени на самого Владимира, и само это событие имеет скрытый провиденциальный смысл, так как приводит князя к Богу. Владимира оттолкнул от ислама запрет на винопитие и привлекли картины «похоти блудной» в мусульманском раю, но восторг русских перед восточным христианством был вызван не этими низменными соображениями, а небесной красотой богослужения. «Низкому» вызову ислама в летописи соответствует такой же чисто чувственный отклик Владимира, но в случае с христианством эти соображения отсутствуют. Исследователь не учитывает, что в ПВЛ Владимир, беседующий с посланцами из Булгарии, и Владимир, внимающий речи греческого философа, — это не один и тот же человек.
Другое возражение против изложенной мною интерпретации рассказа ПВЛ о взятии Корсуня и крещении Владимира может иметь текстологические основания. Повествование летописца о Владимире содержит очевидные противоречия и нестыковки: речь философа убеждает Владимира в превосходстве греческого христианства над другими верами, но Владимир почему-то медлит креститься; поход на Корсунь изначально никак не связывается с желанием князя принять крещение и выглядит немотивированным; столь же неожиданно и обещание Владимира принять крещение в случае удачи плана, предложенного Анастасом. А. А. Шахматов, проанализировавший эти противоречия в статьях ПВЛ за 986–988 гг., пришел к выводу, что Корсунская легенда — относительно поздний текст, впервые включенный в Начальный свод 1093 г. и вытеснивший более ранний рассказ о крещении Владимира на Руси, соответствующий известиям Памяти и похвалы Иакова мниха. Первоначальный вид Корсунской легенды, по мнению А. А. Шахматова, достаточно полно сохранили так называемое житие Владимира особого состава, известное в Плигинском списке XVII в., и особое проложное житие, существовавшее по крайней мере с XV в. (известна рукопись этого времени)[440]. В житии особого состава «поход на Корсунь связывается со сватовством Владимира: оскорбительный отказ Корсунского князя имеет следствием насилование добываемой невесты. Очевидно, составитель жития пользовался мотивом, данным в одной из былин о сватовстве князя Владимира» ([Шахматов 1906. С. 61]; ср.: С. 62). В реконструированном А. А. Шахматовым тексте Корсунской легенды («Памяти благовернаго великаго кънязя Владимира, иже крьсти Русьскую землю святымь крьщениемь, нареченаго въ святемь крыцении Василия») поход на Корсунь вызван отказом корсунского князя, к дочери которого сватался русский князь. По этому тексту, Владимир берет Корсунь благодаря варягу Жьдьберну (соответствующему Анастасу ПВЛ), насилует княжну и затем убивает ее родителей, сватается к греческой царевне, но медлит с крещением и слепнет[441], а его тело покрывают струпья; крестившись и исцелясь, он возвращается на Русь с мощами Климента и Фива, возвращая город империи как вено за царевну Анну [Шахматов 1906. С. 110–120]. В завершении этого текста Владимир сравнивался с Константином: «Сии есть новый Констянтинъ великаго Рима, иже крьстися самъ и люди своя крьсти» [Шахматов 1906. С. 119].
Реконструированный А. А. Шахматовым текст содержит намного меньше общих черт с «Константиновой легендой» Хроники Георгия Амартола, чем версия Корсунской легенды, изложенная в ПВЛ. Владимир ведет себя вплоть до самого крещения как одержимый страстями жестокий и похотливый язычник, и аналогия с римским императором в этом случае становится поверхностной. Однако гипотеза А. А. Шахматова небесспорна. Прежде всего, как заметил Н. И. Серебрянский, не доказано утверждение, что известия, встречающиеся в тексте жития особого состава и в тексте особого проложного жития, древнее XIV–XV вв.: «беллетризованный» легендарный рассказ мог быть создан в это время, а не в XI столетии. В тексте ПВЛ, как он полагает, отражены две версии крещения Владимира, но из этого не следует, что текст Корсунской легенды в обоих житиях ближе к архетипу, чем летописный текст под 988 г. [Серебрянский 1915. С. 69–78, 1-я паг.][442].
Не доказан исконный характер в Корсунской легенде сообщения о сватовстве Владимира к княжне и о надругательстве над нею. Реконструированный А. А. Шахматовым текст содержит дублировку: Владимир сватается дважды (сначала к княжне, затем к царевне Анне), что информативно избыточно. Осада Корсуня никак не связана с желанием жениться на греческой царевне, которое остается столь же произвольным и неожиданным, как и в ПВЛ. Наконец, гипотеза о составе Корсунской легенды в свой черед основана на другом предположении — на гипотезе о былине, посвященной сватовству Владимира к царевне Анне.
Но главное, противоречия в рассказе ПВЛ о принятии христианства Владимиром могут объясняться не компиляцией двух разных текстов (Древнейшего свода с дополнениями Никона, с одной стороны, и первоначальной версии Корсунской легенды, с другой), как считает А. А. Шахматов, а стремлением согласовать два реальных факта. Вот как Д. Оболенский предлагает разрешить противоречие между содержащимися в летописи намеками на крещение Владимира еще на Руси в 987(?) г. (прямо об этом сказано в Памяти и похвале Иакова мниха) и рассказом 988 г. о принятии князем христанства в Корсуне: «ввиду того, что данные источников противоречат друг другу, нельзя с уверенностью утверждать, стал ли он (Владимир. — А.Р.) христианином еще на Руси, <…> или был крещен год или два спустя в Херсоне накануне своей свадьбы, как о том рассказывается в „Повести временных лет“. Возможно, эти две версии удалось бы примирить друг с другом, если предположить, что Владимир еще до Крымской кампании предпринял предварительные и, по-видимому, чисто церемониальные шаги на пути к христианству, в то время как полностью таинство крещения было совершено над ним в Херсоне. <…> Крещение в два этапа было не в диковинку у скандинавов того периода»[443].
Впрочем, эта интерпретация разноречивых известий о крещении Владимира небесспорна: «Византийская богослужебная практика не предусматривает столь длительного срока между оглашением и крещением, однако полностью исключить такую возможность в отношении Владимира, видимо, нельзя. Однако и это предположение не снимает противоречия между летописью и „киевской“ версией, поскольку летопись свидетельствует также и об оглашении Владимира в Корсуни. Кроме того, как я попытался показать выше, источники не дают достаточных оснований для утверждения о крещении князя Владимира именно в Корсуни» [Карпов 1997. С. 245, примеч.].
Подход А. А. Шахматова, при всех блестящих достижениях, основан на презумпции ясности и непротиворечивости исходного текста; при этом неувязки и разногласия в рамках одного текста объясняются соединением в нем нескольких источников. Компилятивный текст предполагается заведомо более противоречивым, чем произведение не компилятивное, причем при анализе памятника текстолог руководствуется собственными представлениями о том, что именно является противоречием. Между тем странности и неувязки в повествовании ПВЛ о крещении князя Владимира могут проистекать из желания летописца согласовать две версии о крещении русского князя (известные древнерусскому книжнику, возможно, не из письменных, а из устных источников) и из стремления этого автора выстроить повествование по модели «Константиновой легенды».
Уподобление русского князя римскому императору было особенно значимым в период киевского княжения самого Владимира и его сына Ярослава Мудрого, когда планировка и храмовое строительство «матери городов русских» стали подражать константинопольской топографии и архитектуре [Лебедев 1995. С. 287–293] и «тем самым крещение Руси уподобляется обращению Империи, а стольный град князя Владимира уподобляется Царь грату[444] и принимает от него вместе с крещением (а быть может, и вместе с реликвией Честного Креста) также и ореол Святого Города» [Акентьев 1995. С. 79]. В эту эпоху «в зданиях, живописи и словесности, благодаря своим архитекторам, художникам и книжникам, Ярослав умудрился (contrived) перенести в Киев ауру Константинополя» [Franklin, Shepard 1996. P. 214].
Повествование хроники Георгия Амартола о принятии христианства Константином и о судьбе христианской религии при его ближайших наследниках составляет для ПВЛ и образец, и фон, на котором очевидны не только общность, но и различия двух текстов.
Житие Феодосия Печерского: традиционность и оригинальность поэтики
Мнение о высоких художественных достоинствах и о своеобразии Жития Феодосия Печерского (далее — ЖФ), написанного киево-печерским монахом Нестором, утвердилось еще в науке XIX века. «Искусно и пространно составил <…> Нестор <…> „Житие преп. отца нашего Феодосия игумена Печерского“. <…> Указано много сопоставлений и применений из различных греческих житий, какие Нестор внес в свой труд о жизни Феодосия. Тем не менее труд этот имеет неоспоримые историко-литературные достоинства: он знакомит нас с бытом, с нравами, с воззрениями той отдаленной эпохи, довольно отчетливо обрисовывает высокий нравственный облик Феодосия и вместе с тем касается в связи с жизнью Феодосия жизни его современников, истории Печерского монастыря», — писал П. В. Владимиров в 1901 г. [Владимиров 1901. С. 190]. «Несомненно, что Житие Феодосия имеет значительные литературные достоинства <…>; хороший язык (т. е. хорошо выдержанный церковно-славянский стиль), толковое и по местам занимательное изложение, сравнительно немного того „добрословия“ и „плетения словес“, которое так претит при чтении позднейших житий, — это всё дает нашему Житию выдающееся место в ряду однородных произведений», — заметил Д. И. Абрамович [Абрамович 1902. С. VII–VIII]. «Сила и авторитет литературной традиции в творчестве Нестора значительны; но он умеет и чужое пересказать по-своему ярко, живо, с новыми художественными деталями.<…> Нестор был писатель не только начитанный; он умел критически пользоваться своими литературными источниками, сочетая их с устными преданиями и легендами. Он строил крупные целостные композиции, сочетая занимательность с нравоучительными задачами» [Бугославский 1941. С. 331). По характеристике И. П. Еремина, Житие Феодосия — «наглядный показатель высокого уровня, которого художественная повествовательная проза древней Руси достигла уже во второй половине XI в.» [Еремин 1961. С. 63].
Эти утверждения (разделяемые, впрочем, не всеми учеными[445]) по-своему парадоксальны. Мастерство Нестора бесспорно, однако не раскрыто сколь бы то ни было полно никем из ученых, исследовавших поэтику ЖФ. В качестве индивидуальных черт и достоинств ЖФ обычно назывались детальность и предметность описаний и нетрадиционная психологическая характеристика матери Феодосия, не соответствующей житийному трафарету благочестивой и праведной родительницы святого[446]. Не касаясь справедливости всех предложенных наблюдений[447], нужно заметить, что они не объясняют в полной мере высоких оценок и не касаются структуры памятника в целом (неожиданный образ матери Феодосия и тщательно выписанный бытовой фон — всё-таки второстепенные элементы этого текста). Сравнительно недавние исследования ЖФ также ограничиваются анализом лишь отдельных приемов или фрагментов произведения Нестора. Так, Й. Бёртнес, настаивая на жесткой структурированности жития, показал лишь симметричность расположения основных мотивов (молитвы к Богу, самохарактеристики Нестора, прославления Руси, формулы самоуничижения агиографа, второй молитвы) во вступлении и сходство вступления с заключением в тексте Нестора; Й. Бёртнес также указал на некоторые семантические связи вступления, заключения и повествовательной части ЖФ [Bortnes 1967]. Е. В. Душечкина подробно проанализировала принципы изображения Феодосия, позицию (прежде всего пространственную) автора и рассказчиков-очевидцев по отношению к святому, показав значимость для Нестора дистанции между повествователем и Феодосием, внутренний мир которого остается для агиографа закрытым (в последнем случае исследовательница развивает наблюдения И. П. Еремина) [Душечкина 1971]. Глубокие замечания об особенностях структуры текста были высказаны недавно в большой работе В. Н. Топорова «Труженичество во Христе (творческое собирание души и духовное трезвение). Преподобный Феодосий Печерский и его „Житие“» [Топоров 1995. С. 601–870]. Однако автор уделил, вслед за Г. П. Федотовым [Федотов 1990. С. 52–66], преимущественное внимание анализу своеобразия святости Феодосия и воссозданию его духовного портрета, во многом отказавшись от строго научного анализа текста (что и позволило сделать проницательные выводы о святости и личности печерского игумена).
Неоспоримы признаваемые всеми исследователями соответствие ЖФ (за малыми исключениями, к числу которых обычно относят прежде всего образ матери Феодосия) агиографическому канону и ориентация Нестора на переводные греческие жития и патериковые рассказы[448]. Для древнерусской словесности характерны традиционность, подчинение автора определенным литературным канонам[449]. Однако следование житийному канону в таком высокохудожественном произведении, как ЖФ, должно быть творческим; в равной мере и обращение Нестора к греческой агиографии должно проявляться не в простых заимствованиях, но в переосмыслении включаемых в текст фрагментов из житий-образцов. Между тем своеобразие поэтики ЖФ в целом раскрыто совершенно недостаточно: не проанализирована его структура как единого текста, не истолкованы параллели с греческими житиями[450].
Традиционалистский характер древнерусской словесности, доминирование канона над индивидуальным началом заставляют предполагать, что своеобразие этих текстов проявляется в первую очередь не в нарушении канонических правил, но в варьировании элементов в рамках канона[451]. Семантика «жанра» преподобнического жития в главном неизменна, устойчива (святость главного персонажа, путь святого к Богу), а индивидуальное начало текста проявляется преимущественно не в плане содержания, а в плане выражения. Одно и то же содержание передается с помощью различных кодов. Помимо событийного ряда, это надстраивающиеся над ним символико-метафорические ряды, придающие тексту дополнительную целостность и упорядоченность[452].
Применение по отношению к древнерусской словесности (в том числе и к агиографии) понятия «заимствование» является не вполне корректным. В литературе Нового времени наиболее распространенный случай заимствования — это цитирование. Цитата — своеобразный знак знака: она указывает не только на свой денотат, но и отсылает к своему исходному контексту, подключая его смыслы, указывает на свое место в цитируемом тексте, является его знаком[453]. В древнерусской словесности текстуальные заимствования далеко не всегда выступают в роли цитаты, отрываясь от исконного контекста и превращаясь в топос. Так, именование Феодосия Печерского — «по истине земльныи анг[е]лъ и н[е]б[е]с[ь]ныи ч[е]л[о]в[е]къ»[454] — как известно, восходит к переводному Житию Саввы Освященного, написанному Кириллом Скифопольским[455]. Но в ЖФ это определение функционирует скорее не как отсылка к Житию Саввы, но как оторвавшаяся от своего контекста клишированная формула[456]. Не являются цитатами и бесспорно установленные переклички с Житием Саввы Освященного и с Житием Евфимия Великого. Наречение имени Феодосию священником и акцентирование Нестором семантики имени святого в греческом языке — «данный Богу» («прозвутеръ же видевъ де[ти]ща и с[ь]рдьчьныма очима прозьря еже о немь, яко хощеть из млада Богу дати ся, Феодосиемь того нарицають» — с. 73, л. 27а-27б) соответствует обыгрыванию имени «Евфимий» (от грен, euthymia — «утешение») в Житии Евфимия и «Феодосий» в Житии Феодосия Великого [Лённгрен 2001–2004. Ч. 3. С. 241–241, л. 145 об., с. 25, л. 4 об.]. При этом и Нестор, и Кирилл Скифопольский, и составитель Жития Феодосия Великого подчеркивают смысл монашеских имен двух Феодосиев и Евфимия, рассказывая о рождении святых, хотя русский подвижник при крещении был назван другим, мирским именем (ср.: [Топоров 1995. С. 798–799, примеч. 7]). Мотив «не пекитесь о завтрашнем», восходящий к евангельскому речению Христа (Мф. 6:34), объединяет ЖФ с обеими агиобиографиями, написанными Кириллом Скифопольским (Феодосий, Савва и Евфимий велят инокам при недостаче пищи не заботиться о ней, положившись на помощь Бога). Детально сходны описание смерти Евфимия и Феодосия: оба заранее знают час своей кончины, толпа народа, сошедшаяся к монастырю, мешает погребению, пока ее не разгоняют или она не расходится (см.: [Абрамович 1902. С. 167, 173]).
Однако эти параллели не являются ни цитатами, ни заимствованиями в собственном смысле слова. Прежде всего, общий для ЖФ и житий Евфимия и Саввы мотив недостачи пищи и увещевание святого на заботиться о земном встречаются и в других агиобиографиях. Кроме того, соотнесение этих совпадающих эпизодов ЖФ и житий, составленных Кириллом Скифопольским, практически не порождает нового «сверхсмысла», который возникает при цитировании. Перед нами не цитирование, а совпадение проявлений святости, хотя генетически указанные фрагменты ЖФ восходят к названным житиям палестинских святых[457]. Функция параллелей и перекличек с греческими агиобиографиями не цитатная; весь текст Нестора соотносится с греческими житиями как вариантами мыслимого единого текста. При этом переклички с житиями Саввы Освященного и Евфимия Великого, которые бесспорно знал Нестор, могут восприниматься как отсылки и к другим переводным греческим агиобиографиям, содержащим аналогичные эпизоды[458]. Греческая агиография функционирует в ЖФ как образец, к которому стремится приблизиться Нестор (а святые подвижники, описанные в этих житиях, являются образцами для самого Феодосия). Одновременно греческие жития образуют фон, оттеняющий своеобразие ЖФ и духовного пути Феодосия. На фоне парадигмы преподобнического жития, заданной, в частности житиями Саввы Освященного и Евфимия Великого, отчетливее вырисовывается путь к Богу Феодосия — путь и сходный, и иной. Роль своеобразного фона по отношению к ЖФ играет и греческая агиография в целом. При этом не столь важен вопрос о знании Нестором того или иного конкретного жития (тем более что парадигма пути святого в различных житиях часто сходна). Важнее другое: читатели естественно и неизбежно воспринимали повествование о печерском игумене в сравнении с агиобиографиями великих греческих святых. ЖФ может соотноситься с неограниченным кругом агиобиографий, посвященных святым одного с Феодосием чина — преподобным. Однако Феодосий для Нестора — не только печерский игумен, но и основатель русского монашества: «Вящии прьвыхъ о[ть]ць яви ся житиемь бо подражая с[вя]тааго и пьрвааго начальника чьрньчьскууму образу: великааго меню Антония <…>. Сего же Х[ристо]съ въ последьниимь роде семь такого себе съдельника показа и пастуха инокыимъ» (с. 72, л. 26в). Поэтому для Нестора естественны прежде всего параллель «Феодосий — Антоний Великий» (Антоний — основатель египетского монашества и иночества в целом) и параллели «Феодосий — Евфимий Великий» и «Феодосий — Савва Освященный» (Евфимий и Савва — основатели палестинского общежительного монашества, идеал которого был усвоен Феодосием)[459].
Житие Антония Великого, написанное Афанасием Александрийским, рисует иной, нежели ЖФ, путь к Богу. Движение Феодосия, странствие в мире заканчивается с приходом в пещеру Антония Печерского. Феодосий-монах по-своему ближе к миру, чем Феодосий-мирянин: в мирской жизни общение святого с людьми ограничивается матерью, «властелином» города Курска и священником, у которого некоторое время Феодосий обитает. В качестве монаха и игумена он наставляет и помогает неизмеримо большему числу мирян: обретя божественную помощь и благодать, Феодосий возвращается в «мир», чтобы приблизить его к Богу. Иной случай рисует Афанасий Александрийский: Антоний Великий — вечный беглец от «мира». Он неоднократно меняет место своего отшельничества, всё более и более удаляясь от людей. Его кратковременный выход в «мир» связан с экстраординарной ситуацией — необходимостью защитить христианское вероучение от арианской ереси. Назидания Антония связаны с его исключительным визионерством, со способностью знать тайны жизни и видеть искусительную силу дьявола. В то же время Житие Антония обнаруживает и некоторые общие мотивы с ЖФ: его, как и Феодосия, обращают к Богу евангельские слова, которые они слышат в церкви. Конечно, это агиографический топос, но наличие этого эпизода всё же выделяет Житие Антония среди греческих агиобиографий, соотнесенных с произведением Нестора. Оба жития сближает также мотив добровольной готовности святого на мученическую жертву: Антоний в период гонения на христиан при императоре Максимине приходит в Александрию, чтобы принять смерть за Христа; Феодосий «многашьды въ нощи въстая и отаи вьсехъ исхожааше къ жидомъ и техъ еже о Х[рист]е препирая, коря же и досажая темъ и яко отметьникы и безаконьникы техъ нарицяя. Жьдаше бо, еже о Х[ристо]ве исповедании убиенъ быти» (с. 119, л. 57а). Перекликаются описание прихода Феодосия в Киев и рассказ о странствии Антония во «внутреннюю пустыню». И Антоний, и Феодосий не знают дороги к месту, куда должны направиться (Печерский монастырь и оазис в пустыне станут местом, где будут подвизаться оставшуюся жизнь и египетский отшельник, и русский инок). Антонию велел идти во «внутреннюю пустыню» божественный голос. Антонию же гл[агол]ющоу: «Да кто ми покажет путь, не искоусенъ бо есмь о немъ». Абие въскоре показа ему срацины, хотяща ити поутемъ темъ. Поиде къ нимъ Антоние и, приближившися, моляшеся с ними в пустыню ити, тии же аки от повелениа промысленаго въ пустыню приаша его. И, шед три дни и три нощи с ними, прииде въ гору высоку[460].Феодосию невольно помогают в пути купцы, за которыми он тайно идет в Киев. Путь русского святого и легче, и труднее путешествия Антония: Феодосию нет нужды бояться иноплеменников и иноверцев, но он опасается собственной матери, которая может нагнать юношу и вернуть домой; странствие Антония длится три дня, путешествие Феодосия — три недели (число в обоих случаях обладает символическими коннотациями): «И тако оустрьми ся къ Кыевоу городоу, бе бо слышалъ о манастырихъ ту соущиихъ. Не ведыи же поути, моляше ся Богу, да бы обрелъ съпоутьникы направляюща и на поуть желания. И се по приключаю Божию беша идоуще поутьмь те коупьци на возехъ съ бремены тяжькы. Оуведевъ же я бл[а]женыи яко въ ть же градъ идоуть, прослави Б[ог]а. И идяшеть въ следъ ихъ издалеча, не являя ся имъ. И онемъже ставъшемъ на нощьнемь становищи, блаженыи же не доида, яко и зьреимо ихъ, ту же опочивааше, единомоу Богоу съблюдающю и. И тако идыи трьми неделями, доиде преже реченааго» (с. 79, л. 31а).
Несходство ЖФ и Жития Антония не менее значимо, чем близость: два произведения реализуют различные парадигмы, несхожие и сходные пути к Богу. Более тесно связано ЖФ с житиями Саввы Освященного и Евфимия Великого. Эта связь скрыто указана Нестором уже во вступлении: древнерусский агиограф сообщает о себе как об авторе двух житий — Чтения о Борисе и Глебе и самого ЖФ: «Бл[а]г[о]дарю тя, Вл[а]д[ы]ко мои, <…> яко съподобилъ мя еси недостоинааго съповедателя быти с[вя]тыимъ Твоимъ въгодникомъ. Се бо испьрва писавъшю ми о житие и о погублении и о чюдесьхъ с[вя]тою и бл[а]женою страст[о]трьпьцю Бориса и Глеба, понудихъ ся и на другое исповедание приити <…>» (с. 71, л. 26а). Также и Кирилл Скифопольский во вступлении к Житию Саввы Освященного говорит о себе как об авторе двух житий (при этом Житие Саввы названо, как и повествование о Феодосии в ЖФ, вторым, после Жития Евфимия): «Благословен Богь и отець Господа нашего Иисуса Христа, възустивый васъ о благонравии соверъшеннемъ, повелети моему художеству, въписавше послати богоугоднаа жития древле бывшея нашею отьцю Еуфимиа и блаженнаго Саввы, иже и мне, окаанъному, по неизъглаголанъному его милосердию словесную кормлю подавъ во отверзение усть моихъ» [Житие Саввы Освященного 1901. Стлб. 444]. Таким образом, и Нестор, и Кирилл представляют себя как авторы двух житий, причем более поздние сочинения — ЖФ и Житие Саввы — связывают не только эти аналогичные указания, но и прямая отсылка к Житию Саввы, встречающаяся в рассказе о «световом» чуде над Печерским монастырем. Возможно, именно соответствием друг другу обоих более поздних произведений Нестора и Кирилла объясняется эта отсылка именно к Житию Саввы (а не к Житию Евфимия Великого, содержащему больше параллелей с ЖФ). И Нестор, и Кирилл прибегают к традиционным для житийного текста «формулам самоуничижения», но в отличие от ЖФ, в котором «неразумие» и «грубость» автора неизменно противопоставлены мудрости Феодосия, в Житии Саввы Освященного отмеченные во вступлении «грубость» и «невежество» Кирилла преодолены чудом, которое дарует автору Жития высшую мудрость: Кириллу являются Савва с Евфимием, и Евфимий по просьбе Саввы «кыстцей» из «корчажца» трижды омочил уста Кирилла, который после этого обрел дар книжной мудрости. У Нестора граница между агиографом и святым остается непреодоленной (он вообще более склонен подчеркивать дистанцию между собою и Феодосием).
Исследователи неоднократно указывали на сходство рассказа ЖФ о приходе Феодосия к Антонию и повествования Жития Саввы Освященного о приходе Саввы в монастырь Евфимия: и Антоний, и Евфимий отказываются постричь пришедших в монахи[461]. Однако сходство это чисто внешнее: Евфимий отказывает Савве, веля ему идти в другую обитель к игумену Феоктисту, и Савва с радостью исполняет его повеление. Отказ Евфимия имеет промыслительное значение: «Се же убо не бес[ъ] смотрения творяше великый Еуфимий, но прозрачныма очима прозря всемь Палестиньскыимъ ошелцемъ архиманъдриту быти ему, не токмо же се, но и великую и славную лавру, вящьшую всехъ Палестиньскых лавръ, собрата хотяща <…>» [Житие Саввы Освященного 1901. Стлб. 453]. Но и монастырь, где он был пострижен, Савва покидает спустя какое-то время, ибо в нем не соблюдался устав. В ЖФ Антоний отказывает Феодосию, желая лишь испытать твердость его решения. Старец «прозорчьныма очима прозря, яко ть хотяше възградити самъ место ть и манастырь славьнъ сътворити на събьрание множъствоу чьрньць» (с. 80, л. 316). Феодосий после решения стать монахом в Киеве интимно связан с Печерской обителью, и его приход к Антонию не случаен. Вообще, всё, что происходит с Феодосием в житии вслед за решением уйти в Киев, глубоко провиденциально; случайное, неверные решения (прежде всего, желание удалиться в Святую землю) остались в прошлом. Встреча с Антонием — переломное событие в жизни Феодосия, не менее значимое, чем его крещение и наречение имени. Оба эпизода в ЖФ сближает мотив прозревания святости, богоизбранности Феодосия: божественный Промысел о Феодосии сначала открывается крестившему его пресвитеру, затем — Антонию.
Мотив вмешательства родственников, желающих вернуть святого в мир также перекликается с Житием Саввы: в ЖФ это мать святого, в Житии Саввы — родители. Сходны в двух произведениях и эпизоды, рассказывающие о тайных молитвах и подвигах святых вне монастыря, и рассказы о чудесной помощи обителям Саввы и Феодосия Печерского в получении недостающей пищи, и забота о мире, о нищих и страждущих (Савва просит царя об облегчении бремени, наложенного на жителей Иерусалима, Феодосий заступается за обижаемую судьей женщину и т. д.).
Прямая отсылка к Житию Саввы содержится в рассказе о чудесном видении Феодосия. Некий христолюбец видит ночью «светъ <…> пречюденъ тъкъмо надъ манастырьмь блаженааго. И се яко възьревъ, виде преподобьнааго Феодосия въ свете томь посреде манастыря предъ ц[е]рковию стояща, роуце же на н[е]бо въздевъшю и м[о]л[и]твоу к Б[ог]оу прилежьно творяща. <…> И се ино чюдо явльше ся тому: пламень великъ зело, от вьрьха ц[е]рк[о]вьнааго ишьдъ и акы комара сътворивъ ся, преиде на другыи хълъмъ и ту темь коньцьмь ста. <…> И се же пакы подобьно есть рещи, еже яко пишеть ся таково о с[вя]темь и велицемь Саве. Се бо въ едину нощь тако же тому шьдъшю ис келия своея и молящю ся и, се показа ся тому стълъпъогньнъдо н[е]б[е]сесущь. Таче по томь, якожедошьдъ места того, и обрете въ немь пещероу. И ту тако въ мало дьни и сътвори манастырь славньнъ. Тако же и сьде разумевати есть Б[ог]оу назнаменавъшю место то, еже яко видети есть манастырь славьнъ на месте томь <…>» (с. 117–118, л. 55 г—566). Однако «огненное чудо» в Житии Саввы отличается от видения некоего боголюбца в ЖФ. Савва пребывает в страхе и трепете, оказавшись вблизи «дома Божия», его чувства передает агиограф. Нестор последовательно ведет повествование с пространственной и психологической точки зрения[462] других, но не самого Феодосия, а здесь также описывает созерцание чуда не самим святым, но «посторонним». Кирилл Скифопольский, напротив, дает видение огненного столпа с пространственной и психологической точки зрения Саввы [Житие Саввы Освященного 1901. Стлб. 462–463]. Кроме того, в Житии Саввы Освященного чудо, вопреки сообщению Нестора, — не божественное знамение-указание святого места, где будет основан монастырь: ко времени чудесного явления обитель уже была отстроена, а огонь указывает на место, где сокрыта богосозданная пещера-храм. В ЖФ чудо в большей мере обладает функцией знамения-свидетельства о месте, где Бог велит воздвигнуть храм: новая Печерская церковь была заложена именно там, где было указано высшей волей.
Житие Саввы и ЖФ различаются по характеру чудотворения: и палестинский, и русский игумены изгоняют бесов, но Савва также и превращает оцет (уксус) в вино, открывает в пустыне водный источник, повелевает дикими животными (львами). Феодосий в большей мере, нежели Савва, — созерцатель, а не творец чудес: большинство чудес в его житии — это умножение или обретение пищи в монастыре, совершаемое Богом, но не самим Феодосием.
На фоне Жития Саввы более очевидна «потаенность» святости Феодосия (все совершаемые в житии чудеса — кроме изгнания бесов — посмертные). Е. Л. Конявская заметила, что это разграничение является искусственным, поскольку если в житии есть чудеса, то святой жития всегда в конечном счете их творец [Конявская 2004. С. 87–88, примеч. 45]. Это справедливо, хотя и неудачно выражено (в конечном счете творцом чудес всегда признается Бог, даже если их «инициатором» и явным «субъектом» был святой). Но справедливо только на очень высоком уровне абстрагирования от конкретного текста, а такого абстрагирования я как раз и избегал.
ЖФ сближает с Житием Саввы Освященного чудесный мотив — пение, богослужение, совершаемое небесными силами в затворенной церкви. Но прежде всего оба жития объединяют парность и троичность центральных «персонажей». У Кирилла Скифопольского Савва выступает в паре то с Евфимием Великим, то с Феодосием Киновиархом, при этом Кирилл особенно подчеркивает взаимную любовь Саввы и Феодосия Киновиарха [Житие Саввы Освященного 1901. Стлб. 521]. Имя в средневековой культуре, и в частности в агиографическом тексте, не конвенционально, а символично; символично и провиденциально и совпадение имен двух святых. Любовь Саввы и Феодосия Киновиарха как бы прообразует духовную близость Саввы и его последователя — Феодосия Печерского. Феодосий также выступает в ЖФ в паре то с Никоном (взаимная любовь Никона и Феодосия подчеркнута Нестором), то — видимо, вопреки историческим реалиям[463] — с Антонием. Все три подвижника также упоминаются в одном общем контексте: «И бе видети светила три соуща въ пещере разгоняща тьму бесовьскоую молитвою и алканиемь. Меню же преподобнааго Антония и бл[а]ж[е]нааго Феодосия и великааго Никона. Си беша въ пещере моляще Б[ог]а, и Б[ог]ъ же бе съ ними: иде бо, рече, 2 или трие съвъкоуплени въ имя мое, тоу есмь посреди ихъ» (с. 83, л. ЗЗв).
В сравнении с палестинскими обителями Жития Саввы описанный в ЖФ Киево-Печерский монастырь исполнен преизбыто-чествующей святости: три великих палестинских подвижника пребывают в разных монастырях, троица русских иноков — в одном, при этом их связывает преемственность: Антоний основывает обитель, Феодосий ее обустраивает, Никон спустя время после кончины Феодосия также возглавит монастырь. Феодосий одновременно и сопоставлен с Никоном и с Антонием, и противопоставлен им по признаку неизменного пребывания в Печерском монастыре: и Антоний, и Никон на какой-то срок покидают монастырь, и лишь Феодосий неизменно остается его насельником.
Помимо уподобления Феодосия прославленным греческим святым — Антонию Великому и Савве Освященному, в тексте ЖФ, включенном в Киево-Печерский патерик, он сопоставляется также с тезоименитым ему палестинским подвижником, другом Саввы Феодосием Киновиархом: «близьствене еже своему тезоименитому Феодосию Ерусалимскому архимандриту: сбысть бо ся и о сем. Сиа бо оба равно подвижно поживше и послужиста владычици Богоматере, равно и възмездие от тоя рожшагося въсприимше и о нас молятся непрестанно къ Господу, о чадех своих» [Абрамович 1930. С. 21].
Параллелей ЖФ с Житием Феодосия Киновиарха не столь много. Феодосий Печерский благодаря огненному чуду определяет место для строительства нового храма; Феодосий Киновиарх находит место для своего монастыря, обходя пустынные места с кадилом, в которое вложены погасшие угли; место, где разгораются угли в кадиле, опознается им как святое и истинно угодное Богу. Святость и предназначение Феодосия прозревают крестивший его священник и Антоний Печерский; богоизбранность Феодосия Киновиарха открывается святому Симеону Столпнику, издалека приветствующему юношу словами: «Человече Божий, Феодосие» и прорекающему ему великое пастырское служение [Житие Феодосия 1910. Стлб. 569]. Феодосий Печерский обличает неправду князя Изяслава, изгнавшего брата; Феодосий Киновиарх наставляет царя Анастасия, уклонившегося в ересь, истинам христианской веры. Обоих святых отличают акцентированный кенозис, самоуничижение в подражание Христу. Оба заранее знают о часе своей смерти. Однако значительнее не совпадение, а различие ЖФ и Жития Феодосия Киновиарха: Феодосий Печерский в отрочестве пытался уйти в Святую землю, но не преуспел в этом, ибо Бог предназначал ему стать великим подвижником в Русской земле[464]. Феодосий Киновиарх, «помысливъ ити во Иерусалимъ <…>» [Житие Феодосия 1910. Стлб. 568], преуспел в своем намерении. Соотнесение двух житий рождает дополнительный смысл: Феодосий Печерский — это как бы Феодосий Киновиарх, но совершающий подобное иерусалимскому святому в Русской земле согласно высшему предназначению.
Соотнесенность ЖФ с житиями Антония Великого, Саввы Освященного, Евфимия Великого[465], Феодосия Киновиарха объясняется тем, что все эти святые представлены в житиях как основатели монашества (Феодосий Печерский на Руси, Антоний — в Египте, Савва, Евфимий и Феодосий Киновиарх — в Палестине).
Литературный фон и духовный контекст ЖФ образует также и Житие Феодора Студита: Феодор — настоятель Студийского монастыря и составитель его устава, а именно Студийский устав был введен Феодосием в Печерском монастыре. Кроме того, имена Феодосия и Феодора семантически почти тождественны.
Общих мотивов в их агиобиографиях не столь много, и они по существу являются топосами. Оба святых исключительно успешно постигают книжное учение; оба «начальники и учители» в своих монастырях. Но ЖФ и Житие Феодора Студита роднит также особое самоуничижение святых, вызванное стремлением уподобиться Христу. Феодор, как и Феодосий, помнит о Боге, принявшем облик раба, а потому и сам «въ рабий смиренный облечеся образ»[466]. В еще большей мере связывают оба жития видения, свидетельствующие о смерти святых. В переводном Житии Феодора Студита рассказывается о монахе Иларионе, которому было явлено видение души Феодора, встречаемой ангельскими чинами. В ЖФ рассказывается о том, как князь Святослав увидел огненный столп над монастырем и понял, что это видение означает смерть Феодосия[467]. Через соотнесенность Феодосий предстает как русский Феодор Студит.
Исследователи неоднократно указывали на сходство эпизода ЖФ, рассказывающего о приходе матери к Феодосию, и Жития Симеона Столпника: и Феодосий, и Симеон отказываются встретиться со своими матерями [Абрамович 1902. С. 153], [Федотов 1990. С. 60]. Однако, при внешнем сходстве, смысл этих эпизодов в ЖФ и в Житии Симеона Столпника различен. Мать Симеона, упав со стены ограды, умирает, и лишь улыбка мертвой во время молитвы Симеона о ее душе говорит о будущей встрече матери и сына в иной жизни[468]. Феодосий же, понуждаемый Антонием, выходит к матери и беседует с нею. Он убедил мать стать монахиней, обещая в этом случае видеться с нею. Симеон полностью изолирует себя от мира, он даже покидает монастырь, избрав столпнический подвиг. Феодосий же озабочен обращением матери к Богу и не лишает ее — при пострижении в монахини — встреч с сыном. Он не отгорожен от «мира», он привносит в «мир» христианские начала.
Сопоставление ЖФ с переводными византийскими агиобиографиями показывает, что путь Феодосия к Богу несколько отличается от парадигм, воплощенных в греческих образцах Нестора; ЖФ само становится парадигмой для позднейшей древнерусской агиографии. В то же время оно содержит почти полный набор элементов, характерных для житийного «жанра» как такового и сравнительно редко в полном объеме встречающихся в одном тексте. Феодосий — аскет; устроитель монашества; мудрец, одаренный книжным знанием; обличитель неправды «мира» (осуждение князя Святослава, изгнавшего старшего брата); защитник и проповедник христианства в спорах с иноверцами (прения с иудеями); заступник за обиженных; прозорливец; победитель бесов. Такие мотивы соотносят ЖФ с чрезвычайно широким кругом житий (так, обличение властителя роднит его с Житием Иоанна Златоуста — обличителя неправедной царицы Евдоксии). Это не случайно: ЖФ — по-видимому, первая агиобиография первого русского преподобного. Феодосий для Нестора — не только основатель русского монашества, но и святой, равнодостойный всем великим греческим святым; и Нестор стремится изобразить святость Феодосия максимально полно, как выражение самых различных типов святости. ЖФ выступает как бы в роли словаря мотивов для всей последующей русской агиографии.
ЖФ отличает от переводных византийских житий, образующих его литературный и духовный контекст, значительно более жесткая структурированность. Ряд эпизодов в нем соединен в триады и выражает символику Святой Троицы. Жизнь Феодосия связана с тремя городами — Василевым, Курском и Киевом, и пребывание в каждом из этих локусов имеет провиденциальный смысл[469]. Феодосий трижды пытается покинуть материнский дом, и только третья попытка оказывается успешной. Три события наиболее значимы в духовном пути святого к Богу: крещение и наречение имени, евангельские слова, которые Феодосий слышит в церкви, обращающие его мысль к монашескому служению, приход к Антонию и пострижение. Три посмертных чуда Феодосия описаны в житии. Кроме истории прихода Феодосия в монастырь, в ЖФ содержатся рассказы еще о двух монахах, Варлааме и Ефреме, которые, как и Феодосий, вынуждены преодолеть сопротивление — запреты родственников и князя.
Центральное повествование — собственно жизнеописание Феодосия — четко разделяется на две основные части. Первая часть — это история прихода святого в пещеру преподобного Антония, обретение им места в мире, предназначенного Богом. Феодосий пытался уйти с паломниками в Святую землю, но был насильственно возвращен матерью; затем он покинул родной дом и удалился в другой город к священнику, но был также понужден вернуться. И лишь третья попытка оказывается удачной — ибо она соответствует божественному замыслу о Феодосии: он становится печерским монахом и основателем русского монашества. Нестор прямо подчеркивает провиденциальный смысл неудачной попытки Феодосия уйти в Святую Землю: «Бл[а]гыи же Богъ не попусти емоу отити отъ страны сея, его же ищрева матерьня и пастоуха быти въ стране сей бо[го]гласьныихъ овьць назнамена, да не пастоухоу оубо отшьдъшю да опоустееть пажить юже Б[ог]ъ благослови, и тьрние и вълчьць въздрастеть на ней, и стадо разидеть ся» (с. 76, л. 28 г).
Устремленность святого в первой части ЖФ — от мира к Богу. При этом мир, в лице матери (а в конечном итоге — дьявола), препятствующий святому в его намерениях, одновременно враждебен Феодосию и неведомо для себя как бы благожелателен. Мать Феодосия, противящаяся уходу святого из дома, оказывается орудием в руках Господа. Переезд семьи Феодосия из Василева в Курск удаляет святого от священного центра Русской земли — Киева (Курск расположен на значительно большем расстоянии от столицы) и от будущего Печерского монастыря, одним из основателей которого Феодосий станет. И в то же время это событие неведомым образом, не в географическом, но в духовном пространстве, его к Киеву приближает: именно в Курске придет к Феодосию мысль посвятить себя Богу, именно отсюда он отправится в «стольный град».
Провиденциальный смысл переселения в Курск подчеркнут Нестором: «Быс[ть] же родителема бл[а]женаго преселити ся в инъ градъ Коурьскъ нарицаемыи, князю тако повелевъшю, паче же рекоу — Богоу сице изволивъшю <…>» (с. 74, л. 27в).
Но хотя в первой части агиобиографии мир невольно исполняет божественный замысел, осуществление Феодосием своей третьей, угодной Богу, попытки ухода совершается так же, как и прежние поступки, вопреки материнской воле: Феодосий уходит из мирского пространства в сакральное, преодолевая препятствия. Заметим, что этот мотив преодоления препятствий утроен не только в повествовании о самом Феодосии, но и в рассказах о Ефреме и Варлааме — первый постригается в монахи вопреки воле князя, второй — вопреки воле отца. Во второй части ЖФ Феодосий, напротив, неоднократно исходит в мир, чтобы обратить живущих в нем к Богу и восстановить попранные благочестие и правду. Таковы прения с иудеями, ради обличения веры которых он по ночам покидает монастырь. Эти «выходы» из обители напоминают попытки Феодосия покинуть родной дом: действие также происходит ночью; противление воле матери грозит Феодосию побоями, а споря с иудеями, он ожидает от них смерти. В то же время три ухода из дома контрастируют с прениями, так как противоположно направлены — в первом случае это бегство из мира, во втором — выход в мир (но по существу — увещевание живущих в миру). Покидает Феодосий монастырь и ради наставительных бесед с князьями Изяславом и Святославом; причем Святослава он укоряет за изгнание брата и за любовь к игрищам. Символически из монастыря в мир исходят и слова Феодосия: послания Святославу, просьба к судье поступить по справедливости с притесняемой женщиной.
Границей между двумя частями ЖФ оказывается сцена прихода матери к Феодосию, когда она требует от сына покинуть пещеру Антония. В этой «пороговой ситуации» духовного поединка сына и матери, монастыря и мира побеждает Феодосий. Он не возвращается в мир, мать же сама становится монахиней. В дальнейшем враждебные святому и Печерской обители люди (разбойники), проникая в монастырь, не наносят ему урона, но приходят к покаянию и так оказываются побежденными.
Сам Феодосий у Нестора не удаляется далеко из обители, ни разу не уходит в другие монастыри и земли. В этом он отличен не только от Антония и Никона, но и от Варлаама и Ефрема, пришедших в монастырь после него. Не случайно в финале ЖФ говорится о монастыре и об исключительном значении именно Феодосия в благоденствии обители: «И тако умножаше ся место то бл[а]годатию Божиею и м[о]л[и]твы ради с[вя]т[а]го нашего Феодосия» (с. 133, л. 66в).
Первая и вторая части ЖФ соотносятся друг с другом и композиционно. Если у первой части есть единый сюжет — попытка Феодосия уйти из грешного мира и посвятить себя Богу — и есть два протагониста — сам Феодосий и его мать, — то вторая часть состоит из ряда относительно самостоятельных эпизодов.
Однако на высшем смысловом уровне эта оппозиция снимается. Прежде всего, это совершается в тексте посредством самого имени святого. В начале ЖФ повествуется о наречении имени Феодосию при крещении. Как неоднократно замечали исследователи (в частности, Е. Е. Голубинский [Голубинский 1997. Т. 1. Вторая половина тома. С. 574, примеч. 1]), Нестор, по-видимому, подменяет мирское имя Феодосия именем, данным при пострижении в монахи. (Предположение, что при принятии монашеского сана на Руси в XI веке могло сохраняться мирское имя, труднодоказуемо.) Таким образом, Феодосий изначально уже при крещении предстает символически печерским игуменом и великим святым (Нестор обыгрывает семантику имени: «Феодосий» по-гречески — «данный Богу»).
В ЖФ развернуто несколько семантических рядов, в основе которых лежат метафоры или символы. Первый ряд объединяет мотив полета. Феодосий, «окрилатевъ же оумъмь, оустрьми ся к пещере» (с. 80, л. 316) Антония. (Сам Киев и Печерский монастырь в древнерусском культурном сознании были противопоставлены как горное место равнине[470]). В житии неоднократно описываются чудеса, связанные с вознесением в небо: отрывается от земли в небо печерский храм, сохраняя монахов от нападения разбойников; в сиянии над обителью некий боголюбец видит Феодосия; огненный столп над монастырем возвещает князю Святославу смерть святого. С деяниями Феодосия в тексте связывается прежде всего и выход монахов из пещер на поверхность земли, и строительство Успенского храма. Приуроченное к строительству нового храма видение божественной службы, в которой участвуют ангелы в образах Феодосия и других монахов, как бы связывает небо и землю.
Другой семантический ряд в житии является реализацией метафор «Феодосий — солнце», «Феодосий — светильник» и воплощает символ света: видение ангелов в образах Феодосия и монахов, несущих зажженные свечи и идущих от старой церкви к новой и упомянутые видения молящегося Феодосия и огненного столпа.
Еще один семантический ряд связан с символикой хлеба, прежде всего литургического — просфоры — и работы на ниве Господней: Феодосий в юности трудился на ниве с рабами (в этом эпизоде воплощена евангельская метафора последователей Христа — работников на ниве Господней); он помогал священнику, приготовляя тесто для просфор. Как рассказывает Нестор, святой видел в этом особенный смысл, о чем и поведал матери: «<…> Егда Г[оспод]ь нашь Иис[ус]ъ Х[ристо]съ на вечери възлеже съ оученикы своими, тъгда приимъ хлебъ и бл[а]гословивъ и преломль, даяше оученикомъ своимъ, глаголя: „Приимете и ядите, се есть тело мое, ломимое за вы и за мъногы въ оставление греховъ“. Да аще Г[оспод]ь нашь плъть свою нарече, то кольми паче лепо есть мне радовати ся, яко съдельника мя сподоби Г[оспод]ь плъти своей быти» (с. 77, л. 29в-29 г). Феодосий пек просфоры, «съ радостию<…>, съ мълчаниемь и съ съмерениемь» (с. 77, л. 296) принимая укоризны и поношения. Как замечает Нестор, «се же тако Богоу изволивъшю, да проскоуры чисты приносять ся въ ц[е]ркъвь Божию от непорочьнаго и несквьрньнааго отрока» (с. 77, л. 296).
О хлебе и вине (причем о вине именно в связи с литургией) затем неоднократно рассказывается в ЖФ — в эпизодах, повествующих о недостаче муки и вина в обители и об их чудесном обретении. Феодосий-игумен заботится о духовном окормлении, пренебрегая попечением о хлебе для насыщения тела, и Господь питает его обитель (в большинстве чудес с умножением пищи речь идет именно о хлебе). Эта семантическая цепь сплетена с другой, выражающей литургическую символику (рассказ о приготовлении Феодосием просфор перекликается с чудом об обретении вина для литургии и с чудом — наказанием за нарушение завещания Феодосия вкушать праздничный хлеб в пятый день первой недели Великого поста: сладкий хлеб в этом рассказе соотнесен с хлебом литургическим). В переводных греческих житиях, в которых содержатся чудеса с умножением пищи — например, в Житии Саввы Освященного — этих литургических коннотаций нет.
Своеобразным ядром текста является пространная молитва Феодосия-игумена, следующая за рассказом о переселении монахов на поверхность земли и концентрирующая инвариантные мотивы ЖФ (оставление родителей и служение Богу, плач и пост, путь к Господу).
ЖФ также строится на принципе преодоления времени, временного плана бытия. Феодосий еще при крещении именуется не мирским, а монашеским именем. Путь его уже как бы состоялся в иной, высшей реальности.
Таким образом, текст жития, вопреки утверждениям некоторых ученых о его фрагментарности[471], относительно последовательно стуктурирован. Нестор варьирует различные приемы, чтобы выразить святость Феодосия; многообразно украшает текст, создавая ощущение его искусности и совершенства.
История в Слове о полку Игореве: «старые» и «нынешние» князья
Проблема «история в Слове о полку Игореве» может быть рассмотрена в двух аспектах. Первый — политические идеи и симпатии автора (авторов?), его оценки и характеристики русских князей разных кланов — Ольговичей, Мономаховичей, Всеславичей; второй — представления об истории, «историософия», свойственные Слову. Если в первом случае выявляются личные склонности и оценки автора, которые могут отличаться от политических симпатий других древнерусских книжников, то во втором — все обстоит иначе. Осмысление истории средневековым человеком (в том числе и писателем) не было глубоко индивидуализированным; допустимо предположить, что анализ Слова с этой точки зрения обнаружит видение истории, характерное для средневекового сознания, точнее — присущее князьям и княжескому окружению (первоначальной сферой бытования памятника был, вероятно, именно дружинно-боярский круг); «церковное» осмысление истории, отразившееся в летописях, составлявшихся монахами, и/или в житиях, может оказаться несколько иным.
Попытки охарактеризовать политические идеи и симпатии автора Слова предпринимались неоднократно, в том числе в специально посвященных этой теме работах[472]. Независимо от адекватности конкретных интерпретаций, само количество исследований косвенным образом свидетельствует о возможности подобного подхода к тексту. Хуже — с анализом исторических представлений, «картины истории» в Слове о полку Игореве. Непосредственно в этом отношении памятник почти не изучался (одно из исключений — статья Ю. М. Лотмана «„Звонячи в прадѣднюю славу“» [Лотман 1993], в которой некоторые особенности средневекового исторического мышления продемонстрированы на примере сказания об Игоревом походе). Историческое видение автора привлекало внимание ученых в связи с решением других задач: анализом поэтики Слова или политических идей.
Эта ситуация имеет серьезные причины. Во-первых, не прояснены многие исторические (исторические ли?) реалии, упоминаемые в произведении: кем был Боян? Кто такой Троян и где находится «земля Трояня»? Что такое «время бусово»? и т. д. Во-вторых, не вполне понятны общий смысл памятника и его структура. Как сравнительно недавно заметил Б. М. Гаспаров, нам неизвестен литературный контекст Слова и, следовательно, его структура: в этом случае исследователь может приписать структурообразующее значение таким элементам, которые, по замыслу составителя Слова, этой функции не выполняли. Одновременно интерпретатор Слова, вполне вероятно, не принимает во внимание целый ряд действительно значимых элементов памятника. Иначе говоря, исследователь может навязать тексту структурные особенности и смыслы, которых тот (с точки зрения исторической) лишен [Гаспаров 2000. С. 5–9].
Указанная сложность усугубляется тем, что текст Слова обладает тем не менее, как особенно ярко показали работы Б. М. Гаспарова и Т. М. Николаевой[473], очень высокой организованностью. Характерно, однако, что формальная упорядоченность остается неясной с точки зрения семантической функции. Так, очевидно, что битвы Олега, Всеслава и поход Игоря сопоставлены по признакам «кровопролитности», «мятежности/несанкционированности» и, отчасти, «неудачности» (ср., напр.: [Лотман 1993]); более глубинная семантическая связь прослеживается с трудом. Столь же несомненно, что возвращение Игоря из плена, метафорически представленное исходом из «царства мертвых» [Демкова 1980. С. 58–108], зеркально соответствует походу: в походе стихии моря враждебны русичам и «поддерживают» половцев, выступающих в зооморфном или орнитоморфном обличии; но эти же стихии активны в момент бегства князя, причем как бы инициируют его поступок. Игорь бежит из плена, оборачиваясь горностаем, гоголем, волком, подобно Всеславу (ранее волки символизировали враждебное Игореву войску начало), и соколом; а половцы Гзак и Кончак, напротив, выступают в антропоморфном облике[474]. Таким образом, переклички отдельных семантических характеристик и даже целых их «пучков» очевидны. Но внутренний, сущностный смысл этих сопоставлений остается скрытым: мотивировка «превращений», претерпеваемых Игорем, отчасти уясняется с помощью «мифологического» кода: «поле незнаемое» — иной мир, исход из которого возможен через амбивалентное умирание/воскресение. Некоторые трансформации персонажей и аналогии не раскрываются, впрочем, даже при таком прочтении (антропоморфизация Гзака и Кончака, перемена морских и грозовых стихий, сближение Игоря с князем-оборотнем Всеславом). Иногда, при прозрачности семантической связи, неясен выбор элементов, реализующих эту связь. Например, бегство Игоря из плена является, конечно, следствием плача-заклинания стихий Ярославной [Сапунов 1962. С. 321, 327]; но помощниками князя в возвращении на Русь выступают не ветры, солнце и Днепр, к которым обращалась княгиня, а «сморци», море и Бог (отдельный вопрос — является ли заклинание Ярославны чисто поэтическим приемом или сохраняет магическую функцию)[475].
Структура памятника порождает либо мифологические, «мифопоэтические» смыслы, либо чисто окказиональные внутренние значения. В этом отношении Слово больше напоминает «авангардистский» (в широком понимании) текст, нежели древнерусские сочинения.
Свойственная древнерусским произведениям семантика, пожалуй, никогда не носит окказионального, внутритекстового характера и достаточно легко переводится на естественный язык. Симметрические построения и аналогии являются при этом реализацией однозначных семантических инвариантов. Кроме того, смысл памятников имманентен описываемым в них историческим событиям, а не только косвенно соотнесен с ними, как в Слове (показательны сравнения с летописными повестями, Задонщиной или Сказанием о Мамаевом побоище).
Слово на этом фоне выглядит загадочным не только в отдельных фрагментах — «темных местах», но и по существу. Не случайна тщетность попыток определения жанровой принадлежности памятника. Известное утверждение Д. С. Лихачева о близости произведения к эпическим, героическим поэмам (chansons de geste) [Лихачев 1972. С. 72–75] не согласуется с особенностями его поэтики; в эпических поэмах невозможны ни прерывания временной последовательности событий, ни отказ от развернутых детальных описаний ключевых эпизодов, ни замена таких описаний намеком, отсылающим к внетекстовой исторической реальности (ср. также наблюдения И. П. Еремина и Д. Ворта [Еремин 1987. С. 235–281]; [Ворт 1988. С. 38–41]). Определение И. П. Ереминым жанра Слова как жанра светского торжественного красноречия, как похвалы князю [Еремин 1987] также противоречит природе произведения: черты похвалы в тексте немногочисленны и как бы «случайны»; по структуре он ближе к нарративным, сюжетным сочинениям. Составление похвального сочинения в воспоминание о неудачном походе кажется невозможным. Кроме того, мы не знаем других образцов этого жанра, современных Слову (с позднейшими же произведениями, Словом похвальным инока Фомы о князе Борисе Александровиче и др., «трудная повесть» XII в. не имеет ничего общего). Характеристика одного «неизвестного» (Слова о полку Игореве) с помощью другого («светского похвального слова») едва ли удачна.
Теоретически анализу текста в этом аспекте должно предшествовать решение нескольких задач:
1. Признание или непризнание памятника сочинением XII в. В настоящее время большинство исследователей, как известно, придерживается мнения о подлинности Слова[476].
2. Признание или непризнание дошедшего до нас текста аутентичным (то есть лишенным пропусков, перестановок, механических вставок). Из современных исследователей мнение о значительной дефектности текста отстаивает Б. А. Рыбаков, предложивший радикальную перестановку большей части фрагментов и дополнивший Слово о полку Игореве текстом Слова о погибели Русской земли, написанного совершенно в иной стилевой манере[477]. В результате таких перестановок последовательность эпизодов упорядочивается хронологически, однако структура произведения не становится более прозрачной. Столь существенная переработка не может быть оправдана гипотезой о «перепутанных страницах».
3. Выбор подхода к Слову как к жанрово цельному произведению или как к сочинению, совмещающему фрагменты произведений разных жанров (устной песни об Игоре, песен Бояна и их «литературной обработки»). В этом случае «неясность» и «загадочность» произведения может быть отчасти объяснена как следствие трансформации устного сочинения в письменный текст. Признание сложного состава произведения приводит к более осторожным суждениям о его структуре и семантике.
Такое мнение представляется предпочтительным. Как справедливо отмечал Б. М. Гаспаров, исследователь обречен восстанавливать структуру Слова на основании самого памятника, хотя эта операция достаточно рискованна [Гаспаров 1984. С. 3–6; 2000. С. 5–18]. Наиболее осторожным, вероятно, был бы путь сопоставления с древнерусскими памятниками не с точки зрения отдельных образов, а с точки зрения кардинальных оппозиций и семантических инвариантов. Такое сопоставление могло бы пролить новый свет и на поэтику Слова, объяснить характер соотнесенности эпизодов и героев.
Реконструкция свойственного Слову восприятия истории, возможно, прояснит семантику нескольких значимых эпизодов и образов произведения. Прежде всего это Боян, противопоставление песен Бояновых «трудным повестям» сего времени. Обыкновенно это место трактуется как антитеза изощренно-метафорических хвалебных песен древнего певца и документально-достоверного и беспристрастного повествования автора Слова о походе Игоря. Такая трактовка сомнительна прежде всего потому, что «едва ли на Руси XII в., в эпоху благоговейного отношения к литературному этикету и жанровым канонам, автор, решивший нарушить традицию, стал бы открыто заявлять о своем новаторстве» [Творогов 1980б. С. 82]. Кроме того, авторский стиль в Слове местами не менее метафоричен, чем Боянов. Сравнительно недавняя попытка Д. С. Лихачева [Лихачев 1987а. С. 198–220] вскрыть в Слове диалогическую структуру, отграничив «Боянов пласт», который будто бы вложен автором в уста певца, подражающего «Велесову внуку», от «документального пласта», исполняемого от лица другого сказителя, интересна, однако вряд ли эта гипотеза доказуема текстуально. В Слове не вычленяется не только строфическая организация, но и устойчивый ритм. По всей вероятности, в зачине Слова противопоставляются песнопения Бояна, рассказывающие о стародавних и славных деяниях русичей, и современное сказание о горестном Игоревом походе; то есть оппозиция противопоставляет эти произведения скорее по теме, нежели по стилю.
Боян-песнотворец как-то связан с неким Трояном и «землей Трояней», однако характер этой соотнесенности не прояснен. Троян, «тропа Трояня», «веци Трояни», «земля Трояня» — существует два наиболее распространенных толкования этих образов и выражений[478]. Троян отождествляется или с римским императором Марком Ульпием Траяном (земля Трояня понимается в этом случае как балканские местности, в которых воевал Траян и построил дорогу), или с известным древнерусской письменности языческим богом Трояном (компромиссная версия соединяет оба толкования, связывая культ бога Трояна, распространенный на Балканах, с личностью обожествленного славянами императора). Оба прочтения не лишены доказательности, однако основываются лишь на отдельных образах и выражениях «Трояновой темы», не принимая во внимание их взаимосвязанность.
Установившиеся толкования исторических аналогий суммированы в утверждении С. Матхаузеровой, что в полную семантическую систему удалось сложить «<…> образы русских князей, упоминаемых в „Слове о полку Игореве“. Они подобраны с четко продуманной целью, а именно напомнить „нынешним“ князьям о славе и братолюбии прежних князей»[479]. Такой взгляд на исторические аналогии в Слове не разделяли, впрочем, многие ученые, считавшие, например, отступление об Олеге Гориславиче и Всеславе инородными вставками (А. А. Потебня [Потебня 1914. С. 51, 121] и др.). В самом деле, аналогии «Игорь — Олег — Всеслав» основаны на некоторых сходных эпизодах в судьбе князей; связь с Тмутороканем[480] (в случае с Игорем — только символическая); Олег и Всеслав — князья, боровшиеся с Киевом; Игорь — инициатор утаенного от киевского князя похода; Ольговичи и Всеславичи — ветви, в XII в. породнившиеся друг с другом (ср.: [Робинсон 1978]). Игорь сближен со Всеславом по общему свойству — «оборотничеству»[481]. Однако эти переклички либо слишком общи и «не работают» автоматически в тексте Слова (ряд «Игорь — Олег — Всеслав»), либо слишком «условны», окказиональны («оборотничество» Игоря и Всеслава).
Несколько искусственными выглядят и аналогии «битва Игоря с половцами — битва на Нежатиной Ниве — битва на Немиге» (описание первых двух сражений объединяет сквозной образ реки горести Каялы[482]). Сражение с иноплеменниками сопоставлено с междоусобными битвами: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицеи (в 1-м изд.: „сице и“. — А.Р.) рати не слышано…»[483]. Описание битвы Игоря с половцами разорвано надвое рассказом о битве Олега Святославича с сыновьями Ярослава.
Но самое существенное возражение против концепции, изложенной С. Матхаузеровой, сводится к тому, что в Слове изображено не «братолюбие», а, напротив, распри «старых» князей (Олега и Всеслава с Ярославичами). Военные же столкновения нынешних — даже не упомянуты.
Диапазон исследовательских толкований авторского отношения к князьям — персонажам Слова исключительно широк[484]. Игоря называют и подлинным героем, которому посвящена похвала — Слово (И. П. Еремин), и «антигероем» — адресатом политического памфлета — Слова (Б. А. Рыбаков [Рыбаков 1991]). Авторское отношение к Олегу Святославичу характеризуется и как сочувственное (А. В. Соловьев, А. Н. Робинсон, Д. С. Лихачев в работах последних лет[485]), и как резко негативное, как негодование и осуждение (Б. А. Рыбаков, Д. С. Лихачев в сравнительно ранних работах[486]). Такой разброс мнений, по всей вероятности, свидетельствует о неадекватности исследовательского подхода и о неоднозначных характеристиках князей-персонажей в Слове[487].
Перечисленные эпизоды, фрагменты, образы Слова включены в ткань повествования о прошлом и нынешнем времени Русской земли. Основу повествования составляет оппозиция «старое время/ старые князья — нынешнее время/нынешние князья». К князьям-дедам отнесены «старый Владимир» (по одной версии, отстаиваемой, например, А. В. Соловьевым, — Владимир I Святославич, по другой, наиболее последовательно защищаемой Б. А. Рыбаковым, — Владимир Всеволодович Мономах), Ярослав Мудрый. К ним же причислены и внучатый племянник Ярослава Всеслав Полоцкий, умерший через полвека после Ярослава и бывший современником его внука Олега. Верхняя граница времени «дедов» отмечена, маркирована фигурой Олега Святославича: не случайно автор Слова уже в заглавии называет Игорева отца — Святослава — и деда — Олега.
Время «дедов» — эпоха ныне ушедшей героической славы Руси: «Ярославе (принятая конъектура: Ярославли; см., однако: [Соколова 2001. С. 12]. — А.Р.) и вст внуце Всеславли! Уже понизить стязи свои, вонзить свои мечи вережени; уже бо выскочисте из дедней славе. Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которою (в 1-м изд.: „которое“. — А.Р.) бо беше насилие от земли Половецкыи!» (с. 34–35); «О! стонати Руской земли, помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей. Того стараго Владимира не льзе бе пригвоздити къ горамъ Киевскимъ; сего бо ныне сташа стязи Рюриковы, а друзии Давидовы, нъ розно ся имъ (в 1-м изд.: „рози нося имъ“. — А.Р.) хоботы пашуть, копиа поютъ…» (с. 37).
На первый взгляд, время «дедов» противопоставлено нынешним трудным временам распрей и «непособий» не только как период военного могущества Руси, совершавшей победоносные походы, но и как период политического единства и мира Руси. Но ведь из всех событий времени «дедов» автор Слова описывает только междоусобные столкновения Олега и Ярославичей, Всеслава и сыновей Ярослава, рисуя страшные картины кровавых битв на Нежатиной Ниве и на Немиге. И именно сражение Олега с Изяславом и Всеволодом предстает первоначалом последующих гибельных «котор»; рассказ же о битве Всеслава с триумвиратом Ярославичей становится символом самоистребления русичей. В то же время ни один случай, эпизод военных столкновений между нынешними князьями в Слове не упомянут.
Д. С. Лихачев предложил видеть в «первых князьях» не поколение «дедов» (Ярослава, Всеслава, Олега и других), а еще более ранних правителей — основателей государства и собирателей Руси (Олега, Игоря, Святослава, Владимира I). Такая трактовка как будто бы подкрепляется свидетельством Задонщины, автор которой прямо пишет, что Боян воспевал «русским князем славы: первую славу великому князю Киевскому Игорю Рюриковичу, вторую — великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, третюю — великому князю Ярославу Володимеровичю»[488].
Тем не менее, такое толкование сомнительно. Невозможно точно установить, насколько отличался знакомый составителю Задонщины текст Слова от известного нам и являются ли строки Задонщины точной цитатой из этого текста Слова или только упоминанием встречавшихся там имен князей. Скорее всего, составитель Задонщины просто переосмыслил, переработал вступление к Слову, заменив мало что говорившие читателю XIV–XV столетий имена Мстислава и Романа на имена всем памятных своими деяниями Игоря и Владимира.
Впрочем, интерпретация Д. С. Лихачева нисколько не отменяет очевидного противопоставления славного времени Ярослава и Всеслава «нынешнему».
Кажущаяся неясность оппозиции «старые — нынешние князья» исчезает, если мы признаем, что понятия «слава» и «котора» («усобица», «крамола») не являются «абсолютными антонимами» в Слове. Показательна фраза «усобица княземъ на поганыя погыбе» (с. 19), в которой (если не считать этот фрагмент испорченным переписчиком) слово «усобица» лишено пейоративных коннотаций. Обращают на себя внимание в этой связи и слова из зачина произведения, повествующие о Бояне, который «помняшеть бо, речь, първыхъ временъ усобице» (с. 3). Какие усобицы вспоминал песнотворец Олега Святославича? Среди воспетых им князей названы Ярослав Мудрый, «храбрый Мстислав, иже зареза Редедю предъ пълкы <к>асожьскыми» и брат Олега «красный Романъ Святъславличь» (с. 3–4). Боян, может быть, прославлял подвиг Мстислава, победившего в поединке касожского князя Редедю; но не исключено и такое понимание строк: песнопевец посвящал свои произведения междоусобным битвам Ярослава с братом Мстиславом, и Романа — с Ярославовыми сыновьями.
Битвы русских князей между собой, описанные в Слове о полку Игореве, — сражения на Нежатиной Ниве 1078 г. и на Не-миге 1067 г. — горестные для Руси события («Олегь мечемъ крамолу коваше и стрелы по земли сеяше» — с. 15; «Тогда при Олзе Гориславичи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждь-<б>ожа внука» — с. 16–17; «Немизе кровави брезе не бологомъ бяхуть посеяни, посеяни костьми <р>ускихъ сыновъ» — с. 36). Но одновременно это и деяния храбрых князей, умножающих свою славу и платящих обидчикам за оскорбления. Дед Игоря — славный и мужественный воин, наводящий страх на соперников. Звон его славы («звон» и родственные ему слова — метафоры воинской славы) слышал великий князь Всеволод, а сын его, известный воинской доблестью Владимир Мономах, «по вся утра уши закладаше въ Чернигове» (с. 15). (Толкование Д. Д. Мальсагова, что «уши» здесь — проемы в городских воротах [Мальсагов 1969. С. 159–162][489], лишает эту фразу жестокой насмешки над Мономахом, но и в этом случае едва ли отрицается очевидное прославление силы Олега[490].) Кроме того, Слово, как показали Б. М. Гаспаров и Т. М. Николаева, дву- и многопланово, даже на уровне отдельных выражений; соответственно, слово «уши», вероятно, употреблено в обоих значениях, в том числе и в первичном: «орган слуха».)
Столь же славен «князь-оборотень» и чародей Всеслав Полоцкий, который «утръже вазни с три кусы (в 1-м изд.: „утръ же воззни стрикусы“. — А.Р.) отвори (в 1-м изд.: „отвори“. — А.Р.) врата Новуграду, разшибе славу Ярославу…» (с. 35). Всеслав противопоставлен внукам «Ярославлим и Всеславлим», которые «уже бо выскочисте изъ дедней славе <…> своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю» (с. 34–35)[491].
Поступки «крамольников» Олега и Всеслава как бы оценены автором Слова двойною мерою. Как русские князья, члены «княжеской семьи», и тмутороканский изгой, и полоцкий властитель заслужили осуждение, но как храбрые воины, не уклоняющиеся даже от безнадежных битв с противниками, не прощающие нанесенных «обид», они достойны похвалы. Олег пытался вернуть отнятый у него Всеволодом Ярославичем отчий Чернигов, Всеслав был неправедно захвачен в плен Ярославичами, нарушившими крестное целование. Такой двойственный взгляд — традиционен для средневекового сознания. Характерно, что Владимир Мономах, оставивший о себе память как о примирителе междукняжеских раздоров, перечисляет в своем Поучении в ряду собственных славных дел и походы на половцев, и сражения с русскими князьями.
Битва Игоря с половцами одновременно сопоставлена со сражением деда Олега с Ярославичами на Нежатиной Ниве и выступает как антитеза по отношению к нему. Оба действия — поход Игоря на половцев и действия Олега против Ярославичей — сходны по своей безрассудности, безнадежности — но и, тем самым, по смелости. Игорь наделен автором Слова теми же образными характеристиками, что и его дед: Олег «ступаетъ въ златъ стремень въ граде Тмуторокане» (с. 15), Игорь «въступи <…> въ златъ стремень и поеха по чистому полю» (с. 8). В отличие от Олега, проигравшего битву, но не полоненного, его внук терпит сокрушительное поражение: войско было истреблено половцами, а все князья — впервые за многие годы русских походов в Степь — попали в плен. В сравнении следом, владевшим Тмутороканем, Игорь, тщетно пытавшийся «поискать древнего Тмутороканя», — более слабый и менее славный князь. (Тмуторокань в Слове — скорее не конкретный, реальный город, а некий предел земли, ultima Thule.) Однако, если сопоставлять не итоги, а цели, намерения деда и внука, — Игорь более достойный (то есть и более славный и храбрый) воитель. Игорь идет не против Руси из Тмутороканя, не против сородичей, а из Руси на «поганых» половцев, желая освободить утерянное достояние предков. (Впрочем, в Слове, возможно, есть аллюзия и на поход против половцев, в котором участвовал Олег; этот победоносный поход 1107 г. завершился пленением хана Боняка и разгромом хана Шарукана — Кончакова деда; в Слове готские девы «лелеють месть Шароканю» [с. 26][492].)
Движение Игоря и Олега противоположно — не только географически, но и ценностно. (Вместе с тем направление движения Игорева войска совпадает с направлением «рыскания» Всеслава, устремлявшегося с Руси в Тмуторокань.) Но Всеслав, по-видимому, действует ночью — если читать слова «до куръ» как «до петухов»; кроме того, перемещения полоцкого князя в целом ненаправленны, «хаотичны». Намерение Игоря безрассудно, но благородно (слова Святослава об Игоре и Всеволоде: «Нъ нечестно одолеете, нечестно бо кровь поганую пролиясте» [с. 26] означают, как заметили еще А. А. Потебня [Потебня 1914. С. 77] и, вслед за ним, И. П. Еремин [Еремин 1987. С. 276], признание похода не бесчестным, но всегда лишь не принесшим славы).
Отправившись в самовольный поход и потерпев поражение, Игорь покрывает бесславием старшего князя — Святослава Всеволодовича Киевского; это бесславие метафорически описано как смерть Святослава (увиденные во сне собственные похороны) и увод Игоря в «царство мертвых». В средневековом сознании князья Рюрикова дома воспринимались как единый род (с собственным культом предков-покровителей [Комарович I960]?), как «семья» и «братство» (ср. упоминания об общей братской княжеской свече в речи Льва Данииловича Галицкого, записанной в Ипатьевской летописи под 6796 (1288) г. [ПЛДР VIII 1981. С. 402], и в духовной грамоте Симеона Гордого [Соловьев 1960. С. 260]). «Бесчестие» Игоря переходило на Святослава. Значим в этом отношении и иной, заключительный эпизод Слова — возвращение Игоря из плена в Киев, а не в Новгород-Северский, как это было на самом деле[493]. Прославляемый Игорь метонимически «замещает» Святослава Киевского.
Таким образом, оппозиция «старые князья — нынешние князья» далеко не столь тривиальна, как кажется на первый взгляд. С ней связаны и образы «Трояновых веков» и «Трояновой тропы». Из существующих толкований в целом наиболее убедительно предложенное Л. В. Соколовой[494], согласно которому «Трояновы века» — это не «века язычества» (мнение Д. С. Лихачева и др.) и не время императора Траяна (точка зрения Б. А. Рыбакова и др.), но не столь давнее прошлое русичей. Однако попытка исследовательницы прочитать слово «Троян» («Троянь») как обозначение трех братьев-прародителей русичей и отождествление Л. В. Соколовой «земли Трояней» с Киевской Русью очень спорны. Прежде всего, остается неясен смысл выражения «тропа Трояня» (трактовка Л. В. Соколовой: «рыскать в тропу Трояню <…> — значит, обращаться мысленно к истокам, к начальному периоду Киевской земли» [Соколова 1990. С. 360][495] — кажется натянутой). Кроме того, «земля Трояня» локализована далеко от Руси. Боян «рищет» «въ тропу Трояню чресъ поля на горы», причем не в реальном, а в символическом пространстве: «Абы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умом подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени…» (с. 6).
В Слове упоминаются дважды конкретные горы: Киевские и Карпатские. В произведении вообще многочисленны реалии, связанные с юго-западным краем Руси и с Дунаем. Топонимия, производная от имени «Трояна» и Траяна-императора, особенно часто встречается, как известно, на Балканах; здесь же зафиксированы и свидетельства о существовании культа мифологического существа Трояна (А. Балдур[496]). «Дорогой Трояна» могли называть не только построенную императором на Балканах via Traiani, но и Млечный путь (между прочим, и само имя и даже род Бояна — возможно, балканские, болгарские[497]). Дунайские земли и Балканы названы прародиной славянства в Повести временных лет.
Выражение «седьмой век Трояна», обозначающее время усобиц Всеслава, обыкновенно понимается как последний век, последнее время (Д. С. Лихачев; ср. наблюдения И. Клейна над перекличками Слова со средневековой эсхатологией[498]). А. А. Косоруков предложил иное истолкование, исходя из семантики числа «семь» в фольклоре: «седьмой век» — не последний век, а время наибольшей полноты и силы Трояна, произвольно трактованного ученым как языческий бок войны[499]. Однако на самом деле значения «конец», «итог» и «полнота», «наибольшая наполненность», «наивысшее развитие» — не антонимы, а варианты одной общей семы. Кроме того, не вполне доказуемо мнение, что время Всеслава для автора Слова — самый «междоусобный» период русской истории. «Седьмой век» — вероятно, последний век единства Русской земли[500]. Всеслав, сеющий крамолы, зачинатель многих усобиц, действует на рубеже этого века и череды новых лет, в то время, когда «по Руской земли ретко ратаеве кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупиа себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие» (с. 17), Показательно, что первый серьезный набег половцев произошел именно «во время Всеславово», в 1068 г.
Боян, растекающийся мыслью по древу, — медиатор между мирами мифологической вертикали, небом и землей (ср. отмеченные Д. М. Шарыпкиным скандинавские параллели [Шарыпкин 1976]). Но, вероятно, одновременно он и «посредник» между «горизонтальными мирами», между прошлой (Балканы) и нынешней родинами русичей, разделенными не только пространством, но и временем[501]. Боян-песнотворец соединяет прошлую и нынешнюю славу Руси.
Видение истории в Слове двойственно. В основе оппозиции «прошлое — настоящее» лежит традиционное эпическое представление об убывании, истощении исконных полноты и силы (в данном случае — мощи Руси и ее князей) во времени: старое лучше нынешнего[502]. Великим походам на иноплеменников и великим междоусобным битвам былых времен противостоят «непособие» князей в борьбе с половцами и мелкие (измельчавшие) распри. По происхождению этот эпический взгляд на прошлое, на временное движение, на развитие — дохристианский, хотя в христианскую эпоху он мог питаться эсхатологическими ожиданиями. В чистом виде это архаическое представление, однако, никак не связано с христианским; в нем нет ощущения связи между грехом и «порчей» мира.
В целом эпическое отношение к прошлому как будто господствует в тексте. Однако оно сочетается и с иным восприятием истории. «Нынешние» князья (Святослав Киевский, Ярослав Осмомысл Галицкий, Всеволод Юрьевич Владимиро-Суздальский), хотя и не согласные между собою, отгородившиеся друг от друга, изображены не менее могущественными, чем «старые». Сила и могущество Руси как бы растеклись в пространстве: возникли новые сильные княжества, но распалась единая Русь. Однако внешняя угроза должна примирить князей: характерны призывы к властителям русских княжеств постоять «за раны Игоревы, буего Святславлича» (с. 30) и предсказание Гзака: «почнуть наю птици бити въ поле Половецкомъ» (с. 44). Раны и горе Игоря оказываются свидетельством не слабости нынешней Руси, но силы. Страдания и плен князя — залог грядущего торжества. Это чисто христианская идея, наиболее последовательно проведенная в житиях мучеников, в частности русских князей-страстотерпцев (Бориса и Глеба и др.). Характерно, что именно в заключении Слова впервые в эксплицитной форме возникают христианские элементы: «Игорь едетъ по Боричеву кь святей Богородици Пирогощей» (с. 45); «здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъкы» (с. 46). Слава и величание обращены к дружинникам Игоря, которые почти все пали на поле брани и теперь представлены будто бы воскресшими (в описании битвы есть противоположная по смыслу фраза: «А Игорева храбраго плъку не кресити» — с. 20). Сам Игорь также, что отмечалось исследователями, изображен в заключительной части как бы воскресшим. «Воскресение» Игоря описывается одновременно и в архаическом мифологическом коде — как возвращение из «иного царства», и в христианской коде (Б. М. Гаспаров): трехдневная битва-гибель, сопоставление князя с солнцем, традиционным иносказательным обозначением Христа.
Поражение новгород-северского князя получает в Слове двойственное «мифологическое», «архетипическое» значение некоего рубежа. После пленения Игоря прекращается борьба русских князей со Степью, и половцы беспрепятственно устремляются на Русь (в эпизодах, непосредственно следующих за описанием поражения); в заключительной же части уныние сменяется радостью и уверенностью в полном торжестве над «погаными». Битва Игоря, разгром войска и пленение князя — события эсхатологические[503]. «Эсхатологический конец по своей природе может быть лишь конечным торжеством доброго начала и осуждением и наказанием злого» [Лотман 1992б. С. 331]. Через унижение, уничижение новгород-северский князь приходит к символической победе и к славе. Сходным образом осмыслены поражение, плен и возвращение Игоря и в повестях о походе 1185 г. Ипатьевской и Лаврентьевской летописей. Но летописцы с точки зрения христианского провиденциализма истолковывают разгром как наказание за горделивость и иные грехи князя, а благополучное избавление связывают с покаянием Игоря. В Слове мотива покаяния, равно как и упоминаний о прежних грехах князя, нет, но постигшая Игоря беда, видимо, также представлена следствием его гордыни и своеволия.
Архаическое видение истории ретроспективно. «Нынешние» князья «выскочили» из дедовской славы[504]: старая слава рисуется обволакивающей «современность»; выпавший из нее проваливается в вакуум. Христианский взгляд на историю совмещает ретроспективное (обращенность к библейским архетипам) и проспективное (обращенность вперед) начала. Архаическая «модель» истории, возможно, восходит к бояновскому «подтексту». Так в схематизированном виде может быть описано восприятие истории, отраженное в Слове о полку Игореве[505].
Из наблюдений над пространственной структурой Киево-Печерского патерика
Как хорошо известно, пространство в культурах различных эпох осмысляется отнюдь не как нейтральная физико-географическая среда, вмещающая в себя предметы вещественного мира. Пространство часто наделяется особенными семантическими характеристиками, оно не является семантически «пустым». Такое его восприятие, которое можно назвать мифологическим, свойственно, в частности, средневековому христианскому сознанию; оно выражено и в древнерусской словесности.
Одно из кардинальных свойств пространства в подобной трактовке — различение в нем частей, «подпространств» сакральных и профанных, в соответствии с чем движение в пространстве человека интерпретируется в религиозно-нравственном коде: «Движение в географическом пространстве становится перемещением по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей»; «Всякое перемещение в географическом пространстве становится отмеченным в религиозно-нравственных оценках»; «средневековый человек рассматривал и географическое путешествие как перемещение по „карте“ религиозно-нравственных систем» (Ю. М. Лотман)[506].
В таком символически осмысляемом пространстве особую значимость имеют сакральные локусы, противопоставленные профанному окружению и ориентированные вертикально, т. е. связанные с горним миром. Эта связь может реализовываться также в пространственном измерении — в расположении на возвышенном месте[507].
Несомненно, Киев и Киево-Печерский монастырь были для людей Древней Руси, в том числе для составителей сказаний, вошедших в Киево-Печерский патерик, наделены признаками такого священного места. Не случайно и устойчивое подчеркивание возвышенного («на горах») местоположения Киева в Повести временных лет (в сказании об основании города)[508], и планировка строителями Киева времен Ярослава Мудрого в форме креста, а также ориентация на топографию Иерусалима и Константинополя; при восприятии города как подобия Иерусалима Киево-Печерская обитель соотносилась с таким сакральным прообразом, как Сионский пещерный монастырь[509]. Особенное восприятие Киево-Печерского монастыря, обусловленное как его происхождением (основан не князьями и боярами, а самими иноками, отрекшимися от соблазнов мира), так и превращением этой обители в место, откуда вышло большинство русских архиереев домонгольской поры, засвидетельствовано многими древнерусскими текстами, и, естественно, Киево-Печерским патериком, в котором и рассказывается об истории создания монастыря и о подвигах братии. Семантика печерского локуса отмечена прежде всего в Несторовом Житии Феодосия Печерского, включенном в состав патерика: агиограф отмечает как заслугу Феодосия «выведение» монахов из пещер на поверхность земли и закладку Успенской Печерской церкви; роль пространственной вертикали подчеркнута также в ряде чудес из этого жития; в частности, в чуде с возносящейся церковью, в которой чернецы спасаются от разбойников (храм поднимается над землею более чем на перелет стрелы). Но в данном случае предметом рассмотрения будет не Житие Феодосия, а патериковые сказания, посвященные созданию, освящению и росписи Успенской церкви. Само по себе осмысление пространства, содержащееся в этих текстах, естественно, не оригинально, так как обусловлено природой средневекового мировидения. Но способы выражения этой семантики в древнерусских произведениях могут быть весьма нетривиальными[510].
Патерик открывается Словом о создании Печерской церкви, в надписании которого указано на особенные, чудесные обстоятельства воздвижения этого храма: «Слово о создании церкви, да разумеют вси, яко самого Бога промыслом и волею и того Пречистыа Матере молитвою и хотением создася и съвершися боголепнаа, и небеси подобнаа, и великаа церкви Богородичина Печерскаа, архимандритиа всеа Рускиа земля <…>»[511]. Таким образом, отмечены как богосозданность храма, так и исключительная красота, толкуемая как «небесоподобие», как своеобразная изоморфность церкви Небу.
В этом Слове рассказывается о прорицании святым Антонием варягу Шимону перед битвой с половцами на Альте: «Блаженый же рече тому: „О чадо, яко мнози падут острием меча, и, бежащим вам от супостат ваших, попрании и язвени будете, и в воде истопите — ся; ты же, спасенъ быв, зде имаши положен быти, в хотящей ся создати церкви“» (с. 8, л. 1 об.). Предсказание исполняется: раненный в битве Шимон «[в]озревъ же горе на небо и виде церковь превелику, якоже и преже виде на мори <…>» (с. 8, л. 1 об.).
Печерская церковь прежде воплощения в камне появляется в небе, что и означает ее богосозданность — Шимон зрит небесный прообраз, архетип храма. Грандиозные размеры церкви также, очевидно, свидетельствуют о ее особой природе.
Интересно, что в тексте слова говорится о прежде бывшем Шимону видении этой же церкви как о чем-то известном, но читатель узнает об этом чуде позднее. Таким образом, читающий текст этого сказания как бы оказывается на месте Шимона и наделяется его знанием и одновременно попадает в ситуацию неведения: он должен знать то же, что и спасенный варяг, но знать этого не может.
Это отступление от хронологии, по-видимому, — осознанное. Чудо с видением храма изъято из течения времени, из земного миропорядка. Более раннее видение, когда Шимон узрел церковь во время бури на море, в которую попал его корабль («И се видех церковь горе и мыслях, кая си есть церкви» [С. 8, л. 2 об.]), во вневременном плане, в Вечности идентично позднейшему яачению храма во время битвы на Альте; это два «варианта» одного и того же видения. В обоих случаях Шимон чудесно спасается от неминуемой смерти. Об относительности времени свидетельствуют и предсказание святого Антония, что Шимон (ставший в монашестве Симоном) будет погребен в Печерском храме, и речь Христа, изображенного на кресте, данном Шимону отцом: Христос говорит, что златой пояс с этого изображения станет мерой при строительстве храма, коим и окажется Печерская церковь[512].
Психологически немотивированным оказывается вопрос, заданный Шимоном при видении церкви в небе над морем: он не дивится чуду, а вопрошает себя, что это за церковь, словно в видении ему должен быть явлен непременно реально существующий храм. Вопрос Шимона можно интерпретировать и как указание на его особенное душевное и духовно состояние, на его «восхищенность» в духе, когда созерцатель причастен божественному, а не земному пространству и не изумляется, но мыслит, образ какой реальной церкви может быть явлен ему в этом видении. Но возможно и другое объяснение: Шимон постигает, что явленный в видении храм — тот самый, который должен быть построен по мере его пояса; он спрашивает себя о том, какая будущая церковь должна воплотить храм из его видения. Неопределенность мысли Шимона рождает у читателя плодотворное непонимание: созерцатель чуда принадлежит до известной степени иному пространству, нежели читающий сказания, и чувства и мысли Шимона лишь отчасти постижимы для стороннего взгляда.
В другом патериковом сказании (Чюде о той богоизбранней церкви Богородичней [С. 12, л. 7]), также повествующем о воздвижении Печерской церкви, описывается чудо, удостоверяющее богоизбранность места: Антоний молит Бога, чтобы место строительства храма было один раз отмечено выпадением росы, в другой же осталось сухим; в третий раз святость места удостоверяется сходящим с неба огнем. Этот эпизод восходит к Священному Писанию: «Аллюзии на библейский рассказ о деяниях пророка Илии (3 Цар. 18, 21–40) несомненны — тем самым недвусмысленно подтверждается богодухновенность миссии основоположников монашества» [Подскальски 1996. С. 266].
Но не менее значима символическая связь Печерской Богородичной церкви с константинопольским Богородичным Влахернским храмом. Греки-мастера, приходящие из Царьграда к Антонию и Феодосию, присланные к ним Богородицею, явившеюся им во Влахернском храме и давшей им свой образ для Печерской церкви: «„Та наместнаа будетъ“» (с. 13, л. 8); также Богоматерь дает грекам-строителям мощи святых для положения в основание церкви и наделяет их деньгами, потребными для воздвижения храма. Богородица же говорит мастерам и о мере для строительства церкви, впрочем, ее не называя: «„Меру убо послах поясъ Сына моего, по повелению того“» (с. 13, л. 8–8 об.). Церковь также является мастерам на воздухе, как прежде Шимону-Симону, и Богородица объявляет им: «<…> Прииду же и сама видеть церкве и в ней хощю жити» (с. 12, л. 7 об. — 8).
Сказание о видениях Печерской церкви Шимону и сказание о греческих мастерах и о видении во Влахерне — своего рода две версии одного инварианта. Видения храма в обоих текстах похожи; в обоих сказаниях сказано о поясе как о мере для храма. При этом первое сказание, повествующее о Шимоне, образует ключ к тексту о видении во Влахерне. Мастера не знают, о каком поясе идет речь, и им это объясняют печерские святые. Если в сказании о Шимоне Христос называл златой пояс варяга мерой будущего храма, то в слове о греческих мастерах это объявляет Его мать. Другой ключ дан в самом сказании о Влахернском чуде: греки не знают, кто явился им в храме (это незнание, вероятно, призвано передать растерянность и недоумение от видения: то, что явившаяся «Царица» — Богородица, очевидно во всех смыслах слова, включая этимологический). Смысл видения и в том, что «Царица» — Присно-дева Мария, раскрывает пришельцам Антоний.
Явление Богородицы именно во Влахернском храме не может быть случайным: Печерская церковь мыслится и как воплощение храма из видений, и, вероятно, как символическое подобие прославленного константинопольского храма. Как известно, именно во Влахернском храме, согласно Житию святого Андрея Юродивого (одной из наиболее читаемых на Руси переводных агиобиографий), святому Андрею было явлено видение Богородицы, простерший мафорий над миром: «оузри бл[а]ж[е]ныи Андреи с[вя]тую Б[огороди]цю очивесть, вел(ь)ми сущю высоку»; «мафоръ ея, яко молниино видиние имея, еже на пр[е]чистыма своима рукама вземъши, страшъно же и велико суще. Верху всел: людей простре стоящихъту, еже на многы час видисте с[вя]т[ь] ца верху люди прострето суще и сияя <…> славу Божию» (сказание жития «О видиньи с[вя]тыя Б[огороди]ци Вълахернахъ»)[513].
Видение Андрея Юродивого на Руси, по-видимому, было воспринято особенно глубоко, так как послужило основанием для установления особого праздника — праздника Покрова (обыкновенно его установление относят к середине XII в. и приписывают инициативе князя Андрея Боголюбского, однако такая датировка небесспорна[514]). Между сказанием о Шимоне и о златом гюясе Христа, изображенного на принадлежавшем варягу кресте, и сказанием о видении Богородицы греческим мастерам во Влахернском храме (и, соответственно, между ролью Христа и Приснодевы Марии как дарователей меры для строительства Печерской церкви) просматривается семантическая связь. Среди почитаемых константинопольских реликвий Богородицы были не только риза и мафорий (влахернские святыни), но и пояс, хранившийся в другом храме [Плюханова 1995. С. 26].
Семантика видения святому Андрею Юродивому связана с концептами церкви (Церкви) — как здания и как мистического Тела Христова. «Видение Андрею Юродивому <…> — это образ церкви: церковное здание, мир, возносящий молитвы» [Плюханова 1995. С. 29]. По замечанию исследовательницы, «[э]та идея была уже заложена в церковном предании об Успении и получила развитие в службе на Положение ризы: Богородица — чертог Божий, и риза — атрибут и вместе с тем символ Богородицы — тоже означает Церковь — ковчег и покров» [Плюханова 1995. С. 28]. В соотнесенности с локусом Влахернского храма как места видения святому Андрею другой храм, Успенская Печерская церковь, приобретает коннотации «мирообъемлемости», способности как бы вмещать в себя мироздание[515]. Эта семантика, естественно, основывается на архитектурной символике христианского храма как символа мира, космоса. Печерский храм, чей основной признак, отмеченный в Киево-Печерском патерике (в сказании о греческих изографах, призванных его расписывать), — грандиозный размер, соотнесен, возможно, с видением святому Андрею именно по признаку «грандиозности»: Богородица в видении очень высока, а ее мафорий — огромной величины. И Печерский храм, являющийся Шимону, а потом греческим изографам в небе, может быть, как бы «прикрывает» собою землю.
Печерская Успенская церковь действительно была весьма внушительных размеров: Успенский собор Печерской лавры (1073–1077 гг.) явился самым грандиозным памятником архитектуры второй половины XI в. Диаметр его купола почти на метр превысил размеры главы Киевской Софии. Отсюда общий характер форм — «мощных, структурных, глубоко и сильно расчлененных». А. И. Комеч отмечает: «В целом интерьер храма отличался особенной пространственностью. Отсутствие сложности, характерной для пятинефных соборов, привело к цельности и ясности грандиозной структуры. Концепция осеняющего и охватывающего крестовокупольного завершения оказалась здесь выявленной с еще не существовавшей на Руси отчетливостью. В этом, как и в развитии строительной техники, сказываются продолжающиеся и укрепляющиеся связи Киева и Константинополя <…>. Уцелевшие фрагменты собора и сейчас своим величием вызывают ассоциации с монументальными сооружениями той традиции, которая берет свое начало в архитектуре античного Рима» [Комеч 1987. С. 273].
По мнению Г. К. Вагнера, разработавшего жанровую классификацию древнерусского храмового зодчества, Успенская Печерская церковь отнюдь не была обыкновенным монастырским храмом, а соотносилась со зданиями т. н. государственно-митрополичьего жанра: «По последним архитектурным данным, печерская Успенская церковь рисуется пятиглавой <…>. Тем самым она входила в круг архитектурных реминисценций государственно-митрополичьего» жанра [Вагнер, Владышевская 1993. С. 60].
Об особенном восприятии Успенского Печерского храма в домонгольской Руси может свидетельствовать традиция посвящения храмов, прежде всего кафедральных, Богородице, и в первую очередь празднику Успения. Один из источников этой традиции — именно посвящение храма Печерской обители празднику Успения Богоматери. «<…> [М]онастырь воздействовал на физический и духовный ландшафт далеко за пределами Киева. Мода середины XI в. на храмы Св. Софии прошла, и, кроме соборов в Киеве, Новгороде и Полоцке, одноименных храмов больше не возводили. Зато с 1070-х гг. до 1220-х гг. во всех других известных епархиях возводились соборы, посвященные Успению Богородицы — вслед за „католиконом“ Печерского монастыря. <…> Так и случилось, что самые почитаемые центры христианской жизни почти по всем главным городам Руси оказались построены не по образцу дворцовой церкви князя Ярослава, а по подобию монастырской церкви игумена Феодосия» [Франклин, Шепард 2000. С. 449].
Грандиозные размеры Успенского храма могли получить в древнерусском сознании особый символический смысл.
Чудесный характер основания Печерского храма особо отмечен в сказании Отгпуду начаток тоа божественыа церкве: «Что сего, братие, чюднее? Прошед убо книги Ветхаго и Новаго закона, нигдеже таковых чюдесъ обрящеши о святых церквах, тако же и о сей от варяг, и от самого Господа нашего Иисус Христа, и честнаго его божественаго и человекообразнаго подобна: и святыа Христовы главы венец, и богозвучный глас от Христова подобна, нести велящъ на уготованое место, того поясом измерити по небесному гласу, и видена бысть преже начатиа, како же и от грек иконе пришедши с мастеры <…>» (с. 14, л. 9 об.)[516]. Показательно, что в этом сказании отмечено явление церкви (чудо, явленное варягу Шимону) прежде ее создания: церковь в божественном пространстве словно существует извечно. Различение храма в видении и храма, воздвигнутого в камне, оказывается относительным. Таково же оно и в сказании о греках-иконниках, волею Божией пришедших в Киев расписывать Печерский храм.
Дойдя по Днепру до Канева, изографы увидели «церковь сию велику на высоте. И вопросихом же сущих с нами: „Кая си церкы?“ И реша: „Печерскаа, ейже вы писци“» (с. 15, л. 11). Иконописцы вопрошают о храме так же, как Шимон вопрошает самого себя. По форме, в плане выражения, это вопрос о реальном храме. Но и вопрошание Шимона, и пространственная позиция вопрошающих греков (под Каневом, т. е. не в самых окрестностях Киева) заставляют предположить, что они видят не реальный Печерский храм, а его сверх- или ирреальный архетип. Однако сопровождающие их отнюдь не удивлены видением и говорят о церкви как о реальной. Благодаря этим повествовательным приемам эпизод с видением изымается из реального, земного пространственного контекста, и оппозиция «материальная явь — видение» размывается.
Греки пытаются возвратиться вспять, напуганные грандиозностью предстоящей им работы, но некая сила влечет их вспять против течения. Во вторую ночь после видения «видехом сию церковь и чюдную икону наместную <…>» (с. 15, л. 11). Это видение построено по поэтике иконописного изображения: внутреннее пространство храма развернуто вовне (икона, находящаяся в церкви, в видении представлена вне ее)[517]. Таким образом, Печерский храм в видении подобен изображению храма на иконе, т. е. принадлежит «иконописному», а не земному пространству. Поэтика иконописного изображения в сказании — код, посредством которого описывается чудесное видение.
В сказаниях патерика Печерский храм интерпретируется и как подобие Влахернского храма, и почти как его «замена», как «главное» место обитания Богородицы (Богородица говорит грекам-строителям храма, что поселится в нем, а ее наместная икона есть ее метонимия, в некоем и важном смысле — Она сама). Естественно, в христианском восприятии один конкретный храм не мог представляться единственным местообиталищем Христа, Богоматери или святых. И всё же Печерский храм в патериковых сказаниях претендует на особенный статус одного из главных центров иерофании, мест присутствия Богородицы. Этот статус обеспечивается преемственностью отражения прообраза — церкви, явленной в видениях, и преемственностью по отношению к Влахернскому храму, установленному самой Приснодевой. Наконец, особенно значима соотнесенность чуда, произошедшего при освящении храма, с чудесными обстоятельствами Успения Богородицы. На освящение храма в предпразднество Успения собираются никем не званные митрополит Иоанн и русские епископы. «Святитель же хоте изискати такых человекъ, кто суть звавше тех, и ту абие глас так: „Исчезоша испытающей испытания!“ Тогда простре руце на небо и рече: „Пресвятая Богородице! Яко же во свое преставление апостолы от конец вселенныа собравши въ честь своему погребению, тако и ныне въ священие своеа созвавши тех наместники и наши служебникы“» (с. 18, л. 14). В этом фрагменте дается ссылка на рассказ об Успении Богородицы, которое ожидается в Вифлееме и совершается в Иерусалиме; сюда «облак светелъ» переносит апостолов, перед Успением, еще в Вифлееме, «вънезаапу явися солнце и луна окрестъ дому, и съборъ пръвенець святых бысть» [БЛДР-III. С. 296, 298]. Таким образом Вифлеем представлен в этот момент как космический центр и как средоточие святости. Подобное место в Киево-Печерском патерике придано Успенскому храму[518].
Князья и монахи в Киево-Печерском патерике
Взаимоотношения светской власти и Печерского монастыря — один из лейтмотивов и инвариантных сюжетов Киево-Печерского патерика. Значимость этой коллизии объясняется особым положением Печерской обители: монастырь возник благодаря деяниям нескольких частных лиц, ставших его иноками, а отнюдь не по желанию княжеской власти[519]. Более того, пострижение в монахи Варлаама, сына боярина, служившего киевскому князю Изяславу, и Ефрема, приближенного князя, вызвало резкую реакцию киевского правителя, едва не приведшую к гонениям на печерских черноризцев и прежде всего — на монаха Никона, совершившего постриг[520]. О независимой позиции монастыря, чуждого угождению сильным мира сего и обличающего их грехи, свидетельствует отношение Феодосия, одного из основателей обители, к князю Святославу, отнявшему у старшего брата Изяслава киевский престол [ПЛДР XI–XII 1978. С. 376–382]. «Киево-Печерский монастырь резко отличался от <…> ктиторских монастырей, возникавших по византийскому образцу, равно как и от монастырей, служивших местопребыванием епископата. Здесь изначально не было ни роскошных построек, ни готовых уставов (типиконов), предписанных ктиторами, — были лишь личные поиски Бога в молитве и аскетическом подвиге. И только после того как пещеры, ископанные братией первого поколения, уже не смогли вместить новых послушников, монастырь обратился к князю Изяславу с просьбою расширить его территорию» [Подскальски 1996. С. 87].
Такое особое положение Печерского монастыря среди русских обителей было отрефлектировано его книжниками и выразилось в известном высказывании, включенном в Повесть временных лет под 6559 (1051) г.: «Мнози бо манастыри от цесарь и от бояръ и от богатьства поставлени, но не суть таци, каци суть поставлени слезами, пощеньемь, молитвою, бдениемь» [ПЛДР XI–XII 1978. С. 172].
В Киево-Печерском патерике отношения «светская власть (князья) — монастырь (монахи)», мыслимые и как духовная связь между миром и обителью, и как оппозиция «мирское — сакральное», представлены тремя вариантами: 1) носитель светской власти покидает мирское пространство и укореняется в сакральном (князь постригается в монахи); 2) носитель светской власти прислушивается к монахам и почитает монастырь, будучи окормляем им (князь остается мирянином, но внимает советам монахов и ищет у них помощи); 3) носитель светской власти совершает великий грех против монахов, движимый злыми чувствами, и получает скорое возмездие за этот грех (персонифицированное в князе зло мира сего обрушивается на обитель, но оказывается побежденным)[521].
Первый вариант отношений князей и монастыря представлен в слове «О преподобием князе Святоши Черниговском». Святоша (Святослав Давыдович Черниговский), «оставив княжение и славу, честь и богатство, и рабы, и весь двор ни во что же вмени, и бысть мних»[522]. Святоша, работающий в монастыре на поварне, воплощает крайнюю степень смирения; высокостатусная социальная модель поведения (князь) сменяется низкостатусной (слуга, повар, прислуживающий тем, кто сами отвернулись от мира и присущей ему гордыни). Это служение испрашивается самим монахом: «Сий же истинный послушник с молбою испроси, да едино лето яглы варит на братию» (с. 28, л. 25). Позднейшее служение князя-инока в монастыре — привратником — имеет символический смысл: как страж врат, Святоша находится на границе двух пространств — сакрального и мирского. Его миссия необычайно ответственна: охранять границы сакрального пространства («и ту пребысть 3 лета, не отходя никаможе, разве церкве» — с. 28, л. 28), связывать монастырь и мир. Находясь внешне вблизи мирского пространства, князь-черноризец тем очевиднее противопоставлен своим братьям, продолжающим жить в миру и упрекающим святого за поругание княжеского сана[523].
Как носитель монашеского духа, Святоша противопоставлен своему врачу, сирийцу Петру. Диалоги князя-инока и «лечца»-мирянина — это прения «мира» и «неба», земных и непреходящих ценностей. Святоша не только оказывается равнодушным к искушениям мира, но и побеждает «лечца» как истинный целитель, и побуждает его постричься в монахи.
Исцеление врача, совершаемое Святошей, — свидетельство торжества сакрального над мирским в самой сфере мирского. Охранительная функция Святошиной власяницы, спасающей жизнь его брата Изяслава в сражениях, — другой знак такого превосходства опять же в мирской сфере, в ратном труде: «Во всяку же рать (брат Святоши Изяслав. — А.Р.) сию власяницу на собе имяше, ти тако без вреда пребываше. Согрешшу же ему нкогда, не сме взяти ея на собя, ти тако убьен бысть на полку; и заповеда в той положити ся» (с. 31). Монашеская смиренная власяница оказывается, таким образом, в этом повествовании ценнее княжеского богатого корзна.
Амбивалентно имя князя-монаха. С одной стороны, его уменьшительно-ласкательная форма в рассказе патерика (от полной «Святослав») свидетельствует о самоумалении и смирении (интересно, что в тексте Повести временных лет по Лаврентьевскому списку, упоминающей о пострижении князя под 6614 (1106) г., он назван полным именем[524]), о некоей — с точки зрения мира — «ущербности». С другой стороны, в контексте повествования Киево-Печерского патерика о князе-монахе уменьшительная форма имени воспринимается уже скорее не как собственно имя, к тому же имя «мирское» (не христианское по происхождению), а как указание на святость инока.
Княжеский сан Святоши в рассказе патерика лишается исконной семантики, однако приобретает новую. Он уникален в качестве князя, принявшего «ангельский образ». Являясь монахом, Святоша уже не-князь; но вместе с тем он и истинный князь, ибо избран Богом и потому превосходит просто князей: «Помысли сего князя, егоже ни един князь в Руси не сотвори, волею бо никтоже вниде в чернечество. Воистину сий болий всех князий рускых!» (с. 31–32, л. 28 об. — 29).
Другой вариант отношений князя и Печерской обители воплощен в рассказах патерика о Владимире Мономахе. Владимир Мономах представлен как созерцатель чуда, указующего на святость места, избранного самим Богом для строительства монастырского храма: «Благоверный же князь Всеволодович Володимер Мономах, ун сы, и самовидець быв тому дивному видению, егда спаде огонь с небесе и выгоре яма, идеже основание церковное положися» (с. 16, л. 11 об. — 12). Другая роль Владимира Мономаха в патерике — защитник и покровитель обители; благодаря ему игумен Иоанн был освобожден из заточения и возвращен в Печерский монастырь: Иоанна киевский князь Святополк «в Туров заточи, аще бы Володимеръ Мономах на сего не встал, егоже убоявся Святополк востания, скоро возврати, и съ честию, игумена в Печерский манастырь» (с. 55, л. 54–54 об.).
Атрибут Владимира Мономаха в тексте патерика — благочестие; как благочестивый князь он контрастирует с братом Ростиславом, повинным в убийстве печерского монаха Григория Чудотворца: «Ростислав же не пщева вины о фесе, не иде в манастырь от ярости. Не восхоте благословениа, и удалися от него; возлюби клятву, и прииде ему. Володимеръ же вниде в манастырь молитвы ради. И бывшим им у Треполя, и полкома снемшимася, побегоша князи наши от лица противных. И молитвою прееха реку Володимер, Ростислав же утопе со всеми своими по словеси блаженаго Григориа <…>» (с. 45, л. 43–4З об.).
Почитая монастырь, Владимир Мономах сам получает от него помощь: инок Агапит исцеляет князя от болезни.
Двойственна в тексте патерика роль Святополка Изяславича. Отнимая у монаха Прохора Лебедника соль, чудесно превращенную по молитвам Прохора из золы, Святополк стремится к обогащению. Мирская греховная жажда обогащения, обуревающая Святополка, противопоставлена в повествовании патерика добро-творению Прохора, бесплатно раздающего соль людям. Отнятая князем соль вновь превращается в пепел, а затем выброшенный по повелению Святополка пепел молитвами монаха опять становится солью. Чудесное исходит из обители в мир, когда же мирское греховное начало вторгается в сакральное пространство монастыря, «ответом» на это посягательство становится иное чудо, «античудо». Затем Святополк превращается из грешника в благочестивого правителя: «Сего же ради чюдеси велику любовь нача имети ко святей Боюродици и ко святыма отцема Антониа и Феодосиа, чернцаже Прохора велми чтяше и блажаше, ведый его раба Божиа воистину» (с. 56, л. 54 об.). Святополк отрекается от мирской логики и, верный обету, который дал Прохору, прерывает войну, чтобы похоронить монаха. Выбор князем высших, неотмирных ценностей вознаграждается успехом именно в мирском деле, в войне (впрочем, не случайно: это война с нехристианами — половцами). Святополк «по погребении его еха на войну, победу сотвори на поганыа, взя всю землю Половецкую и вынесе въ свою землю. Се бо бысть Богом дарованаа война в Руской земли, по проречению блаженаго.
Оттоле убо Святополкъ, егда исхожаше или на рать, или на ловы, прихожаше в манастырь со благодарением, пресвятей Богородици поклоняяся и гробу Феодосиеву, и в печеру вхожаше ко святому Антонию и блаженому Прохору, и всем преподобным отцем покланяяся, исхожаше в путь свой. И тако добре сгрояшеся Богом набдимое княжение его» (с. 56, л. 55).
Третий вариант поведения по отношению к монастырю характерен для князей Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха, и Мстислава Святополчича, сына Святополка Изяславича. Это смертный грех, убийство, совершаемое под влиянием гнева и нечестивой гордыни (Ростислав) и под воздействием гнева и алчности (Мстислав).
Ростислав, объятый гневом на монаха Григория Чудотворца, предрекшего оскорбившим его княжеским дружинникам (отрокам) и самому князю гибель в воде, велит утопить чернеца: «Князь же, страха Божиа не имея, ни на уме собе положи сего преподобнаго словесъ, мня его пустошъ глаголюща, яже пророчествова о немъ, и рече: „Мне ли поведаеши смерть от воды, умеющу бродити посреде ея?“ Тогда разгневася, повеле его воврещи в воду, связавше ему руце и нозе, и камень на шии его, — ти тако потоплен бысть» (с. 45, л. 42 об. — 43).
Скорая гибель Ростислава во время бегства от половцев оказывается воплощением прорицания святого. Возмездие Ростиславу — своеобразная иллюстрация к речению Христа из Евангелия от Матфея (7:2), цитируемому в патерике: «<…> Ростислав же утопе со всеми своими по словеси блаженаго Григориа. „Имже бо, — рече, — судом судите — судится вам, в нюже меру мерите — возмерится вам“» (с. 45, л. 43–4З об.).
Сходна структурная схема повествования о князе Мстиславе, который, желая получить хранившиеся в монастырской пещере сокровища, замучил до смерти монахов Василия и Феодора. Князь, «не стерпевъ обличениа, шумен быв от вина, възьярився, взем стрелу, уязви Василиа. Повеле сею разно затворити, да утро мучити ею зле. И в ту нощь оба скончастася о Господе» (с. 66, л. 65 об.).
Но князя-убийцу настигает быстрое возмездие, подтверждающее реченное Христом: «По малехъ же дьнех сам Мстислав застрелен бысть въ Володимери на забралех, биася съ Давидом Игоревичем. Познав стрелу свою, еюже застрели Василиа, и рече: „Се умираю днесь блаженаго деля“.
Да сбудется реченое Господомь: „Всяк, взимаяй ножъ, ножем умираетъ“ (цитируется Евангелие от Матфея, 26:52. — А.Р.). Понеже без закона убивъ, без закона убиен бысть. Сии же мученическый венец приаста о Христе Исусе, Господе нашем» (с. 66, л. 65 об. — 66).
Для князей Ростислава и Мстислава в Киево-Печерском патерике убийство монахов — некая победа над ними, посрамление (в рассказе о Ростиславе такое понимание непосредственно выражено в словах князя, обращенных к Григорию). Но на высшем духовном уровне и в сюжетных финалах патерикового повествования «победа» оборачивается поражением и гибелью князей, а гибель монахов представлена как последнее событие на пути к вечной жизни. Ценности земные и ценности вечные в патериковых рассказах противопоставлены. То, что лишено ценностного смысла для ограниченного восприятия князей, порабощенных властью и богатством, составляет единственное благо для черноризцев, ставящих мнимые земные блага ни во что.
Грех князей и божественное наказание соотносятся в Киево-Печерском патерике по принципу зеркальной симметрии. Князья, убивая монахов — служителей Господа, совершают грех против Бога. «Ответом» является возмездие, смерть, в точности совпадающая с убиением черноризцев. Особенно очевидно это в случае со смертью Мстислава Святополчича. Если Ростислав гибнет не в Днепре, как утопленный им Григорий, а в Стугне, то Мстислава убивает та самая стрела, которой он ранил монаха Василия — то есть стрелу эту посылает сам Бог[525]. При этом возмездие и его форма как бы предопределены деянием князей-убийц: приказывая утопить Григория, Ростислав, не ведая, готовит себе самому смерть в реке, а Мстислав, стреляя из лука в Василия, направляет стрелу в собственное сердце.
Евангельские речения Христа о суде и «ноже» реализованы в текстах патерика буквально, при этом метафора «нож» как бы материализуется. Эквивалентом метафоры «нож» становится реальная, вещественная стрела. История гибели Мстислава Святополчича одновременно может быть интерпретирована как реализация строк Псалтири: «Оружие извлекоша грешници, напрягоша лукъ свой състреляти нища и убога, заклати правыя с[е]рдцемъ. Оружие ихъ внидетъ въ c[е]рдца ихъ, и луцы ихъ съкрушатся» (36:14–15)[526].
Три варианта отношений князей и монахов Печерской обители, представленные в Киево-Печерском патерике, — это полная парадигма возможных отношений светской власти и иноков, удалившихся от мира.
Целительство versus/contra врачевание: некоторые наблюдения над сказаниями Киево-Печерского патерика
Основная оппозиция, организующая структуру Киево-Печерского патерика, — конфликт между мирскими и сакральными ценностями; этот конфликт решается победой сакрального над мирским. Конфликт между целительством и врачеванием — это вариант этой самой оппозиции. Оппозиция «целительство — врачевание» воплощена в двух сказаниях: в повествовании о монахе Агапите и в рассказе о князе-монахе Николе-Святоше.
Структура сказания, посвященного Агапиту, сформирована оппозицией «православный монах Агапит, благословленный Богом, — еретик врач-армянин, посрамленный Агапитом». Агапит обладает божественным даром целительства, утаенным под притворной видимостью медицинского искусства. (Агапит дает больному нечто, похожее на снадобье, но он исцеляет болезнь не им, а молитвой.) Напротив, врач-армянин употребляет специальное медицинское средство, но он не может врачевать безнадежные случаи; он лишь способен указать срок кончины пациента[527]. Иными словами, врач-армянин подпадает под власть смерти, и он не может преодолеть, не может победить законы плоти, правила материального мира. И напротив, его оппонент, святой-протагонист, побеждает смерть сверхъестественной силой.
С «мирской» точки зрения, внутреннее знание Агапита может показаться неведением[528]. И напротив, с точки зрения Агапита, неведением и «невежеством» является «дар прорицания», якобы присущий врачу[529].
Элементы оппозиции («монах» и «врач») связаны со сферами сакрального (которая воспринимается как «смерть» по отношению к «мирскому», секулярному) и мирского. Но на ином (высшем) семантическом уровне эти соответствия оказываются обратимыми. Монах связан с мирскими интересами, он исцеляет мирян (включая князя Владимира Мономаха), врач-мирянин зависим от смерти. Основная особенность духовной структуры сказания — вторжение, «экспансия» Агапитова пространства в пространство врача-армянина: Агапит побеждает антагониста на «чужом поле»: он опровергает дар предвидения, врачу-армянину вроде бы присущий, — предсказывая срок Агапитовой смерти, врач-армянин терпит неудачу. Монах обращает «еретика» в православную веру.
Победа Агапита над врачом-армянином означает как триумф ортодоксии над «еретической» армянской верой, так и победу сакрального целительства над секулярной медициной.
Фрагмент, посвященный Николе-Святоше и врачу-сирийцу Петру, обладает такой же структурой. Петр характеризуется как искусный лекарь («велми хытр» — с. 29, л. 25 об.). В отличие от случая с врачом-армянином, сириец не противопоставлен Николе по конфессиональному признаку: было бы разумным предположить, что они оба — православные христиане[530]. Но род занятий Петра так же значим, как и занятия Агапита. Он воплощает сущность мирских ценностей, Петр убеждает князя-инока отказаться от монашеского смирения и аскезы. Врач-сириец не только напоминает ему о княжеской славе и чести, но предупреждает его, предсказывая болезнь, вызванную скудной пищей. Он упоминает о плачевном последствии такой суровой жизни: «Преже суда суд приимеши» (с. 29, л. 26 об.). В мирском словаре Петра «суд» означает болезнь и раннюю смерть.
Возможно, этническое происхождение Петра также всё-таки значимо: он представлен носителем сторонней (то есть и иноземной, и мирской одновременно) точки зрения. И в конце концов, он был побежден русским — выразителем и приверженцем сакральных ценностей, принадлежим именно к русскому православию.
Фрагмент, повествующий о взаимоотношениях Николы и Петра, построен как своеобразная духовная и «медицинская» «дуэль». Врач-сириец пытается убедить Николу отказаться от иноческого служения. Отвечая, Никола напоминает Петру о превосходстве вечного блаженства над земным счастьем. Князь-черноризец и врач неоднократно представлены в корреляции «врач — пациент», и протагонисты меняют свои позиции в этом соотношении. Петр пытается лечить монаха, когда тот заболевает, но Никола отвергает предлагаемые снадобья. Более того, Никола предостерегает врача не принимать самому никаких снадобий, но сириец нарушает этот запрет. Врач обращает свой иллюзорный, мнимый дар против себя самого, когда принимает препарат собственного приготовления. Реальные роли врачуемого и врачующего представлены в этом сказании как противоположные тем, которые существуют в мирском сознании, опирающемся на иллюзорные понятия. Никола исцеляет Петра молитвой, когда врач-сириец «мало живота не погреши» (с. 30, л. 27). Исцеление врача, совершенное Николой-Святошей, означает победу сакрального над мирским в сфере этого самого мирского. Иными словами, согласно этой трактовке, мирское как бы не существует. Оно не обладает своим собственным пространством существования: его область существования есть область ложного.
Никола-Святоша, подобно Агапиту, предсказывает врачу срок смерти, но Петр не в состоянии понять святого. Также значимо, что святой инок пережил врача: он умер через 27 лет после Петровой смерти.
Никола-Святоша противопоставлен Петру как выразитель монашеского духа носителю ложных мирских ценностей. Их диалоги — нечто вроде спора между «небом» и «землей», нечто наподобие прения между вечными и временными ценностями. Никола остается безразличен к искушениям земного мира. Он посрамляет врача (= ложного целителя) как реальный целитель и побуждает его стать черноризцем.
Мирская медицина трактуется в этих сказаниях как дисциплина, которая не имеет даже ограниченного применения: она не может спасти человека, более того, она вообще не может помочь человеку. В соответствии с этой точкой зрения, медицина как особая дисциплина попросту не существует. Ее притязание на то, чтобы лечить людей, в сказаниях патерика представлено как абсолютно несостоятельное. Божественные, сакральные ценности противопоставлены мирским не только как сущностно, качественно иные, но и как ценности подлинные — «пустым» видимостям, мнимостям. То есть оппозиция «пелительство — врачевание» в Киево-Печерском патерике — не эквиполентная, а привативная.
В главном она типична для средневековой русской словесности (хотя восприятие врачевания в средневековых русских текстах варьируется[531]) и может быть определена не только как «целительство versus врачевание (лечение)», сколько как — и это будет более точно — «целительство contra врачевание».
Отношение к врачеванию и болезни, выраженное в сказаниях Киево-Печерского патерика, более всего напоминает восприятие болезни и лечения в раннехристианское время[532].
Тройные повторы в Житии Сергия Радонежского
Значение повторов в Житии Сергия Радонежского неоднократно отмечалось исследователями. Так, В. В. Колесов отметил, что в качестве индивидуального стилистического приема в Житии используется «увеличение объема синтагм» до «триады»; ученый связал этот признак текста с установкой на выражение догмата о Святой Троице, столь значимого для Сергия, который именно Троице посвятил основанный им храм на Маковце [Колесов 1989. С. 188–215]. В послесловии к книге «Жизнь и житие Сергия Радонежского» В. В. Колесов также обратил внимание на тройные повторы на надфразовом уровне текста Жития — на триады не слов, но событий: «Только с современной точки зрения стали заметны некоторые последовательности, незаметные или как бы неважные в Средние века. Все такие последовательности складываются в триады поступков и событий, в самом тексте Жития представленных разорванно и несвязно, в общем потоке повествования, для которого важен только сам герой, Сергий.
Мы видим, что Варфоломей-Сергий на служение посвящается трижды. Сначала — явлением чудного старца, вдохнувшего в отрока „умение грамоте“, затем — пострижением и, наконец, игуменством — высшим для Сергия предназначением, которое он не принял сразу, пока не прошел положенные до того пути. Последовательность движений культурного героя никогда не нарушается, поскольку это путь нравственного становления личности и оно не переносит обрыва связей и пропуска ступеней посвящения. Сергий потому и отказывается от чести епископского и даже митрополичьего сана, что положенные ему „ступени“ он прошел до конца — все три.
Построение храма святой Троицы также происходит по трем составляющим это действие этапам, и даже явление небесных сил, предсказывающих судьбу и смерть святого, троичны (так! — А.Р.): сначала это ангел, затем — Богородица, наконец — огонь в молитвенном экстазе Сергия. Лик святого и тут ограничен рамками Троицы — троичностью сущего, за пределы чего невозможно выйти без ущерба для целостности… образа? образца? или лика, который складывается в кружении этих, отмеренных судьбой триад?» [Колесов 1991. С. 328–329]. В. В. Колесов также обратил внимание на распределение ролей трех братьев в Житии — Сергия, Стефана и Петра: «Три брата — не сказочные персонажи, такова реальность семейных отношений. Но уже за таким распределением ролей сокрыты различные образы братства. Старший — властный, мирского склада, трезвый и сильный Стефан, как и Варфоломей — монах. Младший, Петр, кроткий мирянин, несущий свойственное человеку его судьбы земное тягло. Средний же, Варфоломей, и монах, как старший, и кроток, как младший; как оба его брата, связан и Сергий с заботами мира сего, но кротостью и послушанием, а не властностью правит он братией: „править без власти“ — духовным авторитетом и личным примером в труде — такова установка русского характера на власть и властные отношения: личный пример дороже всякого наказания, приказа и поучения.
Сказка выберет своим героем младшего, летописная повесть — старшего, героем жития по справедливости становится средний, даже в характере своем не выражающий никаких крайностей.
Идеалом становится „средний человек“ как представитель типа без крайностей и уклонений от нормы. Это также мировоззренческий принцип Сергия, которому вообще, по словам Г. Федотова, присуща была „светлая мерность“ жизни» [Колесов 1991. С. 333].
С некоторыми наблюдениями В. В. Колесова можно поспорить. Чудо с ангелом, сослужащим Сергию на литургии, явление Богоматери, которая предрекает троицкому игумену, что монастырь будет славен и Бог не оставит его иноков, и чудо с «огнем в молитвенном экстазе Сергия» (по-видимому, исследователь так называет видение огня, сходящего в потир), по моему мнению, отнюдь не образуют триады. Все три чуда различны по своему духовному смыслу: ни явление ангела, ни приход к Сергию Богоматери, вопреки утверждению В. В. Колесова, не содержат указаний не судьбу и смерть святого; чудеса в Житии по своим функциям и семантике объединяются в иные триады (о чем будет сказано ниже). Сомнительна мысль ученого, что тройные повторы в Житии Сергия Радонежского не осознавались древнерусскими книжниками и были как бы случайными. Вопрос о том, осознанно или неосознанно прибегали к тройным повторам составитель Жития Епифаний Премудрый и/или Пахомий Логофет, переработавший епифаниевский текст, имеет чисто психологический интерес и не относится к сфере литературоведения[533]. Но агиографический код, несомненно, предполагал прочтение тройных повторов в Житии именно как выражения догмата о Святой Троице и, конкретнее, как свидетельства о промыслительной заботе Троицы в жизни Сергия.
Однако существенно, что В. В. Колесов обратил внимание на тройные повторы как на уровне организации предложений, так и на надфразовом уровне текста, и указал на их богословскую семантику.
Наблюдения В. В. Колесова были продолжены и развиты В. М. Кириллиным, отметившим, что «семантический фон троической символики, подсвечивающий повествовательную ткань Жития, не равномерен. Наиболее насыщен он в первых трех главах анализируемого текста (В. М. Кириллин анализирует Житие Сергия Радонежского по тексту списка РГБ, ф. 304, № 698 так называемой Пространной редакции. — А.Р.), что объясняется, по-видимому, мистико-предвещательным значением описанных здесь событий. Так, уже само вступление в жизнь главного героя агиобиографии было ознаменовано чудесами, свидетельствующими о предназначенной ему необыкновенной судьбе»[534]. Первое чудо — троекратное возглашение еще не родившегося отрока, будущего Варфоломея-Сергия, из утробы матери во время богослужения в церкви; промыслительный характер этого чуда раскрыт в тексте Жития Сергия Радонежского, к этому эпизоду приведены параллели из Библии[535]. Следующие три чуда, имеющие, по мнению В. М. Кириллина, прообразующий смысл по отношению к монашеской жизни Сергия, — отказ младенца от вкушения материнского молока, если мать перед тем ела мясо; невкушение материнского молока в постные дни, по средам и пятницам; отказ от молока кормилиц. В. М. Кириллин заметил, что «Епифаний Премудрый главнейшее в содержании своего произведения — тринитарную концепцию — стремился выразить и через форму, подчиняя общей идее стилистический и композиционный планы изложения» [Кириллин 1995. С. 259]. Эпизод с возглашением ребенка из чрева матери имеет трехчастную диалогическую структуру: женщины в церкви трижды вопрошают ее, где сокрыт ребенок, и она трижды им отвечает. Как показал В. М. Кириллин, такие триады вопросов и ответов присущи также и другим ключевым эпизодам Жития: беседе отрока Варфоломея со старцем, даровавшим ему «книжное разумение», беседе с постригшим Сергия священником Митрофаном, испытанию Сергием-игуменом приходящих в монахи. Отмечены исследователем и значимое упоминание о трех перстах, которыми некий старец подает Варфоломею чудодейственный хлебец, и три предречения старца о будущем Сергия — великого подвижника [Кириллин 1995. С. 259–265].
В. М. Кириллин приходит к выводу, что «в епифаниевской редакции Жития Сергия Радонежского число 3 выступает в виде разнообразно оформленного повествовательного компонента: как биографическая подробность, художественная деталь, идейно-художественный образ, равно и как абстрактно-конструктивная модель либо для построения риторических фигур (на уровне словосочетания, фразы, предложения, периода), либо для построения эпизода или сцены. Иными словами, число 3 характеризует и содержательную сторону произведения, и его сюжетно-композиционную стилистическую структуру, так что по своему значению и функции всецело отображает стремление агиографа прославить своего героя как учителя Святой Троицы; но наряду с этим означенное число символически выражает и неизъяснимое рационально-логическими средствами знание о сложнейшей умонепостигаемой тайне мироздания в его вечной и временной реальностях, поскольку оно — число 3 — является формально-содержательным компонентом воспроизводимой в Житии исторической действительности, то есть земной жизни, представляющей собой как творение Бога образ и подобие жизни небесной и потому заключающей в себе знаки (тричисленность, триадность), которыми свидетельствуется бытие Божие в его троическом единстве, согласии и совершенной полноте» [Кириллин 1995. С. 265–266].
Фрагменты Жития, в которых эксплицитно выражен троичный мотив — троекратное возглашение ребенка во чреве матери[536] и три предсказания чудесным старцем грядущей судьбы Варфоломея, — были проанализированы В. Н. Топоровым, который отметил символический смысл этого мотива и попытался реконструировать восприятие Сергием догмата о Святой Троице[537]. Анализируя эпизод, повествующий о посвящении Сергием и его братом Стефаном основанного ими храма Святой Троице, В. Н. Топоров заметил: «не только у Стефана нет своего объяснения этого эпизода и связи его с идеей троичного богословия. Его нет и у самого Епифания, искусного в объяснении такого рода связей и подобных загадок. Как указывает Г. П. Федотов, „Епифаний сам бессилен раскрыть богословский смысл этого имени“» [Топоров 1998. С. 410].
Перечисленные исследователями примеры не исчерпывают всех тройных повторов, содержащихся в Житии Сергия Радонежского лаже на надфразовом, событийном уровне текста. Но прежде чем перейти к их анализу, необходимо ответить на вопрос, обоснованно ли рассматривать как целостный текст это произведение, первоначальная, епифаниевская редакция которого дошла до нас только в позднейших переработках и (по мнению Б. М. Клосса, последним занимавшегося изучением текстологии Жития) сохранилась примерно наполовину — до главки «О худости порть Сергиевыхъ и о некоемъ поселянине»[538]. Тем не менее допустимо рассматривать Житие как целостный текст, в различных редакциях которого сохраняются тройные повторы. В сохранившейся части епифаниевского текста (по Б. М. Клоссу) содержатся те же тернарные элементы, что и в иахомиевских переработках. Поэтому есть достаточные основания полагать, что в первоначальном тексте Епифания были и другие тройные повторы[539]. Согласно Б. М. Клоссу, Пространная редакция представляет контаминацию епифаниевского текста и фрагментов Четвертой и Пятой пахомиевских редакций [Клосс 1998. С. 213].
Ниже анализируются тройные повторы только на надфразовом уровне текста. При этом понятию «повтор» придан расширительный смысл: так именуются не только тождественные события или действия, но и события фактически различные, но идентичные по своей функции в тексте Жития.
Тройное возглашение ребенка из материнского чрева выступает в Житии в роли парадигмы и первообраза для последующих событий жизни Сергия. Особенный смысл его отмечен многочисленными библейскими параллелями: «Пакы ему достоит чюдитися, что ради не провъзгласи единицею или дважды, но паче третицею, яко да явится учению Святыя Троица, поне же убо тричисленое число паче инех прочихъ числъ болши есть зело чтомо. Везде бо троечисленое число всему добру начало и вина взвещению, яко же се глаголю: трижды Господь Самоила пророка възва; трею камению пращею Давидъ Голиада порази; трижды повеле възливати воду Илиа на полена, рекъ: „Утроите“, — утроиша; трижды тожде Илиа дуну на отрочища и въскреси его: три дни и три нощи Иона пророкъ в ките тридневова; трие отроци в Вавилоне пещь огньную угасиша; тричисленое же слышание Исаию пророку серафимовидцу: егда на небеси слышашеся ему пение аггельское, трисвятое въпиющих: „Свять, свять, свять Господь Саваоф!“ Трею же лет въведена бысть въ церковь Святая Святых пречистая дева Мария; тридесяти же леть Христос крестися от Иоанна въ Иердане; три же ученикы Христос постави на Фаворе и преобразися пред ними; тридневно же Христос изъ мертвых въскресе; трикраты же Христос по въскресении рече: „Петре, любиши ли мя?“ Что же извещаю по три числа, а что ради не помяну болшаго и страшнаго, еже есть тричисленое божество: треми святынями, треми собьствы, въ три лица едино божество Пресвятыа Троица, и Отца, и Сына, и Святого Духа; триупостаснаго Божества, едина сила, едина власть, едино господьство? Лепо же бяше и сему младенцу трижды провъзгласити в утробе матерне сущу, преже рожениа, прознаменуя от сего, яко будет некогда троичный ученикъ, еже и бысть, и многы приведет в разумь и въ уведение Божие, уча словесныя овца веровати въ Святую Троицу единосущную, въ едино Божество. <…> Яко и преже рожениа его Богь прознаменалъ есть его: не просто бо, ни бездобь таковое знамение и удивление бывшее преднее, но предпутие есть последи будущим. Се же понудихомся реши, елма же чюдна мужа чюдно и житие поведается» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 272, 274]; ср.: [Клосс 1998. С. 294–295].
Этот фрагмент несет в тексте прообразующую и как бы метаописательную функцию. В. М. Кириллин проницательно подметил повторение тройных вопросов и ответов или тройных обращений в Житии, заданное диалогом матери святого с другими прихожанками. Но он не обратил внимания, что появление тройных вопросно-ответных рядов в тексте предуказано упоминанием о трисвятом ангельском пении и о тройном вопросе Христа апостолу Петру.
Тройное возглашение ребенка в материнском чреве символически связывает еще не рожденного Сергия с священным прошлым (с библейскими событиями) и с собственным будущим, указывая тем самым на причастность святого провиденциальному плану, вечности. Одновременно в сравнении с эпизодами из Священной истории вырисовывается уникальность случая Сергия — он единственный представлен как исповедник Святой Троицы.
Изобилие ветхозаветных и новозаветных параллелей к тройному возглашению ребенка в материнской утробе заставляет читателя ожидать, что троичная символика проявится и в дальнейших событиях жизни Сергия.
Жизнь Сергия естественно разделяется на две половины: на годы, проведенные в миру, и на житие монаха[540]. Первый период жизни Варфоломея-Сергия состоит из двух неравных отрезков: времени от чуда с тройным восклицанием в чреве матери до дарования ему «книжного разума» и лет, прошедших от этого таинственного события до пострига. Весь первый период выделен в Пространной редакции Жития (сохранившей, по Б. М. Клоссу, начало епифаниевского текста) в особую главку — «Начало житию Сергиеву», — и ознаменован тремя событиями, имеющими провиденциальный смысл. Кроме тройного возглашения ребенка из утробы матери, это крещение младенца священником Михаилом, который «провидевъ духомь божественым, и проразуме, съсуду избранну быти младенцу» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 268]; ср.: [Клосс 1998. С. 292], и это отказ младенца питаться материнским молоком в постные дни и после вкушения матерью мяса, а также отказ от молока кормилиц. В. М. Кириллин рассматривает отказ младенца от молока как три самостоятельных чуда; но все три случая могут восприниматься и как варианты одной и той же «семантемы» на синтагматической оси текста: младенец не вкушает молока, когда вкушение связано с нарушением того или иного запрета.
И тройное возглашение ребенка из материнского чрева, и отказ от молока, и прозорливость священника при крещении свидетельствуют о Варфоломее-Сергии одно и то же: что он станет монахом, основателем обители Святой Троицы.
Другая триада в Житии, три главных события в жизни Сергия — крещение, дарование «книжного разумения» и пострижение. Совершителями всех трех событий выступают священники: иерей Михаил, крестивший святого, некий старец (в его образе Сергию, как можно понять, явился ангел[541]) и игумен Митрофан, который постриг Сергия в монахи. Все три священника извещают о великом призвании Сергия. Эти события отмечают ключевые моменты в его жизни: вступление в церковь, постижение религиозной мудрости и уход из мира и принятие монашества, полное посвящение себя Богу. Принятие монашества — главные, поворотные событие и решающий поступок Сергия; все предшествующее — лишь предварение пострижения Сергия в монахи. Все три эпизода особо отмечены в Житии сходными символическими мотивами. И священник Михаил, и некий старец, и игумен Митрофан свидетельствуют о великом предназначении Сергия: и Михаил, и чудесный старец говорят о святом как о служителе Святой Троицы; Митрофан же постригает Сергия в Троицкой церкви. И в эпизоде с чудесным пресвитером, и в эпизоде пострижения Сергия Митрофаном упоминается о литургическом хлебе, о просфоре. Старец «подасть ему нечто образом акы анафору, видением акы малъ кусъ бела хлеба пшенична, еже от святыя просфиры <…>» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 280]; ср.: [Клосс 1998. С. 298]. После пострижения от Митрофана «пребыстьже блаженный въ церкьви седмь дний, ничто же вкушая, точию просфиру, оную же от рукы игумена взят <…>» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 302]; ср.: [Клосс 1998. С. 311][542].
Повествование о встречах и борьбе Сергия-монаха с вредоносными силами разделено на три главных эпизода, подобно другим событиям его жизни. Это приход бесов с самим дьяволом в церковь перед заутреней: нападение бесов на Сергия в хижине святого, сопровождаемое угрозами и понуждением покинуть выбранное место; появление медведя, который, «акы некый злый длъжник» ([ПЛДР XIV–XV 1981. С. 312]; ср.: [Клосс 1998. С. 316]), в течение года приходил к святому за куском хлеба. Происки бесов и приход зверей поставлены в Житии в единый синонимический ряд, причем число синонимов в нем — три: «Овогда убо демоньскаа кознодейства и страхования, иногда же зверинаа устремлениа <…>» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 312]; ср.: [Клосс 1998. С. 316]. Трем встречам Сергия со священниками, узнающими в нем великого святого, контрастно соответствуют три встречи с носителями зла или опасности.
Тройные повторы обнаруживаются в тексте и далее.
Трижды Сергий совершает исцеления и воскрешение: воскрешает умершего отрока, исцеляет бесноватого вельможу и больного, жившего недалеко от Троицкой обители. Трижды проявляет Сергий в Житии прозорливость: когда мысленным зрением видит епископа Стефана Пермского, проходящего в нескольких верстах от Троицкого монастыря; когда узнает, что слуга князя Владимира Андреевича попробовал брашна, посланные князем в обитель; когда духовным взором видит все происходящее на Куликовом поле. Трижды по Божией воле привозят сладостный хлеб в монастырь, когда черноризцы испытывали недостаток в еде.
Три раза повторяется в описании жизни Сергия и мотив вкушения им хлеба: отрок Варфоломей-Сергий вкушает чудесный хлебец, который дает ему таинственный священник; Сергий работает за решето гнилых хлебов, которые составляют его дневную пищу; Сергий и другие монахи едят привезенные в монастырь сладостные хлебы.
Три чудесных видения Сергия-игумена составляют в Пространной редакции Жития отдельные главки: видение ангела, служащего литургию в храма вместе с Сергием; посещение Сергия Богоматерью, которая обещает заботиться об основанном им монастыре, и явление огня, осеняющего алтарь во время литургии, которую служит Сергий.
Наконец, на протяжении всего Жития рассказывается о трех чудесных явлению Сергию божественных сил: это ангел в образе старца-священника, дарующий отроку Варфоломею «книжное разумение»; это ангел, служащий Сергию на литургии; и это Богоматерь с апостолами Иоанном и Петром.
В триады соединены и образы монахов. Прежде всего это триада «Сергий — его старший брат Стефан — племянник Стефана Феодор», а также «мистическая группа» [Федотов 1990. С. 148] учеников Сергия — Симон, Исаакий и Михей. В Житии также упоминается о духовном общении Сергия с митрополитом Алексием и со Стефаном Пермским[543].
Тернарные структуры, имеющие символический религиозный смысл, — отнюдь не отличительная особенность именно Жития Сергия Радонежского. Они характерны, например, еще для Жития Феодосия Печерского — первой русской агиобиографии[544]. Тремя плачами — пермских людей, пермской церкви, и «инока списающа» — завершается написанное Епифанием Премудрым Житие Стефана Пермского. По словам Й. Бёртнеса, концовка этого жития «разительно отличается от соединения похвалы и описания посмертных чудес, которое обыкновенно завершает житие святого». По мнению исследователя, эта особенность может объясняться тем, что Житие было составлено Епифанием еще до канонизации Стефана, и тем, что агиограф мог ориентироваться на княжеские жития, имеющие сходное завершение [Bortnes 1984. Р. 326]. Между тем такая концовка может быть связана и с установкой Епифания на выражение троичного догмата в самой форме жития.
Но в сравнении с другими агиобиографиями Житие Сергия Радонежского отличает «перенасыщенность» тройными повторами, имеющими символический смысл. При этом прежде всего в триаду выстраиваются те события жизни святого, число которых было таковым на самом деле — крещение, пострижение и принятие игуменства Сергием. Однако эта «реальная», заданная самой жизнью и неизбежная для жизнеописания любого преподобного триада в Житии маркирована с помощью дополнительных общих элементов, встречающихся во всех трех эпизодах. С другой стороны, носителем семантики в тексте становится и план выражения как таковой. Так, из многочисленных бесовских угроз и приходов диких зверей к Сергию выбраны лишь три случая; то же самое, по-видимому, можно сказать и о триадах Сергиевых чудес, и о выделении триад среди троицких иноков, и — тем более — о организации диалогов по принципу триады. Епифаний выступает в роли книжника, лишь фиксирующего мистическое присутствие Святой Троицы в жизни Сергия. Он подобен иконописцу, который «не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом примирно, сущего образа: не накладывает краски на холст, а как бы расчищает посторонние налеты его, „записи“ духовной реальности» [Флоренский 1996. С. 383–384]. В то же время его роль активна, а его текст как бы предстает художественным произведением par excellence. Для Жития характерны и «интимный характер связи между референтом, означаемым и означающим», и «совпадение всех структурных уровней по рисунку структуры» — черты, присущие эстетическому сообщению [Эко 1998. С. 81–84].
И фразовый, и надфразовый уровни текста в Житии содержат тройные повторы, обозначающие присутствие Святой Троицы, ее таинственное водительство в жизни Сергия. Эта же семантика эксплицирована в разъяснениях агиографа[545].
Тем самым снимается оппозиция «форма — содержание», а события и их знаки в тексте не различаются, что вообще характерно для средневекового сознания. При этом о тайне Сергия и о тайне Святой Троице говорит не агиограф, но как бы сам текст и сама жизнь.
Анализ Жития Сергия Радонежского позволяет дать один из частных ответов на поставленный Ю. М. Лотманом вопрос: как может сохранять информативность текст, подчиненный жесткому канону (к числу таких текстов, естественно, относятся жития)? Ю. М. Лотман видел функцию таких текстов в сообщении реципиенту кода, с помощью которого тот мог реинтерпретировать другие тексты (в том числе окружающий мир и собственные представления). Но для этого не требуется наличия большого числа текстов (а на самом деле их немало), и потому Ю. М. Лотман полагает, что каноническое искусство содержит не только коды, но и новые сообщения. По мысли исследователя, эти новые сообщения возникают благодаря тому, что при создании текстов происходит нарушение правил, декларируемых традиционалистскими культурами (см.: [Лотман 1992а]; [Лотман 1992б]). Однако такая интерпретация грозит нивелировать различие между традиционалистскими и антитрадиционалистскими культурами. Более типичны для культур, ориентированных на канон, вероятно, иные случаи.
Житие Сергия Радонежского свидетельствует, что новое в традиционалистском тексте может создаваться не благодаря оригинальности сообщения, но благодаря особенностям кода. Это пример случая, когда заданное, привычное содержание передается с помощью кодов, взаимодействие которых в тексте непредсказуемо и оригинально. Читатель Жития знает, что ему будет сообщено о мистической связи жизни Сергия со Святой Троицей. Но он не может предугадать, как это будет сделано: на фразовом уровне, на событийном уровне (причем не известно, через какие события), с помощью разъяснений агиографа и ретроспективных аналогий. Элементы тройных повторов в Житии не всегда образуют единые блоки, но зачастую разделены значительными фрагментами текста и читатель должен сам обнаружить эти ряды. Чтение Жития оказывается воссозданием жизни святого как целостности, обладающей смыслом. Текст ведет читающего и к глубинному смыслу догмата о Святой Троице — смыслу многозначному и потаенному, созданному не в Житии, но уже «преднайденному» агиографом. Отказ агиографа от объяснения богословского смысла Святой Троицы может объясняться не «туманностью» его представлений о значении Троицы, как полагают Г. П. Федотов и В. Н. Топоров, а желанием не прикасаться к умонепостигаемому, подчеркнуть тайну.
Киевская Русь в русской историософии XIV–XVII вв. (Некоторые наблюдения)
Киевские исторические реалии, параллели между современными князьями и событиями и правителями и событиями киевского времени актуализируются в древнерусской словесности еще в конце XIV — начале XV в., в круге памятников, связанных с Дмитрием Донским и Куликовской битвой[546]. В конце XIV — первой половине XV в. складывается представление книжников-«идеологов», насельников Московской Руси, о границе, различии между современной культурой, историей, системой власти — и культурой, историей и государственными институтами Руси Киевской. С этой точки зрения интересны и значимы именно те отличия двух государств и их культур, которые стали предметов рефлексии, самосознания в Московской Руси. При этом под пером древнерусских книжников конца XIV — начала XVII в. отличия нередко принимали форму тождества: киевскому периоду русской истории приписывались приметы, черты более поздней, «московской», государственной жизни. Образ Киевской Руси в русской историософии конца XIV — начала XVII в. фактически был не только описанием Киевского государства позднейшей русской мыслью, но и самоописанием Московской Руси, ее образом-эталоном. Этот образ («историософема») является автомоделью[547], самоописанием Московской Русью себя самой, а также описанием ею же киевского наследия (в первую очередь, исторического и государственного).
Киевской Руси начинают приписываться не свойственные ее истории, государственной жизни и историческому самосознанию признаки: монархический принцип правления и «четкое» наследование престола по «степеням», поколениям, правопреемство от Византии и Римской империи и т. д. (Сказание о князьях Владимирских и связанные с ним литературные памятники первой половины XVI в., Степенная книга царского родословия и другие тексты, созданные в Московской Руси)[548]. Попытки (вполне осознанные, порой весьма тенденциозные и требовавшие «насилия над фактами») переписывать «киевскую» историю — свидетельство того, что киевское наследие перестает восприниматься в качестве органической части своей истории: напротив, оно — «Иное», которое должно быть о-своено, у-своено, сделано своим. «Переписывание» истории предполагает в качестве побудительного мотива осознание «чуждости» (или иногда «неправильности») этой истории. «Неправильность» — несоответствие современной норме. Парадокс, однако, заключается в том, что сама эта современная норма должна быть обнаружена в Прошлом, приписана ему. (Объяснение этого парадокса — в ориентации средневековой русской культуры на Начало, на Исток, который и является «хранилищем» ценностей[549]. Впрочем, и ориентация европейской культуры Ренессанса и так называемого классицизма тоже отчасти вписывается в эту модель.) Оппозиция «старое время — новое (нынешнее) время» была, конечно, свойственна и культуре, и историческому сознанию самой Киевской Руси[550], однако она не требовала столь радикального «переписывания» истории[551]. Культура и история еще, по-видимому, не создали в то время представления об автомодели.
Реминисценции из киевских памятников, имеющие, по-видимому, историософское значение, обнаруживаются в русской письменности конца XIV — начала XV в. Вот фрагмент заключительной похвалы из Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича, иногда приписываемого [Соловьев 1961] известному агиографу Епифанию Премудрому (текст цитируется по новгородской Карамзинской летописи): «Похваляет убо земля Римскаа Петра и Павла, Асийскаа Иоанна Богослова, Индейскааже Фому апостола, Иерусалимскаа — Иакова, брата господня, Андреа Пръвозваннаго — все Поморие, царя Констянтина — Гречьская земля, Володимера — Киевскаа съ окрестными грады, тебе же, великый княже Дмитрие, — вся Русскаа земля» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 226]. Фрагмент восходит к Слову о Законе и Благодати митрополита Илариона (вторая четверть XI в. (см.: [Адрианова-Перетц 1947. С. 89]; [Соловьев 1961. С. 100–101]); Дмитрий Донской уподоблен автором апостолам, императору Константину и святому князю Владимиру I[552]; при этом Русь оказывается связана преемством торжествующей веры и с Византией, и с Киевской землей. Победа Дмитрия Донского над «безбожными агарянами» истолкована как новое торжество православия и освобождение от «идольского попленения»; именно поэтому подвиг князя-полководца, воина Дмитрия Донского уподоблен (несколько искусственно[553]) подвигу князя-крестителя Владимира. Своей победой Дмитрий как бы возвращает Русь к исконной («владимирской») ситуации могущества и славы; однако это — «возвращение» на более высоком уровне: Русская земля, прославляющая Дмитрия в Слове о житии, пространственно превосходит (вопреки истинному положению вещей) Киевскую Русь. Показательна оппозиция: Киевская земля с окрестными градами (ограниченный locus) — вся Русская земля; в последнем понятии как бы заключено первое как его часть. Современная история мыслится не только как «восстановление», «воссоздание» старины, но и как приращение, развитие.
Преемство власти Дмитрия Донского от киевских правителей подчеркнуто уже во вступлении к Слову о житии: «Внук же бысть православнаго князя Ивана Даниловича, събирателя Руской земли, корене святого и Богом насаженаго саду, отрасль благоплодна и цвет прекрасный царя Володимера, новаго Костянтина, крестившаго землю Рускую, сродник же бысть новою чюдотворцю Бориса и Глеба» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 208]. Отсчет не случайно начат со святого князя Владимира I (а не с Рюрика или, например, Ярослава Мудрого). Причина, вероятно, не только в том, что Владимир — креститель Руси, но и в том, что он осознается как создатель Русского царства (основанием для такого осмысления могли служить аналогия с крестителем Римской империи императором Константином и свойство Владимира с византийскими василевсами). Показательно именование Владимира царем[554] (на самом деле он, согласно Слову Илариона, носил титул кагана; в письменных памятниках киевского периода встречается лишь единичное именование царем его сына, Ярослава Мудрого[555]). Владимира автор Слова о житии, возможно, считает наследником Византийской империи (через брак с принцессой Анной), хотя прямо и не пишет об этом. Восприятие царственной власти от Византии неотторжимо от принятия христианства от греков.
Киевская Русь, как известно, истолковывала себя как страну, удостоенную особого христианского призвания в «одиннадцатый час», равнодостойную Византии (Слово Илариона и другие памятники)[556]. В раннемосковской письменности этот взгляд перенесен уже на княжение Дмитрия Донского, выступающего хранителем православия и возвращающего на Русь светлые «добатыевские» времена. Показательна в этой связи «перелицовка» Слова о полку Игореве в Задонщине (если признавать, вслед за большинством ученых, первичность Слова о полку): его структура зеркально перевернута: теми же словами, в тех же образах-символах описано уже не поражение русского войска от степняков, но разгром монголотатар русскими. Характерно также и известие «летописной повести» о Куликовской битве и Сказания о Мамаевом побоище, что Мамай стремился завоевать Русь, «славенскую землю», подражая Батыю, убившему «великого князя Юрья Дмитреевичя» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 132], но «новый Батый» потерпел сокрушительное поражение. Не случайно упоминание в Сказании о Мамаевом побоище именно Киева и Владимира (центров двух домонгольских великих княжеств): выстраивается преемственность власти от «матери городов русских» Киева к «златоверхому» Владимиру и затем к Москве[557]. Показательно и то, что из всех погибших в годы «Батыевой рати» князей упомянут лишь великий князь Владимирский Юрий Всеволодович (христианское имя его отца, Всеволода Большое Гнездо, было Дмитрий). При этом Московская Русь осознается как земля славянская, один из центров славянства — по-видимому, под влиянием Повести временных лет, в которой подчеркнуто родство славянских народов и языков.
Столь же характерен и зачин Задонщины [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 96]. Повествование о славной победе над Мамаем начинается как мысленное возвращение к истоку, к благословенным горам Киевским, откуда «пошла» Русская земля. Победа над монголотатарами истолкована как торжество рода Афета над родом Сима, как «компенсация» за поражение на «Каяле» — Калке. Рассказ о победе на Куликовом поле в памятниках Куликовского цикла неизменно приобретает этиологическую направленность: обязательно присутствие сведений о «киевском прошлом» Руси и о происхождении славянства, восходящих к начальной части Повести временных лет (расселение славянских племен и возникновение Киева «на горах»[558]). Значима и переработка текста Слова о полку Игореве в Задонщине: «помянем первых лет времена, похвалим вещаго Бояна, горазна гудца в Киеве. Тот бо вещий Боянъ воскладоша горазная своя персты на живыя струны, пояше руским князем славы: первую славу великому князю киевскому Игорю Рюриковичю, 2 — великому князю Владимеру Святославичю Киевскому, третюю — великому князю Ярославу Володимеровичю»[559]. Имена «малоизвестных» для книжников XIV–XV вв. князей, которым «на самом деле» — в Слове о полку Игореве — пел песни Боян (Мстислав, Роман Святославич), заменяются именами киевских князей-завоевателей, собирателей земель — Игоря и Владимира (святой Владимир — еще и креститель Руси), причем расположенных по генеалогическому принципу.
Сам же победитель Мамая князь Дмитрий Московский уподобляется святым русским князьям — идеальным правителям и страстотерпцам, принявшим смерть в подражание Христу: в час смерти Дмитрия происходит землетрясение и, как будто бы, затмение (Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 222]). Сходные чудеса, сопровождающие крестную смерть Христа, встречаются в житиях правителей-страстотерпцев[560] (из произведений о князьях киевского времени — в проложном житии Игоря Ольговича [Пролог 1677. Л. 426 об.]). Уподобление Дмитрия князьям — правителям и собирателям Руси и Владимиру Крестителю, а также, косвенным образом, страстотерпцам Борису и Глебу (Слово о житии) свидетельствует, что князь прославляется и как воин — поборник православия, и сближается со страстотерпцами за перенесенные страдания и обиды. В Слове о житии Дмитрий неявно уподоблен еще и Ярославу Мудрому: предсмертное завещание московского князя детям с наставлением жить в мире напоминает завещание Ярослава из Повести временных лет под 1054 г.: хотя эти фрагменты можно считать топосами княжеского некролога, нельзя исключать и того, что наставление-завещание Дмитрия воспринималось как отсылка к летописи.
Итак, в Московской Руси конца XIV — первой половины XV в. Киев, киевское время осознаются как «золотая эпоха» Руси, прерванная Батыевым нашествием и возрождающаяся ныне в деяниях Московского государства.
Интерес к Киевской Руси прослеживается на протяжении всего XV столетия, он объясняется истолкованием Руси как монархии, православного царства, которому приуготовано стать всемирной империей и отвоевать Царьград у турок. Показательно пророчество об отвоевании Константинополя «русами» у турок в Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г. Нестора Искандера[561]. Этот памятник показывает, что идеи, связанные с духовными притязаниями Руси на византийское наследство, появились в русской книжности еще во второй половине XV столетия.
Киевское прошлое Руси становится эталоном, источником для исторических аналогий и уподоблений наряду со Священной историей. Характерно, например, именование в Инока Фомы слове похвальном [ПЛДР XV 1982. С. 270, 282, 286] (ок. 1458 г.) тверского князя Бориса Александровича — «Моисеем», «вторым Константином» и «новым Ярославом», причем «державные» коннотации такой аналогии не менее значимы, чем религиозные (Ярослав Мудрый, князь-собиратель Руси, не был канонизирован церковью). Но самой существенной идеей Слова похвального является утверждение самодержавности власти тверского князя и его превосходства над великими предками: «И въ книгахъ писано есть, и иже сынъ не можеть творити, и аще ли не видить отца творяща. Но сий же великий князь Борисъ, и еже что виде у праотець своихъ, и то все творяше, но еще и наполъняше, но пребываетъ выше власти» [ПЛДР XV 1982. С. 290]. Современная «державность» перестает восприниматься как простое «повторение», обновление Киевской Руси (как это до известной меры было в памятниках, посвященных Дмитрию Донскому, за исключением Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича), но утверждается в качестве более высокого и ценностного начала.
По-видимому, в начале XVI в. создаются легенды о родстве Рюрика — прародителя русского княжеского дома с кесарем Августом и о принятии Владимиром Мономахом, великим князем киевским, царских регалий из Византии (легенды отразились в Послании о Мономаховом венце Спиридона-Саввы, в Сказании о князьях Владимирских и в других памятниках[562]). Была предложена попытка построения схемы прямого преемства власти русских государей от библейского прародителя Ноя и античных правителей (Ной — его потомки — Нектанав — Александр Македонский — Август — Прус — Рюрик — Олег; Олег, вопреки свидетельствам древних летописей, сделан племянником Рюрика [ПЛДР XV–XVI 1984. С. 426]). Преемство власти и царских регалий (Август при венчании на царство принимает регалии царей — основателей Египетского и Индийского государств, Владимир Мономах — царский венец и чашу кесаря Августа и т. д.) сочетается с преемством-родством (Юлий Цезарь — его брат Август — родич Августа Прус — родич Пруса Рюрик…). История Руси теперь прямо включается уже не только в «киевский», но и во всемирный контекст. Киевское прошлое Руси как таковое уже недостаточно ценностно для московских книжников-«идеологов»; исток ищется вовне. Киевской Руси приписываются черты, ей совершенно не свойственные: самодержавный образ правления, венчание правителей венцом византийских императоров. Древнерусские книжники исходили не из реальных фактов, а из должного[563]: единственная православная Империя не могла не быть правопреемницей, наследницей «двух Римов», и, соответственно, для нее была искусственно создана генеалогия Рюриковичей, не подтверждаемая (хотя и не опровергаемая!) древними источниками. Перед нами некий символический акт приписывания прошлому несуществующих черт, в ходе которого прошлое преображалось, приобретало эти признаки.
Значимость киевского исторического наследия от этого не умалялась, а даже возрастала: начальный период истории Руси становился необходимым звеном между Священной и античной историей и настоящим Московии.
По-видимому, около 1523–1524 г. старец и игумен псковского Елезарова монастыря Филофей пишет Послание зело полезно о планитах и о зодеях и о прочих звездах, и о часех злых, и о рожении человечестем в которую звезду, и о богатстве и о нищете прелщающихся, адресованное великокняжескому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю Мунехину. На основе этого текста было, вероятно, между 1524–1526 гг. составлено Послание к великому князю Василию, в немъ же о исправлении крестного знамения и о содомском блуде (возможно, Филофей не был автором этого послания)[564]. Интересно, что здесь предками Василия III названы уже не только Ярослав Мудрый, упомянутый в ряду святых, но и римский император Константин Великий (!): «Не преступай, царю, заповеди, еже положиша твои прадеды, великий Константинъ, и блаженный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии святии, ихь ж корень и до тебе» [ПЛДР XV–XVI 1984. С. 438].
Характеристика Ярослава как святого, может быть, объясняется «периферийным» для русской религиозности представлением о святости всех русских князей (М. Чернявский, опираясь на преимущественно поздние свидетельства, считал, что, по древнерусским представлениям, все князья и цари Руси почитались как святые[565]; однако такое мнение недостаточно аргументировано); но скорее здесь эпитет «святой» становится своеобразной титулатурой князя (княжеского сана) вообще[566]. Утверждение же о Константине как о прародителе Василия III объясняется либо тем, что речь идет о преемстве не «по плоти», а «по власти» и/или тем, что византийские императоры из династии Палеологов, предки Василия по материнской линии, осознаны Филофеем как прямые потомки Константина Великого (такое представление высказывалось и самими византийцами).
Следующий этап переосмысления киевского исторического наследия — создание Степенной книги, в которой вся русская история была разделена по «степеням» (поколениям) самодержцев. Самодержцами именуются в ее тексте уже первые киевские князья (Олег, как и в Сказании о князьях Владимирских, назван родственником Игоря). «Программным» монологом о достоинстве царской власти становится здесь плач княгини Ольги по убитому древлянами мужу, князе Игоре [ПСРЛ Степенная книга 1913. С. 9–10]. В Повести временных лет причиной убийства Игоря названо необоримое корыстолюбие князя и дружины, прямого осуждения убийц-древлян здесь нет; в Степенной книге также сообщается о корыстолюбии Игоря, но убийство князя представлено, независимо от мотивов этого поступка, как безусловно преступное деяние.
Издевка в ответе Ольги послам императора, читающаяся в киевской летописи, развернута составителем Степенной книги в пространное поучение, в котором русская государыня наставляет императора ромеев; Киев и река Почайна в этом монологе уравниваются по своему «царственному» достоинству с Царьградом. Ольга рисуется справедливой в наказании и мудрой правительницей. «Самодержавное» происхождение приписывается и русским городам (рассказ об основании Пскова Ольгой).
Изображение киевских князей как самодержавных государей диктуется не только стремлением утвердить незыблемость царской власти, но и необходимостью включить Киевскую Русь в последовательный ряд великих царств: «Римская империя — Византия… — Русь/Россия»[567].
Интересна сама форма распределения материала в Степенной книге по княжениям, а не в соответствии с «погодичным» принципом. Одна (не единственная) из причин этого — видимо, в ориентации составителя (составителей) на византийские хроники (при том, что содержание Степенной книги ограничивается только русской историей). Русское прошлое выливается в подобающую ему форму, — «греческую», «имперскую»[568].
Другой достойный особого внимания пример толкования истории Киевской Руси в середине XVI в. — Казанская история. Автор этого произведения утверждает, что казанская земля «бе держава и область Киевская и Владимирская»[569]. Киевский и «Владимирский» (после обособления Северо-Восточной Руси в середине — второй половине XII в.) периоды истории Руси предстают единым целым, распад Киевской Руси на несколько самостоятельных княжеств (в том числе — Владимиро-Суздальское) как бы «отрицается» книжником. Завоевание же Казани Иваном Грозным трактовано как возвращение исконных, киевско-владимирских земель Русского государства. Равным образом истолковано и подчинение Новгорода Москве при Иване III: «Новогородскимъ бо людемъ не хотевшим его над собою имети и великим княземъ звати. Изначала же и исперва едино царство и едино государьство, едина держава Руская: и поляне, и древляне, и новгородцы, и полочане, и волыняне, и подолье — то все едина Русь: единому великому князю служаху, тому же и дани даваху, и повиновахуся киевскому и владимирскому» [ПЛДР XVI 1985. С. 304, 306].
На самом деле, естественно, ни один из русских князей не носил одновременно титула киевского и владимирского, и Новгород приобрел политическую независимость от Киева еще раньше, чем Владимир, и земли южно- и западнорусских племен (полян, полочан и других) никогда не находились в прямом подчинении у владимирского князя. История, с ее диахроническим принципом, преобразуется под пером автора Казанской истории в синхронное (или панхронное) сосуществование разновременных событий. Россия Ивана Грозного для составителя сказания — не наследница Киевского государства, а как бы сама возрожденная изначальная Киевская Русь. Показательно, что обновленная Русь, согласно составителю Казанской истории, возвращает не только свое величие и богатство, но и благочестие; освобождение от золотоордынского ига как бы приравнивается к Крещению Руси Владимиром I Святославичем, толкуется как свидетельство благочестия, которое стяжала Русская земля.
Составитель сказания соотносит две историософские модели: «Москва — Третий Рим» и «Москва — второй Киев», «И возсия ныне столный и преславный град Москва, яко вторый Киевъ, не усрамлю же ся и не буду виновенъ нарещи того, — и третий новый великий Римъ» [ПЛДР XVI 1985. С. 312]. Две последовательности — «Рим — новый Рим (Царьград) — Москва» и «Киев — Москва» оказываются сращены друг с другом, вторая — «встроена» в первую: Рим — Киев — Москва, и Киев как бы вступает в права «второго Рима»[570]. Русская история обретает в такой схеме одновременно два истока: «наднациональный», всемирный — Рим и автохтонный, местный — Киев. Автор Казанской истории, как представляется, отталкивается от историософской концепции Повести временных лет, в которой также были обозначены два первоистока Руси — «внешний» (варяги[571]) и внутренний, местный (Кий, основатель Киева, и его братья). Характерна симметричность двух триад: варяги — Рюрик и его братья Синеус и Трувор и славяне — Кий с братьями Щеком и Хоривом.
В целом схема преемства «всемирной» власти «Рим — Царьград — Москва» напоминает схему преемства власти русских правителей в древнерусской историософии (и историографии) конца XIV–XVI вв.: Киев — Владимир — Москва. В обоих случаях четко выдерживается принцип триады как совершенной, замкнутой в себе числовой «парадигмы», как символа полноты. «Триадности» русской истории соответствует «всемирная» имперская триада, история Руси — выступает как зеркало и вместилище истории всемирной[572].
В Казанской истории акцентирован (в отличие от Сказания о князьях Владимирских и близких к нему сочинений) именно автохтонный первоисток Руси. Так, автор обвиняет новгородцев в исконной склонности к «сепаратизму»: «Они же, неразумнии, приведоша себе, призвавше от Пруския земли, от варяг, князя и самодержца и землю свою всю ему предаша, да владеет ими, яко же хощетъ» [ПЛДР XVI 1985. С. 306]. По-видимому, в этом известии отразились сведения Сказания о князьях Владимирских и близких к нему текстов[573].
Связь Московской Руси с Киевской, происхождение московских государей от Владимира 1 Святого подчеркнуты и во многих других памятниках, например, в Слове похвальном Михаилу Черниговскому и боярину Федору Льва Филолога из Великих Миней Четьих [ПЛДР XVI 1986. С. 428–514].
Описывая этапы истории Руси, Лев Филолог, подобно автору Казанской истории, отступает от исторической истины: дробление Руси в XII в. — первой трети XIII в., до нашествия монголов, он изображает как последовательную, предустановленную Богом, смену центров власти: «Сице преже отъ Киева начальство на Владимирь (Бог. — А.Р.) преведе, таже и на Суздаль преложи. И понеже не преложишася отъ злобы, инамо еще начатьство отдаде» [ПЛДР XVI 1986. С. 488]. Таким образом, триада «Киев — Владимир (и Суздаль) — Москва» является модификацией первоначальной, «строгой» триады — «Киев — Владимир — Суздаль»; первоначально, по божественному «плану», именно Суздаль должен был стать «последним», истинным центром Руси, но из-за грехов русских людей этот план не было воплощен.
Среди попыток осмыслить русскую историю как часть всемирной в XVI в., кроме русских хронографов, — История о великом князе Московском Андрея Курбского. Вот как описываются им русские завоевания времен «Избранной рады»: «Идеже были прежде в спустошенных краехъ руских отзимовища татарские, тамо грады и места сооружишася. И не токмо <…> кони рускихъ сынов во Азии с текущих рекъ напишася — с Танаиса и Куалы (Танаис по-римски, а по-роску Дон, яже Еуропу делит со Асиею, яко космографии описуют в землетворительной книзе; Куала же исмаилтском языком глаголется, а словенским Медведица. — Прим. Курбского. — А.Р.) и с протчихъ, но и грады тамо поставишася» [ПЛДР XVI. 1986. С. 228]. Походы воевод Ивана Грозного как бы спроецированы на античную карту Скифии; русские осваивают земли, которые прежде начали обживать греки, но это обратное движение — с севера на юг. С севера, из «Ultima Thule» приходит уже не варварство, но культура и свет христианской веры. У Курбского (в отличие от автора Казанской истории) подчеркнут именно момент новизны совершенного воеводами Грозного времен «Избранной рады»: они завоевывают новые, доселе не принадлежавшие Москве земли [ПЛДР XVI 1985. С. 396], распространяя на них христианство. В отличие от идеологов концепции «Москва — Третий Рим», Курбский подчеркивает прежде всего не замкнутость и самодостаточность Руси — православной державы, но ее миссионерское призвание (концепции «Москва — Третий Рим», напротив, свойствен прежде всего изоляционизм [Лотман 1992–1993. Т. 1. С. 127; Т. 3. С. 337]).
Историософские идеи русской публицистики XVI в. сохраняют актуальность и в следующем столетии. Так, автор Писания о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского упоминает о происхождении царя Василия Шуйского и его племянника полководца Михаила Скопина-Шуйского от «единаго корени владеющаго вселенную Августа, кесаря Римского, и от единыя православныя веры християнския началника, князя Владимера Киевскаго и всеа Русския земли» [ПЛДР XVI–XVII 1987. С. 58]. Характерно, что Владимир I Святой именуется «началником» — основателем вселенского православия (если это и оговорка, «описка», то знаменательная[574]). Русское государство имеет, согласно Писанию, как бы два истока — имперский (царственный), связанный с Августом, и лишь затем — с Владимиром, и религиозный — соотносимый именно с Владимиром Киевским. Актуализация «киевского наследия» в период Смуты начала XVII в., распрей и временной утраты целостности и независимости страны естественна. (Ср. первый «всплеск» интереса к истории Киевской Руси в эпоху Куликовской битвы[575].)
Сведения о происхождении Рюрикова рода включаются и в Повесть о житии царя Федора Ивановича, написанную патриархом Иовом [ПЛДР XVI–XVII 1987. С. 74–128]. Акцентирована Иовом и идея Москвы — нового Царьграда: Борис Годунов Москву «величества ради и красоты проименова <…> Царьград» [ПЛДР XVI–XVII 1987. С. 88]. Царь Феодор Иванович уподобляется «православному первому во благочестии просиявшему царю Костянтину», а также Владимиру Святому [ПЛДР XVI–XVII 1987. С. 94]. Показательна также и «имперско-византийская» параллель из Хронографа 1617 г.: Ирина, супруга Феодора Ивановича, — императрица Евдокия, жена василевса Феодосия Юного [ПЛДР XVI–XVII 1987. С. 318]. Акцентирован в памятниках начала XVII в. и мотив борьбы Руси — православной державы с иноверцами.
Смерть царя Феодора Ивановича (1598), последнего из династии московских государей — Рюриковичей, заставила русских книжников по-новому осмыслить идею правопреемства царской власти. Так, составитель Хронографа 1617 г., чтобы сохранить идею «непрерывности» этой власти, утверждает, вопреки истине, что Феодор Иванович «приказал быти по себе на престоле <…> братаничу своему по матери Феодору Никитичю Романова» [ПЛДР XVI–XVII 1987. С. 322].
Для русской словесности XVII в. характерна и еще одна, новая тенденция. Параллель — противопоставление «Византия (Царьград) — Русь (Киев, Москва)» реализуется в русских повестях XVII в. (псевдоисторических по содержанию) не только на уровне «идеологической» конструкции, но и на сюжетном уровне. Так, в Сказании о начале Москвы и Крутицкой епископии основанию будущей российской столицы неким князем Даниилом Ивановичем предшествует появление «зверя превелика и пречюдна, троеглава и пестра велми» [ПЛДР XVII 1988. С. 121], символизирующего будущее величие Российского царства (ср. отчасти сходный мотив — знамения, предваряющие основание Царьграда императором Константином, — в Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г. Нестора Искандера, написанной в середине XV в.). В полубылинном Сказании о киевских богатырях мотив преемства Руси от Константинополя реализуется в виде истории об успешной борьбе богатырей князя «Владимира Всеславича» с богатырями «царя Костянтина из Царя-града» (мотив одоления/взятия города); впрочем, русские богатыри не завоевывают Царьград для своего князя [ПЛДР XVII 1988. С. 128–134][576].
Историософские идеи предшествующего времени начинают получать уже собственно литературные, орнаментально-«декоративные» функции[577].
Интересные метаморфозы претерпевает схема «Киев — Владимир — Москва» в петровскую эпоху. Петр и его сподвижники, минуя «темный», «варварский» московский период, подчеркивают связь новой России с Владимирской Русью (перенесение мощей святого Александра Невского в Петербург, в Александре-Невскую лавру) и с Киевом (явная параллель: святой Владимир, креститель и просветитель Руси, — Петр I, преобразователь России, в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир»; учреждение морского Андреевского флага и ордена святого Андрея Первозванного и развитие культа святого Андрея, по легенде Повести временных лет, посетившего будущие киевские и новгородские земли и предсказавшего основание Киева)[578]. Старая историософская схема приобретает неожиданный вид: «имперский Рим[579] — Киев/Владимир — петровская (петербургская) Россия». Петербург занимает место Москвы в этой схеме.
Автобиографические повествования в русской литературе второй половины XVI–XVII вв
(Повесть Мартирия Зеленецкого, Записка Елеазара Анзерского, Жития Аввакума и Епифания): проблема жанра
В древнерусской литературе существует целый ряд произведений, посвященных описанию событий жизни их составителей. Древнейшим памятником, содержащим автобиографические элементы, является Поучение князя Владимира Мономаха (ок. 1117 г.). Включенная в него «летопись» походов Мономаха, достаточно четко отграниченная от предшествующего текста, призвана подтвердить силу духа, мужество и неутомимость князя в трудах на благо земли. Сведения, сообщаемые Мономахом о себе, как бы обезличены, они не образуют связного повествования: это перечень разрозненных событий, а не автобиографическое повествование в собственном смысле слова.
Более очевидны «следы» автобиографического дискурса в памятниках церковной традиции. Наиболее ранний текст, в котором содержится автобиографический дискурс, — рассказ Лазаря Муромского основателя Успенского монастыря на острове Муч, записанный игуменом Успенского монастыря Феодосием в конце XIV в.[580] Два монастырских устава — Устав Евфросина Псковского (XV в.)[581] и Устав Герасима Болдинского (до 1554 г.)[582] — открываются автобиографическими «записками» — духовными завещаниями составителей. Между 1570 и 1595 гг. была написана повесть игумена Мартирия о своем пустынножительстве и об основании им Зеленецкого монастыря[583]. Такова традиция, предшествовшая созданию трех автобиографических повествований XVII столетия: Записки, или Сказания основателя Троицкого скита на Анзерском острове Елеазара Анзерского (1636–1656) и автобиографических житий Аввакума (1672–1675) и Епифания (первая часть Жития Епифания была составлена в 1667–1671 гг., вторая — в 1673–1675 гг; Житию предшествовала краткая автобиографическая записка Епифания, созданная около 1666 г.).
Доля и функции автобиографических известий в перечисленных памятниках различны. Установка на последовательное описание своей жизни, на изображение ее как связного текста, имеющего собственный сюжет (который проецируется на историю крестной смерти Христа, а также на истории апостолов и на ряд эпизодов житий святых), отличает только Житие Аввакума. Тенденция к индивидуализации собственных переживаний и ощущений проявляется и в других памятниках, начиная с Повести Мартирия Зеленецкого. В более ранних памятниках практически нет «психологического» автобиографизма, изображения книжниками своих жизни и чувств как уникальных, совершающихся лишь «здесь и теперь».
Особенно показательно в этом отношении повествование («изустная память»), предваряющее Устав Герасима Болдинского. В этой «изустной памяти» трижды первое лицо повествователя заменяется третьим лицом: само различение внешней и внутренней точек зрения совершенно нерелевантно. Герасим сообщает об основании им монастыря, но не о себе самом и дает наставление монахам [Крушельницкая 1993б. С. 267–268]. Автобиографические сведения здесь не самоценны, но как бы вкраплены в рассказ об истории возникновения обители. Герасим ничего не сообщает о своей жизни до основания монастыря, а последующие события называет, но не описывает. По своей структуре «память» Герасима Болдинского является своеобразной трансформацией предсмертного завещания, которое традиционно дает настоятель монахам (такие завещания-назидания обыкновенны в житиях настоятелей монастырей). Показательно, что Герасим Болдинский выступает в роли рассказчика, но не составителя текста (его «память» записывают присутствующие при предсмертном наставлении монахи). Рассказ Лазаря Муромского также близок к жанру духовного завещания (см.: [Понырко 1986. С. 385–387]), однако обладает внутренним повествовательным единством. Лазарь сообщает об основании им монастыря, но все связанные с ним события выстраиваются в единую последовательность мотивов: основать монастырь его побуждают открывающиеся ему в видении покойные епископ Цареградский (он также именуется в тексте епископом Кесарии Великой) Василий и епископ Новгородский Василий, в получении земли для монастыря Лазарю также чудесно помогает Василий Новгородский, он же открывает Лазарю в видении грядущую смерть. Собственная жизнь для Лазаря значима лишь как жизнь свидетеля божественных чудес[584]. Евфросин Псковский во вступлении к составленному им Уставу сообщает о себе значительно больше сведений; в частности, он указывает место своего рождения и имена отца и матери. Но и этот текст лишен автобиографизма в собственном смысле слова.
Первые древнерусские тексты с автобиографическими элементами не имеют практически никакого отношения к генезису автобиографического пласта у Мартирия Зеленецкого, Елеазара Анзерского, Аввакума и Епифания[585].
Несомненные автобиографические черты (в терминологическом значении слова) обнаруживаются в Повести Мартирия Зеленецкого. Формально она является духовным завещанием-наставлением, обращенным к «духовному брату» (духовному отцу) Досифею и к другим монахам обители: первая, адресованная Досифею, часть текста имеет повествовательный характер, она рассказывает об уходе Мартирия на пустонножительство из великолуцкого Сергиева монастыря; вторая часть — назидание-наставление монахам Зеленецкой обители; третья часть — вновь повествовательная; это шесть рассказов о явлении Мартирию Богородицы и о знамениях.
Установка Мартирия — описание собственной жизни. «Повем ти о себе, о еже како и где жителствовах аз преже вселения моего в сию пустыню» — начинает зеленецкий игумен свой рассказ Досифею[586]. Мартирий решает удалиться из монастыря вместе с неким «поваромъ белцемъ» в пустыню. «Внезапу же приде ко мне в келию мою некий уродъ ся творя, именем Михаилъ, и реють ко мне: „Мартирие, поиди единъ“. Тако же иде и к повару оному и рече ему то же слово: „Поиди един“» (с. 285). Таинственное указание юродивого у Мартирия остается непроясненным: Мартирий и повар удаляются в пустыню вдвоем в ночь накануне праздника Михаила Архангела, позднее повар уходит на время от Мартирия и не возвращается. Традиционно предречения и указания свыше в памятниках древнерусской словесности функциональны; пренебрежение ими наказуется, оборачивается во зло. Мартирий же никак не истолковывает приход и слова Михаила-юродивого, который по имени соотнесен с Михаилом Архангелом. Мартирий и его спутник покидают обитель в день праздника Архистратига Михаила, но смысл этой соотнесенности остается неведом и Мартирию, когда он уходит из монастыря, и читателям его повести. Умолчание Мартирия свидетельствует о непреодоленном недоумении — душевном состоянии, новом для древнерусской словесности.
Мартирий фиксирует существенные лишь для него, лишенные надличностной, внеиндивидуальной значимости детали: рассказывая о своем уходе из Сергиева монастыря вместе с поваром, он пишет: «На ту же нощь паде снега в колено, и нашли пустыню глубоку, и помыслили в той пустыни создати хижицу, но невозможно, понеже снегомъ мохъ запалъ, мшить нечим. И подле потока некоего во брегу в земли, в глине выкопали себе хижицу да окрыли ея прутием еловым» (с. 286). Упоминание о глубоком снеге призвано объяснить трудности Мартирия и его спутника в построении «хижицы». Но одновременно сообщение об этом препятствии — памятная автору деталь той далекой ночи, по-видимому полной сомнений и смятения. В его сознании выпадение снега в ночь ухода может быть и свидетельством небогоугодности поступка: когда к Мартирию, поселившемуся в пустыне, приходят бесы, он обращается к ним: «О, отпадшие беси, что сотворих вам азъ, грешный? Вы же мя ввели в сию пустыню и хощете поругатися мне» (с. 286). Слова Мартирия бесам — отражение его сомнений (не описанных в произведении, но восстанавливаемых в подтексте) в богоугодности ухода из Сергиева монастыря: ведь уйдя из обители, составитель Повести также «отпал» от спасительного священного пространства. Неслучайно Мартирий в конце концов покидает свое уединенное место. Глубоко идивидуальны и упоминания Мартирия об обустройстве «хижицы»: это не свидетельство тяжелых трудов подвижника (слишком «мизерны» для этого затруднения Мартирия и его спутника) и не свидетельство козней бесов, не дающих поселиться монаху на новом, диком месте: эти детали дороги Мартирию как часть его жизни. В контексте Повести традиционное для агиографии «абстрагирование» (умолчание об имени повара, о названии «потока некоего») приобретает новую функцию, создавая ощущение заброшенности и одиночества отшельника.
Индивидуально-личностные, отражающие внутренний мир Мартирия «приметы» — либо детали обстановки, лишенные традиционного сакрального, символического смысла («случайные»), либо чудеса, прочувствованные глубоко интимно, «интериоризованные» составителем Повести. Два описанных Мартирием чуда особенно интересны в этом отношении. Первое из них — видение ему во сне иконы Богоматери (явившейся прежде автору Повести в Сергиеве монастыре), плавающей в море, внезапно возникшем возле Зеленецкого монастыря. Недалеко от иконы лежал поверженный бес, а в воздухе парил Архангел Гавриил. Мартирий боится воды, но все же устремляется к иконе, чтобы хоть «ношки» ее коснуться, икона начинает погружаться в море, но переносит Мартирия на другой берег, после чего становится невидимой. Грандиозность изображаемой Мартирием картины исключительна: подвижник оказывается один на один со всем бурным миром — «морем житейским» и вместе с тем под особым покровительством Богородицы. Сон материализован, символическое овеществлено; страх Мартирия не только мистичен, но и «обыкновенен»: монах страшится морской глубины. Духовное, сверхреальное, и земное, материальное, в видении сплетены воедино. «Я» повествователя оказывается соизмеримо с самим универсумом, который «развертывается» перед его внутренним взором. Мартирий обнаруживает себя в некоем особом сакральном пространстве, обладающем чертами и конкретного места (Зеленецкого монастыря), и сверхреального локуса.
Другое чудо — явление Богоматери, описание которой пронизано незнакомым древнерусской словесности тонким религиозным «эротизмом». Мартирий заснул «в своей келии в чюлане», Богородица предстает ему во сне как «девица благообразна», которая «умилена бо лицем, благолепна образомъ», у нее «долги зеницы и брови черны». Мартирий смотрит на нее, «не зводячи очей своих с красоты ея» (с. 290). Очи Богородицы полны слез.
В описании обоих чудес-видений стираются границы между горним и дольним мирами: не только Мартирий ощущает причастность к высшей реальности, которая интериоризуется им, становится частью внутреннего «Я», но и Богородица с глубоким, почти земным участием обращена к нему. Традиционно в древнерусской словесности явления святых и Богоматери выступали в функции предречений или оказания помощи созерцающему. Оба чуда, изображенные в Повести Мартирия, этих функций лишены[587]. Их смысл в причастности «Я» божественному началу, а не в конкретных переменах жизни созерцателя[588].
Соизмеримость конкретного земного локуса, в котором пребывает «Я», и универсума неизменно отличают видения, описанные Мартирием. Кроме видения иконы Богородицы на море этот мотив присутствует в рассказе ученика Мартирия Авраамия о явлении осыпанного звездами креста на небе над Зеленецким монастырем и в сходном рассказе другого ученика, Гурия, о кресте в небе, напоминающем крест на недавно построенном Троицком храме. Воздвигнутые Мартирием монастырь и церковь предстают в этих рассказах как бы «сокращенным» божественным храмом-космосом. Храмовое пространство размыкается, отождествляясь с миром — нерукотворным храмом.
Внимание Мартирия к собственному «Я» всецело связано с проявлением сверхреального начала в собственной жизни. Мартирий не пишет «автобиографию», объединяя эпизоды своей жизни не по хронологическому, а по тематическому принципу (один за другим следуют разновременные рассказы о чудесах Богоматери и т. д.). Собственная история не обладает для Мартирия единым «сюжетом», цельностью. Автобиографическое начало находит выражение в трансформации и адаптации автором Повести традиционных «жанров»: сказания об основании монастыря, сказания о чудотворных иконах, патериковых рассказов[589]. В сочинении Мартирия, в отличие от произведений этой традиции, в центре повествования оказываются не только созерцаемое чудо, но и сам созерцатель: он обнаруживает себя в сакральном пространстве, и его переживания и ощущения также наделяются сакральным смыслом.
Таким образом, проникновение автобиографических элементов в Повести Мартирия объясняется тенденцией к распространению сакральной сферы на личность повествователя.
Следующее по времени автобиографическое повествование — Записка, или Сказание Елеазара Анзерского. Е. В. Крушельницкая характеризует Записку как глубоко традиционалистский текст, почти лишенный индивидуальных черт и предметных деталей, близкий к сказаниям о монастырях[590]. С этим мнением трудно согласиться. Действительно, переживания Елеазара не индивидуализированы, но исключительно напряженное визионерство автора выделяет Записку из литературной традиции. В сравнительно небольшом тексте описаны три видения Богоматери, укрепляющей Елеазара, и явление ее иконы, явление апостола Павла и искусителя в Павловом образе; рассказано о дважды услышанном Елеазаром небесном гласе, о явлении ему Святого Духа в образе голубя. Уникально видение Елеазаром «Господа Бога ветхи денми, яко же описують иконописцы, с ним же видяще на престоле Сына Божия, на третиемъ престоле Святаго Духа въ голубине образе. <…> Пред ними же стояще аггелы, имуще на себе одежду белу, яко снег, держаще в руку своею кадило<…>»[591]. Елеазар созерцает великое таинство — небесное богослужение и саму Святую Троицу в иконописном образе Троицы Новозаветной.
Замечательно и другое видение Елеазара: «Стоящу ми на поле чисте, и показующе ми некто незнаемъ перстом на небо: „Зри“. <…> И видехъ образъ Христа Бога нашего и Пречистую Богородицу, и святаго пророка Иоанна, с ними же дву анъгеловъ и апостоловъ, яко же в Деисусе описуються. <…> И видехъ нерукотворенный образъ Христа Бога, тако бысть велик — во все небо» (с. 331). М. Б. Плюханова отметила характерность видений Елеазара «для мистически экзальтированного» XVII века и истолковала их как «знаки богоизбранности места и доказательства необходимости устраивать на нем пустынь и строить церковь» [Плюханова 1996. С. 398–399]. Это объяснение смысла видений не вполне точно. Действительно, часть из них связана с основанием Елеазаром монастыря и призвана подтвердить святость избранного места и укрепить автора Записки в его намерениях строить обитель. Но видение Святой Троицы не имеет к созданию обители прямого отношения, а видение икон в небе соотнесено с ее историей лишь косвенно: значение этого видения никак не может быть ограничено желанием небесных сил укрепить Елеазара, готового покинуть Анзерский остров — прежде избранное для нового монастыря место. Грандиозность, космичность видений Елеазара исключительны даже на фоне визионерской литературы XVII в.; дарованные ему откровения сопоставимы прежде всего с картинами видений пророков Ветхого Завета[592] и Откровения Иоанна Богослова. Елеазар переносится в сверхреальное пространство, а окружающий его материальный мир в видениях еще в большей мере, чем у Мартирия Зеленецкого, наделяется зримыми признаками храма (небо — иконостас с иконами и т. д.). Сверхреальное для Елеазара должно быть материализовано, овеществлено в предметном. Явление не самих небесных сил, а их икон призвано подтвердить истинную, божественную, а не сатанинскую природу созерцаний Елеазара. Но одновременно в таком «иконном» характере видений выразилось переживание автором сакрального как физически явленного, почти осязаемого, стремление к почти соприкосновению с божественным началом. (В первом видении Елеазара такое соприкосновение и происходит: Богородица, посетившая его во сне, дает автору Записки посох и четки.) Однако «физическое», «материальное» у Елеазара иноприродно, потусторонне: почти все явления небесных сил происходят с ним во сне. В Записке Елеазара размыты границы между «Я» и «не-Я». «Я» автора постоянно переходит в мир потусторонней реальности. Обостренное переживание своей укорененности в ином бытии, сила и яркость визионерства сближают Записку Елеазара Анзерского с сочинениями Аввакума и Епифания[593]. Однако между этими сочинениями есть и существенные отличия: и у Епифания, и особенно у Аввакума мирское, профанное и сакральное тесно сплетены друг с другом: мирское, обыденное обнаруживает в себе высшие начала, возводится к божественному, а священное погружается в повседневность. У Елеазара божественное начало проявляется лишь в той сфере земного (храмовом и монастырском пространстве), которая сопричастна инобытию в большей мере, нежели другие области земного существования.
В «жанровом» отношении Записка Елеазара Анзерского — трансформация не только повестей об основании монастырей и патериковых рассказов, но и сказаний о чудесах икон. В отличие от Повести Мартирия Зеленецкого и от более поздних Житий Аввакума и Епифания, она лишена исповедальной установки и связи с традицией устного исповедального рассказа. Этим может объясняться и меньшее внимание Елеазара к собственным переживаниям и событиям своей жизни.
Записка и Житие Епифания формально ближе всего к патериковым рассказам и к сказаниям о чудесах[594]. Позиция их автора — это именно позиция созерцателя совершающихся с ним чудес. У Епифания нет установки на описание собственной жизни как самоценного события[595]. Он ничего не сообщает о своей жизни в миру, о своих родителях. Он не чудотворец, но объект чудотворения (см. об этом: [Робинсон 1963. С. 73–74]). Епифаний не соотносит собственную жизнь с земной жизнью Христа и с житиями святых (а такая соотнесенность обязательна для агиографии). Автобиографическое начало у Епифания проявляется в глубоко личностном, интимном переживании своей причастности божественным силам, ему помогающим и его наставляющим, в ощущении уникальности своей единичной «позиции», своего неповторимого «здесь и теперь» в мире. Внешняя реальность постоянно интериоризуется Епифанием. Как и Аввакум, он часто использует уменьшительно-ласкательные суффиксы[596]. (Единичные, но весьма красноречивые примеры этого встречаются еще в Повести Мартирия Зеленецкого, свидетельствуя об элементах интериоризации внешней реальности.) Епифаний сроднился со своей «келейцей», дважды спасенной Богородицей от пожара[597]. Когда он исчисляет утраты, вызванные вторым пожаром: огонь «сьелъ у мене дров шесть сажен, да каръбас, да и иново лесу немало. А пламя въверьх дышеть саженей на пят(ь) <…>»[598], — то детальность исчисления потерь отражает привязанность к окружающим отшельника вещам. Но чувство, питаемое Епифанием к своей келье, — не просто любовь к милым сердцу вещам. Пространство кельи, окружающее его плоть, сакрализовано, Богородица заботится о келье так, как могла бы печься о спасении церкви. Поползновения бесов сжечь келью напоминают козни, которые они чинят в житиях подвижникам, препятствуя основанию новых монастырей; келья обретает значение «малого храма», «малого монастыря». Пространство, в котором пребывает повествователь, непосредственно включено в сакральное пространство, обрамлено пространством сверхреальным; свидетельство об этом — рассказ жития о видении Епифанию (уже заточенному в темницу) лика Спаса в дни Великого поста: «И скоро наиде на мя сонь мал. И вижу сердечныма очима моима: темничное оконце мое во все страны широко стало и светъ велик ко мне в темницу сияет. <…> И нача той светь огустевати, и сотворися ис того света воздушнаго лице, яко ч(е)л(ове)ческое; очи, и нос, и брада, подобно образу нерукотворенному Сп(а)сову. И рече ми той образъ сице: „Твой сей путь, не скор’би“» (с. 129, л. 182).
В Житии Епифания исключительное значение приобретает телесное соприкосновение со сверхреальным: он «мнет» руками, мучит бесов, и иноку помогает мучить их сама Богородица, на руках Епифания остается «мясише» бесовское. Бил бесов еще Антоний Великий (см., например: [Лённгрен 2001–2004. Ч. 3. С. 192, л. 116 об.]), но такие «натуралистические» детали появляются впервые, кажется, только у Епифания. Также предметно обрисованы в видении Епифания после второго «урезания языка» в Пустозерске два языка инока-страдальца — московский и пустозерский: «московской не само красенъ, но бледноват, а пустоозерской зело краснешенекъ. Аз же, грешный, простерь руку мою левую, и взем рукою моею со воздуха пустоозерской мой красной языкъ, и положилъ его на правую мою руку, и зрю на него прилежно. Он же на руке моей ворошится живешенек. Аз же, дивяся много красоте его и живости его, и начахъ его обеми руками превращати, чюдяся ему» (с. 127). А. Н. Робинсон усматривает в этих эпизодах, в «пристальном наблюдении за действиями и ощущениями своих рук» отражение навыков Епифания, привыкшего к «рукоделию», к ручной работе[599]. Однако это весьма упрощенное объяснение. Особенное, телесное ощущение сакрального присуще и Аввакуму, оно проявляется и в бытовых деталях чудес, и в исключительном внимании к собственным физическим страданиям, и в самосакрализации своего тела (пятая челобитная царю Алексею Михайловичу)[600]. Своеобразная эстетизация страданий отличает описание мучений Аввакума, Епифания и других исповедников «старой веры» в Винограде Российском Семена Денисова[601]. В конкретном случае с пустозерскими страдальцами это восприятие телесности связано как с сакральностью мучений, так и с представлением — осознанным или неосознаваемым — об освященности собственного тела как умирающего и воскресающего во Христе. Но глубинный фон этого восприятия телесности — стремление, установка культуры XVII в. к воплощению сакрального, к его материализации.
Епифаний необычайно внимателен к собственным переживаниям: он фиксирует свои чувства, не облекая их в трафаретные формы выражения. Эмоциональному самовыражению у него подчинены не только молитвы и «внутренние монологи»[602], но и словарь, и отбор предметных деталей, и ритм повествования в ряде эпизодов.
Записка и в еще большей мере Житие Епифания — своеобразные трансформации «жанра» патериковых рассказов и рассказов о чудесах Богородицы. Автобиографические элементы здесь не автономны, а подчинены заданию свидетельствовать о божественном покровительстве. Однако установка Епифания принципиальна иная, нежели у Мартирия Зеленецкого или у Елеазара Анзерского: переживания автора не остаются в подтексте, как это происходит в ряде случаев в Повести Мартирия, и не облекаются в традиционные формулы, как в Записке Елеазара. Описание чуда и его переживание составляют неразрывное целое — мир эмоций Епифания освящен присутствием сакрального начала и поэтому также достоин внимания подразумеваемых читателей, как и сами чудеса. Описываются не только чудеса, но и ведущий к ним путь; лишь пройдя этот путь вместе с созерцателем, читатель постигает чудо (см.: [Июльская 2000. С. 64–67]).
Совершенно особое место занимает среди автобиографических повествований XVII в. Житие протопопа Аввакума. В нем появляется отсутствовавший в других автобиографических текстах хронологический принцип. Отступления от него немногочисленны: вынесение за рамки основного повествования повестей об исцелении «бешаных»[603] (эти повести прямо не относятся к основному сюжету страданий и борьбы за истинную веру); эпизод, рассказывающий о том, как Аввакум едва не погиб, отправившись ловить рыбу на озеро Шакшу (в тексте редакции «В»); вставленные в повествование о первом возвращении в Москву «даурские» эпизоды. Собственная жизнь для Аввакума — единый текст, развертывание которого предсказано видением символического корабля на Волге; это цепь страданий и борений, постоянного «сораспятия» с Христом. Роль предметных деталей, бытового пласта у Аввакума несоизмеримо существеннее, чем в Житии Епифания. Житие Аввакума глубоко нетрафаретно, автор преисполнен внимания ко всем индивидуальным, неповторимым событиям и переживаниям своей жизни. Но и проникновение в текст Жития бытоописания и повседневных событий, и последовательное самоописание Аввакумом эмоций объясняются отнюдь не сужением сферы сакрального в житии проповедника «старой веры», а, напротив, сакрализацией всего окружающего. Аввакум, как заметила М. Б. Плюханова, пишет именно собственное житие, оказываясь в этом отношении намного дерзновеннее Епифания; главный образец и оправдание такого исключительного поступка для него — пример самих апостолов [Plukhanova 1993. Р. 312–314]. События собственной жизни Аввакум постоянно соотносит с библейскими. Библейские эпизоды для него — и аналогия, и прообраз своей жизни[604]. В основе Жития протопопа Аввакума лежит снятие оппозиции «Я — Бог» и «Я — другие», «Я — мир». По мнению П. Хант, саморепрезентация Аввакума в Житии — это слияние с Богом; автор преодолевает и объединяет все возможные оппозиции текста (в том числе и стилистические), как бы восходя и опускаясь по их иерархии — от земного к небесному и обратно [Hunt 1975–1976. Р. 158, 164–168ff]. Житие Аввакума, утверждает исследовательница, — акт медиации между его автором и миром [Hunt 1975–1976. Р. 172]. Хотя некоторые утверждения П. Хант (о восприятии Аввакумом себя как «орудия», «инструмента» воплощения Бога на земле, об этом восприятии как об объяснении всех стилевых контрастов и оппозиций Жития) представляются мне слишком смелыми, эта характеристика необычайно точна и проницательна. Сакрализация обыденного, снятие оппозиции «сакральное — мирское» проявляется даже в тех эпизодах Жития, которые обычно трактуются как бытовые рассказы. Таков, например, рассказ о хождении на рыбную ловлю на озеро Шакшу. Н. С. Демкова трактует этот фрагмент как чисто автобиографический эпизод, лишенный религиозно-назидательного смысла [Демкова 1974. С. 96, 98–99]. Между тем для автора бедствия, которые он претерпел на обратном пути, — божественное наказание за гордыню протопопа, которому Бог чудесно помог. Замерзший Аввакум «взлез на вершину древа, уснулъ. Поваляся, пробудился <…>. Увы, Аввакумъ, бедная скотина, <…> яко неплодное древо, посекаемо бывает, тол(ь)ко смерть пришла. Взираю на н(е)бо и на сияющая звезды, тамо помышляю Вл(а)д(ы)ку, а сам и прекр(е)ститися не смогу: вес(ь) замерзъ. Помышляю лежа: „Х(рист)е, свете истинный, аще не ты меня от безгоднаго сего и нечаемаго времени избавиш(ь), нечева мне стало делат(ь), яко червь исчезаю“» (с. 74, л. 104 об. — 105). Молитва согревает Аввакуму сердце, и он доползает до дома. Здесь он узнает, что сходное бедствие произошло с его коровой, которая провалилась под лед и умирает. Протопопица зарезала корову и отдала истекшую из нее кровь некоему казаку, который приволок брошенную Аввакумом нарту с рыбой. Затем Аввакум рассказывает, как дочь заботилась о нем, и прибегает к ветхозаветным аналогиям. Своеобразный вывод, следующий из этой истории: «<…> сие мне наказание за то, чтоб я не величался пред Б(ого)м совестию своею» (с. 76, д. 107 об.): Аввакум не должен гордиться, что Бог сотворил с ним чудо (по воле Божией лед на озере расступился и протопоп смог напиться). Этот, казалось бы, случайный в религиозном контексте Жития рассказ перекликается с одним из первых эпизодов, предопределивших служение протопопа Богу: в начале жития Аввакум сообщал, что убедился в бренности всего земного и торжестве смерти, узнав об издохшей соседской скотине. Теперь он едва не умирает, подобно своей корове. Основные образы повествования приобретают двойственный характер: расступившийся на озере лед — чудо, избавившее протопопа от жажды, и одновременно — бедствие, приводящее к гибели его коровы. Предметные детали и в этом эпизоде наделены религиозным смыслом и окружены библейскими ассоциациями. Образ дерева, на которое влезает Аввакум, напоминает «неплодное древо» из евангельской притчи (Л к. 13:6–9). Одновременно этот фрагмент Жития проецируется по принципу своеобразной инверсии на строки Евангелия от Луки о Закхее, влезшем на смоковницу, чтобы увидеть Христа; узревший Господа Закхей уверовал (Лк. 19:4 сл.). Аввакум, упавший с дерева, переживет противоположное чувство — богооставленности и отчаяния, но оказывается избавлен от смерти. Второй, символический план, вероятно, приоткрывается и в рассказе о корове — ее кровь и смерть могут отсылать к смерти Христа во искупление грехов человеческих (телец, наряду с овном — жертвенные животные в Ветхом Завете; ягненок-Агнец — символ Христа-Жертвы).
Мотив зимней стужи, содержащийся в рассказе о путешествии на озеро Шакшу, также обладает вторым, иносказательным смыслом: зима в Житии — неизменная метафора гонений на исповедников истинной веры. Не случайно Аввакум характеризует свои чувства и переживания других приверженцев «старой веры» при известии об обрядовых нововведениях Никона, употребляя слово «зима» в иносказательном значении: «Мы, сошедъшеся со отцы, задумалися; видим, яко зима хощеть быти: сердце озябло, и ноги задрожали» (с. 23). Трудный путь, «волочение» обмерзшего протопопа — также один из ключевых, сквозных мотивов Жития.
Упоминаемое Аввакумом дерево, с которого он упал, соотносится и с древом познания добра и зла (а гордыня протопопа — с грехопадением Адама), и (отчасти контрастно) с крестным древом, на котором Иисус Христос искупил своей смертью грех Адама — первородный грех людей (ср. мотив умирания и оживания в рассказе Аввакума; символична, по-видимому, и трехдневная болезнь протопопа). Наконец сама цель путешествия, рыбная ловля, сближает Аввакума с апостолами — рыбаками и «ловцами человеков». Ключевые эпизоды священной истории — грехопадение и искупление — образуют подтекст аввакумовского Жития, и, соответственно, сквозь бытовое в тексте везде «просвечивает» сакральное.
Так в «бытовом» рассказе о возвращении с рыбной ловли проступают сакральные смыслы, которые явным образом не выражены, но несомненно предполагаются автором Жития.
С. А. Демченков соотнес Житие Аввакума с пророческими книгами Библии; при этом он сделал необходимую оговорку, что «пророчество представляет собой полижанровую структуру», но в него могут входить и «элементы биографического повествования». Преемственность по отношению к пророческим книгам исследователь обнаружил и в сочетании «субъективизма лирического самовыражения с эпической дистанцированностью повествователя от предмета повествования», и в диалогизации повествования (диалог «Я — Господь»), С. А. Демченков привел многочисленные текстуальные (фразеологические) и ситуационные параллели между пророческими книгами и Житием Аввакума [Демченков 2003. С. 8–9, 22].
Пророческие книги, естественно, не являются единственным образцом Жития Аввакума; сам С. А. Демченков, например, пишет, что в Житии наличествует «двойной символический сюжет» и что «[ж]изненный путь Аввакума под его пером превращается в биографию пророка и одновременно — в крестный путь Христа» [Демченков 2003. С. 23]. Но в плане семантики пророчества принципиально отличны от Жития Аввакума, поскольку совершались до пришествия Христа. В Новом Завете неоднократно говорится, что все пророчества были до Иоанна Крестителя (Мф. 11:13; Лк. 16:16). Христос, говоря об эсхатологической перспективе, упоминает лишь о грядущих лжехристах и лжепророках (Мф. 24:11, 24). Правда, в Деяниях святых апостолов упоминаются пророки (11:27, 13:1), но это не пророки христианской общины, а собственно иудейские. Есть исключение: упоминание о пророках христианской общины в Первом Послании Коринфянам (14:29–32; см. также: Еф. 3:5; 4:11 и — в эсхатологической перспективе — Откр. 11:10). Однако в христианской традиции было принято понимание, что пророки «были предтечами евангельского откровения; пролагая путь Богочеловеку, они возвещали высокое религиозное учение» [Мень 1991. С. 10]. Потому Аввакум не мог, кажется, непосредственно ставить себя на место библейских пророков (хотя в редакции В Жития он «настойчиво называет себя пророком» [Демкова 1974. С. 94]).
Указание С. А. Демченкова, что пророческая проповедь предполагает, что «[п]очти неизбежная катастрофа всё ещё может быть предотвращена» и что из этих же представлений исходит и Аввакум [Демченков 2003. С. 22], небесспорно. Для протопопа нынешнее время — непосредственное преддверие времени пришествия Антихриста; не случайно он, не принимая «никонианского» епископата, но при этом дозволяя служить покаявшимся священникам нового поставления, замечает, что «сие время ис правил вышло» (цит. по: [Бороздин 1998. С. 184]). Такое радикальное несоблюдение правил возможно только в «последние времена». Действительно, в противоречии с таким представлением протопоп «до самых последних дней своей жизни <…> верил в православную Русь древней веры и возлагал надежды на ее восстановление»[605]. Однако проповедничество Аввакума во многом отлично от пророческого обличения как средства для покаяния согрешивших. Хотя он и призывал царя Алексея Михайловича[606], а затем и Федора Алексеевича восстановить порушенное «древлее благочестие», его наставления обращены преимущественно к «верным» и нацелены на обличение их грехов и охранение от соблазнов; это проповедь твердости в вере.
У Епифания и у составителей более ранних автобиографических повествований отношение к описываемым событиям как к сакральным обусловливалось участием в них сверхреальных сил. И Мартирий, и Елеазар, и Епифаний далеко не всё из того, что произошло с ними, считают священным — и прежде всего, они сами не притязают на святость. В Житии Аввакума, наоборот, сакрально любое пространство, в котором оказывается автор, и любое событие, участником которого он становится. Аввакум считает себя вправе приписывать священный смысл описываемым поступкам и действиям, даже если на сторонний взгляд эти поступки и события обыденны, обыкновенны. Иными словами, у Епифания и других книжников — составителей автобиографических повествований сакральное традиционно, Аввакум же наделяет происходящее вокруг сакральным смыслом исключительно по своей воле. В Житии роль составителя принципиально иная, нежели в других автобиографических текстах; поэтика этого произведения также резко отличается от поэтики Мартирия, Елеазара и Епифания. Они, в отличие от Аввакума, не уподобляли эпизодов своей жизни событиям земной жизни Христа и деяниям апостолов; Аввакум же не просто находит сакральные смыслы в церковной традиции — текст Жития сам порождает их. Лишившись реминисценций из Библии, описания мучений Аввакума воеводой Пашковым, повествование о тяготах даурской ссылки протопопа и особенно рассказ о возвращении с Шакши стали бы «бытовыми» эпизодами, полностью утратили бы значение священных событий, которое придавал им автор Жития.
Исследователи творчества Аввакума и конфессиональной ситуации раскола русской церкви объясняют возникновение автобиографических повествований Аввакума и Епифания эсхатологическим переживанием наступивших времен, когда сакральное начало проникает во все повседневное существование[607]. Это бесспорно справедливое истолкование, однако, не может объяснить появления автобиографических элементов в произведениях более раннего времени — в Повести Мартирия Зеленецкого и в Записке Елеазара Анзерского. Возникновение этих автобиографических повествований связано с новым отношением книжников к собственному «Я» как к сопричастнику божественных откровений и чудес и с почти физическим ощущением чудес, явленных в земном мире. Перемены в самовосприятии и в мироощущении древнерусских книжников XVI–XVII вв., возможно, — частное следствие эволюции религиозного сознания и культуры. В XVI веке формируется теория Москвы — Третьего Рима, в следующем столетии получившая по существу государственное значение. Земное русское царство становится вместилищем и хранителем благодати Царства Небесного. Из этого представления должно было следовать новое отношение личности к сакральному началу: «Я» не только становится созерцателем чудес, но и само при этом входит в сакральное пространство; потому свидетель чуда вправе сам писать о себе, о явленном ему небесном посещении. XVI век — период религиозных споров: основы веры становятся предметом рефлексии, вырабатываются правила церковной и мирской благочестивой жизни. «Я» становится как бы активнее, действеннее в стяжании благодати, в устремленности к божественному. Внимание к символизму, к иерархическому строению мироздания прослеживается и в религиозной полемике на соборе 1553–1554 гг., и в сочинениях книжников XVI в. (Зиновия Отенского, Ермолая-Еразма, игумена Артемия и других). Оно привело к новому переживанию земной реальности как самораскрытия мира небесного: божественное приблизилось к человеческому. Следствием рефлексии над отношениями сверх-реального бытия и повседневности стало наделение мира земных вещей божественным смыслом, установка (проявившаяся в градостроительстве, в иконописи и фреске, в архитектуре) на запечатление красоты небесной в красоте земной, на придание подобиям святости первообразов. Земное пространство сакрализовалось[608]. При этом естественно возрастала роль личности — того, кто раскрывал и обнаруживал священное в обыденном. Парадоксальным образом такая «пансакральность» в итоге привела к секуляризации культуры: «неразличение» божественного и земного обернулось сужением сферы сакрального. В напряженном визионерстве и в размыкании границ между «Я» и миром, в интересе к повседневному автобиографические повествования XVI–XVII столетий отразили тенденции времени.
Эсхатологические и апокалиптические мотивы в сочинениях протопопа Аввакума
Мотивы эсхатологические (связанные с идеей конца света) и апокалиптические (представления о грядущем Страшном суде), естественно, проходят через множество произведений старообрядцев XVII в. Обрядовые изменения, осуществленные по указанию патриарха Никона, были восприняты ими как свидетельства возросшей власти дьявола над лежащим во зле миром и как знамения грядущего пришествия Антихриста, которое должно произойти незадолго до конца света. Никон первоначально был осознан как сам Антихрист, искушающий людей под видом пастыря Христова, а затем — как Антихристов предтеча: Антихрист уже народился, но еще не пришел в мир.
Тем не менее, и на этом фоне сочинения Аввакума выделяются напряженностью и остротой эсхатологического и апокалиптического видения. У этого книжника оно приобретает глубоко личностный эмоциональный характер и становится неотъемлемой частью поэтики и семантики, многое определяющей в индивидуальной (хотя и опирающейся на церковную традицию) образности пустозерского узника.
Время перед концом мира в эсхатологии — время особенное, отличающееся необычной емкостью, наполненностью событиями, и прежде всего событиями чрезвычайными, странными и катастрофическими. Но изменяется не только событийный «состав» времени, но и самый его характер, сущность. Во-первых, время убыстряет ход. Во-вторых, оно получает «негативную оценку»[609], т. к. апокалиптическое сознание не воспринимает время в качестве лишь абстрактной внеоценочной категории, «пустой» оболочки, наполняемой событиями. При этом катастрофическое настоящее, предваряющее конец мира и «уничтожение» времени, соотносимо с началом мира и с началом его христианской истории. При маркированности в христианском видении как категории начала, так и категории конца естественно установление между ними некоторого соответствия. К такому восприятию побуждал и средневековый принцип толкования деяний Священной истории, согласно которому более ранние события были символами — предвестиями, прообразами последующих.
Традиционная эсхатологическая и апокалиптическая «парадигма» у Аввакума индивидуализирована: смещен ряд акцентов, найдены новые образы, средства выражения для эсхатологических мотивов. Анализ их был бы интересен прежде всего с точки зрения того, как они повлияли на образный «словарь», на систему оппозиций, на поэтику видений в аввакумовских сочинениях. Иными словами, апокалиптические и эсхатологические «элементы» в произведениях Аввакума интересно исследовать с точки зрения текстуальных функций.
Идея о приходе «последних времен», о настоящем как преддверии конца мира и Страшного суда вовсе не была абсолютным убеждением Аввакума. Русь, ее власти, отпавшие от истинного Бога христиане могут покаяться и вернуть поколебленное благочестие, предотвратить окончательное свое падение, восстановить прежнюю ситуацию[610]. Возможность избежать бездны падения делала особенно значимой для автора пророческую, обличающую и учительную миссию; адресатом его наставлений-проповедей, в принципе, мог быть любой — как ревнитель старой веры, так и прельстившийся, «еретик». Настоящее осознается как возвращение к временам ветхозаветных пророков, гонимых за свою проповедь, Христа и ранних христиан, возвещавших истины нового учения во враждебном языческом мире. Показательна ссылка Аввакума в тексте редакции «А» Жития на апостольскую проповедь как образец и прецедент, мотивирующий дерзновенное решение — написать собственную агиобиографию [Аввакум 1979. С. 66]. Невозможно перечислить все скрытые и явные сопоставления Аввакума с Христом и пророками, а противников — с их гонителями, причем они даже преобладают количественно над сопоставлениями с греческими и русскими святыми.
Не менее характерно отождествление никониан в целом с гонителями христиан [Аввакум 1979. С. 94, 95]. Сопоставление переходит в прямое тождество: никонианам прямо приписывается готовность совершить те самые преступления, в которых был виновен царь Ирод. И временная, и пространственная дистанция между аввакумовской Русью и Израилем Ирода снимается. Настоящее как бы в свернутом виде содержит в себе все прошлое, становится последним звеном в истории и как бы вне-историей, пост-историей. Сходный принцип сопоставления проявляется и в других аналогиях: никониане — еретики прежнего времени (ариане, иконоборцы и т. д.)[611].
Принцип аналогии вообще был характерен для Средневековья, и он «работает» в древнерусской литературе на протяжении всего ее развития. Однако перерастание аналогии почти в отождествление и степень концентрации подобных сопоставлений у Аввакума все-таки исключительны. По-видимому, в этом проявилось своеобразие «эсхатологического» сознания старообрядцев, ощущающего кризис, надлом современной конфессиональной ситуации, разрыв с религиозной и исторической основой и стремящегося обрести устойчивость, самоидентичность в уподоблении оказавшихся вне церкви и государства противников «новизн» отвергаемым библейским пророкам, гонимым первохристианам, а настоящего времени, «конца», — «началу».
С переживанием современности как преддверия Страшного суда связана и антиномичность сознания старообрядцев; не только Аввакум, но и другие книжники — поборники «старины» именуют никониан приверженцами «латынской веры», «унеятами», приписывают им богослужение на латинском языке. Естественно, речь не идет о реальной ориентации на католические обряды, тем более что реформаторы не проводили богослужения на иных языках, кроме церковно-славянского. Но для Аввакума и его единомышленников, других старообрядцев истинные различия между никонианами и католиками, никонианами и униатами или даже никонианами и, к примеру, арианами не существенны. Никон и его сторонники — как бы олицетворение ложной веры вообще, ереси, «в конце мира» вобравшей в себя все еретические мнения прошлого.
Особенность пророчества у Аввакума (и, хотя в меньшей степени, у других книжников-старообрядцев) — в личностном осознании пророческой миссии, своего «здесь и теперь» места в мире. Апокалиптические и эсхатологические сочинения, знакомые им, повествовали о конце земли и Страшном суде в отстраненной форме, «внеличностно». Иначе обстоит дело в случае со старообрядческими книжниками XVII в. Их видения открывают грядущую судьбу не мира, но отдельных людей[612], прельщенных Антихристом; их задача — изобличить неправду врагов и наставить прельщенных, отступившихся на путь истины; они — не свидетели конца мира и суда, но проповедники, которые говорят об участи, грозящей Руси. Сверхреальная истина, явленная им, открывает часто лишь собственное будущее, которое, впрочем, превращается в символ тягостей и испытаний, грозящих всем «верным». Эсхатологический и апокалиптический текст должен описывать конец мира и Страшный суд; старообрядческие авторы изображают в видениях и пророчествах борьбу Христовых воинов и приспешников Антихриста, но исход этой борьбы остается для них тайной[613].
По своей значимости видения пустозерских узников сопоставимы с апокалиптическими картинами. Но от последних их отличает, во-первых, неопределенность исхода борьбы «предтечи Антихриста» Никона с божественными силами, а точнее, места этой борьбы в эсхатологических событиях: неясно, являются ли действия Никона безусловным знамением неотвратимого пришествия Антихриста и близости Страшного суда. Во-вторых, в Апокалипсисе и апокрифах совершенно невозможна активная роль лица, повествующего об открытом ему Богом видении; старообрядческие же писатели XVII в. видят себя борцами с «Антихристовой прелестью». Не осмеливаясь рисовать от собственного имени картины Страшного суда, они дерзают изобразить себя участниками суда над еретиками-никонианами, вершимого Богом по их молитве или даже — ими самими.
Настоящее воспринимается Аввакумом как возможное преддверие Страшного суда. Это уже не вполне время, но скорее вневременное состояние, врата вечности. «Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю» — так завершается текст вступления в редакции «А» Жития [Аввакум 1979. С. 22]; эта формула, как установил А. Н. Робинсон, перекликается с завершением письма протопопа церковным властям от 5 августа 1667 г. [Робинсон 1963. С. 216]; [Материалы 1876. Т. 2. С. 23]. Смерть и жизнь оказываются нераздельными: жизнь страждущего за веру подобна смерти, а смерть становится не однократным событием, но постоянным состоянием. Показателен перечень «умираний» избиваемого, в буквальном смысле слова, до смерти протопопа в его Житии и мотив погребения в землю заживо. Этот же мотив темницы-гроба развернут во второй части Жития инока Епифания, во многом перекликающегося с аввакумовским автобиографическим повествованием [Пустозерская проза 1989. С. 185]; ср.: [Пустозерский сборник 1975. С. 114). В посланиях Аввакума «мимошедшие времена» противопоставлены нынешнему последнему, пограничному времени, предваряющему вечность [Аввакум 1979. С. 160, 168].
С. Матхаузерова детально проанализировала грамматическую категорию времени в сочинениях Аввакума, установив, что распределение грамматических времен свидетельствует о принадлежности ревнителей старой веры и самого автора в их числе не только историческому преходящему времени, но и вечности, в то время как их противники ограничены в своем существовании только этим преходящим временем [Матхаузерова 1972], [Матхаузерова 1976. С. 123–130]. Не менее интересен, однако, был бы анализ времени как текстовой, надграмматической категории, организующей повествование в Житии. Аввакума (как, впрочем, и Епифания) почти не занимает место описываемых событий на хронологической оси. Даты в Житии встречаются крайне редко: в тексте редакции «А» указывается лишь дата солнечного затмения в год начала никоновских реформ, в дальнейшем Аввакум предпочитает внутреннюю хронологию, отмечая временные интервалы между эпизодами своей жизни (три года, семь лет и т. д.). Историческое время как бы «проваливается», исчезает в ситуации ожидания конца света.
Вечность и личностное, субъективно переживаемое время начинает прямо соотноситься. Поэтому у Аввакума оказывается возможным и перенесение рассказов об исцелении «бешаных» в конец текста: нарушая временную последовательность, он помещает рассказы в позицию, которую в житийных сочинениях занимали описания посмертных чудес святых; Аввакум рассматривает совершенные им исцеления как аналог этих посмертных чудес и приближает свое Житие к агиографическому «канону». Нарушение временного принципа возможно для старообрядческого книжника потому, что само противопоставление прижизненного и посмертного перестает быть релевантным в преддверии конца времени. Вечность присутствует в жизни Аввакума, «проникает» в нее через чудеса, совершаемые ангелом, святыми и Господом, через пророческие видения — откровения.
Непосредственное присутствие сакрального, вечности в жизни автора позволяет ему строить Житие по «субъективному» временному принципу, на основе припоминания о событиях своего прошлого[614]. Естественно, в традиционном житии святого повествование, напротив, всегда объективизировано, ведется с некоторой надличностной точки зрения, построение текста никак не зависит от «произвола» памяти, от кругозора составителя, который проявляет свое присутствие лишь в отступлениях и комментариях по поводу описываемого, к тому же носящих обыкновенно этикетный, трафаретный характер.
По-видимому, несущественно для Аввакума и разграничение предапокалиптического (нынешнего) и апокалиптического «состояний» мира. Как утверждал пустозерский страдалец, воздаяние грешные и праведные получат лишь после Второго пришествия, когда их погребенные тела восстанут из праха, соединятся с душами [Аввакум 1979. С. 167–168, 203–204]. Однако в его сочинениях встречаются и упоминания о муках, которыми были подвергнуты враги истинной православной веры сразу после смерти [Аввакум 1979. С. 146, 188–189]. Вопрос о воздаянии, о времени его совершения (сразу после смерти человека или же на Страшном суде) в православном богословии не был решен однозначно. В принципе, оба утверждения могли встречаться в одном и том же тексте и не осознаваться как несовместимые. Но нельзя исключить, что Аввакум не считал эти утверждения о воздаянии противоречащими друг другу, так как само противопоставление «индивидуального» суда над каждым скончавшимся и суда над всеми смертными накануне конца света теряло смысл. Страшный суд начинает вершиться уже теперь.
Ощущение, что время «прекращается», исчезает, вероятно, определяло и прямое отождествление аввакумовских высказываний с речениями, например, апостола Павла[615] (на самом деле Аввакум цитирует не апостола Павла, а другие тексты), или именование ассирийцев, пленивших нечестивого израильского царя Манассию «татарами», разворачивающее скрытую аналогию: «Манассия, наказанный от Бога нашествием ассирийцев, — Алексей Михайлович, опасающийся турецко-татарского нашествия». Отождествление себя с пророками и апостолами, а настоящего времени — с эпохами гонений на правую веру объяснялось, как уже указывалось выше, особым характером настоящего, как бы вобравшего в себя все прошлое, оказавшегося повторением архетипических ситуаций искушения (параллель «Адам, соблазненный дьяволом, — Алексей Михайлович, соблазненный Никоном») и преследования (Москва — новый Вавилон).
Равнодушные к настоящему историческому времени, книжники-старообрядцы осмысляли его в свете эсхатологически трактуемых историософских учений. Так, теория «Москва — Третий Рим» у Аввакума [Аввакум 1979. С. 86–87, 147] и других традиционалистов [ПЛДР XVII 1989. С. 517]; [Пустозерская проза 1989. С. 211–213, 251] истолковывается следующим образом: Русь — религиозная правопреемница докатолического Рима и православной Византии. Положение Руси — последнего «элемента» в триаде «Рим — Константинополь — Москва» не является безусловным свидетельством ее нерушимости, но предвещает опасности, угрозы. «Четвертому Риму» не бывать, но третий, замыкающий триаду, может разделить участь первых двух, ибо он может наследовать их участь, обремененный их пороками, их нечестием. (Такой смысл был уже заложен в исконной версии этой теории, сформулированной старцем Филофеем[616].) История истолковывается старообрядцами с точки зрения метаисторической; при этом опора ищется в Библии, в толкованиях Книги о вере и Кирилловой книги, в Слове об Антихристе Ипполита, в Слове о Втором пришествии Ефрема Сирина, в толкованиях Петра Дамаскина и т. д.). Однако все эти апокалиптические и эсхатологические сочинения рассматриваются крайне узко: в них ищется ответ на вопрос о судьбах России.
Наибольшее внимание к созвучию времен, к соотнесению «конца» и «начала» свойственны опять-таки протопопу Аввакуму: соотнесенность является у него не только предметом обсуждения, но и изображения. Наиболее важные точки на оси времени для пустозерского книжника — Сотворение мира и Адама, грехопадение первого человека, пришествие Антихриста. О грядущем Втором пришествии Христа Аввакум упоминает мало и, естественно, не описывает его в своих видениях: ведь Антихрист как раз и соблазняет людей именем Господа, и поэтому «откровение» о Втором пришествии может исходить не от Христа, но от его врага. Тем не менее отсутствие в настоящем, «последнем» времени видений Второго пришествия как бы компенсируется уподоблением Христу самого Аввакума. Одновременно автор сопоставляет себя и с Адамом. В «Пятой» челобитной царю Алексею Михайловичу Аввакум пишет, как в Великий пост «лежащу ми на одре моем <…> и Божиим благоволением в нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь. <…>
Видишь ли, самодержавие? Ты владеешь на свободе одною русскою землею, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо и землю; <…> яз <…> принуждением вашим, не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь — Бог мне дал, якож выше того рекох» [Аввакум 1979. С. 143–144]. П. Хант предположила, что Аввакум сравнивает здесь себя с Христом [Хант 1977], М. Б. Плюханова (первоначально, по-видимому, придерживавшаяся этого же мнения [Плюханова 1982. С. 189]), недавно назвала в качестве аналога упомянутое самим Аввакумом в тексте апокрифическое Откровение Авраама из Палеи, сделав оговорку, что в апокрифе «Авраам только видит мир, А[ввакум] его в себя вмещает» [Пустозерская проза 1989. С. 339]. А. М. Панченко категорически отверг утверждение об уподоблении Христу, настаивая, что Аввакум сопоставляет себя с Адамом, тело и душа которого были созданы из земных и небесных стихий [Панченко 1984. С. 24 и след.]. Различные суждения, возможно, являются взаимодополняющими.
Христос как Богочеловек как бы вмещает в себя всю сущность, весь «состав» Вселенной. Распространение тела Аввакума в ночь на пятницу одной из недель Великого поста, по-видимому, сближено с крестной смертью Христа; не случайно видению предшествует рассказ о болезни протопопа, от которой он исцеляется после телесного «распространения», а вслед за описанием видения следуют слова, говорящие о положении на земле тела умершего Аввакума, без савана и гроба; еще далее описывается явление ему Христа. Сближение с Адамом также очень вероятно; но ведь Христос — это «новый Адам», искупивший грех первого человека. Менее значима параллель с апокрифом об Аврааме, хотя именно она приводится самим Аввакумом вслед за описанием видения. Однако, возможно, она прежде всего как бы скрывает другие, более дерзновенные аналогии.
Возможно, видение содержит и апокалиптические аллюзии. Дарование Аввакуму неба, земли и тварей земных, осиянность светом, телесная легкость сопоставимы с преображением праведников после Второго пришествия[617].
Цепь времени замыкается: Адам — Христос — «новый Адам» — (Аввакум) — Христос. Христу и его новому апостолу — Аввакуму противопоставлен Антихрист, являющийся протопопу в видении нагим человеком, сопровождаемым двумя спутниками в белых ризах [Аввакум 1979. С. 96–97]. Нагота Антихриста одновременно соотносит его и с Адамом, и — как лжемессию — с распятым Христом. Белые одежды спутников напоминают о белоснежных одеяниях юношей, окружающих Господа, в Откровении Иоанна Богослова[618].
Ощущение грядущего конца света и Страшного суда повлияло и на мировидение, и на поэтику сочинений книжников-старообрядцев. Эсхатологические и апокалиптические мотивы проходят через все произведения протопопа Аввакума, формируя «ассоциативное поле» его образов, проявляясь в подтексте сочинений.
Проблемы барокко и сочинения Аввакума
А. А. Морозовым уже достаточно давно было высказано мнение о принадлежности сочинений Аввакума (прежде всего, его Жития) к литературе барокко [Морозов 1962]. В самом деле, у Аввакума (особенно в Житии) встречаются, как будто, черты барочной словесности: например, полистилистичность, соединение «реалистических» (или, точнее, «натуралистических») сцен с подчеркнуто условными, символико-эмблематическими эпизодами. Вспомним символ (почти барочную эмблему) — корабль в видении Аввакума на Волге (Житие); метафора жизни — плавания в бурном море развертывается далее в тексте, придавая символическое значение реальным событиям и вещам (плавание в дощанике). Полистилистичность проявляется и в «свободном» сочетании церковно-славянской и русской («просторечной») лексики. С барокко Аввакума роднит и визионерство: явление ангелов в Житии, а также видение царя Алексея Михайловича с «язвою на брюхе» («Пятая» челобитная царю Алексею Михайловичу) и видение Антихриста (Книга бесед. Беседа восьмая), и в целом то свойство его сочинений, которое можно обозначить несколько расплывчатым словом «экспрессивность»: повышенная эмоциональность речи, связанная с напряженным переживанием эсхатологического смысла в событиях жизни автора. Присутствуют в сочинениях Аввакума как любимый литераторами барокко мотив преодоления границы, отчужденности человеческого (собственного) тела от мироздания, так и мотив изоморфности человека-микрокосма и макрокосма — природного мира [Смирнов 1977]; [Смирнов 1979]. Таков известный фрагмент из «Пятой» челобитной Алексею Михайловичу, повествующий о «распространении» тела Аввакума и «заполнении» им мироздания:
«И лежащу ми на одре моем <…> и Божиим благоволением в нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небом по всей земли распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь. <…>
Видишь ли, самодержавие? Ты владеешь на свободе одною русскою землею, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо и землю; ты, от здешняго своего царства в вечный свой дом пошедше, только возьмешь гроб и саван, аз же, присуждением вашим, не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь — Бог мне дал, якож выше того рекох»[619].
Между прочим парадоксальное обыгрывание в этих строках антиномии «темничное сидение/стеснение» — «владение землею/ простор» заставляет вспомнить о барочном «остроумии», «концепте».
Таковы внешние черты сходства сочинений Аввакума с сочинениями барокко[620]. Но эти особенности у Аввакума, в отличие от барочных литераторов, не составляют целостную систему; противоположными оказываются и их эстетические и культурные ценности. К интеллектуализму, философскому знанию, «внешней» (не подчиненной церковной традиции — Священному Писанию и Преданию) мудрости, «хитроумию» Аввакум относился резко отрицательно. «Ачьманашники и звездочетцы, и вси зодейшики познали Бога внешнею хитростию, и не яко Бога почтоша и прославиша, но осуетишася своими умышленьми, уподоблятися Богу мудростию начинающе <…> Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Иппократ и Галин: вси сии мудри быша и во ад угодиша, достигоша с Сатаною разумом своим небесных тварей, и звездное течение поразумевше, и оттоле пошествие и движение смотрях небесного круга, гадающе к людской жизни века сего, — настоящей, или тщету, или гобзование, — и тою мудростию своею уподобляхуся Богу, мнящеся вся знати. <…> И взимахуся блядины дети выше облак, — слово в слово, яко и Сатана древле. <…> Виждь, гордоусец и альманашник, твой Платон и Пифагор: тако их же, яко свиней, вши съели, и память их с шумом погибе, гордости их и уподобления ради к Богу. Многи же святии смирения ради и долготерпения от Бога прославишася и по смерти обоготворени быша, понеже и телеса их являют в них живущую благодать Господню, чюдесьми и знаменьми яко солнце повсюду сияют. Виждь, безумный зодийшик, свою богопротивную гордость, каковы плоды приносите Богу и Творцу всех, Христу, токмо насыщатися, и упиватися, и баб блудить ваше дело. <…> Не ваше то дело, но бесовское научение» (Книга бесед. Беседа пятая, с. 91–92).
Ясно, что и барочных риторов и стихотворцев Аввакум видит также в аду, среди «альманашников» и «зодийшиков». Не случайно в этом фрагменте появляется рифма («мудри быша и во ад угодиша»), как бы акцентирующая кощунственную «несерьезность» любителей внешней мудрости. Характерно, что в известной приписке Аввакума в Пустозерском сборнике уравнены два явления чуждой автору Жития культуры — бесполезная и даже вредная для спасения души философия и вирши: «и аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природный язык, виршами филосовскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет» (с. 78, примеч. 63). «Философия» составляет как бы содержание этой культуры, а «вирши» (господствующий литературный жанр «московского» барокко) — форму.
Вполне однозначно высказывается Аввакум о риторах и философах в поучении («Что есть тайна христианская и как жити в вере Христове»), входящем в Книгу толкований: «Не ищите риторики и философии, ни красноречия, но здравым истинным глаголом последующе, поживите. Понеже ритор и философ не может быть християнин» (с. 120); «хитроумной философии» и «учености» он противопоставляет собственную «простоту» и неискусность: «Аз есмь ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства неискусен, простец человек и зело исполнен неведения» (с. 120).
Конечно, аввакумовская «простота» не имеет ничего общего с невежеством. По характеристике А. М. Панченко, «мудрость» для традиционалиста Аввакума, в отличие от «риторов» и «философов», заключена не в умножении все новых знаний, но в погружении в глубину Священного Писания и Предания [Панченко 1984. С. 37–45, 167–172].
Аввакуму, как и старообрядцам вообще, было присуще восприятие связи знака и обозначаемого как абсолютно иконической. Непроизвольными, безусловными видятся протопопу и соотношения знака (слова) с контекстом в Священном Писании и богослужебных песнопениях. Такая отличительная для барочного художника поэтическая «операция», как поиски наиболее правильных и точных соответствий между духовными смыслами (сущностями) и знаками (словами), для автора Жития попросту невозможна. Между тем барочный автор изощренно «играет» со словом, и поиск наиболее точного соответствия смысла и его выражения для него одновременно, парадоксальным образом, это и поиск соответствия наиболее отдаленного, неожиданного (см. об этом, например: [Софронова 1981. С. 22–23]). Абсолютно невозможно для него и излюбленное в культуре барокко уподобление Художника Богу, а Бога — Художнику, основанное на сближении мироздания с риторически выстроенным Текстом: Аввакум не смеет и помыслить, чтобы сокровенную сущность мира можно было выразить в вербальных формах.
У автора Жития нет установки на энигматичность текста, на необходимость его дешифровки «хитроумным» читателем с помощью особого ключа; нет и иерархии кодов, при которой «бытовой», «реальный» (или квазиреальный) уровень — событийный — подчинен символическому.
Барочный художник как бы заставляет читателя, дешифруя текст, находить истину, скрытый смысл. У Аввакума же истина задана изначально, а глубинные смыслы как бы имманентны повседневности. «разлиты» в ней: таковы «гиперматериальные», «оплотненные» чудеса в Житии (чудо со щами, с курочкой и т. д.). Житию Аввакума глубоко чужда установка на литературность и вымысел, свойственная барочной словесности. Сочинение это — вопреки точке зрения В. В. Кожинова ([Кожинов 1963. С. 252–260], ср.: [Гусев 1958]) — не роман; не вполне корректны и распространенные определения его как «автобиографии», «исповеди» или «исповеди-проповеди». Это — именно житие.
Аввакум — традиционалист, попавший в ситуацию «конца мира», «конца времен»: «Ну, вот, дожили, дал Бог, до краю. Не кручиньтеся, наши православные християня! Право, будет конец, скоро будет. Ей, не замедлит» (Второе послание Симеону, с. 168). Глубинный смысл он находит уже не «вовне», не в Церкви, которой «овладел диавол», но в себе как сакральной «единице», «малой церкви»[621]. Именно желая остаться «ревнителем старины», Аввакум нарушал каноны традиции. Так, не встречающееся больше ни у кого из русских книжников описание «распространения» собственного тела, вмещающего мироздание (восходит, как заметил А. М. Панченко [Панченко 1984. С. 34–35]), к старому, хорошо известному источнику — Апокрифу об Адаме. Решаясь на немыслимый для древнерусского агиографа поступок — создание собственной агиобиографии — Аввакум одновременно «приносит в нем покаяние». Подчеркнутое «небрежение словом», просторечие, бытовая приземленность описаний были как бы своеобразным жестом самоуничижения, искупления гордыни автором, самонадеянно осмелившимся писать свое житие, греховно, кощунственно претендуя на святость. «Опрощенность», приземленность придавала также и большую реальность, убедительность изложенным в Житии чудесам. Визионерство придает авторитетность сказанному автором в защиту старины, включение в текст символа — «эмблемы» (корабль в видении) приоткрывает высший смысл в событиях жизни Аввакума.
Недавно И. П. Смирнов написал о принадлежности сочинений протопопа Аввакума и его пустозерского соузника инока Епифания к барокко:
«Старообрядцы обращаются в своем литературном творчестве к издавна известным жанрам — среди прочего к житийному. Однако присущая эпохе барокко установка на приглушение оппозиций, в том числе контраста между „я“ и „не-я“, влечет за собой у Аввакума и Епифания слияние жития с автобиографией. <…>
Традиция (и тем более тот подчеркнутый консерватизм, о котором сейчас идет речь) затемняет этапный характер национальной культуры, замаскировывает ее включенность в интернациональное диахроническое движение. Использование старообрядцами XVII в. канонических жанров и прочих стереотипов окрашивало „спонтанное“ русское барокко в средневековые тона и мешало сторонникам „древлего благочестия“ осознать их творческие устремления как новаторские, барочные. Традиции затрудняют культуропорождающим субъектам адекватное самопонимание. Если угодно: из-за них диахроническая поступательность часто (но, конечно, не всегда) делается бессознательным культуры».
[Смирнов 2000. С. 300]
Понимание барокко как культурной эпохи, которого придерживается исследователь, видится мне недостаточно четким, а само употребление им термина «барокко», представляется размытым и неопределенным. Постулируя своеобразие русского XVII века как периода барокко, И. П. Смирнов на этом основании приписывает барочные свойства явлениям, исторически одновременным с барочными культурными феноменами: сосуществование во времени становится отправным пунктом для причисления произведений Аввакума и Епифания к барочной литературе, собственно барочные же признаки их произведений не отмечаются.
К барочным текстам недавно отнес Житие Аввакума и А. В. Михайлов: «Это повествование, беспримерной искренности и простоты, разворачивается в так же предопределенном эпохой смысловом пространстве: совсем рядом с человеком живут Христос и богородица, бог и дьявол. Они тут даже ближе к человеку, чем в патетической риторике барокко: вверху зияет бездна вечного блаженства, внизу зияет бездна вечной кары, — как сказано в трагедии А. Грифиуса. Здесь, у протопопа Аввакума, эти силы всегда рядом, под боком, не метафоры, а сама реальность. Ими затронуты самые простые вещи из человеческого окружения. Простое слово Аввакума, ученого и неученого, — это тоже слово риторическое, нагруженное функцией морального значения, наставления. Оно зарождается в церковной традиции и здесь, ни на мгновение не забывая о вечной мере ценностей, оборачивается правдивостью самой жизни. Вечное смыкается с личным переживанием, вневременное с сиюминутным. Удивительно превращение этого риторического, опирающегося на всеобщее и внеличное слова в безыскусность правдивого» [Михайлов 1997. С. 479–480].
Поэтика контрастов, свойственная миру Жития, А. В. Михайловым также трактуется как барочная: один из пределов барокко — «это небывалым образом совершившееся у протопопа Аввакума обретение правдивости жизни — жизни, которая, как и во всем барокко, разворачивается посредине между миром верха и низа, спасения и проклятия» [Михайлов 1997. С. 480].
Однако А. В. Михайлов, кажется, словно забывает о декларированном им же самим принципе, согласно которому исследовательские дефиниции направлений и стилей должны учитывать внутреннюю точку зрения литературы[622].
Между тем принципиальное отличие сочинений пустозерцев от барочной книжности (я не касаюсь влияния барокко на позднейшую старообрядческую словесность, прежде всего на выговскую школу) состоит в том, что если барочные тексты имеют риторическую основу[623] и подчинены игровой — в широком смысле — установке (то есть в известной степени являются литературой par excellance), то произведениям Аввакума и Епифания эти свойства абсолютно чужды. Аввакум отнюдь не играет словом, а житийная традиция для него — не фон, на котором можно удачно продемонстрировать свое мастерство и даже не риторическая норма, становящаяся мерой для индивидуальных стилевых «отклонений» и изысков. Он воспринимает житийную традицию как слово не риторическое, а живое, как канву для собственных текстов (ср.: [Сазонова 2006. С. 110–111, 132–134]). В аввакумовских сочинениях можно встретить и подобие барочного «остроумия», консептизма (хотя бы парадоксальный мотив темничного сидения как обладания всею землею, поданный в контрасте с мнимой властью царя — в «Пятой» челобитной). Однако для причисления сочинений Аввакума к барокко должны быть основания в семантике его текстов — а таких оснований как раз и нет. Аввакум как книжник не противопоставляет риторике и поэтике русского придворного барокко иное риторическое. Просто он пишет иначе и совсем не о том. А. М. Панченко справедливо указывал, что эстетические принципы Аввакума-«простеца» противостоят элитарности, свойственной русскому барокко ([Панченко 1978]; [Панченко 1982]).
Сочинения Аввакума относятся к словесности не барокко, а «анти-барокко» или «контр-барокко»[624]. Обозначая время Аввакума как время барокко в русской культуре, мы «забываем», что это течение если и являлось до известной степени господствующим, то, по крайней мере, вовсе не было единственным: традиционалистская словесность образовывала своеобразную оппозицию барочной литературе. Но оба течения были рождены одной и той же культурной ситуацией разрушения старого, привычного мироощущения, бытового уклада, «системы жанров» — и, соответственно, эти враждующие течения обнаруживают некоторые черты сходства, не переходящего, однако, в родство.
Восприятие собора 1667 г. в Житии протопопа Аввакума
Отношение к церковному собору 1667 г. осужденных на нем старообрядцев было, естественно, последовательно отрицательным: он воспринимался приверженцами старообрядчества как анти-собор[625]. Наиболее ярко такая точка зрения запечатлена в Житии протопопа Аввакума. Восприятие деяний собора в этом тексте обусловлено представлением протопопа о сакральном характере своего призвания: Аввакум уподобляет себя Христу и проецирует события собственной жизни на деяния земной жизни Иисуса Христа[626]. Сцена спора Аввакума с греческими и русскими иерархами построена по образцу сцены осуждения Христа, причем в уста архиереев вкладываются слова иудеев Пилату, требующих Христовой казни (Лк. 23:18)[627].
Эта и прочие достаточно точные реминисценции из Священного Писания в эпизоде, посвященном собору, были давно отмечены исследователями[628]. Однако не менее интересны неявные отсылки, аллюзии на Библию в этом фрагменте. Таково именование русских архиереев-участников собора лисами: «Таж передъ вселенъеких привели меня патриарховъ, и наши все тут же сидятъ, что лисы» (с. 52, лл. 70 об. — 71). Учитывая, что слово «лиса/лисица» употребляется в Библии не очень часто и, как правило, без пейоративных коннотаций, в данном случае правомерно видеть аллюзию на главу 13 Евангелия от Луки, в которой лисицей (лисом назван Ирод, намеревающийся убить Христа: «В той д[е]нъ приступишя неции от фарисей, гл[агол]юще Ему: изыди и иди отсюду, яко Иродъ хощеть Тя оубити. И рече имъ: шедше рцете лису тому: се, изгоню бесы и исцелениа творю дьне и оутре, и в третии скончаю. Обаче подобаетъ Ми дьнс[ь] и оутре и въ ближнии ити, яко не възможно есть прор[о]ку погыбнути кроме Иер[у]с[а]лима. Иер[у]с[а]лимъ, Иер[у]с[а]лимъ, избивыи прор[о]кы и камениемъ побиваа посланыа къ нему! коль краты въехотехъ събрати чяда твоя, якоже кокошъ гнездо свое под криле, и не въсхотесте; се, оставляется вамъ домъ вашъ пус[тъ]. Гл[агол]ю же вам, яко не имате Мене видети, дондеже приидет, егда речете: бл[а]г[о]сл[о]вен Грядыи во имя Г[оспод]не!» (13:31–35) [Библиа 1988. Л. 5б об. 3-я паг.].
Лейтмотив речи Аввакума на соборе — Московское царство, Русь как бывший Третий Рим, последнее благочестивая страна, отступившая от истинной веры: «Вселенстии учителие! Римъ давно упалъ и лежит невсклонно <…>. А и у вас православие пестро стало от насилия турскаго Магмета, да и дивить на вас нел(ь)зя: немощни есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас Б(о)жиею бл(а)годатию самодержство. До Никона-отступника у наших кн(я)зей и ц(а)рей все было православие чисто и непорочно и ц(е)рк(о)вь была немятежна. Никонъ, волкъ, со дьяволом предали трема перъсты кр(е)ститца» (с. 52–53, л. 71–71 об.). Соответственно, Москва, в которой судят Аввакума, может быть уподоблена Иерусалиму, побивающему пророков, из Евангелия от Луки, а сам автор скрыто сопоставляет себя с Христом: как на Иисуса желал воздвигнуть гонение Ирод, так на протопопа ополчились «ироды» — его преследователи.
Такая интерпретация дополнительно подкрепляется соотнесенностью в Житии последующих событий жизни Аввакума с крестной смертью и погребением Христа. Слабость в вере сыновей Аввакума уподобляется отречению от Христа апостола Петра: «Ну, да Б(о)г вас простить, не дивно, что такъ зделали, — и Петр-ап(о)ст(о)лъ некогда убоялся смерти и Х(рист)а отрекся, и о семь плакася гор(ь)ко, таже помилованъ и прощенъ бысть» (с. 57, л. 78). Воевода Иван Елагин, повелевший подвергнуть соузников Аввакума мучительному наказанию, а непокорного протопопа заключить в земляную темницу[629], уподоблен Пилату: «Таже тот же Пилат — полуголова Иван Елагин» (с. 57, л. 78).
Заключение Аввакума в земляной сруб и казни его товарищей соответствуют крестной смерти Христа, а чудесно отросшие урезанные языки Лазаря, Епифания и Феодора соотнесены с чудом воскресения Христова. Однако финальный эпизод основного текста Жития, повествующего о пустозерской ссылке, восходит не к истории воскресения Христа, но скорее к евангельскому рассказу о его погребении: «Таже осыпали нас землею. Срубъ в земле, и паки около зежли другой струбъ, и пакы около всехъ общая ограда за четыр(ь)ми замками; стражие же десятеро с ч(е)л(о)веком стрежаху темницу» (с. 59, л. 82). Аввакум дает аллюзию на текст Деяний святых Апостолов (12:6), но бесспорна и евангельская параллель: «Реч(е) же имъ (иудеям. — А.Р.) Пилат: имате кустодию, идете оутвердите яко же весте. Они же, шедше, оутвердиша гробъ, знаменавше камень с кустодиею» (Мф. 27:65–66) [Библиа 1988. Л. 16 об. 3-я паг.].
Таким образом, последовательная ориентация Аввакума на евангельское повествование о Христе, о суде и крестной смерти Иисуса позволяет увидеть в именовании архиереев собора «лисами» аллюзию на текст 13 главы Евангелия от Луки. Но в Житии есть и еще одна, более очевидная и прозрачная отсылка к той же главе. Аввакум на соборе демонстративно нарушает правила приличия: «И я отшед ко дверям да набокъ повалился, а самъ говорю: „Посидите вы, а я полежу“. Такъ оне смеются: „Дурак-де протопоп-от: и патриарховъ не почитает“, И я говорю: „Мы уроди Х(рист)а ради! Вы славни, мы же безчестни! Вы сил(ь)ни, мы же немощни“» (с. 53–54, л. 73).
Цитируя апостола Павла (1 Кор. 4:10), Аввакум истолковывает свое поведение как поступок юродивого. Поведение юродивого — это текст (в семиотическом смысле слова), построенный по принципу двойного кодирования: прочитываясь окружающими (непосвященными) как проявление умственной неполноценности, как кощунство и неприличие, на глубинном уровне оно заключает в себе особый религиозный смысл[630]. Так и поведение Аввакума в истинном коде может расшифровываться как указание на принадлежность к приверженцам правой веры, пророкам, которым будет даровано Царство Небесное.
А. М. Панченко интерпретировал поведение Аввакума на соборе следующим образом: «Мы в состоянии представить, что конкретно имел в виду протопоп Аввакум, когда он „набок повалился“, что он хотел сказать своим гонителям. Этот жест расшифровывался с помощью Ветхого Завета. Оказывается, Аввакум подражал пророку Иезекиилю (4:4–6): „Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева… Вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина“. По повелению свыше Иезекииль обличал погрязших в преступлениях иудеев, предрекал им смерть от моровой язвы, голода и меча. Это предсказание повторил и Аввакум. О „моровом поветрии“ и „агарянском мече“ как наказании за „Никоновы затейки“ Аввакум писал царю в первой челобитной (1664). К этой теме он возвращался не раз и в пустозерской тюрьме» [Лихачев, Панченко 1976. С. 150].
Но одновременно Аввакум как бы реализует, овеществляет метафору «праведники, которые возлягут в Царстве Небесном», содержащуюся в 13 главе Евангелия от Луки; Христос напоминает о муке Страшного Суда, ожидающий грешников, и о блаженстве избранных: «Ту будеть плачь и скрежет зубомъ, егда оузрите Авраама и Исаака, и Иакова, и вся пр[о]рокы въ Ц[а]рствии Б[о]жии, вас же изгонимыхъ вон, и приидуть от въстока и запад[а] и севера, и юга, и възлягуть въ Ц[а]рствии Б[о]жии. И се суть последний, иже будуть перви, и суть первии, иже будуть последний» (13:28–30).
Поведение Аввакума символично: в Житии оно представлено как некое «послание», которое несведущие противники, кичащиеся своим «внешним» умом, не в состоянии прочитать. «Простец» посрамил «мудрых».
Так в соотнесении с евангельскими текстами открываются дополнительные смыслы главного сочинения протопопа Аввакума.
Традиционное и новое в Записке о жизни Ивана Неронова
Так называемая Записка о жизни Ивана Неронова — памятник древнерусской книжности второй половины XVII в. Ее предполагаемый составитель — игумен московского Златоустовского монастыря Феоктист, создавший этот текст на основе устных рассказов Неронова. Как полагает Н. С. Демкова, к составлению Записки, возможно, причастен и сам Иван Неронов: «в тексте часто встречаются формы повествования от первого лица» [Демкова 1989. С. 634]. Записка дважды издавалась исследователями[631] и неоднократно использовалась как документ по истории раннего старообрядчества и как один из основных источников биографических сведений об Иване (в монашестве Григории) Неронове — влиятельном учителе старообрядчества и противнике церковной реформы патриарха Никона, после примирившемся с Никоном и господствующей церковью на условиях, подобных тем, что были позднее приняты единоверцами. Записка охватывает события жизни Неронова начиная со ссылки в Спасо-Каменный монастырь в августе 1653 г. и заканчивая январем 1659 г. Как памятник книжности она совершенно неисследована; неясна и история текста этого произведения, и прежде всего — соотношение с Житием Ивана Неронова[632]. В данной статье я не ставлю задачей решение этого текстологического вопроса, ограничиваясь лишь некоторыми наблюдениями, относящимися к поэтике Записки и свидетельствующими о нетривиальном сочетании в ней традиционных и новаторских для древнерусской книжности черт. Эта особенность Записки объяснима как временем ее возникновения (XVII столетие в истории русской словесности, как хорошо известно, — эпоха, характеризующаяся сложным и порой парадоксальным соединением нового и старого), так и духовным контекстом памятника (соединение, порой совершенно неожиданное, нового и старого свойственно старообрядческой книжности раннего времени, и сочинения протопопа Аввакума или автобиографическое Житие инока Епифания — лишь наиболее известные примеры такого рода).
Выбор отрезка жизни Ивана Неронова в Записке определяется ее установкой: этот текст представляет собой как бы своеобразную «заготовку» к его житию, при этом жизнь Неронова рассматривается как подвиг во имя исповедания истинной веры, т. е. как деяния исповедника. Соответственно, хронологические границы повествования — от ссылки Неронова Никоном («Лета 7161 (1653) августа в 4 день, при патриархе Никоне <…> протопоп Иоаннъ Нероновъ сосланъ был в сылку от патриарха Никона, за Вологду, въ Каменской монастырь»[633]) до примирения с Никоном, дозволившим Неронову служить по книгам старой печати, и встречи с местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Крутицким Питиримом. Неронов поведал митрополиту о чудесном видении, в котором сам Господь Иисус Христос открыл бывшему Казанскому протопопу, а ныне иноку Григорию, что дарует ему благодать как поборнику святой веры и благословляет служить в пустыни, где Григорий подвизался, литургию по старым книгам. И согласие Никона разрешить Григорию служение по старым книгам, и готовность московского протопопа послушать инока и не «четверить» аллилуйю при богослужении «въ соборной церкви на крылосахъ» (с. 349) истолковываются в Записке как победа Неронова. Возможно, для составителя текста существен и уход Никона с патриаршего престола, пришедшийся именно на 1658 г. — год бесед с Нероновым, обличавшим «новизны» Никона. (На самом деле оставление Никоном патриаршего престола никак не было связано с неприятием старообрядцами проведенных им реформ, но книжник мог предполагать именно такую читательскую трактовку событий.) Царю Алексею Михайловичу Неронов так говорит о Никоне: «„Доколе, государь, тебе дотерпеть такову Божию врагу? Смутилъ всею Рускою землею и твою царьскую честь попралъ, и уже твоей власти не слышать, — оть него, врага, всемъ страх!“» (с. 347). Отказ царя Никону, в 1658 г. удалившемуся из Москвы и оставившему патриарший престол, предстает в Записке как следствие и исполнение призыва из речи Неронова, в которой старец Григорий обличает Никона, в том числе и за властолюбивое притязание на роль государя.
Повествование о борьбе Неронова за «старую веру» открывается перечислением посланий Ивана в защиту церковной старины, адресованных царю Алексею Михайловичу (два письма), его духовнику Стефану Вонифатьеву (четыре письма) и царице Марье Ильиничне. При этом неизменно отмечается, что письма составлены «плача», «со слезами», что это «плачевное моление»; отмечен и пророческий пафос Неронова, который составлял их, «известно же творя, яко и гневъ Божий грядет неуправления ради церкви; приписавъ же и своею рукою къ посланию, приводя во свидетельство божественное Писание», «ясно сказуя быти хотящий гневъ от Бога всей Росии за презрение вопля того и за еже оскорбляемымъ быти Божиимъ рабомъ, проповедающим истинну и просящим церкви мира» (с. 337–338).
И экзальтация («слезность»), и пророческое обличающее рвение Неронова — черты, отличительные для изображения эмоционального состояния и поведения поборников «старой веры» в старообрядческой книжности[634]. Наиболее выразительный пример — это, конечно же, Житие и послания протопопа Аввакума, который был учеником Неронова.
В изложении содержания посланий Неронова местоимение третьего лица («онъ»), обозначающее адресанта-автора, однажды заменяется формой первого лица («я»): «Того же лета, майя во 2 день, и къ государони царице и великой княгине Марье Ильиничьне писал я со слезами, прося церкви мира <…>» (с. 337). Это может объясняться не только влиянием устных рассказов самого Ивана Неронова на составителя Записки, но и стремлением сохранить в тексте присутствие пишущего обличительное письмо. Показательно, что в большинстве случаев перфектные глагольные формы на «-л», характеризующие писание Нероновым обличительных посланий, даются без обозначения субъекта действия: «писалъ» (с. 337), а не «я писалъ» или «онъ писалъ». Так как в глагольной форме прошедшего времени (собственно, в церковно-славянском языке, — в форме перфекта) нет различения по грамматической категории лица, наводняющие начало Записки глаголы «писалъ» могут интерпретироваться и как «я писалъ», и как «онъ писалъ».
Центральный эпизод повествования о пребывании Неронова в ссылке — самовольный уход из Кандалакшского монастыря вместе с тремя духовными детьми и чудесное спасение во время бури на Белом море. Для описания шторма характерны новые в сравнении с агиографической традицией черты — детализация изображения (положение карбаса), поэтика конкретного (неспособность Неронова и его духовных детей спустить парус) и гиперболизация (размеры волн), передающая страх застигнутых бурей: «И внезапу бысть буря велия, волнамъ убо восходящимъ на высоту, аки превеликимъ горамъ, и кождо ихъ с воплемъ к Богу взываху <….> Буря же преизлиха начать стужати, и карбасъ вмале не опровержеся, зане от страха содержащаго не можаху паруса спустити, и карбасъ на боку волнами носимъ; тема же на другую страну от ветра нападьшимъ и держащимся за край карбаса, волны же, яко превелие горы, зело на высоту восхождаху, мнети темъ, яко на облакь подъять ихъ; егда же схождаху долу, мняху, яко покрыти ихъ имать волнами море; и не надеяхуся кождо ихъ жити <…> в то время работники Ивановы и дети духовныя учали межь собою прекословить, Ивану досаждать: „Кто, де, въ такомъ карбасе по морю ездить, а се, де, и снасти никакой неть!“» (с. 338).
Достаточно сравнить это описание с изображением случаев чудесного спасения на море, представленных в Житии Зосимы и Савватия Соловецких (одном из наиболее читаемых древнерусских житий, содержащем, кажется, наибольшее число таких чудес), чтобы увидеть нетрафаретность изображения бури в Записке[635]. В Житии изображение морской бури более трафаретно: «И прииде буря ветреная велиа зело, и трусъ в мори великъ, и волны морскыя оусремлящеся велии зело. И мы и беду приемлюще немалу от оустремлениа волны, покрывающе бо лодию нашу волны морскыя»; «волны же, горам подобны, восхождаху на нас <…>»[636]. Здесь страх попавших в бурю пловцов не показывается так выразительно, как в Записке, где он передан посредством ссылки на представление несчастных, что волны подбрасывают карбас до облаков. Нет в житийных чудесах и изображения ссоры, «прекословия» между пловцами.
Показательно, что в Житии Иоанна Неронова (для которого характерна не «фактическая достоверность», как для Записки, а «именно житийный характер»[637]), описание бури почти лишено конкретики: «И бысть внезапу буря велия, и громи, и молния, и возмутися море зело, и быша волны яко горы великия, и взятся кораблецъ волнами, и ношашеся по морю, ово низпущаяся зело глыбоко, яко в бездну, ово же по волнамъ въ высоту восходя; а Иоанн, зря на небо, съ слезами моляшеся, не сумняся, ни бояся волнения; отрокъ же, иже съ нимъ бе, отъ страха лежаше, аки мертвъ. И вскоре, Божиемъ окормлениемъ, принесенъ бысть кораблецъ волнами къ острову обители Соловецкихъ чудотворцевъ Зосимы и Савватия» [Материалы 1874. Т. 1. С. 283–284].
И установка на поэтику конкретного, и грандиозность изображения роднит описание бури на море в Записке с другими памятниками раннестарообрядческой книжности, прежде всего с автобиографическими Житиями Аввакума и Епифания.
Сквозной мотив Записки — скитания Неронова, преследуемого за веру: он бежит из Кандалакшского монастыря, тщетно преследуемый «гнавшими» за ним, затем странствует из монастыря в монастырь и наконец скрывается в Игнатьевой пустыни. «Никонъ же патриархъ не остави ни града, ни веси, в ней же не положи заповеди, ища Иоанна: но Богь, своея ради благодати, своими ему рабы, крыяще того, зане простои людие зело любляху Иоанна, яко проповедника истинне, и пред цари не стыдящеся, по пророку, и много истинне страждуща, — страдальца и мученика того нарицаху.
Никонъ же много клопотъ воздвиже, — неоткуду весть приидетъ, яко въ пустыни Григорий, — пославъ своихъ ему детей боярских с великимъ прещениемъ, и тамо сущия мнихи оскорби, и разосла въ сылку, окрестнымъ же иереомъ и людином многу беду сотвори» (с. 341).
При встрече с Нероновым патриарх «скоро на степень уступилъ, глаголя: „Бегунъ!“ И старен рече: „Недивися, святитель! Христосъ, учитель нашъ, бегалъ, и ученицы его, и мнози от отецъ. Азъ ли надъ теми честнейший, и кто есмь?“ И благословляя патриархъ старца, рече: „И бегаетъ, и является!“» (с. 348).
Неронов прямо ссылается на примеры Христа, апостолов и преподобных, обозначая прецеденты-образцы своего поведения. Явное или скрытое уподобление изображаемого Христу и святым традиционно для агиографии. Но неожиданно, что такое сопоставление (пусть и имеющее ограниченный характер) вложено в уста лица, о котором ведется повествование, а не принадлежит агиографу: тем самым если и не происходит впадение в грех гордыни, то по крайней мере не выражается смирение Неронова. Показательно и то, что Неронов ссылается одновременно и на пример Христа, и на пример апостолов, и на пример преподобных, а также святителей («отцов»), В агиографической традиции Христос как принявший смерть на кресте рассматривался как образец и прообраз для мучеников, апостолы — как прообраз для миссионеров, преподобные следовали ангельскому прообразу (см.: [Руди 2003]). Неронов одновременно ссылается на несколько образцов святости: в Записке он скрыто уподоблен и Христу как мученик, и апостолам как поборник и проповедник истинной веры, и преподобным — как праведный и благочестивый инок.
Скитания Неронова, очевидно, рассматриваются составителем Записки как реализация речений из Нагорной проповеди: «Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:10–12). В этом контексте и «слезность» Неронова и других учителей старообрядчества воспринимается как соответствие речению из той же проповеди: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4), а не просто как житийный топос смирения и/или как психологическая характеристика.
Соотнесенность поборника «старой веры» с Христом или апостолами присутствует и в других памятниках раннестарообрядческой книжности. Особенно отчетлива она у Аввакума и проявляется, в частности, в цитатах из Евангелия, влагаемых в уста автора Жития и его гонителей[638].
В Записке соотнесенность Неронова с Христом и апостолами не заявлена столь радикально и откровенно, как у Аввакума. В частности, в отличие от Аввакумова Жития, полного аллюзий на эпизоды осуждения Христа на распятие, в Записке есть лишь одна явная аллюзия: Неронов, несправедливо подозревая боярина Ртищева в доносительстве патриарху Никону, «свирепо к нему рекъ: „Июдо, предавай!“ <…>» (с. 348).
Зато в ней очень много отсылок к житийной топике, например, уподобление ангелу: «яко Божия ангела держаху» Ивана его приверженцы, не боясь гнева Никона (с. 341). Это «общее место» преподобнической агиографии восходит к переводному Житию Саввы Освященного, составленному Кириллом Скифопольским; из русских агиографов его первым применил Нестор в Житии Феодосия Печерского[639].
О примерах из житий святого Афанасия Александрийского и Афанасия Афонского напоминает старцу Григорию в видении Христос, веля старцу служить литургию: «И паки Господь рече: „Афанасий жидовских при мори детей крести, еще младенец, а моя благодать ему споспешествовала; а Афанасий Афонский, младенец же, от детей игуменом поставленъ, и самъ прочихъ детей в попы и дияконы поставляше, и с ними служаше“» (с. 349–350). Очевидно, составителя Записки столь занимал поиск житийных прообразов, что он подбирал даже не очень уместные примеры: детские игры, в которых Авраамия (будущего святого Афанасия Афонского) избирали игуменом, в его житии свидетельствуют не об уже полученном благодатном даре игумена, а о будущем призвании святого[640].
Видения, явленные Неронову, также соотносят Записку с житиями святых. Нетрадиционны для большинства агиографических текстов присутствующие в этих видениях апокалиптические коннотации («Исусъ Христосъ, во священней одежди, препояанъ по чреслехъ, — какъ во Апакалепсисе, въ явлении Иоанна Богослова пишетъ, — и окрестъ его юноши светлы, белая носяше, множество, и со страхомъ тому предстояше» [с. 349]), грандиозный характер видений и их «вещественность» (Сын Божий за непослушание велит «юношам светлым» бить Неронова «дубцами» [с. 350]).
Апокалиптические мотивы здесь близки с визионерскими мотивами в других раннестарообрядческих текстах; грандиозность видений вообще характерна для визионерства XVII в.; «вещественность»[641], материальность сакрального и, в частности, видений, — черта, вообще отличительная для культуры XVII столетия. Наиболее выразительно она проявилась, кажется, в Житии инока Епифания[642].
Весьма интересна и такая особенность Записки (не находящая, кажется, безусловных аналогий в других памятниках раннестарообрядческой книжности), как оппозиция русского и церковно-славянского языков, приобретающая семантический оценочный характер. В противоположность Неронову, обличающему Никона на книжном церковно-славянском языке, патриарх дважды отвечает по-русски, причем в обоих случаях ответы демонстрируют несостоятельность его позиции (в первом случае явную, признаваемую, во втором — не признаваемую и проявляющуюся в раздражении и брани).
Случай первый: Григорий произносит пространную речь, начинающуюся: «Кая тебе честь, владыко святый, что всякому еси страшенъ и другь другу грозя глаголют?» и заканчивающуюся: «Ваше убо святительское дело — Христово смирение подражати и его, пречестнаго штадыки нашего, святую кротость». В ответ патриарх произносит лишь: «Не могу, батюшко, терпети» (с. 343).
Случай второй. В ответ на обличение Нероновым со ссылкой на святого Евфросина Псковского «четверения» аллилуйи Никон бранится: «Вор, де, блядин сынъ Ефросинъ!». Григорий же отвечает ему на церковно-славянском: «Какъ таковая дерзость и какъ хулу на святыхъ вещаешь? Услышит Богь и смирить тя!» (с. 349).
Подводя итог вышесказанному, можно охарактеризовать Записку как памятник книжности, близкий к другим сочинениям раннестарообрядческой словесности и отражающий основные ее тенденции. Вместе с тем он менее оригинален, чем наиболее индивидуально отмеченные старообрядческие произведения, хотя и не лишен интересных особенностей.
Список сокращений
БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. БЛДР-I — СПб., 1997. Т. 1. XI — начало XII века; БЛДР-II — СПб., 1999. Т. 2. XI–XII века; БЛДР-III — СПб., 1999. Т. 3. XI–XII века; БЛДР-IV — СПб., 1997. Т. 4. XII век; БЛДР-IX — СПб., 2000. Т. 9. Конец XV — первая половина XVI века; БЛДР-Х — СПб., 2004. Т. 10. XVI век. БЛДР-XII — СПб., 2003. Т. 12. XVI век. БЛДР-XIV — СПб., 2006. Т. 14. Конец XVI — начало XVII века.
ВМЧ — Великие Минеи Четии.
ГИМ — Отдел рукописей Государственного исторического музея (Москва).
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук.
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Академии наук.
ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва).
РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР — Российской Академии наук.
FRB — Fontes rerum Bohemicarum.
Библиография
Абрамович 1989 — Абрамович Д. И. К вопросу об источниках Несторова жития Феодосия Печерского // ИОРЯС. 1898. Т. 3. Кн. 1.
Абрамович 1902 — Абрамович Д. И. Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902 (отд. оттиск из ИОРЯС. Т. 6 [1901], кн. 3–4, т. 7 [1902], кн. 1–4).
Абрамович 1916 — Абрамович Д. И. Введение // Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Приготовил к печати Д. И. Абрамович. (Памятники древнерусской литературы. Вып. 2) Пг., 1916.
Абрамович 1930 — Абрамович Д. И. Киево-Печерський патерик: Вступ. Текст. Примiтки. Киïв, 1930.
Аввакум 1979 — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Иркутск, 1979.
Аверинцев 1996 — Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние двух творческих принципов) // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
Аверинцев 2000 — Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. (Древняя Русь).
Аверинцев 2003 — Аверинцев С. С. «Богу ли жить на земле?» (3 Цар. 8: 27): присутствие Вездесущего как парадигма религиозной культуры // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54.
Аверинцев 2005а — Аверинцев С. С. Другой Рим: Избранные статьи. СПб., 2005.
Аверинцев 2005б — Аверинцев С. С. Григорий Турский и «Повесть временных лет», или О несходстве сходного // Аверинцев С. С. Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. Связь времен. Киев, 2005.
Аверинцев 2006 — Аверинцев С. С. Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. София — Логос. Словарь. Киев, 2006. Адрианова-Перетц В. П. Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго // ТОДРЛ. М.; Л., 1947. Т. 5.
Адрианова-Перетц 1947 — Адрианова-Перетц В. П. О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI–XV вв.) // ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. 16.
Адрианова-Перетц 1964 — Адрианова-Перетц В. П. Задачи изучения «агиографического стиля» Древней Руси // ТОДРЛ. М.; Л., 1964. Т. 20.
Айналов 1910 — Айналов Д. В. Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. IV. Миниатюры «Сказания» о свв. Борисе и Глебе Сильвестровского сборника // ИОРЯС. СПб., 1910. Т. 15. Кн. 3.
Акентьев 1995 — Акентьев К. К. Мозаики Киевской Св. Софии и «Слово» митрополита Илариона в византийском литургическом контексте // Литургия, архитектура и искусство византийского мира: Труды XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8–15 августа 1991) и другие материалы, посвященные памяти о. Иоанна Мейендорфа / Под ред. К. К. Акентьева. (Византинороссика. Т. 1). СПб., 1995.
Алексеев 1998 — Алексеев С. «Вещий священный» (Князь Олег Киевский) // Русское Средневековье. М., 1999. Вып. 2. Международные отношения.
Алексеев 1999а — Алексеев А. А. О времени произнесения Слова о законе и благодати митрополита Илариона // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51.
Алексеев 1999б — Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
Алексеев 2002а — Алексеев А. А. Песнь песней в древней славяно-русской письменности. СПб., 2002.
Алексеев 2002б — Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки русской религиозности конца XIV — начала XVI в. СПб., 2002.
Алешковский 1971 — Алешковский М. Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971.
Алешковский 1972 — Алешковский М. Х. Русские глебоборисовские энколпионы 1072–1150 гг. //Древнерусское искусство: Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972.
Амвросий 1813 — Амвросий, архим. [Орнатский]. История российской иерархии. М., 1813. Ч. 5.
Амелькин 2001 — Амелькин А. О. Скрытая цитата в «Слове о полку Игореве» и некоторые проблемы мировоззрения его автора // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве»: Материалы юбилейных чтений по истории и культуре древней и новой России. 27–29 августа 2000 года. Ярославль — Рыбинск. Ярославль, 2001.
Амелькин 2002 — Амелькин А. О. Исторические реалии в «Повести о Меркурии Смоленском» // Мир житий: Сборник материалов конференции (Москва, 3–5 октября 2001 г.). М., 2002.
Аммиан Марцеллин 2005 — Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. М., 2005.
Аничков 2003 — Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. М., 2003. [Репринт изд.: СПб., 1914 (Записки историко-филологического факультета императорского Санкт-Петербургского университета. Ч. 117)].
Анна Комнина 1965 — Анна Комнина. Алексиада / Пер. с греч. М., 1965.
Арнаутова 2004 — Арнаутова Ю. Е. Колдуны и святые: антропология болезни в средние века. СПб., 2004.
Арранц 1993 — о. Мигель Арранц. О крещении князя Владимира // Тысячелетие введения христианства на Руси. 988–1988. [М.], 1993.
Артамонов 2002 — Артамонов М. И. История хазар. Изд. 2-е. СПб., 2002.
Артамонов 2003 — Артамонов Ю. А. К вопросу о времени составления Первой редакции Повести временных лет // Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его текст. XV Чтения памяти чл. — корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 15–17 апреля 2003 г. Материалы конференции / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2003.
Архангельское Евангелие — Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подг. Л. П. Жуковская, T. Л. Миронова / Отв. ред. T. Л. Миронова. М., 1997.
Арьес 1992 — Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Пер. с фр. М., 1992.
Афанасьев 1994 — Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. [Репринт изд.: М., 1868]. М., 1994. Т. 2.
Афанасьев 1996 — Афанасьев А. Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. М., 1996.
Бадаланова-Покровская, Плюханова 1989 — Бадаланова-Покровская Ф. К., Плюханова М. Б. Средневековые исторические формулы (Москва/Тырново-Новый Царьград) // Труды по знаковым системам. Тарту, 1989. Вып. 23.
Бадаланова-Покровская, Плюханова 1993 — Бадаланова-Покровска Ф., Плюханова М. Средневековая символика власти в Slavia Orthodoxa // Годишник на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Факултет по славянски филологии. 1993. Т. 86. Кн. 2 — Литературознание.
Балдур 1959 — Балдур А. Троян «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. Л., 1959. Т. 15.
Барац 1912 — Барац Г. М. О библейском элементе в «Слове о полку Игореве». Киев, 1912.
Барац 1924–1926 — Барац Г. М. Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древнерусской письменности. Берлин, 1926. Т. 1; Берлин, 1924. Т. 2.
Барминская 1989 — Барминская Н. К. Повесть о Муромском острове // Устные и письменные традиции в духовной культуре Севера. Сыктывкар, 1989.
Барсов 1887 — Барсов Е. В. Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси: В 3 т. М., 1887. Т. 1.
Баскаков 1985 — Баскаков Н. А. Река Каяла в «Слове о полку Игореве» и река Сюурлий в русских летописях // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985.
Бахтин 1975 — Бахтин М. М. Эпос и роман // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975.
Бахтина 1985 — Бахтина О. Н. Летописная редакция повести о Меркурии Смоленском // Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985.
Беда 2003 — Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., статья, примеч., библиография и указатели В. В. Эрлихмана. СПб., 2003.
Белецкий 1914 — Белецкий Л. Т. К литературной истории повести о Меркурии Смоленском (по поводу статьи г. П. Миндалева «Повесть о Меркурии Смоленском и былевой эпос». Казань, 1913). Пг., 1914.
Белецкий 1922 — Белецкий Л. Т. Литературная история «Повести о Меркурии Смоленском». Пг., 1922. [Сборник ОРЯС. Т. 99. № 8.].
Белоброва 1981 — Белоброва О. А. Комментарии // ПЛДР: XIII век. М., 1981.
Белова, Петрухин 2006 — Белова О. В., Петрухин В. Я. «Святые горы», Киев и Иерусалим в славянской мифопоэтической традиции // Новые Иерусалимы: Перенесение сакральных пространств в христианской культуре: Материалы научного симпозиума / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2006.
Бережков 1963 — Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963.
Бернштейн 1984 — Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий: Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984.
Библиа 1988 — Библиа, сиречь Книги Ветхаго и Новаго Завета по языку словенску [Фототипическое воспр. изд. 1581 г. — Острожской Библии]. М.; Л., 1988.
Биленкин 1993 — Биленкин В. «Чтение» преп. Нестора как памятник «глеборисовского культа» // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46.
Бицилли 1995 — Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
Бицилли 2006 — Бицилли П. М. Западное влияние на Руси и начальная летопись // Бицилли П. М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад / Отв. ред. М. А. Юсим. М., 2006.
БЛДР-I — Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. М., 1997. Т. 1. XI — начало XII века. (Издание продолжается; римской цифрой обозначен номер тома).
Блок 1998 — Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. М., 1998.
Бобров 2005 — Бобров А. Г. «Волшебные превращения» в «Слове о полку Игореве» // О древней и новой литературе: Сборник статей в честь профессора Натальи Сергеевны Демковой / Отв. ред. М. В. Рождественская; Сост.: А. Г. Бобров, Т. Ф. Волкова, И. А. Лобакова, М. В. Рождественская. СПб., 2005.
Бобров, Прохоров, Семячко 2003 — Бобров А. Г., Прохоров Г. М., Семячко С. А. Имитация науки. О книге Б. М. Клосса «Избранные труды. Том 1. Житие Сергия Радонежского. Рукописная традиция. Жизнь и чудеса. Тексты». (М.: Языки русской культуры, 1998, 564 с.) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53.
Богданова 1986 — Богданова Н. М. О времени взятия Херсона князем Владимиром // Византийский временник. 1986. Т. 47.
Бондаренко 1996 — Бондаренко И. А. Эстетика города // Художественно-эстетическая культура Древней Руси: XI–XVII века. М., 1996.
Борисов 1986 — Борисов Н. С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 1986.
Бороздин 1900 — Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.,1900.
Бороздин 1998 — Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Ростов-на-Дону, 1998.
Бубнов 2005 — Бубнов Н. Ю. Протопоп Аввакум в сибирском аду (К специфике жанра жития) // О древней и новой литературе: Сборник статей в честь профессора Натальи Сергеевны Демковой / Отв. ред. М. В. Рождественская; Сост.: А. Г. Бобров, Т. Ф. Волкова, И. А. Лобакова, М. В. Рождественская. СПб., 2005.
Бугославский 1914 — Бугославский С. А. К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преп. Нестора // ИОРЯС. СПб., 1914. Т. XIX. Кн. 1; кн. 3.
Бугославский 1925 — Бугославский С. А. К литературной истории «Памяти и похвалы» князю Владимиру. [Отд. оттиск из изд.: ИОРЯС. Т. 29]. Л., 1925. Бугославский С. А. Жития // История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941. Т. 1. Ч. 1.
Будовниц 1950 — Будовниц И. У. Идейное содержание «Слова о полку Игореве» // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1950. Т. 7. № 2.
Бусева-Давыдова 1996 — Бусева-Давыдова И. Л. 1) Архитектура; 2) Живопись // Художественно-эстетическая культура Древней Руси: XI–XVII века. М., 1996.
Буслаев 2001 — Буслаев Ф. И. Древнерусская литература и православное искусство. СПб., 2001.
Буслаев 2004 — Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 2004. (Репринтное воспроизведение изд.: М., 1861).
Былинин 1992 — Былинин В. К. К вопросу о генезисе и историческом контексте летописного «Сказания об основании Киева» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1992. Сб. 3. X–XVI вв.
Бычков 1897 — Бычков И. А. Каталог рукописей собрания Ф. И. Буслаева. СПб., 1897.
Бычков 1991 — Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
Бычков 1995 — Бычков В. В. Русская средневековая эстетика: XI–XVII века. М., 1995.
Бычков 1996 — Бычков В. В. Образ Софии Премудрости Божией как символ Древней Руси // Художественно-эстетическая культура Древней Руси. XI–XII века. М., 1996.
Бычкова 2005 — Бычкова М. Е. Мотивы «Сказания о князьях Владимирских» в официальных документах середины XVI в. // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2005. Сб. 12 / Отв. ред. Д. С. Менделеева.
Вагнер 1986 — Вагнер Г. К. Византийский храм как образ мира // Византийский временник. М., 1986. Т. 47.
Вагнер 1994 — Вагнер Г. К. От Десятинной церкви к Софийскому собору // Byzantinorossica. 1994. № 1.
Вагнер, Владышевская 1993 — Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
Вальденберг 1926 — Вальденберг В. Наставление писателя VI в. Агапита в древнерусской письменности // Византийский временник. 1926. Т. 24.
Васильев 2000 — Васильев А. А. История Византийской империи / Пер. с англ. Изд. 2-е, испр. СПб., 2000. Т. 1. Время до Крестовых походов (до 1081 г.).
Вейсман 1991 — Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Репринт 5-го издания 1899. М., 1991.
Великая хроника 1987 — «Великая хроника» о Польше, Руси и и их соседях XI–XIII вв. / Под ред. чл. — корр. АН СССР В. Л. Янина. М., 1987.
Вендина 2002 — Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
Верещагин 2001 — Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания. М., 2001.
Вернадский 2000 — Вернадский Г. В. Киевская Русь / Пер. с англ. Тверь; М., 2000.
Веселовский 1871 — Веселовский А. Н. Новые отношения муромской легенды о Петре и Февронии и сага о Рагнаре Лодброке // ЖМНП. 1871. Апрель.
Веселовский 1877 — Веселовский А. Н. Новый взгляд на Слово о полку Игореве. Соч. Всев. Миллера. Москва, 1877 [Рецензия] // ЖМНП. 1877. Август.
Веселовский 1880 — Веселовский А. Н. Разыскания в области русских духовных стихов. II. Св. Георгий в легенде, песне и обряде. (Приложения к т. 37 Записок императорской Академии наук. № 3). СПб., 1880.
Вигзелл 1971 — Вигзелл Ф. Цитаты из книг священного писания в сочинениях Епифания Премудрого // ТОДРЛ. Л., 1971. Т. 26.
Видукинд 1975 — Видукинд Корвейский. Деяния саксов / Вст. статья, пер. и коммент. Г. Э. Санчука. М., 1975.
Византийские легенды 1972 — Византийские легенды / Изд подг. С. В. Полякова. Л., 1972 (серия «Литературные памятники»).
Вилкул 2002 — Вилкул Т. Л. Агиографический фильтр (о летописных известиях 1174–1175 годов) // Восточная Европа в древности и средневековье: Мнимые реальности в античной и средневековой историографии. XIV Чтения памяти В. Т. Пашуто, М., 2002.
Виноград Российский 1906 — Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (князем Мышецким). М., 1906.
Виноградов 1980 — Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем жития протопопа Аввакума // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980.
Виролайнен 1996а — Виролайнен М. Н. Автор текста истории: Сюжетосложение в летописи // Автор и текст: Сборник статей [Петербургский сборник. Вып. 2]. СПб., 1996.
Виролайнен 1996б — Виролайнен М. Н. Загадки княгини Ольги (Исторические предания об Олеге и Ольге в мифологическом контексте) // Русское подвижничество. М., 1996.
Виролайнен 2004 — Виролайнен М. Н. Мифологема «чужого мира» в историческом самосознании Киевской и Московской Руси (XI–XVI вв.) // «Литературоведение как литература»: Сборник в честь С. Г. Бочарова / Отв. ред. И. Л. Попова. М., 2004.
Владимиров 1901 — Владимиров П. В. Древняя русская литература Киевского периода XI–XIII веков. Киев, 1901.
Водов 2002 — Водов В. Замечания о значении титула ‘царь’ применительно к русским князьям в эпоху до середины XV века / Пер. с фр. Е. Бабаевой // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь.
Водолазкин 2003 — Водолазкин Е. Г. О жанровых особенностях ранней русской хронографии // Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Международный съезд славистов (Любляна, август 2003). Доклады российской делегации. М., 2003.
Воронин 1945 — Воронин Н. Н. Рецензия на книгу А. В. Арциховского «Древнерусские миниатюры как исторический источник» // Вестник АН СССР. 1945. № 9.
Воронин 1957 — Воронин Н. Н. «Анонимное» сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13.
Воронин 1962 — Воронин Н. Н. О времени и месте включения в летопись сочинений Владимира Мономаха // Историко-археологический сборник. М., 1962.
Ворт 1988 — Ворт Д. С. Лирический элемент в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. М., 1988.
Вяземский 1875 — Вяземский П. П. Примечания на «Слово о полку Игореве». СПб., 1875.
Гадамер 1988 — Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем. М., 1988.
Гадамер 1991 — Гадамер Г.-Г. О круге понимания / Пер. с нем. М. П. Стафецкой // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Сост. М. П. Стафецкой. М., 1991.
Гальковский 1916 — Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси: В 2 т. Харьков, 1916. Т. 1.
Гаспаров 1984 — Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». Wien, 1984 (Wiener Slawistischer Almanach. Sb. 12).
Гаспаров 2000 — Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000.
Гедеонов 2004 — Гедеонов С. А. Варяги и Русь: Историческое исследование: В 2 ч. М., 2004.
Герасимова 1993 — Герасимова Н. М. О поэтике цитат в «Житии» протопопа Аввакума // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48.
Герасимова 1993а — Герасимова Н. М. Поэтика «Жития» протопопа Аввакума. СПб., 1993.
Гийу 2005 — Гийу А. Византийская цивилизация / Пер. с фр. Д. Лоевского; Предисл. Р. Блока. Екатеринбург, 2005.
Гимон 2004 — Гимон Т. В. К вопросу о структуре текста русских летописей: Насколько дискретна погодная статья? // Восточная Европа в древности и Средневековье: Время источника и время в источнике. XVI Чтения памяти чл. — корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 14–16 апреля 2004 г. Материалы конференции. М., 2004.
Гинзбург 1940 — Гинзбург В. В. Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. М.; Л., 1940. Т.7.
Гиппиус 1994 — Гиппиус А. А. Ярославичи и сыновья Ноя в Повести временных лет // Балканские чтения — 3: Лингво-этнокультурная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994.
Гиппиус 2000 — Гиппиус А. А. «Повесть временных лет»: о возможном происхождении и значении названия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1 (Древняя Русь).
Гиппиус 2001 — Гиппиус А. А. Рекоша дроужина Игореви… К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25.
Гиппиус 2006 — Гиппиус А. А. Два начала Начальной летописи: к истории композиции Повести временных лет // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова / Отв. ред. А. М. Молдован. М., 2006.
Гирц 2004 — Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. М., 2004.
Гладкова 1996 — Гладкова О. В. «Слово на обновление Десятинной церкви» // Древнерусская литература: Восприятие Запада в XI–XIV вв. М., 1996.
Гладкова 1998 — Гладкова О. В. Тема ума и разума в «Повести от жития Петра и Февронии» (XVI в.) // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1998. Сб. 9.
Глазырина, Джаксон, Мельникова 1999 — Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н., Мельникова Е. А. Скандинавские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е. А. Мельниковой. М., 1999.
Гогешвили 1999 — Гогешвили А. А. Три источника «Слова о полку Игореве»: Исследование. М., 1999.
Головко 1988 — Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X — первой трети XIII в. Киев, 1988.
Голубиная книга 1991 — Голубиная книга: Русские духовные стихи XI–XIX вв. М., 1991.
Голубинский 1998 — Голубинский Е. История канонизации святых в Русской церкви. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1998. (Репринт изд.: М., 1903.)
Голубинский 1997 — Голубинский Е. История Русской церкви. М., 1997. Т. I. Первая половина тома (Репринт изд.: М., 1901). М., 1997. Т. I. Вторая половина тома. (Репринт изд.: М., 1904.)
Гольдберг 1976 — Гольдберг А. Л. К предыстории идеи «Москва — третий Рим» // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
Гонсалец 2006 — Гонсалец С. [Рец. на кн.: Седакова О. А. Поэтика обряда] // Новое литературное обозрение. 2006. № 79 (3).
Горский 1996 — Горский А. А. О титуле «царь» в средневековой Руси (до середины XVI в.) // Одиссей: Человек в истории. 1996. М., 1996.
Горский 2001 — Горский А. А. «Всего еси исполнена, земля Русская»: Ментальность и личности русского Средневековья. М., 2001.
Горский 2004 — Горский А. А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004.
Горский 2005 — Горский А. А. Москва и Орда. М., 2005.
Горский 2006 — Горский А. А. Гибель Михаила Черниговского в контексте первых контактов русских князей с Ордой // Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6. К 75-летию академика Леонида Васильевича Милова.
Грабар 2000 — Грабар А. Император в византийском искусстве / Пер. с франц. М., 2000.
Грачева 2000 — Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000. (Studiorum Slavicorum monumenta Т. 19).
Григорий Турский 1987 — Григорий Турский. История франков / Изд. подг. В. Д. Савукова / Пер. с лат. М., 1987 (серия «Литературные памятники»).
Григорьев 2004 — Григорьев А. В. Древнерусская космология и практическая география. По данным средневековых представлений о рае // Древнерусская космология. СПб., 2004.
Григорьев 2006 — Григорьев А. В. Русская библейская фразеология в контексте культуры. М., 2006.
Гримберг 2005 — Гримберг Ф. Алексей Толочко. «История Российская» Василия Татищева [Рецензия] // Критическая масса. 2005. № 1 (текст цитируется по электронной версии журнала: http://magazines.russ.ru/km/2005//gri37.html).
Грихин 1974 — Грихин В. А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV–XV вв. М., 1974.
Грихин 1982 — Грихин В. А. Проблемы типологического и исторического изучения жанра древнерусской агиографии // Методология литературоведческих исследований: Статьи о русской литературе. Прага, 1982.
Грихин 1992 — Грихин В. А. Древнейшие памятники русской письменности о княгине Ольге (Общность формы и источники) // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1992. Сб. 3.
Громов 1975 — Громов М. Н. Древнерусская философия истории в «Повести временных лет» // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1975. Вып. 2.
Громов, Мильков 2001 — Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
Гуревич 1984 — Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1984.
Гуревич 1995 — Гуревич А. Я. «Круг Земной» и история Норвегии // Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подг. А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. Репринт, воспр. текста изд. 1980 г. М., 1995.
Гуревич 2006 — Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб., 2006.
Гусев 1958 — Гусев В. Е. О жанре Жития протопопа Аввакума // ТОДРЛ. М.; Л., 1952. Т. 15.
Даль 1995 — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995. Т. 4. Р-V. (Репринтное воспроизведение изд.: СПб.; М., 1882. Т. 4. Р-V).
Данилевский 1993а — Данилевский И. Н. Библеизмы «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1993. Вып. 3.
Данилевский 1993б — Данилевский И. Н. Библия и Повесть временных лет: К проблеме интерпретации летописных текстов // Отечественная история. 1993. № 1.
Данилевский 1995 — Данилевский И. Н. Замысел и название Повести временных лет // Отечественная история. 1995. № 5.
Данилевский 1998а — Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов. М., 1998.
Данилевский 1998б — Данилевский И. Н. Потоп и Русская земля (к вопросу об исторических взглядах древнерусского летописца) // Библейские исследования: От Бытия к Исходу. М., 1998.
Данилевский 1999а — Данилевский И. Н. Круг чтения составителей Повести временных лет // Древнерусская культура в мировом контексте. М., 1999.
Данилевский 1999б — Данилевский И. Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом? // Одиссей. Человек в истории. 1998; Личность и общество: Проблемы самоидентификации М., 1999.
Данилевский 2000 — Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). М., 2000.
Данилевский 2004 — Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.
Данилевский 2005 — Данилевский И. Н. Текстология и генетическая критика в изучении летописных текстов // Герменевтика древнерусской литературы М., 2005. Вып. 12 / Отв. ред. Д. С. Менделеева.
Демин 1996 — Демин А. С. «Повесть временных лет» // Древнерусская литература: Восприятие Запада в XI–XIV вв. М., 1996.
Демин 1998 — Демин А. С. Заметки по персонологии «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1998. Сб. 9.
Демин 1998а — Демин А. С. О художественности древнерусской литературы / Отв. ред. В. П. Гребенюк. М., 1998.
Демин 2000 — Демин А. С. О типе литературного творчества создателей «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2000. Сб. 10 / Отв. ред. М. Ю. Люстров.
Демин 2003 — Демин А. С. О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. От Илариона до Ломоносова / Отв. ред. В. П. Гребенюк. М., 2003.
Демин 2005 — Демин А. С. «Подразумевательное» повествование в «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2005. Сб. 12 / Отв. ред. Д. С. Менделеева.
Демкова 1974 — Демкова Н. С. Житие протопопа Аввакума: Творческая история произведения. Л., 1974.
Демкова 1980 — Демкова Н. С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве» // Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980.
Демкова 1989 — Демкова Н. С. «Записка о жизни Ивана Неронова». Комментарии // ПЛДР: XVII век. Книга вторая. М., 1989.
Демкова 1996 — Демкова Н. С. К интерпретации «Повести о Петре и Февронии»: «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма как притча // Демкова Н. С. Средневековая русская литература: Поэтика, интерпретация, источники: Сб. статей. СПб., 1996.
Демченков 2003 — Демченков С. А. Библейская профетическая традиция в «Житии» протопопа Аввакума (к проблеме жанра). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук. Омск, 2003.
Дергачев 2001 — Дергачев В. В. Византийский синодик в древней и средневековой России // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2001. № 1 (3).
Дергачева 2004 — Дергачева И. В. Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 2004.
Державина 1990 — Державина О. А. Древняя Русь в русской литературе XIX века (Сюжеты и образы древнерусского литературы в творчестве писателей XIX века). Пролог: Избранные тексты. М., 1990.
Джаксон 1991 — Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей X–XIII вв. // Древнейшие государства на территории СССР. 1988–1989. М., 1991.
Джаксон 1994 — Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.): Тексты, перевод, комментарий. М., 1994.
Джаксон 2000 — Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси: Из истории русско-норвежских политических отношений последней трети X — первой половины XI в. М., 2000.
Дмитриев 1953 — Дмитриев Л. A. Глагол «каяти» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Л., 1953. Т. 9.
Дмитриев 1973 — Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973.
Дмитриева 1955 — Дмитриева Р. П. Сказание о князьях Владимирских. М.; Л., 1955.
Добродомов 2001 — Добродомов И. Г. Копие приломити // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве»: Материалы юбилейных чтений по истории и культуре древней и новой России. 27–29 августа 2000 года. Ярославль — Рыбинск. Ярославль, 2001.
Домников 2002 — Домников С. Д. Мать-земля и Царь-город: Россия как традиционное общество. М., 2002.
Древнерусская книжность 1985 — Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского Дома. Сб. науч. трудов. Л., 1985.
Древнерусские княжеские жития 2001 — Древнерусские княжеские жития / Подготовка текстов, пер. и коммент. В. В. Кускова. М., 2001.
Древнерусские патерики 1999 — Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. Изд. подг. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999 (серия «Литературные памятники»).
Душечкина 1971 — Душечкина Е. В. Нестор в работе над Житием Феодосия: Опыт прочтения текста // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1971. Вып. 266 (Труды по русской и славянской филологии. Т. 18. Литературоведение).
Дылевский 1993 — Дылевский Н. М. Фраза «Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе, и на канину паполому постла, за обиду Олгову, храбра и млада Князя» в тексте «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48.
Евсеев 1897 — Евсеев И. Книга пророка Исайи в древнеславянском переводе. СПб., 1897. Ч. I. Славянский перевод Книги пророка Исайи по рукописям XII–XVI вв.
Емченко 2000 — Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000.
Еремин 1947 — Еремин И. П. «Повесть временных лет»: Проблемы ее историко-литературного изучения. Л., 1947.
Еремин 1949 — Еремин И. П. Киевская летопись как памятник литературы // ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7.
Еремин 1961 — Еремин И. П. К характеристике Нестора как писателя // ТОДРЛ. М.; Л., 1961. Т. 17.
Еремин 1966 — Еремин И. П. Литература Древней Руси (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966.
Еремин 1987 — Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Изд. 2-е, доп. Л., 1987.
Жданов 1939 — Жданов Р. В. Крещение Руси и Начальная летопись // Исторические записки. М., 1939. Т. 5.
Жегин 1970 — Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения (Условность древнего искусства). М., 1970.
Живов 1996 — Живов В. М. Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII в. // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 3. (XVII — начало XVIII века).
Живов 2000 — Живов В. М. Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1 (Древняя Русь).
Живов 2004 — Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. Живов В. Два пространства русского средневековья и их позднейшие метаморфозы // http://www.strana-oz.ru/?numid=20aarticle=933 (=Отечественные записки. 2004. № 5 [20]).
Живов 2005 — Живов В. М. Ранняя восточнославянская агиография и проблема жанра в древнерусской литературе // Язык. Личность. Текст: Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой / Отв. ред. В. М. Топоров. М., 2005.
Живов, Успенский 1987 — Живов В. М. Успенский Б. А. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблема переводимости. М., 1987.
Живов, Успенский 1996 — Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры.
Житие Иоанна Златоустра 1899 — Житие святаго Иоанна Златауста <…> Сказание Георгиа архиепископа Александрьскаго о житии святаго Иоанна Златаустаго, архиепископа Конъстянътина града // ВМЧ. СПб., 1899. Ноябрь, дни 13–15.
Житие Саввы Освященного 1901 — Житие святаго отьца нашего и наставника пустыннаго Савы Освященнаго. Списано бысть Кирилом монахом // ВМЧ. М., 1901. Декабрь. Дни 1–5.
Житие Симеона Столпника 1868 — Житие Симеона Столпника // ВМЧ. СПб., 1868. Т. I. Сентябрь, дни 1–13.
Житие Феодосия 1910 — Житие и бытие святаго и преподобнаго от[ь]ца нашего Феодосиа, архимандрита всея пустыня, яже под святымъ Х[рист]а Б[о]га нашего градомъ. Списано от преподобна[го] Феодора, епископа Петрьскаго, бывшу того уч[е]нику // ВМЧ. М., 1910. Январь. Тетрадь 1, дни 1–6–11.
Житие Феодора Студийского 1897 — Житие и жизнь преподобнаго отца нашего исповедника Феодора игумена Студийскаго // ВМЧ. СПб., 1897. Ноябрь, дни 1–12.
Житие Юлиании Лазаревской 1996 — Житие Юлиании Лазаревской (Повесть об Ульянии Осорьиной): Исследование и подготовка текстов Т. Р. Руди / Отв. ред. Р. П. Дмитриева. СПб., 1996.
Жития византийских святых 1994 — Жития византийских святых / Изд. подг. С. В. Полякова. М., 1994.
Жития 1916 — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Приготовил к печати Д. И. Абрамович. (Памятники древнерусской литературы. Вып. 2) Пг., 1916.
Жолковский 1976 — Жолковский А. К. Заметки о тексте, подтексте и цитации у Пастернака (К различению структурных и генетических связей) // Boris Pasternak: Essays / Ed. by N.A Nilsson. Stockholm, 1976.
Зализняк 1995 — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995.
Зализняк 2004а — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. Изд. 2-е, перераб. М., 2004.
Зализняк 2004б — Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. М., 2004.
Зеленин 1917 — Зеленин Д. К. Древнерусский языческий культ «заложных» покойников // Известия Академии наук. 1917. VI серия. Т. 11. № 7.
Зеленин 1991 — Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К. Д. Цивиной. М., 1991.
Зеленин 1995 — Зеленин Д. К. Избранные труды: Очерки русской мифологии. Умершие неестественною смертью и русалки. М., 1995.
Зеленокоренный 2004 — Зеленокоренный А. М. О некоторых выражениях из «Слова о полку Игореве» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2004. Т. 11.
Зеленокоренный 2005 — Зеленокоренный А. М. О некоторых конъектурах в «Слове о полку Игореве» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2005. Сб. 12 / Отв. ред. Д. С. Менделеева.
Зеньковский 1995 — Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: Духовные движения семнадцатого века. М., 1995 (Репринт изд.: München, 1970).
Зернов 1991 — Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1991.
Зимин 1963 — Зимин А. А. Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку // Краткие сообщения Института славяноведения. М., 1963. Вып. 37.
Зимин 2006 — Зимин А. А. Слово о полку Игореве / Отв. ред. В. Г. Зимина, О. В. Творогов. СПб., 2006.
Зимина 2006 — Зимина В. Г. К читателю // Зимин А. А. Слово о полку Игореве / Отв. ред. В. Г. Зимина, О. В. Творогов. СПб. 2006.
Зубов 1953 — Зубов В. П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб. (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского») // ТОДРЛ. М.; Л., 1953. Т. 9.
Иванов 1995 — Иванов С. А. Византийское юродство. М., 1995.
Иванов 2005 — Иванов С. А. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М., 2005.
Иванов, Турилов 1996 — Иванов С. А., Турилов А. А. Переводная литература у южных и восточных славян в эпоху раннего Средневековья // Очерки истории культуры славян. М., 1996.
Иванов, Топоров 2000 — Иванов В. В., Топоров В. Н. О древних славянских этнонимах (Основные проблемы и перспективы) // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. (Древняя Русь).
Из истории русской культуры 2002 — Из истории русской культуры. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь.
Иловайский 2003 — Иловайский Д. Становление Руси. М., 2003.
Ильин 1957 — Ильин Н. Н. Летописная статья 6523 года и ее источник. М., 1957.
Ильина книга 2005 — Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131 / Лингвистическое изд., подг. греч. текста, комм., словоуказатели В. Б. Крысько. М., 2005.
Иоанн Дамаскин 1894 — Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры / Пер. с греч. М. Бронзова. СПб., 1894.
Иоанн Дамаскин 1913 — Иоанн Дамаскин. Полное собрание творений. СПб., 1913. Т. 1.
Иосиф Флавий 2004 — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия: Древнерусский перевод / Отв. ред. А. М. Молдован; Изд. подгот. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. М., 2004. Т. 1.
История России 1998 — История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н. И. Павленко. М., 1998.
История русской литературы 1941 — История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941. Т. 1. Литература XI — начала XIII века.
История русской литературы 1980 — История русской литературы: В 4 т. Л., 1980. Т. 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века.
Истрин 1897а — Истрин В. М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской письменности. (ЧОИДР. Кн. 2) М., 1897.
Истрин 1897б — Истрин В. Первая книга Иоанна Малалы // Записки Академии наук. 1897. Т. 1. № 3.
Истрин 1920 — Истрин В. М. Книгы временньныя и образныя Георгия мниха. Хроника Георгия Амартола в славяно-русском переводе. Текст, исследование и словарь. Пг., 1920. Т. 1. Текст. Истрин В. М. Замечания о начале русского летописания: По поводу исследований А. А. Шахматова в области древнерусской летописи // ИОРЯС Пг., 1923. Т. 26.
Истрин 1994 — Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. Репринтное издание материалов В. М. Истрина / Подг. изд., вступ. ст. и приложения М. И. Чернышевой. М., 1994.
Истрин 2003 — Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI–XIII вв.). [Изд. 2-е]. М., 2003.
Июльская 2000 — Июльская Е. Г. «…И сведохся в сон тонок…»: Образ тайнозрителя в видениях инока Епифания // Русская речь. 2000. № 6.
Калугин 2003 — Калугин В. В. Slavia Orthodoxa Риккардо Пиккио // Пиккио P. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003.
Каноник 1651 — Каноник. М., 1651.
Каптерев 1996 — Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. М., 1996. Т. 2. (Репринтное воспр. изд.: Сергиев Посад, 1912).
Карамзин 1989–1991 — Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М., 1989. Т. 1; М., 1991. Т. 2–3; М., 1991. Т. 4.
Карпов 1992 — Карпов А. Ю. «Слово на обновление Десятинной церкви» по списку М. А. Оболенского // Архив русской истории. 1992. № 1.
Карпов 1997 — Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 1997 (серия «Жизнь замечательных людей»).
Карпов 2001 — Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001 (серия «Жизнь замечательных людей»).
Карпов 2002 — Карпов А. Ю. Об эсхатологических ожиданиях в Киевской Руси в конце XI — начале XII века // Отечественная история. 2002. № 2.
Карпов 2006 — Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. М., 2006 (серия «Жизнь замечательных людей»).
Картамышева 2003 — Картамышева Е. П. «Draugr» исландских саг и «заложные» покойники в славянском фольклоре // Скандинавские чтения 2002 года / Отв. ред. А. А. Хлевов, Т. А. Шрадер. СПб., 2003.
Картамышева 2006а — Картамышева Е. П. «Неблагополучные» умершие в славянской и скандинавской традициях («заложные» покойники и «оживающие мертвецы») // Славяноведение. 2006. № 6.
Картамышева 2006б — Картамышева Е. П. Почитание предков в древнескандинавской дохристианской культуре. Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2006.
Карташев 1991 — Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1991. Т. 1. (Репринтн. воспр. изд.: Paris. 1959).
Кириллин 1995 — Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси // Древнерусская литература: Изображение природы и человека. М., 1995.
Кириллин 2000 — Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). СПб., 2000.
Кирпичников 1879 — Кирпичников А. И. Св. Георгий и Егорий Храбрый: Исследование литературной истории христианской легенды. СПб., 1879.
Клейн 1976 — Клейн И. «Слово о полку Игореве» и апокалиптическая литература. (К постановке вопроса о топике древнерусской литературы) // ТОДРЛ. 1976. Т. 31.
Клейн 2004 — Клейн Л. С. Воскрешение Перуна: К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004.
Клосс 1998 — Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М., 1998.
Клосс 2000 — Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2000 г. // ПСРЛ. М., 2000. Т. 15. Рогожский летописей. Тверской летописный сборник.
Клосс 2001 — Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI веков. М., 2001.
Ключевский 1990 — Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1990. (Репринтн. воспр. изд.: М., 1871).
Ключевский 1991 — Ключевский В. О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991.
Козьма Индикоплов 1997 — Книга нарицаемая Козьма Индикоплов / Изд. подг. В. Ф. Дубровина. М., 1997. Князевская О. А. Отрывок древнерусской рукописи конца XII — начала XIII в. (Курский краеведческий музей) // Litterae slavicae medii aevi Francisco Venceslao Mareš sexegenario oblatae. München, 1985.
Кожинов 1963 — Кожинов В. В. Происхождение романа. М., 1963.
Козырев 1976 — Козырев В. А. Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных народных говоров // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. Козьма Пражский. Чешская хроника / Пер. с лат. М., 1961.
Колесов 1986 — Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.
Колесов 1987 — Колесов В. В. Повесть о убиении Андрея Бо-голюбского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. I. (XI — первая половина XIV в.). / Отв. ред. Д. С. Лихачев.
Колесов 1989 — Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989.
Колесов 1991 — Колесов В. В. Сергий Радонежский: художественный образ и символ культуры // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991.
Кологривов 1961 — Иоанн <Кологривов>, иеромонах. Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961.
Кологривов 1991 — Иоанн (Кологривов), иеромонах. Очерки по истории русской святости. Siracusa, 1991. Комарович В. Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // ТОДРЛ. Л., 1960. Т. 16.
Комеч 1987 — Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X — начала XIII в.: Византийское наследие и становление самостоятельной традиции / Отв. ред. чл. — корр. АН СССР В. Л. Янин. М., 1987.
Коновалова 2001 — Коновалова И. Г. О возможных источниках заимствования титула «каган» в Древней Руси // Славяне и их соседи. М., 2001. Вып. 10. Славяне и кочевой мир.
Константин Багрянородный 1989 — Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий. М., 1989.
Конт 2005 — Конт Ф. «Кончаете правило, паки начах молитися Христу и Богородице со слезами» (Слезы в русской духовной культуре) //Тело в русской культуре / Сост. Г. И. Кабакова и Ф. Конт. М., 2005. (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 51).
Конявская 2004 — Конявская Е. Л. Проблема «общих мест» в древнеславянских литературах // Ruthenica Киïв, 2004. Т. 3.
Косоруков 1986 — Косоруков А. А. Гений без имени. М., 1986.
Косоруков 1992 — Косоруков А. А. Любимые идеи — легенды — факты (Образы Всеслава Полоцкого в летописях, в «Слове о полку Игореве» и образ Волъха Всеславьевича в былинах) // Герменевтика древнерусской литературы: XI–XIV вв. М., 1992. Сб. 5.
Костомаров 1993 — Костомаров Н. И. Господство дома Св. Владимира: Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1993.
Котляр 1986 — Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986.
Котляр 2005 — Котляр Н. Ф. Комментарий // Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование / Сост. Н. Ф. Котляр, В. Ю. Франчук, А. Г. Плахонин; Под ред. Н. Ф. Котляра. СПб., 2005.
Кралик 1963 — Кралик О. «Повесть временных лет» и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле // ТОДРЛ. М.; Л., 1963. Т. 19.
Кралик 1969 — Кралик О. Privilegium moraviensis ecclesie // Byzantinoslavica 1969. Vol. XXI. № 2.
Кривошеев 2003а — Кривошеев Ю. В. Гибель Андрея Боголюбского: Историческое расследование. СПб., 2003.
Кривошеев 2003б — Кривошеев Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2003.
Крушельницкая 1992 — Крушельницкая Е. В. Автобиографические сочинения и их использование в памятниках житийной литературы XVI–XVII вв. (жития Филиппа Ирапского, Герасима Болдинского, Мартирия Зеленецкого, автобиографическое Сказание Елеазара Анзерского). Автореферат дисс. <…> канд. филол. наук. СПб., 1992.
Крушельницкая 1993а — Крушельницкая Е. В. Повесть Мартирия Зеленецкого и автобиографическое повествование в памятниках русской литературы XIV–XVI вв. // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46.
Крушельницкая 1993б — Крушельницкая Е. В. Завещание-устав Герасима Болдинского. Приложение // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48.
Крушельницкая 1996 — Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие в древнерусской литературе. Жития Филиппа Ирапского, Герасима Болдинского, Мартирия Зеленецкого, Сказание Елеазара об Анзерском ските: Исследование и тексты. СПб., 1996.
Кудрявцев 1994 — Кудрявцев М. П. Москва — Третий Рим: Историко-градостроительное исследование. М., 1994.
Кузьмин 1977 — Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977.
Кусков 1988 — Кусков В. В. Исторические аналогии событий и героев в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. М., 1988.
Кучкин 1974 — Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое исследование. М., 1974.
Кучкин 1995 — Кучкин В. А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. 1995. № 5–6.
Кучкин 1999 — Кучкин В. А. Чудо св. Пантелеймона и семейные дела Владимира Мономаха // Россия в Средние века и новое время: Сборник статей к 70-летию Л. В. Милова. М., 1999.
Кучкин 2002–2003 — Кучкин В. А. Антиклоссицизм // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2002. № 2 (8); № 3 (9); № 4 (10); 2003. № 1 (11); № 2 (12); № 3 (13); 2003. № 4 (14).
Лавров 1911 — Лавров П. А. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности // Памятники христианского Херсонеса. М., 1911. Т. 2.
Лаушкин 2003 — Лаушкин А. В. Святой первомученик Стефан в первые русские святые // История и культура Ростовской земли. Ростов, 2003.
Лаушкин 2004 — Лаушкин А. В. Точные датировки в древнерусском летописании XI–XIII вв.: Закономерности появления // Восточная Европа в древности и Средневековье: Время источника и время в источнике. XVI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 14–16 апреля 2004 г. Материалы конференции. М., 2004.
Лаушкин 2006 — Лаушкин А. В. К вопросу о развитии этнического самосознания древнерусской народности («хрестеяни» и «хрестьяньскыи» в памятниках летописания XI–XIII вв.) // Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6. К семидесятилетию академика Леонида Васильевича Милова.
Лебедев 2005 — Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005.
Лебедев 1989 — Лебедев Лев, прот. Богословие русской земли как образа Обетованной земли Царства Небесного: На некоторых примерах архитектурно-строительных композиций XI–XVII веков // Тысячелетие крещения Руси. М., 1989.
Лебедев 1995 — Лебедев Лев, протоиерей. Богословие земли Русской // Лебедев Лев, протоиерей. Москва патриаршая. М., 1995.
Левин 2004 — Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России / Пер. с англ. М., 2004.
Левинтон 1971 — Левинтон Г. А. К проблеме литературной цитации // Материалы XXVI научной студенческой конференции. Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1971.
Левитский 1890 — Левитский П. Важнейшие источники для определения времени крещения Владимира и Руси и их данные // Христианское чтение. 1890. Т. 202. Ч. I. № 3–4.
Ле Гофф 2001а — Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой / Пер с фр. В. И. Матузовой. М., 2001.
Ле Гофф 2001б — Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с фр. Е. В. Морозовой. М., 2001.
Ленхофф, Мартин 1993 — Ленхофф Г. Д., Мартин Дж. Б. Торгово-хозяйственный и культурный контекст «Хожения за три моря» Афанасия Никитина // ТОДРЛ. СПб., Т. 47. 1993.
Лесючевский 1946 — Лесючевский В. И. Вышгородский культ Бориса и Глеба в памятниках искусства // Советская археология. 1946. Т. VIII.
Летописец 1999 — Летописец Еллинский и Римский. СПб., 1999. Т. 1. Текст.
Лённгрен 2001–2004 — Лённгрен Т. П. Соборник Нила Сорского. М., 2001. Ч. 1; М., 2002. Ч. 2; М., 2004. Ч. 3.
Лённрот 2000 — Лённрот Л. Креститель и святой: два короля Олава в представлении Одда Сноррасона // Другие средние века: К 75-летию А. Я. Гуревича. М.; СПб., 2000.
Лидов 2006 — Лидов А. М. Святой Огонь и перенесение Новых Иерусалимов: иеротопические и искусствоведческие аспекты // Новые Иерусалимы: Переселение сакральных пространств в христианской культуре: Материалы международного симпозиума / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2006.
Литаврин 1989 — Литаврин Г. Г. Политическая теория в Византии с середины VII до начала XIII в. // Культура Византии: Вторая половина VII–XII в. М., 1989.
Литаврин 2000 — Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). СПб., 2000.
Литвина, Успенский 2003 — Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Летописные рассказы о Рогнеде-Гориславе // Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его текст. XV Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 15–17 апреля 2003 г. Материалы конференции / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2003.
Литвина, Успенский 2006 — Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006.
Литвинова 1972 — Литвинова Н. Н. Сказание о Муромском острове — памятник новгородской публицистики XV века // Проблемы комплексного изучения Северо-Запада РСФСР. Л., 1972.
Лихачев 1947 — Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Л., 1947.
Лихачев 1950а — Лихачев Д. С. Историко-литературный очерк. Комментарии // Повесть временных лет / Подг. текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950 (серия «Литературные памятники»).
Лихачев 1950б — Лихачев Д. С. Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Сб. исследований и статей. М.; Л., 1950.
Лихачев 1950в — Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. М.; Л., 1950.
Лихачев 1954 — Лихачев Д. С. Некоторые вопросы идеологии феодалов в литературе XI–XIII веков // ТОДРЛ. 1954. Т. 10.
Лихачев 1972 — Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования в XI–XIII вв. // ТОДРЛ. Л, 1972. Т. 27.
Лихачев 1975 — Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.
Лихачев 1979 — Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е., доп. М., 1979.
Лихачев 1985 — Лихачев Д. С. Градозащитная семантика Успенских храмов // Успенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 1985.
Лихачев 1986 — Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986.
Лихачев 1987а — Лихачев Д. С. Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3.
Лихачев 1987б — Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» как художественное целое // Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3.
Лихачев 1996 — Лихачев Д. С. Историко-литературный очерк. Комментарии // Повесть временных лет / Подг. текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1996 (серия «Литературные памятники»).
Лихачев, Панченко 1976 — Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
Лонгинов 1892 — Лонгинов А. В. Историческое сказание о походе северского князя Игоря на половцев в 1185 г. Одесса, 1892.
Лонгинов 1911 — Лонгинов А. В. Слово о полку Игореве: Перевод текста (по изданию Мусина-Пушкина). С объяснением непонятных выражений. Пособие для учителей. Одесса, 1911.
Лосева 2001 — Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001.
Лотман 1970а — Лотман Ю. М. О моделирующем значении понятий «конца» и «начала» в художественных текстах // Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970.
Лотман 1970б — Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Материалы к курсу теории литературы. Тарту. 1970. Вып. 1.
Лотман 1973 — Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.
Лотман 1988 — Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
Лотман 1992а — Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры.
Лотман 1992б — Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры.
Лотман 1992–1993 — Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992–1993.
Лотман 1993 — Лотман Ю. М. «Звонячи в прадѣднюю славу» // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 3.
Лотман 1996 — Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996.
Лотман 2000 — Лотман Ю. М. Семиосфера. СПБ., 2000.
Лотман, Успенский 1977 — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты в изучении культуры Древней Руси // Вопросы литературы. 1977. № 3.
Лотман, Успенский 1982 — Лотман Ю.М, Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык средневековья. М., 1982.
Лотман, Успенский 1995 — Лотман Ю.М, Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б. А. Избранные труды. [Изд. 1-е]. М., 1995. Т. 1.
Лотман, Успенский 1996 — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1996. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры.
Льюис 2004 — Льюис К. С. Письма Баламута. Расторжение брака. Мерзейшая мощь. Из цикла «Хроники Нарнии». Пока мы лиц не обрели: Сборник / Пер. с англ. М., 2004.
Любарский 1992 — Любарский Я. Н. Сочинение Продолжателя Феофана. Хроника, история, жизнеописания? // Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я. Н. Любарский. М., 1992.
Лященко 1925 — Лященко А. И. Летописные сказания о смерти Олега Вещего // ИОРЯС. 1925. Т. 29.
Мавродин 2002 — Мавродин В. В. Очерки истории левобережной Украины (с древнейших времен до второй половины XIV века). СПб., 2002.
Макарий Булгаков 1994–1995 — Макарий, митрополит Московский и Коломенский <Булгаков>. История Русской церкви. М., 1994. Кн. 1. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю Русской церкви; М., 1995. Кн. 2. История Русской церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриархата (988–1240).
Макарий Веретенников 1998 — Макарий (Веретенников), архим. Русская святость в истории, иконе и словесности: Очерки русской агиологии. М., 1998.
Макарий Веретенников 2005 — Макарий (Веретенников), архим. Святая Русь: Агиография. История. Иерархия. М., 2005.
Мальсагов 1959 — Мальсагов Д. Д. О некоторых непонятных местах в «Слове о полку Игореве» // Известия Чечено-Ингушского научно-исследовательского института языка и литературы. Языкознание. Грозный, 1959. Т. 1. Вып. 2.
Марков 1908 — Марков А. В. Поэзия Великого Новгорода и ее остатки в Северной России // Пошана. Харьков, 1908. Т. 18.
Матвеенко, Щеголева 2000 — Матвеенко В. А., Щеголева Л. И. Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели. М., 2000.
Материалы — Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые Н. И. Субботиным. М., 1874. Т. 1; М., 1876. Т. 2; М., 1885. Т. 7.
Матхаузерова 1972 — Матхаузерова С. Функции времени в древнерусских жанрах // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. 27.
Матхаузерова 1976 — Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Praha, 1976.
Матхаузерова 1988 — Матхаузерова С. Система образов в «Слове о полку Игореве»: сравнительный анализ // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. М., 1988.
Маханько, Савенкова 2006 — Реликвии по известиям русских летописей X–XVII веков / Сост. и комм. М. А. Маханько и Е. М. Савенковой // Реликвии в Византии и Древней Руси: Письменные источники / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2006.
Мейендорф 1997 — Мейендорф И., протопресв. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. Изд. 2-е, испр. и доп. для русского пер. / Пер. Г. Н. Начинкина под ред. И. П. Медведева и В. М. Лурье. [Subsidia Вуzantinorossica Т. 2]. СПб., 1997.
Мейендорф 2001 — Мейендорф И., протоиерей. Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы / Пер. с англ. В. Марутика. Минск, 2001.
Мейендорф 2005 — Мейендорф И. От Византии к России: Религиозное и культурное наследие // Мейендорф И., протопресв. Рим — Константинополь — Москва: Исторические и богословские исследования / Пер. [с англ.] Л. А. Успенской / Под ред. иерея К. Польскова. М., 2005.
Мелетинский 1993 — Мелетинский Е. М. О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов // Мировое древо. Arbor mundi. 1993. Вып. 2.
Мельников 2003 — Мельников Г. П. Сакральное и светское в культах первых славянских святых (Чехия, Польша, Сербия, Русь) // Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Международный съезд славистов (Любляна, август 2003). Доклады российской делегации. М., 2003.
Мельникова 1996 — Мельникова Е. А. Культ святого Олава в Новгороде и Константинополе // Византийский временник. 1996. Т. 56 (81).
Мельникова 1998 — Мельникова Е. А. Заглавие Повести временных лет и этнокультурная самоидентификация летописца // Восточная Европа в древности и средневековье: X Чтения к 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1998. С. 68–71.
Мельникова 1999 — Мельникова Е. А. Устная традиция в Повести временных лет: К вопросу о типах устных преданий // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1999. С. 156–158.
Мельникова 2005 — Мельникова Е. А. Сюжет смерти героя «от коня» в древнерусской и древнескандинавской традициях // От Древней Руси к новой России: Юбилейный сборник, посвященный члену-корреспонденту РАН Я. Н. Щапову. М., 2005.
Мельникова, Петрухин 1995 — Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. «Легенда о призвании варягов» и становление древнерусской агиографии // Вопросы истории. 1995. № 2.
Менделеева 2005 — Менделеева Д. С. Протопоп Аввакум: литературные облики русского раскола // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2005. Сб. 12 / Отв. ред. Д. С. Менделеева.
Мень 1991 — Мень А., о. Ветхозаветные пророки (Библейские пророки от Амоса до Реставрации. VIII–IV в. до н. э.). Л., 1991.
Миллер 1877 — Миллер Вс. Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877.
Мильков 1997 — Мильков В. В. Церковные, народные и античные представления об ином мире в их отношении к апокрифическому образу земного рая // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997.
Мильков 2006 — Мильков В. В. Комментарии [к Поучению Владимира Мономаха] // Творения митрополита Никифора. М., 2006.
Милютенко 1992а — Милютенко Н. И. Летописец Переяславля Суздальского в летописании Северо-Восточной Руси нач. XIII в. Автореферат дисс. <…> канд. филол. наук. СПб., 1992.
Милютенко 1992б — Милютенко Н. И. Титулатура «князь» — «каган» — «царь» в Древней Руси // Образование древнерусского государства: Спорные проблемы. Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Тезисы докладов. М., 1992.
Милютенко 1993 — Милютенко Н. И. Переяславское сказание о Борисе и Глебе // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 47.
Милютенко 2004 — Милютенко Н. И. История сложения Паримийного чтения Борису и Глебу // ТОДРЛ. СПБ., 2004. Т. 56.
Минева 2001 — Минеева С. В. Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). М., 2001. Т. 2. Тексты.
Минц 1973 — Минц З. Г. Функция реминисценции в поэтике А. Блока // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6.
Михаил Пселл 1978 — Михаил Пселл. Хронография / Пер., статья и примеч. Я. Н. Любарского. М., 1978.
Михаил Пселл 2003 — Михаил Пселл. Хронография / Пер., статья и примеч. Я. Н. Любарского. Краткая история / Пер. Д. А. Черноглазова и Д. Р. Абдрахмановой. СПб., 2003.
Михайлов 1997 — Михайлов А. В. Языки культуры: Учебное пособие по культурологии. М., 1997.
Михеев 2005 — Михеев С. М. Золотая гривна Бориса и родовое проклятье Инглингов // Славяноведение. 2005. № 2.
Михеев 2006 — Михеев С. Эймунд-убийца Бориса, Ингвар Путешественник и Анунд из Руси: к вопросу о шведах на Руси в XI веке // Rithenica Киïв, 2006. Т. 5.
Молдован 2000 — Молдован А. М. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.
Молчанов 2003 — Молчанов А. А. Семейный именослов в автобиографии Владимира Мономаха (к вопросу о путях усвоения князьями Рюриковичами христианских имен) // Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его текст. XV Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 15–17 апреля 2003 г. Материалы конференции / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2003.
Морозов 1962 — Морозов А. А. Проблема барокко в русской литературе XVII — начала XVIII в. (состояние вопроса и задачи изучения) // Русская литература. 1962. № 3.
Муратов 2005 — Муратов П. П. Русская живопись до середины XVII века // Муратов П. П. Древнерусская живопись. История открытия и исследования / Сост., предисл. А. М. Хитрова. М., 2005.
Мурьянов 1973 — Мурьянов М. Ф. Золотой пояс Симона // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. Сборник статей в честь В. Н. Лазарева / Под ред. В. Н. Гращенкова и др. М., 1973.
Мурьянов 1978 — Мурьянов М. Ф. Время (понятие и слово): К 600-летию Лаврентьевской летописи // Вопросы языкознания. 1978. № 2.
Мусин 2006 — Мусин А. Е. Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб / Исследование и подготовка текстов Н. И. Милютенко [Рецензия] // Ruthenica Киïв, 2006. Т. 5.
Мэлори 2005 — Мэлори Т. Смерть Артура. Изд. подг. И. М. Бернштейн, В. М. Жирмунский, А. Д. Михайлов, Б. И. Пуришев. М.; СПб., 2005. (Серия «Литературные памятники». Репринта, воспр. изд. 1974 г.).
Мюллер 2000 — Мюллер Л. Понять Россию: Историко-культурные исследования / Пер. с нем. М., 2000.
Мюллер 2001 — Мюллер Л. Летописный рассказ и Сказание о святых Борисе и Глебе: Их текстологическое взаимоотношение // Russia Medievalis. 2001. Т. X. № 1.
Назаревский 1951 — Назаревский А. А. Автор «Слова о полку Игореве» и его общественно-политические взгляды // Киïвский Держ. ун-т им. Т. Г. Шевченка. Науковi записки. Киïв, 1951. Т. 10. Вып. 3. Филол. зб. № 3.
Назаренко 2001 — Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культуры, торговли, политических связей IX–XII веков. М., 2001.
Насонов 2002 — Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства: Историко-географическое исследование. Монголы и Русь: История татарской политики на Руси. СПб., 2002.
Невзорова 2004 — Невзорова Н. Н. Паримии Борису и Глебу: опыт прочтения // ТОДРЛ. СПБ., 2004. Т. 56.
Неклюдов 2005 — Неклюдов С. Тело Москвы. К вопросу об образе «женщины-города» в русской литературе // Тело в русской культуре / Сост. Г. И. Кабакова и Ф. Конт. М., 2005. (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 51).
Нидерле 2001 — Нидерле Л. Славянские древности / Пер. с чешек. Т. Ковалевой и М. Хазанова. Изд. 2-е. М., 2001.
Никитин 1992 — Никитин А. Л. О купчей на «землю Бояню» // Герменевтика древнерусской литературы: XI–XIV вв. М., 1992. Сб. 5.
Никитин 2004 — Никитин А. Л. «Слово о полку Игореве» в контексте изучения древнерусской истории и литературы // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2004. Вып. 11.
Николаева 1988 — Николаева Т. М. Функционально-стилевая структура антитез и повторов в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. М., 1988.
Николаева 1997 — Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве». Поэтика и лингвистика текста; «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997.
Никольский 1902 — Никольский Н. К. К вопросу об источниках летописного сказания о св. Владимире // Христианское чтение. 1902. Т. 214. Ч. 1. № 7. Июль.
Никольский 1930 — Никольский Н. К. «Повесть временных лет» как источник для истории начального периода русской письменности и культуры: к вопросу о древнейшем русском летописании. Л., 1930. Вып. 1. (Сборник по русскому языку и словесности. Т. 2. Вып. 1).
Новгородская первая летопись 1950 — Новгородская первая летопись старшего и младшего извода. М.; Л., 1950.
Оболенский 1998 — Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть византийских портретов / Пер. с англ. М., 1998.
Одесский 1995 — Одесский М. П. «Человек болеющий» в древнерусской литературе // Древнерусская литература: Изображение природы и человека. М., 1995.
Одесский 2000 — Одесский М. П. Поэтика власти на Древней Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. № 1.
Одинцов 1881 — Одинцов Н. Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI в. СПб., 1881.
Ольшевская 1999 — Ольшевская Л. А. Типолого-текстологический анализ списков и редакций Киево-Печерского патерика // Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подг. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999 (серия «Литературные памятники»).
Описание рукописей 1872 — Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова / Составил А. Попов. М., 1872.
Орлов 1946 — Орлов А. С. «Слово о полку Игореве». 2-е изд., доп. М.; Л., 1946.
Орлов 1992 — Орлов М. А. История сношений человека с дьяволом // Амфитеатров А. В. Дьявол. Орлов М. А. История сношений человека с дьяволом. М., 1992.
От Нестора до Фонвизина 1994 — От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства / Под ред. чл. — корр. РАН Л. B. Милова. М., 1994.
Охотникова 1986 — Охотникова В. И. Повесть о Довмонте: Исследование и тексты. Л., 1986.
Палея 1892 — Палея Толковая по списку, сделанному в г. Коломне. Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892.
Памятники Куликовского цикла 1998 — Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998.
Памятники 1862 — Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 4.
Панченко 1976 — Панченко А. М. Юродство как зрелище. Юродство как общественный протест //Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
Панченко 1979 — Панченко А. М. Аввакум как поэт // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1979. Т. 38. Вып. 4.
Панченко 1982 — Панченко А. М. Аввакум как новатор // Русская литература. 1982. № 4.
Панченко 1984 — Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
Панченко, Успенский 1983 — Панченко А. М., Успенский Б. А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37.
Паралипоменон Зонары 1847 — Паралипоменон Зонары // ЧОИДР. 1847. № 1.
Парамонова 2001а — Парамонова М. Ю. Семейный конфликт и братоубийство в вацлавской агиографии: две агиографические модели святости и мученичества правителя // Одиссей: Человек в истории. 2001. М., 2001.
Парамонова 2001б — Парамонова М. Ю. Правители и святые: культ святого в контексте оттоновской политики в Центральной Европе // Власть, право, религия: Взаимосвязь светского и сакрального в средневековом мире. М., 2001.
Парамонова 2003 — Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: сравнительно-исторический анализ вацлавского и борисоглебского культов. М., 2003.
Патерик 1911 — Патерик Киево-Печерского монастыря. СПб., 1911.
ПВЛ 1996 — Повесть временных лет / Подг. текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1996 (серия «Литературные памятники»).
Пентковский 2001 — Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
Перетц 1926а — Перетц В. Н. К изучению «Слова о полку Игореве». Л., 1926.
Перетц 1926б — Перетц В. Слово о полку Игоревiм: Пам’ятка феодальноï Украïнi — Руси XII вiку. Киïв, 1926.
Петрухин 1998а — Петрухин В. Я. Город и сакральное пространство: библейский миф в начальном русском летописании // Сакральная топография русского средневекового города. [Известия Института христианской культуры Средневековья. Т. 1]. М., 1998.
Петрухин 1998б — Петрухин В. Я. К дохристианским истокам древнерусского княжеского культа // Πολυτροπον: К 70-летию В. Н. Топорова. М.,1998.
Петрухин 1998в — Петрухин В. Я. К проблеме композиции Начальной русской летописи // Восточная Европа в древности и средневековье: X Чтения к 80-летию В. Т. Пашуто: Материалы и исследования. М., 1998. С. 91–95.
Петрухин 1999 — Петрухин В. Я. «Начало Русской земли» в начальном летописании // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию B. Т. Пашуто. М., 1999.
Петрухин 2000а — Петрухин В. Я. Владимир Святой и Соломон Премудрый: грехи и добродетели в древнерусской традиции // Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000.
Петрухин 2000б — Петрухин В. Я. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. I (Древняя Русь).
Петрухин 2002 — Петрухин В. Я. Христианство на Руси во второй половине X — первой половине XI в. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002.
Петрухин 2003 — Петрухин В. Я. История славян и Руси в контексте библейской традиции: миф и история в «Повести временных лет» // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2003.
Петрухин 2005 — Петрухин В. Я. Русь и Хазария: к оценке исторических взаимосвязей // Хазары. Khazars. Иерусалим; М., 2005. (Евреи и славяне. Т. 16. Jews and Slavs. Vol. 16).
Петрухин 2006 — Петрухин В. Я. Иеротопия русской земли и начальное летописание // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2006.
Петрухин 2006а — Петрухин В. Я. Как начиналась Начальная летопись? // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57.
Петрухин, Раевский 1998 — Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. М., 1998.
Пигин 2006 — Пигин А. В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006.
Пиккио 1997 — Пиккио Р. «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси // ТОДРЛ. СПб, 1997. Т. 50.
Пиккио 2003 — Пиккио P. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003.
Писаренко 2006 — Писаренко Ю. Почему «потаиша» смерть князя Владимира (К летописной статье 1015 г.) // Ruthenica Киïв, 2006. Т. 5.
Платонов 1919 — Платонов С. Ф. Летописный рассказ о крещении княгини Ольги в Царьграде (Посвящается А. Л. Бертье-Делагарду) // Исторический вестник. 1919. Кн.1.
ПЛДР XI–XII 1978 — ПЛДР: Начало русской литературы: XI — начало XII века. М., 1978.
ПЛДР XII 1980 — ПЛДР: XII век. М., 1980.
ПЛДР XIII 1981 — ПЛДР: XIII век. М., 1981.
ПЛДР XIV–XV 1981 — ПЛДР: XIV — первая половина XV века. М., 1981.
ПЛДР XV 1982 — ПЛДР: Вторая половина XV века. М., 1982.
ПЛДР XV–VI 1984 — ПЛДР: Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984.
ПЛДР XVI 1985 ПЛДР: Середина XVI века. М., 1985.
ПЛДР XVI 1986 — ПЛДР: Вторая половина XVI века. М., 1986.
ПЛДР XVI–XVII 1987 — ПЛДР: Конец XVI — начало XVII века. М., 1987.
ПЛДР XVII 1988 — ПЛДР: XVII век. Кн. 1. М., 1988.
ПЛДР XVII 1989 — ПЛДР: XVII век. Кн. 2. М., 1989.
ПЛДР XVII 1994 — ПЛДР: XVII век. Кн. 3. М., 1994.
Плюснина 2006 — Плюснина Н. В. «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» и древнечешская агиографическая традиция // Сравнительное и общее литературоведение. М., 2006. Вып. 1. Сборник статей молодых ученых / Отв. ред. Л. В. Чернец.
Плюханова 1988а — Плюханова М. Б. О некоторых чертах личностного сознания в России XVII в. // Художественный язык Средневековья. М., 1982. Плюханова М. Б. Казань и Царьград. О монтаже источников в «Казанской истории» // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. М., 1988.
Плюханова 1988б — Плюханова М. Житие Епифания в свете проблем жанра и традиции // Gattung und Genologie der slavisch-orthodoxen Literaturen des Mittelalters. Dritte Berliner Fachtagung 1988. (Veröffentlichungen der Abteilung fûr slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Institut (Slavisches Seminar) an der Freien Universität. Berlin. Bd. 73.
Плюханова 1989 — Плюханова М. Б. Предисловие // Пустозерская проза: Протопоп Аввакум. Инок Епифаний. Поп Лазарь. Дьякон Федор. М., 1989.
Плюханова 1993 — Плюханова М. Б. Житие Петра и Февронии Муромских в культурно-историческом контексте эпохи Митрополита Макария //AION Slavistica (Annali dell’ Istituto Universitario de Napoli). 1. Napoli, 1993.
Плюханова 1994 — Плюханова М. Б. Баснословие в русской исторической словесности московского периода // Structure and Tradition in Russian Society: Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yuri Mikhailovich Lotman. Russian Culture: Structure and Tradition. 2–6 July 1992 Keele University, United Kingdom / Ed. by R. Reid, J. Andrew and V. Plukhina Helsinki, 1994. (Slavica Helsingiensia Vol. 14).
Плюханова 1995 — Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
Плюханова 1996 — Плюханова М. Б. О национальных средствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 3. (XVII — начало XVIII века).
Подлипчук 2004 — Подлипчук Ю. В. «Слово о полку Игореве»: Научный перевод и комментарии. М., 2004.
Подобедова 1965 — Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей: К истории русского лицевого летописания. М., 1965.
Подскальски 1996 — Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237). Изд. 2-е, испр. и доп. для русского перевода / Пер. А. В. Назаренко / Под ред. К. К. Акентьева. (Studia Byzantinorossica Т. I). СПб., 1996.
Полещук 2006 — Полещук Ю. В. Рецепция Шестоднева Иоанна экзарха Болгарского в древнерусской литературе: Дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук. М., 2006.
Понырко 1986 — Понырко Н. В. Житие протопопа Аввакума как духовное завещание // ТОДРЛ. Л., 1986. Т. 39.
Понырко 1992а — Понырко Н. В. Житие Иоанна (Григория) Неронова // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. А-3.
Понырко 1992б — Понырко Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI–XIII вв. Исследования, тексты, комментарии. СПб., 1992.
Поньон 1999 — Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году / Пер. с фр., комм. Э. М. Драйтовой / Предисловие, научная редакция. А. П. Левандовского. М., 1999.
Поппэ 1973 — Поппэ А. О времени зарождения культа Бориса и Глеба // Russia Medievalis. 1973. Т. 1.
Поппэ 1989 — Поппэ А. Политический фон крещения Руси (русско-византийские отношения в 986–989 годах) // Как была крещена Русь. 2-е изд. М., 1989.
Поппэ 1995 — Поппэ А. В. О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // Russia Medievalis. 1995. Т. 8. № 1.
Поппэ 2003 — Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54.
Поппэ 2005 — Поппэ А. В. Когда и как князь Владимир был признан святым // От Древней Руси к новой России: Юбилейный сборник, посвященный чл. — корр. РАН Я. Н. Щапову. М., 2005.
ПОРЛ 1863 — Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Н. Тихонравовым. СПб., 1863. Т. 2.
Порфирьев 2005 — Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1877. [Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 17. № 1]. (Репринтное издание: М., 2005).
Послания Ивана Грозного 2005 — Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье / Пер. и коммент. Я. С. Лурье / Под ред. чл. — корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Репринтное воспроизведение издания 1951 года. СПб., 2005. (Серия «Литературные памятники»).
Потебня 1914 — Потебня А. А. «Слово о полку Игореве»: Текст и примечания. Изд. 2-е. Харьков, 1914.
ППФ 1979 — Повесть о Петре и Февронии / Подг. текста и исследование Р. П. Дмитриевой. Л., 1979.
Преподобные 1994 — Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские / Изд. подг. Г. М. Прохоровым, Е. Г. Водолазкиным и Е. Э. Шевченко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1994.
Пресняков 1938 — Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. М., 1938. Т. I.
Пресняков 1993 — Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X–XII столетий. Лекции по русской истории: Киевская Русь. М., 1993.
Приселков 1996 — Приселков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. Изд. 2-е / Подг. к печати В. Г. Вовиной. СПб., 1996. (Studiorum slavicorum monumenta Т. 11).
Приселков 2002 — Приселков М. Д. Троицкая летопись (Реконструкция текста). 2-е изд. СПб., 2002.
Приселков 2003 — Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 2003.
Продолжатель Феофана 1992 — Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я. Н. Любарский. М., 1992.
Пролог 1643 — Пролог. Вторая половина: Март — август. М., 1643. [Кн. 1].
Пролог 1671 — Пролог. М., 1671.
Пролог 1917 — Пролог по рукописи Публичной библиотеки Погодинского древлехранилища № 58. [Пг.], 1917. Вып. 2. Январь-апрель. (Изд. Общества любителей древней письменности. 136).
Пропп 1928 — Пропп В. Морфология сказки. Л., 1928. [Вопросы поэтики. Непериодическая серия, издаваемая Отделом словесных искусств. Вып. 12].
Прохоров 2006 — Прохоров Г. М. Древнерусские летописи как жанр // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57.
ПСРЛ Лаврентьевская 1962 — ПСРЛ. М., 1962. [Новое изд.]. Т. 1. Лаврентьевская летопись.
ПСРЛ Лаврентьевская 1997 — ПСРЛ. М., 1997. [Новое изд.] Т. 1. Лаврентьевская летопись.
ПСРЛ Ипатьевская 1962 — ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. Ипатьевская летопись.
ПСРЛ Ипатьевская 1998 — ПСРЛ. [Новое изд.]. М., 1998. Т. 2. Ипатьевская летопись.
ПСРЛ Новгородская 2000 — ПСРЛ. [Новое изд.]. М., 2000. Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего извода.
ПСРЛ Воскресенский список 2001 — ПСРЛ. [Новое изд.]. М., 2001. Т. 7. Летопись по Воскресенскому списку. [Репринт изд.: СПб., 1856].
ПСРЛ Никоновская 1862 — ПСРЛ. СПб., 1862. Т. 9. Никоновская летопись.
ПСРЛ Никоновская 1897 — ПСРЛ. СПб., 1897. Т. 11. Никоновская летопись.
ПСРЛ Рогожский 2000 — ПСРЛ. [Новое изд.]. М., 2000. Т. 15. Рогожский летописец. Тверской летописный сборник.
ПСРЛ Летопись Авраамки 1889 — ПСРЛ. СПб., 1889. Т. 16. Летопись Авраамки.
ПСРЛ Степенная книга 1908 — ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Степенная книга. Ч. 1.
ПСРЛ Степенная книга 1913 — ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 21. Степенная книга. Ч. 2.
ПСРЛ Русский хронограф 2005 — ПСРЛ. [Новое изд.]. М., 2005. Т. 22. Русский хронограф.
ПСРЛ Летописец Переяславля 1995 — ПСРЛ. М., 1995. Т. 41. Летописец Переяславля Суздальского.
Пустозерская проза 1989 — Пустозерская проза: Протопоп Аввакум. Инок Епифаний. Поп Лазарь. Дьякон Федор. М., 1989.
Пустозерский сборник 1975 — Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Изд. подг. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л., 1975.
Пчелов 2001 — Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей IX — начала XI в. М., 2001.
Радзивиловская летопись 1902 — Радзивиловская или Кенигсбергская летопись. СПб., 1902. Т. 1. Фотомеханическое воспроизведение рукописи.
Радзивиловская летопись 1994 — Радзивиловская летопись. СПб.; М., 1994. Ч. 1.
Рансимен 1998 — Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия / Пер. с англ. Т. Б. Менской. М., 1998.
Ранчин 1987 — Ранчин А. М. К вопросу о текстологии Борисоглебского цикла // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1987. № 1.
Ранчин 1994а — Ранчин A. M. «Повесть временных лет» и переводные византийские и славянские хроники: историософия и поэтика // Балканские чтения-3: Лингво-этнокультурная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994.
Ранчин 1994б — Ранчин А. М. Княжеские жития в чешской и русской литературе древнейшего периода. Проблема жанра и поэтики. Автореферат дисс. <…> канд. филол. наук. М., 1994.
Ранчин 1994в — Ранчин А. М. Огненный столп в древнерусской агиографии: ветхо- и новозаветные истоки // Славяне и их соседи. М., 1994. Вып. 5. Еврейское население в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Средние века — новое время.
Ранчин 1999а — Ранчин А. М. Статьи о древнерусской литературе. М., 1999.
Ранчин 1999б — Ранчин А. М. Хроника Георгия Амартола и Повесть временных лет: Константин равноапостольный и князь Владимир Святославич // Русское Средневековье. М., 1999. 1999 год. Духовный мир.
Ранчин 2002 — Ранчин А. М. О статье А. Н. Ужанкова «Святые страстотерпцы Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий» // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2002. № 3(9).
Ранчин 2003 — Ранчин А. М. В защиту «сталиниста» Н. К. Гудзия, или Какой может и не может быть история древнерусской словесности // Новое литературное обозрение. 2003. № 1 (59).
Ранчин 2007 — Ранчин А. М. Путеводитель по «Слову о полку Игореве». М., 2007.
Ранчин, Лаушкин 2002 — Ранчин А. М., Лаушкин А. В. Еще раз о библеизмах в древнерусском летописании // Вопросы истории. 2002. № 1.
Ревелли 1998 — Ревелли Дж. Старославянские легенды святого Вячеслава Чешского и древнерусские княжеские жития // Геременевтика древнерусской литературы. М., 1998. Вып. 9.
Ревелли 2003 — Ревелли Дж. Христианские воззрения в «Чтении» Нестора // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54.
Ремизов 1993 — Ремизов А. М. Сочинения: В 2 кн. / Сост. и комм. А. Н. Ужанкова. М., 1993. Кн. 2. Круг счастья.
Ржига 1934 — Ржига В. «Слово о полку Игореве» как поэтический памятник Киевской феодальной Руси XII века // Слово о полку Игореве / Редакция древнерусского текста и пер. С. Шамбинаго и В. Ржиги / Пер. С. Шервинского и Г. Шторма / Статьи и комментарии В. Ржиги и С. Шамбинаго / Редакция и вступ. ст. В. Невского. М.; Л., 1934.
Ржига, Шамбинаго 1934 — Ржига В., Шамбинаго С. Комментарий // Слово о полку Игореве / Редакция древнерусского текста и пер. С. Шамбинаго и B. Ржиги / Пер. С. Шервинского и Г. Шторма / Статьи и комментарии В. Ржиги и C. Шамбинаго / Редакция и вступ. ст. В. Невского. М.; Л., 1934.
Робинсон 1958 — Робинсон А. Н. Житие Епифания как памятник дидактической автобиографии // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15.
Робинсон 1963 — Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания: Исследование и тексты. М., 1963.
Робинсон 1978 — Робинсон А. Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI–XVII вв. / Отв. ред. О. А. Державина. М., 1978.
Рогов 1970 — Рогов А. И. Жизнеописания первых чешских князей в древнерусской письменности и культуре // Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности. М., 1970.
Рождественская 2006 — Рождественская М. В. Создание сакральных пространств в литературе средневековой Руси (к постановке проблемы) // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Редактор-составитель А. М. Лидов. М., 2006.
Рождественская М. В., Рождественская Т. В. 2005 — Рождественская М. В., Рождественская Т. В. «Сеятель» и «Строитель»: династическая пара «отец и сын» в памятниках древнеславянской письменности X–XI вв. // О древней и новой литературе: Сборник статей в честь профессора Натальи Сергеевны Демковой / Отв. ред. М. В. Рождественская; Сост.: А. Г. Бобров, Т. Ф. Волкова, И. А. Лобакова, М. В. Рождественская. СПб., 2005.
Романенко 2002 — Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 2002.
Росовецкий 1973 — Росовецкий С. К. изучению фольклорных источников «Повести о Петре и Февронии» // Вопросы русской литературы. Львов, 1973. Вып. 1 (21).
Рохлин 1940 — Рохлин Д. Г. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава Мудрого // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. М.; Л., 1940. Т. 7.
Рохлин, Майкова-Строганова 1935 — Рохлин Д. Г., Майкова-Строганова B. C. Рентгено-антропологическое исследование скелета Андрея Боголюбского // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 9–10.
Рудаков 2000 — Рудаков В. Н. Неожиданные штрихи к портрету Дмитрия Донского (бегство великого князя из Москвы в оценке древнерусского книжника // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. № 2.
Руди 1997 — Руди Т. Р. О композиции и топике «Жития Юлиании Лазаревской» // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50.
Руди 2003 — Руди Т. Р. Средневековая агиографическая топика (принцип imitatio и проблемы типологии) // Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Международный съезд славистов (Любляна, август 2003). Доклады российской делегации. М., 2003.
Руди 2004 — Руди Т. Р. «Яко столп непоколебим» (об одном агиографическом топосе) // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55.
Руди 2005 — Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005.
Руди 2006 — Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57.
Рыбаков 1971 — Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971.
Рыбаков 1972 — Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.
Рыбаков 1981 — Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.
Рыбаков 1984 — Рыбаков Б. А. Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. М., 1984.
Рыбаков 1985 — Рыбаков Б. А. Перепутанные страницы // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985.
Рыбаков 1991 — Рыбаков Б. А. Петр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 1991.
Рыбаков 1993 — Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. Изд. 2-е, доп. М., 1993.
Рыбаков 2001 — Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. Изд. 2-е, испр. М., 2001.
Рыдзевская 1978 — Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. М., 1978.
Рыстенко 1909 — Рыстенко А. В. Легенда о св. Георгии и драконе в византийской и славно-русской литературах. Одесса, 1909. [Записки Новороссийского университета. Т. 112].
Сазонова 1998 — Сазонова Л. И. Литература средневековой Руси в контексте Slavia Orthodoxa: теоретические и методологические проблемы исследования жанров // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской делегации. М., 1998.
Сазонова 2009 — Сазонова Л. И. Литературная культура России: Раннее Новое время. М., 2006.
Салмина 1964 — Салмина М. А. Повести о начале Москвы. М.; Л., 1964.
Самойлова 2006 — Самойлова Т. Е. Священное пространство княжеского гроба // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2006.
Сапунов 1962 — Сапунов Б. В. Ярославна и древнерусское язычество // «Слово о полку Игореве» — памятник XII века / Отв. ред. Д. С. Лихачев М.; Л., 1962.
Свердлов 2003 — Свердлов М. Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в. СПб., 2003.
Святые князья-мученики 2006 — Святые князья-мученики Борис и Глеб / Исследование и подг. текстов Н. И. Милютенко / Отв. ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2006.
Святые русские римляне 2005 — Святые русские римляне: Антоний Римлянин и Меркурий Смоленский / Подг. текстов и исследование Н. В. Рамазановой. СПб., 2005.
Севастьянова 1991 — Севастьянова С. К. Проблемы изучения литературной истории повестей о житии Елеазара Анзерского // Источники по истории общественного сознания и литературы периода феодализма: Сборник научных трудов / Отв. ред. чл. — корр. АН СССР Н. Н. Покровский. Новосибирск, 1991.
Севастьянова 1996 — Севастьянова С. К. Неизвестные сочинения Елеазара Анзерского // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996.
Севастьянова 1998 — Севастьянова С. К. Малоизвестные агиографические сочинения о Елеазаре Анзерском // История русской духовной культуры в рукописном наследии XVI–XX вв.: Сборник научных трудов / Отв. ред. чл. — корр. РАН Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 1998.
Седакова 2004 — Седакова О. А. Поэтика обряда: Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004.
Седов 2005 — Седов В. В. Христианизация населения Смоленской земли в X–XIII вв. // От Древней Руси к новой России: Юбилейный сборник, посвященный чл. — корр. РАН Я. Н. Щапову. М., 2005.
Сендерович 1996 — Сендерович С. Св. Владимир: к мифопоэзису // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 49.
Сендерович 1999 — Сендерович С. Слово о законе и благодати как экзегетический текст. Иларион Киевский и павлианская теология // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51.
Сендерович 2000 — Сендерович С. Я. Метод Шахматова, раннее летописание и проблема начала русской историографии // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. (Древняя Русь).
Сендерович 2005 — Сендерович С. Я. Англо-саксонские параллели к агиографии Бориса и Глеба // О древней и новой литературе: Сборник статей в честь профессора Натальи Сергеевны Демковой / Отв. ред. М. В. Рождественская. Сост.: А. Г. Бобров, Т. Ф. Волкова, И. А. Лобакова, М. В. Рождественская. СПб, 2005.
Серебрянский 1908 — Серебрянский Н. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. М., 1908.
Серебрянский 1915 — Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты). М., 1915. Серегина Н. С. Песнопения русским святым: По материалам рукописной певческой книги XI–XII вв. «Стихирарь месячный». СПб., 1994.
Симеон Метафраст 1905 — Симеона Метафраста и Логофета. Описание мира от Бытия и летовник собран от различных летописей. Славянский перевод Хроники Симеона Логофета с дополнениями. Изд. Императорской Академии наук (издал В. Срезневский). СПб., 1905.
Синайский патерик 1967 — Синайский патерик. М., 1967.
Синицына 1993 — Синицына Н. В. Образ Рима и идея Рима в русском национальном сознании XV–XVI вв. // Россия и Италия. М., 1993.
Синицына 1998 — Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998.
Сказания и повести 1982 — Сказания и повести о Куликовской битве / Издание подг. Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева. Л., 1982 (серия «Литературные памятники»).
Сказания о начале 1970 — Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности / Предисловие, комментарии и перевод А. И. Рогова. М., 1970.
Сказания о начале 1981 — Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.
Славянские хроники 1996 — Славянские хроники: Походы, битвы, знать Древней Руси до 1240 года. Материалы к истории Рязано-Муромского княжества / Сост. А. И. Цепков. Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. Галл Аноним. Хроника и деяния князей и правителей польских / Сост. А. И. Цепков. СПб., 1996.
Словарь древнерусского языка — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В Ют. / Главный ред. чл. — корр. АН СССР Р. И. Аванесов, И. С. Улуханов. М., 1988. Т. 1 (а — възаконятися); М., 2000. Т. 5. М., 2000 (молимъ — обятьнъ); М., 2002. Т. 6 (овадъ — покласти); М., 2004. Т. 7 (поклепанъ — пращоуръ).
Словарь XI–XVII вв. 1976 — Словарь русского языка XI–XVII вв. М. 1976. Т. 3.
Словарь-справочник 1967 — Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Л., 1967. Вып. 2.
Слово на обновление 1992 — Слово на обновление Десятинной церкви // Архив русской истории. 1992. № 1.
Слово 1844 — Слово о плъку Игоревѣ Святъславля пѣстворца стараго времени. Объяснение магистром Дмитрием Дубенским <…>. М., 1844.
Слово 1968 — Слово о полку Игореве: Издано для учащихся Н. Тихонравовым, профессором Московского университета. Изд. 2-е, испр. М., 1868.
Слово 1920 — Слово о полку Игореве. [Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие. М., 1800]. Снимок с первого издания 1800 г. гр. А. И. Мусина-Пушкина под ред. А. Ф. Малиновского. С приложением статьи проф. М. Н. Сперанского и факсимиле рукописи А. Ф. Малиновского. М., 1920.
Слово 1945 — Слово о полку Игореве / Пер. и коммент. А. Югова / Вст. ст. акад. Б. Д. Грекова и акад. А. С. Орлова. [Б. м.], 1945.
Слово 1950 — Слово о полку Игореве / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950 (серия «Литературные памятники»).
Служебник — Служебник нач. XIV в. / [Фототипическое воспроизведение. Б/м., б/г.].
Смирнов 1912 — Смирнов С.[И]. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины (Тексты и заметки). [М., 1912].
Смирнов 1913 — Смирнов С.[И]. Древнерусский духовник: Исследование по истории церковного быта. [М., 1913].
Смирнов 1977 — Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977.
Смирнов 1979 — Смирнов И. П. Барокко и опыт поэтической культуры начала XX в. // Славянское барокко: Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979.
Смирнов 2000 — Смирнов И. П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории // Смирнов И. П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М., 2000.
Снорри Стурлусон 1995 — Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подг. А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. Репринта. воспр. текста изд. 1980 г. М., 1995.
Соболева 1975 — Соболева Л. С. Паремийные чтения Борису и Глебу // Вопросы истории книжной культуры: Сборник научных трудов. Новосибирск, 1975. Вып. 19.
Сболевский 1892 — Соболевский А. И. «Память и похвала» св. Владимиру и «Сказание» о свв. Борисе и Глебе (По поводу статьи г. Левитского) // Христианское чтение. 1892. Т. 202. Ч. 1. Январь-февраль.
Соболевский 1903 — Соболевский А. И. Жития святых по древнерусским спискам. 1. Мучение св. Климента, папы Римского // Памятники древнерусской письменности и искусства. СПб., 1903. № 149.
Соколова 1987 — Соколова Л. В. Две первые фразы «Слова о полку Игореве» // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987.
Соколова 1990 — Соколова Л. В. Троян в «Слове о полку Игореве» (Обзор существующих точек зрения) // ТОДРЛ., 1990. Т. 44.
Соколова 1993 — Соколова Л. В. Мотив живой и мертвой воды в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48.
Соколова 1995 — Соколова Л. В. Троян в «Слове» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995. Т. 5.
Соколова 2001 — Соколова Л. В. Святослав Всеволодович Киевский и его «злато слово» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. СПб., 2001. Т. 52.
Соколова 2006 — Соколова Л. В. Политическое и дидактическое осмысление событий 1185 г. в летописях и в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. 2006. Т. 57.
Соловьев 1948 — Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // Исторические записки. М., 1948. Т. 25.
Соловьев 1959 — Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн.: В 30 т. М., 1959. Кн. 1. Т. 1–2.
Соловьев 1960 — Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн.: В 30 т. М., 1960. Кн. 2. Т. 3–4.
Соловьев 1961 — Соловьев А. В. Епифаний Премудрый как автор «Слова о житии и о преставлении великаго князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго» // ТОДРЛ. М.; Л., 1961. Т. 17.
Соловьев 2003 — Соловьев С. М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 2003.
Софронова 1981 — Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII — первой половины XVIII в Польша, Украина, Россия. М., 1981.
Стефан пермский 1995 — Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. / Ред. изд. Г. М. Прохоров. СПб., 1995.
Страхова 2006 — Страхова (Заславская) О. Несколько соображений по поводу споров о подлинности «Слова о полку Игореве» // Собрание сочинений: К шестидесятилетию Льва Иосифовича Соболева. М., 2006.
Стремоухов 2002 — Стремоухов Дм. Москва — Третий Рим: источники доктрины / Пер. с англ. И. И. Соколовой // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь.
Сулейменов 2005 — Сулейменов О. Аз и Я: Книга благонамеренного читателя. М., 2005.
Сухомлинов 1856 — Сухомлинов М. И. О древней русской летописи как памятнике литературном. СПб., 1856.
Сюзюмов, Иванов 1988 — Сюзюмов М. Я., Иванов С. А. Комментарии // Лев Диакон. История / Пер. М. М. Копыленко; Статья М. Я. Сюзюмова; комм. М. Я. Сюзюмова, С. А. Иванова; Отв. ред. чл. — корр. АН СССР Г. Г. Литаврин. М., 1988 (серия «Памятники исторической мысли»).
Татищев 1995 — Татищев В. Н. Собрание сочинений. М., 1995. Т.4.
Татищев 2003 — Татищев В. Н. История Российская: В 3 т. М., 2003. Т. 2.
Тацит 1993 — Тацит Корнелий. Сочинения: В 2 т. [В одной книге]. Т. 1. Анналы. Малые произведения. Изд. 2-е, стереотипн. Т. 2. История. Изд. 2-е, испр. и перераб. СПб., 1993.
Творогов 1969 — Творогов О. В. «Сокол трех мытей» в Повести об Акире Премудром // Вопросы теории и истории языка. Л., 1969.
Творогов 1976 — Творогов О. В. Повесть временных лет и Начальный свод (Текстологический комментарий) // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30.
Творогов 1980а — Творогов О. В. Жития Бориса и Глеба // История русской литературы: В 4 т. Л., 1980. Т. 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века.
Творогов 1980б — Творогов О. В. Литература периода феодальной раздробленности XII — первой четверти XIII века. «Слово о полку Игореве» // История русской литературы: В 4 т. Л., 1980. Т. 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века.
Творогов 1995 — Творогов О. В. Уши // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995. Т. 5.
Творогов, Турилов 1987 — Творогов О. В., Турилов А. А. Житие Георгия Победоносца // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. (XI — первая половина XIV в.). / Отв. ред. Д. С. Лихачев.
Тиандер 1906 — Тиандер К. Поездки скандинавов на Белое море (Записки историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Ч. LXXIX). СПб., 1906.
Титмар Мерзебургский 2005 — Титмар Мерзебургский. Хроника: В 8 кн. / Изд. подг. И. В. Дьяконов. М., 2005.
Толковая Библия 1987 — Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. С иллюстрациями. Издание преемников А. П. Лопухина. Изд. 2-е. Стокгольм, 1987. Кн. 2. Т. 5. (Репринтн. воспр. изд.: М., Т. 5. 1908).
Толочко 2005 — Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. М.; Киев, 2005.
Толочко 1996 — Толочко П. П. Про час i Micue каношзацн Володимира // Археолопя. 1996. № 1.
Толстая 2004 — Толстая С. М. Ученая проза поэта // Седакова О. А. Поэтика обряда: Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004.
Толстой 2000 — Толстой Н. И. Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. (Древняя Русь).
Топоров 1983а — Топоров В. Н. Пространство и текст//Текст: Семантика и структура. М., 1983.
Топоров 1983б — Топоров В. Н. «Слово о законе и благодати» и истоки древнерусской литературы // Wiener slavistisches Jahrbuch. 1983. Bd. 29.
Топоров 1987 — Топоров В. Н. Заметки по реконструкции текстов. IV. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987.
Топоров 1988а — Топоров В. Н. Идея святости в Древней Руси: Вольная жертва как подражание Христу — «Сказание о Борисе и Глебе» // Russian Literature. 1988. Vol. XXV. № 1. Special Issue. The Millenium of Christianity in Russia — III.
Топоров 1988б — Топоров В. Н. Пространство // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1988. Т. 2.
Топоров 1988в — Топоров В. Н. Работники одиннадцатого часа. «Слово о законе и благодати» и древнекиевские реалии // Russian Literature. 1988. Vol. XXIV–I.
Топоров 1993 — Топоров В. Н. О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from the International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman. Russian Culture: Structure and Tradition, 2–5 July 1992. Keele University, Rodopi, 1993.
Топоров 1995 — Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1995. Т. 1. Начало христианства на Руси.
Топоров 1998 — Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1998. Т. 2. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.).
Трубецкой 1995 — Трубецкой Н. С. Лекции по древнерусской литературе / Пер. с нем. М. А. Журинской // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995.
Турилов 1999 — Турилов А. А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. (К вопросу о формировании болгарского варианта церковного месяцеслова в эпоху Первого царства) // Paleobulgarica / Старобългаристика. 1999. Т. 23 / 1.
Тынянов 1977 — Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977 / Отв. ред. В. А. Каверин и А. С. Мясников; изд. подг. Е. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова.
Ужанков 1992 — Ужанков А. Н. К вопросу о времени написания «Сказания» и «Чтения» о Борисе и Глебе // Герменевтика древнерусской литературы: XI–XIV. М., 1992. Сб. 5.
Ужанков 1999 — Ужанков А. Н. Из лекций по истории русской литературы XI — первой трети XVIII в. «Слово о Законе и Благодати» Илариона Киевского. М., 1999.
Ужанков 2000 — Ужанков А. Н. «Слово о полку Игореве» (К интерпретации авторской идеи произведения) // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского института: Материалы 2000 г. М., 2000.
Ужанков 2000–2001 — Ужанков А. Н. Святые страстотерпцы Борис и Глеб: К истории канонизации и написания житий // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. № 2; 2001. № 1 (3).
Ужанков 2002 — Ужанков А. Н. Рецензенту А. М. Ранчину // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2002. № 3(9).
Ужанков 1 — Ужанков А. Н. В свете затмения. Христианские основы «Слова о полку Игореве». — www.pravoslavie.ru./archiv/slovo-christianosnov.htm.
Ужанков 2 — Ужанков А. Н. О «внутреннем» и «внешнем» времени произведения и датировке «Слова о полку Игореве». — www.pravoslavie.ru/archiv/041031149.
Ужанков 3 — Ужанков А. Н. Повесть О Петре и Февронии Муромских. (Герменевтический опыт медленного чтения). Ч. 1. // www.pravoslavie.ru/put/040928154026.
Ужанков 4 — Ужанков А. Н. Русское летописание и Страшный Суд («совестные книги» Древней Руси) // www.pravoslavie.ru/archiv/letopis.htm.
Успенский сборник 1971 — Успенский сборник XII–XIII вв. Изд. подг. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон / Под ред. С. И. Коткова. М., 1971.
Успенский 1969 — Успенский Б. А. Из истории русских канонических имен (история ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам). М., 1969.
Успенский 1970 — Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970.
Успенский 1979 — Успенский Б. А. К проблеме христианско-языческого синкретизма в истории русской культуры: 2. Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979.
Успенский 1982а — Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. (Реликты язычества в восточнославянском культе Николы Мирликийского). М., 1982.
Успенский 1982б — Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык Средневековья. М., 1982.
Успенский 1995а — Успенский Б. А. Избранные труды: В 2 т. [Изд. 1-е]. М., 1995. Т. 1.
Успенский 1995б — Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995.
Успенский 1996а — Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва — третий Рим» // Успенский Б. А. Избранные труды. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры.
Успенский 1996б — Успенский Б. А. Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры.
Успенский 1996в — Успенский Б. А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996. Т. 2.
Успенский 1996г — Успенский Б. А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры.
Успенский 1996д — Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1996. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры.
Успенский 1997 — Успенский Ф. И. История Византийской империи. М., 1997. [Т. 2]. Период Македонской династии (867–1057).
Успенский 1998 — Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998.
Успенский 2000 — Успенский Б. А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. М., 2000.
Успенский 2000а — Успенский Б. А. Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000.
Успенский 2002 — Успенский Ф. Б. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002.
Успенский 2004 — Успенский Б. А. Когда был канонизирован князь Владимир Святославич? // Успенский Б. А. Историко-филологические очерки. М., 2004.
Успенский 2006 — Успенский Б. А. Крест и круг: Из истории христианской символики. М., 2006.
Успенский Л. — Успенский Л. А. Богословие иконы Православной церкви. М., [Б. г.].
Уханова 2000 — Уханова Е. В. Мощи св. Климента Римского и становление Русской церкви в X–XI вв. // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира. Тезисы докладов и материалы международного симпозиума / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2000.
Уханова 2003 — Уханова Е. В. Обретение мощей в Византийской церкви (по материалам Слова Константина Философа на обретение мощей св. Климента Римского // Восточнохристианские реликвии / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2003.
Фатеева 1997 — Фатеева Н. А. Интертекстуальность и ее формы в художественном дискурсе // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1997. Т. 56. № 5.
Фатеева 1998 — Фатеева Н. А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественном дискурсе // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5.
Фатеева 2000 — Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М., 2000.
Федотов 1988 — Федотов Г. П. Русская религиозность. М., 1988. Т. 1.
Федотов 1990 — Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990.
Федотов 2001 — Федотов Г. П. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 10. Русская религиозность. Ч. 1. Христианство Киевской Руси. XI–XIII вв. М., 2001.
Федотов 2004 — Федотов Г. П. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 11. Русская религиозность. Ч. 2. Средние века. XIII–XV вв. М., 2004.
Феофан Прокопович 1961 — Феофан Прокопович. Сочинения / Под. Ред. И. П. Еремина. М.; Л., 1961.
Фефелова 2005 — Фефелова Ю. Г. Повесть о Петре и Февронии в контексте традиционной обрядовой практики // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемики. СПб., 2005.
Филин 1949 — Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Л., 1949. Т. 80.
Филиппов 2001 — Филиппов С. Христианская святость и языческая магия в летописном повествовании о княгине Ольге // Studia Slavica Hungarica 2001. Vol. 46.
Филипповский 1986 — Филипповский Г. Ю. «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» и русско-чешские литературные связи раннего периода // Českoslavenská rusistika 1986. № 1.
Филист 1990 — Филист Г. М. История «преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 1990.
Флоренский 1996 — Флоренский П. А. Обратная перспектива // Флоренский П. А., свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996.
Флоренский 1996а — Флоренский П. А. Моленные иконы преподобного Сергия // Флоренский Павел, священник. Сочинения: В 4 т. М., 1996. Т. 2.
Флоровский 1935 — Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне: Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.). (Práce slovánskeho ústavu v Praze. Sv. XIII). Praha, 1935. Т. I.
Флоровский 1991 — Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Киев, 1991. (Репринта, изд.: Paris, 1983).
Флоря 2000 — Флоря Б. Н. У истоков конфессионального раскола славянского мира (Древняя Русь и ее западные соседи в XIII веке) // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. I. (Древняя Русь).
Флоря 2002 — Флоря Б. Н. Христианство в Древнепольском и Древнечешском государстве во второй половине X — первой половине XI в. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2002.
Флоря 2004 — Флоря Б. Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.). СПб., 2004.
Франклин, Шепард 2000 — Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750–1200 / Под ред. Д. М. Буланина / Авториз. пер. с англ. Д. М. Буланина и Н. Л. Лужецкой. СПб., 2000.
Фрейданк 1985 — Фрейданк Д. Повторы и их функции в «Чтении о Борисе и Глебе» // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985.
Фроянов 1995 — Фроянов И. Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995.
Фроянов 2001 — Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории // Фроянов И. Я. Начала русской истории: Избранное / Отв. ред. Ю. Г. Алексеев. М., 2001.
Фроянов 2001а — Фроянов И. Я. Исторические реалии в летописном сказании о произведении варягов // Фроянов И. Я. Начала русской истории: Избранное / Отв. ред. Ю. Г. Алексеев. М., 2001.
Фрэзер 1983 — Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина. М., 1983.
Халанский 1902 — Халанский М. К. К истории поэтических сказаний об Олеге Вещем // ЖМНП 1902. № 8.
Хант 1977 — Хант П. Самооправдание протопопа Аввакума // ТОДРЛ. М.; Л., 1977. Т. 32.
Хорошев 1986 — Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). М., 1986.
Хроника Эрика 1999 — Хроника Эрика / Сост., отв. ред. и ред. перевода А. А. Сванидзе. / Пер. со старошведск. А. Ю. Желтухина. Комм. А. Ю. Желтухина и А. А. Сванидзе. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1999.
Хрусталев 2004 — Хрусталев Д. Г. Русь: от нашествия до «ига» (30–40-е гг. XIII в.). СПб., 2004.
Хрущов 1878 — Хрущов И. П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях XI–XII столетия. Киев, 1878.
Чекова 1990 — Чекова И. Летописное повествование о княгине Ольге под 6453 г. в свете русской народной сказки: Опыт определения жанровой природы //Старобългарска литература. 1990. Кн. 23–24.
Чекова 1993 — Чекова И. Художественное время и пространство в летописном повествовании о княгине Ольге в Царьграде // Годишник на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Факултет по славянски филологии. София, 1993. Книга 2 — Литературознание. Т. 86.
Чекова 1995а — Чекова И. Типология и генезис летописных преданий о князе Олеге // Болгарская русистика. 1995. № 2.
Чекова 1999 — Чекова И. Языческие и христианские коды в «Повести временных лет» // Русский язык и русская литература в современном обществе: Сборник докладов Юбилейной научной конференции, 16–18. X. 1998. Шуменский университет еп. К. Преславского. Шумен, 1999.
Чекова 2002а — Чекова И. Змей, князь и мудрая дева-целительница в житийной «Повести о Петре и Февронии Муромских» // Мир житий: Сборник материалов конференции (Москва, 3–5 октября 2001 г.). М., 2002.
Чекова 2002б — Чекова И. Эпос, мифы и мифологемы в древнейшем летописании Киевской Руси // Ruthenica Киïв, 2002. Т. 2.
Чернявский 2002 — Чернявский М. Хан или василевс: Один из аспектов русской средневековой политической теории / Пер. с англ. С. Л. Никольского // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь.
Черепнин 1948 — Черепнин Л. В. «Повесть временных лет» // Исторические записки. М., 1948. № 48.
Честертон 2003 — Честертон Г. К. Ортодоксия. Эссе / Пер. с англ. М., 2003.
Шайкин 1979 — Шайкин А. А. Княгиня Ольга (Анализ художественной структуры летописных фрагментов) // Анализ художественного произведения: Тематический сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава и аспирантов высших учебных заведений Министерства просвещения Казахской ССР. Алма-Ата, 1979.
Шайкин 1989 — Шайкин А. А. «Се повести времѣньных лет…»: От Кия до Мономаха. М., 1989.
Шайкин 2001а — Шайкин А. А. Дискурсы летописной строки // Вопросы истории. 2001. № 9.
Шайкин 2001б — Шайкин А. А. Историческая концепция и композиция «Повести временных лет» // Русская литература. 2001. № 1.
Шайкин 2003 — Шайкин А. А. «Оставим все, как есть» (по поводу современных интерпретаций убийства Бориса и Глеба) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54.
Шайкин 2004 — Шайкин А. А. «Повесть временных лет» о язычестве на Руси // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55.
Шайкин 2005 — Шайкин А. А. Поэтика и история: На материале памятников русской литературы XI–XVI веков: учебное пособие. М., 2005.
Шайкин 2006 — Шайкин А. А. История и сказка в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57.
Шарыпкин 1976 — Шарыпкин Д. М. Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31.
Шахматов 1896 — Шахматов А. А. Несколько слов о Несторовом житии Феодосия // ИОРЯС., 1896. Т. 1. Кн. 1.
Шахматов 1897 — Шахматов А. А. Киево-Печерский патерик и Печерская летопись. СПб., 1897. (ИОРЯС. 1897. Т. 2. Кн. 3).
Шахматов 1898 — Шахматов А. А. Житие Антония и Печерская летопись // ЖМНП. 1898. № 3. Отд. 2.
Шахматов 1899а — Шахматов А. А. Разбор сочинения И. А. Тихомирова «Обозрение русских летописных сводов Руси Северо-Восточной». СПб., 1899.
Шахматов 1899б — Шахматов А. А. Разбор сочинений И. А. Тихомирова о летописании северо-восточной Руси, московском и тверском // Записки имп. Академии наук по историко-филологическому отделению. СПб., 1899. Т. 4. № 2.
Шахматов 1900 — Шахматов А. А. Начальный киевский летописный свод и его источники // Юбилейный сборник в честь Всеволода Федоровича Миллера, изданный его учениками и почитателями. М., 1900.
Шахматов 1906 — Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира. СПб., 1906.
Шахматов 1908 — Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.
Шахматов 1914 — Шахматов А. А. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни // Научный исторический журнал. 1914. Т. 2. Вып. 2.
Шахматов 1916 — Шахматов А. А. Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1.
Шахматов 1938 — Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов. Л., 1938.
Шахматов 1940 — Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. Л., 1940. Т. 4.
Шахматов 2001 — Шахматов А. А. Разыскания о русских летописях. М.; Жуковский, 2001.
Шахматов 2002–2003 — Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 1. Разыскания о древнейших русских летописных сводах; СПб., 2003. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2. Раннее русское летописание XI–XII вв.
Шахматов 2003а — Шахматов А. А. Исходная точка летосчисления Повести временных лет // Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2. Раннее русское летописание XI–XII вв.
Шахматов 2003б — Шахматов А. А. Несколько слов о Несторовом Житии Феодосия // Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2. Раннее русское летописание XI–XII вв.
Шахматов 2003в — Шахматов А. А. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира // СПб., 2003. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2. Раннее русское летописание XI–XII вв.
Шахматов 2003г — Шахматов А. А. Повесть временных лет // Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2. Раннее русское летописание XI–XII вв.
Шестоднев 1998 — Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского: Ранняя русская редакция / Изд. подг. Г. С. Баранкова. М., 1998.
Шишков 1826 — <Шишков А. С.> Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1826. Ч. 7.
Шляков 1900 — Шляков И. В. О «Поучении Владимира Мономаха». Отд. оттиск из «Журнала Министерства народного просвещения». 1900.
Шмеман 2004 — Шмеман А., прот. Водою и духом: О таинстве крещения / Пер. с англ. И. З. Дьяковой. М., 2004.
Щавелева 2004 — Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Книги I–VI): Текст, перевод, комментарий / Под ред. и доп. А. В. Назаренко. М., 2004. (Серия «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»).
Щапов 1976 — Щапов Я. Н. Византийские хронографические сочинения в древнеславянской кормчей Ефремовской редакции // Летописи и хроники: 1976 г. М. Н. Тихомиров и летописеведение. М., 1976.
Щапов 1989 — Щапов Я. Н. «Священство» и «царство» в Древней Руси в теории и на практике // Византийский временник. М., 1989. Вып. 50.
Щепкин 1999 — Щепкин В. Н. Русская палеография. Изд. 3-е, доп. М., 1999.
Щепкина 1977 — Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской Псалтыри: Греческий иллюстрированный кодекс IX века / Вступ. статья и общ. ред. И. С. Дуйчева. М., 1977.
Эко 1998 — Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. Пер. с итал. СПб., 1998.
Элиаде 1994 — Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. М., 1994.
Элиаде 1999а — Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / Пер. с англ / Отв. ред. В. Я. Петрухин. М., 1999.
Элиаде 1999б — Элиаде М. Трактат по истории религий / Пер. с фр. А. А. Васильева. СПб., 1999. Т. 2.
Эрастов, Яковлев 1862 — <Эрастов Д. А., Яковлев М. Л.>. Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых <…>. [Изд. 2-е]. СПб., 1862.
Этимологический словарь 1987 — Этимологический словарь славянских языков. М., 1987. Вып. 13.
Юрганов 1991 — Юрганов А. Л. У истоков деспотизма // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX–XX вв. М., 1991.
Юрганов 1999 — Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1999.
Юрганов 2006 — Юрганов А. Л. Убить беса: Путь от Средневековья к Новому времени. М., 2006.
Яблонский 2006 — Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908.
Языкова, Головков 2002 — Языкова И., игумен Лука (Головков). Богословские основы иконы и иконография // История иконописи: Истоки. Традиции. Современность. М., 2002.
Якобсон 1958 — Якобсон P. O. Изучение «Слова о полку Игореве в Соединенных Штатах Америки» // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 14.
Якобсон 1976 — Якобсон P. O. Русские отголоски древнечешских памятников о Людмиле // Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции. М., 1976.
Якобсон 1987 — Якобсон P. O. Основа славянского сравнительного литературоведения // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
Яковлева 1994 — Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.
Ямпольский 2004 — Ямпольский М. Физиология символического. М., 2004. Кн. 1. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. [Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 40].
Янин 1970 — Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М., 1970. Т. 1.
Янин 2003 — Янин В. Л. Новгородские посадники. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2003.
Янин 2004 — Янин В. Л. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории. М., 2004.
Ангелов 1971 — Ангелов Б. Ст. Сказание за железния кръст // Старобългарска литература: Изследване и материали. София, 1971. Кн. 1.
Бугославський 1928 — Бугославський С. А. Украiно-руськи пам’ятки XI–XVIII вв. про князiв Бориса та Глиба: (Розвiдка и тексти). У Киïвi, 1928.
Грушевський 1905 — Грушевський М. С. Iсторiя Украïни-Русi. Выд. 2-е. У Львiвi, 1905. Т. 2. XI–XIII вiк. Роздiл 1. Цитируется по электронной версии // http://www.litopys.org.ua.
Животи кральова 1866 — Животи кральова и архиепископа српских. Записки архиепископ Данило и други. На свиjет выдао ћ. Даничиh. У Загребу, 1866.
Летопис попа Дукљанина 1928 — Летопис попа Дуљанина. Выдао Ф. Шишиh. Београд; Загреб, 1928.
Павлова, Железякова 1999 — Павлова Р., Железякова В. Станиславов (Лесновски) Пролог от 1330 година. Велико Търново, 1999.
Панайотов 1998 — Панайотов В. Нова христоматия по старобългарска книжнина. I. Шумен, 1998.
Симеонов сборник 1991 — Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.): В 3 т. / Под общ. ред. на акад. П. Динеков. София, 1991. Т. I. Изследвания и текст. Текста подготвиха Р. Павлова, Ц. Ралева, Ц. Досева.
Симеонова 1999 — Симеонова Л. Та patria: Градските талисмани на Константанопол през X век // Средновековите Балкани: Политика, религия, култура. Доклади от научна конференция 18–19 юни 1998 г. София, Институт по балканистика при БАН. София, 1999.
Стефан Дечански 1983 — Давидов А., Данчев Г., Дончева-Панайотова Н., Ковачева П., Генчева Т. Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София, 1983.
Чекова 1994 — Чекова И. Фолклорно-епически парадигми в повествованието за княз Олег на староруските летописи // Годишник на Софийския университет «Св. Климент Охридски». София, 1994. Факултет по славянски филологии. Кн. 2. Литературознание. Т. 87.
Чекова 1995б — Чекова И. Фолклорно-епические парадигми в староруските летописи: Автореферат на диссертации за присъждение научната степей кандидат на филологическите науки. София, 1995.
Чекова 2001 — Чекова И. Образи на светостта в Киевска Русия от XI век // Култ и обрядност. Годишник на Асоциация «Онгьл». София, 2001. Т. 2. Год. 2.
Чекова 2002а — Чекова И. Князете-мученици Борис и Глеб — семиотика на властта и агиологични подобе // Четене на литературната классика: Юбилеен сборник в чест на 60-годишната на профессор П. Троев. София, 2002.
Чекова 2003 — Чекова И. Цикълы от произведения за Борис и Глеб — текстологични хипотези (по матариали на Похвала за Борис и Глеб в «Повесть временных лет» и «Сказание о Борисе и Глебе» // Slavia Orthodoxa: Език и култура. София, 2003.
Adami Gesta 1846 — Adami Gesta Hammaburgensis eccleciae pontificum <…>. Hannoverae, 1846.
Adami Bremensis Gesta 1917 — Magistri Adami Bremensis Gesta Hammoburgensis ecclesiae pontificum. Ed. 3. Hannoverae et Lipsae, 1917. (= Adam von Bremen. Hamburgische Kirchengeschichte. Dritte Auflage. Herausgegeben Bernard Schmeidler. Hannover und Leipzig, 1917).
Bogatyrev 2000 — Bogatyrev S. The Sovereign and his Counsellors: Ritualized Consultations in Moscovite Political Culture. 1350s-1570s. Saarijarvi, 2000. (Annales A: ademiae scientiarum fennicae. Ser. Humaniora T. 307).
Børtnes 1967 — Børtnes J. Frame Tecnique in Nestor’s Life of St. Theodosius // Scando-Slavica 1967. T. 13.
Børtnes 1984 — Børtnes J. The Function of Word-Weaving in the Structure of Epiphanius’ Life of Saint Stephan, Bishop of Perm’ // Medieval Russian Culture. [Vol. 1]. Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. (California Slavic Studies. Vol. 12). Berkeley; Los Angeles, 1984.
Chaloupecký 1939 — Chaloupecký V. Prameny X stoleti legendy Kristiánovy о svatém Václavu a svaté Ludmile // Svatováclavský sbornik. 1939. D. 2. Č. 2.
Chemiavsky 1959 — Chemiavsky M. Khan or Basileus: an Aspect of Russian Medieval Political Theory // Journal of the History of Ideas. 1959. Vol. 20.
Cherniavsky 1961 — Cherniavsky M. Tsar and People: Studies in Russian Myths, New Haven, 1961.
Cook 1986 — Cook R. Russian History, Icelandic Story and Byzantine Strategy in Eymunder pattr Hringssonar // Viator. 1986. Vol. 17.
Curtius 1990 — Curtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages / Translated from the German by W. R. Trask. 7th print., with New Afterword by P. Godman. Princeton University Press, 1990. (Bolling Series, XXXVI).
Dvornik 1954 — Dvornik F. Les bénédictins et la christianisation de la Russie // L’Église et lés égliseas. Chevetogne, 1954. Vol. 2.
Edward 1971 — Edward, King and Martyr. Ed. by Ch. E. Fell. Leeds, 1971.
Fedotov 1960 — Fedotov G.P The Russian Religious Mind: Kievan Christianity. The 10th to the 13th Centuries. 2nd ed. N. Y., 1960.
Fennell 1977 — Fennell J. The Tale of the Death of Vasil’ko Konstantinovič: A Study of the Sources // Osteuropa in Geschichte und Gegenwart: Festchrichte fûr Gûnter Stökl zum 60 Gebursting. Köln; Wien, 1977.
Fennell, Stokes 1974 — Fennell J., Stokes A Early Russian Literature. London, 1974.
Florja 1978 — Florja B. N. Václavská legenda a borisovsko-glebovský kult (shody a rozdily) // Československý časopis historický. 1978. Ročn. XXVI. № 1.
Franklin 1982 — Franklin S. Some Apocryphal Sources of Kievan Russian Historiography // Oxford Slavonic Papers. 1982. Vol. 15.
Franklin 1991 — Franklin S. Introduction // Sermons and Rhetoric of Kievan Rus’. Translated and with an Introduction by S. Franklin. (Harvard Library on Early Ukrainian Literature. English Translations. Vol. 5). Cambridge, Mass., 1991.
Franklin, Shepard 1996 — Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus’: 750–1200. London; N. Y., 1996.
FRB 1873–1874 — FRB. Praha, 1873. Vol.I; Praha, 1874. Vol. 2.
Gippius 2003 — Gippius A Millenialism and Jubilee Tradition in Early Rus’ History and Historiography // Ruthenica Киïв, 2003. T. 2.
Halperin 1976 — Halperin Ch. J. The Russian Land and the Russian Tsar // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Berlin, 1976. Bd. 23.
Halperin 1986 — Halperin Ch. J. The Tatar Yoke. Colimbus (Ohio), 1986.
Hoffmann 1975 — Hoffmann E. Die heiligen Könige bei den Angelsachen und der skandinavischen Völkern. Königscheiliger und königschaus. Neumünsler, 1975.
Hunt 1975–1976 — Hunt P. The Autobioraphy of the Archpriest Avvakum: Structure and Function // Ricerche Slavistiche. 1975–1976. Vol. 22–23.
Hunt 1993 — Hunt P. Justice in Avvakum’s Fifth Petition to Tsar Aleksei Mikhailovich // Christianity and the Eastern Slavs. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1993 Vol. 1. Slavic Cultures in the Middle Ages. Ed. by Boris Gasparov and Olga Raevsky-Hughes (California Slavic Studies. Vol. 16).
Hurwitz 1980 — Hurwitz E. Prince Andrej Bogoljubskij: The Man and the Myth. Florence, 1980.
Ingham 1965 — Ingham N. W. Czech Hagiography in Kiev. The Prisoner Miracles of Boris and Gleb // Die Welt der Slaven. 1965. № 10.
Ingham 1969 — Ingham N. W. The Limits of Secular Biography in Medieval Slavic Literature, Particularly Old Russian // American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. The Hague-Paris, 1969. Vol. 2.
Ingham 1973 — Ingham N. W. The Sovereign as Martyr, East and West // Slavic and East European Journal. 1973. Vol. 17.
Ingham 1983 — Ingham N. W. Genre Characteristics of the Kievan Lives of Princes in the Slavic and East European Perspective // American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Columbus, Ohio, 1983. Vol. 2.
Ingham 1984 — Ingham N. W. The Martyred Prince and the Question of Slavic Cultural Continuity in the Early Middle Ages // Medieval Russian Culture. [Vol. 1]. Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. (California Slavic Studies. Vol. 12). Berkeley; Los Angeles, 1984.
Ingham 1987 — Ingham N. W. Narrative Mode and Literary Kind in Old Russian: Some Theses // Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen. (Zmeite Berliner Fachtagung 1984). [Osteuropa-lnstitut an dre Freien Universität Slavistische Veröffentlichungen. Bd. 64]. Wiesbaden, 1987.
Ingham 1994 — Ingham N. W. Early East Slavic Literature as Sociocultural Fact // Medieval Russian Culture. Berkeley; Los Angeles; London, 1994. Vol. 2. (California Slavic Studies. Vol. 18).
Klenin 1991 — Klenin E. Vasil’ko Konstantinovich in the Laurentian Manuscript: Narration and Ideology // Canadian-American Studies. 1991. Vol. 25. № 1–4.
Konzal 1988 — Konzal V. První slovanská legenda václavská a její «Sitz im leben» // Studia mediaevalia Pragensia-I. Praha, 1988.
Kràlik 1961 — Kràlik O. Nové pracé о Povesti vremenných let // Čestkoslovenská rusistika 1961. № 3.
Kràlik 1967 — Kràlik O. Vztah Povesti vremenných let к legendě о Borisu a Glebovi // Československá rusistika 1967. № 12.
Krugovoj 1973 — Krugovoj G. A Motif from the Old Russian Vita Sanctorum in Arthurian Romance // Canadian Slavonic Papers. 1973. Vol. 15.
Laurentius 1973 — Laurentius monachus Cassinensis, archiepiscopus Amalfitanus. Opera Weimar, 1973 (Monumenta historiae Germaniae, Vol. 7).
Lenhoff 1984 — Lenhoff G. Toward a Theory of Protogenres in Medieval Russian Letters // The Russian Review. 1984. Vol. 43.
Lenhoff 1987a — Lenhoff G. Categories of Medieval Russian Writing // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31.
Lenhoff 1987b — Lenhoff G. Problems of Medieval Narrative Typology: The Exemplum // Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen (Zmeite Berliner Fachtagung 1984). [Osteuropa-Institut an der Freien Universität Slavistische Veröffentlichungen. Bd. 64]. Wiesbaden, 1987.
Lenhoff 1989 — Lenhoff G. The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts (UCLA Slavic Studies. Vol. 17). Columbus, Ohio, 1989.
Lilienfeld 1993 — Lilienfeld F. von. The Spirituality of the Early Kievan Caves Monastery // Christianity and Eastern Slavs. Ed. B. Gasparov and O. Raevsky-Hughes. Berkeley, 1993. Vol. 1. (California Slavic Studies. Vol. 16).
Lind 1990 — Lind J. H. The Martyria of Odense and a Twelth-Century Russian Prayer: The Question of Bohemian Influence on Russian Religious Literature // The Slavonic and East European Review. 1990. Vol. 68. № 1.
Mathauserová 1988 — Mathauserová S. Cestami století: Systemové vztahy v dějinach ruské literatury. Praha, 1988. S. 46 (Acta Universitatis Carolinae. Philologia Monographia XCI-1986).
Melnikova 2000 — Melnikova E. The Death in the Horse’s Skull. The Interaction of Old Russian and Old Norse Literature Tradition // Gudar på jorden. Feskrift till Lars Lönnroth. Stockholm, 2000.
Migne 1860 — Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. Lutetia Parisiorum, 1860. T. 102.
Monumenta historiae Germaniae 1973 — Monumenta historiae Germaniae. Weimar, 1973. Vol. 7 (Laurentius <…>. Opera).
Müller 1954 — Müller L. Die nicht-hagiographische Quelle der Chronik-Erzählung von der Ermordung der Brüder Boris und Gleb und von der Bestrafung ihres Mörders durch Jaroslav // Festschrift für Dmytro Čyževsky zum 60. Geburtstag am 23. März 1954. Berlin; Wiesbaden, 1954.
Müller 1954–1962 — Müller L. Studien zur altrussischen Legende der Heiligen Boris und Gleb // Zeitschrift für slavische Philologie. 1954. Bd. 23; 1956. Bd. 25; 1959. Bd. 27; 1962. Bd. 30.
Müller 1963 — Müller L. Neuere Forschungen über das Leben und die Kultische Verehrung der Heiligen Boris und Gleb // Opera Slavica Göttingen, 1963. T.4.
Nikolaeva 1993 — Nikolaeva T. M. The «Double-Faith» in The Tale of Igor’s Campaign and the Theme of the City // Elementa 1993. Vol. 1. № 3.
Novaković 1876 — Novaković S. Apokrifi jednoga srpskog cirilovskog zbornika XIV. vieka // Starine. 1876. Kn. 8.
Obolensky 1971 — Obolensky D. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe 500–1453. London, 1971.
Passio et miracula beati Olaui 1881 — Passio et miracula beati Olaui. Oxford, 1881.
Picchio 1973 — Picchio R. Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Slavdom // American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. The Hague, 1973. Vol. 2.
Picchio 1977 — Picchio R. The Functions of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of Slavia Orthodoxa // Slavica Hierosolymitana Jerusalem, 1977. Vol. 1.
Picchio 1978 — Picchio R. Principles of Comparative Slavic-Roman Literary History // American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists. Columbus, Ohio, 1978. Vol. 2.
Picchio 1983 — Pihhio R. Levels of Meaning in Old Russian Literature // American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Columbus (Ohio), 1983. Vol. 2.
Picchio 1984a — Picchio R. The Hagiographic Framing in the Old Russian Tale of Prince Petr of Murom and the Wise Maid Fevronija // Language and Literary Theory. In Honor of Ladislas Matejka Ann Arbor, 1984.
Picchio 1984b — Picchio R. The Impact of Ecclesiastic Culture on the Old Russian Literary Techniques // Medieval Russian Culture [Vol. 1]. Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. (California Slavic Studies. Vol. 12). Berkeley; Los Angeles, 1984.
Plukhanova 1993 — Plukhanova М. Традиционность и уникальность сочинений протопопа Аввакума в свете традиции Третьего Рима // Christianity and the Eastern Slavs. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1993 Vol. 1. Slavic Cultures in the Middle Ages. Ed. by Boris Gasparov and Olga Raevsky-Hughes (California Slavic Studies. Vol. 16).
Poppe 1969 — Poppe A. Opowieść о męńczenstwie i cudach Borisa i Gleba, okolicznośći i czas powstania utworu // Slavia orientalis. 1969. T. 18. № 3–4.
Poppe 1981 — Poppe A. La naissance du cult de Boris et Gleb // Cahiers de civilisation médiévale, X-e — XII-е siècles. Poitiers, 1981. A. 24.
Prestel 1991 — Prestel D. K. Medicine vs Religion: The Perils of Hagiographia as Historical Source // Canadian-American Studies. 1991. Vol. 25.
Pritsak 1981 — Pritsak O. The Origin of Rus’. Cambridge (Mass.), 1981. Vol. 1. Old Scandinavian Sources Other than Sagas.
Prochazka 1987 — Prochazka H. Warrior Idols or Idle Warriors. On the Cult of Saints Boris and Gleb as Reflected in The Old Russian Military Axounts // The Slavonic and East European Review. 1987. Vol. 64.
Reisman 1978 — Reisman E. The Cult of Boris and Gleb: Remnant of a Varangian Tradition? // Russian Review. 1978. Vol. 27. № 2.
Revelli 1992–1993 — Revelli G. La legenda di San Venceslao e lo «Skazanie о Borise i Glebe»: Alcune osservazioni sui rapporti agiografici medioevali // Ricerche Slavistiche. 1992–1993. Vol. XXXIX–XL.
Revelli 1993 — Revelli G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova, 1993.
Rollason 1983 — Rollason D. W. The Cults of Murdered Royal Saints in Anglo-Saxon England // Anglo-Saxon England II. Cambridge, 1983.
The Sacral Kingship 1959 — The Sacral Kingship. Leiden; Brill, 1959.
Sciacca 1983 — Sciacca F. The Kiev Cult of Boris and Gleb: the Bulgarian Connection // Proceedings of the Symposium on Slavic Cultures: Bulgarian Contributions to Slavic Cultures. Sofia, 1983.
Seemann 1987 — Seemann K.-D. Genres and the Alterity of Old Russian Literature // Slavic and East European Journal, 1987. Vol. 31.
Siefkes 1970 — Siefkes F. Zur Form des Žitije Feodosija. Verleichende Studien zur byzantinichen und altrussischen Literatur. (Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik. Bd. 12). Bad Homburg; Berlin; Zürich, 1970.
SlavÍk 1929a — SlavÍk J. Svatý Václav a raz počatku křest’anství u Slovanů // Slovanský přehled. 1929. № 5–7.
SlavÍk 1929b — Slavík J. Svatý Václav a slovanské legendy // Сборник статей, посвященных Павлу Николаевичу Милюкову. 1859–1929. Прага, 1929.
Stender-Petersen 1934 — Stender-Petersen A. Die Varägersage als Quelle der altrussishen Chronik // Acta jutlandica, Aarhus, 1934. Bd. VI.
Ševčenko 1954 — Ševčenko I. A Byzantine Source of Moscovite Ideology // Harvard Slavic Stydies. 1954. Vol. 2.
Timberlake 2006 — Timberlake А. «Не преступати предѣла братѧ»: The Entries of 1054 and 1073 in the Kiev Chronicle // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова / Отв. ред. А. М. Молдован. М., 2006.
TřeštÍk 1968 — TřeštÍk D. Kosmová kronika: Studie к počatkům českého dějepisectvi a politického myšlení. Praha, 1968.
TřeštÍk 1991 — TřeštÍk D. Václav a Berengař. Politické pozadí postrižin sv. Václava roků 915 // Český časopis historický. 1991. Ročn. 89. № 5–6.
Tschekova 2002 — Tschekova I. Genese und kommunikative funktion der altrussischen Nestorchronik // The Medieval Chronicle-II / Ed. by E. Kooper. N.Y., 2002.
Vlasto 1971 — Vlasto A. The Entry of Slavs into Christendom. Oxford, 1971.
Vodoff 1978 — Vodoff W. Remarques sur le valeur du terme ‘tsar’ appliqué aux princes russes avant le milieu du XVe siècle // Oxford Slavonic Papers, n.s. Vol. XI. 1978. P. 1–41.
Vodoff 1988–1989 — Vodoff V. Pourquoi le grand prince Volodimer Svjatoslavič n’a-t-il-pas été canonisé? // Harvard Ukrainian Studies. 1988–1989. Vol. 12–13.
Weingart 1934 — Weingart M. Prvni česko-církevněslovanská legenda о svatém Václavu: Rozbor filologický // Svatovaclavský sborník na památku 1000 výročí smrti knižete Václava Svátého. Praha, 1934. D. I. Kniže Václav Svatý a jeho doba.
Zguta 1984 — Zguta R. Monastic Medicine in Kievan Rus’ and Early Russia // Medieval Russian Culture [Vol. 1] / Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. (California Slavic Studies. Vol. 12). Berkeley; Los Angeles, 1984.
Приложение. «Фрески»
Апокриф
- Как прошла по городу по Мурому
- Весть, что появилась змея лютая,
- Из Мещерских из болот вылазила,
- Да пошла во стольный град прямехонько.
- А идет-то змея — вся земля дрожит,
- С куполов кресты наземь падают.
- Прибежали муромчане на княжой на двор,
- Возопили со испугу дурным голосом:
- «Ты спаси нас, князь Петро-Февроние,
- От проклятой змеи супротивныей!
- А не то пожрет нас змея лютая,
- Запустеет Муром-град до скончанья лет!»
- Отвечал им князь Петр-да-Феврония:
- «Вы не бойтесь, люди православные,
- Буду змею бить я боем смертныим,
- Защищу народу я крещеную!»
- Как выходит Петр-Февронья за вороты-от.
- Видит: змей стоит главой до небеси,
- Из ноздрей пущает пламя синее,
- Пахнет сильно и зело премерзостно.
- Как схватил князь Петр тут меч Агриков-от,
- Только князь-Февронья ему молвила:
- «Не бери ты меч Агриков-острыий,
- Ты сымай с себя кушак свой княжеский,
- Да вяжи ты змее шею поясом!»
- Да ответил ей князь Петр с сумнением:
- «Тот кушак порты мне держит накрепко,
- Если я сыму мой пояс княжеский,
- Упадут штанцы — сором мне, женушка!»
- «Ты не бойся, свет, супруг мой ласковый», —
- Отвечала ему свет-Феврония, —
- «Те штаны твои заговорила я,
- И без пояса они удержатся».
- И тогда схватил Петр алый свой кушак,
- Подошел ко змее он чешуйчатой,
- Он к разлапистой да смраднодышащей.
- Он вязал ей шею своим поясом,
- Покорилась ему змея лютая,
- Посрамил он козни злого дьявола.
- Как возговорит тогда Феврония,
- Словно трубонька зарею утренней:
- «Мы пойдем с тобою, княже Петр, ко Киеву:
- Пусть послужит змея делу Божьему!
- Люди в Киеве-то все живут язычники,
- Православной вере не обучены».
- Взяли Петр-Февронья змею за пояс,
- Повели ко городу ко Киеву,
- Через реки быстрые-глубокие,
- Чрез леса-чащобы непроезжие,
- Чрез поля широкие да чистые.
- А во Киеве идет-от пированьице:
- Горожане чтут богов рогатыих,
- Нечестивых богов-от языческих.
- Только слышат вдруг они: за воротами
- Гром гремит, и земля потрясается.
- Поглядели из-за тына киевляне-от:
- Там стоит на задних лапах змея лютая,
- Рядом с ней стоит чета супружеска
- Во одеждах княжеских узорчатых.
- Воскричал тут князь-от Петр
- Он громким голосом:
- «Вы креститесь, люди злы-язычники,
- А не то я змею-от спущу на вас!»
- Змея лютая пыхнула синим пламенем,
- А Феврония ни слова не промолвила.
- Испужалися тут киевляне оченно,
- Пали на колени с сокрушением,
- Приняли святое все крещение.
- И пошли тут в Муром град Петр с Февронией,
- Через реки быстрые-глубокие,
- Чрез леса-чащобы непроезжие,
- Чрез поля широкие да чистые.
2005
- А что сталося со змеей, змеей лютоей,
- То молва людская не упомнила:
- Говорят одни, быдто хитрая
- Уползла в болото к Неве-реке,
- Во чухонские хляби погибельны,
- Ростом-возрастом там она уменьшилась,
- На Гром-камне, гадюка, поселилася.
- А иные глаголют противное:
- Закляла-де змею лютую Феврония
- Приползти в Москов на Поклон-гору.
- На Поклон-горе сам Георгий-свят
- Бил-колол он змею в шею толстую,
- В колбасу порубил подколодную.
Сие сочинение о Петре и Февронии, облеченное пародически в форму народного духовного стиха, и вправду имеет происхождение почти изустное. Таковым образом был (однако же прозою) пересказан сюжет древнерусской Повести о житии Петра и Февронии одной студиозкой на экзаменации, до древнерусской словесности относящейся. Ответ был со изумлением выслушан моею аспиранткой и после экзаменации мне поведан. Смехотворные опасения Петра о портах своих, равно как и гадания о судьбе злополучной змеи после крещения Киева принадлежат, впрочем, всецело моему несдержанному воображению.
…видехъ тело мое, идеже лежааше, бездушно и умрьщвено, неподвижимо и неключимо, чюдися и дивящися, якоже некто совлечется риз своих и положить на одре своемъ, и той станегь, зря ихъ.
Житие Василия Нового. Хождение Феодоры по воздушным мытарствам
Из духовных стихов
- Принесли душу грешную
- Ко лестнице ко небесной.
- осенью птицы становятся легче
- чтобы лететь за далекое море
- душа перед смертью становится сирой
- малой и голой и зябнет от стужи
- жмется на синем ветру и стенает
- плотская риза тонка и дырява
- машет вдали грозный ангел крылами
- боли копье угнездилося в сердце
- о не погасни звезда моя — свечка
- мертвой души животворное пламя
2006
- только зрачок осязает пространство
- воздух повисший над черной водою
- мост сотворенный из вздохов усопших
- вздохов спасенных и обреченных
- сестро — душа о иссохшая капля
- не затеряйся в воздушных громадах
- тело о брат мой простимся навеки
- брашно для пира червей гной могильный
- скоро расстанемся сестро и брате
- ныне проститесь друг с другом навеки
- плоть будет жить ставши глиной скудельной
- ну а души неизведана участь
- я же умру без следа и остатка
- ______________________________
- путь далеко за бескрайнее море
- саван укутал безбрежную землю
- воздух шершавый до крови стер крылья
- птица садится на крест надмогильный
- как черный куст замирает над снегом
ВоренокИз записей Элиаса Геркмана
- Так как в это время была метель и снег бил мальчика по лицу,
- то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете
- меня?»… Но люди, несшие ребенка… успокаивали его словами,
- доколе не принесли его… на то место, где стояла виселица, на
- которой и повесили несчастного мальчика… на толстой веревке,
- сплетенной из мочал. Так ребенок был мал и легок, то этою веревкою
- по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел и
- полуживого ребенка оставили умирать на виселице.
- снег вился змеясь по продрогшей и лютой земле
- и смертной истомою вилося тело в петле
- трехлеток отродье пся крев милой панны одна лишь любовь
- ручонки прозрачные пеньку хватают хрипящую вновь
- калужский орешек бог милостив сгрызла московская власть
- и давит скорлупки сапог разгулявшийся всласть
- и только сорока кричит о дитяти убитом своем
- и птичьи-зегзичии слезы дождями осенними льет
- и плачет рахиль об удавленном сыне и бьет
- рукой себя в грудь как в отверстую рану…
2007
- мой грех и романовский стыд мой сыночек четыреста лет неживой
- ипатьевский узник иван алексей в сердце нож в горле вой
- обмылок обломок обглоданный сворой ночной
- прости мне скудель этих слов и мой сирый покой
- синюшная тень тать заложный в моих поселившихся снах
- о дай я тебя обниму поцелуями выпью младенческий страх
- несчастная кукла тошнотной и смутной игры
- прости мне мой бедный ребенок той давней поры