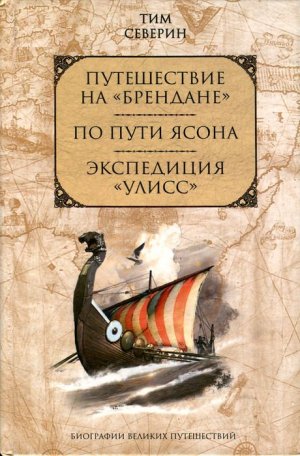
ЭКСПЕДИЦИЯ «УЛИСС»
По следам «Одиссеи»
Пролог. Загадка
Ни один поэт, будь то Данте, Гёте, даже Шекспир, не оказал такого глубокого влияния на основы западной культуры, как призрачная фигура, которую мы называем Гомер. Это имя до такой степени привычно нашему слуху, что можно невзначай и упустить из виду, как долго труды Гомера составляют часть нашего культурного наследия. Он описывает события, происходившие, насколько мы можем судить, во второй половине II тысячелетия до н. э. Ветхий Завет еще не был написан, а свитки с сочинениями Гомера уже составляли основу библиотеки всякого просвещенного человека. Ко времени рождения Иисуса о Гомере и его трудах было написано столько, что прошел изрядный срок, прежде чем кто-либо из апостолов мог бы оспорить его первенство как наиболее тщательно изучаемого автора в рамках западной цивилизации. И такой вес Гомер приобрел всего лишь двумя поэмами — «Илиадой» и «Одиссеей», написанными на языке, который для греков классического периода был до того архаичным, что иные слова они понимали с трудом. Если же говорить о нашем столетии, то английский словарь с толкованием гомеровской лексики включает 445 страниц убористого текста, да и то десятки оборотов не разгаданы до конца. Но никакие лексические неясности не могут заслонить суть гения Гомера. Его персонажи настолько нетленны, язык так изящен, мозаика словесных картин столь жива, что повествование о необычном странствии одного путешественника три тысячи лет назад остается непревзойденным. Создав «Одиссею», которой посвящена эта книга, Гомер оставил нам такую яркую сагу, что само ее название принято для обозначения долгих путешествий.
Гений Гомера всегда манил пытливые умы. На заре Римской империи была пора, когда наставники видели в его поэмах основополагающий источник всех полезных знаний, будь то история, география или риторика. Отзвук такого подхода виден и в наши дни. Археологи, историки, фольклористы продолжают разбирать труды Гомера и находят — или думают, что находят, — новые толкования. Хотя, казалось бы, после двух с лишним тысяч лет исследования невозможно что-либо добавить к громаде учености, которой обросли обе поэмы.
Словом, Гомер хоть для кого твердый орешек. Однако для меня, увлеченного смесью правды и вымысла в повестях о древних путешествиях и плаваниях, капканы с соблазнительной приманкой были расставлены давно. Циклопы (киклопы) и сирены, Сцилла (Скилла) и Харибда, повелитель ветров Эол — все они присутствовали в захватывающих книжках моего детства. Изучая затем в Оксфорде историю географических открытий, я познакомился с несколькими десятками из множества гипотез, предложенных исследователями «Одиссеи». Одни утверждали, что вся поэма — чистый вымысел, другие искали реальные пути к местам, которые, по их мнению, посетил Улисс (латинская форма греческого имени Одиссей). А иные комментаторы выдвигали толкования, которые выглядели даже более фантастическими, чем если бы вся «Одиссея» попросту была сказкой.
Наконец, в 1981 году я обеими ногами угодил в капкан. В том году я начал готовить экспедицию, чтобы проследить маршрут, по которому шли за золотым руном аргонавты во главе с Ясоном. Я задумал построить копию древнегреческой галеры, набрать команду из добровольцев и пройти на веслах и под парусом по пути аргонавтов от Греции до Советской Грузии. Но к какому бы источнику я ни обратился, всякий раз наталкивался на Гомера и «Одиссею». Повести о Ясоне и Улиссе тесно переплетаются. У меня сложилось впечатление, что Гомер заимствовал некоторые идеи из сказов об аргонавтах. Он даже упоминает название корабля Ясона. Пытаясь разобраться в этом переплетении, я завел две картотеки — одну на слово «Ясон», другую на слово «Улисс». Тут были и перекрестные ссылки, и противоречия, и совпадения; число карточек неуклонно росло. В 1984 году состоялась экспедиция «Ясон», На 16,5-метровой галере «Арго» мы успешно прошли из Греции на восток Черного моря в Советскую Грузию. И нашли золотое руно в горах Кавказа у сванов, которые показали нам древний способ добычи драгоценного металла, когда на дно речушек клали овечьи шкуры и крупинки аллювиального золота застревали в шерсти. В августе того же года мы привели «Арго» обратно в Стамбул, где с любезного разрешения мэра галера провела зиму на берегу стоянки, отведенной для принадлежащих богачам роскошных яхт. Однако мне уже было ясно, что задача нашего судна далеко не исчерпана. В моих картотеках накопился материал по тексту «Одиссеи», и я непременно должен был попытаться разрешить древнейшую в мире географическую загадку, суть которой сводилась к вопросу: можно ли считать «Одиссею» повестью о реальном плавании? И если да, то где плавал Улисс?
Разумеется, поэмы Гомера должны содержать какую-то долю истины. Город Троя, про осаду которого повествует «Илиада», существовал. Его развалины найдены в приморье Анатолии и тщательно исследованы. Раскопаны Микены, столица царя Агамемнона, возглавившего, как сообщает Гомер, поход против Трои. Раскопан также дворец царя Нестора, руководившего вторым по величине отрядом греков, и нам предстояло посетить на «Арго» его родину. Виднейшие историки и археологи причастны к поискам удивительного мира, описанного Гомером. Доискиваясь исторических фактов в его поэмах, специалисты создавали методы, изменившие всю археологическую науку, обретали всемирную славу и вызывали яростную полемику. В гомеровском контексте мы вновь и вновь будем встречаться с одними и теми же столпами учености, ибо каждый из них, раскапывая Трою, неизбежно вспоминал о Микенах, а приступая к исследованию Микен, не мог пренебречь поиском развалин дворцов Улисса и Нестора. Звенья в цепи их открытий вели все дальше и дальше, встречались и беспорядочно перекрещивались, и конца до сих пор не видно.
Ученые предпочитали концентрироваться на «Илиаде», потому что действие происходит на суше, притом в совершенно определенном месте — у стен Трои. Здесь археологи могли копать, расчищать стены и улицы, сравнивать черепки из разных раскопов и составлять себе представление о жизни в те давние времена. С привязкой «Одиссеи» дело обстояло куда сложней. Лопатой не докопаешься до сути повести о дальнем плавании, таящей в себе ключи к странствиям человека, жившего 3 тысячи лет назад. Ничто не дразнит так воображение и не озадачивает так, как гомеровская география в «Одиссее». Напрашивается сравнение с детективным романом, где одно убийство следует за другим и сами трупы на пути идущего по следу сыщика настолько необычны, что спрашиваешь себя — да не мерещится ли мне? Гомер ведет Улисса в страну, чьи обитатели едят диковинное растение, заставляющее их забыть о своем доме, затем к живущим в пещерах огромным людоедам, которые держат овец и коз и ухитряются собирать злаки, вызревающие безо всякого ухода. На одном острове, окруженном крутыми медными стенами, живет повелитель ветров, которые он держит в завязанном кожаном мешке. Вслед за тем все корабли Улисса, кроме одного, уничтожают людоеды, напав на них в гавани с таким узким входом, что его сопутники не могут вырваться из смертельной западни.
Чем дальше, тем удивительнее диковинные эпизоды. Улисс и уцелевшие члены его команды восстанавливают силы на идиллическом острове, правительница которого умеет превращать людей в животных. На расстоянии дневного морского перехода оттуда находится царство Аида, которое посещает Улисс и где советуется с душами умерших, после чего, продолжая следовать домой, он и его люди проплывают мимо обители чарующих сирен, заманивающих мореходов волшебным пением и предающих их смерти. С трудом удается Улиссу миновать опасный водоворот в узком проливе, однако живущее в пещере на скале шестиглавое чудовище хватает с палубы шесть человек и пожирает их. Когда уцелевшие члены команды совершают святотатство, убивая и съедая быков бога Солнца на его священном острове, буря разбивает в щепки их корабль, и все мореплаватели погибают; один Улисс спасается, цепляясь за обломки. Волны прибивают его к дивному острову нимфы Калипсо, и он становится ее возлюбленным. Сколотив плот, наш герой покидает остров, но снова терпит крушение и выбирается на берег во владениях феакийцев — народа корабельщиков, чей царь, Алкиной, устраивает пир в его честь. И наконец на быстроходном корабле феакийцы доставляют Улисса на родину, вдали от которой он пребывал девятнадцать лет.
Многоголовые чудовища, как и одноглазый Циклоп, коего ослепил Улисс, возвращаясь домой из Трои, — фантастические создания. Но идет ли речь о сплошном вымысле, или в основе каждого сюжета лежат какие-то реалии? Обладал ли Гомер столь исключительным воображением, что мог измыслить целую вереницу неслыханных страшилищ, не черпая никаких намеков в действительной жизни? И даже если сами приключения Улисса всецело вымышлены, не связывал ли Гомер их с реальными местами? Или его география, как и фантастические твари, никак не соотносится с нашим миром? «Вы найдете места, где странствовал Одиссей, — саркастически замечал в III веке до н. э. первый в мире ученый-географ Эратосфен, — когда отыщете сапожника, который зашил мешок с ветрами…»
Но Эратосфен был великий скептик. Его неверие в реальность «Одиссеи» не остановило попытки его современников выявить географические реалии поэмы, определить места похождений Улисса. Греки классического периода толковали «Илиаду» как исторический источник, и в позднейшие времена археология показала, что они — во всяком случае, отчасти — были правы. Многие виднейшие ученые той поры не сомневались, что описанные в «Одиссее» сцены отражают этапы реального плавания реального человека, и брались опознать острова и гавани, которые он посетил.
«Подобно тому как искусный мастер покрывает золотом серебро, — писал виднейший географ классического периода Страбон, — так и он обратился к действительно бывшей Троянской войне и расцветил историю своими мифами; и так же поступил он со странствиями Одиссея». Страбон, живший во времена императора Августа, называет с полдесятка видных географов, которые пробовали разгадать загадки «Одиссеи». Из века в век попытки проследить скитания Улисса повторялись толкователями всех мастей — историками, кабинетными путешественниками, филологами-классиками, археологами, известными писателями. Даже один британский премьер-министр — Гладстон — внес свою лепту. Противоречивые гипотезы отправляли Улисса в Италию, в Черное море, в Испанию, на просторы Атлантики, в Индийский океан, к берегам Норвегии и Ирландии. Чуть ли не каждый год появляются новые толкования текста. В последнем десятилетии Улисса снаряжали то в далекие Анды в Южной Америке, то в Адриатику, по соседству с Грецией, где один югославский капитан видит привязки для каждого из приключений, описанных в поэме.
Я сверял различные гипотезы с картой. Два десятка специалистов, каждый по-своему, определяют места, где происходят события, изображенные Гомером. Его описания (подчас мучительно туманные) привязывают к множеству реальных точек на географической карте, всякий раз с претензией на абсолютную точность, но эти привязки редко совпадают. Судно Улисса скачет по Средиземному морю туда и сюда, словно шахматный конь. Оно прыгает через возникающие некстати массивы суши, огибает мысы, плывет со скоростью, которая сделала бы честь современному лайнеру, силясь связать между собой устраивающие толкователя места. Лишь очень немногие нынешние комментаторы сами были моряками; еще меньше число тех, кто ходил по вероятным маршрутам. И никто не проверял в деле мореходные качества галеры конца бронзового века.
Как ни странно, похоже, что никто не задавал себе самый существенный вопрос. Если Улисс жил на самом деле и совершил реальное путешествие, то после осады Трои, длившейся, насколько нам известно, десять лет, он должен был стремиться скорее попасть домой. Спрашивается: какой естественный маршрут ему следовало избрать? Мог ли такой маршрут проходить по местам действия «Одиссеи», не требуя немыслимых скачков от мореплавателей? Возможно, никто не задавался таким вопросом потому, что боялся разочароваться, ответ мог умалить прелесть сказа, лишив Улисса славы великого морепроходца, смело плывущего за горизонт. Но ведь окажись, что есть простой, реалистичный путь, который согласуется с описаниями в поэме, будет достигнуто нечто куда более важное, загадка «Одиссеи» будет решена на рациональной основе. Улисс будет возвращен из вымышленного, сказочного мира, куда его заслали чересчур фантастические, несовместимые с практикой толкования.
А потому мне было ясно, что надо сделать: я пройду на «Арго» от Трои до родины Улисса — Итаки, одного из Ионических островов у западного побережья Греции, следуя маршрутом, который избрал бы рассудительный мореплаватель конца бронзового века. Быть может, на мыслимом мною логическом пути нам встретятся места, отвечающие описаниям в «Одиссее», и мы сумеем объяснить некоторые, если не все, диковинные сюжеты. Я не задавался целью ответить на трудные вопросы исторического, лингвистического или археологического порядка. Такие вещи лучше предоставлять специалистам. Их труд снабдил меня исходными материалами — энциклопедиями, указателями, переводами, комментариями, всем научным аппаратом, накопившимся за два тысячелетия гомероведения. Мой подход должен быть чисто практическим, носить географический и мореходный характер. Я собирался решать загадки с позиций здравого смысла, стоя на кормовой палубе галеры, копии судов бронзового века. «Арго» как нельзя лучше подходил для этого. Рассчитанный на двадцать гребцов, он размерами и конструкцией в точности отвечал судам, о которых Гомер говорит в «Одиссее» как о типичных для той эпохи. И я уже знал кое-что о мореплавании бронзового века, поскольку в 1500-мильном плавании по следам Ясона мы, выйдя из Северной Греции, прошли через Дарданеллы в виду Трои, пересекли Мраморное море, одолели Босфор и проследовали вдоль берегов Черного моря до его восточных рубежей. Таким образом, я примерно представлял себе, какое расстояние Улисс мог покрывать на веслах и под парусом за день, с какими ветрами могла спорить галера, как вести судно, ориентируясь визуально, от мыса к мысу. Полученный опыт я и собирался применить к исследованию географии «Одиссеи». Однако, прежде чем выходить в море, следовало уяснить, на кого я собственно охочусь. Кто такой Улисс? И кто такой Гомер, коли на то пошло?
Глава 1. Бард и герой
Согласно одной гипотезе, Гомер был женщиной. Другая утверждает, что он был слепой. По третьей гипотезе, авторство поэмы принадлежит не одному, а целой группе поэтов. По четвертой, Гомер создал только «Илиаду», у «Одиссеи» другой автор. Словом, разногласий в среде ученых насчет личности Гомера не меньше, чем по поводу маршрута Улисса. Истина заключается в том, что никому еще не удалось установить, кем был Гомер и когда точно он жил, хотя на этот счет и существуют мудрые выкладки. Предположительно Гомер жил в VIII или VII веке до н. э., иначе говоря, примерно через 500 лет после осады Трои и описываемых им событий. Исследователи сходятся также в том, что он был (или они были) бардом (бардами), то есть профессиональным сказителем (сказителями).
Вполне возможно — отсюда гипотеза о слепце, — что Гомер поместил в «Одиссее» свой словесный портрет, подобно тому как некоторые кинорежиссеры снимаются статистами в своих фильмах. При дворе гостеприимного царя Алкиноя живет певец, которого, согласно «Одиссее», «муза… при рождении злом и добром одарила: очи затмила его, даровала за то сладкопенье». Любимца двора подвели к отведенному ему месту в пиршественном зале и усадили на среброкованный стул перед гостями. Певец сидел, прислонясь спиной к высокой колонне, и царедворец повесил на эту колонну лиру слепца, «чтоб ее мог найти он». Тот же царедворец «корзину с едою принес, и придвинул стул, и вина приготовил, чтоб пил он, когда пожелает». После чего певец усладил слух собравшихся, «выбрав из песни, в то время везде до небес возносимой, повесть о храбром Ахилле и мудром царе Одиссее».
Идет ли речь о самом Гомере или нет, во всяком случае, мы можем составить себе представление о том, как исполнялись «Одиссея» и «Илиада», — представление, которое зовет нас к осторожности. В Албании, на западе Ирландии и среди австралийских аборигенов специалисты изучали технику живых бардов, проверяя, насколько бережно они обращаются с текстами, что в них изменяют. Оказалось, что барды не заучивают механически песни наизусть, а запоминают фабулу. Опорные строфы и фразы повторяются, в остальном же певец вправе импровизировать и шлифовать текст по правилам своего ремесла. Так что устный сказ был живым, изменчивым повествованием, и дошедшие до нас творения Гомера отличаются от сочиненного первоначальными сказителями. К тому же нам известно, что первоисточники были очень древними. Недавно один сотрудник Гарвардского университета обнаружил напоминающую гомеровский стиль фразу во фрагменте хроники времен бронзового века на глиняной плитке примерно той поры, когда шли бои у Трои. Выходит, первое сказание об осаде могло быть сочинено при жизни действительно существовавших Агамемнона и Улисса.
Единственное беглое описание внешности Улисса мы находим в строфах «Илиады», повествующих об осаде Трои. Гомер изображает его облик в общих чертах. По словам поэта, Улисс был небольшого роста, но широк в плечах и груди. На первый взгляд он казался неповоротливым и неуклюжим; одним словом, мужлан, выражаясь современным языком. Но едва Улисс начинал говорить, как это впечатление исчезало. У него был могучий голос, и речи его, «как снежная вьюга, из уст устремлялись», так что никто не мог превзойти его в споре. Различные эпизоды «Илиады» и «Одиссеи» добавляют плоти в этот силуэт. Улисс несомненно был очень силен. Мало кто мог сравниться с ним в рукопашной схватке, и он метал диск дальше своих соперников. Только ему оказалось под силу натянуть тетиву богатырского лука, ранее принадлежавшего легендарному лучнику Эвриту, и стрелял он без промаха. Несмотря на плотное телосложение, Улисс и в беге был одним из первых. В целом он представляется нам дородным мужчиной, обладающим феноменальной выносливостью, которая ярко проявляется во время двух кораблекрушений, когда Улисс возвращается домой. В первом случае вся его команда утонула, когда галеру разнес в щепки внезапный ураган; сам Улисс сумел поймать обломок — нижний брус киля — и, сидя на нем верхом, добрался до берега. Во втором случае буря разрушает плот героя, и он преодолевает вплавь изрядное расстояние до суши, где прибой основательно колотит его о скалы. Словом, перед нами крепко сложенный, грубоватый с виду мужчина, наделенный выносливостью и силой, необходимыми для выживания.
Но по-настоящему Гомера занимала не столько внешность, сколько натура Улисса. Главное его качество, о котором неоднократно говорит Гомер, — находчивость, подразумевая и коварство, и изобретательность.
Приключения в «Одиссее» и эпизоды осады Трои вновь и вновь рисуют нам Улисса как человека, очень хитрого, умеющего обратить в свою пользу слова и обстоятельства. По меркам современной морали он не образец, достойный подражания. Улисс предпочитал воздерживаться от правды, если можно было ловко солгать. Он был заносчив, алчен, злопамятен, чрезвычайно подозрителен к чужакам, но почти так же недоверчив к тем, кого знал не один год. И, конечно, никогда не терял из виду собственную выгоду.
В глазах Гомера эти качества были скорее похвальными, чем предосудительными, и поведение Улисса оправданно, хоть и не всегда достойно одобрения. Верно и то, что в силу некоего странного поползновения принизить создаваемый образ, отрицательные черты Улисса усугублялись сказителями по мере того, как повествование обрастало все новыми и новыми мифическими эпизодами. Были ли эти добавления чистым вымыслом или же в основе лежали более древние предания, трудно сказать; во всяком случае, Улисс-герой превращался чуть ли не в Улисса-злодея.
Он был единственным сыном Лаэрта, правителя маленького бесплодного острова Итака. Его мать Антиклея была дочерью известного разбойника и вора Автолика, от которого, говаривали люди, Улисс унаследовал коварство и двуличие. Согласно одному преданию, имя новорожденному дал Автолик, когда прибыл на Итаку, чтобы повидать внука. Будто он предложил назвать его Одиссеем в память об осуждении (одиум), коему подвергался дед за воровство.
Детство Одиссея протекало в беспокойной атмосфере крохотного царства, боровшегося за то, чтобы выжить в окружении соперников. Напрашивается сравнение с шотландскими кланами, спорящими из-за клочков земли, скота и престижа. Недаром предание гласит, что в первый раз Улисс покинул дом, когда отправился с Итаки на материк, чтобы вернуть украденных овец. Именно тогда стал он обладателем замечательного лука Эврита, получив его в дар от разыскивавшего украденных кобыл сына славного лучника. Примерно к этому же времени относится первый намек на склонность Улисса к коварным приемам. Не довольствуясь тем, что обзавелся богатырским луком, он стал искать яд, чтобы намазать им кончики стрел. Обратившись к одному из царей на материке, получил отказ, но продолжал поиск, и в конце концов добыл желаемое у правителя тафийцев, жителей приморской области, промышлявших пиратством.
Далее народные сказания рисуют нам Улисса в ряду претендентов на руку дочери спартанского царя Тиндара, Елены, которая слыла самой красивой женщиной в мире. Тут предание начинает воздавать Улиссу хвалу за присущее ему хитроумие. Неимущий молодой человек из ничтожного царства Итаки понял, что ему не приходится рассчитывать на победу над соперниками из куда более обширных и влиятельных царств, и он втайне заключил сделку с Тиндаром, немало встревоженным обилием претендентов на руку дочери. Царь опасался, что, когда будет объявлен его выбор, обойденные женихи передерутся между собой. Улисс заявил Тиндару, что поможет решить эту проблему, если царь пообещает сосватать ему дочь своего брата Икария — Пенелопу. Тиндар согласился, и Улисс посоветовал царю, прежде чем объявлять победителя, взять с многочисленных женихов клятву, что они будут оберегать избранника от любых невзгод, которые может повлечь за собой женитьба на Елене. Лишь при таком условии дозволялось претендовать на руку царевны. Естественно, молодые женихи, рассчитывая на успех, дали требуемую клятву; в их числе был и притворщик Улисс, уже знающий, что не стоит в ряду реальных кандидатов. В мужья Елены был выбран богатый и могущественный Менелай, брат царя Микен. Однако интрига Улисса обратилась против него самого. Когда Елена бежала с троянским царевичем и Менелай вместе с царем Агамемноном стал собирать войско, чтобы напасть на Трою и вернуть жену, он напомнил бывшим женихам об их клятве.
Характерно — здесь позднейшие предания начинают подчеркивать эгоизм нашего героя, — что Улисс попытался уклониться от участия в походе. Зачем ему покидать Итаку и отправляться за сотни километров в Малую Азию, чтобы воевать против троянцев? И когда вербовщики Агамемнона и Менелая прибыли в Итаку, он прикинулся сумасшедшим. Посланцы застали его в поле за плугом, который тянули лошадь и вол, на голове Улисса был дурацкий колпак, и он бросал в борозды не зерно, а соль. Однако сын царя Навплия, Паламед, был не глупее Улисса и разгадал его уловку. Схватив сына Улисса, Телемаха, он положил младенца в борозду перед плугом. Пришлось отцу свернуть в сторону, и стало ясно, что он в здравом уме.
Сюжет с притворным сумасшествием Улисса и его разоблачением отсутствует у Гомера, появляясь уже в позднейших преданиях. Он служит живописной прелюдией к участию Улисса в Троянской войне, и у него есть продолжение — один из самых черных эпизодов в жизни итакского царя, правда, о нем опять же повествуют позднейшие предания, у Гомера этого эпизода нет. По одной версии, Улисс отомстил своему разоблачителю, прибегнув к подлому трюку. Он подбросил в шатер Паламеда золото и подложное письмо, якобы присланное троянцами, и обвинил его в измене. Греки поверили Улиссу и побили Паламеда камнями. По другой, не столь затейливой версии, Улисс и его друг Диомед зазвали Паламеда на рыбную ловлю и утопили.
В повествовании Гомера об осаде Трои часто видим Диомеда рядом с Улиссом. Мы читаем, как они, проникнув ночью в лагерь противника, берут в плен троянского лазутчика, допрашивают его и убивают, а добытые ими сведения помогают грекам выиграть важную битву. Затем Улисс еще дважды пробирается в тылы троянцев, даже в самый город Трою. Сначала для того, чтобы опознать спрятанный среди нескольких копий настоящий палладий — деревянную статую, вероятно, служившую троянцам своего рода тотемом. Существовало поверье, что Трою нельзя захватить, покуда эта статуя в сохранности. Улисс сумел высмотреть подлинник и при повторной вылазке — опять же вместе с Диомедом — выкрал его.
Рисуя Улисса храбрым и жестоким, Гомер подчеркивает, что человек, чьи речи «как снежная вьюга из уст устремлялись», был также весьма полезен грекам при ведении переговоров. Именно в этом качестве совершает он два коротких путешествия, которые, возможно, имеют какое-то отношение к сюжетам «Одиссеи», хотя мы узнаем о них из поздних мифов, а не из поэмы Гомера. В начале кампании, когда греки собирали свой плот, Улисс отправился на остров Скирос в Эгейском море, чтобы привлечь к участию в походе великого героя Ахилла. Позже, уже во время самой кампании, Улисс прибывает на Скирос, чтобы привезти под Трою сына Ахилла, Неоптолема. Независимо от того, сколько раз Улисс посетил остров Скирос (повторы нередки у сказителей), нам интересно, что Скирос был промежуточной станцией на том самом маршруте, по которому, согласно «Одиссее», следовал Улисс, возвращаясь в Итаку.
Стало быть, он хорошо знал острова и навигационные условия в этой части Эгейского моря.
Что до деревянного коня — хитрость, которую приписывают Улиссу и которая, несомненно, явилась его самым впечатляющим вкладом в кампанию, — то ученые до сих пор не смогли удовлетворительно объяснить, что этот конь представлял собой на самом деле.
Согласно легенде, его построили лучшие греческие плотники. Коня поставили перед воротами Трои, и шесть человек, в том числе Улисс и Менелай, спрятались внутри него, а остальное войско село на корабли, которые ушли в море, создавая впечатление, будто осада снята. Троянцы вышли из своих укреплений и стали обсуждать, как поступить с деревянным конем. Одни предлагали сжечь его, другие — отвезти в город в качестве трофея. В конце концов коня втащили в Трою, для чего пришлось разломать часть городской стены. Елена заподозрила неладное и стала ходить вокруг коня, выкликая имена засевших в нем греков голосами их жен. Однако Улисс и Менелай запретили своим товарищам откликаться. Ночью, когда троянцы праздновали мнимую победу и гарнизон забыл о бдительности, греческие воины выбрались наружу, разложили большой костер, давая знать, чтобы флот возвращался, и открыли городские ворота атакующим. Троя подверглась разграблению, причем Улисс, согласно позднейшим преданиям, и тут поступил в соответствии со своим нравом. Во время тайных вылазок в Трою ему помогал троянец по имени Антенор, и при штурме города Улисс проследил за тем, чтобы его помощник не пострадал. Однако после взятия Трои, когда победители решали, как поступить с побежденными, вновь проявилась свойственная Улиссу жестокость. Он настоял на казни последнего уцелевшего внука троянского царя Приама, чтобы не осталось ни одного возможного претендента на трон.
Таков он — «герой» Улисс. Гомеровский персонаж был находчив, эгоистичен и хвастлив, но все же заслуживал скорее восхищение, чем хулу. Со временем легенды о нем множились, достоинства его принижались, и он был очернен почти до неузнаваемости. Я говорил себе, что в этом кроется урок, зовущий нас быть настороже. Возможно, такому же обращению подверглась повесть о скитаниях Улисса. Возможно, изначальный сказ самого Гомера тоже был искажен до неузнаваемости позднейшими сказителями и переписчиками. Я надеялся, что смогу выяснить, где кончается правда и начинается ложь, опираясь на оригинальную гомеровскую трактовку, отбросив последующие толкования и призвав на помощь данные современной археологии. Логика подсказывала, что надлежит стартовать в самой Трое, чтобы выяснить, что нам может дать история открытия подлинного местонахождения гомеровского «крепкостенного Илиона».
Глава 2. Троя
Хакки, турецкий корабел старой школы, заботливо присматривал за моей галерой на ее зимней квартире. Отремонтировал шпангоуты, которые потрескались во время летнего перехода в Грузию, смазывал льняным маслом обшивку из алеппской сосны, защищая ее от морозов. Сверх того, он выстругал из крепкого турецкого дуба два новых рулевых весла и укрепил их бронзовыми шплинтами, поскольку оба прежних сломались в Черном море, а после починки опять сломались. Парус мы тоже заменили. Его предшественник сопрел от черноморской влаги и совершенно износился. Новый парус был сшит вручную из полотна и украшен портретом древнего аристократа — сильно увеличенной копией изображения на некогда украшавшем кубок во дворце царя Нестора маленьком, золотом с эмалью медальоне. Его нашли во время раскопок археологи; теперь он экспонируется в Национальном музее в Афинах. Я посчитал, что команде «Арго» пристало плавать под надзором современника Улисса.
Команда была вполне интернациональной. При выходе из Стамбула она состояла из пяти ирландцев, четырех англичан, двух турок, одного американца и одного сирийца. Некоторые члены группы, которая вместе со мной прошла по следам Ясона — загребной Марк Ричардс, мой тогдашний помощник Питер Уилер, ирландский рыбак Кормак О’Коннор и Питер Уоррен, — обещали выбрать время для участия на каком-либо из дальнейших этапов. По ходу плавания, когда одни присоединялись к нам, другие уходили, исчерпав запас свободного времени, на разных этапах в команду вливались австралийский моряк торгового флота, английский счетовод, турецкий студент, бывший греческий пилот гражданской авиации, болгарский журналист. Англичанин, работавший в одном из государств на берегах Персидского залива, получив краткосрочный отпуск, попросил принять его в нашу компанию «на два-три дня». Жизнь на борту «Арго» так пришлась ему по душе, что он покинул нас через три недели, когда оставалось времени лишь на то, чтобы срочно вылететь в Лондон, откуда другой самолет должен был доставить его к месту работы. Мы так и не смогли выяснить, сумел ли он в Англии вырвать несколько дней, чтобы навестить ожидавшую его семью.
Корабел Хакки так гордился своим заданием присматривать за «Арго», что с нескрываемой грустью прощался с нами, когда мы покинули водную станцию и взяли курс на европейский берег, чтобы забрать кое-какие припасы. Здесь два члена команды — оба ирландцы — решили совершить небольшую экскурсию. Я предупредил их, что мы отчаливаем в 10.00, и они побрели в город. Ровно в десять, не дождавшись экскурсантов, я приказал отдать концы, оставив на берегу незадачливых гуляк. Явившись на пирс, они с ужасом обнаружили, что мы ушли, увезя их одежду, деньги и документы. С великим трудом уговорили они капитана турецкого рыболовного судна взять их на борт и пуститься вдогонку за галерой, которая при попутном ветре и благоприятном течении быстро удалялась от Золотого Рога. В конце концов отставшие догнали нас, но это обошлось им в изрядную сумму наличными, востребованную турецким капитаном, не говоря о страхе, которого они натерпелись. С того раза никто не опаздывал к отплытию.
Прибывая на нашу галеру, новички быстро втягивались в повседневный ритм судовой службы. На ночь мы бросали якорь в небольших портах или тихих бухтах и, подобно нашим предшественникам в бронзовом веке, устраивались спать на берегу. На рассвете скатывали спальные мешки и гребли на шлюпке к «Арго», чтобы пораньше поднять якорь и выйти в путь, завтракая уже в море купленными накануне фруктами и хлебом. При попутном ветре особых усилий от нас не требовалось, разве что непосвященные должны были осваивать работу сдвоенными рулевыми веслами: тому, кто привык управлять современной яхтой, было непривычно рулить в противоположную сторону. На галеру таких размеров полагалось двадцать гребцов, нас же было всего тринадцать, долго на веслах не пройдешь. И мы придумали вспомогательное устройство: крепили к деревянному брусу запасной подвесной мотор от шлюпки и свешивали за борт. При полном штиле этот мотор-на-палке работал превосходно, однако я опасался, что в шторм наша необычная конструкция себя не оправдает, к тому же сильные волны могли ее повредить. Последующие события подтвердили обоснованность моих тревог; пока же мы лихо мчались вперед и всего за пять дней бодрящего хода с попутным ветром прошли от Стамбула до Трои. Серьезные усилия понадобились только для приведения в порядок кожаных ремней для весел. Чтобы смягчить задубелую кожу, мы смазывали ремни бараньим жиром и энергично разминали их на планшире. Когда восемь полуголых мужчин, сидя под ярким солнцем лицом к планширю, тянули взад-вперед ремни, их вполне можно было принять за группу накачивающих мышцы фанатиков атлетизма.
Наконец якорь «Арго» зарылся в песчаное дно маленькой бухты Энтепе на южном берегу Дарданелл, по соседству с Троей, и я сразу почувствовал, что задуманное мной исследование не так-то просто провести: сегодня Улисс не узнал бы здешнюю береговую линию. Залив у симпатичной турецкой деревушки Энтепе — ближайшая к Трое удобная якорная стоянка для галеры, но и отсюда добрых три часа пешего хода до развалин, тогда как во времена Улисса весь греческий флот, насчитывавший, если верить сказаниям, до тысячи кораблей, пристал к берегу около самого города. В 1977 году отряд американских и турецких геоморфологов пробурил скважины на отделяющей теперь руины Трои от Дарданелл равнине четырехкилометровой ширины. Выяснилось, что, когда город впервые был основан около шести тысяч лет назад, он располагался на берегах врезанного в глубь суши широкого мелкого залива. От северных городских ворот вел откос прямо к удобному для швартовки месту. Однако протекающие около Трои реки Скамандр и Симоис несут столько ила и гравия, что постепенно закупорили бухту. Ко времени прихода флота Агамемнона ее площадь уже заметно уменьшилась, и город начинался почти в километре от уреза воды. Ныне, спустя еще три тысячи лет, заиливание возросло за счет осушения берегов, и турецкие крестьяне выращивают бобы, хлопчатник и пшеницу там, где некогда Улисс и его спутники покрывали свежей смолой корпуса своих кораблей, готовясь вновь спустить их на воду и выйти в долгий путь на родину.
Чтобы убедиться, как сильно все тут изменилось, совсем не обязательно бурить скважины. Достаточно сравнить новейшие навигационные карты Дарданелл с первыми точными инструментальными съемками побережья, произведенными сто лет назад. Расхождение огромно. Сегодня Троянский залив — соленая лагуна, где даже плоскодонному ялику трудно пробираться между песчаными и гравийными барами, а береговая линия продолжает теснить море. Ирригационные работы выпрямили излучины и меандры Симоиса и Скамандра. Как ни странно, меня это вовсе не обескуражило, напротив: совершающиеся ныне перемены помогают представить себе изменения, происходившие в древности. На южном берегу Дарданелл перед Троей наблюдается процесс заиливания и прироста суши, продолжающийся со времен Троянской войны. Конечно, буровые скважины и пробы грунта позволяют с научной точностью определить простирание древней бухты в разные периоды. Но и визуальных наблюдений на месте, дополненных сравнением новейших и первоначальных карт, довольно, чтобы представить себе, как преображалось побережье со времен великой осады. Необходимость считаться с такого рода переменами сыграла решающую роль в дальнейших наших исследованиях, когда мы сходили на берег там, где обитали одноглазые циклопы и чудовище Харибда, мифический страж опасного водоворота.
Карта прошлого века, которой я пользовался у Трои для сопоставлений, была составлена британскими ВМС в 1872 году. Вообще в последовавшие четыре месяца старые карты адмиралтейства оказались просто незаменимыми. Наряду с нашим «Арго» они явились важнейшими орудиями для географической конкретизации «Одиссеи». Без них мы не смогли бы вписать в реальный контекст возможные пути скитаний Улисса. Неожиданно для меня оказалось, что в практических изысканиях я прежде всего буду в долгу не перед именитыми археологами, открывшими Трою, а перед безвестной массой военных специалистов, чертежников и скромных гребцов, снабдивших меня эффективными средствами для исследования тайн гомеровской географии. Это были люди той поры, когда ВМС Англии почитались главным картографическим ведомством в мире, и они так хорошо потрудились, что немногие современные карты уединенных уголков Средиземноморья превосходят их продукцию по точности и качеству исполнения. Около пятидесяти лет флотские гидрографы и топографы вели съемки и чертили кроки, взбирались на горы для установки триангуляционных вышек, бороздили на гребных лодках заливы, производи бесчисленные промеры глубин свинцовым лотом, карабкались на одиночные скалы, чтобы определить их точные координаты, расспрашивали местных рыбаков, выясняя, как они называют различные участки береговой полосы, замеряли приливно-отливные и другие течения, добывали образцы грунта. Все данные аккуратно заносились в справочники, известные под названием «Наставления для плавания», и находили отражение в тщательно начерченных от руки картах, которые Гидрографическая служба ВМС переносила на изумительно гравированные стальные пластины, служившие затем для размножения печатных карт. Среди отважных и преданных своему делу гидрографов один сыграл для нас ключевую роль; я говорю о капитане с забавной фамилией Спрэт, наводящей на мысли о шпротах.
Томас Эйбел Бримэйдж Спрэт был типичным ученым-моряком викторианской эпохи. Его отцом был герой Трафальгара, знаменитый хромой капитан Джеймс Спрэт, который, зажав в зубах абордажную саблю, бросился в море с борта «Дифайенса», подплыл к французскому 74-пушечному кораблю «Эгл» и в одиночку пошел на абордаж. Проникнув через транцевое окно внутрь корабля, он выбрался на палубу юта и один схватился с многочисленной командой. Убил двух врагов, в борьбе с третьим скатился на главную палубу, добил и этого, но и сам был серьезно ранен. Его спасло от смерти появление абордажного отряда с «Дифайенса», однако храбрость капитана Спрэта стоила ему карьеры. Ранение сделало его колченогим, и Джеймс Спрэт, уйдя в отставку, поселился в Тинмуте, где прославился как пловец на длинные дистанции.
Именно в Тинмуте родился в 1811 году Томас и в возрасте шестнадцати лет, естественно, был записан в ВМС своим бесстрашным отцом. Однако в ту пору ощущался дефицит на морские битвы, и в 1832 году Томас Спрэт отплыл в Средиземное море на гидрографическом судне «Мастифф». Последующие тридцать восемь лет он занимался съемками средиземноморских берегов, стал авторитетом в области картографии и дослужился до звания вице-адмирала. Показательно, что заодно он стал страстным собирателем древностей. Когда археологи всерьез приступили к поискам Трои, в их распоряжении была так называемая «Карта Спрэта», детальнейший план окрестностей древнего города, который Томас Спрэт, будучи еще гардемарином, летом 1839 года начертил вместе с одним немецким профессором древней истории, пользуясь тем, что британские корабли бросили якорь недалеко от Трои. Все три великих археолога, копавших Трою, — Генрих Шлиман, Вильгельм Дерпфельд и Карл Блеген (вскоре мы еще встретимся с ними) — пользовались «Картой Спрэта», и я посчитал примечательным совпадением, что в задуманном нами исследовании географического фона «Одиссеи» нам предстояло положиться на труд того самого картографа, чье мастерство способствовало открытию Трои. Я говорил себе, что нельзя придумать лучшей иллюстрации непреходящего очарования нераскрытых тайн гомеровских поэм. Но если археологам труды Спрэта и его товарищей по флоту служили подспорьем на суше, то мы на «Арго» собирались пользоваться ими в море, для чего они, собственно, и предназначались.
Лоцманы и рыбаки района Дарданелл расскажут вам, что ветер в проливе 250 дней в году дует с севера на юг. В ту же сторону направлено течение, соединяющее Мраморное море с Эгейским. Его скорость достигает трех узлов, и для корабля бронзового века было немыслимо идти против ветра и течения. Я убедился, что нам на редкость повезло в прошлом году, когда мы шли по следам Ясона и его аргонавтов из Эгейского моря в Мраморное. В тот раз нам благоприятствовал столь редкий здесь южный ветер, увлекая «Арго» вперед по поверхности моря со скоростью шесть-семь узлов, хотя берега уходили назад наполовину медленнее, потому что вода-то текла в противоположную сторону. Нечастые южные ветры и встречное течение во многом определили выбор места для основания Трои. Древним судам приходилось по много дней стоять у южного входа в Дарданеллы, выжидая, когда перемена ветра позволит продолжать путь. В районе временной стоянки устраивались импровизированные рынки, налаживался обмен товарами — и появился город. Некоторые историки полагают, что гаванью служил тогда не исчезнувший ныне просторный залив, а бухта Бесика, расположенная за мысом дальше к югу. Однако они не учитывают сильное течение в Дарданеллах, которое, разветвляясь по выходе из пролива, затрудняло движение судов, идущих на север из Эгейского моря. Наиболее мощная ветвь направлена как раз в сторону бухты Бесика, так что войти туда на веслах и под парусом совсем не просто. Уж, наверное, опытные древние кормчие предпочитали избранный также Ясоном и аргонавтами северный маршрут в обход острова, известного теперь под названием Гокчеда. Естественно было, бросив якорь в большом заливе, надежно защищенном от неблагоприятных ветров и течений, занять идеальную позицию, чтобы воспользоваться первыми же дуновениями ниспосланного богами южного ветра, который позволял покинуть стоянку и идти галсами вверх по Дарданеллам.
Второй урок, которому меня научила Троя, связан с знаменитой историей долгого и успешного в конечном счете поиска этого полумифического города. Главная заслуга в «открытии» Трои принадлежит Генриху Шлиману. Состоятельный коммерсант, он занялся археологией, твердо уверенный, что в основе «Илиады» и «Одиссеи» лежат подлинные факты, хотя большинство ученых специалистов считали обе поэмы чистым вымыслом. Движимый наивным романтическим убеждением и наделенный к тому же поразительной энергией, Шлиман, не жалея средств и здоровья, приступил к поиску реальных свидетельств того, что Агамемнон, Менелай, Нестор, Улисс и прочие герои действительно жили на свете. Сначала он на Ионических островах (где мы еще встретимся с ним) искал места, связанные у Гомера с возвращением Улисса на родину, а в 1870 году начал копать Трою и вскоре ошеломил специалистов, обнаружив остатки легендарного города на холме Гиссарлык (что означает «крепость, дворец»). «Найти» Трою Шлиману помогло эффективное сочетание логики, интуиции, уверенности в себе и широкое заимствование идей предшественников, которые до него прочесывали этот район в поисках неуловимого города. Он преуспел там, где потерпели неудачу куда более ученые мужи, преуспел не столько даже потому, что верил в Трою, сколько потому, что учитывал все содержащиеся в поэмах Гомера ключи в комплексе, не отдавая предпочтение лишь какому-то одному.
Ключом, который вводил в заблуждение большинство предыдущих исследователей, была весьма примечательная топографическая деталь, упоминаемая Гомером: наличие у Трои горячих и холодных источников. В 1785 году французский ученый Шуазель-Гуфье заявил, что нашел горячие источники у деревушки Бунарбаши (в пяти километрах к югу от настоящей Трои). Рядом с источниками возвышался холм, увенчанный древней цитаделью. Многие путешественники затем посещали это место, не сомневаясь, что именно здесь помещалась Троя, и находя все новые детали, по видимости согласующиеся с текстами Гомера. Однако они ошибались. Главным изъяном их заключения было то, что указанный пункт расположен слишком далеко от рек Скамандр и Симоне, которые, по словам того же Гомера, протекали около города. Чтобы точно определить, где находилась Троя, требовалось сочетание нескольких примет, включая взаимное расположение источников, рек, гавани, береговой полосы. Нерушимо веря, что Троя во всем должна отвечать описанию в «Илиаде», Шлиман отверг ложный ключ, стал искать в других местах и нашел то, что другие проглядели. Урок для нас: для привязки мест, описанных в «Одиссее», в каждом случае стараться выявить ряд согласующихся признаков, не доверяясь единичным приметам.
Романтическая вера Шлимана в реальную основу гомеровских поэм была вознаграждена блестящим успехом, когда новообращенный археолог нашел Трою. Но особенно поразительно то, что для этого достаточно было организовать раскопки в точке, обозначенной крестиком на «Карте Спрэта». Через пять лет после открытия источников, ставших причиной всеобщего заблуждения, другой ученый путешественник определил местоположение древнегреческого города, который назвал «Новый Илион» в честь воспетой Гомером Трои. И когда гардемарин Спрэт составлял свою превосходную карту, он, явно по совету ученого немецкого коллеги, пометил это место крестиком и написал: «Илиум Новум?» Здесь сохранились развалины классических греческих строений, и на поверхности земли лежали черепки превосходящей их по древности керамики, однако прошло еще тридцать лет, прежде чем кому-либо пришло в голову зарыться в глубь холма, чтобы проверить, не находится ли под новой Троей более старая. Таковы обстоятельства, приведшие к открытию собственно Трои, и трудно назвать более яркий пример недооценки очевидного. Так что нам на борту «Арго» следовало помнить о необходимости принимать во внимание даже самые простые, напрашивающиеся в первую очередь объяснения.
Когда наконец была найдена Троя, появилась возможность судить о том, насколько реальный город отвечает тому, что говорит о нем Гомер. Тут энтузиазм Шлимана сбил его с верного пути. В ходе длившихся не один сезон сенсационных раскопок с участием вооруженных кирками сотен рабочих, отвозивших землю по проложенной для этого узкоколейке, он углубился в толщу холма Гиссарлык и вышел на развалины города, который объявил той самой Троей, что была разрушена войском Агамемнона. Найденные при этом доспехи Шлиман считал принадлежавшими троянцам из «Илиады», и он не сомневался, что ювелирные изделия из золота украшали саму царицу Елену. Однако на этот раз ошибался Шлиман. Он зарылся слишком глубоко и обнаружил город, намного более древний, чем Гомерова Троя. Ошибку суждено было выявить второму великому археологу, работавшему на Гиссарлыке, Вильгельму Дерпфельду. Этого молодого, но опытного специалиста Шлиман умыкнул с раскопок в Олимпии, что в самой Греции. Новый помощник проявил себя усердным и серьезным исследователем. Он скоро указал азартному любителю Шлиману на его ошибку, и когда в 1894 году тот умер, Дерпфельд продолжил его дело и раскопал крепость, во всем отвечающую описанию Гомера. Широкие улицы и отличные дома были обнесены искусно выложенной стеной с прочными воротами и сторожевыми башнями, и датировка руин подходила ко времени осады. Достаточно было толики фантазии, чтобы представить себе троянских часовых, наблюдающих с крепостной стены костры осадившего город греческого войска. И Дерпфельд авторитетно заявил, что речь идет о подлинной, гомеровской Трое.
Однако и он заблуждался. Правда, некоторые гомероведы по-прежнему утверждают, что Троя Дерпфельда, получившая название Троя VI, поскольку она оказалась шестым раскопанным в этом месте городом, и есть та, которую подразумевал Гомер. Но большинство теперь склоняется к признанию открытий третьего и последнего великого руководителя раскопок Трои — американского археолога Карла Блегена, определившего лежащую выше Трою VIIa как ту, что подверглась осаде и разграблению во времена Троянской войны. Доводы Блегена носят сугубо специальный характер, они основаны на тщательном изучении керамики, сопоставлении с близкими по датировке городищами Греции, учетом датировок по Египту и Анатолии, а также на том факте, что замечательные стены Трои Дерпфельда, похоже, были разрушены не вражеским войском, а землетрясением. Тогда как Троя VIIa, утверждал Блеген, действительно разгромлена людьми.
Но вот что примечательно: хотя реальная Троя, будь то Дерпфельда или Блегена, несомненно, существовала там, где начинал раскопки Шлиман, она отнюдь не такой огромный город, какой рисует нам Гомер. Когда я впервые обходил развалины, первое, что поразило меня, — малые размеры Трои. Средняя ширина городской территории не превышает пятисот метров; за неполных десять минут можно не спеша пройти по кругу вдоль древних стен. Деревушка, да и только, а между тем эпическое повествование Гомера создает впечатление кишащего людьми огромного города с дворцами троянского царя и каждого из его сыновей, с городскими площадями, местами собраний, храмами в честь разных богов, а также, надо думать, лавками, жилыми домами, складами, конюшнями и другими постройками. Один ученый дал себе труд подсчитать, что если верить Гомеру, то в Трое могло поместиться до 50 тысяч человек. Однако Троя VI слишком мала для такой цифры, не говоря уже о Трое VIIa, убогом маленьком селении, где в самых жалких условиях могло ютиться от силы несколько сот жителей. Троя VIIa была отнюдь не прочной цитаделью; решительно настроенный враг мог в два счета захватить ее и разграбить. Не было никакой нужды в десятилетней осаде и в тысяче кораблей — да и откуда при тогдашних ресурсах взялись бы материалы и люди на такую армаду.
Не увидел я и чего-либо похожего на грозную твердыню, какой Гомер изображает Трою. Увенчанный ею холм возвышается всего метров на 30 над окружающей равниной; не столько холм, сколько бугор. Даже в те дни, когда воды залива подступали совсем близко к основанию городских стен, вряд ли крепость производила внушительное впечатление. Тем не менее воображение рисовало здесь грандиозный город с господствующими над равниной высоченными бастионами. Гомер и другие барды не были сознательными лжецами — они описывали эти места как поэты. Магия их слов превратила маленькую крепость в могучую цитадель и даровала ей нетленную славу. Воздадим должное поэтическому воображению, однако для нас тут крылось еще одно предупреждение. Если Гомер так преувеличил размеры и великолепие Трои, разве не мог он, украшая свое повествование, использовать тот же прием в «Одиссее», описывая места, которые посетил Улисс?
Перед нами пример одного из основных правил эпического творчества: автор эпоса не умаляет достоинства главных персонажей и масштабы арен, где развертывается действие. Напротив, люди у него становятся полубогами, ничем не примечательные места приобретают внушительные размеры. И обходя вокруг развалин Трои, я уразумел, что при поиске мест, описанных в «Одиссее», нам следует постоянно помнить о законах эпоса. Во избежание ошибок, допущенных первыми искателями Трои, которых сбили с толку горячие источники и внушительная цитадель на скале у Бунарбаши, мы должны весьма подозрительно относиться к объектам, отвечающим величественной или устрашающей картине, нарисованной поэтом. И наоборот: предельно внимательно присматриваться к пунктам, которые могли остаться незамеченными именно из-за малых масштабов, как у самой Трои. Наша задача — попытаться судить об увиденном, вооружась гиперболизирующим воображением поэта. Больше того: открытие Трои в толще земли под Новым Илионом на «Карте Спрэта» говорило о том, что мы вполне можем обнаружить у себя под носом места действия «Одиссеи».
Три археолога — Шлиман, Дерпфельд и Блеген — осаждали Трою куда дольше и даже агрессивнее, чем греческое войско. Шестьдесят девять лет они рыли, раскапывали, изучали, спорили о находках и снова копали, так что ныне Троя больше всего похожа на громадную свалку. Под милосердным покровом травы с веселыми кляксами красного мака и растущих прямо из древнего камня диких фиговых деревьев таятся траншеи и рытвины, ямы и кучи мусора. Помятые металлические указатели пытаются помочь экскурсантам разобраться в обстановке, сообщая, которая из груд битого камня или обросшей травой земли относится к тому или иному горизонту Трои. Городище смахивает на искромсанные остатки торта после свадебного пира. Самые внушительные руины представляют Дерпфельдову Трою VI, и пусть даже речь идет не о «настоящей» Трое, они ближе всего к облику города, каким его воображал себе Гомер.
Без воображения и теперь не обойтись, чтобы представить себе начало увековеченного поэтом несчастливого плавания. Великая осада завершилась. Клубы дыма над хаотичным нагромождением опаленных руин свидетельствуют, что вражеский город подвергся разорению. Его защитники либо убиты, либо — живая добыча — ждут, закованные в цепи, как обернется их судьба. Каждый победитель получает долю согласно своему рангу. Пленники мужского пола станут в Греции рабами, женщин обрекут на самые тяжелые домашние работы, наиболее миловидных ждет роль наложниц. Как ни парадоксально, первейшая среди женщин разоренного города, та самая, чья неверность явилась причиной войны и побоища, возвратится домой с почетом и полным комфортом. Вероломная царица Елена, похищение которой чужеземцами вызвало конфликт, воссоединяется с супругом и готова вновь занять место в своем дворце в Спарте. Десять лет (по словам поэта) ожесточенных боев принесли желанный результат, захватчики не зря пересекали море, и теперь греческое войско готовится отбыть из Трои домой.
Греки — точнее, ахейцы, как их обычно называет Гомер, — намеревались совершить обратный путь таким же порядком, каким пришли под Трою, в составе могучей армады, собранной десятью годами раньше для тщательно подготовленного честолюбивыми воителями похода. В армаде были представлены все области Греции, включая острова, и во главе каждого отряда стоял свой военачальник. Больше всего кораблей привели предводители соединенного войска: муж Елены — спартанский царь Менелай, владения которого находились на юго-востоке южного полуострова Греции — Пелопоннеса, и его брат, царь Агамемнон (от величественной столицы его царства, также расположенного на Пелопоннесе, — Микен — получила свое имя Микенская цивилизация). Царем царей в этом союзе можно считать Агамемнона, снарядившего сто кораблей, тогда как самые маленькие отряды насчитывали около полутора десятков судов, предоставленных небогатыми мелкими общинами. Но начальники этих отрядов тоже участвовали в большом совете, который собрался, чтобы обсудить вопросы, связанные с возвращением на родину. Разгорелась жаркая дискуссия. Не обошлось без споров из-за раздела добычи. Кое-кто был недоволен, считая себя обделенным. Были также заботы, связанные с плохим состоянием кораблей. От времени и скверного ухода прогнили корпуса судов и сопрели канаты. Возникли разногласия относительно наиболее безопасных путей обратного плавания. Одни хотели идти прямо через Эгейское море от Трои на побережье Малой Азии до прибрежных островов Греции. Другие предпочитали менее рискованный маршрут, предлагали следовать вдоль берега на юг до точки, отделенной кратчайшим расстоянием от Греции. Согласованного решения принять не удалось. Еще во время осады между членами союза шли бесконечные споры и раздоры. Теперь же победа возымела обычное центробежное действие: победители грызлись между собой, и союз разваливался.
В конце концов армада разделилась на два главных отряда. Наиболее нетерпеливые во главе с Менелаем взяли курс на юг вдоль побережья Малой Азии, с тем чтобы возможно дольше идти от острова к острову. Второй отряд, руководимый Агамемноном, задержался под Троей. Очень странно повела себя одна маленькая группа, насчитывавшая всего двенадцать кораблей. Сначала она пошла вместе с отрядом Менелая, однако менее чем через сутки, дойдя до острова Тенедос, повернула кругом и воссоединилась с эскадрой Агамемнона. После чего вдруг снова отделилась и направилась совсем в другую сторону — на северо-запад.
Всякий, кто с кораблей Агамемнона наблюдал, как двенадцать судов скрываются за горизонтом, зная, что ими командует Улисс, мог представить себе его замысел. О нем было хорошо известно, что он своей выгоды не упустит, и сам Улисс хвастливо именовал себя грабителем городов. Он явно отправился на поиски того, что позднейшие поколения военных назовут выгодными целями. Где немного поторговать, а где и пограбить, если жители приморья слабы или не готовы дать отпор. Изо всех участников греческой армады маленькому отряду Улисса предстояло совершить наиболее долгое плавание по пути домой. И было вполне естественно попытаться приумножить свою добычу, добавить что-нибудь к троянским трофеям.
Однако вышло иначе. Ни одному из кораблей честолюбивого флотоводца не было суждено вернуться домой. Все шестьсот воинов и моряков, не считая пленников и прочих, погибли; лишь командир отряда уцелел. Только ему довелось вновь увидеть свою родину и поведать чудеса о виденных им землях.
Ныне, 3 тысячи лет спустя, мы задумали проверить, сохранилось ли хоть одно материальное свидетельство, позволяющее определить, что правда и что ложь в его рассказе. Нам предстояло, основываясь на истории Улисса, пройти по предполагаемым следам его двенадцати кораблей, которые отделились от армады и взяли курс на северо-запад. Где-то на зеркале Средиземного моря нам могли встретиться отражения мира, описанного подлинным Улиссом.
Глава 3. Грабитель городов
— Масла! Еще оливкового масла для рулевых весел! — звучал веселый призыв членов команды, обращенный к стоящему на носу Назыму, который сегодня дежурил на камбузе. Дежурил всем на радость, ибо хотя официально Назым числился у нас фотографом, он оказался еще подлинным артистом в кулинарии.
Рецепты его родной сирийской кухни преображали рис, овощи и чечевицу в аппетитнейшие блюда, так что остальные члены команды весьма охотно помогали ему мыть, чистить и резать. Ростом чуть больше полутора метров, сухощавый, с огромными темными печальными глазами под навесом черных густых бровей, с щетиной на щеках и лихо повязанным пестрым платком на голове, Назым походил на миниатюрного пирата-бербера. Нарочито вращая глазами, он сверкнул белозубой улыбкой из-под усов и нырнул под переднюю гребную банку, где хранилась наша провизия. И вот уже из рук в руки передается на корму жирная фляга с оливковым маслом.
— Держи! — сказал мне судовой врач Джон. — Подарок для Улисса.
Наливая в кружку масла, чтобы смазать им кожаный ремень, которым крепилось одно из рулевых весел, я думал о том, какая пестрая команда собралась на борту «Арго». С Назымом я познакомился в Бахрейне, где он работал фотографом в министерстве информации. Джона мне порекомендовал как великого любителя морских путешествий врач, ходивший со мной на «Арго» в прошлом году, и Джон проявил себя отличным помощником капитана. Американец Рик отыскал меня осенью прошлого года, когда я был гостем Национального географического общества в Вашингтоне, и попросил взять его простым матросом. Услышав, что прежде он был вертолетчиком, я не очень хорошо представлял себе, как его квалификация может пригодиться на борту копии галеры бронзового века. Однако я зря беспокоился. Рик оказался мастером на все руки; он одинаково умело справлялся и с плотницкой работой, и с различными снастями, и с надувной лодкой. Когда нужно было что-то фотографировать, Назым, сидя со своими камерами, вертел головой над бортом, словно любопытная белка.
У меня было намечено плыть по следам Улисса под парусом, а не на веслах. Читая «Одиссею», я обратил внимание на то, что Улисс и его люди редко прибегали к веслам, возвращаясь из Трои. Как и все здравомыслящие мореплаватели, они предпочитали идти с попутным ветром, сидя на банках и управляя парусами, чем стирать ладони и натруживать мышцы рук и спины тяжелыми веслами. Их галеры, подобные «Арго», но, вероятно, более крупные (не двадцати-, а пятидесятивесельные) были рассчитаны для плавания как на веслах, так и под парусом, однако при дальних переходах они сильно зависели от попутных ветров и могли неделями ждать благоприятной погоды. Царь Менелай, направившись домой, двадцать дней простоял у песчаного островка, потому что за все это время, как сообщает Гомер, «ни разу с берега не подул благосклонный отплытию ветер, спутник желанный пловцам по хребту многоводного моря».
Зависимость древних от попутного ветра помогает нам определить, когда Улисс покинул Трою. У Гомера не сказано, в каком именно месяце капитаны двенадцати кораблей ионийского отряда подняли паруса, но мы праве предположить, что это было летом, когда не так часты сильные бури. Не будем также забывать, что в движение пришел весь греческий флот, старые и новые корабли, с тяжелым грузом добычи и множеством пленников обоих полов, а потому особенно уязвимые для стихий. Их устраивали только самые безопасные месяцы — с июня по октябрь, а перед тем мог состояться весенний штурм Трои. Поэт гомеровской эпохи Гесиод призывал осмотрительного мореплавателя спускать на воду свой корабль не раньше конца июня, а через пятьдесят дней снова вытаскивать на берег, да еще нагрузить изрядным количеством гальки, чтобы его не унесли ревущие зимние ветры.
Возможно, капитаны Улисса не заходили в своей осторожности так далеко, как сельский труженик Гесиод, с великим недоверием относившийся к морю. Все же вряд ли мы ошибемся, представив себе двенадцать кораблей Улисса выходящими на веслах из большого залива у Трои ранним утром июньского или одного из первых июльских дней. С утра пораньше потому, что рабочий день плывущих на галере подчинен логическому распорядку. Лучше всего встать на заре и, взявшись за весла, по утреннему холодку покинуть надежную стоянку до восхода солнца, пока еще не жарко. Как только первое дыхание бриза наморщит морскую гладь, поднимаешь рей с пришнурованным к нему парусом, затем отпускаешь крепящие парус лини. Прямоугольное полотнище спадает наподобие оконной шторы, ловит бриз, хлопает два-три раза и наполняется ветром. Члены команды живо выбирают шкоты, регулируя давление ветра на парус, и закрепляют их на деревянных штырях. После чего гребцы с облегчением поднимают на борт длинные весла и укладывают их вдоль корпуса, а сами, в роли живого балласта, размещаются на банках так, чтобы судно ровно скользило по воде. Можно расслабиться и поболтать друг с другом, пока рулевой отсчитывает береговые ориентиры и чутко следит за поведением ветра, внимательно наблюдая за облаками и за барашками вдали, сулящими перемену погоды. Еще не наступил вечер, а рулевой уже прощупывает взглядом берег, подыскивая место для ночной стоянки, потому что когда стемнеет, плыть тоже можно, однако рискованно и просто опасно. После заката береговую линию не различишь и не рассмотришь издали пенных бурунов, выдающих коварные рифы. О надвигающейся буре предупреждают лишь размытые контуры темных облаков или — еще более тревожный знак — сильный береговой ветер. Обрушившись на флотилию, он погонит длинные узкие открытые суда в открытое море, и люди будут лихорадочно вычерпывать воду, готовясь к самому худшему. Пусть даже ветер утихнет, все равно еще неизвестно, хватит ли сил догрести обратно до берега, а и догребут — встретят ли их приветливые и доброжелательные племена или люди враждебные и жестокие, которые обойдутся с уставшими моряками как с прибитой волнами законной добычей.
Следует постоянно помнить, что в бронзовом веке мореплавание было чрезвычайно опасным делом, и галеры продвигались с великой осторожностью. Они прижимались к берегу, совершая броски от стоянки к стоянке, или же использовали многочисленные острова Эгейского моря как ступеньки на пути к цели. С большой командой теснота на борту не давала толком поспать. На узкой банке не разляжешься, так что команда нуждалась в береге, чтобы как следует отдохнуть и приготовить пищу; похоже, что заниматься этим на борту моряки избегали, то ли опасаясь поджечь корабль, то ли потому, что ограниченное пространство не позволяло варить на всю команду. Провиант состоял из зерна в кожаных мешках, которое толкли на муку для выпечки хлеба, и плотно закупоренных сосудов с вином и водой; вино перед употреблением разбавляли. На каждой стоянке не упускали случая пополнить припасы; горе тому пастуху, чьи овцы или коровы паслись поблизости от берега, где приставали мореплаватели. Они беззастенчиво крали скот, тут же резали и съедали лучших барашков, а остальную добычу связывали и втискивали под гребные банки.
Выходя на веслах из залива, корабли Улисса оставили позади низкие холмы Трои, чьи темные контуры смутно выделялись на фоне туманного массива горного плато внутри страны. Справа от гребцов тянулся мыс, позднее названный Кумкале. Ученые по-прежнему спорят — существовали ли во времена Улисса курганы, венчающие гребень этого мыса. В наши дни их видно куда лучше самой Трои. Особенно приметен курган, который принято называть «Могила Ахилла» (рядом — «Могила Патрокла»), и Александр Великий посетил его, воздавая почести героям Трои. Более осторожные современные исследователи полагают, что в этом кургане захоронен прах царя, жившего несколькими столетиями позже Троянской войны.
Стоя на корме у двойного рулевого весла, кормчий должен был верно рассчитать курс, учитывая критические минуты, когда судно выходило в Дарданеллы с их мощным течением. По гребням волн ему надлежало определить, где в это утро течение сильнее, и выбрать момент, когда ставить парус и командовать гребцам, чтобы смещались к правому борту, противодействуя крену под напором северного ветра. И вот уже подхваченная ветром галера стремительно выходит на просторы Эгейского моря. Ветер гонит ее вперед по темно-синей воде, и волны хлестко разбиваются о тонкие доски деревянного корпуса. Флотилия покинула Троянский залив, корабли идут домой.
Умело проложенный курс проводил двенадцать небольших судов по диагонали через устье пролива и в обход противоположного мыса, где невысокий утес и два маленьких пляжа обозначают оконечность Херсонеса — длинной горбатой полоски суши, известной позднейшим поколениям как Галлипольский полуостров. Отсюда, окаймляя тихий Саросский залив, сперва на север, потом на запад тянется низменный берег с приземистыми утесами и чередой холмов, который замыкают желтые скалы Гриме на подступах к известным нерестящейся на них отменной камбалой песчаным отмелям в устье пограничной между Грецией и Турцией реки Еврос (Марины). С Херсонесом связывают эпизод, типичный для прикрас, добавленных со временем к версии Гомера. Дескать, царица Гекуба, вдова троянского царя Приама, досталась при дележе добычи Улиссу. Когда его корабли шли вдоль берегов Херсонеса, Улисс остановился во владениях бывшего союзника троянцев, царя Полиместора. Узнав, что этот царь вероломно убил одного из ее сыновей, Гекуба заманила его в свой шатер, выколола ему глаза и умертвила его детей. Когда же корабли двинулись дальше, она превратилась в черного пса с горящими глазами и бросилась в море. Впоследствии мореплаватели, проходя мимо этих берегов, показывали ее могилу.
Из этой истории мало можно извлечь сверх того, что знакомство с перечнем союзников Трои в ее борьбе против греков показывает: многие из них прибыли из области Фракия, примыкающей с севера к Эгейскому морю. Так что не случайно флотилия Улисса направилась в эту сторону. Перед нами волчья стая, уповающая на легкую добычу в лице, например, какого-нибудь небольшого города, который неосмотрительно ослабил собственную оборону, послав своих людей на помощь защитникам Трои.
— Обрати внимание на маршрут Улисса на этом участке, — сказал я нашему боцману Теодору, который присоединился к нам у греческого острова Тасос.
Мое первое знакомство с Теодором состоялось в Грузии, куда он пришел на болгарской яхте, чтобы приветствовать «Арго» по случаю завершения экспедиции «Ясон». Я пригласил его участвовать в нашем плавании по следам Улисса, и вот теперь, на шестой день этого плавания, зашла речь о смысле маршрута нашем «Арго» после выхода из Трои. Первый отрезок пути, описанный в «Одиссее», — единственный, который совершенно ясен, и он вполне отвечал нраву Улисса, человека осторожного, но и не упускающего благоприятного случая. Пойдя по северному пути, он отделился от главных сил греков и обеспечил себе свободу рыскать по своему усмотрению, ни с кем не деля награбленное. Но, повторю, Улисс был осмотрительный мореплаватель. Северный маршрут был не менее безопасным, чем избранный главными силами, ибо проходил вдоль берегов Эгейского мора сперва на запад, потом до Пелопоннеса на крайнем юге Греции.
— С точки зрения мореплавателя, — продолжал я, — дорога на родину, которую выбрал Улисс, даже надежнее маршрута, избранного Агамемноном и Менелаем.
Теодор усмехнулся.
— Про воинов, которые осели в этом районе, когда возвращались из Трои, рассказывают множество мифов и историй. Кстати, полагают, что моя собственная фамилия — Троев — указывает на связь с ними. Возможно, это всего-навсего фамильная легенда, но я захватил немного доброго фракийского вина, чтобы отметить прибытие «Арго» во Фракию. И на случай, если дальше нам встретятся циклопы.
Вино, о котором говорил Теодор, составило главную часть добычи Улисса во время его опустошительного набега на Помар, город киконов на побережье Фракии. В «Одиссее» Улисс не скрывает, что им руководили разбойные мотивы:
Набег Улисса на киконов — типичный пример тогдашней тактики булавочных уколов: внезапное нападение с моря на мирный город, истребление мужского населения, грабежи и под конец — пьяное празднование победы, во время которого побежденные собираются с силами, получают подкрепление и организуют контратаку, нанося врагу ощутимые потери и заставляя его уйти. Улисс поступил разумно, призвав своих людей немедля уходить, как только они поделили добычу. Показательно, однако, что его не очень-то слушались. Мы еще увидим, как снова и снова строптивость, даже бунтарское поведение людей Улисса приводили к беде. В «Одиссее» Улисс выглядит отнюдь не таким удачливым военачальником, каким его рисует «Илиада». На пути домой не раз проявится его неспособность поддерживать дисциплину на кораблях. Он упрашивал и увещевал своих людей, угрожал и умасливал. Но они либо не слушали Улисса, либо нагло противились его приказам. Ему не доверяли; так ведь и его неумелое руководство вело к тому, что они попадали в засады и переделки, стоившие им жизни. Перед нами какой-то сброд, шайка флибустьеров, каждый капитан и воин поступает, как ему заблагорассудится, не больно-то подчиняясь бездарному командиру флотилии. Впечатление далеко не «героическое», зато вполне реалистичное, отражающее подлинную суть.
К счастью для себя, Улисс, разоряя Исмар, сохранил жизнь жрецу Аполлона, по имени Марон, и его супруги, за что Марон не поскупился на подарки, включая превосходное вино, которым славилась эта местность. Известное своей крепостью исмарское вино было погружено на корабль Улисса и увезено. Теодор недаром напомнил, какую роль оно сыграло при встрече Улисса с людоедом Циклопом: вино спасло жизнь и командиру флотилии, и — во всяком случае, на время — многим его сопутникам.
— А где все-таки находился город киконов Исмар? — спросил я Теодора. — Археологам удалось установить его местоположение?
Перед тем как присоединиться к нам, Теодор консультировался с болгарскими и греческими учеными относительно поселений бронзового века на фракийском побережье.
— Киконы жили между реками Еврос и Нестос, — ответил он. — Их упоминают и авторы послегомеровской поры. Но насчет точного местонахождения Исмара уверенности нет. Скорее всего, он помещался где-то поблизости от города, который по-прежнему носит имя Марония в честь жреца Марона. Правда, кое-кто из историков считает, что Исмар следует искать дальше от моря. Во-первых, с того времени сама береговая линия изменилась, во-вторых, тогда многие города размещали вдали от берега, опасаясь пиратов вроде Улисса.
«Арго» получил в дар фракийское вино, когда мы подошли к Тасосу. Местные жители устроили прием в честь нашей команды, и, войдя на веслах в гавань, мы увидели на набережной уставленные угощением столы. Каждому члену команды был вручен завернутый в кусок рыболовной сети подарок в виде набора главных продуктов острова: бутылочки анисовки, маленького глиняного сосуда, банки местного меда и бутылки знаменитого черного тасосского вина.
— После доблестного мореплавателя Ясона, как вам нравится плыть по следам коварного Улисса? — осведомился мэр Тасоса. — Будем надеяться, что вы превзойдете его хитростью и вам не понадобится десять лет, чтобы добраться до его родины!
Вот еще одно широко распространенное и чреватое серьезными заблуждениями неверное толкование «Одиссеи». У Гомера сказано, что Улисс девятнадцать лет не был дома в «морем объятой Итаке» и вернулся, когда пошел двадцатый год его отсутствия. Но если, внимательно изучая «Одиссею», суммировать все морские этапы, включая участки без географической привязки, само плавание свободно умещается в один сезон. Большую часть времени Улисс провел на суше, притом, как правило, весьма комфортабельно: семь лет с прекрасной и любвеобильной нимфой Калипсо, целый год в обществе обольстительной волшебницы Цирцеи (Кирки). Анализируя маршрут Улисса, видишь не девятнадцать и даже не девять — после вычета десятилетней осады Трои — лет плавания, а всего несколько месяцев, если не десяток-полтора недель, проведенных собственно в море. Путешествие «Арго» отнюдь не опровергло факты, приводимые Гомером, напротив, оно подтвердило, что указанные сроки прекрасно вписываются в географию микенского мира.
Тасос явился таким же логичным портом захода для нас, каким он был для древних мореплавателей в этой части Эгейского моря. Остров часто описывают как сплошную глыбу мрамора; круто вздымаясь над морем, он был приметным ориентиром для любой флотилии, следовавшей вдоль довольно бесцветного фракийского побережья. Мореходы бронзового века пользовались визуальным методом, указателями им служили надежные ориентиры вроде крутых мысов, высоких вершин и островов с характерными очертаниями. Могучий массив Тасоса был отменным указателем поворота на маршруте Улисса: отсюда можно править прямо на возвышающийся над горизонтом самый крупный сухопутный ориентир в северной части Эгейского моря — гору Афон (2033 м). При попутном ветре мореплаватель может весь день держать ее в поле зрения, идет ли он от Тасоса прямо на юг, или на восток к Дарданеллам кратчайшим путем мимо острова Лемнос, или на запад, в обход трех длинных языков полуострова Халкидика. За Халкидикой Афон в роли ориентира сменяют снега горы Олимп, на белый пик которой и следует править вплоть до греческого материка.
Когда мы в конце мая пошли от Тасоса на юг, нам благоприятствовали преобладающие северные ветры. Парус «Арго» легко увлекал галеру вперед, и могучая вершина Афона вздымалась над горизонтом сначала справа от нас, потом почти точно за кормой. Проходя совсем близко от обрывающихся в море крутых склонов, мы рассмотрели пустые глазницы окон полузаброшенных монастырей. Омывающее скалистый полуостров течение не только ощущалось — мы видели его, видели на серой поверхности моря плывущие рядом клочья грязной пены и подпрыгивающие куски пластика. Прямо по курсу, пока еще за горизонтом, находились острова Северные Спорады. Чтобы выйти на них, от нас требовалось всего лишь принимать с кормы устойчивый северный ветер и держать макушку Афона на одной прямой с изогнутым по-скорпионьему ахтерштевнем нашей галеры.
В этот день подножие Афона было окутано бурой пеленой загрязненной дымки, и на расстоянии десяти миль очертания горы казались смазанными. Насколько же отчетливее и эффектнее, сказал я себе, должен был смотреться Афон три тысячи лет назад, когда свободный от продуктов деятельности современного человека воздух был несравненно чище. Наверное, в ту пору возможности глазомерного плавания намного превосходили нынешние. Мы можем лишь догадываться, с какого расстояния мореплаватели могли в прозрачном, чистом воздухе распознать характерные приметы далекой суши. Теперь в очень редких случаях, когда над Эгейским морем застаиваются большие объемы холодного воздуха, возникают условия, при которых над горизонтом отчетливо различаются объекты, удаленные на тридцать-сорок миль. Во времена Улисса рулевой мог видеть очередной ориентир раньше, чем за кормой исчезал из поля зрения предыдущий.
В отличие от нас, Улиссу на его пути через северную часть Эгейского моря не повезло с погодой. Задержавшись у Исмара столько, сколько понадобилось, чтобы почтить траурным ритуалом память семидесяти двух жертв неудачного набега, сыны Итаки снова вышли в море на своих двенадцати кораблях и сразу попали в жестокую переделку:
Это описание шторма выглядит очень правдоподобно. Возникла та самая ситуация, которой страшился каждый опытный кормчий бронзового века: штормовой ветер рвет непрочные паруса и нещадно треплет легкое суденышко. Болтающийся рей опасен, он лишает галеру устойчивости, его необходимо спустить, развернув вдоль и осторожно потравливая фал, чтобы команда могла поймать и крепко держать болтающееся смешение дерева и рваной парусины, прихватить лоскуты штертами и наконец, уложив рей на палубу, закрепить его, чтобы не перекатывался между бортами, грозя кого-нибудь пришибить. Вой ветра, гул моря, внезапный крен галеры под ударами волн — все это должно было внушать смертельный страх мореплавателям. Кормчий, самый важный член команды в критическую минуту, силится править так, чтобы судно сохраняло какой-то минимум хода. Галера должна идти под острым углом к волне, иначе ее опрокинет. После того, как убраны рей и, вероятно, короткая мачта, члены команды берутся за весла и пытаются грести, отчаянно сражаясь с бурными валами, чтобы лопасти не шлепали впустую по неровной поверхности моря.
В прошлом году нечто в этом роде выпало в Черном море на нашу долю, так что мы знали, каково это, когда тебя кидает из стороны в сторону, ты хватаешься за что попало и набиваешь себе синяки, между бортами со стуком катаются разные предметы, и трюмная вода плещется все выше по мере того, как галеру орошают брызги, а то и захлестывает волна. Единственная разница между нами и незадачливыми сопутниками Улисса заключалась в том, что в Черном море я постановил уходить от берега, чтобы вдали от суднодробительных скал выждать, когда стихнет ветер, осмотреть корпус и снасти, проделать неотложный ремонт и наконец тащиться обратно, тогда как капитаны Улисса посчитали за лучшее грести к берегу в поисках защищенной якорной стоянки, пока шторм не пустил корабли на дно. Долгому, выматывающему душу противоборству с штормовым морем они предпочли рискованный подход к берегу. Возможно, их суда за время долгой осады изрядно обветшали без ухода и просто не выдержали бы длительного избиения волнами. А может быть, их гребцы превосходили умением команду «Арго», которая никак не могла наладить греблю в штормовую погоду, когда вода то гладила верхнюю доску обшивки, то оказывалась так далеко внизу, что не достать веслом. Как бы то ни было, рассказ Гомера о буре в Эгейском море верно передает испытания, выпавшие на долю флотилии Улисса: ужасающе опасная обстановка на море, управление судном в критической ситуации. Словом, описание шторма вполне соответствует истине; перед нами не плод фантазии, а реальные суда с переживающими тяжелые мучения реальными моряками.
Где именно натерпевшиеся страха мореходы на потрепанных судах нашли укрытие и провели «два дня и две ночи, в силах своих изнуренные, с тяжкой печалию сердца», не установлено. Приморская область Греции, древняя Манесия, не располагает надежными гаванями, где можно укрыться от северного шторма, то же относится к суровым берегам острова Эвбея, который из-за его величины нередко воспринимается как часть материка. Лучшее убежище могли предоставить лежавшие прямо по курсу флотилии Спорады, особенно подветренный берег Скироса; здешние стоянки могли быть известны Улиссу по прежним заходам за Ахиллом и Неоптолемом. Во всяком случае, его двенадцати кораблям повезло. Основным силам флота во главе с Агамемноном, с которыми он расстался в Трое, пришлось куда тяжелее. Идя через Эгейское море по диагонали более рискованным путем, они тоже попали в шторм. Ветер погнал корабли на скалистые берега Эвбеи; некоторые из них уцелели, но многие были разбиты в щепки о скалы мыса Гераст на крайнем юге острова, и команды погибли. Предание сообщает, что один из капитанов, Аякс, сумел уцепиться за камни и, радуясь своему спасению, громкими криками похвалялся, что сумел обмануть судьбу. Однако бог морей Посейдон, разгневанный его хвастовством, обрушил утес. Аякс снова упал в беснующийся прибой и утонул.
Гибель части флота Агамемнона — яркий пример жестокой действительности, присущей мореплаванию бронзового века: если древние галеры настигал сильный шторм, гребцам недоставало сил, чтобы уйти от беды. Они были так же беспомощны, как влекомая ветром пушинка, и шторм прибивал их к ближайшему наветренному берегу. При удаче гребцы, лихорадочно налегая на весла, могли, подобно людям Улисса, завести судно в тихий уголок за каким-нибудь мысом или же пересечь направление ветра и лечь на более безопасный курс. Но тем и ограничивались их возможности. Они не могли ни грести против ветра, ни удерживать судно на одном месте. Мы на «Арго» познали на горьком опыте, что даже умеренный ветер сильнее команды гребцов и что галера — игрушка в руках стихии.
Шторм, обрушившийся в Эгейском море на Улисса, через два дня утих: «Третий нам день привела светлозарнокудрявая Эос; мачты устроив и снова подняв паруса, на суда мы сели; они понеслись, повинуясь кормилу и ветру». Маленькая флотилия вновь продолжает путь не на веслах, а под парусами; и выбранный командами маршрут, несомненно, тот же, каким по сей день следуют направляющиеся к югу парусные суда.
Ключевую роль тут играет пролив Кафирефс, где уцелевшие суда Агамемнона пытались отвернуть в сторону от мыса Гераст. Пролив разделяет острова Эвбея и Андрос, и сама природа здесь благоприятствует кораблям, идущим на юг. Большая глубина, хорошие сухопутные ориентиры по обе стороны и, главное, мощное течение, влекущее судно вперед даже при слабом ветре. Что до нашего «Арго», то преобладающий северный ветер еще прибавил в трубе между островами, и мы резво помчались через просвет. Маленькая двадцативесельная галера вела себя отменно, лихо перемахивая почти с предельной скоростью через длинную череду волн, громоздящихся на стремнине. На каждом гребне она норовисто подпрыгивала, кренясь, и совокупный вес мачты, рея и паруса нажимал на пяртнерс с такой силой, что весь корпус кряхтел и содрогался. Как раз в эти минуты я попросил передать мне оливкового масла — очень уж велика была нагрузка на двойное рулевое весло. Глядя через борт, я видел, как лопасти вибрируют под натиском стремительного потока воды. Напор был так силен, что прежняя смазка выступала на поверхности кожаных ремней каплями жирного пота. А без хорошей смазки рулевые весла застревают и вполне могут сломаться, если галера вдруг круто рыскнет.
Недостатки такелажа ставили предел скорости, какую могли развивать древние суда. Мореплаватели располагали малонадежными веревками из ремней или грубого волокна, парусами из хлопчатобумажной или льняной ткани. Металл был так дорог, что его в конструкциях использовали очень редко, а то и вовсе не применяли. Капитанам постоянно приходилось быть начеку: внезапная поломка могла стать пагубной для корабля. При идеальной погоде — умеренный фордевинд или бакштаг с не слишком крутой волной — галера могла проходить шесть-семь миль в час, как это делал «Арго» в проливе Кафирефс. Но как только сила ветра и волн превосходила прочность веревок, паруса и рея, следовало спешить в укрытие и ждать — когда по несколько дней, а когда и недели. Существенной роли это не играло. Моряки предпочитали один день идеального хода с предельной скоростью преодолению той же дистанции в несколько приемов. Так что в древности галеры продвигались рывками; впечатляющие стомильные однодневные переходы чередовались с долгими периодами ожидания. Очевидно, именно такой распорядок «постояли-поехали» определял движение Улисса и его флотилии, а не равномерный ход день за днем, какой представляется многим комментаторам.
Развалистый рваный бег «Арго» через пролив Кафирефс вызвал у бедняги Назыма острейший приступ морской болезни. Свернувшись в клубок, с закрытыми глазами он уныло лежал на скомканном парусном мешке, смахивая на несчастную зверушку. Мы особенно сочувствовали ему потому, что накануне вечером, когда «Арго» стоял на якоре в заливе у Скироса, Назым приготовил из овощей, риса и рыбы бесподобное блюдо, приправленное лимонным соком, однако сам отведал лишь малую толику, наперед зная, что не удержит съеденное.
Рыбу поймал Дерри, самый молодой член нашей основной команды. Открытое лицо, невинные голубые глаза и мягкий ирландский акцент сделали Дерри мишенью подковырок, которые он воспринимал с неисчерпаемым добродушием и спокойной широкой улыбкой. В Стамбуле я пополнил снаряжение «Арго» легкой рыболовной сетью, поскольку хотел проверить, могла ли команда галеры в долгом плавании кормиться за счет улова. Дерри неосторожно проговорился, что дома однажды помогал ставить сети на лосося в устье Шаннона, и мы тотчас назначили его нашим штатным рыболовом, а один турецкий эксперт объяснил, как пользоваться новой сетью. Скудные уловы Дерри быстро внесли ясность, почему в древних текстах так мало говорится о рыбной ловле для пропитания. Каждый вечер, когда «Арго» бросал якорь, он ставил нашу сеть в каком-нибудь подходящем месте поблизости от галеры. На рассвете Дерри спешил извлечь из воды добычу, пока нас не опередили какие-нибудь хищники. Итоги всегда были мизерными — несколько мелких рыбешек, один-два угря. И не меньше двух часов уходило у него на то, чтобы выпутать рыбешек из ячеи, отцепить судорожно вцепившихся в сеть креветок, отделить водоросли, умертвить ударами камня ядовитых морских ершей, чьи останки отправлялись за борт. Даже с учетом сильного истощения запасов рыбы в Средиземном море, которое отчасти компенсировалось совершенством нашей нейлоновой сети, было очевидно, что рыбная ловля вряд ли могла удовлетворить потребности голодной команды древней галеры. Кулинарных способностей Назыма едва доставало на то, чтобы, используя жалкие уловы, придать блюдам легкий привкус рыбы.
После пролива Кафирефс следующим нашим навигационным знаком был самый знаменитый ориентир во всей Греции — обрывистый мыс Сунион на краю Аттики, в двадцати пяти милях к югу от Афин. Ныне мыс увенчан руинами большого храма Посейдона, чьи мраморные колонны подобны светящимся столбам медового цвета, когда заходящее солнце окутывает побережье Аттики багровыми сумерками. Храм построен в V веке до н. э. на месте, которое почиталось священным уже в ту пору, когда флот Менелая проходил мимо Суниона, следуя укатанным путем на родину.
Здесь умер главный кормщик царя, Фронтис, и в «Одиссее» старый царь Нестор вспоминает его внезапную кончину:
Трудно назвать более подходящее место для упокоения великого мореплавателя. Мыс Сунион — последний поворотный пункт для всех судов, следующих домой в Аттику с севера и востока. Он закрыт до поры напоминающим формой кинжал островом Макронисос, но, обогнув остров, команда вдруг видит перед собой Сунион и понимает, что до дома рукой подать. И всякий моряк, знающий связанные с этим побережьем предания, вспомнит великого кормщика Фронтиса.
Когда «Арго» подошел к Суниону, сила ветра упала почти до нуля. Идущее встречным курсом почтенное патрульное судно греческих ВМС приветствовало нас; за ним показался другой корабль, и я поспешил передать бинокль Теодору.
— Погляди-ка — это не болгарский флаг?
Теодор уставился в бинокль.
— Точно! И, похоже, судно направляется домой в Варну.
— Интересно, что там думает его команда, — продолжал я, — увидев вдруг у мыса Сунион галеру бронзового века. Должно быть, решили, что им снится сон.
— А вот я их разбужу! — рассмеялся Теодор. — Можно мне воспользоваться рацией?
Я вручил ему маленький приемопередатчик, настроенный на частоту «корабль-корабль». Тем временем болгары изменили курс, чтобы взглянуть на нас поближе. Можно представить себе, как они были поражены, когда радио в рулевой рубке вдруг заговорило по-болгарски. Последовала долгая пауза, пока их радист приходил в себя от изумления. Теодор повторил вызов. Пауза продолжалась; наконец радист нерешительно отозвался. Лукаво улыбаясь, Теодор заговорил с ним, чеканя каждое слово. Окончив разговор, он вернул мне рацию и рассмеялся.
— Здорово мы их озадачили! Радист до того опешил, что мне пришлось дважды повторять каждое слово. Никак не мог взять в толк, каким образом на древнегреческой галере оказался болгарин. Но обещал передать моим родным, что на «Арго» все в порядке.
Видимо, и в Эгейском море мгновенно распространяется молва: когда 11 июля мы подошли к острову Спеца, нас уже ждали. Вассилис следил за нашим продвижением — тот самый неулыбчивый и скупой на слова гений кораблестроения Вассилис Делимитрос, который полтора года назад построил наш «Арго» в своей развалюхе-мастерской на берегу Старой гавани на Спеце. Когда я, обогнув маяк, направил галеру в столь памятный залив, у меня было такое чувство, словно «Арго» возвращается домой. Ничего не изменилось: то же скопище современных крейсерских яхт у пирса; пестрая череда стапелей с судами, подлежащими ремонту; пришвартованный носом к пристани неказистый паром с опущенными сходнями; вереница причалов. Казалось, никто не обратил внимания на тихо скользящую по воде галеру. Команда уже готовилась швартоваться, в это время от одной из пристаней отвалила моторная лодка и помчалась курсом прямо на нас.
— Все в порядке, мистер Тим? Вассилис ждет вас! — крикнул, восторженно махая рукой, человек в желтой фуфайке.
Это был Мимас, помощник Вассилиса.
«Арго» покрыл последнюю сотню метров. Глядя на сарайчик на скале, я улыбнулся: на одном конце крыши красовался греческий флаг, на другом — большой ирландский вымпел. Вассилис вывесил приветственные сигналы. А вот и он сам стоит на конце шаткого пирса — прямой коротыш с вьющимися седыми волосами, в старых джинсах и поношенном синем свитере, руки сложены на груди, голова чуть наклонена набок, чтобы лучше видеть, как его творение грациозно подходит к причалу. Я знал, что сейчас Вассилис проверяет взглядом состояние галеры, как она слушается руля, оценивает все детали своего шедевра. Ведь он не видел «Арго» с тех самых пор, как пятнадцать месяцев назад галера покинула остров, направляясь в Черное море.
— Отдать кормовой якорь!
Послышался громкий всплеск: Дерри выполнил команду. Мимас уже принял и закрепил носовой швартов. Мы поставили «Арго» боком к причалу, и я поспешил сойти на берег, чтобы поздороваться с Вассилисом.
— Привет, Вассилис! Как дела? Как он тебе нравится? — Я указал на «Арго». — У нас полный порядок. Галера в отличном состоянии.
Он крепко пожал мне руку, не в силах говорить от волнения, наконец вымолвил:
— Добро пожаловать, капитан. Сегодня гостишь у меня?
Но, конечно же, больше всего Вассилису не терпелось осмотреть «Арго». Он вложил всю душу в строительство галеры, использовал приемы древних корабелов, соединяя доски при помощи сотен шипов и гнезд. Опираясь на многолетний опыт деревянного судостроения, Вассилис трудился с таким знанием дела и упорством, что справился с задачей за неполных шесть месяцев, хотя специалисты предупреждали меня, что понадобится не один год. Больше того: они подразумевали, что на строительстве будет занята бригада корабелов, а Вассилис работал один, только Мимас помогал ему, поднося материалы и подавая инструмент.
Как только завершился приветственный ритуал и Вассилис посчитал, что приличия соблюдены, он приступил к осмотру. По его команде Мимас сбегал за небольшим молотком, и Вассилис пошел вдоль судна от банки к банке, простукивал каждый шпангоут. Тук, тук, тук — отдавалось в обшивке. Дойдя до кормы, он повернулся и зашагал обратно ко мне.
— Этот, этот, этот! — объявил он, касаясь на ходу трех шпангоутов. — Вот эти заменены.
Вассилис был прав. По одному лишь звуку он сразу распознал шпангоуты, которые отремонтировал турецкий корабел Хакки в Стамбуле.
На другое утро я попросил команду полностью разгрузить «Арго», чтобы Вассилис мог проверить все до самого киля.
— Он в полном порядке, — заверял я его. — Все в порядке. Только мачта разболталась в пяртнерсе, хорошо бы ты ее укрепил. А так ничего серьезного. Судно в прекрасном состоянии.
Вассилис фыркнул.
— Почему турецкий плотник ремонтировал шпангоуты? — ревниво осведомился он, заботясь о своем творении, будто мать о любимом отпрыске.
— Шпангоуты треснули не в море, а на стапелях в Волосе перед началом экспедиции «Ясон», — поспешил я объяснить. — Брус был плохого качества.
— Знаю, — мрачно отозвался Вассилис. — Если бы поставщик прислал мне то, что я заказывал, такого не случилось бы.
Мне оставалось только гадать, какие разговоры происходили между ним и поставщиком…
— Все равно, я не стал бы ремонтировать так, как это сделал турецкий плотник, — добавил Вассилис.
К счастью, я не первый день был знаком с ним, знал его гордый, независимый нрав.
— Все в порядке, Вассилис, поверь мне. Я уверен, что шпангоуты не подведут нас на маршруте Одиссея. Ты только не волнуйся.
Он крякнул.
— Ладно, коли что не заладится, шли телеграмму, и я прибуду в любое место, исправлю, что надо. Но когда будешь ставить галеру на консервацию на зиму, свяжись со мной, прежде чем выбирать человека, чтобы присматривал за ней.
Глава 4. Лотофаги
«Мы невредимо бы в милую землю отцов возвратились, / Если б волнение моря и сила Борея не сбили / Нас, обходящих Малею, с пути, отдалив от Киферы». Одной этой фразой Гомер запросто выводит Улисса и его флотилию за пределы известной карты. Куда направилась флотилия? Где скитался Улисс, пока вдруг не появился дома в Итаке, рассказывая небылицы об одноглазых чудовищах, о волшебнице, превратившей его людей в свиней, и о мирных лотофагах, питавшихся наркотиком? Мыс Малея — последняя известная точка на его маршруте, последнее «обсервованное место» плаваний Улисса. Все же, используя приобретенное нами на «Арго» знание того, как и куда могли плыть галеры, мы можем сделать первый шаг к разгадке тайны, которая больше двух тысяч лет смущает умы комментаторов.
Мыс Малея пользовался и продолжает пользоваться дурной славой из-за сильных ветров и нагоняемых ими волн. Пелопоннес напоминает очертаниями коренной зуб, и мыс Малея находится в самом конце одного из корней. Для древних судов, прижимавшихся к берегу, Малея был опасным поворотным пунктом. Огибая его, хлипкие галеры должны были изменять курс почти на 300 градусов, и если в Эгейском море им благоприятствовал попутный ветер, то за мысом приходилось грести против встречного ветра. Если к тому же в это время его сила возрастала, их относило к острову Китира и дальше в открытое море. Мыс Малея был не только физическим, но и психологическим барьером. «Огибая Малею, забудь о доме», — гласила древняя греческая пословица, подразумевая, что пути назад могут быть отрезаны; и в «Одиссее» две флотилии попали здесь в переделку: двенадцать кораблей Улисса, чей путь мы теперь попробуем проследить, и возвращавшиеся в Спарту корабли Менелая. Согласно Гомеру, северный ветер гнал флотилию Менелая на юг до самого Крита, где буря выбросила несколько судов на берег.
Теперь мы знаем, почему у мыса Малея так часты штормы. Во многом это связано с атлантическими циклонами, которые, вторгаясь с запада в область Средиземного моря, рождают на всем его протяжении сильные ветры. Циклоны перемещаются по определенным линиям; несколько таких линий сходятся в проливе Китира перед самым мысом Малея, так что риск встретиться с циклоническими ветрами особенно велик в этой опасной точке, где огибающая выступ суши галера наиболее уязвима.
«Арго» подошел к Малее пополудни 24 июня, и я убедился, что этот район оправдывает свою дурную репутацию. Сразу за мысом дул свежий норд-ост и изрытое волнами море белело барашками. После недельной стоянки у Спецы галера была в отличном состоянии. Вассилис велел команде освободить судно и без помех тщательно осмотрел его. Он не нашел никаких изъянов и придумал остроумный способ укрепить пяртнерс, так что мачта больше не качалась и не подпрыгивала, грозя вырваться из степса. Со свежими силами, в бодром расположении духа мы направились вдоль побережья к югу в сторону Малеи, без труда выдерживая курс благодаря видным издалека надежным ориентирам — высоким горам Пелопоннеса. Но уже на подходе к мысу я заметил, насколько погода здесь переменчивей, чем в северной части Эгейского моря. Когда накануне утром мы покидали Спецу, царил почти полный штиль, однако в полдень внезапно подул свежий юго-восточный ветер, и я был только рад, что мы находились достаточно далеко от берега, чтобы лечь на безопасный курс и юркнуть в маленькую бухточку Иерака, где и укрылись на ночь.
Теперь ветер вновь повел себя непредсказуемо. Покинув на рассвете бухту, мы осторожно пошли вдоль берега на Малею — этакий серый горб с шишечкой на самом верху. Справа от нас выступал в море напоминающий Гибралтарскую скалу в миниатюре полуостров Монемвасия, последнее надежное укрытие перед Малеей. В бронзовом веке здесь находилось важное поселение, вероятно, основанное минойцами с Крита. Если отвлечься от картины современного города и разбросанных вдали за ним построек, вряд ли пейзаж заметно изменился за прошедшие с тех пор тысячелетия. Словно белое пятнышко плесени, высоко на сером склоне гористого полуострова Критика прилепилась Кастания — последнее селение в этом суровом, открытом всем ветрам краю. Дальше шли сплошь зубчатые серые скалы, угрюмые и бесплодные, если не считать редкие охристые мазки тонкого почвенного слоя. Еще одну — единственную — краску добавляли шероховатые заплаты темно-зеленого кустарника, в основном боярышника; да и они только подчеркивали серую неприветливость полуострова. После Кастании мы не увидели ни полей, ни оград, никаких признаков обитания, лишь кое-где резко очерченные контуры разрушенных сторожевых башен, с которых некогда караульные высматривали вражеские корабли. Длинное нелюдимое побережье неприязненно встречало идущую с севера от Малеи галеру. Уже через каких-нибудь пять миль мы очутились в беспокойных водах. Локальные течения и завихрения образовали идущие в разных направлениях крутые короткие волны, и морские птицы кружили и проносились над ними, высматривая рыбу. Внезапно поверхность воды разрезал гладкий темно-серый силуэт — это всплыл за воздухом дельфин, охотящийся за той же добычей, что птицы.
Я вел «Арго» чрезвычайно осторожно. От неприятной бортовой качки рулевые весла дергались, постанывая, в уключинах. Я вполне отдавал себе отчет в опасностях, подстерегающих галеру в проливе Китира. Мне вовсе не улыбалось по примеру Менелая или Улисса мчаться по воле стихий через Критское море. А потому мы загодя убрали пришнурованное снизу к главному парусу полотнище, сам же парус взяли на гитовы, подтянув его к рею, чтобы нас не застал врасплох внезапный порыв ветра. По мере сближения с Малеей мыс принимал все более причудливую форму. С севера он напоминал профиль злобного скорчившегося павиана: подбородок лежит на передних конечностях, мощные плечевые мышцы вздулись бугром над затылком, глаза под нависшим надбровьем устремлены на юг. Оконечность мыса напоминала торчащий кверху нос.
Из-за полуострова стремительно выплывали облака — верный знак того, что за мысом дует сильный ветер. Перевалив через гребень, эти небесные флаги начинали кружиться и петлять и разрывались в клочья. На всем участке моря между мысом и видневшимся вдали островом Китира заметно прибавилось барашков. Дело явно шло к шторму, сейчас выходить в пролив было слишком опасно, и я поспешил распорядиться об изменении курса, решив искать укрытие у самого мыса, хотя лоция не сулила там никаких убежищ. Дерри взялся за весло, чтобы развернуть «Арго». Частая волна затрудняла греблю, ветер тоже делал свое, и после третьей попытки мы сдались. Галера легла бортом к ветру, качаясь с боку на бок, и ее заметно сносило в открытое море. Наша команда насчитывала всего девять гребцов — слишком мало, чтобы справляться с пятитонным весом судна и груза. Между тем необходимость найти укрытие становилась все острее. Джон и Рик подтянули резиновую лодку, которая подпрыгивала на буксире за кормой, и мы превратили ее в аутриггер, соединив двумя веслами с галерой. Джон прыгнул в лодку, запустил подвесной мотор, и мы, используя совместную тягу паруса и мотора, пошли на сближение с берегом, с тревогой наблюдая за тем, как волны силятся опрокинуть лодчонку.
Примерно в миле к северу от мыса я заметил у самой воды что-то вроде маленькой часовенки. Повинуясь внутреннему голосу, направил туда «Арго» — и не напрасно: мы увидели мелкую бухточку, где другие мореплаватели в таких же обстоятельствах явно находили спасение от шторма, оттого и соорудили часовню, воздавая благодарение богам. Бухточка служила надежным убежищем только при вестовом ветре; в иных случаях она могла стать западней. Другой заливчик метрах в четырехстах от нашего сейчас находился как раз на пути нисходящего ветра. Срываясь вниз по склону полуострова, шквалы пенили поверх воды и уносили в море крутящиеся жгуты водяной пыли, рождая в воздухе маленькие ядовитые радуги, которые тут же рассыпались, когда создавший их вихрь спотыкался о прибой на рифе.
Мы отдали веером три якоря с кормы и двумя крепкими линями пришвартовали «Арго» к скалам на берегу. Но как ни крепко была привязана галера, налетающие сбоку шквалики дергали ее во все стороны, не давая покоя. Ветер шуршал сухими ветками боярышника и срывал листья с олеандров, укрытых в спускающемся к бухте ущелье. Там, где оно упиралось в пляж, мы у подножия низкой скалы обнаружили маленькое углубление с родником. Потревожив роскошную тучную лягушку, давно не видевшую людей, мы выудили из родника сухие ветки и предусмотрительно наполнили канистры, хорошо понимая, что если, не дай бог, нас отнесет в море, главной проблемой будет нехватка пресной воды.
Как вы помните, корабли Улисса были-таки отнесены в море буйным северным ветром: «…волнение моря и сила Борея… сбили нас, обходящих Малею, с пути, отдалив от Киферы». Описание Улисса вполне реалистично, и курс, которым шла флотилия, был продиктован здравым смыслом. Улисс подчеркивает, что направлялся за Китиру. Этот остров лежит прямо на юго-запад от Малеи; видимо, двенадцать кораблей Улисса отнесло к его восточным берегам. Можно представить себе, что галеры пытались зацепиться за якорную стоянку у острова, однако им это не удалось, после чего впереди простиралось лишь открытое море.
Где находилась «земля лотофагов» — первое из загадочных мест на пути Улисса? В поисках разгадки следует рассмотреть практические возможности реальных кораблей конца бронзового века. Прежде всего отметим, что корабли Улисса отнесло в открытое море не штормом, не «страшно ревущим Бореем», который едва не потопил флотилию в северной части Эгейского моря, порвав паруса и заставив грести к берегу в поисках укрытия. У мыса Малея, читаем в «Одиссее», галеры не справились с совокупным действием ветра, течения и волн. Уже приобретенный нами на «Арго» опыт свидетельствовал, что команда галеры бессильна при любом лобовом ветре силой свыше 4-х баллов. При сильной толчее у Малеи гребцы Улисса не могли завести корабли в укрытие или хотя бы подойти достаточно близко к берегу, чтобы отдать якоря.
Как же поступал в таких условиях капитан галеры? Если ветер не стихал, гребцы скоро выдыхались, да и морская болезнь, надо думать, делала свое. Так что у капитана не оставалось выбора: он поневоле должен был прибегнуть к оборонительной тактике в поединке с ветром и волнами, чтобы спасти судно и свести к минимуму нарушение своих планов. Развернув судно под наиболее безопасным углом к ветру, по диагонали к волнам, он опускал рей достаточно низко, чтобы умерить качку и давление ветра, но с таким расчетом, чтобы судно все-таки слушалось руля в необходимых для устойчивости пределах. При взятом на гитовы парусе ветер был уже не так страшен, и судно отлеживалось в контролируемом дрейфе, сравнительно спокойно всходя на волну и оставаясь в одном строю с другими кораблями флотилии. Так стая чаек отлеживается на поверхности моря в непогоду. Суда могли дрейфовать часами, а то и днями, если их не прибивало к берегу. К счастью для Улисса, его корабли «отдалило» от Китиры и унесло в открытое море. После чего оставалось только терпеливо пережидать сильный противный ветер, чтобы при перемене погоды сделать попытку вернуться на прежний курс.
Однако Улиссу не повезло с погодой. Девять дней злополучную флотилию не отпускала буря. Когда докапываешься до истины в «Одиссее», надлежит с великой осторожностью подходить ко всем цифрам, приводимым поэтом. Известно, как ненадежны цифры в эпосе. Они больше любой другой детали подвержены изменению или искажению, когда из-за намеренного преувеличения, когда из-за ошибки переписчика или оговорки певца. К тому же не обходится без приписываемого цифрам символического значения. Любопытно, как часто числа в гомеровской «Одиссее» оказываются кратными трем: флотилия насчитывает двенадцать кораблей, в Исмаре убито по шесть человек с каждого корабля, дрейф через Средиземное море после Малеи длится девять дней — и так далее на протяжении всей поэмы.
Но независимо от того, верна цифра девять дней или нет, мы должны исходить из скорости дрейфа, а не стремительной гонки кораблей, уходящих от шторма. Для этого у нас есть три основательных причины. Во-первых, Улисс и его капитаны знали, что их относит от намеченного пути. Подними они паруса, всякое увеличение скорости означало бы, что они только быстрее и дальше уйдут от Малеи. Люди Улисса задались целью как можно скорее добраться до родных мест, и лучшим способом умерить невезение было замедлить ход кораблей, чтобы их унесло не слишком далеко от суши. Поднимать паруса и поспешно уходить от намеченной цели не было никакого смысла. Во-вторых, необходимость все-таки ставить паруса возникла бы лишь при такой силе ветра, когда им ничего не оставалось, кроме как развернуться кормой к нему и уходить от шторма, чтобы огромные волны не захлестнули и не опрокинули галеры. Такая тактика известна всем водителям малых судов и применяется только в самом крайнем случае. У Гомера речь не идет о шторме. Судя по тому, что корабли держались вместе и вместе подошли к берегу в стране лотофагов, названная тактика вовсе не понадобилась. Попади они в сильный шторм, невозможно представить себе, чтобы двенадцать судов, девять дней уходящие от ветра в открытом море, смогли идти общим строем. Их разбросало бы в разные стороны, и, наверное, многие пошли бы ко дну. Между тем, по Гомеру выходит, что все корабли флотилии в полной сохранности вместе благополучно пристали к берегу. Люди вышли «на твердую землю», пополнили запасы пресной воды, что было вполне естественно после долгого пребывания в море, приготовили еду, и трое отправились на разведку в глубь страны.
Третье основание, дающее нам право предполагать, что суда Улисса дрейфовали, — специфический северный ветер, который рождает как раз такую обстановку, какую описывает Гомер. Речь идет о характерном для летнего сезона мелтеми: он возникает вдруг и может дуть не один день, нагоняя волну. Капитан Спрэт, начертивший карту Троянской равнины, наверное десятки раз познавал действие мелтеми, когда служил в Средиземном море, и он отмечает, что этот ветер «обычно рождается совершенно неожиданно, никакие тучи не предупреждают мореплавателя о его возникновении, и только опытные местные моряки догадываются, что последует, завидев, как некоторые вершины кутаются в облака. Его особенно страшатся из-за сильных шквалов с наветренной стороны гористых мест; моряки называют их „белыми шквалами“, потому что они налетают вдруг при совершенно безоблачном небе и по своему характеру подобны тайфунам, закручивая над поверхностью моря вихри водяной пыли».
Даже современные яхты спешат в укрытие, когда подует мелтеми, и портовая полиция запрещает малым судам выход в море, пока этот ветер не утихнет. Сила мелтеми варьируется от пяти до шести баллов; во второй половине дня она иной раз приближается к шторму, за ночь убывает, но утром ветер снова разгуливается вовсю. Бывает и так, что мелтеми дует с одинаковой силой несколько дней подряд, и если корабли Улисса попали в такую переделку, его флотилию могло унести через все Средиземное море. Подчеркну еще раз, что при мелтеми создаются условия, позволяющие галере отлеживаться в контролируемом дрейфе.
Путь Улисса от Малеи для меня очевиден. В Черном море в штормовую погоду я на борту «Арго» просчитал направление и скорость дрейфа галеры при ветре силой от четырех до семи баллов. За сутки «Арго» отнесло от берега примерно на тридцать миль; стало быть, средняя скорость снова была немногим больше одного узла. Скорость вполне безопасная, не грозящая выживанию избравших оборонительную тактику, и «Арго» вышел невредимым из этого испытания. Нет никаких оснований предполагать, что дрейф кораблей Улисса сложился иначе. За девять дней (если мы примем эту подозрительную цифру) флотилию отнесло на юг примерно на 270 миль; и на восьмой или девятый день обессиленные моряки с великим облегчением могли узреть на горизонте гористый берег. И естественно, направились к этому берегу, спеша пополнить запасы пресной воды. Край, в котором они очутились, мог быть только Северной Африкой с горами Эль-Джебель-эль-Ахдар (они же Зеленые горы). Скорее всего, флотилия подошла к северному выступу современной Ливии между Бенгази и заливом Бомба; эта историческая область известна под названием Киренаики.
Практически все ученые, исследовавшие в разное время географию «Одиссеи», сходятся во мнении, что гонимые ветром корабли Улисса пристали к берегу Северной Африки и там встретили лотофагов. Правда, большинство считает, что мореплаватели высадились не в Киренаики, а в пятистах с лишним милях дальше на запад, по другую сторону залива Сидра, в районе острова Джерба (или на самом острове), в нынешнем Тунисе. Они рассуждают так: флотилию девять дней сносило сильным ветром, а при таком ветре галера может за сутки покрыть от семидесяти до ста с лишним миль. Стало быть, корабли Улисса прошли не менее шестисот миль. Поскольку ширина Средиземного моря на участке между мысом Малея и Африкой всего 250 миль, флотилия, очевидно, шла по диагонали и, покрыв в общей сложности не менее 600 миль, очутилась у Джербы.
Эта гипотеза несостоятельна не только потому, что, как мы видели, у Улисса и его людей не было никаких причин уходить с большой скоростью все дальше от намеченного маршрута, но и потому, что ни один здравомыслящий капитан галеры бронзового века не избрал бы столь опасный при сильном ветре курс. Вариант, предлагаемый упомянутыми комментаторами, означает, что галеры шли бортом к ветру и волнам. Для легкого бескилевого судна, подверженного сильнейшей бортовой качке, такое положение было бы крайне неудобным, а то и просто опасным, поскольку чрезвычайно увеличивался риск опрокидывания, не говоря уже о том, что галеру могла потопить захлестнувшая ее волна. Если вспомнить, что речь идет о двенадцати судах с тяжелым грузом награбленной добычи, станет ясно, сколь нелогично предполагать, что такая флотилия прошла 600 миль крайне рискованным диагональным курсом.
Упускают из виду еще и то, что Джерба никак не могла привлечь мореплавателя бронзового века. Берега острова низкие и невыразительные, на двенадцать миль в море простираются песчаные бары и отмели, все побережье окаймляют лагуны и илистые банки, что весьма осложняет высадку. В мифе о золотом руне Ясон и его аргонавты попадают в переделку как раз у Джербы. Их большая галера прочно села на мель, аргонавтам пришлось искать пресную воду в глубине острова, они едва не погибли от жажды, и только вмешательство морского бога помогло им сняться с мели, используя скрытый под водой желоб. Мы видим резкий контраст с тем, как свободно подошел к суше Улисс. Итакским судам не препятствовали никакие бары или отмели, люди спокойно высадились на берег и без труда нашли пресную воду. Берег Киренаики удобен для швартовки, и в этом районе хватает пресных источников; не случайно именно здесь позднее были основаны первые греческие колонии.
Теперь представим себе сносимую ветром флотилию и капитанов, с тревогой следящих за тем, как с каждым днем убывают запасы пресной воды, и пытливо всматривающихся в горизонт в поисках земли. Внезапно показывается берег Киренаики. Еще раз подчеркну, что мореплаватели бронзового века водили суда, руководясь визуальным методом, и первым возвышенным местом, которое они могли увидеть, приблизившись к побережью Северной Африки, была шестисотметровая гряда Эль-Джебель-эль-Ахдар в Киренаике. Обнадеженные этим зрелищем, они направляют суда в ту сторону, высаживаются на незнакомом берегу, немедля пополняют запасы воды и, как сообщает Улисс, готовят себе обед на твердой земле. После чего, движимые непреходящим любопытством и, надо думать, рассчитывая на легкую поживу, разведчики отправляются внутрь страны и встречают странных местных жителей, которых Улисс называет лотофагами.
Кто были эти лотофаги? И что за удивительный плод «лотос» поверг греческих посланцев в такой транс, что они не пожелали возвращаться с собранными сведениями к своим кораблям, предпочитая остаться в чужом краю, так что пришлось силой возвращать их на галеры, связав, словно кур, предназначенных для продажи на рынке. Какие только растения ни называли исследователи. Одним из вероятных кандидатов был североафриканский гашиш, чье наркотическое действие вполне могло заставить моряков забыть о своей отчизне и плакать, когда наступило похмелье. Но гашиш добывают из конопли, которая не приносит «сладко-медвяных» плодов, и вряд ли местные жители питались гашишем. Высказывалось предположение, что речь идет о лотосе. Некоторые его разновидности и впрямь употреблялись в пищу в Египте. Однако лотос тоже не приносит плодов, о которых говорит Гомер. Еще один кандидат — финиковая пальма, известная своими сладкими плодами, но последующие греческие авторы четко различали финики и «лотос». Да и в самой «Одиссее» упоминается пальма (в позднейшем добавлении к тексту) без отожествления с «лотосом».
Лучше всего в контекст поэмы вписывается произрастающее в Северной Африке растение Ziziphus lotus. Речь идет о дереве, достигающем в высоту семи-восьми метров, с шершавой коричневой корой и маленькими желтоватыми цветками на колючих ветвях. Плоды темно-красные, величиной и формой напоминающие оливки, с продолговатой острой косточкой. Вкус плодов сладкий, слегка вяжущий; мякоть липкая. Арабы называют их сидр и говорят, что эти плоды «достойны зреть в небесах архангела Гавриила». В сушеном виде они составляли важную часть пищи полукочевых племен Северной Африки, а в Аравии из них приготовляли сладкие лепешки, для чего высушенные на солнце плоды измельчали, удаляя косточки, и смешивали с водой. Неясно, почему сидру приписывалось свойство лишать человека памяти.
Быть может, потому что из этих плодов можно приготовить хмельной напиток, и лазутчики Улисса чересчур налегли на него, посетив миролюбивых вегетарианцев-лотофагов.
Я собирался зайти в Ливию на «Арго» хотя бы для того, чтобы отыскать и попробовать «лотос». Однако трудности с получением виз обрекли этот замысел на провал. Неоднократные обращения по почте и телефону в ливийские народные бюро в различных столицах Европы вообще оставались безответными. Наконец, пока на Спеце шел ремонт «Арго», один греческий друг устроил мне личную встречу с ответственным сотрудником народного бюро в Афинах. Взяв с собой Назыма на случай, если понадобится арабский переводчик, я в назначенное время явился к железным воротам. Охранник впустил нас, и мы очутились в вестибюле, украшенном портретом полковника Кадаффи в романтическом облике скачущего на белом коне через луг ядовито-зеленого цвета арабского шейха в развевающемся за спиной плаще.
На втором этаже нас ввели в кабинет ответственного сотрудника. С надеждой выложил я на стол разноцветную кипу наших паспортов: ирландские, британский, американский, болгарский, даже сирийский — хотя Назым был единственным членом экипажа, не нуждающимся в визе, поскольку между Сирией и Ливией существовали особые, братские отношения. Я предъявил также толстую пачку анкет в трех экземплярах с обычными в таких случаях, неведомо зачем требуемыми деталями вроде имени, места и даты рождения вашего деда. Назым аккуратнейшим образом заполнил для нас анкеты арабскими письменами. Мне казалось, что все эти бумаги должны производить внушительное впечатление и убедительно говорить о серьезности наших намерений.
— Кто этот человек, который пришел с вами? — грубо осведомился ливийский чиновник, указывая пальцем на Назыма.
— Это член моей команды, Назым Шуфех из Сирии.
— Пусть подождет внизу.
Чиновник нажал какую-то кнопку, и в дверях появился его помощник.
— Проводите этого человека, — прозвучала резкая команда, и к моему удивлению Назыма бесцеремонно вывели из кабинета.
Вот тебе и арабское братство, подумал я. Дальнейший ход беседы не ободрил меня. Народное бюро в Афинах не было уполномочено оформлять визы. Мой собеседник заявил, что должен послать телексный запрос в Триполи. Правда, как раз сегодня в Триполи выходной по случаю праздника. И на телексы редко отвечают сразу, если вообще отвечают. Прибрежная полоса — закрытая военная зона. Я должен точно указать дату прибытия. На борту «Арго» должен (разумеется!) находиться представитель Ливии и так далее, и так далее.
Я понял, что ответа из Триполи можно ждать не один месяц; тем временем подойдет к концу летний период навигации. И поскольку мне отнюдь не улыбалось являться в Киренаику без предупреждения и без виз, рискуя, что с командой «Арго» обойдутся как с нарушителями границы, я мысленно исключил Ливию из нашего маршрута.
Мое разочарование в какой-то мере смягчал тот факт, что я не рассчитывал точно определить место на ливийском побережье, где высаживался Улисс. Очень уж смутны детали, приводимые в «Одиссее». Нет конкретного описания местности, которое помогло бы опознать ее. И до сих пор в Ливии не найдено никаких микенских предметов, позволяющих выявить какой-либо район, известный грекам той поры. Критские изделия бронзового века обнаружены в приморье Киренаики, и открытие их вызвало изрядное оживление в среде археологов, пока не выяснилось, что эти предметы, скорее всего, были привезены в Ливию много позднее. Впрочем, раз уж мы заговорили об археологах, стоит указать, что до сих пор слои бронзового века в главных исторических местах Киренаики почти не затронуты исследователями, и можно ожидать, что в один прекрасный день будут найдены микенские изделия. Пока же древнейшие свидетельства греческих контактов с Киренаикой связаны с поселениями VI века до н. э., так что приводимые в «Одиссее» сведения о Северной Африке, вероятно, получены в связи со случайными заходами вроде тех, какие описывает Гомер.
То немногое, что нам известно о ливийцах конца бронзового века, подтверждает рисуемый Гомером портрет кротких лотофагов, кормящихся растительной пищей и не причиняющих зла чужеземцам. На египетских памятниках той поры ливийцы изображены одетыми лишь в набедренные повязки и несущими бурдюки с водой. В надписях ничего не говорится о домах, городах, каком-либо войске; нам представляют неприхотливых простодушных кочевников, так что прием, оказанный разведчикам Улисса, вполне отвечает гостеприимному нраву полукочевого племени, питающегося дикими плодами, включая «лотос».
Пристали ли галеры Улисса к берегу в Киренаике или дальше на запад, долго они там не задержались. Ничего ценного для них там не было, и главной целью плавания по-прежнему оставалось возвращение на родину. Привязав одурманенных «лотосом» лазутчиков к корабельным скамьям, Улисс затем
Здесь важно отметить, что Улисс и его капитаны не заблудились. В тексте Гомера этого слова нет, нет и каких-либо намеков на то, чтобы они колебались при выборе курса. Всякий опытный моряк бронзового века отлично знал, как надлежит действовать после сноса противными ветрами. Все девять суток, когда корабли дрейфовали на юг, капитаны днем видели солнце, ночью — Полярную звезду, и вместе с направлением ветра и волн небесные тела говорили, в какую сторону их сносит. Чтобы вернуться к мысу Малея, надо было лечь на обратный курс и следовать им, пока не покажется знакомый ориентир в виде горы или мыса. Предположить, что Улисс и его опытные кормчие, благополучно прошедшие тысячу с лишним миль от Итаки до Трои и покрывшие половину пути обратно на родину, растерялись у берегов Северной Африки, значит — недооценивать основные принципы древнего мореплавания. Корабли нередко относило ветром, и капитаны привыкли снова выходить на нужный курс, наблюдая за общим направлением сноса и возвращаясь тем же путем. Еще менее вероятно, чтобы Улисс на этом этапе уговорил своих вечно строптивых сопутников уходить еще дальше от Малеи для исследования западной части Средиземного моря. После десяти лет осады, чувствительных потерь при набеге на Исмар, шторма в Эгейском море и долгого ненастья к югу от Малеи люди, несомненно, были сыты по горло приключениями. Им не терпелось вернуться домой.
А потому они должны были идти на север, и мы вправе предположить, что избранный ими путь совпадал с маршрутом, которым в более поздние времена следовали галеры и торговые суда, возвращаясь из Северной Африки в греческие воды. Естественно, это был кратчайший и наиболее безопасный путь. Метод навигации был предельно прост: следовать вдоль берегов Северной Африки, пока не придешь к мысу, за которым открывается широкий залив и суша отступает на юг, после чего выходить в открытое море. Пунктом отшествия от ливийского побережья мог быть мыс, ныне называемый Эль-Хилаль, а еще вероятнее — мыс Эт-Тин к северу от Бомбы, и всего 190 миль отделяло вас от следующей суши — южного берега Крита. Именно туда я и решил теперь вести «Арго», чтобы искать объяснение наиболее знаменитого и диковинного приключения во всей «Одиссее» — ужасной встречи с людоедом Циклопом в его пещере.
Глава 5. Циклоп
К сожалению, Улисс не сообщает нам, сколько дней понадобилось его двенадцати галерам, чтобы из земли лотофагов дойти до страны пещерных жителей циклопов. Этот пробел — один из самых досадных во всем повествовании, ведь мы лишены возможности судить о времени и пройденном расстоянии, видим только, что на участке пути не случилось ничего интересного (из чего можно заключить, что галеры плыли в открытом море, а не вдоль берегов) и что моряки, как обычно, хандрили. Улисс рассказывает:
Прежде всего, удивляет то, что циклопы Улисса совсем не похожи на циклопов из первоначального греческого мифа. В нем они искусные мастера и строители, причем их всего трое — Арг, Бронт и Стероп (или Пиракмон). Дети Земли и Неба (Урана и Геи), они трудились в подземных кузнях, выковывая молнии, которые метал Зевс, когда олимпийские боги сражались со старыми богами за власть над вселенной. Позднее греческие авторы приписывали тем же мастерам сооружение монументальных стен разрушенных микенских крепостей, поскольку плиты в этих стенах были так велики (самые большие весили 120 тонн) и были так искусно пригнаны друг к другу, что такую работу могли выполнить только почитавшиеся великанами три брата-циклопа. И в наши дни археологи пользуются термином «циклопические стены».
Между тем циклопы Гомера — такое же простоватое племя, как лотофаги. Они живут семьями в горных пещерах, и у них нет никакой общественной организации. Особенно странно то, что они собирают урожаи пшеницы, ячменя и винограда, не выращивая их.
Как совместить примитивных пещерных людей Гомера, к тому же еще и людоедов, с мифическими циклопами, кующими металл? Возможное решение этой проблемы, над которой почему-то не задумывались многие комментаторы «Одиссеи», намечается, если представить себе, что флотилия Улисса на пути из Киренаики подошла к южному побережью Крита. Окруженные влажным туманом, двенадцать кораблей ночью пристали к берегу. По счастливому стечению обстоятельств, флотилия вошла прямо в естественную гавань. Моряки убрали паруса, сошли на берег и легли спать. На рассвете выяснилось, что они высадились не на большой земле, а на изобилующем дикими козами необитаемом островке, по соседству.
Дикие козы — указатель, позволяющий определить, куда пришла флотилия. От времен бронзового века до наших дней во всем Средиземном море одно место больше любых других ассоциируется с дикими козами: великий остров Крит, родина бородатого европейского козла Capra aegagnus cretensis. Зоологи считают, что на большинстве средиземноморских островов обитают одичавшие домашние козы, тогда как Capra aegagnus cretensis — аборигенный вид.
Самца узнаешь сразу — будь то на фресках бронзового века или при встрече с ним в дебрях Белых гор на Крите, где уцелела горстка этих животных. У гри-гри, как называют в народе этот вид, роскошнейшие рога. Они изогнуты назад по такой крутой дуге, что кажется, козел может пронзить себя ими, если слишком резко откинет голову назад. Просто чудо, как свободно козлы несут свой экстравагантный головной убор среди скал и осыпей высокогорья. На первый взгляд тучный увалень, на самом же деле бородатый козел состоит сплошь из тугих мышц и словно твердый резиновый мячик отскакивает под немыслимыми углами от каменных граней, когда прыгает со скалы на скалу, так что поймать его на мушку даже самой современной винтовки исключительно трудно. Capra aegagnus охраняются законом, и все же для критянина это такая престижная добыча, что на козлов по-прежнему охотятся тайком в глухих уголках Белых гор. К счастью, некоторые острова у побережья Крита тоже превращены в заповедники, и там бородатый козел благополучно здравствует.
Гри-гри был уже знаменит на Крите, когда этот остров стал сердцем высокоразвитой минойской культуры, которая предшествовала золотому веку Микен на материке и отчасти совпала с ним по времени. Минойские художники рисовали, лепили, вырезали, отливали в бронзе изображения наиболее примечательного дикого животного Крита. Минойская экспозиция музея в столице острова, Ираклионе, богата изображениями дикого козла на фресках, в керамике, в бронзе, на печатях из драгоценного камня; вы видите гри-гри прыгающих, пасущихся, преследуемых охотниками, отдыхающих, спаривающихся, и множество козлят. Бородатый козел был таким же символом минойского искусства на суше, как мотив осьминога на море. Использовалось не только мясо — рога шли на изготовление оружия знаменитых критских лучников, и гри-гри так щедро представлен в местном искусстве, что явно был предметом некоего культа. Так что когда Гомер приводил Улисса в страну, изобилующую дикими козами, слушателям певца прежде всего на ум приходил Крит.
Участники плавания быстро убедились, что не знавшие врагов животные на безлюдном острове — легкая добыча для голодных странников.
Итак, шайка грабителей-корсаров из Итаки сидит на берегу, накачиваясь похищенным в Исмаре вином и набивая брюхо добытой на островке отменной козлятиной. Но где находился этот островок? От Гомера узнаем лишь, что он помещался «ни далеко ни близко от брега циклопов» — довольно противоречивое указание и не очень-то полезное с точки зрения реальной географии.
На первый взгляд проблема казалась не такой уж сложной. У южного побережья Крита есть только четыре крупных острова или островных группы, куда естественным путем могла подойти флотилия, плывущая от Киренаики на север. Два острова — Гайдурониси (Ослиный остров) и Куфониси лежат слишком далеко к востоку. Остров Гавдос тоже можно исключить, поскольку с него едва различается побережье Крита, а Улисс утверждает, что ясно видел дым в области циклопов и слышал блеянье коз и овец. Четвертый остров — вернее, группа островов — представляется более многообещающим; речь идет о Паксимадии (Сухарные острова) в заливе Месара, у середины южного побережья Крита. К сожалению, на Сухарных островах нет обращенной на юг естественной гавани, где могла бы столь удачно причалить флотилия Улисса. Зато всего в восьми милях оттуда, в пещерах среди скал Крита некогда жили великаны-людоеды. Во всяком случае, так мне сказали.
«Не забудьте спросить о великанах в селении Пилидия». Такой совет получил я от профессора Поля Фора, известного исследователя пещер острова Крит. За плечами этого неутомимого французского ученого было девять экспедиций, во время которых он бродил по известняковым грядам, составляя каталог пещер и собирая связанные с ними предания, а также исторические и археологические данные. В центре южной части острова он услышал народные сказки о чудовищах-людоедах, поразительно похожие на причудливое повествование Гомера о циклопах. Чудовища в критских сказках были великанами. Они тоже жили простейшей семейной общиной (чаще всего — отец, мать и ребенок), селились в глубоких пещерах и занимались людоедством. От циклопов Гомера их отличает лишь одна существенная черта, и, как ни странно, это различие только подчеркивает возможную связь между двумя мифическими племенами. У великана-людоеда, с которым предстояло столкнуться Улиссу, был всего один глаз в середине лба. У каннибала в критском фольклоре не один, а три глаза. Третий, всевидящий глаз помещался на затылке. «Эти чудовища, — писал мне профессор Фор, — назывались триаматами».
Мы подошли на «Арго» к южному побережью Крита и бросили якорь в заливе Месара, чтобы я мог последовать совету Фора. В Пилидии, небольшом селении примерно в миле к востоку от залива, мне объяснили, что лучше всего обратиться к самому сведущему среди местных жителей — учителю Михаели Фасуланису. Меня смущало, что просвещенный наставник может отказаться говорить о таких фантастических существах, как трехглазые великаны. Я ошибся. Мы сели за столик в маленьком кафе, и учитель вполне серьезно воспринял мой вопрос. Когда он приступил к рассказу о триаматах, к нам подсел глубокий старик в обычной на Крите черной одежде: просторная рубашка, брюки, высокие башмаки. Было очевидно, что он настроился слушать хорошо знакомую историю.
— Однажды два человека, жившие по соседству с Пицидией, — начал учитель, — отправились в Ираклион. По пути им встретилась деревня под названием Хораскилио (Песий город). Войдя в деревню, они перед каждым домом увидели по большой собаке. Решив передохнуть, путники постучались в дверь одного дома, навстречу им вышла женщина, и они спросили, можно ли здесь переночевать. Женщина предложила им войти и сказала, что должна сходить за мужем. Пока они ждали, в дом вошел юный сын хозяев. Один из путников случайно коснулся его головы и с ужасом обнаружил у мальчика среди волос на затылке третий глаз. Он был триаматом! Мальчик сказал путникам, что его мать пошла за другими триаматами, которые убьют и съедят чужаков. Бежать они не могли, потому, что у дверей сторожил огромный пес. Однако путники нашли выход. Схватив мальчика, они убили его, разрезали на куски и скормили псу, а сами обратились в бегство. Вернувшись в свое селение, подняли тревогу; селяне вооружились, отправились вместе с ними в Хораскилио, перебили всех триаматов и разрушили деревню.
Закончив повествование, учитель сел поудобнее и добавил:
— Деревня Хораскилио находилась у дороги, ведущей отсюда к Ираклиону, недалеко от Дафны.
Подсевший к нам старик кивнул, подтверждая его слова.
Ту же самую историю записал более десяти лет назад профессор Фор, и она продолжала жить не как затейливый анахронизм, а как часть подлинного фольклора. Не берусь сказать, верил ли сам учитель в триаматов, но сельские жители явно верили. Живущие уединенно в горах критские пастухи панически боялись встречи с триаматами-людоедами, особенно в пещерах ночью. Говорили, что из глубины пещеры может появиться молодой триамат и потребовать, чтобы пастух поделился с ним пищей. Фор записал, в частности, историю о воре, который, возвращаясь из соседней деревни с украденным там барашком, решил заночевать в пустой пещере. Зарезав барашка, он стал жарить мясо на костре. В это время к костру подошел обнаженный молодой незнакомец и потребовал себе кусок. «Подожди, пока поджарится», — ответил вор. Незнакомец возразил, что ему нужно сырое мясо. Тут вор понял, с кем имеет дело, схватил раскаленный вертел и бросился на молодого триамата, который с громкими воплями пустился наутек. В свою очередь, и вор поспешил удалиться.
Сходство между сказками о триаматах и повествованием о встрече Улисса с циклопами поразительно. Тем не менее расхождение в деталях, например указание на третий глаз, позволяет заключить, что критские версии не копируют «Одиссею», а представляют собой исконные местные предания.
Насытившись козлятиной, моряки итакской флотилии провели вторую ночь на берегу островка. На другой день Улисс объявил, что не мешает выяснить, какие люди живут по соседству. Подойдя на своем корабле к берегу большой земли, он у самой воды увидел огромную пещеру. Вход в нее был огорожен высокой стеной из дикого камня и могучими дубами и соснами; пещера явно была обителью великана.
Улисс сошел на берег и, взяв с собой двенадцать сопутников, направился к пещере. Повинуясь «голосу вещего сердца», рассказывает Улисс, он захватил с собой бурдюк сладкого черного вина, которым одарил его в Исмаре жрец Марон. Вино было такое крепкое, что полагалось разбавлять его двадцатью частями воды, да и то смесь ударяла в голову. Марон хранил это вино в тайнике, и только сам жрец, его жена и один старый слуга знали о его существовании.
Дойдя до пещеры, продолжает Улисс, они хозяина не застали, он в это время пас в горах коз и овец.
Люди Улисса повели себя с присущей им жадностью. Они стали уговаривать своего капитана взять в пещере сыра и отнести на корабль, потом вернуться, пригнать из закутов на берег ягнят и козлят, погрузить на галеру и поскорей убираться, пока не явился хозяин. Улисс отказался, ему хотелось посмотреть, как выглядит этот хозяин. Дескать, вдруг он «даст нам подарок». Как известно, любопытство Улисса стоило жизни шести его сопутникам.
Итак, отряд моряков задержался в пещере. Они развели костер и поели сыра, а вечером с горных лугов вернулся хозяин. Появление в пещере циклопа Полифема описано в том же духе, в каком о возвращении чудовища в свою обитель повествуют десятки сказок для детей.
Надежно закупорив камнем вход в пещеру, циклоп принялся доить коз и овец, отливая половину молока для приготовления сыра, а вторую половину оставляя для питья. Лишь после того, как эта работа была закончена и циклоп развел костер, он увидел прячущихся в глубине пещеры Улисса и его людей и вопросил гремящим, голосом:
Такое определение двух категорий мореплавателей — честных купцов и пиратов — вполне справедливо для той поры. Естественно, Улисс поспешил объяснить, что он и его люди — греки, возвращаются домой из Трои, но противные ветры сбили их с курса. Как гости, охраняемые Зевсом, они надеются, что циклоп примет их дружелюбно и даст подарок. Ответ циклопа был отнюдь не благоприятным. Он заявил, что ему нет дела до таких обычаев и боги ему не страшны. Где Улисс оставил свой корабль?
Хитроумный Улисс слукавил. Он ответил, что его корабль разбился о камни на берегу и при нем единственные уцелевшие члены команды. Тогда циклоп
С ужасом смотрели Улисс и его уцелевшие сопутники на происходящее, не в силах помешать чудовищу. И после того, как циклоп завершил свою людоедскую трапезу и запил молоком страшную пишу, Улисс осознал, в каком безнадежном положении они очутились. Он подкрался было к спящему великану, замыслив пронзить его мечом, но тут же сообразил, что его людям будет не под силу столкнуть закупоривший пещеру огромный камень.
И тут во второй раз проявилась знаменитая находчивость, которой Улисс прославился, когда придумал уловку с троянским конем. Утром циклоп поднялся, подоил коз и овец, позавтракал еще двумя из людей Улисса, отодвинул запор и выгнал скот наружу, после чего вернул громадный камень на место, «как легкою кровлей колчан запирают», чтобы пленники не улизнули, и отправился со своим стадом на пастбище. Улисс приметил, что циклоп оставил в пещере сохнуть огромную дубину, только что срубленный ствол дикой маслины, подобный «мачте, какая на многовесельном с грузом товаров моря обтекающем судне бывает». Улисс отрубил мечом часть ствола длиной три локтя, его товарищи обтесали этот обрубок, после чего он заострил и обжег конец на углях для твердости. Получившийся кол зарыли в куче навоза на дне пещеры и бросили жребий, кому из сопутников помогать Улиссу в схватке с противником, когда тот вернется.
Второй вечер прошел подобно предыдущему. Явился циклоп, загнал стадо в пещеру, загородил камнем вход, сожрал еще двоих товарищей Улисса и сел отдыхать. Тут Улисс подошел к нему с полной чашей неразбавленного черного исмарского вина. Вино до того понравилось циклопу, что он выпил целых три чаши, отчего совсем опьянел. Затем великан — обычный для мирового фольклора ход — спросил Улисса, как его зовут. Дескать, узнав имя, он сделает ему «приличный подарок». Улисс ответил, что его имя «Никто». Тогда, заявил со злобной усмешкой циклоп, подарком явится то, что Никто будет съеден последним. После чего
Улисс поспешил достать кол, положил его на угли, раскалил острие и подошел с колом туда, где наготове стояли четверо назначенных жребием помощников.
Здесь Гомер впервые дает понять, что у циклопа был только один глаз. Раньше об этом не говорится; видимо, история с циклопом была достаточно хорошо известна.
Когда циклоп выдернул кол из глазницы, на крик его сбежались из соседних пещер другие циклопы и спросили, в чем дело.
Уловка, когда человек называет себя «Никто», описана во многих критских сказаниях о триаматах, собранных профессором Фором. Впрочем, она так часто присутствует в народных сказках разных стран, что упирать на это совпадение особенно не приходится. Более примечательно сходство обожженного Улиссом на огне кола с раскаленным вертелом, которым критский вор ранил и обратил в бегство заставшего его в пещере голодного триамата-людоеда. Но и к этой параллели следует подходить осторожно, как показывает дальнейшее развитие поединка Улисса с циклопом.
Запертый в пещере стонущего, ослепленного, разъяренного великана, Улисс устраивает побег своих шести уцелевших спутников. Отделив от стада крупных баранов, он связывает их по три крепким лыком. На рассвете козы и овцы начинают блеять, стремясь выйти из пещеры. Слепой Полифем отодвигает камень, садится у выхода и щупает спины пробегающих мимо животных, убеждаясь, что среди них нет его пленников. Привязанные под брюхом среднего в тройке барана, люди Улисса спасаются. Под конец, держась снизу за густую шерсть самого большого барана, на волю выбирается сам Улисс. Полифем удивлен, почему вожак стада, обычно спешащий первым выйти из пещеры, в это утро идет последним.
Пальцы Полифема не нащупали беглеца, и большой баран вынес Улисса из пещеры. Очутившись на воле, он вскочил на ноги и поспешил отвязать своих сопутников. Вслед за чем они, верные своей разбойной натуре, погнали стадо к галере. Ожидавшие их члены команды приготовились громко оплакивать товарищей, убитых и съеденных циклопом, но Улисс подал знак, чтобы они молчали и поскорее грузили на судно украденный скот. Управившись с этим делом, моряки оттолкнули галеру от берега и налегли на весла. Однако тут одержимый гордыней Улисс, каким рисует его Гомер, совершает фатальную ошибку, за которую будет наказан всяческими бедами и гибелью всех своих людей. Отойдя на безопасное расстояние от берега, он язвительно кричит циклопу:
Услышав торжествующий голос беглеца, ослепленный циклоп отломил от горы огромную глыбу и метнул на звук. Глыба упала рядом с судном, задев рулевое весло, и поднятая ею волна отбросила галеру обратно к острову. Улисс оттолкнулся от берега длинной жердью, и его люди опять энергично заработали веслами. В испуге они уговаривали Улисса больше не дразнить чудовище, но он опять закричал:
Полифем взревел от злости и ответил Улиссу. Живший в земле циклопов прорицатель Телам, сын Евримия, предсказывал, что Полифем будет ослеплен человеком по имени Одиссей, но великан ждал, что «явится муж благовидный, высокий ростом, божественной силою мышц обладающий», а не «малорослый урод, человечишко хилый», который прибегнет к вероломной уловке, вином лишив его силы. Полифем предложил Улиссу вернуться, чтобы он мог его одарить. На что Улисс, пуще прежнего дразня Полифема, крикнул, что желал бы вовсе его умертвить. Тогда циклоп, воздев руки к небу, произнес проклятие. Обращаясь к своему отцу, богу морей Посейдону, он призвал его:
С этими словами циклоп схватил еще большую глыбу и в отчаянии метнул в сторону уходящего корабля. Он промахнулся и на этот раз, глыба упала сразу за кормой галеры, родив волну, которая увлекла судно вперед, к острову диких коз, где ждали Улисса остальные корабли флотилии.
История о метающем камни Полифеме настолько популярна и распространена, что в десятках населенных пунктов Средиземноморья, да и на берегах Черного моря тоже, местные рыбаки показывали мне на торчащие из воды рифы и камни, говоря: «Вот камни, которые метал циклоп». А потому я ничуть не удивился, когда в Пицидии мне сказали, что в двух милях отселения, с высоких скал Дракотес я увижу в воде глыбы, брошенные Полифемом. Дескать, в пещерах у самого верха одной скалы некогда обитали чудовища, там-то Улисс и встретился с циклопом, и разве не о том же говорит само название «Дракотес», подразумевающее «нечто чудовищное», вроде циклопа?
Стоя на вершине скал Дракотес, я и впрямь увидел скатившиеся в море камни. Слева различались контуры островов Паксимада в восьми милях от берега, и верхняя часть утеса, куда я поднялся, изобиловала нишами и пещерами; некоторые из них, служащие загонами для скота, были огорожены камнями. Это место вполне могло быть обителью Полифема; впечатление усиливалось при виде черного силуэта «Арго», бросившего якорь на отмели перед длинным песчаным пляжем, где можно было рассмотреть торчащие из дюн остатки древних стен и крохотные фигурки расчищающих развалины людей. То были канадские археологи; десятый год они раскапывали недавно открытый древний порт, который кое в чем соотносился с историческим фоном «Одиссея».
Порт назывался Коммос, и Гомер должен был — во всяком случае, по описаниям — знать эту часть южного берега Крита. Он упоминает расположенный в четырех милях от моря минойский город Фест, говоря, что по соседству с ним Менелай потерял на рифах несколько кораблей после того, как его флотилию, как и суда Улисса, отнесло противными ветрами от мыса Малея. В Фесте находился царский дворец; Коммос был либо придатком этого города, либо важным самостоятельным портом минойской культуры. Археологи раскопали на берегу монументальные сооружения с роскошными колоннадами и двориками и широкую мощеную дорогу, ведущую к Фесту. Назначение внушительных построек — то ли дворцов, то ли огромных складов, то ли ангаров для кораблей — еще предстояло выяснить, но не подлежало сомнению, что Коммос был важным торговым центром. Здесь найдены черепки привозной керамики с Кипра и из приморья Сирии, обнаружена кузница, где, вероятно, обрабатывалась медь, доставленная с востока.
Коммос был основан в пору величия минойской империи около 1600 года до н. э. и процветал три столетия. Затем что-то произошло, город вымер. Его строения были заброшены и развалились. Скромные жилища простых тружеников наверху, откуда открывался прекрасный вид на берег, были покинуты. Люди куда-то ушли. Археологи не брались сказать, что заставило их уйти, но установили, когда это произошло: в середине XIII века до н. э., примерно во времена Троянской войны; именно тогда, как выразился руководитель канадской экспедиции доктор Шоу, «погасли огни». Было это незадолго до поры, к которой принято относить странствия Улисса, и я спрашивал себя, не намечается ли тут некая связь. Раскопки в Коммосе показывают, что, после того как порт был заброшен, иногда сюда еще заходили корабли. Возможно, то были люди вроде Улисса и Менелая, и они принесли оттуда предания, в которых сведения о лучшей поре минойской культуры смешивались с наблюдениями над примитивным бытом переживших катастрофу? Что случилось с уцелевшими жителями Коммоса и других минойских поселений на этом побережье? Не вернулись ли они к былому, крайне скудному хозяйству, живя в пещерах и занимаясь примитивным скотоводством, какое Улисс застал у циклопов? Если так, то загадочные слова о неухоженных полях, где все еще росли злаки и виноградная лоза, могут подразумевать заброшенные пашни древней минойской культуры.
Все это были мои догадки, но они так хорошо согласовались с деталями в «Одиссее», а заброшенная кузница в Коммосе заставляла вспомнить кующих металл циклопов из древнейших мифов.
У Крита все данные, чтобы претендовать на звание родины трех циклопов-кузнецов — Арга, Бронта и Стеропа. Детство Зевса проводило на Крите, где жрецы укрывали его в пещере, и три циклопа, трудившиеся в подземной кузнице, были его помощниками. Видимо, эти братья еще находились на Крите, когда Гефест взял на себя роль главного мастерового у олимпийских богов и они стали его подручными. Полифем чем-то напоминает Талоса, легендарного критского великана, которого Гефест изваял из меди, чтобы тот охранял остров от чужеземцев. Этот медный гигант обходил берега Крита и бросал огромные обломки скал в приближающиеся чужие корабли. Еще одна параллель истории о циклопах? Или взять искусных мастеров, коим приписывали сооружение «циклопических» стен в Микенах. Не отразилась ли в этом мифе память о критских строителях? Минойская и микенская цивилизации были тесно связаны между собой; историки до сих пор яростно спорят — чье влияние преобладало. Традиционно принято считать, что микенская культура — производная от минойской; в таком случае микенцы научились у критян строить города.
Бывший партизан Кости Патеракис показал мне другую пещеру, где, по его мнению, Улисс мог встретиться с циклопом. Во время партизанской войны против немецких оккупантов Кости и его товарищи часто приводили союзных разведчиков в убежище, которое так и называется — Пещера Полифема или Пещера циклопа. Разведчики обычно высаживались с подводных лодок или малых судов на южном берегу, и пещера служила идеальным укрытием для них и доставляемого ими оружия. Сам Кости славился как превосходный снайпер. В английском издании «Критского гонца» — рассказа критского пастуха о партизанской войне — в примечании переводчика Патрика Ли Фермера описан случай, когда немецкий патруль окружил горное селение, чьи жители подозревались в помощи партизанам. Женщин и детей вывели на окраину селения, и каратели приготовились их расстрелять. В это время партизаны напали на немцев из засады, и Кости первым же выстрелом с расстояния 400 метров убил пулеметчика. Ли Фермор добавляет, что это был один из самых выдающихся подвигов отважного партизана.
Похожий теперь скорее на любезного банковского клерка, чем на снайпера, Кости в темпе, от которого быстро заныли мои голеностопы, повел меня по горным склонам за селением Сугия, расположенным в девяноста километрах к западу от Коммоса. На ходу он поведал мне, что во время Второй мировой войны в пещеру Полифема порой загоняли до тысячи овец, и когда мы дошли туда, она вполне оправдала мои ожидания.
Пещера в точности отвечала описанию Гомера. У входа была прислонена здоровенная каменная плита, служащая дверью. Внутри — огороженный диким камнем загон, где пастух мог держать овец и доить их, как это делал Полифем. Высокий пещерный свод расписан сажей от костров, на которых готовили пищу. На одном камне помещено выдолбленное бревно, чтобы собирать капающую со свода грунтовую воду. Пол покрыт толстым слоем резко пахнущего навоза, так что нетрудно представить себе, где Улисс прятал заостренный кол.
Закажи вы плотникам какой-нибудь киностудии декорацию, изображающую пещеру Полифема, они не смогли бы превзойти творение самой природы. В верхней части наклонного пола, у одной из стен лежал зеленоватый от мха, влажный валун причудливой формы, напоминающий грубо сколоченный трон. Я подошел к нему и сел лицом к выходу. Солнечные лучи, проникая сквозь щель между дверной плитой и скалой, освещали поверхность большого камня, лежавшего передо мной чуть ниже «трона», и отражались какой-то неприятного вида мерцающей желеобразной выпуклостью. Непрестанно капающая со свода вода, испаряясь, нарастила на камне известняковое кольцо шириной около двадцати сантиметров. Посреди кольца, куда падала капля, образовался гладкий купол — зародыш сталагмита, напоминающий гротескное круглое глазное яблоко, обрамленное уродливым веком. Казалось, отражающий солнце камень глядит на свод влажным циклопическим глазом…
Сами понимаете, сходство было чересчур идеальным. В романтическом плане Пещера Полифема настолько похожа на Гомерову, что не нужно большого воображения, чтобы заключить: именно об этом месте писал Гомер. Приключение в логове Полифема так широко известно, что любой деревенский учитель, вообще любой образованный человек, посетив пещеру у Сугии и памятуя описание Гомера, мог назвать ее Пещерой Полифема — точно так же, как рыбаки часто говорят о камнях, «брошенных Полифемом». К сожалению, пещера за Сугией, в отличие от Гомеровой, находится не у самого берега, а высоко над каменной осыпью. И с моря ее не видно; она так надежно укрыта, что преследовавшим партизан немецким патрулям не удалось ее обнаружить. И поблизости нет подходящего островка, где люди Улисса охотились на диких коз и ждали возвращения своего предводителя.
Что же из этого следует? А следует то, что необходимо сочетание деталей, взаимное расположение пещеры и острова диких коз, дающее повод для вывода, какая из множества пещер на побережье подходит на роль обители Полифема. Мы прошли на «Арго» вдоль самого берега, осматривали даже самые маленькие островки и карабкались вверх по скалам, обследуя каждую пещеру, увиденную с моря. А пещер хватало. Крит сложен известняками и буквально испещрен пустотами. Профессор Фор собрал сведения о 747 пещерах; всего же, по его подсчетам, их больше 1400. Спрашивалось, где искать остров диких коз? Как уже говорилось, на единственных подходящих по своему местоположению Сухарных островах не было обращенной к югу гавани, куда темной ночью вошла флотилия Улисса. Существует ли альтернативный вариант?
И тут я вспомнил незаменимого капитана Томаса Авеля Бримиджа Спрэта. Творец «Карты Спрэта», указавшей археологам дорогу в Трою, произвел также тщательные съемки берегов Крита. Он настолько увлекся этим островом, что в двух томах поведал о своих «Путешествиях и исследованиях на Крите». В этой книге Спрэт подчеркивает, что многие части критского побережья явно подвергались действию катаклизмов, при этом некоторые участки были подняты над морем. На западном берегу Крита Спрэт искал описанную географом Страбоном древнюю гавань Фаласарна, однако не обнаружил никаких следов портовых сооружений, не нашлось даже пляжа, где могли бы приставать малые суда. И Спрэт понял, что Фаласарну следует искать на суше. Из-за сильного изменения береговой линии бывшая акватория гавани очутилась в пяти метрах выше современного уровня моря и в ста метрах от берега. Спрэт подсчитал, что смещение пластов местами подняло бывший берег на восемь метров, и обратил внимание на желоб, который окаймляет основание скал в западной оконечности Крита — свидетельство работы волн в древности, при другом уровне моря.
Медленно следуя на «Арго» вдоль побережья, мы тоже заметили этот желоб. Как будто некий великан провел огромным стеклорезом по кромке острова на высоте пять метров, задумав отделить верхнюю часть. Современные исследования динамики моря у Крита показали, что дело обстоит сложнее, чем представлялось капитану Спрэту. Одни участки острова, особенно на западе, поднялись; другие, на востоке, опустились. Так, Коммос, похоже, опустился приблизительно на метр. В целом же наблюдательный капитан Спрэт был прав. Западная оконечность Крита теперь намного выше над уровнем моря.
Я вновь обратился к картам в поисках другого кандидата на звание «Острова Диких Коз». Найдется ли место, которое было островом три тысячи лет назад, когда береговая линия находилась на уровне волноприбойной ниши? Тотчас возник вариант, подсказанный самой природой: полуостров Палеохора («Старый город») у юго-западной оконечности Крита. Его расположение наиболее благоприятно для подхода флотилии, следующей на север из Киренаики. Мы вернулись на «Арго» к Палеохоре, и пока члены команды наполняли канистры пресной водой, я прошел в южный конец полуострова. Действительно, моим глазам предстал желоб, обозначающий древний уровень моря, увидел я и контуры обращенной входом на юг естественной гавани той далекой поры. Соединяющий Палеохору с Критом перешеек — всего лишь низкая песчаная коса, чуть возвышающаяся над водой. Поднимись уровень на метр-другой, и полуостров станет островом. Спрэт подсчитал, что образованный в таком случае пролив был бы «шириной от половины до трех четвертей мили, при глубинах от трех до четырех саженей». Картина, похожая на описанную в «Одиссее». Позднее я узнал, что лет двадцать назад один английский археолог раскопал в четырех километрах от Палеохоры остатки небольшого минойского селения. Некогда оно помещалось на самом берегу моря, теперь же оказалось в полутораста метрах от воды. Англичанин заключил, что в прошлом Палеохора представляла собой «отдельно лежащий низкий островок», однако на полуострове ему не удалось обнаружить никаких следов древнего обитания. Что ж, сказал я себе, это вполне соответствует описанию Улиссова необитаемого острова диких коз.
Спрашивалось, могло ли племя циклопов обитать на скалах между Палеохорой и мысом Крио, обозначающим юго-западную оконечность Крита? Пещер в этом районе хватает, и примечательно, что владелец одной из них, добывая глину, откопал, по его словам, кость необычной величины. Мне сказали, что ему вполне можно верить, — ведь это был местный полицейский. Вероятно, кость принадлежала крупному ископаемому млекопитающему; известно, что на Крите некогда водились слоны и бегемоты. И если в давние времена в здешних пещерах находили огромные кости, это, несомненно, могло дать пищу для местной версии о великанах, послужившей основой народных сказок о похожих на циклопов страшных триаматах.
Скорее всего, конечный ответ, где именно находилась пещера Полифема, никогда не будет получен. Тем не менее район, где Улисс подошел к берегу на обратном пути из страны лотофагов, вроде бы вписывается в схему, диктуемую основными правилами судовождения в бронзовом веке. Идя из Киренаики на север, флотилия встретила побережье Крита, и скорее всего — его юго-западную оконечность. Здесь моряки — возможно, на острове Палеохора — охотились на агрими, а на самом Крите застали представителей примитивных пастушеских племен. К тому времени минойские селения были покинуты, однако на их нивах все еще могли «без паханья и сева» произрастать какие-то злаки и фрукты, собираемые обитателями пещер. И Крит все еще был известен как родина кующих металл циклопов. Гомер или более древние барды, у которых он заимствовал сюжет, украсили повествование сказочными элементами местного фольклора о триаматах, спутав последних с фигурирующими в греческой мифологии циклопами-мастеровыми.
Если я верно толковал сказ о критских циклопах/триаматах, напрашивалось предположение, что ключ к расшифровке скитаний Улисса следует искать в соединении практического мореплавания с локальным фольклором. «Одиссея» — собрание сказок (в дальнейших скитаниях Улисс встретит таких мифических существ, как сирены, хватающее людей чудовище Сцилла и пожирающая их Харибда), и возможно, каждая фабула связана с какими-то приметами конкретной местности. Сумей мы опознать родину фольклорного сюжета, это может приблизить нас к истине в определении мест, которые посетил Улисс. Это мое предположение переросло почти в уверенность после совершенно неожиданного открытия, касающегося нашего следующего пункта захода — острова повелителя ветров Эола.
Глава 6. Повелитель ветров
Оконечность мыса Крио — «Бараньего лба» — одна из многих анималистических скульптур природы. Сходство с бараном поразительно. Длинная костистая морда касается поверхности воды, словно собираясь утолить жажду; две впадины обозначают ноздрю и широко раскрытый глаз, а слои горных пород образуют спираль наподобие бараньего рога. Мыс Крио — такой же ключевой поворотный пункт на пути галеры, следующей вдоль побережья Крита; как похожий в профиль на раздраженного бабуина мыс Малея — южная оконечность Пелопоннеса. 12 июля «Арго» медленно обогнул мыс Крио в каких-нибудь десяти метрах от каменной морды, и мне очень не хватало на борту ученых, расшифровавших крито-микенское линейное письмо Б. Они поняли бы, почему в ряду географических названий, запечатленных на глиняной плитке рукой неизвестного писца при дворе царя Нестора три тысячи лет назад, оказался «Бараний лоб». Меткое название.
Мысы явно играют важную роль в географическом контексте «Одиссеи». За полтора месяца, что мы шли из Трои по следам Улисса, распознавая естественные пути галер в восточной части Средиземного моря, мы взяли на заметку мыс Герест, у которого разбились корабли Агамемнона, мыс Сунион, где был погребен великий кормчий, непоименованный мыс на побережье Крита, где лишился нескольких судов Менелай, выявили критическую роль мыса Малея. И я спрашивал себя, не вырисовывается ли в ходе нашего поиска еще одна закономерность. Если страна лотофагов находилась в Киренаике у крайнего северного мыса Ливии, а земля циклопов помещалась в юго-западном углу Крита, напрашивается вывод, что «Одиссея» привязывает похождения Улисса к поворотным точкам известного древним морского маршрута. А тогда местом нового приключения должна быть следующая такая точка на логическом пути к Итаке; теоретически — северо-западный угол Крита. Отсюда начинался переход через открытое море обратно к Малее, где Улисс должен был попытаться снова выйти на первоначальный путь домой. И здесь, если верна моя гипотеза, мы можем найти толкование очередного эпизода «Одиссеи» — посещение Улиссом обители повелителя ветров Эола.
Эол в каком-то смысле составляет исключение среди населяющих «Одиссею» полубогов и гротескных существ. Рядом с ними он выглядит весьма человечно, благоденствуя на острове вместе с составляющими супружеские пары шестью сыновьями и шестью дочерьми. У них не было недостатка в пище, и они очень радушно приняли итакцев, целый месяц ублажали их яствами и пением флейт. Согласно «Одиссее», самая поразительная особенность острова заключалась в том, что он был обнесен высокой медной стеной, а единственная необычная черта в характеристике Эола — дарованная богами способность повелевать ветрами. И он весьма любезно использовал эту способность, чтобы помочь Улиссу. Оставив на воле только благоприятствующий дальнейшему плаванию гостя западный ветер, Эол запрятал все остальные буреносные ветры в кожаный мех и вручил его Улиссу. Отсюда скептическое замечание Эратосфена, что вероятность опознания мест, которые посетил Улисс, равна возможности установить, какой сапожник зашил ветры в кожаный мешок.
Между тем, на мой взгляд, намечалась некая связь между северо-западным углом Крита и ветрами. Когда галеры Улисса, возвращаясь из Ливии — на север, достигли Крита и обогнули мыс Крио, они столкнулись с преобладающими в летнем сезоне северными ветрами. Плавание вдоль критского побережья не представляло особой трудности. Безветрие в утренние часы позволяет продвинуться на несколько миль; днем, когда дуют сильные ветры, можно отстояться на якоре, а вечером, используя затишье, подчас удается пройти на веслах еще милю-другую. Но когда вы проползли вдоль южного берега и вышли к северо-западному углу, этот распорядок перестает действовать. Вам надо пересечь участок открытого моря до мыса Малея, с островами Андикитира и Китира в роли единственных возможных промежуточных станций. Если в пути вас вновь застигнет сильный северный ветер, скажем, тот же мелтеми, вы рискуете еще раз быть отброшенными к Африке. И если Улисс однажды побывал в такой переделке, он должен был принять все меры предосторожности, чтобы ситуация не повторилась. По логике, ему надлежало дождаться идеальных условий у северо-западной оконечности Крита, затем поднимать паруса и идти к Малее, уповая на то, что попутный ветер удержится до самого Пелопоннеса. Вплоть до нынешнего века так поступали кормчие малых судов, направляясь от Крита к материку. Выбрав самую подходящую точку для старта, они ждали благоприятного ветра, и выбор был невелик: единственная надежная якорная стоянка в районе опасного скалистого северо-западного выступа Крита находится у маленького острова Грамвуса (или Грабуса), некогда печально известного как пиратское логово. И я повел «Арго» к Грамвусе, намереваясь там искать следы Эола, зашившего ветры в кожаный мешок.
По пути нас едва не настигла беда. Обогнув мыс Крио, мы было пошли вдоль открытого западного берега Крита, однако наше движение было остановлено тем самым северным ветром, которого страшились древние судоводители. Подобно им, мы никак не могли предвидеть, что этот противный ветер примет совершенно не свойственный сезону характер и целую неделю будет свирепствовать чуть ли не зимний шторм. Всякое нормальное судоходство в Эгейском море было нарушено. Прекратились паромные и чартерные перевозки, туристы возвращались домой самолетом, пляжи закрыли, так как купаться было опасно из-за сильного прибоя. Правда, мы об этом ничего не знали, ибо «Арго» был отрезан от всего мира и цеплялся за жизнь в пустынной бухточке на западном берегу Крита.
Что нам грозят неприятности, я понял через пять минут после того, как мы, сразу за мысом Крио, обогнули Элефанисос — Олений остров. Идя вперевалку мимо рифов этого зловещего кладбища кораблей, «Арго» с маху шлепался в ложбины между волнами. Нашей галере стало невмоготу бороться со стихией, она оказалась почти неуправляемой в зоне беснующегося прибоя. Мы вновь прибегли к аварийной тактике, понуждая «Арго» идти вперед при помощи подвесного мотора на резиновой шлюпке. Не помогло. Только мы миновали длинную вереницу рифов, как крепнущий ветер погнал нас к берегу за извилистой полосой бурунов. Теперь и назад нельзя повернуть без риска наскочить на подводные камни. Бросить якорь в открытом ветрам уголке было негде, оставалось ползти вперед. С тревогой искал я взглядом щель в береговых скалах, сулящую хоть какое-то укрытие. Тщетно. Шесть часов пробивались мы вперед черепашьими темпами. Гребни волн захлестывали вспомогательный мотор, он задыхался и фыркал, возмущенный таким обращением, и лишь самым опытным морякам нашей команды удавалось маневрировать шлюпкой на частой волне. Скоро и они посерели от усталости.
В конце концов около пяти часов вечера мы проиграли схватку. Скорость ветра продолжала расти, и в те минуты, когда мы протискивались мимо новой череды угрюмых скал, «Арго» начал пятиться. Среди мельтешни ветра и брызг я высмотрел под скалами относительно спокойный клочок, куда не проникал ветер. Впервые за все время плаваний «Арго» в Эгейском, Черном и Мраморном морях пришлось скомандовать, чтобы приготовили штормовой якорь. Тяжелый старинный рыбацкий якорь лежал почти на самом дне трюма, выполняя роль балласта. Зарывшись в набитое припасами чрево галеры, мы обрезали крепившие его найтовы и вытащили железную громадину на носовую палубу. Всем было ясно: если штормовой якорь не зацепится за грунт, «Арго» несдобровать. И яснее ясного, почему у древних мореплавателей был чуть ли не культ якорей. Они брали их с собой десятками и, благополучно завершив плавание, нередко освящали грубые каменные якоря в каком-нибудь храме в благодарность за то, что выжили. Как и мы в тот зловещий вечер на «Арго», они знали: когда ветер гонит галеру к враждебному берегу, только якорь может остановить ее на краю гибели.
Место, куда сносило «Арго», не очень-то годилось для постановки на якорь. Глубина около семи-восьми метров, грунт — сплошное нагромождение камней, якорной лапе негде зарыться. Вся надежда на то, что сам якорь или его цепь застрянут между камнями. Ответственным за этот маневр был Кормак, профессиональный рыбак из Ирландии, ростом под два метра, участник экспедиции «Ясон». Его дублинское острословие, бесценное в критические минуты на море, неизменно поднимало дух команды.
— Отдать якорь!
Кормак играючи отправил железину за борт. Цепь прогремела, натянулась, и «Арго» рывком остановился. Оставалось только признать, что у нас со снаряжением дело обстояло лучше, чем на судах бронзового века. Быть может, Улисс и его сопутники тоже применяли цепи, но, скорее всего, им приходилось довольствоваться непрочными кожаными веревками, которые не выдерживали соприкосновения с острыми гранями камней. И у них не было металлического якоря, только нехитрые каменные изделия, возможно, с торчащими из них деревянными рогами, или же пирамидальной формы грузы на веревке. Я заметил Кормаку, что Улисс в сходной ситуации, вероятно, приказал бы одному из своих людей прыгнуть с каменным якорем в воду и, опустившись на дно, втиснуть его между двумя валунам. Взгляд, которым мне ответил Кормак, ясно говорил, что он думает на этот счет.
Шесть томительных пустопорожних дней «Арго» топтался на месте, и я терзался мыслью, что нам не хватило каких-нибудь тринадцати миль, чтобы дойти до приличной якорной стоянки у Грамвусы. Меня нисколько не утешало сознание того, что наш опыт убедительно доказывает: галера всецело зависит от капризов северного ветра, и у западного побережья Крита возвращающимся на родину мореплавателям приходилось терпеливо ждать либо у Грамвусы, либо в этой вот скучной бухточке. Мы коротали время, как могли. Ближайшим населенным пунктом была деревушка Кампос. Чтобы попасть туда, надо было час взбираться по крутой неровной тропе до седловины, где ревущий ветер обдавал лицо горстями пыли, так что приходилось поворачиваться спиной и защищать рукой глаза.
Весь Кампос насчитывал пять-шесть домов; в двух из них помещались магазинчики, где мы могли закупить кое-какую провизию. Шторм порвал телефонные и электрические провода, так что Кампос не получал никаких известий с северного побережья, но местные жители ничуть не горевали и оказали нам радушный прием. Наверное, в горном селении, от которого изрядное количество миль до ближайших портов, появление задержанных ненастьем моряков было своего рода событием. Каждый день мы поднимались вверх по склону, и местные лавочники не спешили отделаться от нас, пока мы пили кофе с медом и местным сыром. Оставив на «Арго» вахтенных, свободные члены команды либо шли в деревушку, либо совершали длинные прогулки по пустынным косогорам. Во время такой прогулки серебристо-серая змея длиной около полуметра укусила ногу Дерри. Местный врач, которого мы отыскали через три часа, объявил; если за это время Дерри не ощутил никаких дурных симптомов, значит, змея безобидная. Естественно, когда Дерри возвратился на «Арго», он наслушался шуток про ирландского святого Патрика, который очистил свою родину от змей и однажды попал впросак, потому что успел забыть, как они выглядят. На другое утро Кормак разбудил его громким возгласом:
— Подъем, Дерри! Просыпайся. Есть хочешь?
Вечно голодный Дерри энергично кивнул головой.
— Как насчет того, чтобы заморить червячка в деревне? — продолжал Кормак. — Здешний сыр не кусается!
«Арго» прочно застрял в бухточке, словно его прибили гвоздями. К счастью, в лощине струился ручей, где можно было набрать питьевой воды, а заодно помыться и принять душ под маленьким водопадом, слушая, как ветер бичует листву окружающих деревьев. Каждое утро верхом на мулах по извилистой тропе осторожно спускалась на берег одна семья из Кампоса. Привязав мулов у ручья, они весь день гнули спину на крохотном огороде сразу за пляжем. Награда за труд была весьма скудной: несколько дынь, фасоль и помидоры. Бережно уложив собранное в вьючные корзины, они спешили отправиться домой, пока не стемнело. Изрытая ямами тропа не больно-то подходила для странствий после заката, однако Джон, Рик и Дерри сумели преодолеть все препятствия после затянувшейся гулянки с приятелями, коими обзавелись в деревушке. Было выпито чрезмерное количество домашнего вина, и в три часа ночи сквозь шум прибоя до моего слуха донеслось нечто вроде разухабистого пения. Сев в резиновую шлюпку, чтобы проверить, в чем дело, я обнаружил трех гуляк, которые лежали навзничь на береговой гальке и драли глотку, сами не помня, каким образом ухитрились совершить головоломный спуск. К моему удивлению, обошлось совсем без синяков и ссадин, хотя, если судить по разорванной в клочья одежде, большую часть пути вниз они проделали кувырком. Философически рассудив, что, наверное, на долю Улисса и его хмельных сопутников выпадали такие же приключения после неумеренных возлияний в обители Эола, я втащил трех беспутников в шлюпку, уложил на настил и отвез на «Арго».
На седьмой день ветер стих, и мы продолжили плавание вдоль побережья Крита в сторону Грамвусы. Возвышенность, венчающую западный конец острова, узнаешь издалека по плоской макушке, словно кто-то срезал вершину тесаком. Подойдя ближе, мы увидели крутые скалы, которые окаймляют весь остров, вздымаясь на западе на головокружительную высоту. Единственным подходящим для высадки местом был защищенный двумя рифами пляж, обращенный на юг, но и здесь скалы отступили от воды всего на полсотни метров, так что с тыла пляж ограждала каменная стена, часть всего бастиона.
Удивительные скалы Грамвусы настолько точно отвечают этому описанию, что я попросил экспедиционного художника Уилла зарисовать контуры острова. Заняв удобную позицию на соседнем островке, Уилл целый день делал наброски, когда же вечером вернулся к нам, то поделился примечательным наблюдением.
— Странно, — сказал он, — как рисование помогает увидеть детали, которых обычно не замечаешь. Когда я начал присматриваться к этому огромному скальному фасаду, мне бросилось в глаза правильное расположение горизонтальных и вертикальных трещин. Они так ровно распределены, что можно подумать, будто перед тобой огромная стена из прямоугольных блоков, сложенная людьми.
И уже без его подсказки на закате все мы обратили внимание на другое явление. В силу какой-то игры света весь обращенный на запад отвес каменного бастиона Грамвусы из серого стал красным, как только что выплавленная медь — металл, из которого у Гомера сложена стена вокруг острова Эолия.
Все это можно назвать принятием желаемого за действительность, если бы не факты, запечатленные нами на рисунках и фотографиях. В Эгейском море десятки островов, обрамленных живописными скалами, но защищенные гавани очень редки. Так, несколько севернее Грамвусы лежит скалистый остров Ложный Грамвуса, где совсем негде высадиться, не говоря уже о том, чтобы укрыть от ветра флотилию галер. Тогда как сам Грамвуса — превосходное место как раз для такого поселения бронзового века, в каком обитал со своим семейством Эол.
Плоская вершина главной возвышенности идеально подходила для акрополя бронзового века. Подступы к ней надежно защищены природой, и места для жилых домов и складских строений вполне достаточно. Широкое плечо скалы образует покрытое кустарником и вереском плато, удобное для выпаса овец и коз, поставлявших мясо для роскошных пиров Эола. Это пастбище по сей день знаменито особым вкусом, который солоноватый подножный корм придает мясу полудиких овец, не нуждающихся в пастухе в глухом, но благодатном уголке. Единственный минус — отсутствие наверху пресной воды, но ее можно было запасать в цистернах: на пляже внизу есть родник, который обеспечивал все поселение превосходной пресной водой, когда остров не подвергался осаде.
Улисс и его сопутники гостили у радушного хозяина медностенного острова целый месяц. Спрашивается: почему капитаны двенадцати судов так долго мешкали, если всем не терпелось скорее вернуться на родину? Думаю, они ждали благоприятного ветра для перехода до Пелопоннеса, ждали на острове, который всегда был отправным пунктом галер, пересекающих этот участок открытого моря.
Грамвуса — идеальное место для остановки в пути. Якорная стоянка укрыта от всех ветров, особенно надежно — от недоброго северного ветра. Вполне обеспеченный собственными ресурсами и практически недоступный, остров можно назвать стратегически важной частью Крита. До сих пор сохранились фундаменты караульных помещений, построенных немцами для наблюдательного поста во время Второй мировой войны. Гребень скальной гряды венчают развалины могучей крепости, сооруженной венецианцами для охраны своих торговых путей и, как гласит предание, впоследствии проданной туркам за бочку цехинов. В XVIII веке островом завладели критские пираты, которые нападали на проходящие суда и в конце концов стали такой помехой для морской торговли, что английские ВМС снарядили крупную экспедицию для борьбы с ними. Однако скальный бастион надежно защищал остров, и взять его штурмом оказалось невозможно. Грамвусу подвергли осаде, длившейся все лето, и осаждающие заняли пляж с родником, вынудив защитников бастиона обходиться водой, запасенной в цистернах. Лишь когда этот запас кончился, пиратская цитадель сдалась. Ее уцелевшие обитатели — мужчины, женщины и дети — находились в крайней степени истощения, и местное предание гласит, что только один человек спасся от плена, укрывшись в пещере. То была жена главаря пиратской шайки, по имени Вуса, и будто бы в ее честь остров получил свое нынешнее название. В Древней Греции он был известен как Корикос, но это слово мне ничего не говорило, когда мы пришли сюда на «Арго».
Так уж совпало, что мы добрались до Грамвусы в тот самый день, когда с Крита на рыбачьих судах прибыли участники повторного освящения маленькой часовни Двенадцати Апостолов у пляжа. Обычно остров безлюден, кроме случаев, когда рыбаки используют древнюю якорную стоянку, чтобы переночевать на берегу и запастись пресной водой из родника. Однако в этот день в бухточке собрались десятки судов, битком набитых критянами, которые припасли корзины с едой и большие пластмассовые бутыли с вином.
Привольно расположившись на берегу, они устроили пикник под низкорослыми деревьями у родника. Молодые парни по двое, по трое, с ружьями, веревками и собаками отправились охотиться на полудиких овец. Жалобное блеянье, напоминающее детский плач, возвестило, что охотники возвращаются с добычей. Принеся на плечах с полдюжины барашков, они сбросили их в ямы на берегу, где тем предстояло ждать экзекуции. Молодой священник отслужил молебен перед часовней. Затем развели несколько костров, зарезали барашков, разделали туши и опустили в котлы. Пока варилось мясо, критяне пели и танцевали, сперва под звуки собственных скрипок и гитар, потом, когда исполнители притомились, под музыку неизменных спутников современного человека — кассетных магнитофонов. Шумное веселье тянулось далеко за полночь. Несколько суденышек ушли, но большинство осталось, и гулянка продолжалась под салюты ружейных залпов. Уже только самые выносливые гуляки, не поддаваясь сну, хрипло голосили пьяные припевки, наконец и они умолкли, уступив место странному тревожному щебетанью. То морские птицы, спугнутые людским гомоном со своих ниш на отвесных скалах, парили над бухточкой, пока не наступил рассвет.
Когда настало время Улиссу покидать остров Эола, он пришел к повелителю ветров с просьбой:
Как согласуется описанный здесь участок пути с реальными условиями плавания от Грамвусы до Итаки? Вновь перед нами весьма подозрительная цифра — девять дней плавания и подход к суше на десятый день. Ровно столько занял путь от мыса Малея до страны лотофагов, так что речь, возможно, идет всего лишь о поэтической формуле. При нормальном ходе «Арго» свободно мог пройти от Грамвусы до Итаки за девять дней, особенно если, как было заведено у мореплавателей бронзового века, где-то останавливаться на ночь. При западном ветре на этом участке требовалось осмотрительно маневрировать парусом; так ведь Улисс как раз на это намекает, подчеркивая, что все время сам правил кормилом. «Арго» уже показал, что при толковом управлении и умело размещенном балласте галера может идти в пол ветра, даже под острым углом к ветру. Для перехода от Грамвусы к западному побережью Пелопоннеса и к Итаке нужен был юго-западный ветер, а Зефир, который Эол даровал флотилии Улисса, мог быть и западным, и юго-западным, и северо-западным. Гомер, как и его преемники в классическом периоде, не соблюдал точность в определении компасных румбов. Скажем, зимний вест помещался южнее летнего, поскольку определялся исходя из того, в каких точках горизонта солнце всходило и садилось. Наименования «север», «юг», «восток» и «запад» часто были всего лишь наименованиями ветров, так что направление обозначалось довольно приблизительно.
Словом, описываемый Улиссом ход событий физически вполне возможен, хотя утверждение, что он не спал девять суток и с кораблей уже было видно огни на береге отчизны, когда случилась беда, выглядит поэтическим преувеличением. Причиной беды явилось подозрение сопутников Улисса, что он обманывает их и в подаренном Эолом мехе хранится нечто ценное. Эпизод, который ясно говорит о жадности и недисциплинированности итакцев и неспособности предводителя завоевать их доверие. Сопутники Улисса были твердо убеждены, что он просто не хочет делить с ними сокровище.
Если неудачливый Улисс, которому упорно не везло с погодой, был отнесен обратно к Грамвусе, можно наглядно представить себе как он бредет по тропе, взбирается на скалу, достигает наконец обители Эола на плоской вершине, где рассказывает, что юго-западный ветер изменил ему и они взяли на себя слишком много, задумав с ходу достигнуть Итаки. Подувший снова мелтеми погнал их обратно к Грамвусе, где им удалось найти укрытие. На сей раз, говорит Улисс, повелитель ветров отказал им в помощи. Заключив, что на Улиссе лежит проклятие, Эол приказал ему тотчас покинуть остров. Скорее всего, Эолу попросту не улыбалось еще месяц кормить и развлекать всю флотилию Улисса.
Большинство греческих и римских авторов, веривших в реальность гомеровской географии, помещали остров Эола в другом месте. По их гипотезе, медностенная обитель повелителя ветров находилась в 500 милях от Грамвусы, совсем в другой части Средиземного моря. Потому-то вулканические Липерские острова к северу от Сицилии до сих пор иногда называют Эолийскими. В этой группе семь островов, но древние авторитеты расходились во мнении о том, на котором из них жил Эол. Одни называли Стромболи с его действующим вулканом, другие — Липари, самый крупный; дескать. Эол предсказывал направление ветра, наблюдая дым над жерлами соседних вулканов. Однако Гомер ничего не говорит о действующих вулканах, а какой же поэт прошел бы мимо такой детали. Но главный изъян упомянутой гипотезы заключается в том, что направлять Улисса домой к Итаке от островов, расположенных к северу от Сицилии, значит — предлагать совершенно невероятный маршрут. Его флотилия должна была пройти через Мессинский пролив между Сицилией и носком итальянского сапога и пересечь все Ионическое море. Застигнутые перед самой Итакой бурей, якобы вызванной тем, что был развязан мешок с ветрами, корабли были отнесены обратно через то же море, вновь проследовали через упомянутый пролив (очень маловероятный курс) и опять пристали к Липарским островам. Такое плавание — будь то случайное или намеренное — совершенно неправдоподобно. Больше того, те самые авторы, которые помещают Эолию в Липарском архипелаге, утверждают, что впоследствии Улисс столкнулся в Мессинском проливе с легендарными чудовищами Сциллой и Харибдой. В таком случае трудно понять, как он дважды их не заметил, ходя взад-вперед через тот же пролив. Впрочем, дальше мы увидим, что общепринятая, кажущаяся безошибочной привязка Сциллы и Харибды к Мессинскому проливу, отстаиваемая комментаторами с V века до н. э. вплоть до наших дней, тоже не выдерживает строгой проверки.
Зато характеристики Грамвусы, как я смог убедиться, посетив на «Арго» этот остров, настолько близки к описанию Гомера, что он куда больше подходит на роль Эолии. Тут и ключевая позиция на маршруте в сторону Итаки, и необычная скальная стена медного цвета, и идеальное место для поселения бронзового века, и якорная стоянка, где суда могли ждать благоприятного ветра для перехода к мысу Малея. Словом, география и практика мореплавания говорили в пользу моей догадки, и все же я предпочел бы располагать дополнительным свидетельством, каким-нибудь древним преданием или сказкой, связывающими повелителя ветров с Грамвусой. Желательно было обнаружить соединительное звено вроде того, какое нашлось в случае с триаматами и циклопами; однако было похоже, что тут мне ничего не светит.
Через три месяца после возвращения домой я написал в Шеффилдский университет одной преподавательнице истории географии, прося сообщить, что ей известно о древней истории Грамвусы. Проконсультировавшись с коллегой, знатоком древней и современной истории Греции, она ответила мне, что раньше остров Грамвуса назывался Корикос. Это я уже знал, но следующая фраза письма явилась для меня откровением: «Корикос (кожаный мешок) — греческое географическое название».
Корикос — кожаный мешок. Вот оно, связующее звено. Во всей истории про Эола самая памятная деталь — как повелитель ветра заточил ветры в кожаном мешке. Разве стал бы кто-нибудь называть Грамвусу островом Кожаного Мешка, не будь для этого серьезной причины? Странное название, и, скорее всего, дело в том, что этот остров связан с народной сказкой о мешке с ветрами. Я сказал себе, что с опозданием на две тысячи с лишним лет найден ответ скептику Эратосфену. Правда, «Арго» и его команда не разыскали сапожника. Но мы установили местонахождение мешка.
Глава 7. Кровавая гавань
Словно гончая, взявшая след, «Арго» устремился вперед. Теперь мы искали место, в котором можно было бы распознать мрачную гавань, где одиннадцать кораблей направляющейся на родину флотилии попали в западню и были разбиты в щепки враждебными туземцами. Команды этих судов — четыреста восемьдесят человек, не считая троянских пленников, — барахтавшиеся в воде, подверглись жестокой расправе. Только Улисс и его товарищи на флагманском корабле избегли страшной участи. Остальные были съедены каннибалами.
Шесть дней понадобилось галерам, чтобы от острова Эола дойти до этого злополучного места. Улисс рассказывал:
В классической литературе не находим упоминаний Ламоса, так что главным ключом в поисках «страны лестригонов» было для нас описание гавани, где произошло побоище. Улисс говорит:
А потому мы искали характерную глухую гавань, обрамленную высокими скалами, с зажатым между двумя утесами узким входом, и чтобы в гавани было достаточно места для швартовки одиннадцати поставленных рядом галер; при этом они очутились бы словно на дне колодца, по краям которого выстроились враждебные туземцы-лестригоны, сбрасывая вниз камни, сокрушавшие тонкие корпуса галер. Следовало учитывать и еще два возможных ключа, хотя эти детали скорее озадачивали прежних комментаторов, чем помогали им. Первый, более загадочный ключ содержится в словах о том, что «легко б несонливый работник плату двойную там мог получить, выгоняя пастися днем белорунных баранов, а ночью быков криворогих: ибо там паства дневная с ночною сближается паствой». Другими словами, лестригоны обитали вблизи границы между днем и ночью. Второй фрагмент информации ясен без расшифровки: многовратный город снабжался водой из Артакийского ключа.
Руководясь принципом, согласно которому приключения Улисса до сих пор привязывались к главнейшим поворотным точкам естественного маршрута, я предположил, что вернее всего искать роковую гавань лестригонов у следующего за Малеей важного мыса на логическом пути следования к Итаке, а именно у образующего крайнюю южную точку материковой Греции мыса Матапас, известного в древности под названием Тенарон.
Для полной уверенности, что нами не будут пропущены другие возможные гавани лестригонов, мы решили проверить на «Арго» каждую милю пути от Грамвусы до Тенарона.
Когда мы приблизились к острову Андикитира, курс галеры пересекли восемь-девять плывших на север дельфинов, которые тотчас свернули к нам и затеяли игры перед носом «Арго». Лихо выскакивая из воды, они снова ныряли и стремительно плыли вперед, энергично работая всеми мышцами обтекаемого тела. Один особенно любопытный дельфин минут десять плыл в двадцати метрах впереди «Арго», рассматривая галеру и время от времени поднимаясь вертикально над водой на три четверти своей длины, чтобы заглянуть через планширь. Любопытство этого дельфина я соизмерил бы с ликованием Назыма. Наш сирийский товарищ, никогда не видевший резвящихся дельфинов на воле, был в восторге. Большой любитель животных, он на всех стоянках в порту подкармливал кошек и собак отходами с камбуза. Теперь Назым ринулся на нос галеры, пораженный увиденным, замер там с сияющими глазами, сопровождая кульбиты и кувырки дельфинов восклицаниями: «Ля! Вуаля! Регарде!» Спектакль и впрямь был великолепный, и весело резвящиеся дельфины до того походили на своих собратьев, изображенных на фресках минойских дворцов, что я сказал себе: лучше всего наблюдать эту водную феерию именно с борта галеры бронзового века, которая, с ее дельфиньими обводами и намалеванным на носу испытующим глазом, сама скользила по волнам, будто морское животное.
Мы тщательно обследовали со всех сторон Андикитиру, обошли вокруг Китиры, но не нашли ничего подходящего. Заливов и бухт, окруженных крутыми скалами, хватало, но ничто из них даже отдаленно не напоминало лестригонскую западню. Наиболее тесные бухты не смогли бы вместить одиннадцать стоящих рядом галер, а к удобным стоянкам примыкали либо плавно спадающие к берегу долины, либо проложенные зимними ручьями лощины. С каждым разом становилось все яснее: гавань, подобная каменному мешку — если таковая вообще существует, — большая редкость.
Покинув Грамвусу, флотилия Улисса (если и тут принять на веру подозрительную цифру шесть, кратную трем) могла пройти от 140 до 240 миль в сторону Итаки. Дистанция может быть определена лишь весьма приблизительно, потому что скорость галеры в огромной мере зависит от числа гребцов, от того, сколько часов в день они гребут, от обрастания корпуса судна, от влияния жары на людей, от размеров груза, от настроения команды, от направления даже самого слабого ветра. Большие военные галеры классического периода могли идти на веслах со скоростью 4–6 узлов, так ведь на них помещалось до 160 человек, которые гребли поочередно. Самые протяженные суточные переходы достигали внушительной цифры 150 миль с лишним, но речь идет об исключительных достижениях единичных судов, выполнявших срочные задания. Наиболее достоверные данные свидетельствуют, что гребные суда (включая средиземноморские галеры венецианцев) в дальних переходах делали в среднем не больше двух узлов, поскольку многодневная гребля истощала энергию людей.
Разумеется, идти на веслах без перерыва шесть дней и ночей, не давая людям передышки, как уверял Улисс, было невозможно. В своем 1500-мильном плавании в Грузию «Арго» проходил за день в среднем от 25 до 30 миль, на ночь приставая к берегу, чтобы команда могла растянуться на пляже и как следует отдохнуть после пяти-десяти часов тяжелой работы веслами. Мы быстро выяснили, что спать на галерной банке — доске шириной 20 и длиной 120 см мог только основательно уставший человек. Три-четыре ночи в таких условиях гасили энтузиазм даже самой энергичной команды, и у нас нет никаких причин полагать, что итакцы Улисса, которые, «утомяся от гребли, утратили бодрость», были готовы грести по ночам. Скорее, у них были веские причины двигаться не торопясь. Не будем забывать, что флотилия в целом должна была идти со скоростью наиболее тихоходного из двенадцати кораблей. Передовым приходилось ждать отстающих, которые, недовольные тем, что командам более быстрых галер представился случай передохнуть, требовали отдыха и для себя. К тому же галеры были тяжело нагружены. Кроме провианта и воды на шесть дней, они везли добычу из Трои, кувшины с вином, медь и драгоценные металлы, пленников и все военное снаряжение, служившее им в многолетней кампании. Добавим, что команды, как указывает Улисс, были крайне деморализованы после ряда злоключений и невезения с погодой. Ничто не подрывает моральный дух гребцов так, как ощущение того, что погода упорно их не жалует, и хотя сопутники Улисса не могли подозревать, что теперь идут навстречу своей гибели, вряд ли они гребли с большим воодушевлением. При таких условиях хорошо, если галеры проходили 25 миль в сутки.
Таким образом, в шести днях пути от Грамвусы странники, надо полагать, очутились где-то у второго корня пелопоннеского зуба — полуострова Мани с мысом Тенарон. И увидели картину, от которой, вероятно, еще сильнее пали духом. Полуостров Мани, врезающаяся в Средиземное море гряда угрюмых обветренных скал, — один из самых мрачных и суровых уголков Греции. На суше он почти совсем отрезан от остального Пелопоннеса острыми гребнями Тайгетских гор. С моря вашему взгляду представляется опаленное солнцем, зловещее, серовато-коричневое нагромождение крутых утесов и ущелий, с обделенной зеленью центральной грядой. Сам мыс Тенарон не может похвастать ни красотой, ни величием. Груды зазубренных скал спадают в море, где их встречает сварливый прибой. Недаром греческая мифология помещала у Тенарона вход в ад. Через одну из здешних пещер путник мог попасть в преисподнюю.
«Паства дневная с ночною сближается паствой»… Может быть, говорил я себе, есть какая-то связь между загадочной фразой Улисса и этим входом в Аид? Мы лишь очень приблизительно представляем себе, каким представлялся мир жителям Греции конца бронзового века. Судя по поэмам Гомера и творившего примерно в одно время с ним Гесиода, они считали, что живут на материке, окруженном вечно текущей рекой Океан. Над головой у них высилась на колоннах опрокинутая чаша небес. Под землей помещалась глубочайшая бездна; целый год понадобился бы падающему камню, чтобы достичь преисподней, где обитали тени умерших. Когда светило в конце дня уходило за горизонт, его лучи на короткое время озаряли мрачное подземелье. Эллинам представлялось, что солнце затем плыло по реке Океан на небесном челне в виде золотой чаши и на рассвете вновь появлялось на востоке, чтобы повторить свое повседневное странствие по небосводу.
Может быть, для древнейших греков обитаемый мир кончался у западных рубежей самой Греции? И как отразилось бы такое воззрение в географии «Одиссеи»? Гомер упоминает много стран на востоке — Египет, Сирию, Кипр; в микенскую эпоху греки жили и на другом берегу Эгейского моря, принадлежащем теперь Турции. А про западные земли в «Одиссее» почти ничего не сказано. Упоминается Сицилия — возможно, позднейшее добавление к тексту, — вот и все. Даже западные области Греции описаны смутно, как если бы они помещались на краю известного мира. Если в те времена, когда складывался древнейший фольклор, географический кругозор людей кончался у западных рубежей Греции, мы вправе помещать здесь берег реки Океан, у которого солнце садилось в золотой челн, мельком осветив преисподнюю. Именно так мог воспринимать происходящее человек, стоящий на мысе Тенарон, в крайней южной точке Греции, провожая взглядом солнце, когда оно ныряло в море на неведомом и загадочном западе. Тогда обретает смысл и представление о Тенарской пещере как о вратах Аида. Мыс находился на границе между обитаемой землей, рекой Океан и мрачным царством мертвых. И становится понятно, почему, согласно «Одиссее», здесь «паства дневная с ночною сближается паствой», ведь с исчезновением солнца выходила из сумрачного подземелья ночь.
Именно так рассуждал Гесиод, связывая конец дневного пути солнца с краем света и входом в Аид. Он даже пользовался чуть ли не теми же словами, что и Гомер, описывая это место:
Тенарон был, так сказать, естественным краем света. В буквальном смысле он являлся крайней обитаемой точкой материковой Греции, и знаменательно, что мыс, впоследствии посвященный Посейдону, прежде был посвящен богу солнца Гелиосу. Согласно песне, которую приписывали Гомеру, но теперь считают творением другого, более позднего поэта, здесь находился «приморский город Гелиоса, радующего смертных, бога, чьи многорунные овны вечно пасутся и размножаются». Не здесь ли кроется объяснение таинственных стад в месте сближения дня и ночи, где «работник плату двойную… мог получить, выгоняя пастися днем белорунных баранов, а ночью быков криворогих»? В контексте «Одиссеи» оконечность полуострова Мани — мыс Тенарон — представлялся мне еще одним пунктом, где миф и легенда перекликались с реальными событиями в передаче Гомера.
Вновь возникла нужда в какой-нибудь перекрестной ссылке, подтверждающей догадку, что мы все еще идем по следам Улисса. И подтверждение было получено 22 июля, когда мы нашли гавань, подобную каменному мешку. Утром мы вышли из Порто-Гайо, надежно укрытой бухты на восточной стороне Тенарона, однако слишком широкой, чтобы выход из нее могли запереть бросающие камни лестригоны. Огибая мыс, мы прижимались чуть ли не вплотную к скалам, ища нетерпеливым взглядом знаменитые ворота в преисподнюю. Но либо пещера была слишком мала и мы ее проглядели, либо, если верить недавно возникшей гипотез, она помещалась не на уровне моря, а над берегом бухты Асомати к востоку от мыса. Ученый и путешественник, профессор Гринхэлдж, пишет в книге «В недрах Мани»:
Пещеру по-прежнему можно видеть у галечного пляжа ниже разрушенной церкви Асомати, по имени которой названа бухта. Приблизительно овального сечения, с несколькими закопченными впадинами в северо-западной части и следами каменной кладки внутри, она почти полностью открыта небу. Длина пещеры — около девяти метров, глубина — не больше трех, и в ней укоренилось лиственное дерево, единственное во всей округе; словом, она никак не оправдывает устрашающую картину «Тенарского зева» у Вергилия, тем более, что мы смогли подтвердить наблюдения разочарованного Павсания, что «в дне пещеры нет никакого хода, ведущего вниз». И все же нет сомнения, что это та самая знаменитая пещера…
Итак, профессор Гринхэлдж тоже на деле увидел нечто куда менее внушительное, нежели то, что нарисовало поэтическое воображение. Врата ада оказались маленькой пещерой, а не зияющей каверной. Какими их расписывали древние, такими они остались и в легендах. Мы снова столкнулись с тем, чему нас научила Троя, а заодно впервые на нашем пути возник человек, коему предстояло сыграть ключевую роль в дальнейших поисках. Павсаний, которого, по словам Гринхэлджа, разочаровало отсутствие на Тенароне хода, ведущего в ад, был греческим ученым; он тоже искал в Греции следы гомеровского мира, но занимался этим восемнадцать столетий назад, во времена римского императора Адриана. Ему принадлежит остроумное наблюдение, сыгравшее важную роль в работе нашей экспедиции: Павсаний отметил еще одни врата ада, значением которых для географии «Одиссеи» часто пренебрегали, потому что они вроде бы не укладывались в общий контекст. А между тем идея Павсания отлично вписалась в ряд наших открытий.
После Тенарона берег Мани поворачивает на север. Галера послушно повернула следом, и команда продолжала высматривать каменный мешок. Бухта Мармарис в двух милях от мыса не оправдала наших надежд. Правда, один рукав ее был с двух сторон огражден скалами, однако он напоминал очертаниями крутую дугу и в глубине упирался в пологую долину, откуда спускалась тропа к источнику на берегу. Идеальное место для купальщиков — и совсем не то, что искали мы. На высотах над бухтой шло тщательное восстановление сельских построек прежнего типа. Архитектура маниотов как нельзя лучше отвечает природе полуострова: их дома напоминали крепости. Маленькие окна в толстых каменных стенах обеспечивали хороший угол обзора для стрельбы и защиты массивных дверей, призванных выдержать вражеский штурм. Для наблюдателей были сооружены сторожевые башни; парапеты защищали стрелков и других воинов, которые сбрасывали камни на голову противника, пытавшегося поджечь двери, или поливали его кипящим маслом и водой. Любой армии было бы непросто вести уличные бои в маниотском селении; однако эти миниатюрные крепости предназначались не для устрашения чужеземных интервентов. Маниоты подчас окружали свои селения крепостной стенной потому, что опасаться следовало собственных соседей. Клан воевал против клана, род враждовал с родом, точно хорьки в мешке. Трудно представить себе более жестокосердные общины. Люди строили дома, держа в уме убийства, засады и вылазки врагов, живущих на той же улице.
Мало чем отличалось их отношение и к внешнему миру. Бесплодный, каменистый, засушливый полуостров не мог как следует кормить своих обитателей, зато он был подобен зазубренному шипу, вонзенному в главную артерию каботажной торговли. Маниоты жили морским разбоем. Говорили, что их жестокость не знала предела. Они занимались работорговлей, одинаково охотно продавая христиан мусульманам и мусульман христианам. Наживали состояния грабежами и выкупами, вымогали охранные деньги у владельцев торговых судов. За ними закрепилась слава людей, знающих морское дело, храбрых, кровожадных и вероломных. Даже жрецы маниотов были известны тем, что возносили молитву, чтобы боги прислали к пиратским берегам богатое торговое судно. Вот как об этом пишет Патрик Ли Фермор, наиболее речистый изо всех авторов, писавших про Мани (и построивший себе дом на полуострове):
Ни одно серьезное пиратское дело не обходилось без участия жреца. Он благословлял экспедицию перед выходом в море, молил богов о благоприятной погоде для пиратских судов и дурной для врага, взывал о снисхождении к душам погибших сотоварищей. Он отпускал грехи своей мореплавающей пастве; и следил за тем, чтобы часть добычи, нередко окропленная кровью, была подвешена в качестве дара богам рядом с иконами на грот-мачте. Если за восемь дней не удавалось захватить никакой корабль, он читал молитву на палубе; когда же показывалась вероятная жертва, вместе со всеми направлял в цель дуло мушкета и шел на абордаж, вооружась кинжалом и ятаганом.
Пиратов-маниотов Средневековья и XVII–XVIII веков можно назвать достойными преемниками лестригонов, которые уничтожили флотилию Улисса. В годы ли после Троянской войны или во время крестовых походов полуостров Мани служил идеальным местом для засады на неосмотрительных мореплавателей. И мы посчитали задачу опознания решенной, когда обнаружили гавань, вполне заслуживающую наименования каменного мешка. Мы вышли на нее примерно в 15 милях за мысом Тенарон, после долгого перехода под жарким солнцем вдоль высоченных скал Каковани, огромным горбом выступающих в залив Месиниакос. Среди ландшафта, и без того отличающегося мрачной враждебностью, Каковани мог вызвать жуть у любого кормчего бронзового века. Утес за утесом нескончаемой чередой обрываются в море, открытые внезапным шквалам с запада. Подле них негде бросить якорь и негде укрыться. Застигнутую штормом галеру здесь прихлопнуло бы о скалы, точно муху. Но и обойти этот участок нельзя. Огибая полуостров Мани, поневоле прижимаешься к утесам Каковани, так что весельное судно не меньше пяти-шести часов подвергалось серьезному риску. Несомненно, кормчие Улисса ощутили великое облегчение, когда, миновав последний выступ скальной стены, увидели, как утесы расступаются, открывая вход в защищенную гавань. Утомленные многочасовыми усилиями, распаренные жаром от накаленных солнцем каменных громад, гребцы чаще заработали веслами, спеша в желанное укрытие. За узким полуостровом (его современное название Тигани — «Сковородка») их ожидала, говоря словами «Лоции адмиралтейства», «лучшая гавань у западного побережья Мани». Речь идет о внешнем рейде, где крупные суда могли бросить якорь и наладить шлюпочное сообщение с берегом. Однако для галеры бронзового века здесь было еще более привлекательное убежище. В горном склоне у северной кромки залива словно выдолблена приметная выемка. Видимая за три мили, она своими причудливыми очертаниями манит морского скитальца. Приблизившись, видишь, что скалы тут образуют почти замкнутый круг. Два каменных рукава, понижаясь, оканчиваются выступами, которые как бы соприкасаются друг с другом, оставляя проход в самый раз для галеры. Осторожно работая веслами, чтобы не зацепить берега, мореплаватели оказывались в круглой чаше причудливого геологического образования, известного под названием бухта Месапо.
— Что-то мне здесь не по себе, — пробурчал Питер Уоррен, еще один ветеран экспедиции «Ясон», когда «Арго» протискивался через каменные клещи.
Неожиданно было услышать такое от Питера, дюжего мужчины, бывшего военного моряка, хотя вообще-то мы все разделяли его ощущения.
Галера очутилась в каком-то неестественно тихом, безветренном уголке, аномальном творении природы. В этой полости было что-то мертвенное, несмотря на веселые краски рыбачьих суденышек, которым она служила надежным убежищем. Нас окружал природный амфитеатр. Видимо, в отдаленном геологическом прошлом у самого берега в недрах горы находилась образованная подземными силами пустота. Море точило берег, пока не вторглось в каверну, ее своды обрушились, словно лопнувший пузырь, и открылся круглый водоем шириной около тридцати метров. Как раз такой величины, что в нем могли «тесным рядом» встать одиннадцать галер, как сказано у Гомера. И он нисколько не преувеличивал, говоря, что «там волн никогда ни великих ни малых нет». Прозрачная поверхность замкнутой акватории была совершенно неподвижна.
«Арго» лежал на ней, точно игрушечный кораблик в ванне. Не считая узкого входа, бухта была наглухо закрыта, избавляя от необходимости приставать к берегу. В глубине бухты метров на 25–30 возвышались изрезанные эрозией желтые скалы с нависающим над водой карнизом, вид которого рождал чувство клаустрофобии и затаившейся угрозы; казалось, он вот-вот обрушится на безмятежное водное зеркало. Всякий враг, пожелай он занять позицию наверху, мог и впрямь обрушить истребительный град камней на пришвартованные внизу корабли, разбивая их в щепки. Спастись отсюда было невозможно. Стоя на мысах у входа в бухту Месапо, два человека могли перекрыть его длинными шестами и поражать копьями рулевых. Моряков, которые барахтались в воде, силясь выбраться на берег, ничего не стоило пронзить острогой, словно рыбу в садке. Именно так описывает Улисс побоище, учиненное лестригонами. Их царь Антифат
Улисс со своей командой спасся лишь потому, что его галера не вошла в смертельную ловушку, пришвартовавшись к одному из мысов. Остальные корабли направились прямо в бухту, он же «…свой черный корабль поместил в отдаленье от прочих, около устья, канатом его привязав под утесом».
Когда началась атака лестригонов, Улисс
Бухта Месапо с ее нависающими скалами во всем отвечает приметам места кровавой резни, и южный мыс вполне мог быть тем пунктом, где Улисс пришвартовал свою галеру. Сама природа словно приспособила его для высадки рыбаков с дневным уловом. Топография местности до такой степени совпадает с описанием в «Одиссее», что я мог бы и усомниться в тождестве, как это было с пещерой циклопов на Крите. Но если сюжет с циклопами настолько широко известен, что людям с развитым воображением всякая подходящая пещера может показаться мифическим логовом великана, то за двадцать лет плавания по морям я ни разу не видел ничего подобного бухте Месапо, и, насколько мне известно, никто не высказывал предположения, что она могла быть гаванью лестригонов. Обнаруженное нами свидетельство было свободно от традиционных толкований; просто Месапо — место, точно отвечающее описанию в «Одиссее» и к тому же находится в нужной точке каботажного маршрута. Подобно тому как Грамвуса подходила на роль острова Эола, так и эта бухта отвечала всем требованиям логики. И однако никому не приходило в голову заглянуть сюда.
На роль гавани лестригонов предлагались, не слишком убедительно, многие места. Страбон указывал на район Лентини на острове Сицилия, но его кандидат расположен далековато от моря. Ряд римских комментаторов отдавали предпочтение одному из участков залива Гаэта, вблизи итальянской области Лацио, однако там нет подходящих гаваней. Называли также живописный длинный залив Котор в Югославии, гавань Бонифачо на Корсике, Порто-Поццо на Сардинии. Во всех этих местах есть нависающие скалы и надежно укрытые бухты, а на Сардинии к тому же сохранились остатки высоких каменных башен бронзового века, которые вполне могли бы служить цитаделями свирепых лестригонов. Но мы не видим тех размеров, которые отличают гавань, описанную Гомером. Упомянутые бухты слишком велики, чтобы стать западней для одиннадцати галер. Широкие входы позволяли отступить без каких-либо помех со стороны местных обитателей. Ширина залива Котор в самом узком месте — около 300 метров; никакие воины бронзового века не могли бы перекрыть выход из него ни копьями, ни стрелами. Порто-Поццо лишь отдаленно похож на «каменный мешок» Гомера; ширина входа в гавань Бонифачо — 100 метров.
Если принять за искомое столь точно отвечающую описанию бухту Месапо, то кем же были лестригоны? И как насчет еще одной приметы — Артакийского ключа, у которого, по словам Улисса, его лазутчики встретили пришедшую за водой дочь царя Антифата? Я спрашивал жителей селения, есть ли поблизости ключ, называемый Артакийским. Мне отвечали недоуменными взглядами. Никто не слышал о таком источнике.
Правда, лестригонские наименования могли быть символичными. В литературе встречаются указания, что «слово „лестригоны“ ассоциируется с истреблением, Антифат — с убийством» и так далее. Вероятно, то же можно сказать об Артакийском ключе. А может быть, Гомер просто заимствовал название из еще одной знаменитой поэмы, посвященной походу Ясона и аргонавтов за золотым руном. Эти мореплаватели тоже на одной стоянке подверглись нападению великанов, которые сбрасывали сверху камни, чтобы запереть их корабль в заливе. Во главе с Гераклом аргонавты успешно отбили атаку, многих противников убили, остальных принудили отступить в горы. Район этого боя надежно привязывается к южному берегу Мраморного моря, к заливу Эрдек (турецкая форма слова Артакия), и на окраине одноименного города есть источник, носящий имя Ясона. Плывя годом раньше по следам аргонавтов, мы на «Арго» заходили в Эрдек и сами видели этот источник. Гомер, несомненно, знал историю о Ясоне; он касается ее в «Одиссее». Но что могло навести его на мысль об Артакийском ключе при рассказе о Месапо? Конечно, обе засады великанов схожи между собой, но, может быть, есть еще какие-то связки? Известно ведь, что Артакия — одно из имен Артемиды, древней богини плодородия. В греческой мифологии все Тайгетские горы, включая полуостров Мани, почитались излюбленным охотничьим угодьем Артемиды и ее юных спутниц-нимф, которые прислуживали богине с девяти лет до брачного возраста. Этих дев часто называли «арктои» — «медведицы»; и сама Артемида иногда принимала медвежий облик, отсюда смешение ее с Великой матерью богов в Малой Азии. Посвященные Великой матери горы над гаванью Эрдека назывались Медвежьими. Вполне резонно предположить, что Гомер, согласно которому Тайгетские горы были посвящены Артемиде, создавая поэму о возвращении Улисса из Трои, соединил два предания, перенеся Артакию Ясона в Улиссов край Артемиды. И все же признаюсь: меня не оставляет надежда, что в один прекрасный день в районе Месапо, в охотничьих угодьях Артемиды-Артакии, будет опознан Артакийский ключ в дополнение к примечательной глухой гавани.
Нынешнее селение Месапо верно духу негостеприимных предков. Когда-то здесь разгружались пароходы с припасами для жителей Мани, и у самого берега расположилась деревушка, которая, однако, с тех пор пришла в полный упадок, поскольку всю заботу о снабжении маниотов взяла на себя современная автомагистраль, проложенная вдоль гребня полуострова, минуя прибрежные селения. Месапо производит весьма запущенное впечатление, и поведение местных жителей отнюдь не скрашивает безрадостную картину. Вечно голодный Дерри с великим разочарованием отозвался о далеко не свежей, зато непомерно дорогой мелкой костистой рыбе, поданной ему на непрезентабельном жирном блюде в грязной таверне.
— Они были и есть пираты, — бурчал он.
Кормак так же критически отозвался о ценах на теплое пиво.
— Костас! — пробасил он. — Скажи им, чтобы к нашему ужину охладили три дюжины бутылок!
Капитан Костас, бывший летчик греческого аэрофлота, выполнял у нас роль переводчика. Седовласый и учтивый, он неизменно производил на своих соотечественников впечатление повидавшего мир солидного человека, хотя на самом деле был большой любитель розыгрышей. Вечером пиво оказалось таким же теплым, рыба так же скверно зажаренной, цены пиратски высокими.
— Наша галера — только первая ласточка, — важно заверил Кормак угрюмого хозяина таверны, весьма озадаченного странным появлением судна бронзового века. — Речь идет о новом туристическом мероприятии. Отныне каждую неделю сюда будут приходить такие корабли, только еще больших размеров, с полусотней пассажиров на каждом, и все эти люди будут мучиться жаждой. На вашем месте я заготовил бы для них побольше пива и продуктов. Не прогадаете.
Судя по тому, как загорелись глаза кабатчика, когда он слушал перевод Костаса, маниот готов был поверить словам серьезного тучного ирландца.
Глава 8. Дворец царя Нестора
На расписанном мелкой рябью белом песке под водой резко очерченным черным пятном отпечаталась тень «Арго». Подповерхностные волны так бережно гладили дно, что даже стебли умершей морской травы лежали совсем неподвижно сомкнутыми бурыми рядами. И вода была так чиста, что казалось — галера покоится на прозрачной пленке в метре над песчаным грунтом. Идеальное место для очистки корпуса от тонкого покрова водорослей, и я попросил членов команды вооружиться щетками и скребками и прыгать за борт. Весьма довольные таким заданием, они весело плескались в теплой воде, обрабатывая каждый свой участок обшивки.
Белый песок на дне под «Арго» объясняет, почему Гомер называл эти места «Пилос песчаный», и теперь нам известно, что здесь помещался порт старого царя Нестора, третьего в ряду наиболее могущественных правителей, объединившихся для осады Трои. Сейчас мы на время расстанемся с Улиссом, возвращающимся на свой родной остров, ибо как раз ко двору царя Нестора направился сын Улисса, Телемах, за сведениями о пропавшем отце. Исследователи давно определили, что в «Одиссее» соединены по меньшей мере четыре различных, некогда самостоятельных сказа. Это сказ о поисках отца Телемахом, история посещения царем Менелаем Египта, сага о возвращении Улисса в Итаку и эпизоды морского путешествия, известного как «великое странствие» — собственно «Одиссея». Однако я постараюсь показать, что поэма содержит еще и пятый компонент, отражающий фольклор Ионических островов и особо важный для дальнейшего рассказа, поскольку тот описывает наиболее эффектные приключения Улисса.
Соединяя в одном повествовании все эти отдельные нити, Гомер не очень заботился о том, чтобы тщательно загладить стыки, и его явно не смущали противоречия в композиции. Так, посещение Пилоса Телемахом в самом начале «Одиссеи» описано отдельно от странствий Улисса. Это объясняет, почему в поэме не говорится о заходе в Пилос самого Улисса, хотя этот город находился на его пути домой после встречи с кровожадными лестригонами. Посещение Пилоса не вписывалось в сагу о «великом странствии», повествующую о приключениях у рубежей известного микенцам мира.
Нестор вышел из «Пилоса песчаного» на девяноста кораблях, чтобы присоединиться к греческому флоту для участия в войне против Трои, и в «Пилос песчаный» он возвратился, когда кончилась эта война, совершив плавание, безмятежности которого могли позавидовать остальные герои. Ибо царю Нестору очень везло с погодой, как и во всем остальном. Он был богат, почитаем и прожил долгую жизнь. Больше того: обратясь через века к наследию Нестора, археология очень милостиво обошлась с ним.
В полутора часах ходьбы от идиллической серповидной бухты, где бросил якорь «Арго», находятся в горах развалины дворца, образцово раскопанные со скрупулезным соблюдением правил «новой археологии», которая отнеслась к памяти Нестора куда милосерднее, чем «старые» археологи, так безжалостно разрушавшие саму Трою. Правда, и Пилос едва не постигла та же участь. Еще до того, как заняться Троей, Шлиман присматривался к местности вокруг песчаного залива, ища обитель Нестора, и четырнадцать лет спустя энергичный немец снова прибыл сюда, влекомый догадкой, что где-то здесь помещалась резиденция царя. Будь Шлиман малость удачливее или потрать он на поиск чуть больше дней, раскопать Пилос, пользуясь опустошительной методикой тех времен, возможно, довелось бы ему, а не спокойному, учтивому американскому профессору, чей отряд в конце концов так тонко и аккуратно выполнил эту работу.
Карл Блеген, замыкающий нашу троицу выдающихся археологов-гомероведов, весьма отличался от своих предшественников — Шлимана и Дерпфельда. Если первым двум был свойствен цветистый и назидательный стиль, то Блеген отличался сдержанностью и немногословием. Тем не менее он еще раз блестяще преуспел в исследовании изображенного Гомером исчезнувшего мира, когда открыл и описал жемчужину дворцовой архитектуры, предоставляющую уникальную возможность проверить точность — и неточности — текста «Одиссеи». Раскопанный Блегеном «дворец Нестора» позволяет нам сверить Гомеровы картины придворной жизни с физическими свидетельствами, добытыми лопатой археолога, и это сопоставление может сказать нам, в какой степени вообще следует доверять данным о странствии Улисса.
Блеген рос в небогатой американской семье и изучал античную литературу под руководством отца, преподававшего латынь и греческий язык в маленьком лютеранском колледже. Став профессором Цинциннатского университета, Карл Блеген, опираясь на финансовую поддержку богатого семейства Тафтов, возглавил третье основательное исследование развалин Трои. Продолжая труд обоих немцев, он применил новую систематическую методику, чтобы разгадать загадку — который из слоев Трои представляет город, опустошенный, по преданию, греками. К тому времени, когда Блеген прибыл на место, объект исследований был так разворочен предыдущими раскопками, что ему пришлось старательно разбирать обломки, критически анализировать объемистые немецкие полевые дневники и подтверждать собственные выводы кропотливым изучением немногих клочков, не тронутых кирками, лопатами и драглайнами предшественников, посчитавших эти участки не заслуживающими внимания. Скрупулезный анализ и щедрое по нашим временам привлечение рабочей силы и снаряжения на средства Тафтов позволили Блегену, как говорилось выше, внести поправки в выводы Дерпфельда, выявив более сложный комплекс слоев Трои. В итоге он заявил, что столицей царя Приама был относительно невзрачный город, известный теперь среди археологов под названием Трои VIIa. Это заключение, тщательно документированное и изложенное в сдержанных тонах, получило широкое признание среди коллег Блегена и сохраняет силу по сей день, потеснив версию Дерпфельда, будто город, описанный у Гомера, — более впечатляющая Троя VI.
Однако еще до того, как Блеген завершил свои работы в Трое, его внимание привлекла неувядающая проблема Несторова «Пилоса песчаного». Сдается даже, что эта задача прельщала Блегена куда больше, чем загадки Трои. Его Троянская экспедиция привела к весьма важному для гомероведов, смелому и доказательному пересмотру прежних выводов. Но там он рылся в уже раскопанном другими. «Пилос песчаный», сумей он его обнаружить, явился бы личным триумфом ученого, археологически девственным объектом.
К середине 1930-х годов давно были опознаны и находились в стадии раскопок две царских резиденции — Микены Агамемнона и Спарта Менелая. Оставались неразыгранными два больших приза — «Пилос песчаный» и резиденция Улисса на острове Итака. Поиски обители Улисса успеха не сулили, хотя ее настойчиво искали около ста лет; к тому же и здесь Блеген только шел бы по следам предшественников. Иное дело «Пилос песчаный», ставший своего рода химерой. Можно сказать, что он, по существу, исчез с карты Греции, а вернее, размножился, подобно делящейся клетке, так что звание «подлинного» Пилоса оспаривали три кандидата. Дерпфельд, занимавшийся, как и Шлиман, поисками резиденции Нестора, привязал ее к развалинам примерно посередине западного побережья Пелопоннеса, возле маленького городка Каковатоса. Главным его аргументом было наличие по соседству трех толосов — круглых в плане гробниц. Воззрение Дерпфельда совпадало с часто цитируемым мнением Страбона, чье толкование Гомера, появившееся две тысячи лет назад, стало для ученых чем-то вроде Священного Писания. Второй вариант помещал «Пилос песчаный» еще дальше на север, возле города Элиса, на том основании, что остров Итака расположен гораздо ближе к этому месту; однако оно находится слишком далеко от моря, чтобы признать в нем описанное Гомером приморское поселение. Третий вариант — тот, который уже проверял Шлиман.
Травянистый гребень высокого южного мыса у бухты Оксбелли (так называют серповидный заливчик, где теперь остановился «Арго») казался идеальным местом для древнего города. К тому же местное предание гласило, что именно тут жил Нестор, и одна из здешних пещер носит его имя. Окрыленный надеждой, Шлиман провел в ней раскопки, но нашел только горсть черепков; из них одни были слишком древними, чтобы отнести их ко временам Троянской войны, другие датировались гораздо более поздней порой. А потому Шлиман с присущей ему торопливостью покинул этот объект и поспешил обратно в Трою, чтобы упрочить свою вполне заслуженную славу.
Неразбериха вокруг Гомерова «Пилоса песчаного» возникла из-за столь частых в «Одиссее» противоречий. В начальных песнях Гомер повествует, как Телемаху опостылели осаждавшие дворец Улисса в Итаке женихи Пенелопы, которая двадцатый год блюла верность отсутствующему супругу. Поклонники с соседних островов Ионического архипелага рассчитывали сочетаться брачными узами с богатой вдовой и бессовестно злоупотребляли законами гостеприимства. Ежедневно они помногу часов проводили в доме Улисса, приударяя за служанками и ретиво истребляя дворцовые запасы пиши и напитков. Желая положить конец этому налету саранчи в человеческом облике, Телемах решает отправиться в Пилос и расспросить царя Нестора, что могло приключиться с Улиссом. Галера, на которой плыл Телемах, во всем была подобна нашему «Арго», и на своем двадцативесельном «черном корабле» он прошел все расстояние менее чем за сутки, покинув Итаку после заката и достигнув на другой день Пилоса задолго до прихода темноты.
Согласно Гомеру, Афина, покровительствовавшая Телемаху, «даровала… ветер попутный… зефир, ошумляющий темное море». При благоприятных условиях Телемах за указанное время мог покрыть сотню миль и очутиться вблизи того места, которому отдавал предпочтение Дерпфельд. Но ведь Гомер сообщает, что после беседы с Нестором сын Улисса отправился на колеснице к царю Менелаю в Спарту. На первый участок пути, от «Пилоса песчаного» до города Фера, ушло всего полдня. Фера находился поблизости от нынешнего административного центра Месинии — Каламаты; маловероятно, чтобы расстояние от Дерпфельдова Пилоса до Феры можно было так быстро преодолеть на колеснице. Да и двадцативесельная галера тоже должна была развить небывалую скорость, особенно с учетом опасностей ночного плавания, чтобы за неполные сутки пройти 130 миль до расположенного южнее настоящего Пилоса. Короче говоря, приводимые в «Одиссее» дистанции плохо стыкуются, и со временем что-то явно не так. Лишь одно можно было заключить с уверенностью: дворец Нестора находился где-то на западе Пелопоннеса и недалеко от моря.
Блеген убедил спонсоров, финансировавших его раскопки Трои, выделить средства на поиски Пилоса. В 1927 году он организовал совместную греко-американскую Микенскую экспедицию и направился в Месинию, полагая, что, скорее всего, там мог находиться дворец Нестора. Приступая к полевым исследованиям, Блеген руководствовался весьма простым соображением: в районе бухты Оксбелли, где местное предание помещало цитадель Нестора, обнаружено на редкость много толосов, которые считали гробницами микенских царей. Если здесь так много гробниц, рассуждал Блеген, где-то поблизости должен быть царский дворец, пусть даже Шлиман и Дерпфельд безуспешно искали его. В конце 1920-х и в 1938 годах Карл Блеген вместе с одним своим греческим коллегой, Константином Куруниотесом, несколько раз наведывался в эти места, опрашивая любителей старины и крестьян, случайно находивших древние изделия. К 1939 году поиск сосредоточился на трех наиболее вероятных точках. Самой многообещающей был гребень расположенной в трех милях от бухты Оксбелли невысокой горы Эпано-Энглианос. Среди оливковой рощи исследователи обратили внимание на груды торчащих из земли обломков древних строений. Но вот незадача: кругом не было видно следов каких-либо укреплений, что никак не вязалось с известными до тех пор местоположениями дворцов. Ничего похожего на толстые стены, защищавшие Микены, или на оборонительные сооружения Трои. Вершина окруженной низкими холмами Эпано-Энглианос была совершенно открытой — приятный уголок сельской природы с красивым видом на бухту. И когда отряд Блегена весной 1939 года приступил к раскопкам, главной заботой было не повредить оливковые деревья среди мирного буколического ландшафта.
Вопрос о компенсации землевладельцу еще не был решен, и археологи постарались проложить первый разведочный шурф в обход деревьев. Им повезло: они сразу вышли на дворец Нестора, притом на помещение, которое назвали «Архивным залом». Пожалуй, это была важнейшая находка всей экспедиции. В первый же день, 4 апреля 1939 года, Блеген и его люди раскопали пять образцов дворцовых бухгалтерских книг — глиняные плитки с микенскими текстами, выполненными линейным письмом Б. Расшифровка этих текстов изменила все бытовавшие представления о придворной жизни во времена Улисса. Систематическое изучение находок Блегена пришлось отложить до конца Второй мировой войны, зато, когда его провели, выявилось подлинное устройство общества, которое Гомер, отделенный от описанных им событий шестью веками, пытался изобразить, пользуясь дошедшими до него рассказами. Плитки с линейным письмом Б из «Пилоса песчаного» явились источником подлинных сведений о мире Улисса; в этом смысле профессор из Цинциннати и его коллеги узнали о царе Несторе больше, чем было известно самому Гомеру.
Примечательно, сколь точно некоторые детали в «Одиссее» совпадали о тем, что выявило великое открытие Блегена. Берег «Пилоса песчаного», к которому пристала двадцативесельная галера Телемаха, — это либо белая дуга песчаного пляжа у нынешней бухты Оксбелли, либо край заиленной лагуны сразу за бухтой. Телемах застал Нестора и его подданных на берегу, когда те приносили черных быков в жертву богу морей Посейдону. На девяти скамьях (опять эта подозрительная цифра) сидело по пятисот человек, и перед каждой скамьей было девять быков. Жертвоприношение только что свершилось, и пилийцы жарили мясо, предвкушая обильную трапезу, когда появился корабль Телемаха и команда, взяв парус на гитовы, ступила на землю. Сын Нестора, Писистрат, встретил странников и пригласил их занять места для почетных гостей. Телемах учтиво объяснил Нестору, что он — сын Улисса и надеется узнать что-нибудь об отце.
Здесь же, на берегу, Нестор поведал Телемаху, что после взятия Трои Менелай и Агамемнон повздорили, греческий флот разделился на две части, а Улисс откололся от всех со своими двенадцатью кораблями, и с тех пор его никто не видел. Корабли самого Нестора, вместе с отрядом царя Менелая, благополучно пересекли просторы Эгейского моря. Нестор затем продолжал путь прямо в Пилос, пользуясь попутным ветром, который ни разу ему не изменил. Он слышал, что отряды с Крита, из Мелибеи и Фессалии также благополучно вернулись домой. Что же до Агамемнона, то он по возвращении в Микены был убит возлюбленным своей жены, а царь Менелай — с ним Нестор расстался у мыса Сунион — был настигнут у Малеи бурей, отбросившей половину его кораблей к Криту. Остальные суда пристали к берегу в Египте, и после долгих скитаний «между народов иного языка» Менелай недавно вернулся в свой дворец в Спарте. Возможно, предположил Нестор, Менелай во время своих странствий что-то слышал об Улиссе; и правитель Пилоса посоветовал Телемаху посетить царя Спарты. Для этого он предоставил ему колесницу и назначил в провожатые Писистрата, чтобы тот представил Телемаха Менелаю. Пока же гостю было предложено остаться на ночлег во дворце, ибо, сказал Нестор: «Можно ль, чтоб сын столь великого мужа, чтоб сын Одиссеев выбрал себе корабельную палубу спальней, пока я жив и мои сыновья обитают со мной под одной кровлей, чтоб всех, кто пожалует к нам, угощать дружелюбно?» С этими словами царь пошел «впереди сыновей и зятьев благородных в дом свой, богато украшенный».
Дорога, по которой они шли, очевидно, поднималась по крутым склонам к ровной площадке среди оливковых деревьев, где три тысячи лет спустя Блеген производил свои раскопки. Здесь предшественники Нестора построили дворец, избрав место более безопасное, нежели казавшийся весьма подходящим для царской резиденции мыс, где потерпел неудачу в своих поисках Шлиман. Приведя молодого гостя в свой дом, Нестор вручил ему кубок с выдержанным вином, как говорит Гомер, «чрез одиннадцать лет налитым ключницей, снявшей впервые с заветной той амфоры кровлю». После того «каждый к себе возвратился, о ложе и сне помышляя». Сам Нестор удалился «во внутренний царского дома покой», указав Телемаху «в звонко-пространном покое кровать… прорезную». Встав на другое утро с постели, царь сел на белой мраморной скамье перед высокой дверью дворца, где происходил дневной прием. Вызвав своих шестерых сыновей, он послал одного из них на берег за членами команда Телемаха. Другому сыну царь сказал, чтобы он отправился в поле и велел пастуху пригнать ко дворцу телку. Третий сын должен был сходить за золотых дел мастером Лаэркосом, чтобы тот пришел со своим инструментом и оковал золотом рога телки, предназначенной для жертвоприношения. Тем временем придворным надлежало приготовить все для пира — принести дрова и воду, расставить стулья.
Все это, по словам Гомера, было быстро исполнено. Явился золотых дел мастер с молотом, наковальней и клещами «драгоценной отделки». Получив от Нестора золотой слиток из царской сокровищницы, Лаэркос расплющил его и оковал рога. Один из сыновей царя, Аретос, вынес из дома короб с ячменем, телку вывели туда, где с топором наготове стоял еще один сын Нестора, Фрасимед; Персей держал в руках чашу, чтобы собрать в нее жертвенную кровь. Телку осыпали ячменем и, прочтя молитву, зарезали. Разделав тушу, часть мяса бросили в огонь, остальное поджарили на вертелах и съели.
Тем временем младшая дочь Нестора, Поликаста, отвела Телемаха в баню, омыла его и натерла елеем. Надев чистый хитон и богатую хламиду, Телемах — нарядный, «богу лицом лучезарным подобный» — занял место рядом с Нестором за пиршественным столом. Когда кончилась трапеза, царь возвестил, что пора Телемаху отправляться в путь к Менелаю. Запрягли в колесницу двух коней; ключница снабдила путников в дорогу хлебом, вином и различной пищей, Писистрат взялся за вожжи, и кони помчали колесницу вперед, в столицу Менелая.
Такую картину рисует Гомер, и находки Блегена во многом подтверждают ее достоверность. Перед залом для приемов находился портик, где в жаркую ночь Телемах мог прекрасно выспаться на поставленной слугами деревянной кровати. Здание дворца насчитывало по меньшей мере два этажа, и хотя мраморная скамья не обнаружена, и покои царя помещались не позади, а правее главного здания, в просторном зале для приемов был устроен огромный круглый очаг, на котором вполне можно было зажарить целого быка, а каменный пол пересекала канавка, видимо, служившая для стока совершаемых царем жертвенных возлияний, например при ритуальном убое телок. Два геральдических грифона, нарисованных на задней стене зала, и символическое изображение осьминога на полу, по всей вероятности, обозначали место, где стоял царский трон. За главным зданием располагались вместительные склады, где хранилось большое количество оливкового масла. В другой постройке стояли рядами массивные амфоры для вина; здесь археологи подобрали глиняные печати, которыми были закупорены сосуды и на которых был обозначен возраст вина и название виноградника, поставившего ягоды. В маленьком помещении около портика, где мог ночевать Телемах, раскопали напоминающую формой гантели, почти целую ванну из обожженной глины. Рядом стояли большие сосуды для воды, а в самой ванне нашли черепки глиняной чашки, возможно, предназначенной для елея.
Некоторые археологи отказались признать открытый Блегеном дворец резиденцией Нестора. Подчеркивая, что его местонахождение не согласуется с данными, приводимыми Гомером, и упорно ссылаясь на Страбона, эти скептики утверждали, что дворец принадлежал какому-то другому из микенских царей. Характерно, что Блеген относился к этому спокойно. «Все, что я знаю, — сказал он однажды, — это то, что мною найдена столица богатого государства примерно там, где должна была располагаться столица владений Нестора. Если кто-то впоследствии обнаружит в том же районе еще более роскошный дворец, я буду готов признать, что неверно определил местонахождение Несторова Пилоса». Он был слишком тактичен, чтобы подчеркивать, что материальные свидетельства намного перевешивали литературную традицию; когда было расшифровано линейное письмо Б, оказалось, что на плитках то и дело встречается название «Пилос», и пришло время согласиться, что, столь часто цитируемый арбитр в вопросах гомеровской географии, Страбон ошибался. Открытие Блегена выявило лишь мелкие изъяны в литературной версии Гомера, однако дало повод в корне пересмотреть труды авторитетов, чьи давние идеи слишком долго почитались неприкосновенными.
Но даже если открытый Блегеном дворец на Эпано-Энглианос принадлежал не Нестору, а какому-то другому микенскому владыке, разбросанные среди руин плитки с письменами обогатили представление большинства исследователей о мире Улисса. Мы не можем уверенно сказать, было ли Гомеру известно, что микенцы знали письменность, хотя в «Илиаде» упоминается складная дощечка с «злосоветными знаками» — возможно, какими-то письменами. Сдается, однако, что у микенцев письмо служило не эстетическим целям, не поэтам и историкам, а было орудием счетоводов. В Пилосе собраны свидетельства того, что при дворе велся регулярный учет; знаки были начертаны на влажной глине примерно сорока различными писцами. Вероятно, придворные барды опирались на замечательно развитую память, декламируя в большом зале великие произведения литературы, меж тем как в служебных помещениях на втором этаже и в расположенном слева от входа архиве на первом скромные писари, тогдашние государственные служащие, прилежно заполняли дворцовые «гроссбухи». Как это ни парадоксально, именно ординарность их труда делает его особенно ценным. Подобно современным перечням хозяйственных расходов, их записи отражают совсем другие стороны дворцовой жизни, дополняя романтичные картины, рисуемые бардами.
В архивах отражены богатства царя — численность крупного рогатого скота, овец и свиней, запасы оливкового масла, зерна и вина, обязательства рабов и вольных подданных. Записи были сделаны через несколько десятилетий после визита Телемаха, так что учтенный писцами скот, возможно, был потомством коров из принадлежащей дворцу фермы, откуда взяли телку для жертвоприношения в честь гостя. Мы видим также перечень ценного дворцового имущества — инкрустированные золотом и серебром стулья, слоновая кость для резьбы, медь для ковки. Можно представить себе, что из этих запасов был выдан Лаэркосу золотой слиток, чтобы он оковал фольгой рога телки. Мы знакомимся также с занятиями придворных — тут и водоносы, и дровосеки, чьи предшественники участвовали в подготовке трапезы для Телемаха и разожгли костер, на котором жарилось мясо телки. Говорится о царских конюшнях, о числе колесниц и состоянии их колес, словно они только ждали, когда одну из них снарядят в путь, чтобы везти к Менелаю Писистрата и Телемаха. Мы узнаём о профессии сукновала, чьими искусными руками могла быть изготовлена чистая туника, надетая Телемахом; приводятся имена ткачей, ворсильщиков и прядильщиков — создателей ткани для богатой хламиды, в которой он восседал за царским столом. Названы также должности банщика и варщика мазей из благовоний и оливкового масла, которыми натирали тело почетного гостя.
Занятия людей, припасы, местные обычаи, архитектура — все данные, добытые отрядом Блегена за пятнадцать сезонов кропотливой работы на горе Эпано-Энглианос, подтверждают верность картины, изображенной Гомером. Противоречий не оказалось, только пробелы. Так, Гомер не упоминает, что дворец был украшен изумительной росписью. Приступая к одному из очередных сезонов, археологи обнаружили, что кто-то посторонний покушался на объект их исследований. Но американцам и тут повезло. Идя по следам нарушителей, они обнаружили мусорную яму, куда художники конца бронзового века, обновляя роспись главного здания, выбросили куски старой штукатурки. Подобно тому как ныне ремонтники сдирают и выкидывают старые обои, так древние мастера соскребли штукатурку со старыми фресками и свалили ее на склоне за дворцом. Эта свалка оказалась археологической сокровищницей, здесь наполнили находками сорок пять лотков, в каждом от тридцати до сотни кусков штукатурки. Кошмарная смесь, способная обрадовать лишь самого завзятого любителя мозаики. Тщательно сложенные вместе, три тысячи с лишним фрагментов вновь явили взору изображения, выполненные в конце бронзового века: сцены войны и охоты, цветы, грифоны, кони, леопарды, олени, птицы, морские животные, пейзажи, узоры — правильные и произвольные. Дворец Нестора поражал гостей феерией красок — красной, синей, желтой, черной и белой. Даже штукатурный пол большого зала был расписан в красочную клетку.
Оказалось, что обстановка, в которой жил микенский царь, была куда более роскошной и многогранной, чем она выглядит у Гомера. Если к собранным в Пилосе свидетельствам добавить рассеянные в «Одиссее» и «Илиаде» детали дворцового быта, возникнет поразительная панорама. Рабы, вольные землепашцы, ткачи, сукновалы, оружейники, изготовители головных повязок, золотых дел мастера, корабелы, пекари, седельщики, мебельщики — все вносили свой вклад в образ жизни правящей элиты. Простые люди оценивались по тому, что они поставляли в царские амбары, и дворцовые писцы тщательно регистрировали на глиняных плитках приносимую подать. За это рядовые члены общины получали зерно, оливковое масло и вино для пропитания, а также сырье — вроде меди, шерсти или кудели для переработки.
Такая система — хорошо отлаженная, удобная и эффективная — во многом объясняет характер экономики политически раздробленного мира Улисса. Природа Греции как нельзя лучше подходила для существования целой мозаики мелких государств со своими царями. Говоря языком топографов, страна состояла из коридоров. Плодородные долины отделялись одна от другой труднодоступными горными хребтами. Острова и полуострова были изолированы друг от друга и от материка. Каждая область занимала ограниченную территорию, на которой возникало и развивалось маленькое государство. Сообщение между ними всегда было затруднено, и хотя на материке ценой больших усилий можно было проложить пригодные для колесниц дороги, наиболее удаленные государства пребывали почти в полной изоляции, и о них мало кому было известно. Даже Мессиния, где правила династия Нелеидов, к которой принадлежал Нестор, еще за полстолетия до Троянской войны не входила в орбиту Микен. Более скудные периферийные земли пребывали, так сказать, на задворках. Царство Улисса на Итаке было весьма незначительным членом союза. Рядом с великолепием резиденции Нестора, где Телемах с явным благоговением смотрел на прославленного хозяина, жизнь на Итаке выглядела крайне простой. Богатство Нестора позволило ему снарядить для кампании против Трои девяносто кораблей; Улисс собрал всего двенадцать. В столь знатном обществе Улисс и его итакцы, наверно, выглядели чем-то вроде членов шотландского клана, присоединившихся к формируемому в Лондоне для вторжения на материк королевскому войску. Храбрые воины, возглавляемые даровитым предводителем, но неотесанные и немногочисленные.
Блеген предположил, что дворец Нестора был уничтожен сильным пожаром около 1200 года до н. э., через полвека после Троянской войны. Большие запасы оливкового масла в амбарах способствовали разрушительному действию огня. Дерево занимало изрядное место в конструкции дворца: деревянными были большие колонны с каннелюрами, многочисленные панели. Судя по тому, что части каменных стен обрушились наружу, пузатые сосуды с маслом взрывались, точно бомбы. Похоже, что дворец сперва ограбили, потом подожгли; за это говорит тот факт, что из наиболее ценных предметов, перечисленных на глиняных плитках, мало что удалось найти. В ряду исключений — кубок с медальоном, копия с которого украсила парус «Арго». Видимо, кто-то из грабителей обронил этот кубок, спасаясь от огня. К счастью для последующих поколений, тот же огонь обжег глиняные плитки, так что они пролежали в сохранности под землей три тысячи лет. Больше на этом месте никто не селился. Слава о дворце дошла до наших дней в песнях «Одиссеи», но местонахождение его было забыто.
Этот момент был важен для нашего поиска. Как мы видели, Гомер знал детали расположения Пилоса. Знал, что он «песчаный», что территория царства включала морской берег, где Телемах застал Нестора и его приближенных, когда те приносили жертву Посейдону, что «богато украшенный дом» царя помещался поблизости от берега. Но Гомер либо не знал, либо не посчитал важным, что Пилос находился слишком далеко от Итаки, чтобы подобная «Арго» двенадцативесельная галера могла дойти туда за неполных двадцать четыре часа. То ли он весьма смутно представлял себе географию западного приморья Греции и ему не было точно известно, где жил Нестор, то ли, что более вероятно, для него это не играло роли. Главное — общая атмосфера, впечатление от Пилоса, а не географические координаты. Гомер творил не лоцию и не справочник, а эпическую поэму.
Размеры Блегенова «дворца Нестора» — 49 х 31 м. Богато украшенная, роскошная и благоустроенная обитель (даже с водопроводом), но не такая уж большая по современным понятиям, скорее особняк, чем дворец. Еще один пример умеренных масштабов мест, описанных Гомером, но главное — то, что впервые «Пилос песчаный» обрел в наших глазах человеческий облик. Царская резиденция с ванной и живописными фресками, 2853 кубками и 6000 вазами вполне сочеталась с образом богатого, гостеприимного и милостивого царя Нестора. Персонажи Гомера ожили и вписались в реальную местность. Описывая найденный им в развалинах опустошенного пожаром Пилоса медальон, Блеген предположил, что эмаль в золотой рамке изображает «благородного молодого представителя микенского высшего света — быть может, даже царского сына». Некоторые утверждают, что речь идет о портрете кого-то из Нелеидов, близкого родственника Нестора. Я надеялся, что они правы: что могло быть лучшим символом на парусе «Арго», чем изображение члена семьи одного из самых мудрых представителей мира Улисса.
Глава 9. Цирцея и область Аида
Читатель помнит, что мы расстались с Улиссом, когда он, потрясенный ужасной расправой лестригонов с его людьми, поспешно бежал из роковой гавани на единственном уцелевшем судне. Без всякого перехода герой Гомера, будто по волшебству, переносится к следующей земле; так ведь и правит этой землей «светлокудрявая» волшебница Цирцея, наделенная способностью превращать людей в животных. «Далее поплыли мы, в сокрушеньи великом о милых мертвых, — говорит Улисс, — но радуясь в сердце, что сами спаслися от смерти. Мы напоследок достигли до острова Эи. Издавна сладкоречивая… там обитает дева Цирцея, богиня, сестра кознодея Ээта».
Поэт не сообщает, сколько длилось это плавание, не указывает ни курса, ни пройденного расстояния, словно намеренно скрывая местонахождение зловещей обители Цирцеи. Так мы сразу сталкиваемся с наиболее сложной загадкой в «Одиссее», не располагая какими-либо указаниями, куда нам следует обратить взор. Улисс и его люди просто-напросто «к брегу крутому пристав с кораблем, потаенно вошли… в тихую пристань: дорогу нам бог указал, благосклонный. На берег вышед, на нем мы остались два дня и две ночи, в силах своих изнуренные, с тяжкой печалию сердца».
Утром третьего дня, рассказывает Улисс, он покинул своих павших духом спутников, чтобы пойти на разведку в глубь острова. Взяв копье и меч, он поднялся на утес и осмотрел оттуда окрестность. Однако дальше идти не стал, решив после долгого раздумья, что прежде всего необходимо накормить команду галеры. На обратном пути ему повезло: Улисс увидел пришедшего к реке на водопой большого оленя и поразил его метким броском копья. Сплетя из тростинок подобие веревки, он взвалил добычу на плечи, отнес к кораблю и обратился к своим товарищам с речью, призванной ободрить их. Дескать, день роковой еще не настал, и надо «пищей себя веселить», пользуясь обилием запасов. До самого вечера они утешались олениной и вином.
На другое утро, когда наступил четвертый день их пребывания на острове, Улисс уже совсем не в оптимистическом духе так обрисовал положение:
Короче, они заблудились, и Улисс не видел выхода из отчаянной ситуации.
Казалось бы, коли сам Улисс признает, что заблудился, где уж нам выяснить, куда его забросило воображение Гомера. Единственные смутные указания на местонахождение острова Цирцеи разбросаны весьма скудно в описании приключений Улисса во владениях волшебницы. И однако, при всей их туманности, они могут проложить дорогу к неортодоксальной гипотезе.
Улисс сообщил своим товарищам, что они, как показала его разведка, находятся на острове, окруженном со всех сторон пустынным морем. Единственный замеченный им признак жизни — столб дыма над лесом. Слова Улисса повергли в ужас его товарищей, слишком живо помнивших бедствия, которые обрушились на них в земле циклопов и у людоедов-лестригонов. Однако Улисс настоял на том, что бы разведка была продолжена. Разделив команду на два отряда по двадцать два человека, один отряд он возглавил сам, руководителем второго назначил Еврилоха. Тянули жребий, чтобы определить, кому выяснять происхождение таинственного дыма; выпало идти Еврилоху. Рыдая, его люди отправились в путь и натолкнулись в лесу на дом Цирцеи, «сгроможденный из тесаных камней на месте открытом». Около дома бродили волки и львы. Звери стали ластиться к пришельцам; те, перепуганные насмерть, сгрудились у входа в дом и услышали поющий женский голос. Они позвали певицу, Цирцея отворила дверь, пригласила их войти в дом и, посадив на кресла и стулья, подала вино и смесь из сыра и меда с ячменной мукой. Но в вине было подсыпано волшебное зелье, и когда гости поели, Цирцея коснулась их жезлом и превратила в свиней «с щетинистой кожей, со свиною мордой и хрюком свиным»; однако они сохранили человеческий разум. Волшебница заперла их в свинарнике, бросив им желуди, кизиловые почки и другой корм. Лишь Еврилоху, который не решился войти в дом, удалось спастись, и он прибежал обратно к кораблю с ужасной новостью о судьбе, постигшей его отряд.
Сюжет с богиней, превращающей людей в животных (волками и львами тоже были ее жертвы), настолько схож с широко известной сказкой о злой колдунье в лесу, что ничего не добавляет для определения места, где происходило магическое превращение. Между тем остров Эя играет существенную роль. Пребывание Улисса в гостях у Цирцеи — важный эпизод его одиссеи. Он провел в ее владениях целый год; это его вторая по длительности остановка в пути. Еще больше — семь лет — он задержался только у другой любвеобильной богини, Калипсо.
Вот как развивались события. Услышав, что половина его людей превращена в свиней, Улисс сам направился к дому Цирцеи, чтобы попытаться спасти их. По пути ему в облике юноши встретился бог Гермес, который рассказал, как Цирцея с помощью волшебного зелья превращает людей в животных, и дал Улиссу противоядие — вырванное из земли растение моли: его «корень был черный, подобен был цвет молоку белизною». С этим растением Улисс мог входить в дом Цирцеи, не опасаясь действия подмешанного в пищу зелья. Когда же Цирцея, сказал Гермес, коснется его жезлом, чтобы превратить в свинью, он должен броситься на нее с обнаженным мечом. В испуге она станет призывать Улисса разделить с ней ложе. Ему следует согласиться, тогда она не станет больше пытаться причинить ему вред и вернет его людям человеческий облик.
Все вышло так, как предсказывал Гермес. Моли защитило Улисса от козней Цирцеи. Он разделил с ней ложе, после чего прислуживавшие Цирцее четыре девы, «…дочери… потоков, и рощ, и священных рек», сделали все, чтобы ублажить гостя. Одна застелила кресла пурпурными коврами, другая расставила золотую посуду на серебряном столе, третья приготовила сладкий напиток. Четвертая дева принесла воды, вскипятила в котле, омыла Улисса, чтобы «прекратилось томившее дух расслабленье тела», и натерла его елеем. Омытого и одетого в легкий хитон и роскошную мантию, Улисса проводили к столу. Однако он отказался есть, пока Цирцея не вернет его товарищам прежний вид. Богиня вывела из закута сопутников Улисса, «превращенных в свиней девятигодовалых», помазала каждого волшебной мазью, и они вновь обрели человеческий облик, став притом моложе и красивее прежнего.
После этого Цирцея стала уговаривать Улисса вытащить корабль на берег, сложить все снасти в пещеру и привести к ней в дом остальных членов команды. Остававшийся у галеры Еврилох отговаривал их. Напомнив Улиссу, что его безрассудство уже дорого обошлось им в пещере Циклопа, он твердил, что идти в дом чародейки слишком опасно. Однако на сей раз гостеприимство Цирцеи было подлинным. Все гости были омыты, натерты елеем, облачены в чистые одежды и приглашены к роскошному столу. По предложению Цирцеи они целый год провели на чудесном острове Эя, где «ели прекрасное мясо и сладким вином утешались», пока тоска по дому не взяла верх, и они стали уговаривать Улисса продолжать путь.
Когда Улисс сообщил об этом Цирцее, она сказала, что перед тем, как направиться в Итаку, он должен посетить область Аида. Там ему следует обратиться за советом к слепому фивскому пророку Тиресию. Слова Цирцеи потрясли Улисса.
Наконец-то мы видим первое указание на местонахождение Эи. Следуя вспять по пути в область Аида, описанному Цирцеей, мы можем вычислить, где она обитала, — конечно, при условии, что нам известно расположение этой области. К счастью, изо всех названных в «Одиссее» точек на пути флотилии после того, как Улисс миновал мыс Малея, этот пункт определен надежнее всего. Местонахождение реки Ахерон, на берегах которой раскинулся Аид, общеизвестно уже две тысячи лет, и в последние три десятилетия получены археологические подтверждения. Ирония судьбы заключается в том, что лишь немногие исследователи «Одиссеи» столь же долго учитывали роль этого факта. Свидетельства археологии — такие, как открытие Блегеном дворца Нестора на Эпано-Энглианос, — обнаруживают нелепость давно утвердившихся гипотез насчет географии «Одиссеи». Вместо того чтобы загонять Улисса в дальние пределы Средиземного моря, как это делают ортодоксальные версии, посещение области Аида приводит его туда, где ему и следует быть на этом этапе, — на западное побережье Греции.
Правда, здесь мы сталкиваемся с одним из наиболее странных, на первый взгляд, парадоксов во всем повествовании: получается, что Улисс прошел мимо родной Итаки, где его ждали жена и прочие члены семьи. Самые эффектные приключения, которые предстоит испытать «Арго» и его команде, произойдут к северу от Итаки. Эти заходы никак не вписываются в контекст возвращения Улисса из Трои. А все дело в том, как я попытаюсь показать дальше, что речь идет о новой, особой нити в сложной ткани эпической поэмы.
В отличие от Несторова Пилоса, река Ахерон лишь в малой степени пострадала от путаницы в опознании. Мифология помещает ее в подземном царстве. По одной версии, Ахерон берет начало в Аиде, по другой — течет вдоль его рубежей. Обычно эту реку связывали с озером, известным под названием Ахерийского. Иногда души мертвых на пути в преисподнюю перевозились через Ахерон; это давало повод смешивать его со Стиксом. Для рек подземного царства предлагалось несколько географических привязок, как и для врат Аида, которые помещали в разных местах, в том числе в пещере у мыса Тенарон. Один Ахерон впадал в Черное море у северного побережья нынешней Турции, другой будто бы вытекал из некоего «Ахерийского озера» в Италии, примерно в восьмидесяти километрах к юго-востоку от Рима. Однако, если исключить реку Стикс (для нее тоже предложено несколько привязок), в Греции остается лишь одна хорошо известная река Ахерон, и она никогда не была «затеряна» в том смысле, в каком был затерян «Пилос песчаный». Греческий Ахерон находится в номе Теспротия (область Эпир) на северо-западе Греции и впадает в Ионическое море. Эта река всегда сохраняла свое наименование и протекала через мелкое Ахерийское озеро. Само озеро теперь осушено и уступило место сельскохозяйственным угодьям, но в девяти километрах от нынешнего устья реки находится место, известное как некимантейон — Оракул мертвых. Во времена язычества сюда приходили советоваться с душами мертвых, как наставляла Улисса Цирцея.
Оракул помещался на скальном выступе. Там, где Ахерон огибает крутую скалу, в него впадает приток, ранее называвшийся Кокитом. Павсаний, горячо интересовавшийся творениями Гомера, пришел к простому выводу: «Поблизости от Кикироса находится Ахерийское озеро и река Ахерон, а также мерзостный Кокит. Думается мне, что Гомер мог видеть эти места и в своих смелых стихах об Аиде заимствовал названия рек Теспротии». Во времена императора Адриана Павсаний четырнадцать лет работал над своим «Описанием Эллады», посещая и добросовестно описывая главные древние памятники Греции. Так что мы вправе положиться на его свидетельства относительно «смелых стихов» Гомера об Аиде.
Однако предположение Павсания, что Улиссов Оракул мертвых помешался в Греции, в Эпире, резко противоречило гораздо более известной гипотезе. Страбон и десятки авторов после него утверждали, что обитель Цирцеи и Оракул мертвых находились вблизи итальянской реки Ахерон в Кампании. В этой области был (и есть) мыс который называется Монте-Цирцео; здесь-то и помещали дом богини, а также посвященный ей пещерный храм. В «Одиссее» озадачивает упоминание народа киммериян, обитающих по соседству с Аидом в печальной области, покрытой вечно влажным туманом. Согласно «итальянской школе», речь идет о местных служителях храма, которые жили в подземелье, никогда не видя солнца. Несколько дальше от моря, у горячих источников, будто бы находилась область Аида; здесь же было озеро, которое называли Ахерийским.
Указанная версия страдает множеством изъянов. Ничего похожего на Оракул на утесе над рекой не обнаружено, и Монте-Цирцео — не остров, каким Гомер рисует Эю, а часть материка. Последнее обстоятельство, возможно, не так уж существенно, поскольку в конце бронзового века примыкающая к мысу низменность могла быть затоплена морем; но и то вряд ли Улиссу, как об этом говорится в «Одиссее», пришлось бы, плывя к материку, потратить сутки на преодоление отрезка длиною меньше километра. Гораздо более убийственным для аргументов «итальянской школы» выглядит тот факт, что крутые голые скалы Монте-Цирцео никак не вяжутся с пейзажем в «Одиссее», где говорится о защищенной бухте и доме в лесу. При ближайшем рассмотрении сам Страбон был вынужден признать надуманной версию относительно Монте-Цирцео. Еще при его жизни осушение болота, сделавшее более доступным район мыса, показало, что там нет никакого храма Цирцеи, нет и подземелий с живущими в них аборигенами. И все же слишком трудно было смириться с мыслью, что область Аида находилась в самой Греции, почти в тысяче километров от Италии. Ведь если так, проваливалась в тартарары вся версия, будто Улисс плавал вдоль итальянских берегов. Сотни лет эта версия связывала с Италией или Сицилией циклопов, остров Ветров, лестригонов и последующие приключения Улисса. Оракул мертвых на реке Ахерон в Западной Греции являл собой нежелательное совпадение, коим хотелось пренебречь.
Однако от реальности некуда было деться. Не один Павсаний привлек внимание к греческой реке Ахерон и к некимантейону в Эпире. Еще до него о тех же местах говорил Геродот, а историк Фукидид упоминает, что прибывавшие сюда паломники пересекали на лодках «Ахерийское озеро», направляясь к Оракулу. Сторонники «итальянской школы» возражали, что свидетельства Фукидида, Павсания и Геродота, ничего не значат, так как их греческий Оракул мертвых датировался эпохой гораздо более поздней, чем времена Улисса.
Такое положение сохранялось до 1958 года, когда отряд во главе с греческим археологом С. И. Дакарисом приступил к раскопкам некимантейона на вершине утеса, возвышающегося над Ахероном. Были найдены следы жертвоприношений, в точности отвечающие описанию в «Одиссее». Улисс «выкопал яму глубокую в локоть один шириной и длиною» и совершил возлияния мертвым: «первое смесью медвяной, второе вином благовонным, третье водой». Все эта он пересыпал ячменной мукой, после чего зарезал молодого барашка и черную овцу и дал крови стечь в яму. Раскапывая Оракул, Дакарис обнаружил соответствующие описанию в «Одиссее» жертвенные ямы, в которых лежали кости овец, свиней и крупного рогатого скота вместе с ячменем и сосудами из-под меда. Через тысячу лет после Троянской войны здесь совершались такие жертвоприношения, о каких говорил Гомер. Но приходили ли сюда паломники в Микенскую эпоху? Дакарис нашел черепки микенской керамики, а внутри стен самого Оракула — микенскую могилу. Доказать, что микенцы и впрямь исполняли тут ритуалы, связанные с царством мертвых, он не мог, но погребение ими покойника здесь говорило за это. И уж, конечно, само место было им известно: на гребне соседней возвышенности стояла микенская крепость.
Дакарис обратил внимание на связь Ахерона с двумя упомянутыми в «Одиссее» притоками — Пирифлегетоном и «ветвию Стикса» Кокитом. Он установил, что маленький приток, впадающий в Ахерон возле утеса и ныне называемый Вувосом, и есть Кокит — «река Стенаний». Правда, Пирифлегетона — «Огненной реки» — не удалось обнаружить, но местные крестьяне рассказали ему, что до осушения Ахерийского озера в Ахерон впадал еще один приток. Его вода светилась, и между мартом и июнем можно было слышать странный, рокочущий, гулкий звук подземного потока. Что всецело отвечает описанию Пирифлегетона.
Когда «Арго» подошел к устью Ахерона в Эпире, царила подходящая к случаю драматическая атмосфера. Смеркалось, над горизонтом на западе висела гряда черных туч, из которых выскользнуло кроваво-красное солнце, готовое погрузиться в море. Мы бросили якорь в мелкой бухте и принялись готовить ужин на борту. На галеру легла обильная роса; заслышав шум приближающегося дождя, мы впервые за месяц натянули тент. Издалека доносились раскаты грома; сверкали редкие молнии, направленные в сторону некимантейона. Театральное зрелище, от которого веяло угрозой, дополняли тлеющие головешки на склонах холмов к северу от бухты, где недавний пожар уничтожил кустарник. Порывы ветра, раздувающего угольки, доносили до нас запах гари.
Наутро нам открылась совершенно другая картина: веселый уголок с приветливым песчаным пляжем, где резвились собаки, дети, купальщики и шумное трио мотоциклистов. Полная противоположность изображенного Цирцеей мрачного устья реки, «где дико растет Персефонин широкий лес из ракит, свой теряющих плод, и из тополей черных». Своими очертаниями бухта Фанари (современное название) чем-то напоминала бухту возле Несторова «Пилоса песчаного», и было видно, как заиление изменило береговую линию. Прежде залив простирался дальше внутрь страны; возможно, галера с малой осадкой могла подняться по реке до Ахерийского озера, почти до самого подножия священного утеса. Отправляясь к месту жертвоприношения, Улисс мог спокойно оставить корабль в устье Ахерона. Бухта Фанари и теперь служит надежной стоянкой для яхтсменов, несмотря на накат, который вторгается между двумя мысами у входа и пенится порой белыми барашками на тормозящих его отмелях.
Греческие крестьяне орошают свои поля водой реки Ахерон; округа была наполнена жужжанием насосов, и в воздухе расплывались вееры брызг от поивших зеленые всходы дождевальных установок. Черная и желтая краска на помятой железке указывали путь к «Ахеронскому эстуарию», и, шагая вдоль пляжа, я дошел до того места на краю бухты, куда теперь отведено русло реки. Современным эквивалентом леса Персефоны служила роща высоких привозных эвкалиптов, в листве которых копошились сотни чирикающих воробьев. В выжженном солнцем краю, где туго с водой, серовато-зеленый Ахерон шириной немногим больше двадцати метров казался диковиной. Даже отдав столько воды на орошение, он был достаточно глубок, чтобы по нему можно было плыть на небольшой галере. Под ракитами на ближнем берегу были причалены маленькие плоскодонки. У противоположного берега, стоя в воде, словно олени в африканской саванне, козы щипали нежные зеленые побеги камыша. Другое стадо трусило вереницей по крутому склону холма на южном мысу.
Через речку до нас доносился звон колокольчиков, точно призыв на молитву в притулившейся под холмом маленькой белой часовне с красной черепичной крышей. Желтые маргаритки чередовались вдоль берегов с светло-фиолетовыми цветочками, напоминающими вереск, а в камышах рдели незнакомые мне крупные цветки. Устье современного Ахерона производило отнюдь не мрачное впечатление; напротив, оно было одним из самых отрадных уголков на всем нашем маршруте.
Ныне к Оракулу мертвых подводит дорога, соединяющая деревню Месопотамон (Междуречье) с вершиной крутого священного утеса над поймой огибающего его подножие Ахерона. Как это часто бывает, новая религия узурпировала важное святое место своей предшественницы. Прямо на кладке древнего оракула неловко примостилась воздвигнутая в восемнадцатом веке церковь Святого Иоанна Предтечи, чьи стены подпираются языческим сооружением, которое жрецы древнего культа спланировали так, чтобы поражать воображение и пугать тех, кто приходил советоваться с душами мертвых.
Дакарис установил, что посетитель попадал в некимантейон через ворота в северной части теменоса — священной ограды. Затем его вели по длинным коридорам вдоль трех сторон некимантейона; очевидно, при этом он вдыхал дурманящие курения. Чтобы войти в святая святых оракула, паломник должен был под конец обогнуть пять-шесть углов, призванных еще больше запутать его. За медными дверями он оказывался в коротком проходе, откуда ступени вели вниз в крипту — обитель грозного бога подземного царства Аида и его жены Персефоны. Здесь жрецы оракула вызывали души мертвых. Найдя несколько шестерен, медные отливки и большое колесо со спицами, Дакарис предположил, что речь идет о частях хитрого устройства, при помощи которого жрецы могли как бы поднимать из подземного царства одного из своей братии, читавшего нараспев пророчества доверчивым и одурманенным слушателям.
Этому надувательству пришел конец в 168 году до н. э., когда некимантейон был разрушен пожаром. Однако местоположение и слава теспротийского Оракула мертвых были запечатлены в трудах Павсания, Фукидида и более поздних авторов.
Открытия Дакариса побудили гомероведов заново рассмотреть вопрос о возможной связи некимантейона с оракулом, описанным в «Одиссее», и Дж. Л. Хаксли, известный английский специалист по античной истории, который объездил весь Эпир, собирая данные для справочника по древней географии, предложил весьма убедительное объяснение слов Гомера о лежащей поблизости от Аида печальной области киммериян, вечно покрытой туманом. Хаксли указал, что на побережье Эпира, недалеко от некимантейона (и всего в пятнадцати километрах от того места, где бросил якорь «Арго») находилось место, именовавшееся Химерион. Иногда так называли мыс (нынешний Варлан), иногда тамошних обитателей. Слово «химерион» переводится как «штормовой». Хаксли не сомневался, что у Гомера речь идет о химериянах, просто при записи вкралась ошибка. Простое, но изящное и доказательное решение искусственно осложненной проблемы. Последующее кембриджское издание «Древней истории» молчаливо признало, что некимантейон более всего подходит на роль «Области Аида»:
В «Одиссее»… действие которой происходит на северо-западе (Греции) находим дополнительную информацию. В поэме говорится, что река Ахерон ведет в Аид, из чего можно заключить, что в Эпире уже существовал знаменитый некимантейон, место, где жрецы и жрицы Оракула мертвых, вероятно, продавали смертоносный яд.
Что до меня, то мне Оракул мертвых помог разработать план «логического маршрута». О раскопках некимантейона Дакарисом я прочел, когда еще готовился к экспедиции по следам Ясона в Черное море. Убедительные доводы в пользу того, что некимантейон находился в северо-западной Греции, порождали вопросы относительно всей географии «Одиссеи». Если Оракул мертвых помещался в Греции, зачем другие этапы скитаний Улисса по-прежнему привязывать к Сицилии или Италии в западной части Средиземного моря? Ни одна из «итальянских» версий не подтверждалась данными современной археологии. Все они опирались на традиционно из века в век повторяющиеся идеи и штаты из одних и тех же авторов. Я усмотрел в некимантейоне точку опоры, позволяющую опровергнуть прежнее восприятие «Одиссеи». Быть может, описанные в поэме приключения происходили совсем близко от родины Улисса, даже в самих греческих водах. Если мы проследим логический маршрут Улисса, идущего из Трои домой и исследуем подходы к некимантейону, может обрести реальный смысл все, что касается изображенных в поэме морских путей.
Прокладывая себе путь через кусты к вершине скалистого холма северо-западнее некимантейона, я думал о том, что полученные нами данные в полной мере соответствуют моим ожиданиям. Как раз на этой, легко обороняемой вершине археологи обнаружили стену, защищавшую микенское поселение. Продираясь сквозь хрусткие цепкие заросли, я видел сотни торчащих над кустами, венчающих длинные гибкие стебли белых цветков асфодели. Толстые темно-коричневые луковицы, покрытые шелушащейся кожурой, выглядывали из земли, напоминая перезрелый репчатый лук. Такое обилие асфодели было вполне уместно, ведь говорит же Гомер, описывая царство мертвых, про «Асфодилонский луг», и, согласно древнему поверью луковицы составляли пищу погребенных мертвецов.
Сверху открывался вид на древний Кокит, реку стенаний, текущую в сторону некимантейона, чтобы там соединиться с Ахероном. Как я и ожидал, Кокит напоминал скорее ручей, чем реку. Будь то Троя, или глухая гавань у Месапо, или обитель Нестора, которая походила скорее на особняк, чем на дворец, описанные Гомером объекты на деле оказывались не такими уж внушительными, и как раз это прибавляло им достоверности в моих глазах.
Вереница тополей и ракит обозначала русло самого Ахерона, спускающееся к бухте Фанари и стоянке «Арго». А вдали у горизонта смутно различались очертания острова, который представлялся мне наиболее вероятным кандидатом на звание обители Цирцеи: зеленого, приветливого Пакси.
Мы не располагали никакими археологическими свидетельствами в пользу такого предположения, ибо, насколько мне было известно, там никогда не находили и не искали никаких памятников древности. Да и вряд ли от лесной обители «прекраснокудрой богини» могли остаться сколько-нибудь заметные руины. В пользу Пакси говорит главным образом его расположение напротив устья Ахерона на подходящем расстоянии от Оракула мертвых. Для галеры, использующей прибрежные острова как ступени на своем маршруте, было естественно, посетив Пакси, изменить курс и подойти к материку там, где в море впадает Ахерон. И Пакси вполне отвечает небогатому подробностями описанию Эи, изображенного в «Одиссее» как приветливый лесистый остров. Пакси известен своим плодородием и обильной флорой; овраги и прогалины между оливковыми рощами покрыты пышной дикой растительностью. Есть здесь и моли — точнее, растение, которое, по мнению ботаников, подходит на роль волшебного злака, чей «корень был черный, подобен был цвет молоку белизною», — того самого, что защитил Улисса от чар Цирцеи. Речь идет об одном из видов Аллиум, родственного чесноку, и на Пакси найдено три разновидности Аллиум.
От античности до наших дней дошла всего одна легенда, упоминающая остров Пакси, и в чем-то ее содержание перекликается с приключениями Улисса в обители Цирцеи. Будто бы в царствование Тиберия кормчий одного корабля, проходя мимо Пакси, услыхал, как его зовет по имени могучий таинственный голос, прося возвестить, что умер великий бог Пан. Когда кормчий выполнил просьбу, с острова донеслись громкие причитания. Пусть даже перед нами чистый вымысел, однако указание на связь Пана с Пакси заслуживает внимания. Образ покровителя пастухов — полукозла, получеловека всегда сочетался с представлением о пышной природе. Первозданное существо, он наделен властью над дикими животными и пользуется расположением олицетворяющих силы и явления природы нимф деревьев, источников, рек. Этих же нимф видим в окружении Цирцеи; они прислуживают богине, готовят трапезу для Улисса и омывают его. Цирцея в роли богини природы удивительно похожа на Пана. Она тоже умела заколдовывать львов и волков, так что они ластились к ней; ее дом помещался в лесной чаще; любовная связь с Улиссом являет ту же картину природного плодородия, что поведение влюбчивого Пана. Наконец, Пан был сыном Гермеса, и кто, как не Гермес, встретил Улисса на острове Цирцеи и вручил ему моли. Перед нами два зеленых острова, Эя и Пакси, с которыми ассоциируются родственные боги дикой природы, животных и волшебных растений.
Правда, в одном отношении Пакси не подходит к описанию Эи у Гомера. Улисс рассказывает, что с вершины утеса на острове видел только безбрежную бездну морскую. Между тем с наиболее высокой точки Пакси хорошо виден материк, а на севере — остров Керкира. И как совместить эти слова Улисса с тем, что путь до устья Ахерона был пройден его кораблем всего за один день, что, как правило, отвечает расстоянию до пункта, находящегося в пределах прямой видимости. Четырнадцать миль, отделяющие Пакси от Ахерона, вполне преодолимы за такой срок. Выйдя с острова при северном ветре, Улисс и его люди запросто могли через пять-шесть часов достигнуть гавани в устье названной реки. Может даже показаться, что это мало для дневного перехода, но так уж принято в «Одиссее» измерять расстояния на море. Вы ни разу не увидите выражения «одночасовой переход» или «пройдено за утро»; один день — наименьшая единица измерения; даже царь Менелай, возвращаясь из Египта, совершил «однодневный» переход до острова, лежащего так близко от побережья, что теперь он поглощен разросшейся дельтой.
Если Панси и впрямь тождествен острову Эя, то для поиска обители Эи можно предложить одно логическое место. Указанием служит наличие пресной воды. Самый надежный источник питьевой воды на всем острове Пакси находится в верхней части узкой долины в районе Ипапанди. Здесь увенчанная кипарисами скала обрамляет маленькую лужайку. Вдали синеет тихая бухта Лакка — идеальная гавань для зимней стоянки галеры на суше. Берущий начало на лужайке родник наполняет встроенный в скальную стену сводчатый колодец, похожий на печь для выпечки хлеба. Воздух кругом насыщен запахом мяты, жужжанием пчел, пением птиц. Здесь растут цикламены, и прохладный морской ветерок шуршит листвой густого подлеска. Чувствуешь себя совсем изолированны от внешнего мира. Самое подходящее место для волшебной обитательницы леса, вроде златоволосой богини Цирцеи.
Посетив Оракул мертвых, Улисс вернулся на остров Цирцеи, чтобы похоронить одного из своих сопутников — Ельпенора. Самый молодой член команды, «неотличный смелостью в битвах, нещедро умом от богов одаренный», Ельпенор, выпив лишнего во время прощального пира в обители Цирцеи, поднялся на крышу ее дом чтобы спать там на прохладе. Разбуженный утром шумными сборами товарищей, он вскочил, забыв, где находится, шагнул прямо воздух, упал на землю и сломал себе шею. В Оракуле мертвых душа Ельпенора явилась Улиссу и умолила его вернуться на Эю, чтоб похоронить товарища и насыпать «холм гробовой… близ моря седого». «В памятный знак же… для поздних потомков в землю на холме моем… весло водрузите».
Как и следовало ожидать, Улисс предал тело Ельпенора земле на мысу, «на самом возвышенном месте берега», подобно тому как для главного кормчего Менелая, Фронтиса, тоже был выбран мыс. Люди Улисса отметили могилу «памятным столбом», воткнув в вершину холмика весло Ельпенора. После этого к ним пришла Цирцея, ее служанки принесли пищу и вино, и богиня предложила Улиссу переночевать на острове, чтобы на другой день плыть дальше в Итаку по пути, который она укажет.
Этот путь и его ориентиры явились кульминацией наших изысканий, ибо здесь происходило большинство самых знаменитых эпизодов «великого скитания»: приманивающие людей сирены, водоворот Харибды и многоголовое чудовище Сцилла. Местонахождение этих мифических созданий составило ряд наиболее впечатлявших открытий нашей экспедиции.
Глава 10. Бродящие утесы
Вот такими доброжелательными словами приветствовала богиня Улисса. И она исполнила свое обещание, предупредила, что, покинув остров Эя, он сперва увидит сидящих на лугу у берега сирен, которые «неизбежною чарою ловят… подходящих к ним близко людей». Сладость их пения так пленяет всякого, что моряки навсегда остаются с ними, и на лугу белеет много человеческих костей. Миновав сирен, Улисс должен сам выбрать один из двух возможных путей в Итаку. Можно идти между бродящими утесами, где бушует прибой, разбивая корабли, так что «доски одни оставались от них и бездушные трупы, шумной волною и пламенным вихрем носимые в море». Другой путь ведет через узкий пролив, у одной стороны которого поглощает корабли ужасный водоворот Харибда, а у другой чудовище Сцилла хватает людей с проходящих мимо судов. Сцилла живет в пещере посередине гладкой отвесной скалы, чья вершина постоянно окружена темными облаками. Тело чудовища скрыто в пещере, а снаружи торчат на длинных шеях шесть голов, непрестанно высматривающих жертву. Сцилла разом похищает по шести человек с кораблей, очутившихся в проливе, и Цирцея предварила Улисса, что никакие ухищрения не избавят его от потерь.
Мне довелось читать, что греческая мифология иногда связывает Цирцею со Сциллой. Согласно мифу, Сцилла некогда была прекрасной девой, но Цирцея, влюбленная в морского бога Главка, увидела в Сцилле свою соперницу и превратила ее в отвратительное чудовище с шестью хищными головами на шести длинных шеях и с уродливым шестиногим телом, укрытым в пещере, как рак-отшельник прячет свое брюшко в раковине. И я подумал: если Сцилла оказалась помехой для влюбленной Цирцеи, то их мифические обители, возможно, помещались недалеко друг от друга, а тогда Сциллу следует искать где-то в районе острове Эя (Пакси) и устья Ахерона. Сказав себе, что явно грешу упрощенчеством, и чувствуя, что занимаюсь ерундой, я все же обратился к соответствующему тому «Лоции адмиралтейства» с описанием западного побережья Греции, чтобы поискать в предметно-именном указателе слово «Сцилла». Конечно, было крайне наивно надеяться, что существует местное название, связанное с мифом. Ведь до тех пор я безуспешно проштудировал все справочники по античности. Однако чувство неуверенности сменилось великим удивлением, когда я обнаружил, что на полпути между устьем реки Ахерон и родным островом Улисса есть мыс Сцилла.
Ошеломляющее открытие. Мыс Сцилла — как раз на естественном для галеры прибрежном маршруте. Но, может быть, кто-то уже обнаружил этот факт и рассматривал его значение в связи с «Одиссеей»? Нет, ни в одном из множества ученых трудов, посвященных географическому фону «Одиссеи», я не нашел ничего такого. В древности одноименный мыс был известен к востоку от Пелопоннеса, в Эгейском море — слишком далеко от интересующей меня области. Возможно, продолжал я рассуждать, «Сцилла» в «Лоции Адмиралтейства» — новое название, не имеющее никакого отношения к гомерову шестиглавому чудовищу? Карта, где оно стояло, была первым подробным чертежом этого района, и составили ее в прошлом веке те же усердные картографы британских ВМС, труд которых сыграл столь важную роль для открытия Шлиманом Трои и для археологических изысканий на Крите. Причем руководил съемками лейтенант гидрографической службы Мэнселл, помогавший капитану Спрэту в составлении превосходной карты Крита. Так может быть, мыс Сцилла на западном побережье Греции получил свое название в честь какого-нибудь корабля ВМС, носившего это имя? Ведь работало же в водах Антарктики знаменитое гидрографическое судно «Эребус» — название, заимствованное из «Одиссеи» (Эреб — вечно погруженное во мрак царство мертвых на краю света). На мой запрос в гидрографическую службу ВМС последовал ответ, что, насколько им известно, мыс Сцилла в Западной Греции не назван в честь какого-либо судна. Дескать, в прошлом веке было заведено сохранять принятые местными жителями наименования характерных элементов приморского рельефа. По данным гидрографической службы, сами греки в середине прошлого столетия называли этот мыс «Сцилла».
Однако мне предстояло убедиться, что запечатленное на моих картах название теперь ничего не говорит местным жителям. Придя на «Арго» в этот район, я тщетно опрашивал рыбаков и школьных учителей: никто из них не помнил его. Меня это только обрадовало, так как позволяло исключить вероятность того, что кому-то пришло в голову сочинить предание, искусственно привязывающее здешний мыс к «Одиссее». А вот обнаруженные нами свидетельства по соседству с мысом содержали важнейшую информацию, которая при всей своей очевидности очень долго оставалась никем не замеченной.
Почему раньше никто не искал Сциллу вблизи Ахерона? Ответ: потому что больше двух тысяч лет практически ни один ученый-классик не подвергал сомнению прочно утвердившееся убеждение, что Сцилла и Харибда находились в Мессинском проливе между «носком» Италии и Сицилией. Дескать, перед нами тот самый тесный пролив, о котором говорила Цирцея. На итальянской стороне помещалась скала Сциллы; по другую сторону, у берегов Сицилии, водовороты, известные под названием тальи, дали повод сочинить легенду об извергающей черную влагу Харибде. Много веков эта привязка служила пробным камнем веры в Гомерову географию. Если Гомеру были известны особенности Мессинского пролива, приводимые им географические детали достоверны. Подвергать сомнению местоположение Сциллы и Харибды значило вообще не верить в то, что Гомер говорит о действительно существующих местностях. Никто не высказал предположения, что привязка к Мессинскому проливу может быть ошибочной, а между тем эта ошибка искажала всю географическую архитектонику «Одиссеи». Более убедительный вариант пролива с более подходящим положением Сциллы и Харибды нисколько не поколебал бы реальную основу «Одиссеи», напротив — стала бы понятнее Гомерова география.
И ведь версия, помещавшая Сциллу и Харибду в Мессинском проливе, страдала многими изъянами. Сцилла изображена в «Одиссее» хищным чудовищем, от него всем мореплавателям следовало держаться подальше, а между тем скала в Италии, называемая обителью Сциллы, возвышается над двумя небольшими гаванями, которые использовались местными судами как надежное укрытие.
Уильям Смит, издавший в 1854 году «Словарь греческих и римских географических названий», сухо комментирует: «…трудно понять, каким образом, пусть даже на заре мореплавания, эта скала могла быть более грозным препятствием, нежели сотни других, совсем безвестных мысов». Если эта скала ничем не выделялась, то Мессинский пролив и подавно не вписывается в контекст «Одиссеи». Он куда шире пролива, которым Цирцея пугала Улисса. По ее словам, проход был таким узким, что у Харибды над водой нависали ветви смоковницы. Между тем ширина Мессинского пролива в самом узком месте больше двух миль. Говорить тут о каких-либо нависающих ветвях абсурдно; к тому же в том месте, где находится так называемая скала Сциллы, ширина пролива возрастает до трех с половиной миль. Словом, решительно нарушен первый закон мифотворчества: изображая людей, селения, элементы рельефа, легенды и мифы никогда не умаляют их роль, напротив, всячески приукрашивают и возвеличивают. Вновь мы столкнулись с тем, что познали в начале нашего плавания, когда Гомеров грозный Илион оказался небольшим селением на холме, возвышающемся от силы на тридцать метров над равниной.
С точки зрения мореплавателя, Мессинский пролив не только чересчур широк: трудно представить себе, чтобы он вообще был чем-то опасен для проходящей через него галеры. Никуда не денешься от масштабов. Для малых судов этот пролив не проблема. Как и многие другие современные яхтсмены, я преодолевал его безо всякого риска. Здесь совсем нет природных опасностей и преград. В обе стороны до берега так далеко, что мысль об «узкостях» даже не приходит в голову. Мессинский пролив вдвое шире «узкостей» Дарданелл, которые Гомер вовсе не считает препятствием для мореплавания. И малым судам нет нужды, как советовала Улиссу Цирцея, прижиматься к противоположному от Харибды берегу, сторонясь водоворотов. Упомянутые выше тальи даже не приурочены к наиболее узким участкам Мессинского пролива, и обойти их не составляет труда. Да хоть бы вы попали в тальи, ничего страшного не случится, разве что ваше суденышко лихо покрутит медленно вращающееся течение.
Сами ученые-классики подчас недоумевали, каким образом тальи могли представлять угрозу для мореплавания. Они предполагали, что сила водоворотов заметно умерилась по сравнению с тем, что было в древности; дескать, землетрясения изменили профиль морского дна, чьи неровности рождали тальи во время приливов и отливов. Однако с недавних пор и это предположение отпало. Спутниковая фотосъемка приливно-отливных течений в Мессинском проливе выявила механизм тальи. Дело не в неровностях морского дна, а в том, что менее соленые воды Тирренского моря легче вод простирающегося южнее Ионического моря. Поток более легкой воды в поверхностном слое направлен на юг, а в глубине на север устремлен поток более соленой воды. Тальи возникают, когда ритм этого регулярного процесса нарушается не совпадающими с ним по фазе приливами и отливами у северного и южного входов в пролив. Ярче всего это проявляется у сицилийского городка Ганцирра, где течение огибает оконечность маленького полуострова. Условия, вызывающие знаменитые тальи — приливно-отливные течения и соленость морской воды, — не изменились за прошедшие тысячелетия. Сегодня здешние водовороты такие же, какими были во времена Гомера или когда греки осаждали Трою, и они совсем не годятся на роль пожирающей корабли Харибды.
Словом, когда я 31 июля взял курс на загадочный «мыс Сцилла» в Западной Греции, давно пришла пора оспорить древнюю версию. Я совершенно не представлял себе, что мы там найдем, но за два месяца практического исследования «логического маршрута» древних галер мы уже обнаружили последовательный ряд приморских пунктов, где нам являлись параллели мифических сюжетов «Одиссеи». Циклопам соответствовали триаматы Крита, обителью повелителя ветров Эола вполне мог быть остров Кожаного Мешка, один вход в Аид помещался у мыса Тенарон, другой давно был известен у некимантейона. Блеген открыл дворец Нестора не там, где его помещала ортодоксальная наука, а там, где местные предания говорили о «Несторовой пещере». В пользу поиска Сциллы и Харибды там, куда теперь направлялся «Арго», говорил еще и тот неоспоримый факт, что Мессинский пролив находится в 250 с лишним милях от некимантейона, который современная археология признает «Областью Аида». До мыса Скилла от места предыдущего захода Улисса всего 15 миль. И было бы интересно проверить, не поможет ли реальное плавание в этих водах на копии древней галеры получить какой-то ответ на древнюю загадку.
В порту Метони мы простились с Назымом. Пришла пора ему возвращаться на работу в Бахрейн, и члены команды с грустью махали руками, прощаясь с оставшейся на пристани одинокой фигуркой. В своих больших мешковатых шортах Назым выглядел особенно тщедушным; огромный рюкзак с камерами грозил раздавить его. Мы успели привязаться к Назыму, и когда он побрел по пристани в поселок, Кормак крикнул:
— До свидания, Назым! Я приеду к тебе в гости в Бахрейн!
Назым явно услышал его, судя по тому, что он повернулся и еще раз помахал нам. С того дня кухня на «Арго» никогда не поднималась до прежнего уровня. Пришлось нам довольствоваться гораздо более скромными трапезами, поочередно помогая новобранцу из Англии, студенту Лондонского университета Джонатану. Зато мне стало легче справляться с капитанскими обязанностями, потому что на этом, заключительном этапе плавания к нам присоединился также Питер Уилер, который был моим заместителем во время экспедиции «Ясон». Доктор Джон смог всецело посвятить себя медицинской части, а Питер заправлял делами на «Арго», когда я занимался исследованиями на берегу. Еще один участник предыдущего похода, загребной Марк Ричардс, подтвердил свою репутацию силача, прибыв к нам на велосипеде. Для поддержания формы он собирался, когда кончится плавание «Арго», проделать тем же способом обратный путь до Оксфорда. Глядя на кучу толстых путеводителей в багажниках велосипеда, мы заключили, что Марк явно не боится больших нагрузок.
«Арго» взял курс на манящую цель — обозначенный на карте адмиралтейства мыс Сцилла. Идя вдоль западного побережья острова Лефкас, мы очутились между ним и маленьким островком Сесола, единственным клочком суши к западу от Лефкаса. Название ему дали венецианцы, и означает оно «черпак». Мое внимание привлекла вертикальная полоса яркого света в южной оконечности Сесолы. Я отдал команду изменить курс и добавил:
— Давайте-ка посмотрим поближе на эту странную пещеру!
Приблизившись к островку, мы увидели, что свет исходит не из пещеры, а из пронизывающей Сесолу насквозь причудливой расщелины, из-за чего казалось, что островок состоит из двух частей — северной, побольше размерами, и южной, поменьше. Над просветом трехметровой ширины обе части соединялись, образуя подобие природного моста на высоте примерно двенадцати метров над поверхностью моря. Словно некая сила столкнула вместе две скалы и прочно соединила их друг с другом. Глядя на эту примечательную формацию, я сказал себе, что Сесола в точности отвечает описанию «бродящих утесов» в мифе о Ясоне.
«Бродящими» в греческой мифологии названы две скалы, плавающие по морю. Когда кто-то пытался проплыть между ними, они смыкались и разбивали корабль в щепки. Отсюда их второе название — «сталкивающиеся утесы», и по преданию первым благополучно прошел между ними Ясон со своими аргонавтами. После того скалы вросли в морское дно. Цирцея рассказала Улиссу про коварные утесы потому, что они находились на одном из путей от Эи к Итаке. И вот теперь остров Сесола вдруг предстал перед нами как совершенное воплощение мифического образа, такое же явственное, как «Бараний лоб» мыса Крио.
Рик отправился на резиновой шлюпке исследовать расщелину. Войдя в просвет, он задержался на несколько минут, всматриваясь в толщу воды, затем вышел с другой стороны, обогнул остров и вернулся к «Арго».
— Расщелина уходит в глубину, и ей не видно конца, — доложил он. — Расстояние между скалами все время одинаковое, и они совсем гладкие, как если бы кто-то расколол массив топором. Насколько я мог судить, просвет доходит до самого дна.
Я сверился с картой. Глубина моря здесь достигала 29 саженей, то есть больше 50 метров. Оставалось только гадать, какие причуды геологических сил сотворили огромную подводную расщелину. Возможно, остров в незапамятные времена раскололся от разрушительного действия столь частых в этом районе землетрясений. Но происхождение необычной формации роли не играло. Главное то, что здесь, у берегов Лефкаса и всего в семнадцати милях от манившего нас мыса Сцилла, находился безукоризненный кандидат на звание «Бродящих утесов», о которых рассказывала Цирцея. Я сказал себе, что это не случайное совпадение.
Чтобы понять значение «Бродящих утесов», вспомним, как наставляла Улисса Цирцея:
Это единственное место в «Одиссее», где упоминается корабль Ясона, хотя, как мы видели, эпизод, повествующий об Артакийском ключе и избиении мореплавателей лестригонами, похоже, говорит о заимствованиях из мифа о Ясоне и аргонавтах. Но в этом мифе «сталкивающиеся утесы» помещены в Босфоре, достаточно далеко от острова Лефкас, не говоря уже о Мессинском проливе. В 1984 году я вместе с Марком Ричардсом взбирался на макушку одного из утесов у Румели Фенер на европейском берегу Босфора, в шестнадцати километрах к северу от Стамбула. Мы увидели столб, установленный римлянами там, где греки совершали жертвоприношения, чтобы боги уберегли от опасностей нелюдимого Черного моря. Каким же образом «бродящие» или «сталкивающиеся» утесы Ясона вдруг возникают в «Одиссее», притом в рассказе Цирцеи про то, как он возвращался домой, в Грецию, добыв золотое руно? Эта неразбериха озадачивала многих комментаторов. Теперь, благодаря нашему современному «Арго» и острову Сесола, мне виделся ответ на давний вопрос.
Наиболее полная дошедшая до нас версия легенды об аргонавтах записана греческим грамматиком Аполлонием Родосским в III веке до н. э. Согласно ей, после того как Ясон и аргонавты похитили в стране колхов (нынешняя Грузия) золотое руно, корабли царя Ээта устремились за ним в погоню, чтобы вернуть не только руно, но и царскую дочь Медею, бежавшую вместе с Ясоном. Уходя от преследования, аргонавты пересекли все Черное море, прошли на веслах вверх по Дунаю и перебрались со своим кораблем в Адриатическое море. На самом деле такой подвиг невозможен, потому что на этом пути (речь идет о нынешней Югославии) нет волока через горы. Тем не менее Аполлоний и, судя по «Одиссее», Гомер или его предшественники верили в такой маршрут. В память о возглавившем флотилию колхов сыне Ээта, Апсирте, один архипелаг в северной части Адриатики был назван Апсиртским. Будто бы здесь Медея заманила брата в ловушку, и он был коварно убит, несмотря на договор о перемирии. Предание сообщает, что «Арго» затем направился по Адриатическому морю на юг, и Ясон вместе с Медеей посетили остров могущественной волшебницы, чтобы она очистили их от греха убийства. Надо ли говорить, что остров назывался Эя, а имя волшебницы — Цирцея. Таким образом, миф об аргонавтах тоже помещал Эю/Пакси напротив устья реки Ахерон.
Из «Одиссеи» видно, что сюжет об аргонавтах и «прославленный Арго» Ясона были широко известны. Цирцея говорит о «робких голубях», которые носили амброзию Зевсу и разбивались о «бродящие утесы». Здесь уместно вспомнить голубя, выпущенного Ясоном: пролетая между утесами, птица заставила их сомкнуться, когда же они разошлись, гребцы поспешили провести «Арго» через просвет. После чего, сообщает легенда, утесы вросли в морское дно. Естественно, мореплаватели, завидев остров Сесолас его характерной расщелиной, вспоминали «сталкивающиеся утесы» Ясона (как и я о них вспомнил) и переносили в Западную Грецию действие легенды, родившейся в Босфоре. Упирающийся двумя частями в морское дно остров и впрямь смотрелся так, словно через расщелину только что проскользнула галера Ясона. Отнеся миф о «бродящих утесах» к Сесоле, можно говорить об острове как об окаменевшей легенде.
Впоследствии мне удалось подтвердить, что и другие детали описания «бродящих утесов» Цирцеей подходят к Сесоле. Она предупредила Улисса, что владычица морей Амфитрита «страшно все море под тою скалою тревожит», так что «ни один мореходец не мог невредимо с легким пройти кораблем». Древние авторы отмечали, что район к западу от Лефкаса печально известен дурной погодой. Из-за внезапных шквалов особенно следовало опасаться большого белого мыса Дукато в восьми милях от Сесолы. Вергилий в «Энеиде» называет этот мыс буревым, там является воитель Аполлон, а «Словарь» Смита утверждает, что «у греческих мореплавателей мыс этот и в наши дни пользуется дурной славой из-за омывающих его угрюмых вод, сильных течений и свирепых штормов». Что до «пламенных вихрей», уносивших, по словам Цирцеи, «доски одни… и бездушные трупы», то я долго ломал себе голову, пока не увидел геологическую карту этого района. Остров Лефкас лежит поблизости от разлома на границе плит, чье смещение вызывает подземные толчки, сотрясающие Ионические острова. Вполне возможно, что по линии разлома под водой извергались вулканы. На Лефкасе бытует неподтвержденная версия, будто к северу от острова есть подводный вулкан; если это верно, он мог быть виновником «пламенных вихрей». Обратясь к более серьезным источникам, видим, что та же «Лоция Адмиралтейства», в которой упомянут мыс Сцилла, говорит о двух вулканических извержениях в 30 милях от Лефкаса, в восточной части залива Амвракикос. При этом погибло много рыбы, и поверхность моря была покрыта серой. «До сих пор, — заключает „Лоция“, — выбрасываются небольшие количества серы, отчего вода в заливе часто фосфоресцирует».
Открытия, сделанные нами в тот солнечный день 31 июля, на этом не кончились. Когда Рик, возвратясь на борт «Арго», рассказал о большой подводной расселине, делящей Сесолу на две части, я снова обратился к карте адмиралтейства. Тот факт, что остров Сесола подходит к описанию «бродящих утесов», стал еще одним кусочком для мозаики наставлений, которыми Цирцея снабдила плывшего домой Улисса. К северо-востоку от нас на материке находился мыс Сцилла, к северу — лежащий против устья реки Ахерон остров Пакси, он же, судя по всему, Эя, обитель Цирцеи. «Бродящие утесы» Сесолы высились у западного берега Лефкаса; к югу от него помещался родной остров Улисса, Итака. Сам Лефкас расположился примерно посередине образуемой границами описанного района ромбоидальной фигуры. Может быть, потому что я находился в нужном месте при нужных обстоятельствах (на борту галеры), а еще потому, что я так долго размышлял о различных кусочках мозаики — во всяком случае, карта ответила на мои вопросы. Сошлись все части наставления Цирцеи. Я ведь спрашивал себя, где находились сирены, Сцилла, Харибда и прочие. И вот внезапно все прояснилось.
Цирцея объяснила Улиссу, что идя от ее обители на юг, ему предстоит выбирать между двумя маршрутами в обход Лефкаса. Либо идти в открытом море вдоль западного берега острова — тогда на его пути будет Сесола, в точности похожий на «бродящие утесы» из мифа о Ясоне и аргонавтах. Либо следовать через извилистый узкий пролив между Лефкасом и материком; теперь этот пролив сильно заилен, но на старой карте Адмиралтейства обозначен достаточно четко. Именно в этом проливе, который местами сужается до пятидесяти метров, нам надлежало искать недостающие части мозаики — Сциллу и Харибду. Вся картина представлялась мне теперь настолько отчетливо, что я не сомневался в успехе.
Словно в подтверждение этой догадки, мой взор привлекло название крутого холма у восточного берега пролива. На карте было написано «Маунт-Ламия».
— Костас, — обратился я к нашему греку, — что означает слово «Ламия»?
— Ламия? Ну как же. — Он помолчал, собираясь с мыслями. — Ламия — это такое чудовище из древней мифологии. С длинной шеей. Оно пожирало детей и пользовалось очень дурной славой. Даже теперь, когда две женщины поссорятся и одна из них хочет уязвить другую тем, что у той-де мерзкий голос и противная внешность, она может крикнуть ей: «Ламия»!
В разговор вступил болгарин Теодор.
— У нас во фракийской мифологии тоже есть чудовище по имени Ламия, вероятно, заимствованное из греческих легенд. У нашей Ламии тоже длинная шея, как у дракона, и она сражается с героем.
Я ликовал.
— Что и требовалось доказать! Мы ищем узкий пролив, на одном берегу которого живет Сцилла, хватающее людей чудовище с шестью длинными шеями, и что же мы находим здесь, возле узкого пролива, отделяющего Лефкас от материка? Крутой холм, названный по имени древнего длинношеего чудовища, пожирающего людей. Чем не Сцилла? Пойдем туда и проверим!
Слушая, как я объясняю, что наставления Цирцеи Улиссу можно истолковать как описание двух путей в обход Лефкаса — либо с запада в открытом море, либо вдоль узкого пролива, через мое плечо глядел на карту Кевин Флеминг — фотограф, прикомандированный к нам американским журналом «Нэшнл джиографик». И когда я подчеркнул, что всякий может убедиться: вот они, названия из мифов, — он посмотрел на меня и заметил:
— Но это ведь так очевидно. Ты уверен, что никто раньше не обратил на это внимания?
— Похоже, что не обратили, — ответил я. — Подчас люди не замечают самых явных вещей именно потому, что они так очевидны.
И ведь мы как раз затем и пришли сюда на «Арго», сказал я себе. Прежние комментаторы слишком углубились в свои ученые изыскания, чтобы видеть лежащее на поверхности. С палубы галеры бронзового века открывалась куда более реалистичная перспектива.
Глава 11. Сирены, Сцилла и Харибда
Когда идешь на юг по пути, которым должен был следовать Улисс после Эи и Ахерона, на горизонте вскоре возникает высокий северный берег Лефкаса. Кажется, прямо из моря вздымаются вверх крутые скалы. Но когда до острова остается около одной мили, мореплаватель видит, что ошибался. Скалы отступают, отделенные от воды смутно различимой, чуть выступающей над уровнем моря береговой полосой. Ошибка неопасная, потому что глубина уменьшается постепенно, времени, чтобы изменять курс, предостаточно, а мелко сидящая галера и вовсе может спокойно проходить довольно близко от диковатого, пустынного берега с низкими дюнами и редкими кучками истерзанных ветром деревьев. За узкой полосой дюн словно бы продолжается мутно-серая морская гладь — там находится зажатая между дюнами и собственно островом мелкая лагуна. Торчащие из воды шесты обозначают местоположение рыболовных снастей; порой можно видеть, как рыбак в похожей на стручок плоскодонке пересекает лагуну, собирая улов. Кажется, перед вами не мелководный залив, а болото, и во время утреннего штиля в лагуне бродят птицы, квакают лягушки, пугают внезапным всплеском выпрыгивающие из загустевшей воды рыбы. Но во второй половине дня летом с запада, со стороны Ионического моря налетает свежий ветер. Он заставляет синюю морскую гладь курчавиться белыми барашками, гонит волны на низкий песчаный мыс и разрисовывает поверхность лагуны причудливыми узорами, заставляя утлые рыбацкие челны спешить в укрытие. Ветер этот отличается такой регулярностью и силой, что единственные постройки на мысу — ветряные мельницы, все еще противостоящие напору бриза, хотя крылья их давно сломаны и механизм заржавел. Картина, усугубляющая чувство запустения.
Виндмилл-Рок — так гидрографы прошлого века назвали единственное незначительное препятствие для судоходства, отмель в десяти метрах перед мысом. Сам же мыс на карте поименован греческим словом Ирапетра; в переводе — «Поворотная скала». Вероятно, гидрографы услышали это название от местных жителей, чьи современные потомки объясняют, что люди, идущие с Лефкаса на материк, круто поворачивали перед мысом. Однако, чтобы попасть на материк, вовсе не требовалось выбирать такой окольный путь; даже во времена турецкого владычества пролив можно было пересечь напрямик по гати. Так что, скорее всего, название «Поворотная скала» — древнего происхождения, и дали его мысу моряки. В этом месте мореплаватель, следующий вдоль побережья, должен был решать — огибать ли Лефкас по морю с запада, или входить в разделяющий остров и материк узкий пролив. В обоих случаях надлежало изменить курс, так что мыс оправдывал свое имя. В описании Цирцеи луг сирен помещался недалеко от того места, где Улиссу надо было выбирать один из двух путей; исходя из этого, я заключил, что на роль обители сладкоголосых чародеек лучше всего подходит низкий песчаный берег Ирапетры.
Цирцея научила Улисса, как насладиться чарующими голосами и в то же время избежать смертельной опасности. Чтобы «свой слух без вреда удовольствовать», ему следовало залепить воском уши товарищей, велев прочно привязать его самого к мачте. Тогда гребцы спокойно проведут корабль мимо опасного места, и сколько бы Улисс ни жаждал присоединиться к сиренам, узы его не пустят, так что он и его люди не окончат свою жизнь на берегу, где «человечьих белеет много костей, и разбросаны тлеющих кож… лохмотья».
На карте адмиралтейства у крайней оконечности мыса Ирапетра обозначены «Три кургана». Три древних могильных холма! Нужно ли что-нибудь еще, чтобы опознать луг, где «человечьих белеет много костей»? Существует ли более подходящее место для привязки мифа о сиренах? И все же я боялся поверить, что загадка решена.
Причины для сомнения не заставили себя ждать. Медленно огибая мыс Ирапетра (глубина в этом месте не превышала полутора метров), я тщетно высматривал на причудливых извивах берега древние могильные холмы. Уничтожены эрозией? Занесены песком? Или они вообще были плодом воображения гидрографов? Последнее маловероятно, ведь речь шла о людях, служивших под началом капитана Спрэта. Высадившись на берег, я все-таки нашел если не курганы, то нечто похожее на их остатки. В том самом месте, которое указано на карте, моим глазам предстали два достаточно приметных, невысоких песчаных бугра шириной около восьми метров, со сглаженной кем-то макушкой. То ли здесь потрудились археологи, то ли кто-то запасался песком. Третий холмик пострадал еще больше, и очертания его напоминали скорее прямоугольник, чем круг. Это меня озадачило. Действительно ли передо мной «могильные холмы», как утверждала карта прошлого века, или же гидрографы посчитали курганами фундаменты разрушенных ветряных мельниц? Но от мельниц должны были остаться какие-то следы, к тому же расстояние между двумя холмиками было слишком мало, учитывая размах мельничных крыльев. Как бы то ни было, изучая впоследствии данные об археологических раскопках на Лефкасе, я не нашел упоминаний о трех «могильных холмах». Да и местные жители упорно твердили, что им ничего не известно о каких-либо древних захоронениях в этом месте. Дескать, единственный памятник прошлого на мысу — бывшая артиллерийская позиция. Однако этот вариант отпадал сразу. Гидрографы британских ВМС в прошлом веке умели отличать артиллерийскую позицию от кургана.
Сравнительно малые размеры «могильных холмов» меня не смущали. На нашу мерку, в чем мы неоднократно убеждались, масштабы объектов микенского мира были очень скромными, а оконечность мыса Ирапетра — как раз такое место, где древние стали бы хоронить своих покойников. Младший член команды Улисса, Ельпенор, был погребен «на самом возвышенном месте берега» Эи; Менелаева кормчего Фронтиса похоронили на мысу Сунион. В том и другом случаях речь идет о выступах суши на древнем морском маршруте. Низкий мыс Ирапетра вполне укладывался в эту схему. Быть может, когда-нибудь профессиональные археологи выберут время для раскопок, чтобы проверить обозначение на старой карте.
Есть и другие основания помещать сирен в эту часть Греции. Согласно мифу, они были дочерьми древнего бога рек Ахелоя, изображаемого с человеческим торсом и огромным змеиным хвостом, с большими рогами. По одной версии, сирены явились на свет от союза Ахелоя с нимфой, подругой — от музы, по третьей, они выросли из капель крови, пролившейся, когда Геракл, схватившись с Ахелоем, сломал ему один рог. Обитель Ахелоя находилась на северо-западе Греции; названная по его имени река Ахелоос впадает в море в 40 милях от Лефкаса, как раз напротив Итаки. Таким образом, родословная сирен дает повод искать их на Ионических островах. Один миф говорит, что им был дан птичий облик, чтобы они успешнее искал похищенную Аидом владычицу преисподней Персефону. И ведь мы уже видели, что обитель Аида и Персефоны тоже помещалась на северо-западе, у реки Ахерон, недалеко от Лефкаса.
Наконец, в эпизоде с гибелью самих сирен тоже можно усмотреть некую связь с Лефкасом. По одной версии они бросились в море, раздосадованные тем, что музы превзошли их в искусстве пения; нам же интереснее другая версия, по которой сирены обратились в скалы после того, как пропустили невредимым Улисса (или Ясона). Вспомним, что и «бродящие утесы» навсегда застыли на месте, когда между ними впервые сумел пройти корабль.
Сирены бросились в море с высокой белой скалы. Эту скалу исследователи помещали на одном из островов возле Крита, однако куда более похож на приведенное описание высокий белый утес буревого мыса Дукато на юго-западе Лефкаса. Согласно преданию, здесь поэтесса Сапфо покончила жизнь самоубийством, бросившись в море с обрыва, по сей день носящего название «Прыжок Сапфо». Перед нами очевидная параллель между самоубийством поэтессы и мифической гибелью сладкоголосых сирен.
В «Одиссее» Улисса и его людей подстерегают только две сирены. Позднейшие авторы увеличивают их число до трех и изображают как прекрасных дев с птичьими ногами. Все источники сходятся в том, что их волшебное пение, иногда сопровождаемое сладостными звуками лиры и флейты, заставляло людей забывать родной дом, жен и детей, и мореплаватели до самой смерти оставались пленниками чаровниц. Хитроумная уловка, придуманная Цирцеей, защитила Улисса. Провожая его в путь с Эи на Итаку, Цирцея даровала ему попутный ветер, но тот внезапно стих, когда вдали показался остров сирен. Моряки убрали парус, Улисс залепил им уши воском, и они привязали его к мачте, затем взялись за весла. Когда же корабль приблизился к острову на «расстояние, в каком призывающий голос бывает внятен», сирены увидели его и пустили в ход свои чары. Заслышав волшебное пение, рассказывает Улисс:
Итак, Улисс и его товарищи повернули налево, остановив свой выбор на втором из двух предложенных Цирцеей путей: извилистом узком проливе, отделявшем Лефкас от области Аркания на материке. Тем самым они избежали опасностей плавания в открытом море у «бродящих утесов» Сесолы и буревого мыса Дукато. Теперь последуем в воображении за Улиссом вдоль берега к востоку от мыса Ирапетра, где в наши дни любители виндсерфинга носятся по волнам, пользуясь тем же свежим ветром, который некогда вращал мельничные крылья. Всего через каких-нибудь две мили с четвертью нас подстерегает впечатляющее препятствие:
Волненье и дым, так испугавшие людей Улисса, можно наблюдать и сегодня. Речь идет о бушующей полосе прибоя на рифе Плака-Спит. Все тот же ветер, друг виндсерферов и ветряных мельниц, гонит с запада накат, который разбивается о двухмильную преграду рифа, протянувшегося от берега как раз на его пути. Совершенно прямой, так что его можно принять за искусственное сооружение вроде пирса, риф выступает всего сантиметров на тридцать над поверхностью моря. Когда ветер стихает, накат все равно продолжается, и в полный штиль особенно странно видеть бурлящий барьер Плака-Спит. За этим препятствием находится искомый Улиссом вход в древний пролив.
Тремя месяцами раньше, у Трои, я обещал Кевину, что ему представится случай сфотографировать, как «Арго» обходит рифы, и вот час настал. В «Одиссее» Улисс, именно стремясь избежать столкновения с рифом, велел своим людям «судно отвесть от волненья и дыма». Мы притормозили на безопасном расстоянии, а Кевин подошел к рифу на шлюпке, вылез и встал по пояс в беспокойной воде. Приготовив камеру, он помахал нам рукой, и я отдал команду ставить парус. С запада дул ровный предвечерний бриз, и портрет молодого царевича Пилоса развернулся во всей своей красе. «Арго» развил скорость курсом на самый конец каменного бара. Я задумал пройти возможно ближе к рифу, но так, чтобы миновать буруны и, обогнув препятствие, выйти на тихую воду за ним. Дух захватывало от скорости, с какой скользил по волнам тонкий корпус галеры. Впереди, недалеко от Кевина, рыбацкий челн то взмывал на гребень, то исчезал в ложбине между волнами. Стоя в челне, два рыбака, заслонив ладонью глаза от солнца, с удивлением смотрели на вынырнувшую с запада галеру бронзового века. Просвет между ними и рифом быстро сокращался. Кевин наклонился над видоискателем. Питер Уилер стоял на носу «Арго» высматривая подводные камни; Джонатан и Дерри приготовились маневрировать шкотами. В ту самую минуту, когда галера развила предельный ход, я прямо по курсу увидел на воде поплавки поставленной рыбаками сети. Она преграждала нам путь, дотягиваясь почти до самого рифа. Наскочи мы на сеть при такой скорости, торчащий ниже корпуса двойной руль запутается, как в ловушке, галеру дернет в сторону и бросит на риф. Прервать стремительный бег галеры не было никакой возможности, оставалось лишь молить бога, чтобы между сетью и баром оказался спасительный промежуток, — если «Арго» вообще достаточно быстро изменит курс. Я до предела переложил рули, и галера сильно рыскнула. Обмирая от страха, навалился всем телом на румпель. Мои товарищи замерли в ожидании сокрушительного удара. Покатая волна подняла «Арго» на своем гребне, и галера пронеслась мимо стоящего в бурунах на рифе Кевина, который был настолько поражен увиденным, что даже не успел щелкнуть заключительный кадр. Тень «Арго» скользнула по темному фону баров, и мы очутились в тылу Плака-Спит.
— Трави шкоты!!
Никогда еще моя команда не выполнялась так быстро. Парус заполоскался, обезветривая.
— Бери на гитовы!
Сильные руки выбрали бык-гордени, подтягивая парус. Питер покинул пост впередсмотрящего на носу.
— Насколько я могу судить, концы рулей прошли в пятнадцати сантиметрах над камнями, — спокойно доложил он.
Кевин вернулся на борт со своими камерами. Он был потрясен.
— Господи, вот уж не думал, что вы пойдете так близко. Сколько занимаюсь фотографией, впервые язык не повернулся бы сказать: «Давайте еще раз!»
За Плака-Спит мореплавателю следовало повернуть направо, чтобы войти в древний пролив, названный венецианцами Канали-Стретти. В наши дни его перерезает дамба, по которой проходит шоссе, соединяющее Арканию с Лефкасом. Однако направление пролива, хоть глубина его местами не превышает трех десятков сантиметров, четко прослеживается и по карте, и на местности. Извиваясь и петляя, Канали-Стретти наконец совсем выдыхается перед дамбой.
Длина, глубина и переменчивое русло пролива дали повод для получившей широкую известность дискуссии в среде археологов-гомероведов; особенной силы споры достигли в двадцатых годах нашего столетия. Как ни странно, бурная полемика касалась не Сциллы и Харибды, а совсем другого вопроса, связанного с «Одиссеей»: был ли Лефкас во времена Улисса островом или полуостровом. Начало спору положил Вильгельм Дерпфельд. Он приобрел огромный авторитет после того, как возобновил раскопки Трои, применяя научные методы, позволившие исправить ошибки Шлимана, и объявил Трою VI тем городом, в разрушении которого участвовал Улисс. Завершив эти работы, Дерпфельд, как и следовало ожидать от подлинного гомероведа, не мог устоять против соблазна искать другие места, упоминаемые в поэмах. Подобно Блегену и Шлиману, он пытался определить местоположение дворца Нестора. Не преуспев в этом деле, занялся поиском родины самого Улисса. Отправившись на Итаку (куда вскоре последуем и мы), он организовал раскопки в северной части острова, но и здесь не смог собрать убедительных свидетельств, после чего выдвинул гипотезу, ошеломившую его современников. Дескать, нынешняя Итака — не та, о которой пишет Гомер; на самом деле Улисс жил на Лефкасе. Названия двух островов кочевали вместе с их древними обитателями; Гомерова Итака — Лефкас, и он, Дерпфельд, докажет это, найдя на Лефкасе обитель Улисса.
Вызванный столь оригинальной гипотезой спор растянулся на полвека, с градом аргументов и контраргументов; доходило до острых личных конфликтов. Многие восприняли идею Дерпфельда как ересь. Две тысячи лет никто не сомневался, что Итака есть Итака. Однако так просто отмахнуться от Дерпфельда было невозможно. Он занимал ведущее место среди археологов-гомероведов. Ему довелось работать вместе с великим Шлиманом. Его раскопки создали ему безупречную репутацию, он располагал квалифицированными помощниками и достаточными денежными средствами. Сам германский кайзер подарил Дерпфельду разборный дом, и он обосновался на Лефкасе на красивом мысу (напротив островка, ставшего впоследствии собственностью миллионера Онассиса), твердо намеренный доказать свою правоту. Вильгельм Дерпфельд привлек к поискам целую группу специалистов — геологов, геоморфологов, геодезистов, лингвистов, инженеров, экспертов по керамике — и не сдавался до конца своей жизни, даже когда свидетельства начали оборачиваться против него. Странная прихоть человека, прежде склонного к трезвому, рациональному анализу фактов, и она наложила на него печать. Посетив Дерпфельда на Лефкасе в 1905 году, американский консул в Афинах, Ирвинг Манатт, пришел к выводу, что он одержим своей гипотезой. «Родина Улисса находилась здесь, на Лефкасе, и я докажу это», — снова и снова твердил Дерпфельд гостю, который не стал напоминать хозяину, что, посетив пятью годами раньше Ионические острова, встретил его на Итаке, и тогда Дерпфельд был совершенно убежден, что нашел там дом Улисса.
Нашумевший спор гомероведов оказался мне на руку: в поисках ключей к загадкам «Одиссеи» была тщательно изучена топография Лефкаса, причем особенно внимание уделили проливу между островом и материком. Критики Дерпфельда упирали, в частности, на то, что ни в эпоху Гомера, ни во времена Троянской войны никакого пролива не было. Из чего следовало, что Лефкас тогда не был островом, а потому не годится на роль родины Улисса. Эти критики ссылалась на Фукидида, который сообщает, что во время Пелопоннесской войны в V веке до н. э. жители Лефкаса были вынуждены прорыть канал — диориктус — через мешавший их кораблям перешеек. В ответ Дерпфельд поручил своим геологам и гидрографам составить подробную карту перешейка. Выяснилось, что он сложен илом и осадочным материалом и вполне мог образоваться после бронзового века. Во времена Троянской войны, упорно настаивал Дерпфельд, Лефкас был островом.
Любопытно, что в пылу всех этих споров никто как будто не задумывался над следующим обстоятельством: если Лефкас был отделен от Аркании узким проливом, возможно, сам этот пролив был достаточно своеобычным, чтобы играть какую-то роль в географии «Одиссеи». Однако ученые мужи были всецело заняты жаркой баталией вокруг Итаки и Лефкаса; к тому же старая версия, помещавшая Сциллу и Харибду в Мессинском проливе, слишком прочно утвердилась, чтобы кто-нибудь стал на нее покушаться. Странно и то, что вообще подвергалось сомнению наличие пролива, годного для плавания во всяком случае мелко сидящих кораблей древности. Беглый осмотр Канали-Стретти сегодня позволяет представить себе древний водный путь. Еще более четко видишь его на картах прошлого века.
Короче, перед нами характерный пример спора между армией кабинетных ученых и теми, кто берет на себя труд ознакомиться с проблемой на месте. Домоседы обращались в библиотеки и повторяли слова Страбона, Плиния и Фукидида о том, что древние греки прорыли искусственный канал. Путешественники отправлялись на Лефкас, самолично знакомились с Канали-Стретти и заявляли, что главное русло пролива узкое и мелкое, но несомненно естественное. Они могли, в свою очередь, сослаться на древнегреческого историка Арриана, у которого написано, что проход по диориктусу осложнялся многочисленными отмелями, обозначенными воткнутыми в дно шестами, и так как постоянно происходило заиливание пролива (это относится и к современному каналу, прорытому в 1902 году), древние углубили его, чтобы не заниматься периодической расчисткой.
Специалист по античной культуре, полковник Уильям Лики, прославившийся «замечательным топографическим чутьем», побывал на Лефкасе в 1809–1810 годах и, опередив Дерпфельда почти на сто лет, так изложил свои наблюдения:
Я склонен считать… что Лефкас всегда был скорее островом, чем полуостровом, то есть он всегда отделялся от материка переходимым вброд узким коридором, а упоминаемые историками изменения сводятся к естественному заиливанию и искусственной расчистке входа в глубокий пролив.
Я был настолько уверен, что мы стоим на пороге решения загадки тесного пролива Сциллы и Харибды на пути Улисса, что отправился на берег искать пещеру Сциллы, не сомневаясь в успехе. Сопоставив описание в «Одиссее» с крупномасштабной картой, я точно знал, где начинать поиск. Вспомним слова Цирцеи о скале, на которой жила Сцилла: «до широкого неба острой вершиной восходит… облака окружают темносгущенные ту высоту, никогда не редея. Там никогда не бывает ни летом, ни осенью светел воздух…»
Разумеется, Гомер преувеличивал высоту вечно окутанной облаками скалы, как утрировал он характеристики обители Эола — «медностенной Грамвусы» — и размеры «грозного Илиона». Тем не менее передо мной над бухтой возвышалась гора Ламия, и дующий с моря, обычный для этих мест западный ветер вздымал над ее вершиной орографическое облако, ясно видимое на фоне чистого неба. Где-то на склоне Ламии — горы пожирающего людей длинношеего чудовища — должна была находиться пещера Сциллы. Миф снабдил меня нужными указаниями; оставалось только соотнести поэтические образы с физической реальностью.
Склоны Ламии были достаточно крутыми, но неприступными я бы их не назвал, хоть Гомер и уверяет нас, что «туда не взойдет и оттоль не сойдет ни единый смертный, хотя б с двадцатью был руками и двадцать бы ног имел, — столь ужасно, как будто обтесанный, гладок камень скалы…»
Самый крутой участок помещался над современной дорогой; здесь и впрямь моим глазам предстала многообещающая, почти вертикальная скала. Более отлогую нижнюю часть горы покрывал укоренившийся на осыпи кустарник. Что до скалы, то ее склон смотрел как раз в нужную сторону, на запад, туда, где в тылу у Плака-Спит стоял на якоре «Арго». И ведь Цирцея говорила Улиссу: «…на самой ее середине пещера, темным жерлом обращенная к мраку Эреба на запад; мимо ее ты пройдешь с кораблем, Одиссей многославный…»
Эребом называлась лежащая на западе страна вечного мрака; и пещера Сциллы должна была помещаться достаточно высоко, коль скоро, по словам Цирцеи, «даже и сильный стрелок не достигнет направленной с моря быстролетящей стрелою до входа высокой пещеры».
Идя по дороге между Канали-Стретти и скалой, я приметил внизу челн с двумя рыбаками. Они высматривали угрей на мелководье, держа в руках остроги с длиннейшими рукоятками.
— Пещера! — крикнул я им. — Где пещера?
Рыбаки озадаченно уставились на меня. Наверное, естественнее было спросить: «Есть здесь какая-нибудь пещера?» — но я был слишком уверен в ее существовании.
— Пещера! Где? — повторил я.
Рыбаки отвернулись, явно недовольные тем, что их отвлекают от дела. Я не сдавался, хоть и сознавал изъяны своего греческого произношения.
— Пещера! Пожалуйста, пещера?
Она должна быть где-то здесь… Рыбаки посовещались, один из них раздраженно пожал плечами. Не иначе принял меня за чокнутого туриста. До моего слуха донеслось слово «Антоний». Наконец один рыбак досадливым жестом указал на скалу за моей спиной и снова взялся за острогу. Я повернулся и за ветвями старого оливкового дерева высоко на склоне разглядел угол какого-то балкона с железными перилами. Волнуясь, стремительно зашагал по дороге и обнаружил ведущую наверх извилистую тропу. Судя по обилию паутины между кустами, ею не часто пользовались. Здоровенные пауки напомнили мне притаившуюся в своем логове Сциллу; я знал, что нахожусь на верном пути.
Тропа уперлась в ступеньки, которые привели меня на замеченный снизу бетонный балкон, явно часть какого-то святилища, судя по тому, что часть перил составлял сваренный из двух железных прутьев грубый крест, а в раме из труб висел колокол. Сверху балкон защищала черепичная крыша, а в глубине я увидел два маленьких окошка и коричневую дверь. Приглядевшись, обнаружил, что дверь вставлена в подпирающую скальный выступ каменную кладку. Над дверью висел на гвозде большой железный ключ. Я отпер замок и вошел, чувствуя себя как Алиса, вступающая в Зазеркалье.
Я очутился в пещере. Превращенная в часовню, она тем не менее сохранила свой первоначальный облик. Расписанные копотью от свечей гротескные стены с буфами и бороздами казались вылепленными из воска. Наибольшая высота свода составляла примерно четыре с половиной метра, длина достигала трех с половиной метров, ширина — неполных три метра. Мрачная полость в скале отлично подходила на роль логова Сциллы. То, что теперь она служила часовней, меня ничуть не удивило. Подобно тому как в некимантейоне над древними вратами Аида поместилась церковь Иоанна Предтечи, так и здесь новая религия освоила древнее языческое святилище. Пещера Сциллы стала часовней Святого Антония, и я невольно улыбнулся, заметив маленькую икону с грубым изображением святого Георгия, убивающего дракона. Очень точная метафора, рисующая противоборство двух религий, и некоторые фольклористы усматривают связь битвы святого Георгия с языческим представлением о конном витязе, сражающемся с длинношеим чудовищем Ламией.
Выйдя обратно на балкон, я остановился спиной к пещере. Открывшаяся мне картина точно соответствовала описанию Цирцеи. Внизу к подножью скалы подступала излучина древнего пролива. С высоты я не хуже какого-нибудь пернатого хищника видел, как скользящие по дну мелководного Канали-Стретти угри расписывают желтый ил извилистыми узорами. Прямо передо мной белела линия бурунов на Плака-Спит, хотя с приходом вечера ветер уже прекратился. Вдали за стрелкой просматривалась оконечность мыса Ирапетра с его загадочными курганами и берегом, подходящим на роль луга сладкогласных сирен. Я стоял у входа в пещеру, расположенную, как говорила Цирцея, «на самой середине» скалы над проливом, лицом к западному горизонту. Рыбаки внизу решили, что на сегодня хватит трудиться, и удалялись по древнему водному пути, отталкиваясь шестами. Я нашел искомое.
Но если пещера Сциллы помещается на горе Ламия на арканском берегу, где надлежит искать поглощающий корабли водоворот Харибда? По словам Цирцеи, он находился под скалой, отстоявшей «на выстрел из лука» от обители Сциллы. В наши дни, когда Канали-Стретти перекрыт дамбой и представляет собой тихую заводь, здесь нет ни приливов, ни отливов, вообще никаких течений, способных образовать водоворот. А потому хотя бы для приблизительного ответа необходимо реконструировать конфигурацию пролива и схему приливно-отливных течений времен Троянской войны. При этом во многом приходится руководиться догадками, так как заиливание лагун Лефкаса по своим масштабам не уступает сходному процессу в заливе перед Троей.
И все же кое-какими ключами мы располагаем. В современном судоходном канале, пересекающем основание Плака-Спит, наблюдается идущее с юга на север приливно-отливное течение. Скорость его невелика, всего полтора узла, но оно показывает, что течение такого рода могло быть частью механизма, образующего могучий водоворот. Однако еще важнее расположенные примерно в миле к северу от пещеры Сциллы два залива — Святого Николая и Хелодиваро, играющие роль водосборников. Во второй половине дня ветер нагоняет в них воду, которая сбрасывается через бары и отмели «Порта Святого Николая». В «Лоции адмиралтейства» говорится: «Морской бриз гонит в Ормос Айю Николау (залив Святого Николая) значительное количество воды, с силой вытекающей обратно на закате, когда стихает ветер». Ветровое течение — вот специфическое явление, могущее объяснить странные особенности Харибды, озадачивавшие комментаторов. В «Одиссее» читаем: «Страшно все море под тою скалою тревожит Харибда, три раза в день поглощая и три раза в день извергая черную влагу».
Троекратный водоворот представлялся всем невозможным. Такие комментаторы, как Страбон, относили его к разряду преувеличенных вымыслов, потому что обычно приливы чередуются с отливами только два раза в сутки. Однако здесь, к югу от мыса Сциллы, у входа в узкий проток между Лефкасом и материком не исключена возможность третьего прилива. В конце бронзового века, до того как залив Хелодиваро был заилен, он мог накапливать гораздо больше воды, да еще сюда можно добавить воду из лагуны Вулкария, по-прежнему соединенной с Хелодиваро узким проходом на месте древнего канала. Внезапный поток воды из этого резервуара следом за обычным приливно-отливным течением вполне мог дать водителям малых судов бронзового века пищу для легенд.
Так где же именно были условия для образования троекратного водоворота? Предлагаемый мной вариант — не больше чем логичное предположение, основанное на сравнении с примерно такой же обстановкой в шести милях севернее, где воды залива Амвракикос сбрасываются через узкий пролив у Превезы. Здесь во время сизигийных приливов сброс вызывает мощную циркуляцию воды у мыса Акшен. По словам рыбаков, течение порой достигает такой силы, что не дает выбирать сети. В Канали-Стретти, между Лефкасом и материком, наиболее вероятное место для возникновения такого водоворота следует искать в узкостях, где происходит ускорение и отражение водного потока, то есть либо у маленького островка посреди пролива, либо у одного из просветов между каменными глыбами рифа Плана, на выходе из которых возникало завихрение приливно-отливного потока. Пробирающейся через тесный пролив галере это явление сулило большие неприятности. Конечно, не такие, как в «Одиссее», где водоворот поглощает корабли, недостаточные, чтобы мог родиться миф о Харибде.
Потрясенный зрелищем бушующих вод, Улисс не уследил за Сциллой, когда галера проходила мимо крутого подножия горы Ламия, и длинношеее чудовище не преминуло воспользоваться этим.
Итак, еще шесть моряков погибли. Но худшее было впереди. Дальше Улисса ожидала гибель последнего корабля его флотилии и всех оставшихся сопутников.
Глава 12. Быки бога солнца
Цирцея строго-настрого наказала Улиссу держаться подальше от этого острова. Страшная участь ожидала всякого, кто посмел бы «руку поднять» на пасущихся там священных животных. Семь стад по пятьдесят быков и такие же стада баранов находились под присмотром дочерей Гелиоса — нимф Лампетии и Фаэтусы. Если Улисс пройдет мимо Тринакрии, говорила Цирцея, все будет хорошо и мореплаватели благополучно доберутся до дома. Но если люди Улисса опять что-нибудь натворят, это будет их последней авантюрой. Все они погибнут, и только один Улисс возвратится в отчизну.
Как и следовало ожидать, предрасположенные к бедствиям товарищи Улисса отказались проходить мимо Тринакрии. Непокорный Еврилох, тот самый член команды, который на Эе отказался идти вместе с Улиссом к дому Цирцеи, заявил, что команда желает высадиться на острове. Дескать, Улисс совсем загонял их и теперь подвергает опасности, заставляя продолжать плавание ночью, когда невозможно увидеть приближение шторма. Внезапный шквал способен потопить корабль. Команда выбилась из сил, твердил Еврилох, и нуждается в сне. Необходимо сойти на берег, приготовить сытный ужин и выспаться на суше. Проведя всего лишь ночь на острове, утром можно будет продолжить путь до Итаки.
Уступая требованиям команды, Улисс неохотно согласился остановиться на Тринакрии, но заставил своих товарищей поклясться, что они ни в коем случае не покусятся на священных быков бога солнца Гелиоса, иначе не миновать им беды. Дав клятву, команда повернула галеру к острову и высадилась на берег. Однако ночью подул такой сильный южный ветер, что пришлось вытаскивать корабль из воды. Ветер свирепствовал целый месяц, и мореплаватели были вынуждены ждать на острове, когда переменится погода. Съестные припасы, полученные от Цирцеи, кончились, охота на пернатую дичь и рыбная ловля складывались неудачно, и люди Улисса начали жаловаться на голод. В это самое время Улисс неосмотрительно удалился один внутрь острова, чтобы молить богов о помощи. Воспользовавшись его отсутствием, интриган Еврилох стал уговаривать остальных нарушить клятву. Дескать, с какой стати они должны умирать голодной смертью, когда можно насытиться мясом священных быков.«…Легче, в волнах захлебнувшись, погибнуть вдруг, — говорил он, — чем на острове диком от голода медленно таять». А чтобы умиротворить Гелиоса, достаточно принести ему в жертву лучших быков и дать обет воздвигнуть богатый храм в его честь по возвращении в Итаку. Моряки бездумно поддались его уговорам, отделили от стада лучших быков и пригнали на берег. Поскольку ячменя для жертвенного ритуала не оставалось, его заменили сорванными с дуба листьями, зарезали быков, освежевали туши, бросили в жертвенный огонь жирное мясо с бедер и принялись жарить трапезу на вертелах. Между тем Улисс, которого сморил сон во время молитвы, проснулся и поспешил обратно к берегу. Почуяв запах жареного мяса, он понял, что свершилось худшее, и прибавил шагу, но было поздно. Да и его строптивые сопутники поняли, что натворили, когда боги послали страшное знамение: шкуры быков поползли по земле, а мясо — уже зажаренное и еще сырое — принялось мычать. Нимфа Лампетия поспешила известить своего отца Гелиоса о совершенном святотатстве, и Зевс заверил бога солнца, что жестоко покарает богохульников.
Шесть дней бесчинствовали непокорные спутники Улисса. Они продолжали резать быков и есть мясо, пока на седьмое утро ветер не стих и оказалось возможным снова спустить корабль на воду. Подняв парус, итакцы вышли в море, и тут Зевс обрушил на них свой гнев. Над галерой грозно повисла свинцовая туча, море потемнело, налетевший с запада шквал порвал державшие мачту ванты, и она упала на корму, разбив при этом голову кормщика, так что «череп его… весь был расплюснут, и он, водолазу подобно, с высоких ребр корабля кувыркнувшися вглубь, там пропал, и из тела дух улетел». Зевс метнул в галеру «громовую стрелу», пронзенный молнией корабль закружился и распался на части. Товарищи Улисса «были сброшены в воду, и все, как вороны морские рассеясь, в шумной исчезли пучине — возврата лишил их Кронион».
Один Улисс остался жив. Барахтаясь среди обломков, он поймал обвитый вокруг мачты кожаный ремень, связал им вместе мачту и киль и обхватил руками это подобие плота. Когда буря стихла, снова подул южный ветер, и всю ночь Улисса несло обратно к ужасной Харибде. На рассвете он очутился у водоворота в ту самую минуту, когда Харибда, верная своему ритму, начала поглощать воду. В последний миг Улисс сумел ухватиться за нависший над водой толстый сук развесистой смоковницы, подтянулся кверху и повис, будто летучая мышь, оставив свой плот.
Перед нами вершина морских небылиц, прототип всех историй о кораблекрушении и чудесном спасении мореплавателя, от Улисса до Синдбада Морехода и «Моби Дика». И все-таки, если отвлечься от фантастических элементов с пришедшей на помощь огромной смоковницей и поглощающего корабли водоворота Харибды, сюжет по сути своей вполне реалистичен. Создатель «Одиссеи» снова обнаруживает прекрасное знание тягот пребывания на борту тесной галеры. Жалобы изможденных гребцов звучат весьма правдоподобно. Их усталость, нежелание плыть ночью, когда нельзя рассмотреть барашки, выдающие приближение шквала, соблазнительная мысль о горячей трапезе с последующей возможностью растянуться на берегу и как следует выспаться, вместо того чтобы свертываться калачиком на банке, — все это было памятно моей команде по долгому изнурительному переходу в Грузию во время экспедиции «Ясон». Не менее метко описание внезапного шквала, разрушившего корабль. У берегов Греции, где высятся большие горы, возможны внезапные неистовые ветры, влекущие за собой резкую перемену погоды. Такие локальные шквалы не часты, но раз испытав их, запомнишь на всю жизнь. У южных берегов Крита сила ветра может вдруг возрасти с безобидных двух баллов до восьми-девяти; известен случай, когда при чистом, казалось, небе современная яхта с голыми мачтами была опрокинута резким порывом ветра.
Для галеры бронзового века буря, в какую попал Улисс, означала полную катастрофу. При сильно потрепанных снастях неожиданная смена ветра застигла команду врасплох. Прямой парус вывернулся наизнанку и стеганул мачту с такой силой, что ванты не выдержали внезапной нагрузки и лопнули. После чего шпор мачты вырвался из гнезда, и она, словно гигантская булава, обрушилась на голову несчастного кормщика. Технические детали описаны в высшей степени верно; это относится и к поведению судна. Лишенная мачты, при встречном ветре и убитом кормщике, галера круто разворачивается, подставляя ветру борт, и резко кренится, выбрасывая команду в море. Кто не сумеет ухватиться за корпус судна или обломки, тому грозит почти верная смерть среди бушующих волн. Крен судна растет, и вода врывается внутрь корпуса. Легкие деревянные галеры были практически непотопляемы, если не несли очень тяжелый груз. И если корпус выдерживал удары волн; в противном случае людям оставалось лишь цепляться за обломки и надеяться, что их отнесет ветром к какому-нибудь берегу.
Направление ветра подсказывает нам, где искать Тринакрию — остров солнечного бога Гелиоса. Сперва дувший целый месяц южный ветер не давал галере идти в Итаку и вынудил команду ждать на острове. Стало быть, место Тринакрии — к северу от Итаки. После того как судно было разбито бурей, слабый ветер, опять-таки южный, отнес уцелевшего Улисса с его подобием плота обратно к водовороту Харибды. Зная позицию Итаки, с одной стороны, и местоположение пролива у Лефкасы — с другой, можно примерно определить, где находился Тринакрия, а именно на естественном пути, по которому капитан бронзового века повел бы свое судно от южного выхода из пролива на Итаку. Дистанция невелика, всего каких-нибудь 20 миль, но мы снова должны считаться с мелкими масштабами Гомеровой географии. В «Одиссее» сказано, что Улисс, миновав Сциллу, вскоре услышал с моря мычанье быков. Проблема заключается в том, чтобы выделить нужный из десятка с лишним островов на этом маршруте. Некоторые из них совсем малы, шириной меньше километра, другие в пять-шесть раз больше. Видимо, на каком-то из них жрицы Гелиоса пасли быков и овец бога солнца.
Дополнительной, хоть и не очень надежной путеводной нитью может служить приводимое у Гомера название Тринакрия. Мнения ученых расходятся. Иные видят в этом слове связь с цифрой 3, толкуя его как «треугольный» или «трехзубый» — по аналогии с тринаксом, разновидностью остроги. Сторонники варианта «треугольный» высказывали предположение, что Тринакрия — большой треугольный остров Сицилия. Однако по меркам бронзового века Сицилия слишком велика, она равна площадью всему Пелопоннесу, так что ее очертания в географическом контексте той эпохи не приходится принимать в расчет. К тому же, когда Улисс идет молиться в глубь Тринакрии, очевидно, что речь идет о небольшом острове. И ведь некоторые приверженцы сицилийского варианта привязывают к этому острову другие эпизоды поэмы, вроде встречи с циклопами; можно ли после этого считать, что Сицилия была еще и островом быков Гелиоса? Наконец, Гомер упоминает сикелов — древнейших жителей Сицилии — совсем в ином контексте. Так что Тринакрию следует искать в другом месте.
Я решил провести эксперимент: обратиться к человеку, знающему воды вокруг Лефкаса, и проверить, говорит ли имя «Тринакрия» что-нибудь опытному мореходу. Результат эксперимента был весьма показателен.
Я познакомился с Герасимосом Роботисом, когда он, сидя около рубки своей моторной лодки, пришвартованной у пристани в мутной лагуне Лефкаса, терпеливо наживлял креветками крючки длинного перемета, укладывая его петлями в стоящей у ног корзине. Через переводчика я осведомился, не найдется ли у него времени, чтобы ответить на некоторые вопросы, касающиеся моря у Лефкаса. Герасимос деловито отчеканил, что сейчас времени не найдется, он слишком занят и ему еще надо отдохнуть, прежде чем он отправится на ночной лов. Дескать, как только приготовит снасти и наведет чистоту на борту, отправится домой, чтобы поесть и вздремнуть. Может быть, мне прийти вечером? Пожалуйста! В шесть часов вечера встретимся на главной площади селения.
В назначенный час я пришел на площадь вместе с превосходным переводчиком, уроженцем Лефкаса, аспирантом Лондонского университета. За стаканчиком анисовки Роботис постепенно преодолел первоначальную робость, а услышав, что я — капитан «Арго», и вовсе оттаял. Рассказал, что впервые вышел в море десятилетним мальчуганом и уже пятьдесят пять лет занимается рыбной ловлей в Ионическом море, больше всего в водах вокруг Лефкаса, который служит ему базой.
— Вам приходилось когда-нибудь слышать об острове, который называется Тринакия, или Тринакрия, или еще как-то в этом роде? — справился я.
— Нет, никогда не слышал.
— И это название не напоминает вам какой-нибудь остров или другое место в этой области?
Он отрицательно покачал головой.
— Ну, а вообще какое-нибудь место, где играет роль цифра три, скажем, треугольный или трехзубый остров?
Роботис задумался, силясь уловить смысл странного вопроса.
— Хорошо, — продолжал я, — представьте себе остров, в описании которого вы бы выделили три черты — скажем, три вершины. Три утеса. Характерные природные особенности, которые бросаются в глаза, когда подходишь к острову, и которые вы бы назвали, рассказывая другому рыбаку, чтобы он сразу понял, о каком острове идет речь?
— А, я понял, что вы подразумеваете! Вы говорите про три мыса острова Меганиси.
— Я никогда не бывал на Меганиси. Три мыса — как это понимать?
— Это на пути от Лефкаса на юг, когда идешь мимо Спарты в сторону Итаки. Их сразу видно — три мыса Меганиси. Один за другим, ошибиться нельзя. Между ними бухты с хорошими якорными стоянками. Лучше всего у мыса Ильи, там удобно остановиться на ночь после того, как поставишь сети.
Герасимос Роботис не мог знать, что Меганиси — своего рода археологическая загадка. Занимаясь изысканиями на Ионических островах, Сильвия Бентон, археолог из Британского института в Афинах, отметила на Меганиси «участки, изобилующие черепками пифосов конца бронзового века» и микенских кубков. Незначительный вроде бы остров Меганиси явно играл важную роль в древности. Но почему — археологам было невдомек. Мне подумалось, что на Меганиси могло находиться святилище, связанное с поклонением солнцу. В древнейших греческих мифах говорится, что быки бога солнца были похищены гигантом Алкионеем на острове Эритея (Красный остров), который, согласно тем же мифам, находился где-то в районе залива Амвракикос, к северу от Лефкаса. Позднее мифы перенесли быков Гелиоса гораздо дальше на запад, до самой Испании. Но мы сейчас говорим о микенских мифах, созданных до того, как греческие мореплаватели дошли до Иберийского полуострова. Так может быть, Тринакрия и Эритея — два прежних названия острова Меганиси?
И я отправился на Меганиси, чтобы проверить описание Роботиса, уделив особое внимание последнему мысу, с лучшей якорной стоянкой. Он называется мыс Элия, и принято считать, что его поименовали так в честь святого Илии, однако некоторые ученые, в том числе Патрик Ли Фермор, указывают, что во многих пунктах Греции, названных в честь Илии — среди них и горные вершины, и мысы, — раньше были святилища Гелиоса. Имена эти достаточно похожи, так что христианский Илия естественно пришел на смену языческому богу солнца. Ли Фермор подчеркивает: если в Греции, где богом солнца был Гелиос, очень много пунктов, носящих имя святого Илии, то в Италии, где богом солнца почитался Аполлон, таких мест сравнительно мало. Так может быть, с мысом Элии некогда было связано святилище бога солнца Гелиоса?
Поднявшись на гору около главного селения Меганиси — Вати, я стал лицом к выходу из пролива, по которому в бронзовом веке шли корабли с Лефкаса. С вершины хорошо различались причудливые очертания Меганиси. В длину больше половины острова занимает напоминающий крысиный хвост скалистый гребень, где никто не живет. Расширяясь, он смыкается с округлым центральным массивом; в свою очередь, тот оканчивается на северо-востоке растопыренными пальцами полуостровов, разделенных тремя глубокими бухтами. Три крайних мыса были как раз теми, что, по словам Роботиса, могли служить отчетливыми ориентирами. С того места, где я стоял, не было видно, что «хвост» Меганиси изогнут под углом к центральному массиву. Скорее, он воспринимался как «ручка», а разделенные бухтами мысы напоминали зубцы остроги, нацеленные на горловину пролива между Лефкасом и материком. Короче, Меганиси напрашивался на сравнение с тринаксом — трезубцем.
Поскольку Улисс потерял свою последнюю галеру, наш уникальный метод исследования с борта «Арго» пришел к естественному финалу. После кораблекрушения возле Тринакрии Улисс уже не мог дальше плыть на обычной галере, оттого и мы не могли больше использовать «Арго» в своем эксперименте — плавании по вероятному маршруту знаменитого капитана бронзового века, сравнивая наш опыт с его приключениями. А потому в конце августа мы вытащили «Арго» на берег нового судоходного канала у Лефкаса и оставили там зимовать. Галера хорошо послужила нам, пронесла без происшествий по «логическому пути» от одного открытия к другому. Дальнейший маршрут Улисса далек от логики, ибо он уже был мало властен над своими передвижениями, беспомощно дрейфуя на связанных вместе обломках, плывя затем на самодельном плоту, наконец, явившись домой крепко спящим на борту волшебной пятидесяти весельной галеры, не нуждающейся в кормчем. На последнем этапе великого странствия Улисс становится для нас все более неуловимым, пока не оказывается на своем родном острове Итака; эта привязка не вызывает сомнений.
Глава 13. Калипсо, Алкиной и Итака
Мы расстались с нашим героическим странником, когда он висел, точно летучая мышь, на суку смоковницы над водоворотом Харибды.
«Огигия» означает «древний»; в описании этого острова много фантастического. Он лежал далеко в море, и на нем жила в сказочной пещере Калипсо.
В такой вот волшебной обстановке Улисс обрел приют у Калипсо, чье имя — тоже метафора, ибо оно означает «та, что скрывает». «Одиссея» заточает здесь Улисса на семь долгих лет. Что он делал, как проводил время, нам неизвестно, мы узнаем только, что он разделял ложе с Калипсо и все больше тосковал по дому. Сидел одиноко на прибрежном утесе, «горем, и плачем, и вздохами душу питая и очи, полные слез, обратив на пустыню бесплодного моря».
В конце концов, подчиняясь воле Зевса, Калипсо снабжает Улисса инструментом и наставляет, как сделать плот. Сразу поэма словно оживает, излагая процесс создания плота так же подробно, как описывала жизнь на борту галеры на прежних этапах странствия. Пусть Улисс очутился в фантастической стране, однако составитель «Одиссеи» не может удержаться от желания выставить напоказ свое знание древнего судостроения. Получив обоюдоострый медный топор на рукояти из оливкового дерева, Улисс срубил два высоких, сухих, «для плаванья легких» ствола. Уровняв и обтесав бревна, просверлил в них буравом отверстия, чтобы соединить шипами, и связал брусьями для большей прочности. Укрепил на палубе вертикально доски по бокам и обшил их плетнем из лозы подобно тому, как и в наши дни небольшие грузовые суда иной раз наращивают надводный борт брезентом для отражения гребней высоких волн. Поставил мачту, приладил рулевое весло и сшил парус из принесенного Калипсо куска парусины. «Устроивши парус (к нему же все, чтобы его развивать и свивать, прикрепивши веревки)», Улисс спустил свой плот по каткам на воду.
Приведенное описание — деловое и реалистичное — являет полный контраст лишенному конкретности, туманному изображению Огигии. Единственное, что можно отнести в разряд чудес, — четырехдневный срок, за который Улисс управился со строительством.
Согласно поэме, Калипсо снабдила гостя припасами, дав ему два бурдюка — один с вином, другой с водой — и мешок с хлебом «и разною лакомой пищей». Будучи богиней, она позаботилась и о том, чтобы Улиссу в его одиночном плавании не изменял попутный ветер. Семнадцать дней и ночей сидел он на руле, не смыкая глаз:
Перед нами первый в «Одиссее» и единственный случай, когда излагается довольно точное наставление для плавания по звездам, единственный и достаточно курьезный, чтобы возбудить подозрение. Вдруг нам описывают приемы астронавигации, тогда как до этой поры курсы указывались приблизительно, о них надо было догадываться по направлению ветра или по деталям берега вроде мысов, что представляется естественным для мореплавания микенской эпохи. Определение курса по звездам не согласуется со всеми прочими местами «Одиссеи», где речь идет о навигации. Перечень созвездий — Орион, Воот (Волопас), Медведица, Плеяды — наводит на мысль о гораздо более поздних временах, скажем, эпохе Гомера, VIII–VII веках до н. э. Вообще все путешествие Улисса после острова Калипсо плохо увязывается с остальными эпизодами великого странствия. До сих пор путевое время точно не обозначалось или делилось на короткие реалистичные отрезки. Теперь же, на небольшом, наскоро сколоченном плоту, который понадобился лишь для того, чтобы Улисс мог оставить загадочную Огигию, он плывет семнадцать дней, несравненно больше любого другого пройденного им этапа, будь то вместе со всеми кораблями итакской флотилии или на последней оставшейся галере. Причем плывет в открытом море, что опять-таки противоречит обычной для микенских галер практике прибрежного плавания. Сначала — невероятный случай — он, цепляясь за киль и мачту, добирается за девять дней до Огигии, затем отправляется в плавание, которое выглядит нереально и воспринимается как чистый вымысел. Вся эта часть повествования кажется поздним добавлением.
Подозрение усиливается, когда пытаешься на деле определить направление по звездам и дистанцию, которую Улисс мог пройти за семнадцать дней. В Средиземном море человек, оставляющий Большую Медведицу (единственное созвездие, «никогда не купающее себя в волнах океана», то есть не опускающееся за горизонт) по левую руку и правящий на Плеяды или «нисходящего поздно Воота», идет курсом ост-норд-ост. Допустим, что плот семнадцать дней шел со скоростью 40 миль в сутки, — получится 680 миль, весьма скромная цифра, если учесть, что не было ночевок на берегу. Однако тотчас бросается в глаза явная несуразица. В Средиземном море невозможно плыть курсом ост-норд-ост более 400 миль, не встречая суши. Здесь попросту нет таких просторов. Уменьшим среднюю скорость почти до темпа дрейфа — 20 миль в сутки, получится 340 миль, что только-только укладывается в реальные масштабы, но тогда мы должны пренебречь утверждением, что Калипсо на все семнадцать дней обеспечила своего гостя попутным ветром.
Исходя именно из самой малой скорости, принято было помещать обитель Калипсо на лежащем в 350 милях к юго-западу от Итаки острове Гоцо. Сам по себе этот остров ничем не оправдывает такое отождествление. На северо-западном берегу Гоцо, над выстланным красноватым песком приветливым пляжем вам покажут «пещеру Калипсо». Но «пещера» настолько разрушена эрозией, что виден лишь небольшой навес, и нет ни археологических свидетельств, ни каких-либо намеков в местном фольклоре, которые можно было бы истолковать в пользу существующей гипотезы. Аполлоний Родосский, записавший сказ о Ясоне и аргонавтах, считал, что обитель Калипсо («Нимфея») находилась где-то у южных пределов Адриатического моря, и не исключено, что он прав. У него читаем, что Ясон, идя на юг вдоль побережья нынешней Албании, видел на горизонте Нимфею, обитель могущественной Калипсо. Хотя Аполлоний писал много позже Гомера, он мог располагать более ранним, не столь искаженным вариантом мифа. Огигия у входа в Адриатику (кое-кто привязывает ее к албанскому острову Сасено) вписалась бы в ряд географических пунктов «Одиссеи», сосредоточенных в области Северо-Западной Греции. Но ведь как бы мы ни примерялись к Огигии, «древней земле», она остается иллюзорной. Перед нами сугубо стилизованная топография и обстановка; детали прибытия и отбытия Улисса, продолжительность и направление его плавания практической проверке не поддаются. В реальном мире нет места для идиллической обители Калипсо.
Небылицей отдает и рассказ о следующем, предпоследнем заходе Улисса, причем разочарование усугубляется тем, что большое число физических деталей как будто позволяет опознать описанное место. На восемнадцатый день одиночного плавания Улисс увидел вдали «горы тенистой земли… черным щитом на туманистом море» и взял курс на эту землю. Однако его заклятый враг, бог морей Посейдон, предпринял последнюю попытку уничтожить странника. Нагнав волну своим трезубцем, он вызвал жестокий шторм. Небо покрылось тучами, ветры дули со всех сторон, наконец с севера на хлипкий плот обрушился могучий шквал. Огромная волна закружила плот, вырвала из рук Улисса руль и самого его сбросила в воду. Ветер сломал мачту и унес далеко в море рей и парус. С великим трудом вынырнув на поверхность, «из уст извергая морскую горькую воду», Улисс ухитрился взобраться обратно на плот, который бросало волнами туда и сюда. В конце концов, читаем в «Одиссее», Улисса увидела морская богиня Левкофея. «С моря нырком легкокрылым она поднялася, взлетела легким полетом на твердо сколоченный плот…» и вручила Улиссу чудотворное покрывало. Завернувшись в него, он должен был оставить плот и плыть к берегу, не страшась никаких бед. Сказав это, богиня вновь погрузилась в море.
Улисс колебался, опасаясь подвоха, но тут вопрос решился сам собой: Посейдон погнал на плот громадную волну, и «как от быстрого вихря сухая солома, кучей лежавшая, вся разлетается», так рассыпалась вся конструкция Улисса, и он снова вынужден был оседлать обломок. После чего обернул торс подаренным Левкофеей покрывалом, кинулся в волны и поплыл. Двое суток длилось сверхчеловеческое испытание. К счастью, Посейдон утратил интерес к судьбе Улисса, а благоволившая ему Афина укротила волны, так что он смог доплыть до суши. Однако здесь ему пришлось выдержать поединок с сильным прибоем. Когда Улисс попытался выбраться на прибрежные утесы, откат потащил его обратно, и он изодрал ладони в кровь о шершавые камни, оставив на них лоскутья кожи. Улисс решил плыть вдоль берега, пока не встретится более спокойный участок, и наконец увидел удобное место — устье реки. «К мощному богу реки он тогда обратился с молитвой… И бог, укротив свой поток, успокоил волны…» Улисс подплыл к берегу, снял покрывало Левкофеи и бросил в поток, который вернул волшебную ткань в море богине, а сам проковылял нагишом до прибрежных зарослей, приготовил ложе из опавших листьев, повалился на них и уснул.
Его разбудили женские голоса, и, выглянув из кустов, Улисс увидел молодых дев, игравших в мяч возле устья реки. Рядом сушились на солнце выстиранные ими платья. Прикрыв свою наготу ветками, Улисс выбрался из зарослей и обратился с просьбой о помощи к девам, которые при виде него в испуге разбежались по берегу. Кончилось тем, что девы, во главе с дочерью местного царя Навсикаей, повели Улисса в город, уложив высохшие платья в колесницу. Навсикая хотела представить Улисса своему отцу, царю Алкиною, однако ей не пристало являться домой в обществе чужестранца, а посему она предложила ему подождать в тополиной роще, чтобы немного спустя самому войти в город, который она описала так:
Казалось бы, даны все ключи для опознания города царя Алкиноя, деталей больше, чем для любого другого пункта на всем пути Улисса после того, как его злополучная флотилия была отнесена ветром от мыса Малея. О стране Алкиноя говорится, что она лесистая, «черным щитом на туманистом море… простиралась», что в одном месте между береговыми скалами есть отлогий участок, где в море впадает река с удобными для стирки заводями. Отсюда влекомая мулами колесница довольно долго ехала до города с двумя гаванями, с берегом, куда вытаскивали корабли, торговой площадью и роскошным царским дворцом. Все говорило за то, что определить местонахождение Феакии будет легко.
Действительно, с древних времен жители острова Корфу (Керкира) утверждали, что происходят от феакийцев. Это утверждение побудило Генриха Шлимана в 1868 году нанести короткий визит на Корфу в надежде быстро найти дворец Алкиноя. Было это еще до его Троянской экспедиции. Шлиман только что всерьез увлекся Гомером, и, хотя он провел на Корфу всего сорок восемь часов, ему не составило труда определить места всех приключений Улисса на этом острове. Он объявил, что дворец Алкиноя помещался на полуострове к югу от современного города Керкира. Слывшие замечательными мореходами, феакийцы, несомненно, были потомками финикиян. Но главным достижением Шлиман посчитал отождествление участка берега, где Улисс встретился с Навсикаей. Сбежав по сходням доставившего его на Корфу парохода и рыская по главному городу острова и его окрестностям, Шлиман нанял проводника, чтобы тот показал ему ближайшую речку; время просто не позволяло забираться далеко. На полпути к речке проводник остановился, не желая идти вброд через мутные оросительные каналы; тогда Шлиман разделся и продолжил путь один. Топая по полям в одной рубашке и кальсонах, он в полусотне метров от устья реки увидел два камня. И заключил, что это те самые камни, на которых Навсикая и ее подруги стирали свои платья. «Не может быть сомнения в том, что это и есть река, упоминаемая Гомером, — писал он потом, — ибо другой реки вблизи от древнего города нет».
Полвека спустя француз Виктор Берар, потратив не один год на исследование «Одиссеи», пришел к выводу, что традиционные привязки описанных в поэме пунктов — помещение Сциллы и Харибды в Мессинском проливе и так далее — верны и что Корфу в самом деле Феакия, как утверждали древние. Он тоже возвестил, что точно определил местоположение дворца Алкиноя, но только на противоположной стороне острова. Тщательно изучив источники, Берар на западном берегу Корфу выделил около Палеокастрицы два полуострова, надежно защищающих даже не две, а целых три гавани, которые идеально подходили для галер. Песчаная стрелка, расположенная в центре, позволяла вытаскивать на сушу корабли, а любой из двух высоких мысов годился для размещения царского дворца. Лежащие, согласно «Одиссее», вдали от дворца водоемы, где Навсикая стирала платье, Берар обнаружил в восьми километрах от Палеокастрицы, в устье речушки, впадающей в бухту возле селения Эрмонес.
Палеокастрица казалась настолько подходящим кандидатом, что Вильгельм Дерпфельд, охотясь за очередным Гомеровым объектом, искал на мысах следы царских палат. Однако ни он, ни проводившие впоследствии раскопки другие немецкие археологи не нашли никаких остатков роскошной обители легендарного правителя. Либо дворец Алкиноя находился в другой части Корфу, либо он, как и остров Огигия, был плодом воображения сказочника. Подозрительно и то, что имена представленных Улиссу феакийцев, как и имя Калипсо, носили символический характер. Вот перевод некоторых: Рулевой, Быстромор, Примор, Корабел, Кораблеобильный, Кормчий, Мореход, Судоборец; напрашивается сравнение с рыцарями Круглого стола короля Артура. Да и обитель Алкиноя напоминает Камелот. Сам царь так идеален во всех отношениях, что просто не верится. В отличие от реального царя Нестора, многоречиво повествующего о действительных событиях, царь Алкиной совершенно лишен изъянов. Он живет в мире и покое, не нарушаемом иноземцами. Его корабли ходят в дальние плавания, не нуждаясь в рулевых. Дворец Алкиноя великолепием и роскошью превосходит все прочие, описанные в поэме. Золотые двери дворца были укреплены на серебряных притолоках, стены увенчаны снаружи карнизом лазоревой эмали, вход охраняли золотая и серебряная собаки. Алкиной и его супруга воплощают все царственные добродетели: они справедливы и рассудительны, учтивы и миролюбивы, заботливы и щедры, всячески обихаживают чужестранца, не допытываясь, кто он и откуда, пока Улисс сам не решает поведать им всю историю своих странствий с тех пор, как покинул Трою. Именно из его рассказа Алкиною мы узнаём о встречах Улисса с лотофагами, с циклопами, свирепыми лестригонами и о всех остальных его приключениях.
После того как гость отдохнул и подкрепился, добросердечный Алкиной распорядился, чтобы героя доставили на родину на «в море еще не ходившем» пятидесятивесельном феакийском корабле. Лишившийся всего Улисс получил драгоценные дары: изделия из золота и серебра, а также тринадцать медных треножников, обладать которыми считалось великой честью. Взойдя на борт, Улисс почти сразу погрузился в глубокий сон, так что не смог увидеть, как черный корабль с волшебной быстротой перенес его к родному острову Итака. Гребцы развили такую скорость, что корабль с хода почти наполовину выскочил на берег. Здесь, в бухте, посвященной «старцу морскому Форку» феакийцы отнесли спящего Улисса на песок и сложили у корня оливы полученные им дары. После чего волшебный корабль удалился, предоставив Улиссу дальше действовать самостоятельно.
Наш «Арго» не был волшебным кораблем, так что мы не могли сравниться с феакийцами. Не было у нас, когда мы прибыли на Итаку, и предпосылок, чтобы добавить что-либо к тому, что за две тысячи лет сделали историки, археологи и гомероведы, занимаясь привязкой приключений Улисса на его родном острове. Все же мне представлялось, что исследования этих специалистов оставляют место для суждений, основанных на проведенных нами морских изысканиях, ибо итакская глава истории Улисса показывает, как география способна и подтвердить, и в чем-то поставить под сомнение картину его обители, нарисованную в «Одиссее», заключительной головоломки на арене маленького острова длиной неполных двадцать и шириной около пяти километров.
«Признаюсь, что, несмотря на усталость и голод я ощутил великую радость, оказавшись на земле героев, о приключениях которых сотни раз читал с огромным увлечением». Так восторженно описывает Генрих Шлиман свою первую встречу с Итакой вечером 9 июля 1868 года. Как всегда, он страшно торопился. Всего двумя сутками раньше он покинул Корфу, где искал «прачечную» Навсикаи и дворец Алкиноя. Встреченный на пристани местным мельником, Шлиман нанял за четыре франка ослика для доставки своего багажа в главный город острова — Вати. На ходу он засыпал своего спутника вопросами об «Одиссее» и Итаке. Вот эта гора — действительно та, на которой стоял дворец Улисса? Где находился дом, в котором уединился отец Улисса, Лаэрт? Не это ли Форкинская гавань, где феакийцы оставили на берегу спящего странника? В какой стороне находится грот наяд, где Улисс спрятал подаренные Алкиноем сокровища? К великой досаде Шлимана, проводник не мог сообщить ему ничего дельного, лишь нудно пересказывал содержание «Одиссеи». «Путь до города оказался длинным, рассказ мельника — тоже», — саркастически записал исследователь.
Шлиман не рассчитывал сделать на Итаке важные открытия. В самом деле, что можно найти, если до него уже весь остров тщательно обшарили в поисках следов Улисса. Пусть Троя исчезла, так что ее существование вообще подвергалось сомнению, но Итака всегда пребывала на карте и служила излюбленным охотничьим угодьем для путешествующих ученых. Они обсудили и придирчиво анализировали все возможные привязки приключений Улисса, испещрили ими весь остров. Не все специалисты возвращались с Итаки с одинаковыми суждениями, но относительно главных пунктов утвердилось единогласие. Шлиман надеялся в лучшем случае, копнув тут и там, подтвердить Гомерову географию Итаки.
По мнению большинства исследователей, место, где Улисс отыскал свинопаса Евмея после того, как спрятал сокровища, находилось на юге острова, поблизости от утеса Коракса (Вороньего). И здесь же он замыслил, как расправиться со 108-ю женихами, осаждавшими его жену Пенелопу. Были некоторые разногласия относительно точного местоположения Форкинской гавани — то ли это главная гавань Итаки у Бати, то ли расположенная по соседству, не столь просторная бухта Дексия, но в общем и целом характерные элементы рельефа Итаки как будто соответствовали местам, описанным Гомером. Одна сталактитовая пещера вполне подходила на роль «грота наяд», где Улисс спрятал сокровища, и большинство авторитетов считало, что его дом помещался на узком, как осиная талия, горном перешейке, соединяющем обе половины Итаки. Укрепившийся в этом месте военачальник контролировал сухопутные коммуникации между двумя частями острова, что обеспечивало ему полное владычество. На перешейке сохранились древние развалины, которые местные жители называли «Дворец Улисса», и уже на другое утро после своего прибытия на Итаку Шлиман поднялся туда. Стоило ему увидеть циклопическую стену, как богатое воображение тотчас нарисовало великолепное многоэтажное здание дворца. В этот раз он не захватил с собой инструмента, так что ему оставалось только грезить, размышляя над соответствующими местами «Одиссеи», полюбоваться захватывающим дух видом на Ионические острова и спешить обратно в Вати, чтобы подготовить новую вылазку.
Рассвет следующего дня вновь застал Шлимана на крутом склоне перешейка. На сей раз он передвигался верхом во главе маленького каравана из четырех дюжих греков, нагруженного инструментом ослика и двух подростков — мальчика и девочки, кои должны были носить воду и вино рабочим. В семь утра отряд был на месте и приступил к раскопкам. Шлиман попросил рабочих расчистить северо-восточный угол развалин. С трогательной верой человека, склонного к буквальному пониманию текста, он рассчитал, что в этом месте помещалась спальня героя. В «Одиссее» сказано, что «основаньем кровати» Улисса служил обтесанный им ствол маслины, и Шлиман простодушно надеялся обнаружить само это дерево. Его поразительная наивность столкнулась с суровой реальностью. Рабочие обнаружили всего лишь куски старой черепицы и осколки сосудов, дальше лопаты уперлись в скальное основание. Орудуя ножом, Шлиман наткнулся на какие-то фундаменты, однако было очевидно, что они появились гораздо позже бронзового века. Потом его нож задел небольшой горшок, и Шлиман вооружился киркой, чтобы откопать находку, но только разбил сосуд. Это не помешало ему заявить, что в сосуде содержался прах покойника. Нашлись и еще сосуды, общим числом двадцать штук. Только пять из них удалось извлечь из земли целыми, остальные Шлиман расколол, однако он упорствовал в своем заблуждении. Он нашел то, зачем приехал. И благоговейно возвестил, что речь, очевидно, идет о прахе Улисса и Пенелопы или их потомков.
Неудивительно, что последующие археологические изыскания на Итаке опровергли скороспелые наивные выводы Шлимана относительно «Дворца Улисса». Было установлено, что развалины принадлежат строениям гораздо более поздней эпохи, и в последовавшие восемьдесят лет длинный ряд раскопок в разных частях Итаки склонил большинство археологов к выводу, что дом Улисса находился в Пеликате на севере острова, где обнаружена руины маленького микенского замка. Греки, немцы, англичане, американцы — отряд за отрядом бродил по Итаке, копал, анализировал и предлагал свои толкования Гомеровой географии. В те самые дни, когда мы выходили на «Арго» из Трои, чтобы попытаться выявить маршрут великого странствия, на острове работала очередная экспедиция. Греко-американский отряд ученых из Афин и Сент-Луиса (штат Миссури) прибыл, чтобы перепроверить данные, собранные прежними исследователями. И что же вы думаете: они затеяли раскопки на перешейке, где когда-то копал Шлиман. Решили, что все-таки, может быть, именно здесь стоял «подлинный» дом Улисса. Полемика возобновилась…
Никуда не денешься оттого, что Итака являет в миниатюре все проблемы и иллюзии, которые встречаются на пути исследователей географии «Одиссеи» с ее противоречивыми анахронизмами, двойственными указаниями, измышлениями. Некоторые из описанных Гомером мест вроде бы поддаются точной привязке. Несколько ворон и в наши дни летают и каркают над склонами Коракса — «Вороньего утеса» на юге острова, где ютился в каменной лачуге свинопас Евмей. Там же находится Аретусский ключ, куда он, по преданию, водил свиней на водопой; правда, летом источник почти совсем пересыхает. Сталактитовая пещера у Мармароспилии, которую Шлиман осматривал при свете костра, остается ведущим кандидатом на звание «грота наяд», где Улисс на всякий случай спрятал полученные от феакийцев драгоценности. Говорили, будто у этой пещеры два входа — один для людей, другой, чуть южнее, для богов. Первый представляет собой узкую расщелину в скале, только-только протиснуться человеку; вторым служит круглое отверстие в своде. Причудливые формы сталактитов, свисающих со свода и растущих на стенах пещеры, могли дать повод для версии, будто в этом гроте наяды ткали пурпурные занавесы. Найденные здесь черепки говорят за то, что уже после бронзового века здесь совершались ритуалы, посвященные нимфам.
Однако тут же возникают сомнения. Около ста лет назад было заявлено о существовании другой пещеры возле бухты Дексия, где, как полагают, феакийцы высадили Улисса. Эта пещера куда больше подходила для хранения сокровища, включавшего тринадцать тяжеловесных треножников. Будто бы у нее тоже было два входа, а ниши внутри напоминали купальни наяд. К сожалению, проверить эти сведения невозможно, потому что пещера была разрушена, когда жители Бати стали добывать в ней камень для строительства. Еще большее замешательство вызвало сообщение о том, что один местный землевладелец, археолог-любитель, обнаружил медный треножник, в точности похожий на те, какие Улисс будто бы привез из Феакии. Причем находка эта была сделана на другом конце острова, в четырех часах ходьбы от обеих упомянутых выше пещер, зато недалеко от микенской усадьбы у Пеликаты. Туда отправился английский отряд и произвел капитальные раскопки. У самого берега обнаружили обрушенную пещеру, насосами откачали просочившуюся воду, и труды археологов были вознаграждены находкой двенадцати сильно помятых треножников из почти чистой меди, вместе с откопанным раньше получалась та самая цифра, что фигурирует в «Одиссее». Здесь тоже оказались черепки, позволяющие делать вывод о поклонении наядам. Сенсацию произвел черепок, на котором было нацарапано имя великого странника. Находись пещера в другом месте, скажем, поблизости от бухты Дексия, никто не стал бы оспаривать, что это подлинный «грот наяд». Однако треножники, как выяснилось впоследствии, датировались IX–VIII веками до н. э., это позже Троянской войны, а черепок и подавно относился к II–I векам до н. э. Тем не менее тот, кто оставил в пещере треножники, или тот, кто начертил на глине имя героя, явно верил, что эта пещера — «грот наяд».
Для загадки трех «гротов наяд» можно хоть предложить достаточно правдоподобный ответ: настоящая пещера, где Улисс укрыл свои сокровища, — сталактитовый грот у Мармароспилии, но, когда Гомер составлял свою версию «Одиссеи», он дополнил ее дошедшими до него сведениями о пещере с треножниками; что же до пропавшей пещеры у Дексии, то это, скорее всего, ложный след. Иначе говоря, реальный факт окутался завесой вводящих в заблуждение поэтических деталей и слухов.
Другие темные места итакского сюжета — куда более крепкие орешки. Пытаясь разгрызть их, исследователи два тысячелетия предлагают хитрые толкования и ведут жаркие споры, и многие до сих пор признают свое бессилие. Одно из первых мест здесь занимает маленький остров, который Гомер называет Астером, помещая его в проливе между Итакой и Замом. Здесь группа «многобуйных» женихов Пенелопы устроила засаду, намереваясь убить Телемаха, когда тот будет возвращаться от царя Нестора. Про Астер говорится, что он утесистый, и у него две гавани. В длинном узком проливе между Итакой и островом Кефалиния, который большинство ученых отождествляет с древним Замом, есть лишь один маленький островок — Даскалио. К сожалению, он совсем лишен гаваней и возвышается над водой на неполных два метра, так что никак не годится для тайной засады. Даже при самом богатом воображении его не назовешь утесистым. Заговорщикам было бы непросто пришвартовать свой корабль к этому голому рифу, не говоря уже о том, чтобы надежно спрятаться.
Немало изобретательности было потрачено в попытках обойти эти препоны. Для начала кто-то предположил, что подлинный Астер исчез после землетрясения, погрузился в волны наподобие этакой миниатюрной Атлантиды. Затем идею видоизменили: дескать, Астер был сглажен эрозией и ушел под воду из-за смещения земной коры. Когда геоморфологи отвергли и эту гипотезу, был сделан новый перевод Гомерова текста, чтобы как-то связать концы с концами. Выходило, что Гомер поместил заговорщиков не на Астере, а напротив него. Такое прочтение текста позволяло поместить засаду на Кефалинии, где в самом деле есть двойная гавань и предостаточно подходящих для сторожевого поста утесов.
Вильгельм Дерпфельд по-своему решил проблему, поразив всех предложением считать Итакой Лефкас и соответственно поместив засаду в совсем другом месте, на острове Аркуди. Он упирал на то, что, согласно «Одиссее», в группе из четырех островов «на самом западе плоско лежит окруженная морем Итака (прочие же ближе к пределу, где Эос и Гелиос всходят)». Большинство авторитетов понимало это так, что в представлении Гомера Итака была крайним западным или северо-западным островом группы, но ведь это неверно — стало быть, Гомер запутался в географии и ошибочно представлял себе взаимное расположение четырех островов. В отличие от них Дерпфельд считал, что у Гомера со сторонами света все правильно и Гомеровой Итакой следует считать лучше всего подходящий к приведенному описанию Лефкас. Все дело в оценке фактических свидетельств. Признать ли, что детали географии гомеровой Итаки — Вороний утес, «грот наяд», бухта Дексия и прочие — надежнее привязываются к нынешней Итаке, чем к современному Лефкасу в изображении Дерпфельда? И если да, то можно ли пренебречь тем, что Итака — не крайний северный остров группы? С годами (Дерпфельд умер уже в 1930 году) археология накапливала свидетельства, подтверждающие, что современная Итака и Итака Гомера тождественны. Не так давно выдающийся гомеровед, профессор Дж. Люс, обошедший пешком всю Итаку, отметил, что слова Гомера обретают смысл, если толковать их на основе местонахождения «дворца» в северной части острова. Когда стоишь здесь, кажется, что Итака лежит «на самом» северо-западе и в сторону заходящего солнца простирается открытое море. Профессор Люс заключает, что Гомер вводил в «Одиссею» топографические детали лишь в том случае, когда это было необходимо для сюжета, и что в основном гомерова география верна.
Глава 14. Греческая одиссея
Если топография Итаки по Гомеру внятна наблюдателю, который самолично изучает местность, держа в руках «Одиссею», можно ли сказать, что мы на «Арго», пройдя «логическим» морским маршрутом от Трои, выявили такую же географическую достоверность в описании его этапов? И если да, то почему «Одиссея» так долго оставалась географической головоломкой? Ответ следует искать отчасти в истоках повествования Гомера, отчасти в том, как это повествование трактовал человек, заслуживший, так сказать, звание главного злоумышленника. Он спугнул зайца, за которым с тех пор безуспешно гонялись по кругу.
Назначение «Одиссеи» — развлекать слушателя увлекательными историями о возвращении прославленного героя с войны в далеком чужом краю на родину. Первоначальные авторы этих историй и соединивший их в одной поэме Гомер не мыслили картографическими категориями; возможно, они вообще не видели карт. Но даже если бы видели, вряд ли сочли бы их подходящим пособием для создания эпической поэмы. Целью аэдов было нарисовать картину странствия, ведя слушателя от одного необычного места к другому, без обязательной точной географической привязки. Старались ли они при этом соблюдать логическую последовательность? Виктор Берар, французский ученый, поместивший прачечную Навсикаи и дворец Алкиноя на западном берегу Керкиры, предположил, что Гомеру каким-то образом попала в руки финикийская лоция, и тот выстроил череду заходов Улисса, основываясь на торговых путях финикийцев. Но у Гомера не было необходимости в таком руководстве, не говоря уже о том, что эта догадка Берара ничем не подтверждается. Современные археологические исследования показали, что микенские товары доходили даже до Сардинии и важный торговый путь соединял Крит с западным приморьем Пелопоннеса и южной оконечностью Италии. Если микенцы сами торговали и привозили домой собственные сказы, они не нуждались в наставлениях финикийцев.
«Одиссея» — морская повесть, сочиненная людьми, несомненно, знакомыми с особенностями вождения галеры. Знание моря, мореплавания, кораблей видно на каждом шагу. Аэды могли использовать устные предания об одном или нескольких морских скитаниях, рассказы о реальных событиях, моряцкие байки, могли дать волю собственному воображению, творя искусный сплав исторических сведений и морского фольклора. Вот из чего нам следует исходить, строя предположения о путях Улисса от одного необычного места к другому. Иначе мы окажемся на весьма зыбкой почве, как об этом говорят трудности с отождествлением тех или иных пунктов на Итаке или Лефкасе, где нужно считаться с возможностью ошибок в переводе, переноса названий, исчезновения пещер, землетрясений и множеством других переменных. В основе нашего эксперимента на «Арго» лежала мысль о том, что «Одиссея» — морская повесть, и если в ней содержится доля истины, это можно проверить на деле. В трехмесячном плавании по «логическому маршруту» на копии галеры бронзового века мы выявили уникальную серию отождествляемых пунктов, подчас там, где меньше всего ожидали этого.
Первый факт, который мы смогли удостоверить, — правильная передача «Одиссеей» особенностей плавания галеры под парусом и на веслах в Средиземном море. Подлинность всего, что касается трудностей и ограниченных возможностей мореходства бронзового века, подтверждается нашим опытом. «Одиссея» повествует о каботажном плавании сравнительно короткими отрезками от одного мыса до другого, от захода к заходу. И разве могли большие команды на открытых судах плавать, не подходя частенько к берегу, чтобы пополнить запасы пресной воды, подкормиться и отдохнуть? Нет никаких оснований видеть в «Одиссее» рассказ о дальнем плавании — до Гебридских островов, Скандинавии, даже до залива Фанди в Канаде, — как это делают иные.
Будем помнить, что половину пути Улисс прошел не один, а в сопровождении еще одиннадцати кораблей, тяжело нагруженных добычей и изрядно обветшалых после долгого плавания и десятилетнего стояния на берегу, пока, согласно «Одиссее», шла война. Скорость продвижения флотилии определялась возможностями наиболее тихоходной галеры; то и дело надо было останавливаться, дожидаясь отстающих. Корабли шли медленно, осторожно, тяжело.
Не следует забывать и про ограниченные мореходные возможности галеры. На «Арго» мы убедились, что невозможно грести против встречного ветра и нужны немалые усилия, чтобы продвигаться вперед при штиле. Сопутники Улисса не раз проявляют недостаток рвения, и конечно же они предпочитали идти под парусом, чем на веслах; ждать попутного ветра, чем ползти черепашьим ходом при штиле, и старались держаться подальше от берегов, если намечался шторм. Отсюда общий неспешный характер плавания, с остановками в ожидании благоприятной погоды перед очередным этапом. Такого порядка придерживались мудрые капитаны, и все говорит за то, что Улисс был достаточно осторожен, кроме тех случаев, когда верх брали любопытство или вспышки бравады.
Словом, нам нет нужды забираться в поисках пунктов захода, описанных в «Одиссее», пусть даже они выглядят весьма экзотическими — вроде обителей лотофагов, одноглазых великанов или свирепых лестригонов. Если читать «Одиссею» как морскую повесть, все пункты должны были находиться в пределах досягаемости мореплавателя, возвращающегося на родину из Трои в Итаку по логическому каботажному маршруту. В принципе микенские корабли могли заплывать далеко в Средиземном море, но это были торговые суда, почти наверное ходившие под парусами. Дальние плавания совершались не на военных галерах с многочисленной командой; ведь и знаменитые плавания норманнов через Северную Атлантику были осуществлены на обладающих хорошими мореходными качествами торговых судах, а не на длинных гребных ладьях. При необходимости микенские боевые галеры, как и длинные ладьи викингов, могли преодолевать значительные отрезки в открытом море, но осмотрительные капитаны предпочитали ждать благоприятной погоды; так, Менелай и Нестор задержались у острова Хиос в ожидании условий, позволяющих уверенно пересечь Эгейское море курсом на греческие берега. На основе этой схемы — каботаж, ожидание в ключевых пунктах попутных ветров и умеренного волнения на море, чтобы совершить бросок к следующему надежному укрытию, — можно представить себе ритм и географические рамки плавания Улисса к родным берегам.
Руководясь этими рамками, мы проложили курс «Арго» с таким расчетом, чтобы уложиться в один период навигации в Средиземном море. Это соответствует чистому времени, отведенному «Одиссеей» для плавания Улисса. При внимательном рассмотрении из знаменитых девятнадцати лет скитаний Улисса лишь несколько недель приходится на море, все остальное время он проводит на войне и в гостях у приятных особ женского пола. Мы доказали, что нескольких благоприятных для плавания недель — с июля по август или сентябрь — было достаточно для перехода от Трои до Итаки, даже если флотилию Улисса относило к берегам Северной Африки.
Таким образом, наш собственный опыт выявил примечательную последовательность. Мы могли привязывать сюжеты «Одиссеи» к местности двояко: отмечая на прибрежном маршруте поворотные пункты и особенно впечатляющие географические объекты — мысы и острова, которые должны были служить важными ориентирами для мореплавателя бронзового века, — или находя соответствия в местном фольклоре. Чаще всего ориентир и фольклор согласовывались между собой.
Итак, покинув просторный залив у Трои, флотилия Улисса в составе двенадцати кораблей откололась от направляющихся домой по прямому пути главных сил, предпочтя альтернативный, вполне логичный и надежный маршрут вдоль северных берегов Эгейского моря, чтобы поживиться за счет ослабленных союзников побежденной Трои. Их жертвами стали киконы в Исмаре.
После набега на Исмар флотилия повернула на юг и по хорошо освоенной морской магистрали направилась через Северные Спорады к проливу Кафирефс, где вышла на тот же маршрут, каким Нестор и Менелай после мыса Сунион следовали к мысу Малея. Корабли Нестора благополучно обогнули Малею, но Улисса, как и Менелая, отнесло на юг, вероятно, слишком сильным для неповоротливых галер северным ветром мелтеми. Из-за шторма Менелай потерял несколько кораблей у критских берегов. Улиссу больше повезло, северный ветер пронес его флотилию мимо Крита. Следуя принятой в таких случаях тактике, моряки сократили парусность до минимума и дрейфовали на юг, сбившись в стаю, словно чайки, отдыхающие на волнах. Их отнесло к берегам Северной Африки, скорее всего, к Киренаике, где высокий хребет Эль-Джебель-эль-Ахдар служит надежным ориентиром для терпящих бедствие кораблей. Здесь люди Улисса пополнили истощившиеся запасы пресной воды и отдохнули. В глубине страны лазутчики встретили примитивные африканские племена, которые употребляли в пищу плоды зизифуса, или лотосового дерева, откуда родились легенды о лотофагах.
Стремясь вернуться на путь к родным берегам и нисколько не помышляя об изучении неведомых земель, для чего и времени-то не было, мореходы развернули свои галеры и взяли курс на север. То ли намеренно, то ли случайно они прошли кратчайший отрезок, отделяющий греческий мир от Африки, — от Киренаики до Крита, где первым пунктом захода оказался прибрежный островок, на котором водились дикие критские козы гри-гри, что дает нам точную привязку. Пока голодные моряки охотились и пировали, Улисс с одним кораблем отправился на самый Крит. Южная область острова была уже известна микенцам, и возможно, что сведения о заброшенных городах и полях (по данным современных археологов, минойские поселения опустели незадолго до событий, описанных в «Одиссее») породили версию о том, что циклопам не требовалось возделывать землю, ибо она сама приносила урожай. Что еще важнее, здесь помещалась мифическая земля обитающих в пещерах триаматов — трехглазых великанов-людоедов. По всей вероятности, поводом для легенд о великанах послужили обнаруженные в критских пещерах кости крупных вымерших млекопитающих — слонов и бегемотов. Фольклор о триаматах наложил печать на приводимую в «Одиссее» версию о встрече Улисса с примитивными скотоводами, жившими в пещерах среди известняковых скал южного побережья Крита.
Продолжая путь домой, флотилия обогнула юго-западную оконечность Крита у «Бараньего лба» — мыса Крио, важной географической точки, упоминаемой на микенской глиняной плитке, найденной у Пилоса. Итакцы снова вышли на знакомый морской маршрут — торговую трассу, соединявшую Южный Крит с западным приморьем Греции, — и плыли вдоль скалистого западного берега Крита, пока не достигли отправной точки для броска через участок открытого моря к греческому материку. Речь идет о естественной гавани острова Грамвуса, чьи отливающие на солнце медью высокие скалы, неприступный акрополь и удобные пастбища делали его идеальным прибежищем для независимого племенного вождя бронзового века. В гавани Грамвусы корабли обычно дожидались благоприятной погоды, иногда по несколько недель, пока не стихали преобладающие летом северные ветры. Оттого правитель Грамвусы выступает в моряцком фольклоре в роли повелителя ветров Эола. Итакцы задержались в его владениях на целый месяц. Как и в случае с триаматами, «Одиссея» преподносит нам версию с элементами местной народной сказки. Мечта гостей о попутном ветре сбылась потому, что гостеприимный Эол запер все прочие ветры в своем знаменитом кожаном мешке. И фольклор был увековечен в древнем названии острова — Корикос, «Кожаный мешок».
С попутным ветром флотилия покинула Корикос, чтобы продолжить путь на родину. Ветер благоприятствовал морякам так долго, что они достигли берегов Пелопоннеса и, возможно, даже увидели на горизонте Ионические острова, когда погода вдруг круто изменилась и корабли понесло обратно к Грамвусе. Гостеприимство правителя, целый месяц ублажавшего вооруженные команды двенадцати судов, истощилось, и они уже не были желанными гостями. Опасаясь снова нарваться на мелтеми, моряки решили прижиматься к берегам Греции. Работая веслами, упорно пробивались на север; выйдя к мысу Матапас (древний Тенарон) — следующему важному ориентиру, — обогнули посвященную богу солнца южную оконечность Греции с ее мифическим входом в подземное царство. Здесь, согласно мифу, солнце уходило в подземелье и оттуда же являлась черная ночь, или, как говорится в «Одиссее»: «у ворот встречались пути дня и ночи».
Еще один день усиленной гребли мимо опасных утесов мыса Гроссо, и усталые донельзя мореплаватели достигли напоминающей каменный мешок гавани Месапо. Втиснувшись в тесную бухту, одиннадцать кораблей подверглись нападению туземцев, которые, как и сменившие их позже жители грозного полуострова, заслуженно пользовались славой кровожадных злодеев. Это были лестригоны. Заперев узкий выход из гавани, они обрушили со скалы град огромных камней прямо на галеры, отправляя их на дно. Это был конец итакской флотилии, и здесь завершилось возвращение из Трои для одиннадцати из каждых двенадцати мореплавателей.
До сих пор, если не считать отклонения от курса из-за шторма у Малей, флотилия Улисса шла к Итаке по вполне логичному маршруту, плывя, как было заведено, вдоль берега от мыса к мысу. Каждая остановка обрастает в «Одиссее» элементами местного фольклора, призванными оживить и украсить чисто мореходные аспекты. Мы видим классические приемы краснобая-моряка, пересказывающего мифы и сказки виденных им мест.
Теперь же, как говорилось выше, последовательность повествования резко нарушается. Сразу после избиения людей Улисса лестригонами «Одиссея» вдруг перебрасывает нас с логической трассы на остров Цирцеи по другую сторону Итаки. Если Улисс возвращался домой с юга, держась естественного маршрута, почему теперь он оказывается к северу от родного острова, словно намеренно миновав его?
Ответ: перед нами новый сюжет. От Трои до Месапо мы прослеживаем путь возвращающейся домой флотилии. Эта часть поэмы повествует о том, что приключилось с двенадцатью итакскими кораблями, когда кончилась война, и гибель флотилии — заключительный эпизод этой части поэмы.
Что до приключений на острове Цирцеи и последующих эпизодов с печальным финалом у острова быков Гелиоса, то они составляют отдельный цикл, повествующий об одном корабле, и место действия ограничивается Ионическими островами. Переход от одной сюжетной линии к другой бросается в глаза. Повествователь даже не пытается объяснить, каким курсом плыл единственный уцелевший корабль Улисса и какое расстояние прошел, от бухты Месапо герой сразу переносится к острову Цирцеи, вдруг оказываясь в совершенно незнакомом месте. «Нам неизвестно, где запад лежит, где является Эос; где светоносный под землю спускается Гелиос, где он на небо восходит…» Перед нами новое начало. Дальше нас ждет знакомство с ионическим циклом преданий.
Улисс — величайший герой Западной Греции. Было естественно включить в посвященный ему эпос народные сказки и мифы его родной области. Начиная с острова Цирцеи, «Одиссея» идет по маршруту, основанному на морском фольклоре Итаки и окружающих островов. И нам предлагается богатое собрание местных моряцких баек о темных силах и прочих опасностях, подстерегающих моряка в водах архипелага, причем и здесь каждая из них привязывается к конкретной местности. Археология подтверждает высказанное 1800 лет назад Павсанием предположение, что увиденная нами река Ахерон тождественна Ахерону из «Одиссеи». На знаменитом утесе, у подножья которого сливаются Кокит и Пирифлегетон, помещался Оракул мертвых. Микенская могила в стенах оракула и микенская крепость поблизости подтверждают, что здесь жили современники Улисса. А расположенный неподалеку прелестный зеленый остров Пакси отлично подходит на роль обители Цирцеи.
Заглядывая своим «везучим» любопытствующим оком во все заливы и бухты между Ахероном и Итакой, «Арго» теперь сделал свое самое неожиданное открытие: исходный материал для вошедшего в «Одиссею» фольклора существует по сей день. Первым сюрпризом явился остров Сесола — точное подобие грозных бродящих скал, вросших в дно у берегов Лефкаса. Сразу же вслед за этим, как и в поэме, нам встретился Ирапетра — мыс Поворотной скалы, он же обитель сирен, но с новой загадкой разрушенных могильников, которые могли дать повод для слов о белеющих на лугу человечьих костях. Лежащий поблизости мыс Сцилла сохранил свое мифическое название и, хотя несколько сместился от изменения береговой линии, служит указателем входа в древний пролив между Лефкасом и материком. Здесь мы нашли логово многоголовой Сциллы — пещеру над самым проливом, обращенную входом на запад, в сторону заходящего солнца. Не нужно богатого воображения, чтобы представить себе, как моряки сочиняли небылицы о притаившемся в пещерном мраке свирепом чудовище. За пещерой возвышается гора Ламия, в названии которой увековечено имя предполагаемой матери Сциллы. Нас поразило, что многие фольклорные мотивы даже запечатлены на карте. Только надо уметь их прочесть. География подтвердила тождество сохраненных народных названий с приводимыми Гомером.
Причудливо извивающийся пролив, отделяющий Лефкас от материка, прямой, как линейка, риф Плака-Спит с его бурунами и низкий горб Ирапетры составляют уникальную комбинацию, какой не увидишь больше нигде, ни в Греции, ни у берегов Италии, зато они точно отвечают наставлениями для плавания в «Одиссее». Больше того, нет никаких оснований предполагать, что местные названия подделаны, чтобы порадовать исследователя. Современные жители Лефкаса даже не подозревают, что этот регион изображен в поэме о великих скитаниях. Собранные нами свидетельства были подлинными и нефальсифицированными.
Разумеется, какие-то загадки еще остаются. Что произошло с тремя курганами, отмеченными в 1864 году британскими ВМС на мысу Ирапетра? Кто покопался в них — какой-нибудь археолог-любитель или грабители? В отчетах экспедиции Дерпфельда, работавшей на Лефкасе сорока годами позже, они не упоминаются. Возможно, эти могильники содержали ключ к проблеме «светлого луга сирен», подобно тому как обилие микенской керамики на Меганиси, если удастся его объяснить, сможет что-то поведать про остров быков Гелиоса.
Странная, лишенная плоти сказка о Калипсо прерывает цикл ионийских повестей в «Одиссее». Обитель нимфы — Огигия — воспринимается как совершенно нереальная, сказочная страна. Рассказ о том, что герой попадает туда, плывя девять дней на обломках, неправдоподобен. Восемнадцатидневное плавание оттуда не вмещается в размеры Средиземного моря. Огигия лежит за реальным горизонтом, и профессор А. Уэйс, один из авторов «Руководства к Гомеру», считает, что Калипсо «придумана самим Гомером, чтобы объяснить долгое отсутствие героя».
В самом ли деле Феакия, куда волны принесли Улисса и где состоялось его романтическое спасение кроткой Навсикаей, находилась на Керкире? Может быть, да, может быть, нет. На этом острове пока не найдено никаких микенских предметов, и вообще Керкира, возможно, лежит за пределами микенского мира, хотя, как замечает тот же профессор Уэйс, «одной из общих для эпических творений черт является то, что важнейшие события саги прочно привязаны к конкретным местам». С того момента, как погибает итакская флотилия, эти привязки сосредоточены на северо-западе Греции.
Естественно спросить, каким же образом приключения Улисса, сперва на логическом каботажном маршруте из Трои на юг, затем в родном архипелаге героя, оказываются перенесенными на сотни миль в западную часть Средиземного моря, чаще всего — в Тирренское море между Сицилией и побережьем Италии? Ответ на это может дать обширная миграция греков в те времена, когда Гомер составлял свою композицию сказов об Улиссе. Греки продвигались на запад, учреждая колонии, и родной фольклор был их спутником. Обосновываясь в новых областях Великой Греции, они оснащали свои сказы деталями местной топографии, пренебрегая возникающими несоответствиями, поскольку в их представлении Улисс был непревзойденным путешественником и, следовательно, побывал здесь до них. Истина за восемь веков до начала миграции выглядела совсем иначе. Возвращаясь домой, маленькая флотилия микенских боевых галер должна была следовать как можно более коротким маршрутом, благоразумно держась поближе к берегу. Перенося действие «Одиссеи» в Сицилию и Италию, толкователи лишь превращали все плавание в головоломку.
Главного злоумышленника нетрудно опознать. По иронии судьбы, речь идет о том самом блестящем географе, чье толкование похода Ясона за золотым руном привело мой «Арго» в Грузию за год до нашего плавания по следам Улисса. Страбон был самым проницательным географом своего времени. Он правильно угадал, что понятие «золотое руно» было связано со способом улавливания крупинок золота овечьими шкурами в горных реках Кавказа. Тут он мог основываться на собственных наблюдениях. Уроженец Малой Азии, Страбон был лично знаком с регионом Черного моря. Позже он переселился в Рим, одно время жил в Александрии и столько путешествовал, что мог говорить о себе: «…я странствовал с востока на запад, от Армении до Тосканы, что напротив Сардинии, и с севера на юг от Черного моря до рубежей Эфиопии». Однако совершенно ясно, что Страбон никогда не бывал в Итаке, Микенах и на северо-западе Греции. Здесь его писания пестрят ошибками: он утверждает, что на Итаке нет никакого грота наяд, не знает о существовании острова Даскалио, залив Амвракикос у него всего лишь мелкая лагуна, и он безнадежно запутывается в описании столь важного пролива между Лефкасом и материком, помещая мосты и города не там, где они находились на самом деле. Но что хуже всего, Страбон неверно указывал местоположение дворца Нестора.
И все же он заслуживает снисхождения. Пусть Страбон ошибочно указывал на Монте-Цирцео, Мессинский пролив и различные пункты Великой Греции, однако в спорах с критиками он твердо стоял на том, что «Одиссея» основана на географических и исторических реалиях. Изо всех крупных трудов древних географов до нас дошла только «География» Страбона со всеми ее ошибками, и влияние этого труда было огромно. Не зная местности, он вовсе не намеренно отравил колодец информации об «Одиссее». Уверен — побывай Страбон на северо-западе Греции и ознакомься сам с ее топографией, он пересмотрел бы свои выводы.
Впрочем, следует признать, что критический описательный подход Страбона вообще неприложим к заложенным в «Одиссее» географическим концепциям. Включенные в поэму мифы и народные сказки восходят к значительно более ранним и примитивным временам, к миру, который верил в чудовищ и колдуний, и к представлению о небольшой обитаемой земле, со всех сторон окруженной мировой рекой. Обратясь на восток, греки видели за Эгейским морем знакомую им Малую Азию, на юге они поддерживали связи с Критом и Египтом. Но запад был для них терра инкогнита. Неведомое начиналось сразу у рубежей самой Греции. Здесь протекала река Океан. Улисс был родом из окраинных областей у западных пределов микенского мира, где, как говорит «Одиссея», начинался «внешний мрак», и, возвращаясь домой, герой проходил сквозь строй опасностей. Здесь находились таинственные места вроде врат Аида и туманного Эреба, куда удалялись тени умерших. Так что душам убитых в кровавой схватке возвратившимся Улиссом женихов было недалеко до царства мертвых. «Одиссея» сообщает, что они полетели «мимо Левкада скалы», подразумевая мыс Дукато на Лефкасе, и прибыли к вратам Аида, через которые попали в преисподнюю. Поистине колдовство, суеверие и мифы обретались совсем рядом с Итакой.
Греческий поэт Кафави писал об Итаке как о недостижимой цели:
Что до нас, то мы как раз в нашем плавании на «Арго» не расставались с образами Гомеровых чудовищ — и были вознаграждены. Галера потому и привела нас к местообитаниям циклопов, лестригонов, Цирцеи и сирен, Сциллы и Харибды и всех прочих, что, как выяснилось, фольклорная география переплеталась с мореходной. Вот такой урок извлекли мы из нашей собственной одиссеи, по мере того как «Арго» освобождала повесть об Улиссе от наноса гипербол, туманных мест и противоречий. В конечном счете все оказалось очень просто. «Арго» вернул «Одиссею» домой, в Грецию.
Иллюстрации