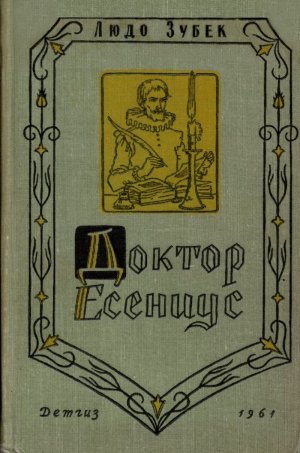
-
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Впервые он увидел ее во всей красе: залитую лучами майского солнца, разукрашенную белоснежными цветами черешен и розоватыми бутонами яблонь, напоенную запахами жасмина и сирени, прислушивающуюся к мелодичному жужжанию пчел, уносивших из этого изобилия свою частичку. Он невольно остановился. будто царившее вокруг очарование заставило ноги его прирасти к земле: и если из груди у него не вырвался вздох или возглас удивления, то лишь потому, что чувства его были гораздо сильнее тех звуков и слов, с помощью которых они могут быть выражены человеком. Просветленным, полным восторга взором глядел он на нее, и на губах его блуждала ласковая улыбка. вызванная радостью этой встречи. Дома он не раз слышал о ней восторженные слова, но считал их некоторым преувеличением: в далеких краях о ней слагали сказки, как о первой красавице среди красавиц, но и это его не убеждало, казалось невероятным. Исколесив полсвета, он не мог себе представить, чтобы красотою своей она могла хоть на волосок превосходить своих соперниц.
Теперь он убедился, что все слова, даже самые восторженные, — лишь слабое отражение действительности. И он стал подыскивать в уме определение, которое бы лучше всего выразило эту неповторимую и торжественную красоту. Ему не пришлось долго искать, оно пришло сразу же, как будто ждало, чтобы его назвали: красота королевская.
Королевская красота.
Королевская Прага.
Он стоял под Мостецкой башней, что предваряет Каменный мост, и не мог насладиться видом Градчан, высившихся над Влтавою и отраженных ее зеркальной поверхностью. Простые формы единственного пражского моста, украшенного только величественным крестом, гармонично дополняли общую картину, были ее частью, неразрывно связывались в одно целое.
— Королевский град, — заметил провожатый, стоявший на шаг позади.
Лишнее замечание. Чем же иным могло быть это гнездовье королей? Он узнал бы его, если бы даже и не слышал о Праге столько похвальных слов в своем родном Бреслау, в итальянской Падуе и городе знаменитого университета — Виттенберге.
Теперь здесь правил император Рудольф II, великий покровитель художников и ученых, сумевший привлечь сюда, в Прагу, даже его, доктора Есениуса, ректора Виттенбергского университета.
Доктор Есениус приехал в Прагу поздно вечером. В дороге сломалась ось, и на ее починку пришлось потратить несколько часов. На его счастье, городские ворота были еще открыты. Не случись этого, пришлось бы заночевать в какой-нибудь деревушке под Прагой или просто-напросто в коляске перед городскими стенами.
Он остановился в Старом Месте, в трактире «У золотой розы», где дорогому гостю наскоро приготовили одну из лучших комнат. Утомленный дальней дорогой, он сразу же заснул.
Проснулся он поздно. Солнце давным-давно хозяйничало в комнате, но доктор очнулся лишь тогда, когда шаловливый солнечный луч стал щекотать ему веки. Умывшись холодной водой, он надел праздничное платье и после вкусного завтрака — хозяйка приготовила ему винный суп, заправленный яйцом, — отправился в сопровождении трактирного слуги на Град[1].
Вдоволь налюбовавшись видом Градчан, доктор Есениус пустился в путь. Слуга, шедший по левую руку от него, пояснял, хотя доктор уже и сам это видел, что до Града осталось совсем немного и что скоро они будут там.
Пока они шли через Старое Место, навстречу им попадались лишь женщины; одни возвращались с рынка, нагруженные покупками, другие бегали по соседкам за горсткой горящих углей, так как с вечера не позаботились о собственном очаге. Совершенно иная картина предстала перед ними на Малой Стране. Во время Рудольфа II Малая Страна была привилегированной частью столицы. Здесь высились дворцы знати, высших духовных и королевских сановников, послов иностранных держав. Селились, однако, на Малой Стране и художники, и различного толка коллекционеры, и шпионы, и алхимики, и просто шарлатаны, которых в те времена, около 1600 года, было в Праге видимо-невидимо, как грибов после дождя. Из ворот какого-то дворца выезжал на улицу разукрашенный экипаж, запряженный четверкою. Здесь и там раздавался топот конских копыт, то проносился какой-нибудь всадник, спешивший в Град, то приковывали взгляд роскошные носилки, на которых восседала знатная дама в пышном одеянии, сшитом по последней испанской моде. Многие, однако, как и доктор Есениус, шли пешком. И все это текло в одном направлении, будто река, удивительная и пестрая, которая — в отличие от всех прочих рек — несет свои воды к вершине. Все двигалось в гору, к королевскому дворцу.
Подъемный мост, отделявший Град от Градчан, был давно опущен, и толпа, пересекая глубокий ров, как поток вливалась через него в ворота, за которыми раскинулся первый, так называемый «Райский двор». Предусмотрительные посетители оставляли свои экипажи именно здесь, потому что во втором, внутреннем дворе, из которого вел прямой ход в императорский дворец, скапливалось в течение дня такое множество экипажей высокопоставленных особ, что выбраться из этого хаоса было не так-то легко. Кучера, по пышным одеждам которых, впрочем, как и по одежде камердинеров, пражане легко узнавали, кому принадлежит тот или иной экипаж, обычно за словом в карман не лезли. Не обходилось тут и без ругани.
Посетителя делились на две группы. К одной принадлежали люди доверчивые и неопытные, не искушенные в хитросплетениях императорского двора. Они шли прямо к приемной императора или толпились в коридоре, отделявшем императорский кабинет от остальной части замка. Само собой разумеется, что слуги, кучера и носильщики оставались внизу. Целью других был Владиславский зал. Они хорошо знали, что именно там, во Владиславском зале, время бежит куда быстрее, чем в императорских приемных, и что в конечном итоге, несмотря на отдаленность этого зала, путь из него к монарху, пожалуй, куда короче прямого. Ведь даже знатным особам попасть к императору было не так-то просто. Для этого требовалось бесконечное терпение. Ждать, ждать и ждать — таков был удел каждого просителя и даже посла государя великой державы.
Доктора Есениуса должны были ожидать во Владиславском зале. Он сунул своему провожатому несколько монет и отослал его домой. Обратно он и сам доберется.
Высокие готические своды Владиславского зала отражали гул бесчисленных людских голосов. Перед посетителем возникала картина, какой он не мог увидеть нигде в мире. Зал, в котором некогда происходили грандиозные балы и карнавалы с участием императора, теперь, со времени его болезни, утратил свое назначение и превратился в гигантскую ярмарку, где встречались видные пражане и знатные чужестранцы. Это было место, где сосредоточивалась вся общественная жизнь великосветской Праги. Теперь сюда ходили уже не для того, чтобы попасть к императору и в тоскливом ожидании аудиенции рассматривать выставленные здесь витрины. Нет, пражская знать — богатые горожане и горожанки появлялись в зале, чтобы совершить выгодную сделку, перекинуться новостями, посплетничать, а главное — это прежде всего касалось дам — похвастаться нарядами. Тот, кто хотел одеться по последней моде, имел полную возможность познакомиться с образцами портняжного искусства Италии, Франции и Испании. И те из местных модниц, которым удавалось раздобыть эти туалеты, появлялись здесь с целью выставить их напоказ перед своими согражданами.
Попав в это шумное сборище, Есениус в первое мгновение растерялся. Сможет ли он найти своего знакомого среди такого множества людей, в этой толчее? Ему казалось, что это совсем не подходящее место для свидания. Но вскоре он успокоил себя тем, что его покровитель тоже будет его разыскивать.
«Если ему удается найти на небе среди многих тысяч звезд именно ту, которую нужно, почему бы ему не найти и меня среди сотен людей?» — подумал доктор и улыбнулся собственной мысли. Ведь знакомый, который назначил ему свидание, был императорский астроном Тихо Браге[2].
Прежде всего Есениус решил осмотреть коллекции. Они были вставлены в проемы окон или развешаны по стенам. Еще до того, как взгляд Есениуса охватил все это богатство, доставленное сюда предприимчивыми купцами, его тонкое обоняние уловило бесчисленные ароматы редчайших деликатесов. Приятный запах апельсинов и лимонов воскресил в его душе образ солнечной Италии, где прошли его лучшие годы — годы студенчества. Гирлянды винных ягод, висящих над головою смуглого грека в красной феске и сборчатой юбке, и черные стручки для сдобных рожков, обсыпанных миндалем, вызвали в нем волну воспоминаний о тех далеких странах, где зреют эти плоды. Ищущий найдет здесь все, чего только пожелает его душа, ибо нет на свете такой редкости, владелец которой поленился бы отправиться во Владиславский зал, чтобы сбыть ее там за сходную цену. Обладатель дорогого товара знает, что во Владиславском зале он найдет не только состоятельного покупателя, но и знатоков, умеющих оценить товар по достоинству. А такая оценка из уст знатока иной раз значит гораздо больше, чем та утроенная сумма, которую тут же отсчитывает вам богатый тупица.
Многих посетителей рукоятки дамасских сабель привлекают куда более, чем их клинки, и о достоинстве этих искусных изделий они судят лишь по украшениям из золота и драгоценных каменьев. Как врач, которому не раз приходилось иметь дело с хорошо отточенным лезвием, Есениус знает, каким хорошим помощником в его практике является нож, режущий, словно бритва. Он пробует пальцем острие этой изумительной стали и одобрительно покачивает головой. Араб, наблюдающий за каждым его движением, широко улыбается, обнажая два ряда перламутровых зубов, и предлагает ему саблю, равной которой нет на свете. Но Есениусу сабля не нужна, с него хватит кинжала, который он носит у пояса. Вот если бы у араба был нож из такой стали… К сожалению, у араба только сабля. И чужеземец-путешественник идет дальше. Он вполне разделяет тот восторг, с каким дамы рассматривают блестящие изделия чешских ювелиров, которые придали формы всевозможных геометрических тел драгоценным каменьям всех цветов и оттенков — прозрачно-чистым бриллиантам, кроваво-красным рубинам, смарагдам, напоминающим цвет горного потока, синим, как небо, сапфирам и изменчивым, переливающимся всеми цветами радуги опалам, а затем вставили их в золотые и серебряные оправы такого изящества, какое трудно себе представить. Однако возгласы удивления относятся совсем не к тонкости мастерства, а скорее к размерам каменьев и количеству золота, пошедшего на изготовление драгоценностей, хотя Есениусу кажется, что именно филигранная работа, достигшая здесь вершин совершенства, должна была бы вызвать наибольший восторг. Но смотришь дальше, и действительность снова подтверждает твою ошибку, снова сделан преждевременный вывод. Если филигранная работа ювелиров — вершина мастерства, что же тогда сказать об искусстве нюрнбергского часовщика, который сумел в железное яйцо величиной с обыкновенную грушу поместить целый часовой механизм? Без маятника, без гирь эти часы, названные в честь нюрнбергского мастера Генлейна «нюрнбергским яйцом», исправно идут. Их даже можно носить в кармане. Еще совсем недавно это восьмое чудо света имел лишь один император, а теперь его можно купить во Владиславском зале. Правда, за него надо отдать целое состояние — на эти деньги можно было бы купить деревню с несколькими десятками крепостных, — но господа из Ружи, Ружмберки, могут себе позволить и такую роскошь. А раз это могут себе позволить господа Ружмберки, то, уж само собой разумеется, почему бы не сделать того же кому-нибудь из Смиржицких, Кинских или Лобковиц… Хотя на дворе уже весна, но бородатый россиянин, меховщик из Новгорода, не может пожаловаться на плохую выручку. За плечами у него висит около двух дюжин всевозможных шкурок. Среди них и дорогой соболь, и куница, и голубой песец.
Заморские фрукты соблазняли своими запахами, ювелирные изделия радовали глаз, шкурки же хотелось трогать, осязать. Ах, какое наслаждение гладить прекрасный, мягкий, белый, черный или коричневый мех! Но не будем неотступно следовать за путником. Только чужеземцы, попавшие сюда впервые, да королевские сборщики пошлин останавливаются перед каждым лотком, не пропуская ни один из них. Не станем прельщаться белизною мраморных фигур языческих богов и богинь, которые выставлены здесь напоказ и своею бесстыдной наготой вызывают возмущение набожных сердец, да к тому же еще находятся в непосредственном соседстве с христианскими святыми, изображенными тут же на стекле одаренными художниками. Несколько дольше доктор Есениус задержался перед лотком с амулетами святых, исцелителей от различных недугов. В каждом из них находилось изображение какого-нибудь святого, а каждый из этих святых помогал при излечении какой-нибудь болезни. Кто, к примеру, боится мора, должен купить шкапуляр с изображением святого Себастиана; у кого часто болят зубы, тот наверняка найдет помощь у святой Аполлонии; кто же бывает в лесу и кому грозит укус змеи, может твердо положиться на святого Гилария; областью святого Афанасия является лечение головы, однако не всей целиком, ибо о глазах заботятся целых три святых: святая Отилия, святая Клара и святая Люция. Перед лотком с шкапулярами была большая толчея, и добрые чешские талеры так и сыпались в кошелек торговца. Его запасы, собственно говоря, были неисчерпаемыми, так как не было на свете недуга, против которого у него не нашлось бы шкапуляра. Есениус улыбнулся: «Жаль, что у нас, врачей, не так все просто». Такой же интерес, как и амулет, вызывает товар и другого торговца: он продает настойку, приготовленную из амаранта и разных трав. Эта настойка обладает чудодейственным свойством, позволяющим приворожить любого человека. Хочешь, старый вдовец (ему, правда, пора подумать о жизни вечной, а не о суетных страстях), чтоб тебя полюбила молодая красавица, которая бежит от тебя, как от чумы? Купи себе эту чудесную настойку и дай ее девушке. Смотри только, чтоб она не знала, что пьет. И через минуту она воспылает к тебе горячей, неугасимой любовью…
— Доктор Есениус! Наконец-то я вас нашел!
Голос старого дорогого друга, все еще хорошо знакомый, хотя Есениус и не слышал его давно, оторвал его от раздумий над неисповедимыми путями людской доверчивости.
Невысокий, коренастый человек с круглым лицом и длинными, как у моржа, рыжими усами, пожал ему руку и тут же стремительно обнял доктора и расцеловал его в обе щеки.
Это был Тихо Браге, известный датский астроном, с которым Есениус познакомился, когда тот жил в Виттенберге. Теперь по приглашению астронома Есениус приехал в Прагу…
— Приветствую вас, мой молодой друг. Я так счастлив, что снова вижу вас! Когда вы прибыли? Как доехали?
Радость астронома не была притворной. Он задавал сразу столько вопросов, что доктор не знал, на какой из них отвечать раньше. Но, по-видимому, Тихо Браге и сам не ждал от него ответа на все вопросы. Он взял своего друга под руку и повел его из Владиславского зала.
— Идемте, идемте, разыщем себе местечко потише, чтобы поговорить спокойно.
Они шли длинными коридорами. Ковры заглушали их шаги. Казалось, что они ступают по мягкой мураве. Вскоре Тихо Браге открыл дверь в небольшую, со вкусом обставленную комнату.
— Это помещение лейб-медиков, — объяснил он. — Я всегда здесь отдыхаю, когда приходится долго ждать императора. Хотя, впрочем, я имею к нему свободный доступ. Правда, иногда здесь бывает полно народу…
Комната была пуста. Тихо Браге пригласил Есениуса присесть и сам расположился напротив.
— Ну вот, а теперь рассказывайте. Вы сказали, что приехали вчера вечером… И остановились в трактире? Это никуда не годится. Сегодня же перебирайтесь к нам. У нас хватит места. Его императорское величество предоставил мне дом, где раньше жил покойный советник Цурти. Кристина будет страшно рада, когда снова увидит вас. А что поделывает ваша супруга, Мария Фельс? Она здорова? Почему не приехала вместе с вами?
Вопросы обрушиваются, как водопад. Невозможно сдержать поток его речи. Есениус едва успевает вставить слово. Прежде всего он хочет поблагодарить Браге за гостеприимство: он понимает, что императорский астроном завален работой, и Есениусу не хочется быть в тягость…
Но Тихо Браге не дал ему договорить:
— Нет, нет и нет. Ни слова об этом, иначе я и в самом деле рассержусь. Когда в прошлом году я целых полгода жил со всей семьей в вашем гостеприимном доме, неужели я был вам в тягость? Погодите, не перебивайте меня. Если бы я хоть на миг почувствовал, что вас тяготит мое присутствие, я бы тут же перебрался в гостиницу. Но у меня не было такого чувства. Вот поэтому и у вас его не должно быть, ибо в противном случае я буду вынужден сделать вывод, что, видимо, я тогда ошибался. И, наконец, ваш шурин, Фельс, будет рад, если вы у нас поселитесь.
Перед такими доводами Есениус был бессилен. Зная горячность своего друга, он понял, что дальнейшие возражения только рассердят его. Есениус поблагодарил Браге и обещал, что сегодня же переберется к нему.
Когда Тихо Браге еще раз упомянул об Адаме Фельсе, переехавшем вместе с ним в качестве его помощника в Прагу, Есениус заговорил о своей жене Марии. Он сообщил, что она вполне здорова и весьма часто вспоминает о семействе Браге, в особенности о пани Кристине, с которой так сдружилась.
Разговаривая, Тихо Браге поправлял на носу без конца отклеивающийся пластырь и время от времени пудрил нос, чтобы разница между цветом кожи и пластырем не была так заметна.
В Есениусе заговорило профессиональное чувство врача.
— Что у вас с носом?
— Вот видите, — сердясь, заговорил Браге, — я должен ежедневно менять пластырь, иначе эта металлическая пластинка не держится. Не могли бы вы мне помочь? А то у меня с этим много возни.
Есениус пообещал, что попытается как-нибудь помочь своему другу.
Тихо Браге пришлось много выстрадать из-за своего носа. Еще лет тридцать назад Браге из-за какого-то теоретического вопроса повздорил с одним самоуверенным датским аристократом. Спор пришлось разрешать на дуэли, под покровом темной ночи. Удача сопутствовала аристократу, который отсек своему противнику кусок носа. С тех пор на месте отсеченной ткани Браге носил металлическую пластинку.
— Ну, а в остальном, стало быть, вы довольны Прагой? — спросил Есениус императорского астронома.
— Пожаловаться не могу, — ответил Браге и с довольным видом улыбнулся. — Императору важно меня удержать. Он изволил определить мне такое жалованье, какое не получает при его дворе ни один художник или ученый: три тысячи золотых ежегодно. Кроме того, как я вам уже говорил, он предоставил мне дом Цурти, за который императорская казна уплатила золотом двадцать тысяч. Ну, а что касается службы, так и тут не могу посетовать: ежедневно перед обедом я докладываю императору о своих ночных наблюдениях, а также сообщаю ему, благоприятно или неблагоприятно расположение звезд для принятия им важнейших решений. В общем, у меня остается достаточно свободного времени для собственных астрономических наблюдений и для того, чтобы позаниматься. И, наконец, у меня замечательный помощник — императорский математик Кеплер.
Есениус слушал Браге с неослабным вниманием. Сообщение о жаловании его просто поразило. Три тысячи золотых ежегодно — это поистине королевское жалованье. Ведь он как личный врач курфюрста Саксонского не имел даже половины этой суммы. Что там половины — даже трети! Он получал меньше тысячи, и это считалось весьма приличным вознаграждением. Император и в самом деле пенит своих художников и ученых.
Тихо Браге, предпочитавший разговор об астрономии всем другим беседам, снова вернулся к Виттенбергу. Он расспрашивал о знакомых профессорах, о количестве студентов, о городских новостях…
Беспокоясь о том, что оторвал астронома от его дел, Есениус спросил, где находится приемная верховного канцлера Зденека Попела из Лобковиц.
— О, вы хотите нанести визит своему падуанскому соученику и засвидетельствовать ему почтение как высшему государственному сановнику! — воскликнул Браге, одобряя решение Есениуса. — Вы совершенно правы, старую дружбу надо восстановить. Я провожу вас к нему.
В знак благодарности Есениус слегка наклонил голову.
— Однако речь идет не столько о дружественном, сколько об официальном визите, — сказал он, и лицо его на мгновение омрачилось. — Я хотел бы обратиться к нему с просьбой походатайствовать за меня по делу о наследстве.
Браге с минуту теребил свои длинные усы, сосредоточенно глядя в пространство, потом порывисто встал, подошел к Есениусу и положил ему руку на плечо.
— Знаете что, Иоганн, — начал астроном, — зачем идти к подмастерью, если можно сразу обратиться к мастеру? Постараюсь помочь вам попасть на прием к императору.
Эта идея — результат одного из обычных для Браге неожиданных решений — явно ему понравилась, и он тут же стал обдумывать, как ее лучше осуществить. Когда же Есениус заметил, что это вряд ли выполнимо, ведь попасть к императору трудно. Браге имел уже готовый ответ:
— Как раз сегодня у меня имеются для императора добрые вести. Расположение звезд сейчас весьма благоприятствует его величеству. Возможно, что во время приема мы чего-нибудь добьемся. Император о вас и так уже знает. Когда я рассказывал ему о ваших публичных вскрытиях в Виттенберге, он весьма этим заинтересовался. Во всяком случае, попытка — не пытка.
Возможность встречи с императором взволновала Есениуса Это было бы для него большой удачей. Но идти в качестве просителя — нет, он считал это неприемлемым.
Толпы просителей стоят перед дверью императорского кабинета, и те минуты, когда император должен выслушивать все их просьбы и жалобы, для него, наверное, самые тоскливые. Но Есениус надеялся, что, когда до слуха его величества дойдут слова Тихо Браге о публичных вскрытиях, император проявит интерес к его особе. Как хорошо, если бы император принял его не как просителя, а как врача, как ученого!
— Пожалуй, вы правы, — согласился Браге, — так будет лучше. Пойдемте в приемную императора, а там посмотрим.
Приемная была полна просителей, требовавших аудиенции. Все они принадлежали к дворянскому или рыцарскому сословию. Простым горожанам попасть к императору было почти невозможно.
Нетерпеливые взгляды всех присутствующих были обращены на большие двухстворчатые двери. Однако они вели не прямо в кабинет императора, а лишь в канцелярию главного камердинера Маковского. Время от времени двери распахивались, и главный камердинер важным, немного приглушенным голосом возвещал имя счастливца, которого удостаивал своим вниманием император. Остальные в эти минуты окружали камердинера, забрасывая его множеством вопросов: «Когда меня примет его императорское величество?», «Есть ли надежда попасть к императору сегодня?», «В каком настроении император?», «Какие вида на благоприятное решение моего дела?»
И за каждым таким вопросом скрывался упрек, который раздражал главного камердинера: «Почему, мол, не замолвите за меня словечко у императора? Ведь я вам заплатил двести золотых. Сколько же вам заплатил тот, кого император уже принял, пока я две недели дожидаюсь своей очереди?»
Маковский только пожимал плечами, а когда кто-то осмелился открыто бросить ему в лицо этот упрек, он холодно ответил: «Ничем не могу помочь, я свое исполнил, его императорское величество — натура непостижимая…»
Есениус остановился возле оконной ниши и с интересом рассматривал роскошную, со вкусом обставленную комнату и незнакомые лица, по которым можно было прочитать всю гамму человеческих чувств и характеров.
Как раз в то время, когда внимательный взор Есениуса обратился к висевшим на противоположной стене двум громадным картинам, на которых были воспроизведены какие-то сюжеты из греческой мифологии, дверь распахнулась и появившийся на пороге главный камердинер Маковский произнес:
— Доктор Есениус!
Есениус направился к двери. Взгляды всех присутствующих скрестились на его фигуре. Ему казалось, что он отчетливо слышит заданные шепотом вопросы: «Доктор Есениус?», «Кто это?», «Вы знакомы с ним?»
Нет, никто не был с ним знаком. Никто ничего о нем не знал. Но за этой белой дверью о нем уже было известно.
Сердце Есениуса лихорадочно забилось. Он быстро оглядел свое одеяние: не расстегнулась ли серебряная пряжка на черном низком башмаке, не прилип ли где-нибудь кусок грязи, вылетевший из-под копыт норовистого коня, к белым чулкам, плотно обтягивавшим ноги, или к желтым коротким панталонам, не испачкал ли он о стену свой синий бархатный камзол на белой шелковой подкладке? Нет, он не нашел изъянов на своем платье; даже широкий сборчатый крахмальный воротник нигде не был помят, а ножны кинжала блестели. Второпях он пригладил старательно подкрученные усики и небольшую бородку и, не снимая широкополой шляпы с белым страусовым пером, вошел в комнату.
— Не подходите к его императорскому величеству ближе чем на три шага, не начинайте первым разговора, ждите, пока император к вам обратится, не говорите слишком громко, — делал последние наставления главный камердинер.
Потом он молча указал на дверь, перед которой, скрестив свои алебарды и широко расставив ноги, стояли два стража. Когда Есениус приблизился к ним, они отвели алебарды, и камердинер бесшумно открыл дверь.
Держа шляпу в руке, Есениус вступил в императорский кабинет. Первое, что бросилось в глаза доктору, было гармоничное сочетание двух красок — красной и черной. Весь кабинет, от паркетного пола до лепного потолка, был обтянут темно-красным шелком с вытканными на нем цветами причудливой формы. Красный цвет этой обивки был таким сочным, поглощающим все остальное, что гость почти не обратил внимания на картины, висевшие на стенах, и на золоченую резную мебель. Взгляд его, не задерживаясь, скользнул по этим предметам, глаза видели лишь ярко-красный фон, на котором четко выделялась одежда императора из черного бархата. Белые чулки да цепь ордена Золотого руна, поблескивавшая на груди, дополняли его простой костюм, казавшийся еще проще, когда перед императором стояли его придворные, облаченные, как правило, в роскошные одежды.
Помня наставления камердинера, Есениус сделал определенное количество шагов с поднятой головой и остановился рядом с Браге. Только после этого, соблюдая все церемонии, доктор отвесил придворный поклон: правую ногу он несколько отставил назад, как бы собираясь присесть, низко опустил голову и, держа в руке шляпу, описал ею полукруг; страусовое перо при этом скользнуло по драгоценному персидскому ковру.
На императора, любившего изысканные манеры испанского двора, посетитель произвел благоприятное впечатление.
Рудольф сидел за роскошным письменным столом, в резном кресле с мягкой обивкой. На голове у него была низкая шапочка, отороченная золотым шнуром; страусовое перо было прикреплено к ней золотой заколкой, украшенной большим сверкающим бриллиантом.
— Наш славный придворный астроном Браге сказал нам о вас столько похвальных слов, что мы весьма рады вашему прибытию в нашу столицу, — тихо, почти шепотом, произнес император.
Хотя обивка кабинета приглушала звуки, но посетитель — в особенности тот, кому не были известны императорские привычки, — невольно чувствовал, что в этой комнате нельзя громко разговаривать. Чувствительные, болезненно раздраженные нервы императора не выносили ни малейшего шума. Казалось, пугливый император боится громкого, оживленного разговора.
Только два звука были милы императорскому слуху и воспринимались им как радостная, убаюкивающая музыка: ржание буйных арабских коней и львиный рык в Оленьем рву.
— Для меня великая честь, что я могу выразить вашему императорскому величеству свою преданность, — тихо, но с достоинством промолвил Есениус и склонился в глубоком поклоне.
Наступила пауза. Император глядел на доктора, но взгляд его был каким-то загадочным, отсутствующим. Казалось, он не замечал стоявшего перед ним человека.
Тихо Браге и Есениус молчали. Они ждали следующего вопроса.
Между тем Есениус внимательно рассмотрел императора.
Перед ним сидел невысокий человек с шарообразной головой, на которой прежде всего бросалась в глаза нижняя губа, большая, выдающаяся вперед, — характерная черта всех Габсбургов. Водянистые округлые глаза смотрели на мир так, словно в императорском сердце навеки поселилась глубокая печаль. Меланхолия.
Так это называли императорские лейб-медики. В особенности известнейший из них, славный Христофорус Гваринониус[3] Меланхолия оплетала его сознание, как паутина, захватывала разум настолько, что вырваться из этой сети он уже не мог. Меланхолия?.. Но тут Есениус спохватился, как бы испугавшись, что император прочтет его мысли. Но, убедившись в обратном, он завершил свои рассуждения: а может, и что-нибудь похуже? Безумие?
— Несколько лет назад вы посвятили нам свой докторский трактат. Как он назывался?
— «Progymnasma peripateticum», ваше величество. О божественной и человеческой философии.
Кровь бросилась в лицо Есениусу. Свой трактат он посвятил императору девять лет назад, а император до сих пор это помнит.
Такого признания он, право, не ждал.
Браге посмотрел на своего друга с улыбкой, полной восхищения.
«А читал ли император мой трактат?» — мелькнуло в сознании Есениуса, но у него не было времени поразмыслить над этим вопросом, так как мягкий, словно немного робкий голос императора заставил его снова напрячь внимание.
— «Progymnasma peripateticum»? Да, да, я вспоминаю. А разве в нем не было и кое-чего другого? Нечто о тиранах…
Удивление Есениуса сменилось ужасом. Даже это известно императору? Ведь вторая часть трактата не была напечатана. Откуда император о ней знает? Есениус бросил взгляд на Браге — может быть, он рассказал? Но на лице астронома также было написано удивление. Нет, Браге не мог рассказать императору, ведь он сам ничего не знал о трактате. Выражение его лица убедительно свидетельствует об этом. Кто же тогда сообщил обо всем Рудольфу?
Времени на размышление не было, вопрос императора требовал ответа. Посетитель обязан отвечать сразу, так как император не должен ждать. Заставлять ждать — это право императора.
— Pro vindiciis contra tyranos. Обоснование законности выступлений народа против тирании. Только этот трактат не был мною опубликован, — ответил Есениус, глядя прямо в глаза императору.
В глазах монарха зажегся еле заметный ехидный огонек.
— Жаль, что вы не напечатали такое сочинение, — быстро ответил император; было ясно, что его весьма занимает предмет разговора. — Мы бы с удовольствием его прочитали.
Но в его голосе слышалось что-то недоброе. Есениусу показалось, что он уловил зловещий оттенок иронии. Неужели император всерьез думает об издании его книги?
Все эти сомнения молнией промелькнули в голове Есениуса и погасли раньше, чем успели отразиться на его лице.
— Интерес вашего императорского величества к моей скромной работе является для меня величайшей наградой, — промолвил он и с учтивым поклоном добавил, отвечая на вопрос императора: — Я где-то затерял рукопись, но как только найду, сразу же подготовлю ее к печати.
Император притронулся к золотой цепи и, рассматривая орден Золотого руна, висевший у него на груди, пытливо спросил:
— Следовательно, вы не поклонник Макиавелли?[4]
Есениус многое бы дал тому, кто бы поведал ему, что думает о Макиавелли император. Ведь основное сочинение Макиавелли, книга «Государь», явилось мишенью нападок Есениуса в тот незабываемый августовский день 1591 года, когда во францисканском костеле в Падуе на диспут собрались разные знаменитости. Пришел даже сам князь д’Эсте и все профессора Падуанского университета во главе со знаменитым профессором Аквапенденте. Среди гостей был и его друг и соученик князя Зденек Попел из Лобковиц. Вспомнив это имя, Есениус с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Действительно! Зденек Попел, тогдашний верховный имперский канцлер, послал императору сообщение об этой дискуссии. Разумеется, это не давало ответа на вопрос, какого мнения император об авторе «Государя», но, как бы там ни было, императору известна точка зрения Есениуса на Макиавелли, и поэтому ответ доктора на вопрос императора уже не может ничего изменить. И Есениус уже собирался сказать всю правду, все, что он думал, все, что говорил девять лет назад на диспуте. С его языка был готов сорваться ответ: «Я считаю книгу Макиавелли «II principe» вредной, потому что она толкает властителей на совершение незаконных поступков». Но в последнюю минуту он спохватился: одно дело его докторская диссертация, а другое — разговор с императором. Ведь в конечном счете девять лет назад он был всего-навсего студиоз, только что окончивший курс, юнец, в горячей голове которого роились всевозможные кощунственные мысли и смелые планы, к сожалению, подчас весьма далекие от действительности. Жизненный опыт, пришедший с годами, научил его, что головой стену не прошибешь, что в разговорах с сильными мира сего не следует лезть на рожон, а лучше всего поступать, как сказано в Библии: «Будьте кротки, аки голубица, и осторожны, аки змий». Мысли, которые, будучи высказаны в кругу университетских профессоров и студентов, легко объяснимы и понятны, так как их непримиримость может быть смягчена контраргументами оппонента, в разговоре с императором приобретают значение опасных, бунтовщических. Если бы император отнесся к ним именно так, можно было распроститься с надеждой на благосклонное решение спора о наследстве. Конечно, это еще не означает, что Есениус должен отказаться от своих убеждений, однако все же лучше начать более дипломатично. И ответ доктора был именно таким:
— Надеюсь, ваше величество, вы не будете на меня в претензии, если я признаюсь вам откровенно, что вообще не принадлежу к поклонникам, вернее, к почитателям этого выдающегося государственного мужа и флорентийского писателя.
— Если мы правильно поняли ваш ответ, вы не разделяете идей и принципов Макиавелли, изложенных в его сочинении «II principe»? Вы это думали сказать?
Есениус склонил голову, мозг его лихорадочно работал. Он усиленно искал подходящие слова, чтобы объяснить императору свое отрицательное отношение к Макиавелли.
— Чем вы можете обосновать свое несогласие с ним?
Есениус посмотрел на Браге, как бы ища у него поддержки или одобрения, потом, не повышая голоса, заговорил с расстановкой:
— Советы Макиавелли, которые он дает в своей книге монархам, я считаю академическими рассуждениями, которые невозможно применить в жизни.
— Почему? — неожиданно быстро спросил император.
— Потому что… потому что нельзя пользоваться в политике одной моралью, а в жизни — другой. Закон божий не допускает различия между простым человеком и властителем. А синьор Макиавелли провозглашает как раз обратное.
Император порывисто поднял голову, и на его лице появилась тень неудовольствия.
— Нам кажется, что сведение содержания этой исключительной книги к такой узкой формуле даже отдаленно не передает ее всестороннего философского и политического значения. Пожалуй, лучше всего это можно передать девизом: цель оправдывает средства. Автор «II principe» советует самодержцам, чтобы они при осуществлении своей цели не обращали внимания на те средства, к которым они вынуждены прибегать, — пусть некоторые из этих средств будут слишком суровыми и даже противоречат существующим законам. Ибо гораздо важнее, чтобы подданные боялись властителя, чем любили бы его. «Oderint dum metuant», — говорил Калигула[5]. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Думается, что в этом совете содержится великая государственная мудрость и ни один властитель не должен ее недооценивать.
Теперь Есениусу ясно, что думает император о Макиавелли. Он ценит его, восхищается им. Короче говоря, взгляды императора совершенно противоположны взглядам доктора. Но Есениус не удивился, ведь и со Зденеком Лобковиц у него не раз были споры на эту тему. И Лобковиц тогда говорил то же самое, что сегодня — император. Неужели он добился первого положения в государстве тем, что руководствовался принципами Макиавелли?
Есениус заметил напряженный взгляд Тихо Браге, который с растущей тревогой молча наблюдал за словесным поединком, происходившим между императором и смелым чужестранцем. Чтобы возражать императору, надо было обладать истинной смелостью. Император с трудом переносил мнения, которые не соответствовали его собственным.
Хотя Есениус и не был посвящен в особенности императорского характера, он был уже знаком со сложной гаммой оттенков придворной речи, для которой принцип «что на уме, то на языке», как правило, недопустим, ибо каждую мысль полагалось облечь в пышные одежды словесных штампов, чтобы она выглядела самым приятным образом. Неужели отречься от своих убеждений? Внутренний голос нашептывал: «Помни о наследстве». И Есениус начинал уже подумывать, не лучше ли отступить. Сказать императору: «Я вполне согласен со взглядами вашего императорского величества. А если во время диспута я отклонился от этих взглядов, то это был лишь результат моей юношеской неопытности. Ныне я смотрю на вещи значительно шире, обладаю более богатым опытом. Поэтому смиренно признаю, что ошибался».
Но вместо этого в нем что-то запротестовало, и он заговорил, развивая собственные мысли, как будто и не слышал всего того, что сказал император.
— В своей падуанской речи на дискуссии я привел в качестве примера несчастную шотландскую королеву Марию Стюарт, которую парламент укорял за то, что она нарушила свои обещания и обязательства. Королева тогда ответила, что обещания и присяга связывают государя лишь до тех пор, пока они ему кажутся приемлемыми. И парламент отказал ей в повиновении.
Тихо Браге нервно кусал кончики длинных усов и многозначительными взглядами пытался остановить своего друга, чтобы тот не погубил себя. Но Есениус не обращал внимания на его отчаянные взгляды. Он смело смотрел в глаза императору и с любопытством врача ждал, какой оборот примет этот интересный, но опасный разговор. Ведь император в любую минуту мог оборвать его одним словом или просто жестом поставить на свое место смелого оратора. Однако по всему было видно, что государь не собирается этого делать. Взгляды Есениуса были ему не по вкусу, но сам разговор с доктором его занимал. В нем было что-то особенное, отличавшееся от бесконечных разговоров императора с посетителями. В присутствии императора все они не осмеливались высказывать свое мнение, и, если император, указывая на что-либо, говорил: «Это черное», они тут же без колебания соглашались: «Совершенно верно, ваше величество, это черное», хотя за минуту до этого готовы были признать эту вещь белой, лишь бы понравиться императору.
— Достаточно опасный и немудрый поступок, — ответил император с усмешкой в голосе. — Нам кажется, что этот шаг шотландского парламента имел отрицательное влияние и на многие другие европейские парламенты, в том числе и на чешский сейм, который тоже уже охвачен духом сопротивления. Короче говоря, вы одобряете сопротивление подданных помазаннику божьему?
Император пытливо посмотрел в глаза Есениусу. Легкое сомнение охватило доктора. Слухи о взрывах бешеной злобы императора доходили до Германии и были известны в Виттенберге. Но отступать было уже поздно.
— Разрешите, ваше величество, в качестве ответа на ваш вопрос привести пример из области, которая мне ближе всего, — из моей врачебной практики. Человеческое общество состоит из различных частей, точно так же как человеческое тело — из различных органов. Органы эти зависят друг от друга, связаны между собой и предназначены для всевозможных действий. И если для устранения неполадок в человеческом организме, для устранения нарушенной связи между отдельными его членами существует врач, то для общества в этих случаях необходим король. Но врач не может поступать со своим пациентом, как ему заблагорассудится, а должен думать о пользе для его здоровья. Точно так же должен поступать и король. Он должен уметь править людьми, чтобы они жили хорошо и счастливо, ибо: как врач не имеет права умертвить своего пациента, точно так же и король не смеет уничтожать своих подданных или незаконно поступать с ними.
Есениус умолк, напряженно ожидая, что вот-вот разразится буря императорского негодования.
Тихо Браге машинально отступил на полшага, опасаясь, как бы первый удар гнева — в том случае, если бы он проявился в форме выпада рапирой, — не поразил его. Ведь совсем недавно, в часы, когда весь мир спал, император, путаясь в полах ночной сорочки, метался с мечом в руке по коридорам замка и дико кричал, что расправится со злоумышленниками, которые хотят лишить его жизни. А между тем причиной вспышки был случай гораздо менее значительный, чем сегодняшняя полемика.
Но, к великому изумлению императорского астронома, ничего подобного не произошло. Император совершенно спокойно промолвил:
— Власть государю дарована богом. За все свои поступки он отвечает только перед ним. В том числе и за порядки в государстве.
Есениус с поклоном принял это наставление, но он понимал, что разговор еще не окончен. Пока ему еще не представился случай высказать то главное, о чем он говорил тогда в Падуе. И, не считаясь с испанским этикетом, который был введен Рудольфом в пражском замке, он позволил себе неслыханную дерзость: не ожидая императорского вопроса или даже какого-либо намека на него, доктор без всяких обиняков возразил на слова императора:
— Если ваше величество позволит, мне бы хотелось несколько уточнить понятие «король». Другими словами, я делаю различие между королем, который правит с согласия подданных, и королем, который захватил власть путем насилия, вопреки воле народа. Такого монарха я называю тираном, ибо древняя история дает нам массу примеров того, что правление большинства из них отличалось жестокостью и попиранием законов во вред народу. Вот почему в этом случае — я разрешу себе высказать до конца свою мысль — народ имеет полное право призвать властителя к ответу… отдать его под суд.
Император со смехом прервал Есениуса:
— Вы противоречите сами себе, domine доктор. Как же могут подданные, если они, по вашим словам, полностью зависят от злой или доброй воли тирана, призвать его к ответу? Ведь в этом случае каждое проявление непокорности тиран задушит в самом зародыше. Нам кажется, доктор, вы недостаточно изучили Макиавелли.
— Я старался как можно глубже проникнуть в тайны его философии, — смиренно ответил Есениус и добавил: — а сейчас, ваше величество, думаю над тем, что вы изволили сказать.
— И какой же вы собираетесь сделать вывод?
Есениус немного заколебался, как бы размышляя, стоит ли говорить императору все, о чем он некогда поведал собранию в Падуе. Так или иначе, но терпением императора нельзя было долго злоупотреблять. Требовался ответ.
— Народ имеет право обезвредить тирана, который допускает беззаконие. Это право позволяет даже уничтожить тирана.
Итак, все было сказано. Осталось уповать на волю божию.
— Понимаете ли вы, что если это право признается вами по отношению к тиранам, то где гарантия, что подданные не воспользуются этим же правом по отношению к законно избранному королю?
— Да, понимаю, — решительно ответил Есениус и перевел дух, чтобы немного успокоиться. Сердце учащенно билось, он ощущал пульсацию крови в висках. Покрывшееся краской лицо понемногу бледнело.
Наступила напряженная тишина. Император рассеянно стучал пальцами по полированной поверхности большого письменного стола. Взгляд его покинул Есениуса и остановился на картине Кранаха[6] «Источник молодости», которая висела как раз напротив императора. Это была его любимая картина. Рассматривая ее, было так приятно мечтать! В водоем, наполненный «живой» водой, которая стекает сюда из бьющего неподалеку ключа, входят с одного берега отвратительные старухи, их безобразные, дряблые тела написаны художником серой краской. Погрузившись в воду, они выходят из водоема на противоположный берег. Теперь это соблазнительные красавицы с розоватым телом и румянцем на щеках. Император всегда с восхищением любовался ими. Удастся ли ему когда-нибудь найти человека, который сказал бы ему, где найти этот источник? Согласно легенде, он находится в каком-то старинном замке скандинавской Идун[7] на далеком севере, где-то там, где полгода день, а полгода ночь. Во дворе замка богини бьет из скалы этот источник. Но гонец, посланный императором в Скандинавию, вернулся ни с чем. Он не нашел источника. Никто ничего не слышал о нем. «Так, да не так, — думал император. — Все знают, да не хотят выдать тайну. Для себя берегут».
С поразительной неожиданностью, без всякого перехода, император вдруг задал вопрос, который не имел никакой связи с предыдущим разговором. Вопрос был вызван лишь теми мимолетными мыслями, которые навеяла императору картина Кранаха. Есениус не видел картины, так как стоял к ней спиной, поэтому неожиданное возобновление разговора его вдвойне озадачило.
— Почтенный доктор, можете ли вы приготовить panacea vitae?
Panacea vitae! Таинственный эликсир жизни, возвращающий молодость и сохраняющий ее столетия!.. Дорогостоящий товар из кладовых алхимиков, которые на эту удочку ловят золотых рыбок — доверчивых людей, готовых заплатить за желанное средство дьявольские деньги. И все напрасно.
— Весьма сожалею, ваше величество, но panacea vitae нельзя приготовить, и должен сказать, что до сих пор я не встречал человека, который смог бы это сделать.
— Откуда у вас такое неверие?
Есениус ожидал этого вопроса. И ответить на него было куда легче, чем на вопрос о Макиавелли. Но будет ли ответ менее безопасным?
— Мое неверие — результат простого наблюдения над окружающим миром. Философ древности Гераклит сказал: «Все течет, все находится в движении». В природе нет ничего неизменного — это непреложный закон. Все в ней появляется и исчезает. Это относится и к человеку и ко всему животному и растительному миру.
— Не хотите ли вы низвергнуть человека, созданного по образцу и подобию божию, на уровень немой твари и бесчувственного растения? Может быть, вы сомневаетесь в высоком назначении человеческой жизни, смысл которой состоит в спасении на том свете?
Последнюю фразу император произнес строго, как бы призывая Есениуса к ответственности за такие крамольные мысли и речи. Но Есениус едва смог подавить усмешку, вызванную противоречивыми словами императора. Говоря о возвышенном назначении человеческой жизни, о вечном спасении, он в то же время сам об этом не заботится, наоборот — прилагает все усилия к тому, чтобы как можно дальше отложить спасение своей души.
Однако эти мысли Есениус не смеет ему высказать. Он должен сохранить серьезность, как того требует значительность темы.
— Прошу поверить мне, ваше императорское величество, что в моих словах нет и намека на то, чтобы хоть в малейшей степени унизить человека. Я прекрасно знаю, что бог-отец дал человеку бессмертную душу, а бог-сын умер за нее на кресте, искупив грехи человека и обеспечив ему вечное спасение. Тем самым человек был вознесен над всеми живыми существами. Но для того чтобы человек был спасен для вечной жизни, он прежде всего должен умереть.
Чем дальше говорил Есениус, тем больше хмурилось лицо императора. В конце концов он не выдержал и нетерпеливым жестом прервал доктора.
— Мы надеялись, — раздраженно сказал император, — что узнаем мнение врача; богоспасительные речи мы в достаточной мере слышим от своего духовника и для разнообразия от архиепископа. От вас нам хотелось бы услышать нечто иное.
Есениус чувствовал, как приливает к лицу кровь, как заливает все его тело горячая волна. Курфюрст Саксонский говорил с ним иначе. Но что вспоминать об этом? Ведь он сам в какой-то степени виноват!
— Я весьма сожалею, ваше величество, что не могу сообщить вам что-нибудь более приятное, чем то, что уже сообщил. Старость и смерть нельзя обойти или миновать, ибо они результат разрушительного действия неудержимо текущего времени. А время остановить невозможно. Как не в силах человека сделать так, чтобы вечно стояли весна и лето, так невозможно уберечь человека от разрушительного действия времени. Вот почему я не верю, что можно создать panacea vitae, которая дала бы людям вечную молодость.
— Жаль, — разочарованно бросил император. — Были у нас алхимики, которые уверяли, что открыли тайну panacea vitae. Правда, метод их был несколько сложен, поэтому нам хотелось, чтобы они сперва испробовали его на себе. Однако эти люди покинули наш город раньше, чем произошло их омоложение.
В уголках рта Есениуса заиграла улыбка. Он понимал, прекрасно понимал, почему алхимики исчезли еще до того, как окончился их опыт. Золото для них было куда дороже сомнительной молодости. Но императора было весьма трудно в этом переубедить.
— А вы, наш астролог Браге? Что вы думаете на этот счет? Не находится ли panacea vitae в какой-либо зависимости от звезд?
— Пусть извинит меня ваше величество, но такой зависимости мне еще не приходилось наблюдать. Но, если ваше величество пожелает, я направлю свои исследования именно в эту сторону.
— Нет, не надо. Нам казалось, что у вас уже есть опыт в этой области тайных наук. Но, если вам придется начинать все сначала, тогда не надо. Лучше продолжайте свои наблюдения небесных тел. Пожалуй, больше всего в этом осведомлен раввин Лев. Хорошо бы его позвать и спросить, как далеко он продвинулся в своих опытах со времени нашей последней встречи… Но как жаль! Ведь если верить вам, господин доктор, то невозможно приготовить даже lapis philosophorum![8]
Есениус знал о слабости императора к алхимии. Ведь во всей Европе говорилось, что на пражском Граде знаменитые алхимики стоят друг за друга горой и что каждый из них снискал у императора расположение, ласку и полный кошелек.
— Я не решаюсь высказать свое мнение об этом весьма важном предмете исследований алхимиков, ибо сам в этой области всего лишь ученик. В природе очень много неисследованного, о чем пока невозможно высказать определенные и всесторонние суждения.
Император в знак согласия закивал головой. Его вера в алхимию была непоколебима.
— Бог, — примирительно заговорил император, — приоткрывает перед некоторыми своими избранниками край завесы, за которой он скрывает от нас бесчисленные тайны своего могущества Мы убеждены, что к нам, христианам, он не станет относиться хуже, чем относился к ученым и мудрецам язычества. Например, к Гермесу Трисмегисту…
Гермес Трисмегист! Когда Есениус вошел в этот кабинет и увидел в центре его красно-черную фигуру императора, ему неожиданно вспомнилось это имя. Имя мифического египтянина, который якобы разгадал все великие тайны мира, сумел изготовить камень мудрецов, lapis philosophorum, и с его помощью стал превращать простые металлы в благородные — золото и серебро.
Сейчас император произнес это имя. И Есениусу показалось будто этим Гермесом Трисмегистом, «Гермесом трижды величайшим», как назвали его впоследствии греки, был он, этот загадочный черный человечек, который как никто из его современников погрузился в изучение тайных наук. Но что толку от этих наук, которые волею всяких магов и шарлатанов хранятся в тайне от непосвященных и, согласно древним традициям, передаются от одного к другому, как неразрывная цепь? А может, и от них все-таки есть какая-нибудь польза или же их нагромождение только еще больше запутывает лабиринт, в котором бродит его беспокойный дух? А может, этот дух не что иное, как Гермесова «табула смарагдина», малопонятная и запутанная. «Это правда, а не ложь, это определение бесспорно. То, что находится внизу, соответствует тому, что имеется наверху, а то, что имеется наверху, соответствует тому, что находится внизу, и наша цель — проникнуть в загадку этого явления. Все явления произошли из этого единого явления. Отцом его является солнце, матерью — луна. Носителем — ветер, кормилицей — земля…»
Красная отделка кабинета — это как бы отблеск пламени, пылающего в лаборатории алхимика, а он, этот черный загадочный маг, — новый Гермес…
Размышления доктора Есениуса неожиданно прервал трезвый голос императора:
— Мы слышали, доктор, что вы хирург. Наш любезный Тихо Браге говорил нам о вас, говорил, что человеческое тело под вашим ножом раскрывается, как книга в руках любознательного читателя. Великолепное призвание! Так занимайтесь же своим делом, пусть вас не волнуют заботы, возложенные богом на правителей. Мы с ними справимся как-нибудь сами. Ну, а если не справимся, так нам помогут наши советники, политики по призванию… Мы надеемся, что пребывание в Праге вам придется по вкусу.
Любезным жестом он дал знать, что аудиенция окончена. Ученые склонились в глубоком поклоне и уже было собрались покинуть кабинет, когда император знаком остановил Браге:
— Хорошо, если бы наш астроном рассказал нам сейчас, что интересное показывают звезды…
Двери императорского кабинета бесшумно закрылись за ушедшим Есениусом.
ДАТСКИЙ АТЛАС-НЕБОДЕРЖЕЦ
По соседству с Градчанами, высоко над Прагой, в новоотстроенном доме жил императорский астроном Тихо Браге.
Отсюда, по крайней мере, недалеко до резиденции великого мецената, как любил себя величать Рудольф, которому Браге ежедневно должен был докладывать о положении звезд. Если императору хотелось самому посмотреть на звезды, он вместе со своим астрономом заходил в павильон Бельведера на другом конце императорского парка, и там, в зале верхнего этажа, где по его приказу была оборудована обсерватория, они до глубокой ночи следили за перемещением планет, силясь постичь, что доброе или злое несут людям звезды. Насколько счастливее могло бы быть чешское королевство, если бы его властелин интересовался жизнью своих подданных так, как интересовался он звездами!
В тот же день после полудня Есениус перевез в дом Браге сундук, в котором, находились его одежда и врачебные принадлежности.
Пани Кристина, жена Браге, приветствовала Есениуса с материнской нежностью и по-деревенски просто, с той непосредственной сердечностью, которая свойственна сельским людям. Кристина Браге происходила из простой семьи. Она была деревенской девушкой, когда взгляд великого ученого-астронома остановился на ней. Браге сразу полюбил девушку и никогда не жалел, что они поженились. Кристина родила ему восьмерых детей, из которых остались в живых четверо. Своего мужа она обычно называла пятым. Жизненный путь ее после замужества не был устлан розами. Ведь Браге больше жил среди звезд, чем на земле. И самым счастливым временем своей жизни он называл время, проведенное в Ураниенбурге, в этом волшебном звездном городе на острове Гвен, где милостивый и щедрый король Дании Фридрих II распорядился выстроить для него сказочный дворец-обсерваторию.
Обсерватория была оборудована замечательнейшими инструментами. посмотреть на которые съезжались любопытные со всей Европы. Вот почему проведенные там девятнадцать лет Браге считал счастливой порой своей жизни. Поклонники дали ему весьма лестное прозвище «Датский Атлас-небодержец». Древний Атлас держал на своих плечах небо. У Датского Атласа на плечах покоилось мироздание.
Есениус гордился тем, что мог называть Браге своим другом, и с великой благодарностью принял предложение астронома переселиться к нему.
Под вечер в самой большой комнате дома собралась многочисленная семья Браге и его помощники. Кроме Адама Фельса, который приходился Есениусу шурином, были здесь и трое незнакомых: один из них, худощавый брюнет с длинными черными усами, был придворный математик Иоганн Кеплер, другой — датский астроном Христиан Лонгомонтан, а третий — Франц Текгнагель, жених старшей дочери Браге, Альжбеты.
В центре стола сидел Браге. Весь его облик говорил о том, что он главное лицо в этом обществе. Разговор велся вполголоса, что свидетельствовало о царившей в доме строгой дисциплине. Тихо Браге был здесь грозным властелином.
Есениус сидел справа от Браге, Кеплер— слева. Место рядом с Есениусом пани Кристина сохранила для себя, чтобы поподробнее расспросить гостя о виттенбергских новостях. В Виттенберге, когда Браге жил там со своей семьей, Есениус подружился с пани Кристиной. Своими манерами, разговором, непосредственностью и сердечностью она напоминала ему покойную матушку. Теперь же, когда Есениус стал гостем этой семьи, он получил еще большую возможность, чем в Виттенберге, наблюдать эти прекрасные качества пани Кристины. И в том, как она старательно наполняла его тарелки, и в том, как отвергала его протесты, собственноручно выбирая для гостя вкусный кусок, было столько искренности, что он волей-неволей покорился ее чисто материнскому гостеприимству.
Старшая дочь, сидевшая напротив матери и слева от своего жениха, явно походила на отца. Сходство заключалось не только во внешности, в красновато-рыжем оттенке волос, но и в ее характере. Она не переставая что-то шептала своему жениху и бросала на него многозначительные взгляды, а он лишь покорно кивал головой. Но эта покорность, казалось, не могла удовлетворить властолюбивую девушку. Строгое выражение ее лица не исчезло даже тогда, когда пани Кристина сочла необходимым вмешаться в их разговор:
— Дети, дети, хотя бы за столом не ссорьтесь!
Младшая дочь, Софиа, робко поглядывала на гостя, и было видно, что она побаивается своей старшей сестры больше, чем отца. В течение всего вечера она не проронила ни одного слова.
На другом конце стола сидели Лонгомонтан и сыновья Браге — Йорген и Тюге. Это были белокурые юноши со светлыми глазами и круглыми лицами, всеми своими чертами походившие на мать. Есениус несколько раз обращался к ним, и они охотно и горячо отвечали ему. Но ответы их были весьма краткими: строгий взгляд отца останавливал их на полуслове, и они, комкая фразы, умолкали.
Лонгомонтан был всего лишь скромным слушателем. Взгляд его рассеянно блуждал по сторонам. Вопрос, обращенный к нему, заставал его врасплох, как бы пробуждая ото сна, и вместо ответа он в свою очередь спрашивал: «Вы что-то сказали?.. Простите, но я не очень внимательно слушал… Немного отвлекся…»
Есениус подумал, что он никогда бы не привык к такому большому дому. Здесь не хватало того семейного уюта и теплоты, которые царили во время обедов и ужинов в его виттенбергской квартире. Интересно, что делает сейчас его жена Мария? Вероятно, ей, бедняжке, грустно в одиночестве.
Молчание царило в течение всего ужина. Но, как только дочери астронома поднялись из-за стола и молодежь покинула столовую, а за кружкой вина вместе с Браге остались лишь Есениус, Кеплер и Лонгомонтан, языки развязались. Уже одним тем, что за столом остались лишь Кеплер и Лонгомонтан, Браге указал на иерархию, существующую среди его помощников. Хотя Кеплер и подчиняется Браге, но жалованье ему дает королевская казна и у него имеется титул императорского математика; другими словами — он равноценный работник, а что касается Лонгомонтана, так это старый человек, имя которого известно в кругах астрономов.
— Ну и задали вы мне сегодня жару у императора! — улыбнулся Браге, выпив за здоровье гостя. — Я так и ждал, что он бросится на вас с кинжалом в руке. Да и мне наверняка бы попало — ведь это я уговорил его принять вас. Вы с ним говорили так, будто между вами шел диспут. Хорошо еще, что у его величества сегодня было хорошее настроение.
Есениус улыбнулся, польщенный словами Браге:
— О моем реферате против тиранов ему, наверное, рассказал канцлер Лобковиц.
— Вероятно, — подтвердил Браге. — Но, во всяком случае, удивительно, что император все запомнил. Впрочем, это должно вас только радовать.
Молчавший до сих пор Кеплер вмешался в разговор:
— Важно, что все благополучно кончилось. Обычно люди, разговаривая с императором, стараются ему понравиться. Только мы, астрономы, должны говорить ему правду, пусть это даже и не всегда приятно слушать.
— Это верно, — оживленно подтвердил Браге, отхлебнув добрый глоток вина. — Однажды, согласно предсказаниям гороскопа, я поведал императору, что ему грозит опасность от собственного сына, который попытается лишить его трона. Император принял предостережение звезд как должно и не женился.
— А внебрачный сын не может претендовать на трон: дон Цезарь д'Аустриа не представляет опасности для императора, — улыбнулся Кеплер.
Есениус спросил о дочери Октавиана Страды, управляющего императорскими коллекциями, о прекрасной донне Катарине, которая хотя и не состояла в браке с императором, но считалась в Пражском замке первой дамой государства. Она родила императору уже нескольких детей, позаботившись тем самым о его счастливой семейной жизни. Император не остался в долгу и сохранил за своими незаконнорожденными детьми все привилегии настоящих принцев и принцесс.
— Ну, а теперь, пожалуй, оставим в покое императора и поговорим немного о вас, мой друг, — предложил Браге, обращаясь к Есениусу. — Переезжайте, дорогой мой, в Прагу навсегда.
Есениус отрицательно покачал головой. О переезде в Прагу он еще до сих пор серьезно не думал.
— Я не с этими намерениями приехал в Прагу, — ответил Есениус. — А лишь воспользовался вашим любезным приглашением. чтобы навестить вас и разрешить кое-что для меня очень важное. Вы же знаете об этом запутанном деле, о наследстве моего отца.
— Вы имеете в виду дом, который достался вашему отцу от его должника? Кажется, наследники стали хлопотать, чтобы им вернули дом?
— Совершенно верно, речь идет о доме Розенберга в Братиславе. Отец в этом доме арендовал корчму. Владелец дома нуждался в деньгах, и отец одолжил ему тысячу шестьсот талеров. Но Розенберг задолжал и другим людям. Когда выяснилось, что ему не расплатиться с долгами, он решил оставить дом моему отцу и поставил перед ним условие, чтобы отец рассчитался со всеми кредиторами. Все было в порядке до самой смерти Розенберга. Но, как только Розенберг умер, явились новые кредиторы, и даже некоторые из тех, с кем отец рассчитался полностью. Они стала утверждать, что отец не покрыл розенберговские долги. А отец, к сожалению, в свое время не взял у них расписок. Но денег он им все же не дал. Тогда они направились к вдове Розенберга и потребовали деньги с нее. Той ничего не оставалось делать, как вторично заплатить по счетам. После этого она подала в суд на моего отца, чтобы он вернул дом ее покойного супруга. Суд удовлетворил иск и обязал отца вернуть дом, а вдову — долг в шесть процентов годовых, начислив их со дня предоставления займа. О возврате отцу остальных платежей, которые он произвел за Розенберга, в решении суда ничего не было сказано. Само собой разумеется, что отец подал апелляцию. После его смерти тяжбу продолжали мы, его дети, — я и брат мой Даниель. Дело было передано в пражский апелляционный суд, и тут оно застряло. Если не считать вашего любезного приглашения, все эти обстоятельства являются главной причиной моего приезда в Прагу.
— Надеюсь, что ваше личное вмешательство ускорит решение дела. Если бы я мог быть вам полезен, я охотно бы сделал все, что в моих силах. Хотя и не знаю, много ли стоит мое слово в данном случае, ведь я и сам никак не могу добиться справедливого решения своих собственных дел. — И Браге безнадежно махнул рукой.
— Не мучайтесь из-за этого жулика Бэра, — успокоительно промолвил Кеплер, — ведь теперь каждому яснее ясного, на чьей стороне правда.
— Это все та старая жульническая история? — удивился Есениус.
— Да, да, — оживился Браге, и в глазах у него засверкал гнев, испещренное фиолетовыми прожилками лицо потемнело. — Неужели вы помните этот случай? Вот жулик! Я говорю о Бэре, вы меня поняли. О том «астрономе», которого привел ко мне в Ураниенбурге один мой знакомый, дворянин Ланг…
Слово «астроном» он произнес с таким презрением, что одного этого было вполне достаточно, чтобы понять его отношение к Бэру. Злость так и кипела в сердце Браге. Когда ему приходилось называть это имя, он от негодования начинал заикаться, и его речь становилась прерывистой, неразборчивой, терялись последовательность и логика.
— Он, видите ли, хотел несколько подробнее познакомиться с моей работой. А я, старый осел, тут-то и попался на удочку. Жулик! Мошенник! Если бы я его… Ах, слов не хватает! Вот хитрец!.. О чем это я?.. Да, и вот когда я ему все показал, все рассказал… удавил бы змею, если бы попался под руку! Да что говорить— книгу выпустил, книгу! Вы только представьте себе, книгу! Мое мировоззрение, мои долголетние наблюдения — все украл!.. Позор! Стыд! Ах!..
Браге глубоко вздохнул и с раздражением посмотрел на окружающих. Есениус сделал попытку его успокоить:
— Не волнуйтесь, дорогой друг, император, без сомнения, вступится за вас.
Но ему не повезло: он не знал, что его утешение было равносильно маслу, подлитому в огонь.
— Император тоже попался на удочку и сделал из него придворного математика. Бэр — придворный математик! Ровня мне, Кеплеру и другим. Не поражает ли вас это?
— Он до сих пор состоит при императорском дворе? И как же он себя вел, когда вы приехали в Прагу? — спросил Есениус, заинтересовавшись.
— Этого я не знаю, я его не видел, — хмуро ответил астроном. — Когда Бэр проведал о моем приглашении на императорскую службу, он, как говорится, взял ноги в руки и сбежал в Силезию.
— Но ведь это лучшее доказательство вашей правоты! — воскликнул Кеплер.
— А для меня этого мало, — быстро ответил Браге. — О причине бегства Бэра знают лишь те, кто бывает в Праге. Но те, которым он послал мерзкий пасквиль на меня, убеждены в обратном, тем более что публично я не выступил и не раскрыл таким образом его проделок. Мерзавец! Он достоин того, чтобы… Впрочем, я не хочу быть судьей в своем собственном деле. Я просил императора учредить комиссию, которая беспристрастно разобралась бы во всем и решила, кто из нас прав. Разумеется, я. Скрутит мороз собаку — скрутит и медведя[9]. Решение комиссии я опубликую. Это и будет моей реабилитацией. Но и вы, Кеплер, должны мне помочь. Должны что-нибудь написать в мою защиту и издать это. Ну, а что думаете вы, доктор?
Есениус был вполне согласен написать трактат в защиту Браге.
— С такими нахлебниками от науки необходимо решительно бороться.
— И я так думаю, — обрадовался Браге и осушил свой бокал. Сжав кулаки, он погрозил невидимому противнику. — Попался бы мне в руки этот разбойник, я бы ему свернул шею! Ничего другого он не заслужил.
От волнения Браге снова побагровел, и Есениус решил, что лучше перевести разговор на другую тему.
— Каковы успехи моего шурина Адама? Мария все беспокоится о нем, но мне кажется, что напрасно.
— Я тоже думаю, что напрасно, — ответил Браге таким тоном, будто только что ссорился с Есениусом. — Ведь мы относимся к нему, как к своему. Все его любим. А если речь идет о его учении и работе, могу дать о них лестные отзывы. Лишь одно мне не нравится: не имеет он собственного мнения. Он считает, что должен полностью разделять мои мысли. Впрочем, и остальные придерживаются того же. Счастье, что есть здесь магистр Кеплер: нет-нет, да и сразишься с ним, хотя и без особого риска — до драки не доходит.
Кеплер улыбнулся удачной шутке и пытливо посмотрел на Есениуса.
— А вы и астрономией занимаетесь? — спросил он хирурга.
— Систематически я никогда не занимался этой наукой и поэтому не решаюсь вступить с вами в какую-нибудь астрономическую дискуссию. Мне больше приходилось сталкиваться с астрологией, но вы, я думаю, пренебрежительно к ней относитесь.
Слабая улыбка, блуждавшая на бледном лице императорского математика, мигом исчезла. Будучи наблюдательным человеком, Есениус не мог не заметить этой неожиданной перемены. Он сразу же понял, что прикоснулся к обнаженной ране в душе этого особенного человека, к которому, сам не зная почему, стал испытывать необыкновенную симпатию.
— Для того чтобы искатель правды мог свободно отдаться своему призванию, он должен быть обеспечен хотя бы пищей и крышей над головой. У кого нет ничего, тот раб. А кому нравится быть рабом? Когда я работал в Штирии в Градце, некоторые ученые мужи сетовали на то, что я составляю календари и альманахи. Тогда я занимался подобными делами. Бесспорно, составлять календари и альманахи — рабское занятие, но, если бы тогда я его бросил хотя бы на непродолжительное время, я попал бы еще в большее рабство. Лучше издавать альманахи с пророчествами, чем просить милостыню. Астрология — дочь астрономии, хотя и не родная. А разве не известно, что дочь поддерживает мать, которая в противном случае умерла бы с голоду?
Есениус с интересом слушал Кеплера, но не соглашался с ним. И, раньше, чем он успел ответить математику, поспешил заговорить Браге.
— Теперь вы видите, Иоганн, — при этом Браге указал пальцем на Есениуса, чтобы тот знал, что он обращается именно к нему, так как оба его собеседника были тезки, — вы видите собственными глазами и слышите собственными ушами, что за прелесть мой помощник и какой крест выпал на мою долю. Он, видите ли, не верит, что звезды оказывают влияние на судьбу человека, и при этом хочет быть императорским астрономом — астрономом императора, который считает астрономию неизбежным довеском астрологии. Теперь вы не удивляетесь, что между нами постоянно идут научные споры? Вы, Есениус, не астроном, вы врач и философ и в своих сочинениях имеете дело с тайнами Вселенной. Например, в книге «Зороастра». Хотя я и не во всем согласен с вашим представлением о Вселенной, мне нравится то, что вы пишете о звездах: вы наделяете их душой, которая является частичкой всемирного духа. Остальное вы лучше объясните сами. Как вы представляете себе влияние звезд на человеческие судьбы?
Кеплер уставился на Есениуса взглядом, в котором было не только любопытство, но и подлинный интерес специалиста.
— Трудно все это объяснить в двух словах, но я попытаюсь. Тем самым я раскрою перед вами, хотя бы частично, свою философию. Итак, свет, идущий к нам от звезд — а к звездам я отношу и Солнце, — освещает все предметы на Земле, прикасается к ним своими лучами. При этом происходит примерно то же, что происходит со слепым, который, лишь прикоснувшись к предмету, составляет о нем свое представление и образ предмета запечатлевается в его душе. После того как луч света прикоснулся к предмету, он, отражаясь, возвращается обратно, неся с собою образ предмета к источнику света, то есть к звезде. Так звезды знают обо всем, что делается у нас внизу с людьми. И если звезды одарены исключительно высокими качествами, то несомненно они любят добро и ненавидят порок; отсюда можно сделать лишь такой вывод, что к людям добрым, благородным, честным они выказывают свое расположение, а людей злых, подлых и бесчестных наказывают своей злобой.
Есениус посмотрел на своих собеседников. Какое впечатление на них произвело это рассуждение? Браге одобрительно кивал головой.
— Воистину это довольно тонкое изложение влияния звезд на людей. Если же к этому добавить еще влияние планет, а мы знаем, что некоторые из них влияют плохо, другие хорошо, а третьи остаются индифферентными, можно себе легко представить, каким многогранным и действенным становится это влияние на судьбу простого смертного.
Однако Кеплер не согласился с выводами Есениуса так безоговорочно.
— Я думаю, что между астрономией и астрологией существует такое большое различие, что о них невозможно говорить как о двух сестрах. О них нельзя говорить даже как о двух названиях одной и той же науки. Поэтому точка зрения профессора Есениуса ни в какой, даже в самой малой степени не поколебала моей убежденности в том, что астрология подчинена астрономии. Но один вывод доктора меня исключительно заинтересовал. Вы сказали нам, что считаете Солнце звездой. Могу ли я на этом основании считать вас сторонником теории Коперника?
Теория Коперника, согласно которой Солнце неподвижно и находится в центре всей Вселенной, а Земля, вращаясь вокруг своей оси, вращается и вокруг Солнца, разделяла в те времена всех астрономов на два враждебных лагеря: на сторонников Коперника и его противников. Кеплер был безоговорочным сторонником теории Коперника, а Браге создал свою собственную схему строения Вселенной. Согласно этой схеме, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн вращаются вокруг Солнца, но Земля неподвижна, и вокруг нее, в свою очередь, вращаются Луна и Солнце.
Браге знал, каков будет ответ Есениуса. Он помнил по прежним разговорам, что Есениус — сторонник Коперника. Конечно, взгляды Есениуса никогда не играли той отрицательной роли в их взаимоотношениях, как это имело место во взаимоотношениях между ним и Кеплером, с которым он был связан ежедневной работой. Почти каждую ночь они вместе наблюдали небесные тела, и здесь их различные научные взгляды оказывали влияние и на результаты их совместной работы.
— Теорию Коперника, — ответил Есениус, — я считаю в основном правильной, хотя и принимаю ее с некоторыми оговорками, ибо имею свое собственное представление о строении Вселенной. У нас в Германии теория Коперника не пользуется популярностью.
— Знаю, знаю, — горячо заговорил Кеплер, — и все это в результате злосчастного и бессмысленного заявления Лютера, что Коперник — сумасшедший, стремящийся погубить всю астрономическую науку. При этом он выдвигал против Коперника один-единственный аргумент — знаменитые слова из книги Иисуса Навина: «Стой Солнце над Гаваоном и Луна — над долиною Аналонскою! И остановилось Солнце, и Луна стояла, доколе народ мстил врагам своим».
— Это верно, — ответил Есениус. — И сейчас никто не осмелится сказать, что Лютер ошибался и правда на стороне Коперника.
Браге сделал отрицательный жест.
— С этим Коперником не все еще ясно, — неприветливо буркнул он и покосился на своих собеседников.
— Ах вы, Фома неверующий! — с упреком в голосе заговорил Кеплер. — Вы лучше станете придумывать всевозможные сложнейшие теории о строении Вселенной, чем поверите в правоту Коперника.
Браге нахмурился и заговорил глухим, низким голосом:
— Вы знаете не хуже моего, что одной веры для науки мало. Вера есть основа религии, но основой науки является опыт, подтвержденный доказательствами. Приведите мне доказательства верности теории Коперника, и я стану ее самым горячим сторонником.
Но Кеплер остался невозмутимым. Он тоже прекрасно знал, что даже самые сильные, самые настойчивые, самые громкие слова ничего не стоят перед самым незначительным фактом. А такого факта, такого доказательства, подтверждающего справедливость теории Коперника, не существовало.
— Я верю в то, что мне удастся найти эти доказательства, — спокойно ответил Кеплер, и в голосе его прозвучала твердость фанатика, который не свернет с пути, ведущего к желанной цели.
— Я желаю вам успехов в этом деле, — уже более мирным тоном сказал Браге, ибо гнев его, как и огонь, быстро вспыхивал, но, не получая пищи, так же быстро угасал.
Императорского астронома, холерика по натуре, больше всего раздражали возражения противников, но, если противники не настаивали, не желали обратить Браге в свою веру, он охотно выслушивал их точку зрения и даже мог по-деловому ее обсуждать.
Но сегодня у него не было настроения вести научную дискуссию, да и Кеплер уже собрался уходить. Допив вино, Кеплер сказал:
— Я должен покинуть вас, чтоб успеть вернуться домой еще засветло.
— Разве вы не здесь живете? — спросил Есениус.
Ему было немного жаль расставаться с этим человеком.
Кеплер отрицательно покачал головой, но ответил за него Браге:
— Я предложил ему жить у нас, но он предпочел обитать у профессора Бахачека, в Карловой коллегии. Захотелось, видно, иметь минутку покоя.
Хотя последнюю фразу Браге произнес шутливым тоном, но Есениус все же почувствовал, что за этой шуткой скрывается много правды.
— Вот переселится моя семья из Градца в Штирии в Прагу, тогда мы и переедем к вам, — сказал Кеплер. — А вы знакомы с профессором Бахачеком? — вдруг обратился он к Есениусу. — Это известный чешский астроном, профессор здешнего университета.
Есениус не слыхал этого имени, но восторженность, прозвучавшая в голосе Кеплера, вызвала у хирурга интерес к профессору.
— К сожалению, я не знаком с профессором, даже имя его я слышу впервые, но надеюсь, что мне представится случай с ним познакомиться.
— Бахачек принадлежит к людям, с которыми действительно приятно быть знакомым, — заметил Браге, и в голосе его не было и следа недавней шутливости. Он высоко ценил профессора Бахачека и считал его одним из своих задушевных друзей. — Если у вас есть желание с ним познакомиться, то завтра к вечеру мы собираемся с ним посетить королевские бани и вы могли бы отправиться туда с нами.
— Весьма охотно буду сопровождать вас, — обрадовался Есениус, довольный тем, что ему представляется случай познакомиться с университетским чиновником.
Положение дел в Пражском университете его особенно интересовало. Ведь по возвращении в Виттенберг это будет одной из главных тем его разговоров с коллегами.
После ухода Кеплера Есениус распростился с хозяином. Браге его не удерживал. Астроному хотелось немного поспать, так как в эту ночь ему предстояло до самого рассвета наблюдать путь, который совершает Марс.
Есениус долго не мог уснуть. Если в первую ночь по приезде в Прагу он заснул как убитый и спал без сновидений, то теперь сон не шел, мозг продолжал работать. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на темно-серый прямоугольник окна, за которым светилось небо с мириадами звезд, и думал о сегодняшнем разговоре с Браге и Кеплером. Сколько загадок поставил перед ним этот разговор! Как нарастающий подземный гул, ему все время слышались слова Браге: «Основой науки является опыт, подтвержденный доказательствами». Оба астронома искали доказательств, чтобы с их помощью обосновать свои представления о строении Вселенной. Да и он попытался создать свою систему мироздания на основе учения Зороастры, правда, под руководством итальянского философа Франческо Патрицци[10]. Точно так же как Вергилий вел Данте по трем кругам загробного мира, так вел Есениуса через все круги Вселенной Патрицци, изложивший свои философские взгляды в огромном пятидесятитомном сочинении «Новая философия Вселенной». Есениус вместил этот океан идей в небольшое озеро — так родилась его книга о Зороастре, — но доказательств он не искал. Положился на Патрицци, на Зороастру… и набросал схему строения мира, в которую сам поверил. Эта сложная система возникла в его мозгу, и он предположил, что она отвечает действительности. Его система мира. На бесконечной высоте и так далеко от Земли, что человеческий разум не в силах этого постичь, находится мир огня, местонахождение бога и всех блаженных душ. Этот мир не имеет границ, формально он бесконечен, в нем нет места ничему материальному, телесному, ибо все это мгновенно сгорело бы, превратившись в белый пепел. Температура, существующая в этом мире, во много тысяч раз превышает температуру Солнца. Там, в этом всемирном океане, могут существовать лишь души, созданные творцом… По направлению к центру системы, ближе к нам, находится другой мир — мир эфира. Субстанция этого мира уже не огонь, а свет: сверкает и искрится эфир, купается в лучах света, предстает перед нами, как некая сияющая атмосфера, в которой свободно повисли звезды. Время от времени мелькнет в необозримом пространстве, словно птица в воздухе или рыба в воде, комета, путь которой нельзя предугадать, ибо нет для нее законов, управляющих движением других звезд и планет. Звезды суть сгустившиеся частицы эфира, это живые существа с собственной душой. Движутся они с востока на запад, в направлении, обратном движению Земли. А между звездами и Землей движется пять планет. Солнце и Луну нельзя считать планетами. Планеты, как и звезды состоят из огня и света и так же, как они, имеют душу и разум. Направляются планеты волею божиею, и своим движением они сохраняют стройную гармонию всего мироздания. Сомнительно, чтобы планеты и звезды, представляющие собой гигантские тела, были созданы лишь на утеху людям. Безусловно им определено некое другое назначение, а какое, мы не знаем. Но все же можно предположить, что на планетах и звездах живут люди…
Так описал картину мироздания Есениус в своем сочинении о Зороастре. Тогда, когда еще создавалась его книга, он не сомневался в правильности своего представления о Вселенной, но сегодняшний разговор поколебал его уверенность. Ну, а если все же прав этот торунский астроном Коперник, которому так верит Кеплер? Доказательства. Доказательства. Но как их получить? Как прийти к новой истине? Путь один — усомниться в истине старой. Как это сказал Генекин, когда дискутировал о Джордано Бруно?[11] «У истины один критерий: это то, что в человеке самое ценное, самое божественное, — чистый разум. Кто ищет истину, идет святым путем сомнений, тот отбрасывает предрассудки а верит в победу чистого разума».
Кеплер уже вступил на этот путь; Браге находится на распутье. Новый путь манит и его, Есениуса, но он кажется ему еще неизведанным, опасным, ему не хочется сворачивать со старого пути, вот почему его терзают сомнения, мучит неопределенность. Может, подождать, когда кто-нибудь укажет ему этот путь?
«Доказательства! Доказательства!» — неистовствует разум, настолько скованный старыми представлениями, что никак не может от них освободиться.
Гипноз, бог сна, облегчил душевное бремя Есениуса и принес ему успокоение. Он погрузился в темноту, глубокую, как беззвездная ночь.
В КОРОЛЕВСКОЙ БАНЕ
Если бы Есениус был знаком с порядками, заведенными в доме Браге, он бы утром поспал дольше. Но он встал рано» оделся и спустился на кухню, где пани Кристина уже суетилась возле печи. Когда Есениус отворил дверь, она как раз обдумывала, какой суп приготовить к завтраку для дорогого гостя.
— Бог мой, магнифиценция![12] — воскликнула она. — Что это вы в такую рань? Что же не поспали как следует? Наши спят еще крепким сном. Угодно зам что-нибудь? Может, еще приляжете?
Есениуса тронула ее заботливость. Он ответил, что выспался и теперь ему все равно не заснуть,
Он присел у стола и завел разговор с хозяйкой.
— У вас, дани Кристина, наверное, хватает работы — легко ли готовить для стольких людей? — проговорил Есениус.
Пани Кристина рассмеялась. Сверкнули два ряда ее крепких белых зубов.
— Вот уж действительно не могу Похвастаться, что у меня бывает свободная минутка! С утра до вечера я как белка в колесе. Счастье, что есть у меня помощницы-дочери. Одна бы я со всем не управилась. Тихо хочет, чтобы я наняла прислугу, но это было бы просто смешно: три женщины в доме, а с хозяйством управиться не могут. Правда, дочери с радостью бы согласились иметь прислугу, но я на — это не пойду. Не хватало еще, чтобы я барыней стала!
Пани Кристина не походила на столичную даму. Репутация мужа и его видное положение при дворе ничуть не изменили ее привычек, усвоенных с детства, проведенного в деревне.
Есениус поинтересовался, бывает ли она при дворе.
— Что я, простая женщина, стала бы делать в этом Вавилоне? С меня хватит и того, что там Тихо. Ведь вы знаете по собственному опыту, что государева служба — тяжелая служба.
Доктора занимал разговор с пани Кристиной, но в это время вошел его шурин. Тот тоже изумился, застав в кухне Есениуса.
— Ты уже поднялся, Иоганн? А я думал, ты встанешь только к обеду.
Есениус решил использовать свободное время для работы.
— Мастерская у вас есть поблизости? — спросил он у Адама.
Адам, бледный, веснушчатый паренек, удивленно посмотрел на своего шурина:
— Есть. Позади дома, во дворе. Мы там чиним инструменты. Кое-какие изготовили даже заново. Тебе что-нибудь нужно?
— Да, — ответил Есениус и встал.
Он извинился перед пани Кристиной и пошел с Адамом во двор.
Когда они закрыли за собой двери мастерской, Есениус поделился с шурином своим планом.
— Я бы хотел сделать Браге новую накладку на нос. Получше теперешней. Мне потребуется кусок меди и кусок серебра.
— Медь-то здесь найдется, — заметил Адам и стал рыться в сундуке, где были сложены куски различных металлов, — а вот с серебром будет потруднее. Я должен попросить у мастера.
— Нужен еще воск.
— Это можно. Воску у нас хоть отбавляй.
Браге не мог не удивиться, когда нашел своего гостя вместе с Адамом Фельсом в мастерской, и развеселился как дитя, узнав, что они собрались мастерить. Браге принес кусочек серебра и не очень возражал, когда доктор запросил немного чистого золота.
Есениус снял форму с носа Браге и приступил к работе. Вокруг собралось много зрителей: сам Браге и все его помощники. Тюге помогал готовить сплав из меди и серебра, который, как предполагал Есениус, должен был по цвету напоминать человеческую кожу. Поэтому Браге пришлось тоже присутствовать. Вместе с Йоргеном он отливал металл в форму; Адам оказался отличным помощником при ковке и шлифовке накладки. Лишь Тенгнагель не принимал участия в общем деле и сокрушенно бубнил:
— И где это видано, чтобы кто-нибудь делал себе позолоченный нос?
— А зачем вам потребовалось золото? — спросил Браге, когда после изготовления накладки Есениус попросил Адама выковать тончайшую золотую пластинку.
— Мы позолотим края накладки, чтобы в кровь не попала медь или грязь.
Браге удовлетворенно усмехнулся, но явно собирался еще что-то выяснить.
— Гм! Гм!.. Все это прекрасно, но как вы думаете укрепить накладку? Или я снова должен буду прилеплять ее пластырем?
— Не бойтесь, я и об этом подумал, — успокоил его Есениус. — Мы надрежем кожицу вокруг носа и вставим в надрез позолоченные краешки накладки. Кожица зарастет, и накладка укрепится. Надеюсь, вы вынесете эту небольшую операцию? Только подумайте, когда можно будет ее произвести, ибо потом вам придется около недели ходить с забинтованным лицом и не показываться на людях.
Лицо Браге осветилось улыбкой.
— Самое лучшее проделать эту операцию сию же минуту. Но я прежде всего должен сообщить об этом императору и попросить его, чтобы на эту неделю он освободил меня от службы… Благодарю вас, друг мой, сердечно благодарю за такую заботу обо мне. Трудно даже представить, как я доволен…
Королевские бани, называемые также банями короля Вацлава IV, были в то время самыми популярными в Праге. Там собиралось избранное общество. В Праге насчитывалось восемнадцать общественных бань. И только уважаемые люди посещали бани на берегу Влтавы, близ Каменного моста. А гости и доныне рассказывали немало историй о веселом короле Вацлаве IV, ходившем сюда со своим палачом не столько мыться, сколько ради хорошего вина и веселого общества, которое здесь всегда можно было найти. Незабываемые посещения короля двести лет назад поставили эти бани в особое положение: сюда приходили лишь паны и богатые горожане. Простой народ чувствовал, что здесь ему делать нечего, и поэтому мылся в других банях, обычных и более дешевых.
Когда Есениус и Браге вошли в баню, их сразу же окутало облако горячего пара. В густом тумане торопливо сновали взад и вперед парни с ведрами. Они приносили холодную воду и выливали ее в котлы, расставленные в ряд. Есениус остановился в дверях, заинтересовавшись работой банщиков. Двое парней, раздетые донага, огромными железными клещами с деревянной ручкой вынимали из печей большие, добела раскаленные камни и бросали их в котлы. Вода в котлах шипела, как змея, а головы банщиков пропадали в облаке пара. Время от времени один из парней опускал руку в воду и пробовал, достаточно ли она горяча. Когда ему казалось, что вода готова, он кивком головы подзывал своего напарника, и они вместе вынимали камни из котла и клали на каменный пол, где камни сразу же высыхали. Потом закладывали камни обратно в печь. Между тем другие парни, на которых были лишь кожаные фартуки да башмаки на деревянной подошве, зачерпывали ведрами горячую воду и относили ее в громадное помещение, предназначенное для мытья, — оттуда слышались говор и смех.
— Однако здесь весело! — засмеялся Есениус, отводя взгляд от котельни.
— Магистр Бахачек уже пришел? — спросил Браге одного из банщиков.
— Совсем недавно, вместе с магистром Кеплером. Их кадушки в левом углу.
— Приготовьте там и для нас. Если можно, рядом с ними.
— Приготовлю все так, как ваша милость желает, — поспешил ответить банщик.
Он ждал от высокого гостя чаевых и старался мелкими услугами расположить его к себе.
Королевские бани отличались еще одной особенностью: если в других банях посетители мылись по двое в одной кадушке, то здесь у каждого была своя, а это было роскошью.
— Сюда, сюда! — раздался в этот момент громкий голос с другого конца бани, который тонул в белом тумане.
Есениус посмотрел в ту сторону. Там рядом с двумя кадушками, вокруг которых суетился банщик, стоял худощавый Кеплер и небольшого роста коренастый человек с круглой лысой головой.
— Ага, вот и наши, — промолвил Браге и направился к друзьям.
Есениус последовал за ним.
Тучный человек с интересом оглядел своими маленькими светлыми глазками вновь прибывших.
— Разрешите вас познакомить, — сказал Браге и представил друг другу обоих ученых. — Его магнифиценция доктор Есениус, профессор Бахачек.
Бахачек крепко пожал протянутую руку и дружелюбно проговорил:
— Сердечно приветствую вас! Я рад, что могу приветствовать вас от имени… — Он хотел было сказать «от имени академии» (так в то время называли университет), но вовремя спохватился. Приветствовать гостя от имени университета в одежде Адама было немного смешно, поэтому он закончил следующим образом: —…от имени муз, которые с приходом вашей магнифиценции, без сомнения, радуются так же, как я.
— Со своей стороны, я выражаю огромное удовольствие, — ответил поспешно Есениус. — Все, что я слышал от обоих ученых мужей, пана императорского астронома Браге и пана императорского математика Кеплера, является гарантией, что встреча с вами будет чрезвычайно полезна для меня.
— Да кончайте вы с этими церемониями, иначе у вас остынет вода! — прервал их Браге и тут же первым полез в кадушку.
Остальные последовали его примеру. Банщик поставил две кадушки рядом, а две другие — напротив, так что Есениус оказался рядом с Тихо Браге, а Бахачек — с Кеплером. Теперь они хорошо видели друг друга и могли спокойно разговаривать.
Вода была приятно теплой, но еще приятнее были заботы банщика: он докрасна натер каждого мочалкой, а потом как следует отхлестал всех по плечам и спине.
С Браге уже стекал струйками пот, но старый ученый лишь одобрительно кряхтел. Он страдал болезнью почек, и теплая вода действовала на него весьма благотворно: боль сразу исчезала. Когда банщик тер его и хлестал, он стонал и вздыхал, но при этом блаженно улыбался.
Покончив с этой процедурой, банщик ушел и через минуту вернулся, неся четыре короткие гладкие доски, которые положил на края кадушек.
— Что это? Зачем? — спросил Есениус, еще не знавший местных обычаев.
— Это столы, — объяснил ему Браге.
— А на столах появится то, что должно на них быть, — засмеялся Бахачек, уже успевший незаметно подмигнуть банщику.
Банщик незамедлительно принес кувшин отличного мельницкого вина и наполнил им четыре оловянных бокала.
Освежившись таким образом, ученые снова могли разговаривать о делах, которые их всех интересовали.
— Его магнифиценция намеревается обосноваться в Праге? — начал Бахачек, когда они выпили за встречу.
— К сожалению, о переезде в Прагу не может быть и речи. Во-первых, о такой возможности я до сих пор вообще не думал, а во-вторых, у меня обязательства перед Виттенбергским университетом и перед его милостью курфюрстом Саксонским. В Прагу я приехал по личному, скорее, по семейному делу и использовал эту возможность также и для встречи со своим дорогим другом Браге…
— …который мне о вас рассказывал еще задолго до вашего приезда, — прервал его Бахачек и при этом так резко наклонился в сторону Есениуса, что из его кадки полилась вода. — И именно потому, что я о вас уже все знаю, я так рад личному знакомству с вами. У меня есть предложение: не желаете ли вы стать профессором в нашей академии? На кафедре медицины у нас нет руководителя, с тех пор как женился профессор Залужанский.
— Ха-ха-ха! — засмеялся Браге, перекрывая шум, царивший в бане. — Вы как раз нашли то. чего хотели. Да ведь доктор Есениус женат.
— Жаль! — искренне вздохнул Бахачек.
Есениус знал причину разочарования Бахачека. Но для верности все же спросил, почему профессор сожалеет, что он женат.
— Ну. да потому, что в нашей академии действует старое правило — профессора не могут жениться. Потому-то не являются профессорами нашего университета и присутствующие здесь мои высокочтимые друзья Браге и Кеплер.
— Большой стыд для академии, что из-за такого древнего устава она не может принять людей, в которых заинтересована, — вставил Браге.
Бахачек растерянно пожал плечами:
— Мы неоднократно пытались изменить устав в этом смысле, но всякий раз безрезультатно. Большинство всегда голосовало против. И по сей день в Карловом университете продолжает действовать это правило.
— Превеликой жертвы требует преподавание в высшей школе от своих профессоров, — заметил Есениус. — У нас в Виттенберге уже давно отказались от таких устаревших взглядов.
— В Вене тоже, — подтвердил Кеплер.
— Я сам за отмену этого правила, но большинство профессоров боится, что отмена одного пункта устава повлечет отмену и других пунктов и сильно поколеблет авторитет высшей школы. Но, во всяком случае, я буду ходатайствовать, чтобы наша академия отменила данный закон.
— И мы после этого сразу же сделаемся вашими профессорами, — засмеялся Браге.
А Кеплер и Есениус с улыбкой ему поддакнули.
Когда снова появился банщик с ведрами теплой воды, Бахачек сказал ему:
— Мастер Прокоп, нет ли у вас чего-нибудь закусить? На голодный желудок плохо пьется. Нашему дорогому гостю доктору Есениусу, например, мельницкое вино вовсе не по вкусу.
Бахачек просто был не прочь еще выпить. А Есениус, чувствуя, что на пустой желудок крепкое мельницкое вино моментально ударило в голову, не торопился осушить свой бокал. Вот почему, когда магистр Бахачек заговорил о закуске, он охотно поддержал его предложение.
Банщик Прокоп не заставил их долго ждать и вскоре принес каждому по порции тонко нарезанного копченого мяса и по куску белого пшеничного хлеба.
Закуска всем понравилась, и, когда они запили мясо добрым глотком вина, чтобы оно «не застряло в горле», языки снова развязались.
— Послушайте, друг Бахачек, — начал Браге, — раз у нас гостит такой искусный хирург, как доктор Есениус, не могла бы ваша академия воспользоваться его присутствием и устроить как-нибудь публичное анатомирование?
Бахачек не был подготовлен к такому предложению. Да и Кеплер посмотрел удивленно сначала на Браге, а потом на Бахачека. Анатомирование в Праге! Никто из университета даже не помышлял об этом, ведь в Праге не было профессора, который отважился бы на такое ответственное дело. С тех пор как женился Залужанский и, следовательно, лишился должности профессора, медицинский факультет влачил жалкое существование. А о публичном анатомировании не мечтал даже Залужанский. Церковь разрешала анатомирование весьма редко. Да и большинство врачей отвергало вскрытие. Публичное вскрытие считалось богохульством. Лишь самые смелые врачи решались на подобное далеко не безопасное предприятие. Поэтому-то Бахачек так растерялся, не зная, что ответить на вопрос Браге.
— Мне кажется, это явилось бы большим событием, — сказал он, подумав. — Нужно поговорить об этом с ректором Быджовским и с членами ректорского совета.
— А вы бы согласились, магнифиценция?
Предложение Браге сперва удивило и Есениуса. Но удивило приятно. Он вспомнил о живом интересе, проявленном к его анатомическим вскрытиям в Виттенберге, вспомнил о большом числе знатных горожан, встречавших каждую его операцию бурными аплодисментами, и сердце у него учащенно забилось, когда он представил себе возможность произвести подобное вскрытие в столице империи, в резиденции императора. Поэтому он не очень отказывался.
— У меня нет с собой книг, так что придется читать лекцию по памяти, но это ничего не значит: ведь я уже столько раз анатомировал, что знаю все наизусть… А инструменты… их я, к счастью, захватил.
— Тогда договаривайтесь обо всем с ректором, — проговорил Браге, которому, видно, очень хотелось представить своего друга в самом выгодном свете, как крупного ученого.
— Правда, мне нужен какой-нибудь расторопный помощник, — добавил Есениус задумчиво.
— Доктор? — спросил Бахачек.
— Нет, подойдет цирюльник или банщик.
— Отлично. Вот, к примеру, мастер Прокоп, банщик, который прислуживает нам; он один из известных пражских фельдшеров. Прокоп произвел уже несколько удачных ампутаций ног и рук. У блаженного Симеона, говорят, он даже извлек камень из головы.
Есениус посмотрел на Бахачека с нескрываемым удивлением, даже чуточку с недоверием. Камень из головы — гм! — это все-таки немного странно.
Бахачек заметил недоверчивый взгляд Есениуса и поспешно добавил:
— Ведь я вам сказал — «говорят», извлек у Симеона камень из головы. Так, по крайней мере, говорит и сам мастер Прокоп. Но доктор Залужанский утверждает, что это была только опухоль, а не камень. Вероятно, он прав.
— По тому, как часто вы упоминаете имя доктора Залужанского, я заключаю, что это замечательный ученый. Могу я с ним познакомиться?
— Конечно, конечно, — поспешно ответил Бахачек. — И наверняка он очень обрадуется, если вы посетите его. Я сведу вас к доктору Залужанскому.
Когда мастер Прокоп появился снова, Бахачек сказал ему, что профессор Есениус, вероятно, произведет в Праге публичное вскрытие трупа, и спросил, хотел бы он помогать ему.
Мастер Прокоп вздрогнул от столь неожиданной новости. Помогать во время публичного анатомирования! Вскрывать труп! Это случай, который он не должен упустить.
— Я очень рад, очень рад. Пусть магнифиценция лишь известит меня, и я тотчас же приду. На меня можно полностью положиться.
В этот момент какой-то посетитель позвал мастера Прокопа.
— Вам с ним будет легче работать, чем с любым другим банщиком или цирюльником, — объяснил Бахачек: — мастер Прокоп знает немного и по-латыни.
Замечание Бахачека было очень важно. Ученые разговаривали между собой на языке людей образованных, то есть по-латыни. Из простого люда мало кто его знал. А поскольку Есениус был не так-то силен в чешском, он обрадовался предложению взять в качестве помощника человека, с которым можно объясниться по-латыни.
Ученые наконец вспомнили, что они слишком уж долго сидят в кадушках и что вода давно остыла.
— Попросим принести еще воды, потеплей? — спросил Бахачек у своих друзей.
Но на сегодня все уже достаточно накупались.
— Можно было бы посидеть в здешнем трактире, — предложил Бахачек, и остальные с ним согласились.
— Найдется ли там свободный стол? — спросил Кеплер.
— Мастер Прокоп отыщет нам местечко, — ответил Бахачек и напоследок еще раз ополоснул грудь и спину теплой водой.
Одевшись, они перешли в трактир. Народ тут был разный. Немало было и таких, кто не собирался купаться, а пришел лишь для того, чтобы выпить. Но были и такие, кто после бани не торопился домой. Свободных столов не было видно, но не успели приятели войти в помещение, как им кивнул в знак приветствия маленький седой старичок, сидевший в одиночестве за одним из столов.
— А вот и доктор Гайек! — воскликнул Браге.
И все направились к старичку.
Переезд Браге в Прагу целиком был заслугой Тадеаша Гайека из Гайека. Именно последний уговорил императора пригласить знаменитого датского астронома к своему двору.
— Какой счастливый случай вернул вас снова к нам? — спросил Бахачек, бывший с Гайеком в добрых приятельских отношениях. — Вы совсем выздоровели, или просто вас поднял с постели предвечерний майский воздух?
Есениус сразу же заметил на лице старого ученого следы тяжелой болезни. Но это не были следы перенесенного недуга, а недуга, продолжающего свое разрушительное действие. «Это больной человек, — подумал Есениус. — Почему же он не лежит дома?»
— У меня для вас новость, — сказал Гайек и огляделся, словно боясь, что его могут подслушать. — Я был сегодня в Граде и встретился с Октавианом Страдой. Он только что вернулся из Италии.
— Это управляющий императорскими художественными коллекциями, — пояснил Браге Есениусу.
— И, верно, он опять накупил на сотни тысяч разных произведений искусства для императорских собраний? — не без едкости вставил Кеплер. — И в канцелярии опять нечем будет платить нам жалованье.
Но Браге больше интересовали новости. Поэтому он нетерпеливо перебил:
— Так что же случилось со Страдой?
— Да со Страдой ничего, — Гайек понизил голос, — но он привез из Италии известие, что в Риме в конце февраля этого года сожгли Джордано Бруно.
Все как-то сжались, словно костлявая рука смерти прикоснулась и к ним. В глазах у присутствующих застыл ужас.
— Неужели правда?
— Возможно ли это?
Первый вопрос задал Браге, второй — Кеплер. Известие о сожжении Джордано Бруно относилось к ним непосредственно — ведь они были лично знакомы с ним.
— К сожалению, это правда, — ответил Гайек, и в его голосе, как и в голосе его друзей, слышалось волнение. — Страда видел своими глазами, как сожгли Бруно на площади Цветов.
— На площади Цветов, — повторил Есениус в наступившей тишине. — Он и сам был такой нежный и хрупкий, как цветок. Но в хрупком теле обитал могучий дух. И я его знал. Он читал лекции у нас в Виттенберге.
— Бруно останавливался и у нас в Праге, я с ним беседовал о звездах, — прошептал Бахачек и замолчал, мысленно представив себе это красивое бледное лицо с глубоко сидящими мечтательными глазами, взгляд которых постиг даже то, что еще не видело ни одно человеческое существо. В этой благородной голове родились идеи, вызвавшие смятение всего научного мира.
— «Вселенная бесконечна, и бесконечность мироздания является свидетельством всемогущества божьего. Для божьей доброты и могущества было бы недостойно сотворить лишь один-единственный мир, если бог может создать бесчисленные и бесконечные миры. Именно поэтому я утверждаю, что существует бесчисленное множество мировых систем, подобных нашей Земле. Землю я считаю такой же звездой, как Луну, как планеты и превеликое множество звезд, из которых каждая в отдельности имеет собственную систему. Это безграничное множество небесных тел в беспредельном пространстве образует бесконечную Вселенную, являющуюся бесконечной в двух направлениях: бесконечна ее величина, беспредельно и число мировых систем, из которых она состоит…» — так Кеплер, словно про себя, повторял смелые идеи Джордано Бруно о многообразии Вселенной.
Это был удивительный монолог, произнесенный в совсем не подходящем для этого месте — в бане, где среди самых будничных забот и развлечений остальных посетителей пять ученых мысленно проследили жизненный путь своего покойного друга, яркий и непродолжительный, как путь метеора.
Первым опомнился Браге. Взглянув на своих задумавшихся собеседников, он настойчиво спросил у Гайека:
— Но за что же его сожгли? В чем его обвинили?
Гайек пожал плечами:
— Ересь. Это вам что-нибудь говорит? Святой инквизиции этого было вполне достаточно для осуждения, хотя подобный аргумент никоим образом не объясняет вины осужденного. Если бы мы могли прочитать протоколы допросов…
— Пожалуй, мы тогда ужаснулись бы еще больше, чем сейчас, — тихо проговорил Кеплер.
После его слов снова воцарилось молчание. Но только на минуту.
— Что же считают в его учении ересью? — громко спросил Браге. — Разве учение о времени? Что время лишь нейтральная среда, в которой друг за другом текут события, как невесомые предметы в прозрачной жидкости, причем расстояние между этими предметами люди обычно называют часом, днем, годом, столетием? Но разве это ересь?
— Какой, собственно, ущерб можно нанести душе, если предположить, что времени в действительности не существует, что оно существует лишь в человеческом представлении, в сознании? — спросил Бахачек.
— Ну, уж если мы стали говорить о времени, как его представлял Джордано Бруно, так продолжим этот разговор дальше. Согласно учению Бруно, время как таковое не существует. Существует лишь вечность, основа и нечто бесконечное, что неотделимо от пространства и материи. От материи, которая постоянно изменяется, но никогда не исчезает и которая, собственно, тождественна пространству. — Кеплер понизил голос, словно находился среди заговорщиков, и спросил — Теперь вы понимаете, в чем вредность философии Джордано Бруно, где та граница между «безобидностью» и ересью? Человека потрясает смелость подобных рассуждений. Ведь Бруно утверждал, что материю нельзя уничтожить, что она вечна. Но, согласно христианскому вероучению, вечен лишь один бог… Думаю, что одного этого было достаточно, чтобы обвинить Джордано Бруно в ереси. А если к этому добавить его мысль о том, что наша Земля, да и вся наша солнечная система — лишь одна из многих подобных ей систем, и что другие небесные тела также населены живыми существами, то вы не станете удивляться, что святая инквизиция объявила его идеи ересью. Ведь даже при проявлении самой доброй воли эти идеи нельзя примирить со священным писанием.
— Смелые идеи родились в голове, которой уже нет, — промолвил Гайек и посмотрел на Кеплера, как бы адресуя ему эти слова. — Воистину смелые и небезопасные! Поэтому святые отцы и должны были его уничтожить. Ведь он им сказал это при вынесении приговора. Мне рассказал Страда, а он слышал от людей, которые там присутствовали. Он сказал им: «Вы произносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю».
— Удивительный человек! — со вздохом промолвил Кеплер.
— Он может служить для нас примером, — промолвил Бахачек и пытливо посмотрел на Гайека, как бы ожидая, что тот еще что-нибудь расскажет.
Гайек и в самом деле не все еще рассказал.
— Да, он может служить для нас примером и своей жизнью и своей смертью. А его предсмертные слова мы должны были бы превратить а свое кредо. Послушайте, что он сказал: «Грядущие века расскажут обо мне: он не знал страха перед смертью, характер его был твердым. Он сумел стать выше земных наслаждений, смело боролся не на жизнь, а на смерть, и каждое его сражение велось в интересах будущего».
Все молчали.
— Счастье, что мы живем не в Италии, — нарушив молчание, успокоительно заговорил Бахачек. — Пока мы находимся под защитой милостивого императора Рудольфа, нам не грозит подобная участь.
— Трудно рассчитывать на его величество, — рассудительно заметил Гайек. — Император болен, не сегодня-завтра он может предстать перед богом. А что потом? Кто будет его наследником? Его брат Матиаш? Возможно. Но кто даст гарантию, что новый император проявит тот же интерес к наукам и искусству, какой проявлял Рудольф?
Это было весьма своевременное и важное предостережение. Тихо Браге и Кеплер были эмигрантами. В результате преследований они покинули свои страны. Правда, они находились под защитой императорского рескрипта, но до каких пор? Что произойдет после смерти императора Рудольфа? До сих пор их не очень волновал этот вопрос, но сегодня он сразу же сделался важным и стал настойчиво сверлить мозг.
— Я только теперь понимаю, как предусмотрительно поступил Коперник, когда не захотел отпечатать рукопись своего труда «О движении небесных тел». Долгие годы он хранил ее, как драгоценный клад, о котором знали всего несколько посвященных. И только на склоне лет он дал себя уговорить и опубликовал это сочинение. Первый оттиск книги был его последней радостью в жизни. Он был получен в тот день, когда Коперник умер.
Голос Гайека задрожал. Зато раздался голос Кеплера, твердый, страстный, призывный:
— Но сколько горечи ему доставила эта последняя радость, когда он убедился, что на первых же страницах книги его учение излагается неправильно, представляется читателям лишь как гипотеза! Я имею в виду злосчастное предисловие Осиандера, в котором тот хотел преуменьшить значение идей Коперника. Только это ему не удалось и не удастся, ибо даже те люди, которые не согласились с представлением Коперника о строении мироздания, как, например, наш друг Браге, все же нашли для него слова величайшего уважения.
Все поняли, на что намекает Кеплер. Речь шла о торжественном стихотворении Тихо Браге, написанном им четырнадцать лет назад, когда вармийский каноник Ян Гановиус подарил ему параллактическую линейку Коперника, так называемый трикветрум, применяя который, торуньский астроном наблюдал пути небесных тел.
— Не прочитали бы вы нам свою оду, посвященную Копернику? — спросил Кеплер и оглядел присутствующих, желая получить их одобрение.
Все присоединились к его просьбе. В эти минуты высшего душевного напряжения они жаждали слов, соответствующих их чувствам: ода Браге была пронизана такой благородной силой, что, хотя ученые хорошо знали ее, их сердца открылись настежь перед ее освежающим дыханием.
Ода состояла из нескольких строф. Ее мог написать лишь человек с отзывчивой душой, который искренне уважал Коперника и понимал его величие. Это была торжественная ода, восхвалявшая польского астронома, но под впечатлением известия о казни на площади Цветов всем казалось, что только этой одой они могут почтить память многострадального мученика Джордано Бруно.
Уже давно Браге окончил чтение, но никому из его друзей не хотелось говорить. Они сидели молча, выпитое вино оставило на душе лишь одну горечь. Казалось, что запах костра, на котором был сожжен Джордано Бруно, донесся сюда с сырым, южным ветром.
Но бодрящие слова старого астронома наполнили сердца присутствующих мужеством и решительностью. Уныние на их лицах сменилось иным выражением, в котором как бы соединились любовь к жизни и готовность к борьбе.
Поэтому все с радостью приняли приглашение Браге посетить его дом, обсерваторию и посмотреть на звезды.
— Пойдемте, друзья, это наш настоящий мир, — подкупающе мягко сказал Браге и обнял, как собственного сына, своего преданного ученика Кеплера.
В этот момент Есениус внимательно посмотрел на Кеплера, и сразу же в его сознании возник образ Джордано Бруно. Будто блеснула какая-то вспышка, неожиданно осветившая оба лица, и Есениусу показалось, что они чем-то удивительно похожи друг на друга. Конечно, не внешними чертами, а душевным благородством и общностью просветленного духа. «Что за судьба ждет этого темноволосого исследователя небесных тайн, который так предан своему старому другу?» — подумал доктор Есениус.
АНАТОМИЧЕСКИЙ СЕАНС В ПРАГЕ
Небольшие группы просителей и дворян в приемной императорского дворца расступились перед архиепископом Беркой из Дубы, который, полный достоинства, продвигался вперед, с улыбкой отвечая на приветствия.
О нем уже доложили, и император дал согласие принять его, поэтому он держался так уверенно.
Для чего он идет к его императорскому величеству? Может быть, опять с какой-нибудь жалобой?
Самому императору было любопытно, чего хочет от него архиепископ. Доктор Писториус, лекарь и духовник в одном лице, уже третий раз обращался к императору с настоятельной просьбой его высокопреосвященства об аудиенций. Доктор Писториус не знал, в чем дело. Он только повторял слова архиепископа: речь-де идет о сугубо важном деле.
Архиепископ сидит против императора около его рабочего стола и учтиво справляется о здоровье его величества. Он заверяет монарха, что ежедневно поминает его в своих молитвах, и в том, что его императорское величество пребывает в добром здравии, он видит благоприятное знамение небес, которые весьма благосклонны к великому защитнику святой церкви.
Император рассеянно слушает вежливое предисловие архиепископа и размышляет при этом, зачем же, собственно, пришел Берка из Дубы. Ведь не для того, чтобы справиться о его здоровье. Об этом он легко мог бы узнать от Писториуса, камергеров и других придворных, состоящих в императорской свите.
Архиепископ чувствует, что не может долго обходить главный предмет разговора с императором, и с помощью ловких ораторских приемов приближается к цели.
— Я пользуюсь счастливым случаем, что нахожусь перед вашим императорским величеством, для того чтобы просить о заступничестве в деле, которое в значительной степени касается интересов святой церкви. Ересь всюду показывает свои рога…
Лицо императора выразило отвращение. Опять эти проклятые религиозные споры! При каждой уступке католикам, при каждом слове в их защиту протестанты сразу же начинают возмущаться. С лютеранами еще можно сговориться, но уж эти чешские братья[13] — ох, если бы не было эдикта о религиозной свободе 1575 года, изданного его вечной памяти отцом Максимилианом II, он бы и с ними все уладил. Ну, а теперь? У него связаны руки. Архиепископ знает это — чего же он опять требует?
— Только от вас зависит подпилить немного эти рога, — слабо усмехнулся император.
— К сожалению, не всегда это зависит от нас, — со вздохом ответил архиепископ и с упреком взглянул на императора. — Некоторые еретики оттого так и выставили свои рога, что у них есть доброжелатели в высших кругах и даже на ступенях трона.
— О чем вы говорите? — нетерпеливо спросил император.
Оборот, который принял разговор, ему явно не понравился.
— Об этом профессоре из Виттенберга, которого представил вашему императорскому величеству придворный астроном Браге.
Взгляд императора сделался строгим. Он был весьма чувствителен к своему монаршему престижу и не переносил, когда кто-нибудь хотел его ущемить.
— Вы, может быть, пришли упрекать нас в том, что мы приняли его?
Его голос, хотя и приглушенный, звучал угрожающе.
Архиепископ поспешил объяснить императору, что он ошибается.
— Разве я посмел бы посягать на ваши августейшие права или печься о деле, чуждом прямой обязанности пастыря? Я пришел просить ваше величество не позволять этому доктору публично бесчестить мертвое тело в нашем прекрасном городе, населенном богобоязненными христианами.
— Выражайтесь яснее, ваше преосвященство. Какое бесчестие мертвецов имеете вы в виду?
Император знал, что Есениус просил университет позволить ему провести в Праге публичное вскрытие и что университет затребовал для этой цели у магистра тело какого-нибудь казненного преступника. Но перед архиепископом он сделал вид, что ни о чем не знает. Возможно, таким образом ему удастся отдалить решение или же свалить его на кого-нибудь другого.
— Этот профессор Есениус желает публично произвести трупосеченне. Я считаю вскрытие кощунством и покорнейше прошу ваше величество запретить его.
Гнев императора постепенно улетучивался. С некоторым злорадством он сказал:
— Публичное трупосечение? Это может быть весьма занимательное представление…
Берка из Дубы прикусил язык. Его величество император иногда поступает с католическим духовенством хуже лютеранина. Вот. например, недавно он едва не выгнал из Праги всех братьев капуцинов. И все это только потому, что его датский звездочет Браге пожаловался, что колокола их собора мешают его работе в ночные часы. Сколько труда стоило епископу уговорить императора отказаться от этого намерения я заменить суровое решение запрещением колокольного звона по ночам! Правда, император потом обычно стремится исправить подобные выходки и некоторое время выказывает рвение в вере и в борьбе против ложной и заблудшей протестантской религии, но что из этого, если никто не знает, как соблаговолит поступить в данный момент Рудольф?
Однако Берка из Дубы не считал еще бой проигранным. Если только проявить большее упорство и настойчивость…
— Именно этого желает и доктор Есениус — из публичного анатомического вскрытия сделать театр! — воскликнул архиепископ, возможно, слишком громко. Он сразу это заметил и, опасаясь еще больше восстановить против себя императора, понизил голос — Осмелюсь высказать свое скромное мнение, что тело человека, хотя и мертвое, пусть даже тело преступника, если преступник перед смертью причастился святых таинств, не должно быть предано поруганию, ибо приняв причастие, преступник свою вину искупил. После смерти он заслужил покой!
— Это ваше личное мнение или вы говорите от имени святой церкви? — Эти слова император произнес почти шепотом, но в его глазах светился злой огонек.
— Мое мнение находится в полном согласии с мнением всех верховных церковнослужителей, кроме того — я могу смело сказать это, — и с мнением высокопоставленных лиц, которым вы, государь, доверили управление этим королевством.
— Не знаю, известно ли вашему высокопреосвященству, как поступил в подобном же случае блаженной памяти император Карл Пятый. Когда доктора попросили у него разрешения произвести вскрытие, он обратился к богословским факультетам главнейших европейских университетов, чтобы они сказали ему, считают ли вскрытие человеческого тела допустимым. Большинство ответов гласило, что против вскрытия можно не возражать, если оно производится в интересах научного познания.
Архиепископ ухватился за эти слова императора, как за последнюю соломинку.
— Совершенно верно, если речь идет о научном познании. Только в этом случае у доктора Есениуса таковое намерение отсутствует. Для него это лишь зрелище, могущее принести ему славу. Он хочет привлечь к себе внимание.
Император не переставал улыбаться. Улыбку эту, впрочем, едва можно было различить. Зато взгляд его был гораздо выразительнее. Нет, его не уговорят запретить столь занимательное зрелище.
— Мне неведомы истинные намерения виттенбергского профессора, но невозможно исключить из них стремление расширить круг научных познаний. Разве можно предполагать, чтобы хирург вскрывал мертвое тело только для забавы? А если бы для него это и было только забавой, нашим докторам сие послужит наукой. Наконец, вскрытие трупа казненного преступника не столь важное событие, чтобы решение о нем принимал император. Мы не видим в этом ничего предосудительного. Разъяснения, посланные университетами императору Карлу Пятому, мы можем рассматривать как достаточные и для нас… А теперь пусть и ваше преосвященство расскажет нам о своем здоровье…
Архиепископу не повезло у императора. Он скрыл свое разочарование в учтивом поклоне и направился к верховному канцлеру Лобковицу.
Прошение виттенбергского профессора осталось без ответа. К кому бы ни обращался ректор Быджовский, все умывали руки: «Что касается меня, боже сохрани, я ни в коей мере не против вскрытия. Но окончательное решение зависит не от меня…»
Время шло в праздном ожидании, которое мало-помалу начинало обескураживать Есениуса.
— В чем же, наконец, задержка? — так рассуждал он вслух в тот вечер, когда встретился у Браге с Тадеашем Гайеком из Гайека.
Доктор не мог понять скрытые причины задержки дела, которое сам император решил положительно.
Старый протомедикус усмехнулся в усы и произнес многозначительно:
— Вы не знаете взаимоотношений при императорском дворе. — И продолжал доброжелательно — Постараемся в этой паутине противоречащих друг другу интересов найти нить, которая могла бы привести нас к цели.
Есениус удивленно поднял брови. Ему и в голову не приходило, что дело, которое в Виттенберге считается находящимся в компетенции университета, в Праге вызвало столько интриг и вовлекло в свою орбиту столь значительных особ.
Браге стукнул кулаком по столу и воскликнул:
— К черту! Кто же решает в этой стране — император или его придворные?
В умных глазах старого Гайека появилась плутовская искорка.
— Многие были бы благодарны вам, если бы вы ответили на этот вопрос. В конце концов, решающее слово принадлежит императору. К сожалению, часто это всего лишь формальность. Император подписывает только то, что нашепчут ему его советники. А здесь-то и зарыта собака. Кто эти советники?
Гайек помолчал и посмотрел на Браге, как будто говоря: «Ты полагаешь, что тебе известны тайны императорского двора, — отвечай, в таком случае».
Но Браге не спешил с ответом. Каковы бы ни были его познания закулисной политики императорского двора, их достало лишь на то, чтобы понять всю сложность ответа на вопрос Гайека. И Гайек ответил сам:
— Естественно, было бы глупо думать, что его императорское величество слушает только тайных советников. В этом случае не нужно было бы так долго ломать себе голову по любому поводу. Думаю, что и вам, мой друг, известно, какое влияние оказывают на императора его министры Румпф и Траутссон…
— И камергеры Маковский и Ланг, — добавил Браге.
— И придворный астролог Тихо Браге, — поддразнивая, продолжал Гайек.
Тихо Браге повял его шутку.
— Влияние придворного астронома в общественных и политических делах явно недостаточно, — ответил он, нарочно подчеркивая слово «астроном», которым заменил название «астролог», данное ему Гайеком.
— Но неявно оно достаточно, — ответил с торжеством Гайек. — И то же можно сказать об остальных советниках, будь это канцлер, личный врач или шталмейстер, будь это Катарина Страдова или укротительница императорских львов Пылманова. За каким императорским указом стоит один из этих господ, можно ли это узнать?
Есениус, который угрюмо слушал его слова, негромко отозвался:
— Вы, следовательно, считаете, что кто-либо из упомянутых вами лиц заинтересован в провале вскрытия? Я полагаю, что только архиепископ.
Гайек погладил седую бороду и стал пристально смотреть в окно, как будто отыскивал невидимого врага в этом огромном человеческом муравейнике.
— Возможно, речь идет и не о вскрытии как таковом, а просто тут приплелась одна из дворцовых интриг, невольным виновником которой являетесь вы. Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но чем больше размышляю я об этом деле, тем больше мне кажется, что здесь видна рука канцлера Лобковица.
— Не могу поверить, — недоверчиво ответил Есениус. — Ведь мы учились вместе с ним в Падуанском университете. Я даже написал оду в его честь. Откуда же у вас подобные подозрения?
Лицо Гайека стало серьезным. Он медленно продолжал:
— Я думаю, вы допустили большую тактическую ошибку сразу же, как только прибыли в Прагу. Вы должны были засвидетельствовать свое почтение не только его императорскому величеству, но и канцлеру. Лобковиц очень тщеславен, и то, что другие почтут не заслуживающим внимания, он расценит как преднамеренность и немедленно сделает далеко идущие выводы.
Есениус не мог скрыть удивления. Слова Гайека не сразу убедили доктора, но вселили в него беспокойство. Упрек протомедикуса он бы счел справедливым, если бы…
— Я прибыл в Прагу не как посол, а как частное лицо…
— Но были на аудиенции во дворце, и этого достаточно, — возразил Гайек: — Не будь этого, ваш визит в Прагу действительно был бы частным делом. Теперь другое. Вам надлежало почтить и его милость канцлера.
— Если наш друг Есениус и не исполнил этой формальности, это прежде всего моя вина, — с неудовольствием отозвался Браге. — Я советовал ему не ходить к подмастерью, когда можно пойти к мастеру. И я добился для него императорского приема.
— Вы поступили хорошо, но о канцлере не стоило забывать. Однако все это еще поправимо. — Гайек обернулся к Есениусу, многозначительно поднял палец и сказал: — Советую вам пойти к Лобковицу. Есть и предлог: попросите его содействия в вашем деле со вскрытием. При этом не забудьте польстить ему: ведь потакать слабостям великих людей — основа дипломатии. И вы увидите, что дело тотчас примет другой оборот.
Есениус счел совет Гайека разумным и на другой же день снова отправился в Град, — но на этот раз в то крыло дворца, где помещалась чешская канцелярия. Ему достаточно было получаса, чтобы узнать, каким образом допускаются к канцлеру просители, потому что приемная Лобковица была столь же переполнена, как и приемная императора. Вскоре из канцелярии вышел секретарь и записал имена новых посетителей. Канцлер сам решал, в каком порядке он будет их принимать. Знатные господа ожидали недолго — пока очередной посетитель не покинет канцелярии. Тогда выходил секретарь и с глубоким поклоном вводил гостя к канцлеру. Особы пониже рангом, из рыцарей и средних дворян, должны были ждать подольше, а горожане — пока господа не уладят свои дела. Духовенство канцлер принимал в зависимости от звания: епископов и прелатов — вместе с самыми знатными дворянами, низшее духовенство — с просителями из военного сословия. Когда господ являлось много, горожане целый день ожидали напрасно и на другой день приходили снова.
«Интересно, сильно ли изменился он за те девять лет, что Мы не виделись?» — размышлял Есениус о Лобковице, сидя на обитой ковром скамье в приемной и терпеливо ожидая, когда подойдет его очередь.
И вот его позвали.
— Добро пожаловать, магнифиценция, — радушно приветствовал его Лобковиц, сделав несколько шагов навстречу доктору. — Я искренне рад вашему драгоценному визиту. Извините, что вам пришлось так долго ждать, но важные государственные дела.
Он предложил Есениусу стул и сам уселся напротив.
Есениус с первых же слов канцлера почувствовал, каково теперь общественное положение каждого из них. Он понял и смысл кажущейся сердечности, с какой приветствовал его Лобковиц. Они были в рабочем кабинете канцлера одни, и все же канцлер назвал его магнифиценция и обратился к нему на «вы». Таким образом. Лобковиц дал понять, что между прошедшим к настоящим — непреодолимая преграда. Студенческое товарищество, которое при совместной жизни во время учения и при одинаковых интересах беззаботной юности создает у молодых людей, по крайней мере, кажущееся равенство, — это было невозвратное прошлое. Отношение Лобковица к бывшему однокашнику изменило не столько время, сколько головокружительный успех, вознесший его на наивысшую ступень общественной лестницы.
Есениус понял и другой намек — канцлер упомянул о своей большой занятости важными государственными делами. «Ты не должен бояться, что я отниму у тебя много драгоценного времени. я тотчас же уйду, дай только сказать, зачем я пришел», — так подумал он про себя, вслух же сказал:
— Я благодарен случаю, который привел меня в прекрасную Прагу и дал мне возможность выразить мое почтение и преданность вашей милости.
Цветистое приветствие Есениуса не преминуло дать плоды. Лобковиц ответил признательной улыбкой. Однако при этом он пытливо взглянул на Есениуса, как будто хотел убедиться в искренности его слов. Такие слова могут скрывать и насмешку. Но Есениус на службе при курфюрстских дворах научился придворному этикету не только в речи — он постиг и мимику.
— Мне чрезвычайно приятно, что вы, пребывая в Праге, вспомнили и обо мне, — ответил канцлер. — Жизнь разбросала по разным углам Европы наше падуанское товарищество, а как отрадно изредка встретиться хотя бы с одним из прежних друзей!
Когда канцлер признал, таким образом, их общее прошлое, Есениус поклонился. Слова Лобковица означали не более того, что он слегка поднял забрало своей неприступности. Канцлер был осторожен. Он уже знал, по какому делу прибыл Есениус в Прагу, был осведомлен и о намерении университета устроить публичное вскрытие. Оба дела — спор о наследстве и прошение о вскрытии — застряли среди бумаг его канцелярии. Разумеется, Есениус явился не за тем, чтобы отдать ему визит вежливости, — ясно, что пришел он по какому-нибудь из этих двух дел. Поэтому Лобковиц не торопился выказать гостю свою дружбу. Пусть просит. Канцлер наслаждался встречей, потому что в Падуе при их довольно близком знакомстве он никогда не мог простить Есениусу его гордости. Мелкопоместный дворянчик — и при этом все время выставлял свое рыцарство. Подумаешь — венгерский рыцарь! Он воображал себя равным ему, Лобковицу. И Лобковиц не мог с этим примириться. Еще тогда, в студенческие годы, он видел довольно существенную разницу между этими званиями — рыцарь и потомок одного из первых дворянских родов в Чехии — и нынешнее посещение доктора рассматривал как удовлетворение своего давно уже раненного тщеславия. Если бы канцлер спросил Есениуса, что привело его в Прагу, то, конечно, облегчил бы его положение; но нет, он не сделает этого. И он намеренно предложил вопрос, который должен был еще дальше увести разговор от предмета, интересующего Есениуса.
— Видитесь ли, магнифиценция, с кем-нибудь из наших бывших сотоварищей? Есть ли у вас какие-нибудь сведения о наших падуанских профессорах? Когда управляющий художественных коллекций его императорского величества отправляется в Италию, я всегда настаиваю, чтобы он останавливался в Падуе…
— В таком случае, ваша милость располагает не меньшими сведениями, чем я, — вежливо ответил Есениус. — Я узнаю кое-что о Падуе только тогда, когда из тамошнего университета в Виттенберг возвращается какой-нибудь студент. В Италии я не был с тех самых пор, как завершил учение.
— Конечно, работа в университете утомляет вас…
«Отчего он не спрашивает, зачем я к нему пришел? Играет мною, точно сытый кот своей добычей», — думал про себя Есениус, и его раздражение росло с каждой минутой. Он не требует от Лобковица никаких милостей. Ведь о наследстве он решил не упоминать. Но другое дело анатомическое вскрытие — тут нет никакой личной заинтересованности, речь идет об интересе университета. Следовательно, опрометчивость может повредить.
Солнце проникало в комнату сквозь большие трехстворчатые окна, заливая все золотым сиянием. Пересеченный узором переплета оловянной рамы квадрат света падал прямо на большой гобелен, занимающий всю стену. Это было драгоценное творение парижской гобеленной мануфактуры. Даже не верилось, что все это не написано кистью художника, а выткано из тончайших цветных нитей.
Есениус невольно припомнил кабинет императора. Ничего похожего! Там, казалось, царит вечный полумрак, тут все залито светом, во всем кипучая жизнь.
Да и одежда канцлера отличалась элегантностью. Желтый камзол с дорогими брюссельскими кружевами на груди и у запястий был украшен белоснежными плоеными брыжами, окружавшими голову, как широкие листья — цветок водяной лилии. Отлично отшлифованные топазы в золотой оправе служили камзолу пуговицами. Коричневого бархата панталоны в многочисленных сборах, расшитые полосами белого шелка, доходили до половины бедер. Ноги Лобковица, сильные и мускулистые, были обтянуты белыми чулками. Пряжки желтых сафьяновых туфель были осыпаны драгоценными камнями.
Заправский щеголь! Такое впечатление дополнялось красивым лицом, лисье выражение которого Лобковиц старался скрыть за напускным радушием.
Есениус решился.
— Я пришел к вашей милости с небольшой просьбой. — Проговорив это, он было пожалел, что выразился таким образом; он хотел сказать «с большой просьбой». Но сдерживаемое раздражение и возрастающее упрямство заставили его произнести слово, противоположное по смыслу тому, которое диктовала его дипломатическая предусмотрительность. Будь что будет. Пусть «небольшая просьба». Он миновал это препятствие и спокойно продолжал: — Здешняя высшая школа попросила меня провести в Праге публичное вскрытие. Я был бы рад исполнить желание университета и прошу вашу милость благосклонно помочь мне…
Лицо Лобковица выразило притворное удивление.
— Этот вопрос относится к компетенции бургомистра и членов муниципального совета. Само собой разумеется, что я могу только приветствовать подобное начинание Пражского университета. Похвально, что и к нам стали проникать свежие научные течения.
При этих словах канцлера Есениус снова поклонился в знак благодарности. Однако он не хотел уходить, удовольствовавшись пустыми обещаниями. Он хорошо знал, что бургомистр никогда не осмелится принять решение по такому чрезвычайному вопросу. И напрасно Лобковиц делает вид, будто не имеет к этому никакого отношения.
— Я уже слышал, что это дело подведомственно магистрату, — вежливо ответил Есениус, но не сумел отказать себе в насмешке, которую Лобковиц мог почувствовать в его словах. — Но так как речь идет о первом таком случае, возможно, бургомистр и советники магистрата не захотят решать вопрос сами, и, по-видимому, они обратятся к вашей милости. Если такое случится, я убежден, что ваша милость будет отстаивать взгляды, привитые нам в Падуе нашим великим учителем, профессором Аквапенденте, — взгляды, состоящие в том, что для развития медицинской науки самое важное — обстоятельно изучить строение человеческого тела. А это возможно лишь при анатомировании.
Он больше не просил. Он говорил очень вежливо, но уверенно, настойчиво, как будто хотел напомнить канцлеру те времена, когда они мечтали об одном и том же.
Лобковиц кивнул, но на его лице появилось неудовольствие. Такое энергичное напоминание о Падуе было ему не по вкусу, Он немедленно дал это почувствовать.
— Согласен с вами, магнифиценция, только позвольте вам напомнить, что не все теории можно безусловно применять на практике. Конечно, это не относится к высказыванию профессора Аквапенденте. Но уж если вы вспомнили одного из наших бывших профессоров, позвольте мне вспомнить другого. Профессора Чиконьяни. Вы не забыли его?
— Как же! Он комментировал Аристотеля.
— Совершенно верно. У меня засело в памяти его высказывание из комментариев к Аристотелевой «Зоологии». Он объяснял нам тогда книгу «Назначение животных»…
— Я помню, — сказал Есениус, поймав испытующий взгляд Лобковица.
— Профессор Чиконьяни говорил о том виде животных, которые имеют аккомодационную способность, способность приспосабливаться к окружающей среде, и в зависимости от нее меняют свой цвет. Профессор Чиконьяни упомянул, что этой особенностью обладают и люди, потому что в общественной жизни это небесполезно.
— Насколько я помню, профессор Чиконьяни говорил это в ироническом смысле, — сухо возразил Есениус, и уголки его губ дрогнули.
Словесная дуэль с канцлером начинала его занимать.
Канцлер заметил это и разозлился окончательно. Но он умел так владеть собой, что голос его не изменился.
— Несущественно, что имел в виду профессор Чиконьяни; внимания достойно то, что в его высказывании кроется житейская мудрость, и разумный, предусмотрительный человек должен сделать отсюда соответствующие выводы.
Есениус не понимал, куда клонит Лобковиц. Возможно, что это косвенный намек на то, что ему самому следует отказаться от публичного сеанса в Праге, так как против этого настроены влиятельные персоны. Но. если Лобковиц это имеет в виду, зачем петлять? Чтобы не сочли его отсталым и необразованным?
— Не знаю, как я должен понимать слова вашей милости в связи с подготовляемым публичным вскрытием…
— Нет, нет, — быстро возразил канцлер, — я думал только, не желаете ли вы изменить сферу деятельности, не собираетесь ли поселиться у нас в Праге. Двор его императорского величества всегда благосклонен к наукам и искусствам…
Что это, предложение или только осторожное прощупывание почвы? В любом случае весь разговор напоминает игру в жмурки.
— Я не думал о такой возможности, ваша милость. В Виттенберге я живу спокойно.
— Понимаю вас… Мне это только так пришло в голову… после вашего представления императору. Если вы действительно не можете покинуть Виттенберг, об этом не стоит и говорить. Но, если бы вы все же решили изменить свое решение — человек никогда не знает, что ждет его… — словом, если бы вы когда-нибудь решились поселиться в Праге, было бы небесполезно вам припомнить слова профессора Чиконьяни и основательно их обдумать. Дело в том, что существует разница между Падуанским университетом или францисканским монастырем в Падуе и императорским двором. Там наши мечты устремлялись в безоблачные сферы философии, тогда как тут мы попадаем в сферу политики. И она не безоблачна. Особенно для теоретиков. Тут нет злого умысла, магнифиценция, считайте это дружеским советом… Долго вы намерены пробыть в Праге?
— Это зависит от того, когда состоится вскрытие. В любом случае я хотел бы отбыть еще в конце лета, чтобы в начале будущего семестра быть дома.
— Вы всегда будете желанным гостем в Праге, и я весьма надеюсь, что если вы поразмыслите о нашей беседе, то мы с вами окажемся по одну сторону границы. Да поможет вам бог!
Есениус покидал канцелярию, полный глубокого раздумья. Хотя Лобковиц простился с ним сердечнее, чем встретился, доктор чувствовал в этой сердечности что-то немало его беспокоящее. Помимо намека, что его рады были бы видеть при императорском дворе, в речах канцлера крылась и очевидная угроза: решай, с нами ты или против нас. И служба при императорском дворе — если бы ему пришлось служить здесь — была бы сопряжена для него с немалыми трудностями. Как это говорил профессор Чиконьяни? «И люди обладают свойством приспосабливаться к окружающей среде…»
— Лучше всего мне оставаться в Виттенберге, — сказал себе Есениус.
Вскоре после этого прошение об анатомическом сеансе попало из чешской канцелярии к бургомистру Старого Места.
Господа советники в ратуше Старого Места были вне себя от страха, когда впервые ознакомились с прошением высшей школы о выдаче тела какого-нибудь преступника для анатомирования, которое должен совершить профессор Виттенбергикус, доктор Иоганн Есениус де Магна Есен. И первой мыслью всех господ советников была мысль, что таковое прошение высшей школы должно быть рассмотрено как безбожное и кощунственное. Тела умерших принадлежат матери земле. И живые должны всегда помнить: «Прах еси и в прах обратишься». Это распространяется и на тела преступников.
Ректору Быджовскому пришлось ходатайствовать лично, объяснять бургомистру и господам советникам, что магистр Есениус производил подобные анатомические публичные сеансы в Виттенберге и тем самым снискал городу великую славу, которой завидовали потом все немецкие города. Тогда господа из ратуши смягчились и выразили готовность рассмотреть прошение университета. Они спросили мнение знаменитого пражского доктора Матея Борбониуса, который пять лет назад был свидетелем подобного публичного вскрытия в Базеле. Производил его профессор тамошнего университета доктор Баугинус. Борбониус рассказывал об этом публичном вскрытии как о наиболее яркой и впечатляющей картине, виденной им во время путешествия в Швейцарию. Так же отозвался о нем и господин Ян из Вартенберга, которого Борбониус сопровождал в этом путешествии.
Наконец бургомистр и господа советники все же дали убедить себя, тем более что ректор заверил их, что самые значительные лица высказались положительно по этому вопросу и что в качестве зрителей на анатомировании будут присутствовать благороднейшие господа. Разумеется, пригласят и его императорское величество. Но так как император с самого своего возвращения из Пльзня, куда он уезжал спасаться от «мора», то есть от чумы, свирепствовавшей в Праге, показывался на людях очень редко, маловероятно, чтобы он присутствовал на вскрытии. Хотя вполне возможно, что такое событие заинтересует его.
Посоветовавшись с советниками, бургомистр обещал, что ближайший смертный приговор не будет тотчас приведен в исполнение, но отложен до того времени, пока все будет готово для публичного вскрытия.
Есениус составил текст приглашения на латинском языке. Ректор Быджовский от имени университета приказал его отпечатать и разослать всем значительным персонам Праги. В приглашении были и такие слова: «Некоторые философы древнего мира (Левкипп, Демокрит, Эпикур) утверждают, что человек состоит только из телесной субстанции; Платон и стоики утверждают, что для человека характерна только душа, а тело является всего лишь машиной для нее, как корабль для мореплавателя. Аристотель занимает серединную позицию: человек слагается из души и тела. Апостолы видят в душе небесное творение, которое несет бремя телесной оболочки как нечто враждебное ей. Тело — не дом, но постоялый двор для души, которая управляет всеми органами. Функцию органов, их названия, величину, субстанцию и структуру объяснит доктор Иоганн Есениус де Магна Есен на публичном анатомировании, которое имеет быть 7 июня года 1600 от Р. X.».
В Град, к председателю тайного совета, к канцлеру и к остальным высшим сановникам, ректор явился с приглашением собственной персоной.
Итак, вечером 6 июня 1600 года в Речковой коллегии все было готово к сеансу.
Недоставало лишь тела преступника, повешенного в тот же день, которое подручные палача должны были доставить только на следующее утро.
В доме Браге вечером царило оживление. Общее возбуждение постепенно передалось и врачу. Странно, на его счету было уже несколько десятков вскрытий, и, однако, сейчас он волновался больше, чем перед первым. Все ли будет готово к утру? Придет ли вовремя мастер Прокоп? Можно ли на него положиться? Знает ли он латынь настолько, чтобы доктор мог с ним разговаривать? Что, если нет? Где в последнюю минуту искать другого помощника? Правда, мастер Прокоп прислал сына сказать, что вечером придет обо всем договориться. Отчего же он не идет? Скоро совсем стемнеет.
Наконец зазвенел железный дверной молоток и послышались шаги. «Наверное, мастер Прокоп», — подумал Есениус и облегченно вздохнул.
Но это был не мастер Прокоп, а профессор Бахачек с каким-то гостем.
— Я привел вам коллегу, которым вы интересуетесь со дня вашего приезда, — произнес Бахачек и широко улыбнулся, видя удивление виттенбергского хирурга. — Вы не догадываетесь, кто это? Доктор Залужанский.
Удивление на лице хирурга сменила радость. Доктор Залужанский — самый прославленный пражский хирург!
Они сердечно пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.
— Не прогневайтесь, что я явился к вам в столь поздний час, — оправдывался пражский доктор, придвигая стул ближе к Есениусу и с дружеским интересом разглядывая коллегу-чужестранца. — Мне не давала покоя мысль, не могу ли я завтра быть вам чем-нибудь полезен, и я решил прийти и спросить вас об этом. Поэтому я попросил профессора Бахачека привести меня к вам.
— Что он весьма охотно сделал, — улыбнулся Бахачек.
— Я должен извиниться, что до сих пор не нашел минуты посетить вас, — сказал Есениус. — Профессор Бахачек свидетель, что я очень этого желал, но, поверьте, мне не удавалось. Пока получено было разрешение на вскрытие, пришлось столько потрудиться.
— Вам непонятны причины? Естественно. У вас это намного легче. Будем надеяться, что и у нас положение изменится, стоит вам только сломать лед.
— Я удивлен, что именно в Праге столкнулся с такими препятствиями.
— Если бы вы знали, в каком состоянии находится наша высшая школа, то не удивлялись бы. Коллега Бахачек мог бы рассказать вам больше об этом.
При упоминании об университете Бахачек нахмурился. Ему не хотелось в присутствии дорогого гостя говорить плохо о своем университете.
— Мне, как члену профессорского совета, не подобает говорить о нашей alma mater вещи, которые не послужат ей на пользу. Но всякому известно, что, с тех пор как профессор Залужанский ушел из академии, медицинский факультет погрузился в спячку. Можно сказать, его у нас совсем не стало.
— Вероятно, поэтому здесь и не производятся вскрытия…
Бахачек утвердительно закивал головой:
— Вот почему мы так обрадовались вашему приезду.
— Я был бы весьма счастлив, если бы вы разрешили мне ассистировать вам завтра, — вызвался Залужанский. — Я слышал, что цирюльник у вас уже есть.
— Не столько цирюльник, сколько банщик, — заметил Бахачек. — Банщик Прокоп обещал помогать профессору при вскрытии.
— Ошибаетесь. Дело в том, что я сам анатомирую, — улыбнулся Есениус.
Взгляд Залужанского выражал недоверие, на лице Бахачека было написано удивление.
— Вы анатомируете сами? — спросил Залужанский. — А как на это посмотрят другие врачи? Не упрекнут ли они вас в том, что вы роняете врачебный авторитет? Ведь доктор медицины, заботящийся о своем положении, должен только лечить. Вскрытие — это удел цирюльников или банщиков. Я предполагал, что вы будете лишь дирижировать указкой, а рассекать ткани поручите мастеру Прокопу…
— Нет, нет… Все анатомирование я буду производить сам. Банщик мне нужен лишь для того, чтобы подавать инструменты и, главное, раскладывать органы, которые я буду извлекать из тела. Так я всегда поступаю у себя в Виттенберге.
— Это для меня новость! — радостно воскликнул Залужанский. — Теперь для меня еще важнее видеть вашу работу в непосредственной близости. Разрешите мне находиться рядом с вами. По крайней мере, я смогу быть посредником между вами и мастером Прокопом…
— Он как будто знает латынь, — заметил Есениус.
— Возможно, несколько слов, но не более того, — сказал Бахачек. — Во всяком случае, неплохо, если поблизости от вас будет доктор Залужанский.
Наконец пришел и мастер Прокоп, чтобы окончательно договориться с доктором о завтрашнем дне. С помощью доктора Залужанского они весьма быстро обо всем столковались.
Когда гости ушли, Есениус лег спать и проспал несколько часов беспокойным сном.
Проснувшись поутру в этот памятный день 7 июня 1600 года, он, прежде чем умыться, подошел к окну и распахнул раму с круглыми непрозрачными стеклами, желая узнать, какая сегодня погода.
Прошел дождь. Небо было все в тучах, и дул необычный для июня холодный ветер.
Есениус остался доволен. По крайней мере, труп не будет быстро разлагаться и гнилостный запах не отпугнет посетителей от дальнейших лекций по анатомии. Есениус распределил демонстрацию вскрытия на четыре дня, в точном соответствии с предписаниями, изложенными в основных анатомических учебниках. В первый день он покажет и наглядно разберет «membra nutritiva» — пищеварительную систему; другой день посвятит «spiritualiam», то есть головному мозгу и нервам; на третий займется «amnialiam» — печенью, сердцем, легкими, и, наконец, последний, четвертый день пойдет на демонстрацию костной и мышечной системы.
Резкий стук в ворота оторвал его от размышлений. Это мастер Прокоп возвещал о своем прибытии. Они торопливо зашагали полупустыми улицами к Речковой коллегии, чтобы явиться туда первыми. В пятом часу помощники палача должны были уже доставить труп казненного.
Двор коллегии был оборудован под театр. Студенты высших учебных заведений не раз показывали здесь спектакли, поэтому университет построил разборную сцену и приготовил большое количество досок, чтобы можно было быстро сколотить помосты со ступенчатым расположением скамеек. В первом ряду поставили мягкие кресла, предназначенные для высоких гостей; во втором стояли стулья со спинками — для посетителей рыцарского звания. Горожане должны были сидеть на скамьях; опоздавшие могли только стоять.
Посреди двора возвышался дубовый стол с нетесаной доской, так называемым штоком, каким пользуются мясники. Под столом стояли две лохани, рядом — столик для инструментов.
Через минуту после их прихода появился и доктор Бахачек.
— Только бы не было дождя, — озабоченно произнес Есениус и посмотрел на затянутое тучами небо.
— Дождя не будет, — успокоил его Бахачек — дым поднимается вверх. Это хорошая примета. Народу соберется много.
— В Виттенберге зрителей всегда бывает много больше, чем на промоции[14], — заметил Есениус.
— Меня это не удивляет, — ответил Бахачек, — ведь люди любят смотреть на мертвецов, хотя и побаиваются их. Человек все же испытывает приятное чувство, когда на ум ему приходит мысль: «Какое счастье, что не я на его месте». Вот почему публичные казни привлекают столько любопытных. После этого у человека обостряется вкус к жизни.
Между тем мастер Прокоп обошел стол, осмотрел лохани и ящик с инструментами. Все было в порядке.
— Труп уже привезли? — спросил Бахачек.
— Пока нет, но я надеюсь, что с минуты на минуту он будет здесь, — ответил Есениус и принялся раскладывать свои инструменты. Ему хотелось, чтобы они были под рукой и в том порядке, в каком будут ему нужны.
Не успел он все приготовить, как раздался стук колес и в воротах появилась тачка, которую сопровождали три человека. Один из них катил тачку, другой помогал ему, а третий шел впереди. На тачке лежал какой-то груз, прикрытый рогожей.
— Слава богу, приехали! — воскликнул Бахачек и обратился к Есениусу: — Куда прикажете положить труп?
— Сюда на стол, — ответил Есениус, указывая на шток, и добавил: — Пока мы его прикроем.
Подручные палача учтиво поклонились господам и выполнили все, как им было велено. Но сам палач, сравнительно еще молодой человек, подошел к Есениусу и спросил приятным, мягким голосом:
— Вы разрешите мне, доктор, присутствовать при анатомировании?
Бахачек перевел его слова на латынь. А когда Есениус не понял, почему пришедший спрашивает особое разрешение, тому ничего не оставалось, как представиться доктору:
— Заплечных дел мастер Ян Мыдларж.
Заплечных дел мастер! Какое красивое название — и что за ним кроется! Палач. Человек, которого все сторонятся, испытывая суеверный страх, будто простая встреча с ним должна означать, что встретивший рано или поздно неизбежно попадет в его руки. Люди избегают палача, боятся к нему прикоснуться. Даже в костеле у него особое место, в самом конце, причем отгороженное от остальных. Когда палач заходит в корчму, он не смеет присесть к столу, за которым уже кто-нибудь сидит, а должен найти свободный стол, да и то где-нибудь в сторонке. А если завернет на какое-нибудь веселье, не имеет права пригласить девушку на танец. Танцевать он может, но только со своей женой, предварительно попросив разрешения у всей компании. И то всего один танец. Общество ему в этом никогда не отказывает. Только в это время уж никто другой не танцует. Палач и его жена танцуют соло…
И только тот, кому нужны тайные или целебные средства — например, мандрагора, которая растет лишь под виселицей, веревка повешенного, кровь казненного (самая дорогая — кровь казненной девушки), часть тела обезглавленного или повешенного преступника, — только тот ищет ночью палача и просит у него помощи. Крадется он к дому палача, как вор, и трусливо озирается, чтобы никто его не увидел.
В то же время палач ведет фельдшерскую практику: вправляет вывихи, извлекает камни из мочевого пузыря, ампутирует больные конечности. Он знает о жизнедеятельности человеческого тела гораздо больше, чем остальные люди, и поэтому смыслит в его лечении.
Просьба палача не удивила доктора Есениуса. Есениус обратился к Бахачеку, чтобы тот подыскал подходящее место, где палач остался бы незамеченным для всех присутствующих. Бахачек указал ему такое место в углу двора.
Палач поблагодарил и при этом посмотрел на Есениуса странным, загадочным взглядом, словно желая навсегда запомнить лицо доктора…
Около семи пришел Залужанский, а после него стали собираться горожане, стремившиеся захватить места на скамьях. Простолюдинов университетский страж пока не пускал. Пусть, мол, займут места приглашенные, тогда будет видно, сколько еще можно впустить.
К восьми часам стали сходиться высокопоставленные гости, рыцари и паны, со своими женами и взрослыми детьми. Все относились к предстоящему событию — такого Прага еще не знала— как к блестящему представлению, которое можно увидеть лишь в самых крупных иностранных столицах. Это и манило и возбуждало. Возбуждало еще больше, чем публичная казнь
Ведь казнь в Праге не была редкостью. Виселица на Шпитальске редко когда пустовала. Но трупосечение — это что-то иное. Видеть загадочное нутро человеческого тела, все его органы, обусловливающие в своем гармоническом взаимодействии жизнь…
И при этом наблюдать за человеком, который не только не брезгает тем, что имеет дело с трупом, но и сам, собственноручно, его рассекает…
Какой же это все-таки риск! Какая смелость! Такого смельчака невольно ценишь, даже если немножко его и побаиваешься. Вполне возможно, что не все тут так просто. А что, если он в сговоре с нечистой силой?..
Все места уже заполнены, ждут только самого высокого гостя — канцлера.
Между тем во двор впустили и часть зевак, которые, столпившись перед входом в коллегию, громко требовали, чтоб им разрешили присутствовать при анатомировании. Их нашло такое множество, что не осталось ни одного свободного места. Хорошо еще, что студенты явились раньше и, хотя им пришлось стоять, заняли более или менее приличные места, позволявшие кое-что увидеть через головы сидящих зрителей. Остальные расположились вдоль стен продолговатого двора, где было сравнительно много свободного места.
Стол, на котором Есениус собирался производить вскрытие, был огражден барьером. Если бы этого не сделали, доктор не смог бы шевельнуться, так плотно его обступили со всех сторон.
Это скопище народу бурлило, как морской прибой.
И вдруг все сразу стихло: прибыл верховный канцлер пан Зденек Лобковиц со своей супругой. Проходя, он снисходительно ответил на подобострастное приветствие ректора Быджовского и почтительный поклон Есениуса. Есениус не очень-то рассчитывал на приход канцлера. Возможно, он думал, что канцлер к нему далеко не благосклонен. Тем не менее он был весьма рад его прибытию.
Канцлер усаживается в приготовленное для него кресло и милостивым кивком головы дает знак, что «представление» можно начинать.
Есениус уже смирился с мыслью, что к событию, которое должно было бы носить чисто научный характер, здесь относятся, как к публичному представлению. Но, понимая тяжелое положение университета, он рад помочь ему всем, чем только может. Лишь бы паны заинтересовались этим учебным заведением. А главное, растрясли бы свои карманы.
Есениус сбрасывает коричневый бархатный камзол с кружевным воротником и по самые локти закатывает рукава рубашки. Мастер Прокоп помогает ему, завязывая сзади шнурки кожаного передника. Теперь все готово. Но такому исключительному событию необходимо прежде всего предпослать вступительное слово в самом возвышенном духе.
По обычаям того времени, доктор должен сослаться на авторитеты древности и разукрасить свое сообщение притчами и историями из греческой и римской мифологии.
И вот Есениус начинает. Он рассказывает древнюю легенду о том, как однажды, в день своего рождения, богиня Юнона устроила великолепное празднество, на которое созвала всех богов и богинь. И, чтобы богам и богиням было весело, попросила своего брата и мужа Юпитера устроить для ее гостей какое-нибудь представление. Юпитер выполнил ее просьбу, и тотчас же перед всеми раскрылся грандиозный театр, а на самом деле это был мир, в котором мы с вами живем. Зрительный зал был наверху, там, где живут боги, а сцена — внизу, на нашей земле. А потом началось и представление: на сцене стали появляться маски и играть трагедии, комедии, сатиры. Когда же Юнона спросила своих гостей, как им нравятся эти лицедейства, все единодушно ответили, что ничего более красивого и приятного они в своей жизни не видели. Обрадованная такою похвалой, Юнона еще раз обошла своих гостей и задала им новый вопрос: кто же из актеров им понравился больше всего? И тут боги в один голос ответили, что нет ничего прекраснее человека. Такой ответ понравился даже самому Юпитеру. Из этого боги заключили, что главный артист в этом спектакле — человек — не кто иной, как сын Юпитера. И хотя он скрывался под маской, но своею мудростью, разумом и другими исключительными особенностями показал себя существом божественным. Ибо, по примеру могущественнейшего из богов, он последовательно приобретал облик различных существ: то он выступал в виде растения, то в виде животного — свирепым львом или хищным волком и диким кабаном, а через минуту уже хитрил лисой, был грязным, как свинья, и трусливым, как заяц; то вдруг становился завистливым, как собака, и глупым, как осел. А после снова и снова являлся перед всеми разумным, справедливым, миролюбивым, чистосердечным и приветливым — одним словом, человеком. И боги решили, что человек не только красив, но и ладно скроен, и способен на большие деяния. Так человек завоевал расположение богов и был принят в их семью…
Зрители слушают с интересом. Для знатоков и любителей латыни отшлифованная речь Есениуса звучит приятной мелодией. Но ему хочется заинтересовать и остальных гостей, и, хотя большинство из них не в состоянии оценить красоту и прелесть этого языка образованных людей, до них, по крайней мере, доходит содержание. Ведь среди горожан немало людей, которые сносно владеют латынью и регулярно читают книги…
Не знают латыни лишь простые люди. Но и они не скучают — нашептывают друг другу пражские новости и сплетничают о присутствующих здесь известных всем особах.
— Эта легенда, высокочтимые зрители всех сословий, — продолжает Есениус, — говорит о красоте и благородстве человека, то есть о вас всех. Вы слышали, как даже боги любовались человеком. С каким любопытством они рассматривали его и как восхищались им. Кто же из смертных не захочет узнать, что находится внутри человеческого тела? Количество присутствующих здесь зрителей, среди которых есть именитые, выражение сосредоточенности на их лицах уже является достаточным свидетельством того, что все хотят посмотреть, каковы же внутренности человека, и только ждут, когда мы начнем.
Стремительным, рассчитанным на внешний эффект движением рука Есениуса срывает рогожу, прикрывающую труп.
От удивления разноликая толпа заколыхалась.
Давно ожидаемая минута наступила.
На нетесаном столе лежит труп бородатого человека. Труп обнажен, только белая повязка опоясывает бедра. Это труп преступника, повешенного палачом Мыдларжем за кражу и поджог.
Есениус продолжает свою лекцию. Он разделяет взгляды древних философов о двух субстанциях человеческого естества: о душе и о теле.
— Душа, — объясняет он, — есть субстанция не материальная, первичная и неделимая. Хотя душа и тело предстают как единое целое, все же душа не смешивается с телом, не заключена в нем, а скорее сама заключает его в себе. Как свет пронизывает воздух вокруг нас, так душа распространяется по всему телу, являясь причиной деятельности отдельных его частей.
Душа имеет в теле человека три основных органа: мозг, сердце, печень…
И Есениус подробно останавливается на функции каждого из этих органов в отдельности, а потом и на взаимосвязи их с точки зрения жизнедеятельности всего организма.
Между тем солнце поднялось высоко, но его не видно за низкими, свинцовыми тучами, которые несутся над самыми крышами, подгоняемые свежим северо-западным ветром.
Есениус берет острый нож, на костяной рукоятке которого изображена русалка, и подходит к трупу, собираясь начать вскрытие, но вдруг останавливается и еще раз обращается к обществу с небольшими разъяснениями:
— Если бы мы брали в расчет достоинство, значение, важность отдельных частей тела, мы должны были бы прежде всего вскрыть череп. Но так как в самой нижней части тела, называемой брюшиной, расположены как бы сточные трубы, и нам надо все время следить, чтобы не испортились отдельные органы и чтобы запах разложения не помешал нам, мы, по примеру других анатомов, начнем именно с брюшной полости.
Наступает высшее напряжение. Нож доктора спокойно вонзается в белую кожу и движется слева направо, образуя широкий горизонтальный разрез над пупком. После этого Есениус делает еще два вертикальных разреза. Необходимо еще удалить жировой слой, вскрыть брюшную оболочку, и только тогда предстанет перед зрителями содержимое брюшной полости. Зрителями овладевает гнетущее чувство. Как странно: они видят, что острый нож глубоко вонзается в тело, и при этом не могут смириться с мыслью, что человек, стоящий перед ними, так смело обращается с покойником. До сих пор они видели покойников лишь в траурном погребальном облачении, видели бездыханные останки человека на виселице, под топором палача, видели порубанные тела солдат на поле боя, но во всех этих случаях человек, уже миновавший врата смерти, получал заслуженный покой. А тут происходит нечто такое… Кровь стынет в жилах!
Твердой рукой Есениус извлекает из брюшной полости кишки, называет их и тут же объясняет их назначение. Но долго он на них не задерживается, так как чувствительные девицы начинают подносить к носу платочки, а юноши — сетовать, что не прихватили с собой немного сливовицы.
Когда доктор извлек желудок и поднял высоко над собой, чтобы его было видно, зрители стали вытягивать шеи, завидуя тем, кто сидел в первых рядах и мог все рассмотреть.
Но лучше других устроился мастер Прокоп. Он видел буквально все, до мельчайших подробностей, и мог запомнить то, что не могли запомнить и увидеть другие. Только одно огорчало банщика: доктор не разрешал ему орудовать ножом.
Язык Есениуса очень образный. Лекция его лишена научной сухости. Он понимает, что большинству присутствующих неизвестны основы медицинской науки, и поэтому говорит понятным языком. Он объясняет все наглядно, стремясь, чтобы его понял даже необразованный человек.
— Еще древнегреческие ученые, и в особенности величайший врач древности Гиппократ[15], доказали, что четыре элемента, из которых создана Вселенная — огонь, вода, воздух и земля, — составляют также и человеческий организм. Разумеется, здесь они, эти элементы, не выступают в их первичном, чистом виде, а даны адекватно в соответствующих соединениях. Так, огню в человеческом организме адекватны теплота и сухость; в теплоте и влажности выражен элемент воздуха; соединение влажности и холода соответствует элементу воды, а когда соединяются холод и сухость, мы получаем как равноценный элемент землю. Так же как существуют четыре основных соединения, существуют в человеческом организме и четыре основные жидкости, которые и руководят совершающимися в нем процессами. Отличительным признаком этих жидкостей является и их цвет: в красный окрашена кровь, в белый — слизь, в желтый и черный — два вида желчи: желтая и черная. Если в человеческом организме эти жидкости находятся в постоянном и определенном соотношении, человек здоров. А если их взаимоотношение нарушается, в организме наступают перебои, появляются болезненные процессы. Соотношение между отдельными жидкостями у каждого человека различно. Основное число Вселенной — четыре — играет и здесь свою решающую роль. В соответствии с тем, в каком количестве и соотношении эти жидкости находятся в организме, различаем мы четыре человеческих темперамента или характера: холерик, меланхолик, сангвиник и флегматик. Взаимовлияние жидкостей в организме называется комплексией. В зависимости от характера комплексии в больном организме мы назначаем лекарства…
Так Есениус излагает основы гиппократовского врачевания и тут же наглядно показывает, в каком органе какие вырабатываются жидкости, какими путями они распространяются по организму и как соединяются между собой.
И зрители с ужасом слушают, упиваясь сознанием собственной значимости, ибо обо всем этом, разумеется, написано не в одной книге. Но никто из присутствующих еще не имел случая соединить написанное в книгах с наглядным примером.
Доктор последовательно извлекает из брюшной полости все органы и разрезает их на столе, объясняя их назначение и особенности.
— Вот это печень, — показывает Есениус на красный долевидный орган, держа его перед собой. — Если мы ее внимательно рассмотрим, то увидим, что она имеет две доли. Но Гиппократ и Гален утверждали, что она состоит из пяти долей. Сотни и тысячи врачей принимали их утверждение без всяких сомнений и колебаний. Никто из них не считал нужным проверить правильность их учения. Хотя кое-кто и имел возможность убедиться, что их собственные наблюдения противоречат утверждениям древних, тем не менее они гораздо охотнее признавали возможными изменения, происшедшие в человеческом организме со времени Гиппократа и Галена, чем допускали, что они ошиблись. Поэтому, наипочтеннейшие зрители, значительно важнее производить собственные наблюдения и больше полагаться на свой ум, чем на авторитеты древности. И в этом мы видим главную цель публичных вскрытий, подобных нашему, которое из-за позднего часа мы заканчиваем. Продолжение будет завтра с утра.
Посетители расходятся, так как пробило одиннадцать часов. Некоторые любопытные несмело спускаются с высоких помостов и робко направляются к центру двора, где на дубовом столе лежит еще не покрытый, разрезанный труп. Любопытство толкает их вперед, но от суеверного страха перед трупом подкашиваются ноги, и они издали смотрят на то. что осталось после анатомирования.
Есениус моет в лохани руки, чтобы ответить на рукопожатия поздравляющих, уже обступивших его со всех сторон. Это прежде всего ректор университета Быджовский. доктор Залужанский, профессор Бахачек, главный земский медик Гайек. императорский астроном Браге, императорский математик Кеплер, а за ними многие другие, знакомые и незнакомые, поздравляющие Есениуса с блестяще проведенным вскрытием.
Из тяжелых туч начинает моросить дождь. Зрители спешно расходятся, и вскоре двор пустеет.
Есениус вместе с профессорами направляется в Главную коллегию…
На другой день ветер усилился, и небо немного прояснилось. Двор коллегии был переполнен еще больше, чем в первый день, ибо накануне вечером по всей Праге только и разговаривали, что об анатомическом сеансе Есениуса.
Второй день Есениус посвятил разбору грудной клетки.
— Любезные моему сердцу зрители, — начал Есениус, — теперь мы приступаем к анатомированию наиблагороднейшей части не только грудной полости, но и всего человеческого тела, а именно — к анатомированию сердца. Мясистая ткань сердца, как вы видите, отличается от остальных внутренностей и всего тела. Гиппократ назвал сердце мускулом, возможно, на основании движения, которое оно выполняет. Но, поскольку оно состоит из трёх видов волокон, Гален не без основания возражал против точки зрения Гиппократа, так как обычный мускул состоит из одного волокна.
Есениус продолжает:
— В этой связи мне хотелось бы познакомить вас с исключительно любопытными выводами доктора Мигуэля Сервета, к которым он пришел в своем главном произведении — «Обновление христианства». Там он высказывает интересную мысль о кровообращении. Должен заметить, что эта книга вышла приблизительно полвека назад, но до сих пор еще никому не удалось подтвердить справедливость выводов доктора Сервета. Он утверждает, что местонахождение души — кровь. Согласно его учению, кровь из правого желудочка поступает в левый не через среднюю сердечную стенку, а кружным путем. Весьма сложным образом прежде всего кровь попадает в легкие, где смешивается с только что поступившим туда чистым воздухом, и освобождается при выходе от загрязнения. Так хорошо очищенная и тщательно перемешанная дыханием кровь наконец поступает в левый желудочек. Как я уже сказал, предположение Сервета пока никем не подтверждено, и потребуется еще много усилий, прежде чем все станет для нас ясным.
Для некоторых зрителей эти рассуждения кажутся излишне длинными, но они понимают, что доктор при анатомировании должен руководствоваться определенными правилами, принятыми для таких важных событий в европейских академиях.
Поэтому интерес к анатомированию не снижается и на третий день, когда Есениус проводит вскрытие черепа, и даже в последний, четвертый, посвященный конечностям.
Отложив инструменты после четырехдневной утомительной работы, Есениус закончил публичное трупосечение следующими словами:
— Итак, мои терпеливые и любезные зрители, вы досмотрели до конца произведенное нами анатомирование. Ну, а если я в чем-либо ошибся или где-нибудь оговорился, вину за это я целиком принимаю на свой счет. А вам, любезные зрители всех сословий, за многодневное участие, за долготерпение, с каким вы смотрели на вскрытие и выслушивали мои речи, приношу глубочайшую благодарность. То тео докса! Хвала господу богу!
Есениус мог быть доволен результатами анатомирования Однако один неприятный эпизод он не мог забыть. Когда посетители разошлись, во дворе осталась небольшая группа старых женщин, которые бросали на Есениуса враждебные взгляды. До него долетело несколько фраз: «Так надругаться над покойником — это безбожие!.. Еретик заслужил костер!» Есениус сделал вид, что ничего не слышит, но его равнодушие еще больше озлобило старух. Одна из них, с худым лицом и носом, напоминавшим птичий клюв, преградила ему дорогу и закаркала, словно ворона:
— Безбожник ты, язычник! Подожди, за твои поганые руки, за твои мерзкие дела господь бог тебя накажет! Пусть и тебя так четвертуют, как ты четвертовал этого беднягу!
После этого они разошлись.
Есениуса разозлила эта нелепая история. Старуха на мгновение омрачила радость успеха.
Впрочем, глупости! Бабья болтовня!
В ДОМЕ ПАЛАЧА
— Останки похоронить там же, где хоронят казненных? — спросил палач, когда на дворе Речковой коллегии остались лишь Есениус, Залужанский, Бахачек и мастер Прокоп.
Залужанский перевел Есениусу вопрос палача.
Есениус на секунду задумался, а затем нерешительно ответил:
— Мне бы хотелось соединить воедино кости этого бедняги, чтобы его скелет мог стать учебным пособием для студентов академии. Следовало бы их выварить, но не знаю, где это можно сделать. Просить Браге язык не поворачивается — его жена меня тотчас же выгонит. Боюсь, из этого ничего не получится.
Он привел в порядок свое платье, кое-где забрызганное кровью, и хотел было уйти, когда к нему снова подошел палач и сказал вполголоса по-латыни:
— Если бы вы не побрезговали прийти к нам, у нас можно было бы это сделать.
Есениус ушам своим не верил.
— Вы знаете латынь? — спросил он с удивлением.
— Учил немного в школе, — скромно ответил Мыдларж.
— Так вы хотите мне помочь? Я был бы очень рад подарить скелет университету.
Мастер Прокоп со страхом смотрел на Есениуса. Доктор улыбнулся ему:
— Пойдете со мной?
Мастер вздрогнул.
— Я? Боже сохрани! Ни за что на свете! За такие дела я не берусь.
— Жаль, — усмехнулся Есениус. — А я думал, вас это заинтересует. Во время анатомирования так и не удалось поговорить о костях подробно. Придется это сделать позже.
— Что касается костей, я не прочь бы в них покопаться, только не в доме палача. Туда меня никто не заманит.
Есениуса забавлял страх Прокопа. Этот страх был порожден трусостью и теми предрассудками, которые заставляли людей сторониться исполнителя судебных решений. Они были убеждены, что одного прикосновения палача достаточно, чтобы обесчестить человека, и что общение с палачом обрекает на унизительную смерть от его же руки. Этот же суеверный страх проявлялся в стихийном отвращении и неприязни к палачу, к его семье и помощникам — людям, чувствовавшим себя настоящими отщепенцами человеческого общества.
Есениус не стал уговаривать Прокопа. Ведь доктор Залужанский уже обещал ему пойти с ним к палачу и помогать в работе.
Пани Кристина только руками всплеснула, узнав, что ее дорогой гость проведет ночь у палача. Скажи он, что собирается на свидание с самим князем тьмы, ее ужас был бы куда меньше.
— Постарайтесь, бога ради, чтобы вас никто не видел, когда вы будете к нему входить, иначе все приличные люди станут вас сторониться.
— Что мне до приличных людей, — рассмеялся Есениус. — Меня гораздо больше интересует тот бедняга, которого я вначале разрезал на части, а теперь снова соберу вместе, так что из него получится замечательный скелет.
— И как это вы только можете шутить такими страшными вещами! — притворно рассердилась пани Кристина и тут же побежала на кухню похлопотать, чтобы ее гость смог быстрее поужинать и отправиться в ночное путешествие.
Когда совсем стемнело, появился доктор Залужанский.
К дому палача они пробирались темными улочками, кое-где озаряемыми слабым огоньком свечи, пробивающимся сквозь полотняные занавески. Им встретилось лишь несколько прохожих, которые торопились домой, так как в темноте трудно было ходить без фонаря или факела.
Мыдларж до последней минуты не верил, что доктор придет к нему. Он думал, что это был лишь минутный порыв и что до вечера Есениус изменит свое решение. Правда, к палачу ходили по ночам посетители, но это были простые люди, горожане, которым хотелось получить какое-нибудь лекарство или кусок веревки повешенного.
Такие гости, каких он ждал на этот раз, еще не переступали его порога.
На всякий случай жена палача уже с вечера поставила на огонь большой котел воды, чтобы важному гостю, если он придет, не пришлось долго ждать.
Внутреннее убранство дома, куда вошел Есениус, не было для него неожиданным. В Виттенберге в поисках трупов для анатомирования ему не раз приходилось бывать у палача. Поэтому и сейчас он не испытывал того гнетущего чувства, которое обычно охватывает людей, впервые посетивших столь грозного хозяина.
В доме Мыдларжа и вправду было достаточно вещей, от которых волосы становились дыбом. Сразу же у входа, в сенях, лежало большое, прикрепленное к бревну колесо, к которому привязывали осужденных. Да и все остальные предметы, сложенные здесь, как на складе, разумеется, не предназначались для приятных и безобидных занятий. Но если кто-нибудь еще и сомневался в их назначении, то в большой горнице эти сомнения должны были исчезнуть при первом же взгляде на стену. На почетном месте между окнами, на одинаковом расстоянии друг от друга, висели всевозможные мечи, предназначенные для свершения казни. При взгляде на них у каждого невольно возникала мысль: сколько человеческих жизней прервали эти страшные орудия? И взгляд посетителя, притягиваемый каким-то жутким любопытством, против воли задерживался на клинках — не сохранился ли на металле след запекшейся крови. Мечи, однако, блестели чистотой, и пламя свечи, которую держал палач, как в зеркале, отражалось на обнаженных лезвиях.
Жена Мыдларжа была очень горда приходом двух ученых. Она вытерла краем передника стулья, которые им предложила, и всячески старалась угодить гостям.
Есениус окинул ее взглядом. Это была молодая женщина удивительной красоты. Хотя красота ее не бросалась сразу в глаза. Но, если каждая красавица использует свою красоту как оружие, которым она завоевывает сердца мужчин или хотя бы привлекает к себе их внимание, Катарина Мыдларжова выглядела женщиной совсем иного склада: во взгляде ее скрывались какая-то затаенная робость и страх. Страх перед людьми. Она чувствовала себя среди них, как робкая лань, которую за каждым кустом поджидает опасность. О нет, ей не нужно было бояться, что на ней остановит свой взгляд какой-нибудь навязчивый кавалер. Нет, женой палача брезговали даже самые безобразные. А появляясь среди людей, она должна была держаться от них подальше. Не дай бог, если бы она кого-нибудь задела или кто-нибудь случайно прикоснулся к ней. Грубое ругательство было наименьшее, что ожидало ее за такую дерзость.
И теперь, предлагая гостям стулья, она с опаской поглядывала на них — как бы Они не ответили ей грубостью.
Но Есениус только улыбнулся и сел. Его примеру последовал Залужанский.
— Возможно, мы вспугнем ваш сон, — шутливо сказал Есениус, чтобы рассеять ее робость. — Весьма вероятно, что мы всю ночь будем здесь хозяйничать с вашим мужем. Вы не будете на вас сердиться?
Она благодарно улыбнулась, когда Залужанский перевел ей слова Есениуса, и быстро ответила, что будет спать с детьми в большой горнице и что у нее крепкий сон — работа не помешает ей. А дети спят так крепко, что их можно украсть во сне.
Они еще немного посидели, поговорили с хозяйкой о ее детях, затем Есениус обернулся к Мыдларжу:
— Начнем?
Палач молча кивнул и повел своих гостей в сени, где в котле уже начала закипать вода. У стены был поставлен большой дубовый стол.
— Не потребуется ли нам помощь кого-нибудь из моих людей? — Мыдларж вопросительно посмотрел на Есениуса. — Они живут в каморке в конце двора.
— Пожалуй, мы и сами справимся, — ответил Есениус. — С ними, конечно, дело пошло бы быстрее, но мне не хочется, чтобы о нашей работе знало больше людей, чем нужно. Или, может быть, вы уже сказали им об этом?
Мыдларж нахмурился.
— Людям нашего ремесла несвойственна болтливость, — ответил он с упреком. — Вам нечего бояться, от нас никто ничего не узнает.
Есениуса это объяснение успокоило.
Началась страшная стряпня. Есениус и Залужанский с палачом Мыдларжем вываривали в котле части расчлененного трупа, бывшего еще недавно предметом публичного анатомирования.
Двери были заперты; окон в сенях не было. Только около дверей было прорублено маленькое окошечко, которое Мыдларж заткнул тряпками, чтобы любопытные не могли увидеть с улицы, что делается внутри.
Работа в тесных сенях их изнуряла. Было душно, воздух был насыщен горячим паром и неприятным запахом.
Есениус вынул из сумки, которую принес с собой, бутылку паленки и, спросив у Мыдларжа, который час, предложил выпить. Все охотно согласились.
— Нам еще не раз придется приложиться к этой бутылке, чтобы выдержать до конца, — усмехнулся доктор, снимая обшитый кружевами камзол.
Залужанский и Мыдларж также сняли камзолы и засучили рукава рубашек. Палач подложил под котел сухих дров, чтобы вода все время кипела.
Мыдларж оказался весьма толковым помощником. Он с первого слова понимал желания ученых и выполнял их с большой точностью.
Прежде всего они очистили грудную клетку; в трепещущем свете факела, горевшего в железном подфакельнике на стене, все ребра отливали молочной белизной.
— Вы сможете разобраться, где какая кость должна быть? — спросил палач.
— Я знаю все кости, из которых состоит человеческий скелет. И сейчас пишу книгу о костях.
Все были погружены в работу, когда их прервал несмелый стук в дверь.
Мыдларж вытер руки о фартук и спросил:
— Кто там?
— Это я, Бета Голубова. Я хотела бы попросить у вашей жены каких-нибудь трав.
Голос был свежий. Он явно принадлежал молодой девушке. И, должно быть, смелой, если она отважилась отправиться ночью в дом палача.
— Жена уже спит. Против какой болезни тебе нужны травы?
Ответа не последовало. Мыдларж повторил вопрос.
Бета ответила смущенно:
— Пустите меня хотя бы в сени. Там я вам все расскажу
Есениус быстро обернулся, чтобы дать Мыдларжу знак не пускать девушку, но палач и не собирался открывать дверь поздней посетительнице.
— Если тебе нужен ласкавец, то ты пришла напрасно. У меня нет при себе ни одного пучка. За ним нужно лезть на чердак, а ночью это не годится. Приходи завтра.
За дверью послышался глубокий вздох, а затем вопрос, в котором звучало разочарование:
— Ни травинки при себе нет?
— Нет, Бета, ни травинки. Придется тебе прийти как-нибудь в другой раз. Может быть, твой милый вернется к тому времени и тебе не потребуется ласкавец.
Они слышали, как тихие девичьи шаги удалялись от дома, потом до них донесся отдаленный собачий лай.
— Паршивая девчонка! — проворчал Мыдларж и снова взялся за работу.
В этот момент дверь горницы отворилась, и на пороге показалась Мыдларжова.
— Ты еще не спишь, Катка? — удивился Мыдларж.
При взгляде на кости, разложенные на столе, глаза Катарины широко раскрылись, но она ни одним словом не выдала своего удивления. Жена палача должна быть готова ко всяким сюрпризам.
— Я пришла спросить, не нужно ли будет чего, а то я собираюсь прилечь.
Мыдларж не ответил, но вопросительно посмотрел на Есениуса.
Есениус поблагодарил жену палача за все и сказал, что ее помощь не потребуется. Но все же они благодарны ей за заботу, так как уже довольно устали и небольшой отдых им не помешает. Сейчас Есениус придёт немного посидеть в горнице, только хорошенько умоется и наденет камзол.
Залужанский поддержал это предложение.
— Если вы еще не совсем во власти сна и посидите с нами несколько минут, мы будем этому очень рады, — добавил Есениус с улыбкой.
Лицо Мыдларжовой просветлело. Да и муж ее ожил. Было видно, что слова ученых приятно прозвучали и для его слуха. Ах, боже мой, ведь это так приятно, когда палач может хоть на мгновение почувствовать себя человеком!
У них уже болели ноги, и они с большим удовольствием присели. Сколько могло быть времени? Вероятно, полночь, но Есениус не интересовался этим. Оставалось еще много дела. А сейчас им просто хотелось несколько минут посидеть, чтобы затем с новыми силами взяться за работу.
— Жизнь у вас, однако, достаточно разнообразная, — заговорил Залужанский, увидев, что глаза хозяйки перестали слипаться и сон как рукой сняло.
Мыдларжова едва сдерживала волнение при разговоре с такими важными особами. Правда, беседу вел в основном ее муж.
— Если говорить обо мне, то я не могу пожаловаться — работы пока хватает, — горько усмехнулся Мыдларж. — Но моя Катарина другое дело. Правда, забот у нее немало, но что это за заботы! Бабьи — все больше по хозяйству. Печалится она, что не с кем ей потолковать о разных пустяках, о каких любят болтать женщины.
Есениус задумался о том, как должна быть тяжела участь этой женщины, красота которой подобна красоте цветущей крапивы: никто ее не заметит, никто по ней не затоскует.
И тем не менее в этой отрешенности от мира была и своя хорошая сторона: она сблизила супругов. Они поняли, что им не у кого искать защиты, ни от кого они не дождутся помощи, и поэтому старались сделать друг другу жизнь настолько приятной, насколько это было возможно в их трудном положении. Но крепче всего их объединяли дети — три сына, которых ожидала та же участь, что выпала и на долю отца: сперва они будут его подручными, а после его смерти один из них займет его место.
— Да, действительно, у вас незавидная жизнь, — задумчиво сказал Есениус.
— Живем тут, как в изгнании, — вздохнул Мыдларж. — Но что делать? У каждого свой крест…
Внезапно любопытная мысль мелькнула в голове у Есениуса: как может относиться этот человек к другим людям?
— Скажите, пан Мыдларж, вы, должно быть, ненавидите людей? Ведь они так жестоки по отношению к вам…
Мыдларж поморщился, как будто хотел спугнуть назойливого комара или прогнать неприятную мысль. Во взгляде его жены снова появился испуг, который делал их похожими на глаза серны.
Есениус почувствовал, что коснулся больного места в душе Мыдларжа.
— Никто еще меня не спрашивал о таких вещах. И я никогда не думал об этом. Человек не любит думать о неприятном. Скажу откровенно, ваш вопрос застал меня врасплох, и я не знаю, смогу ли как следует на него ответить. Но попробую. — Он провел ладонью по лицу, как будто хотел привести в порядок мысли, затем продолжал: — Вы хотите знать, ненавижу ли я людей за то, что они мной пренебрегают… Думаю, что на это нельзя ответить одним словом. К вашему сведению, я взялся за это грязное ремесло добровольно.
Он внезапно остановился и взглянул на жену, словно в ее глазах хотел прочесть, говорить ли ему дальше.
— Продолжай, Ян, — глухим голосом сказала Катарина и ободряюще посмотрела на мужа. — Господа ученые так добры, что у нас не должно быть никаких тайн от них.
Мыдларж молча кивнул.
— Взялся я за это ремесло добровольно из-за женщины. — Есениус посмотрел при этих словах на его жену, но палач покачал головой. — Не из-за Катарины. Из-за другой женщины, которую любил до нее. И она любила меня. Но родители заставили ее выйти замуж за другого, ненавистного. Когда же ее жизнь с ним превратилась в ад, она отравила его. Преступление раскрыли, и ее осудили на смерть. У нее оставалась единственная возможность сохранить жизнь: выйти замуж за палача или за кого-нибудь из его подручных. Я так любил эту женщину, что не стал долго раздумывать: пришел к палачу и сделался его помощником. Поверьте мне, решиться на это было нелегко, но что не сделает человек из-за любви? Мне казалось, что я вынесу все тяготы этой проклятой жизни, если она будет рядом со мной. Но, когда я пришел к ней и сказал, что сделал ради нее, она отвергла меня и предпочла умереть, а не выйти замуж за помощника палача.
Голос у него задрожал. Затем он махнул рукой, словно хотел сказать, что не стоит оплакивать прошлое.
— Если вас интересует, могу добавить, что до этого я изучал в здешней академии медицину. Там научился латыни. Но что из этого! Как видите, стал заплечных дел мастером. И теперь должен оставаться им до самой смерти.
— Все это так и есть, — подтвердил доктор Залужанский, с любопытством глядя на палача. — Когда я был еще профессором в университете, там что-то говорили об этом.
Мыдларж чувствовал, что он должен как-то сгладить гнетущее впечатление от своего признания. Не годится же в присутствии собственной жены говорить о другой, пусть даже о мертвой.
— Эх, не стоит вспоминать, — сказал он внезапно и улыбнулся жене. — Давно это было. Все равно, что не было… Я благодарен богу, что мне досталась Катарина. С ней моя жизнь легче. Так ведь, Катка? — И он погладил ее руку.
Она ответила ему грустной улыбкой, полной преданности и любви. В улыбке этой была покорность жизни, которая улыбалась им лишь красотой цветущего репейника. Но и репейник бывает прекрасен.
Теперь, когда Есениус узнал, что его помощник разбирается в медицине, разговор у них быстро перешел на анатомию. Особенно после того, как Катарина принесла еще кувшин паленки. Вначале лишь Есениус и Залужанский задавали вопросы Мыдларжу, потом осмелел и палач и стал спрашивать у Есениуса о вещах, которые ему не довелось изучить в Пражском университете.
Так в слабо освещенной горнице дома палача завязалась в эту позднюю ночную пору удивительная беседа трех людей о тайнах человеческой жизни.
Необычным было и то, что в ходе этого интимного разговора палач выспрашивал у врача обо всех достижениях медицинской науки, чтобы и он мог иногда бросить вызов могучей госпоже, которой служил, — смерти.
— Вы, может, не поверите мне, доктор, — сказал под конец Мыдларж, — но если мне удается сохранить жизнь тяжело больному, я радуюсь этому гораздо больше, чем если отправляю на тот свет очередного преступника… Вы хотите знать, не ненавижу ли я людей за то, что они так жестоки к нам? — продолжал Мыдларж. — Нет, я не могу сказать, что ненавижу людей. Я их только сторонюсь, так как знаю, что они меня боятся. Но при всем том я не стал бы утверждать, что люблю их. Они меня просто не интересуют. Меня интересуют лишь те, с кем сталкивает меня профессия, — осужденные. А их я, бывает, и жалею. Иногда мне кажется, что наказание, которое я должен привести в исполнение, непомерно превышает вину. К примеру, мне приходилось вешать людей за то, что они украли буханку хлеба, вырезать язык за богохульство. Но что делать? Пусть за это отвечают перед богом судьи… Но как же мы заговорились! Если хотите, приступим к делу.
Их ожидала самая тяжелая часть работы. Добела вываренные и очищенные кости нужно было сложить и скрепить так, чтобы конечности скелета свободно сгибались. Для этого требовалось также и немного кузнечного мастерства. Таз скелета нужно было укрепить на толстом железном пруте, вбитом в деревянную подставку, а потом искусно соединить отдельные кости.
Есениус был очень благодарен Залужанскому за то, что тот вызвался помочь ему. С одним Мыдларжем он едва ли управился бы до утра.
С удовлетворением смотрели все трое на результаты своих трудов, занявших целую ночь. Скелет стоял посреди сеней, как призрак из загробного мира.
Мыдларжа ожидала еще одна работа: сколотить из досок узкий ящик и отправить в нем скелет в здание университета.
Уже светало, когда Есениус и Залужанский распрощались с палачом.
— Если у меня еще когда-либо возникнет надобность в подобной работе, я вас разыщу. Сегодняшнюю ночь я буду долго помнить, — сказал Есениус.
Скелет много десятилетий был достопримечательностью Карлова университета.
Это была память о первом анатомировании, которое Есениус провел в Праге.
ВИТТЕНБЕРГ
После публичного трупосечения в Речковой коллегии слава о Есениусе разнеслась по всей Праге, но это не ускорило решения его дела о наследстве. Существует какой-то неписаный закон, по которому имущественные тяжбы должны двигаться со скоростью черепахи. Происходит это, видимо, потому, что люди, ведущие тяжбу, хорошие дойные коровы для адвокатов и разных чиновников.
— Съездили бы вы к Богуславу из Михаловиц, — посоветовал Есениусу Бахачек. — Он занимает видное место в чешской королевской канцелярии. Да и человек он благородный, на него можно целиком положиться.
После этого разговора Есениус отправился на Град к пану Богуславу.
Богуслав из Михаловиц принял Есениуса поистине сердечно. Он сразу же позвал секретаря и велел просмотреть бумаги, касающиеся дела Есениуса. Между тем доктор посвятил Богуслава в суть своего спора. Но, хотя рассказывал он со всеми подробностями и разговор длился добрый час, секретарь все не шел. Михаловиц стал выказывать нетерпение. В конце концов секретарь вернулся с пустыми руками.
— Никак не могу найти дела. Мы все ящики просмотрели, весь архив перерыли. Не пойму, куда запропастились эти бумаги, — пожаловался он.
— Вы обязаны их найти. Ведь не сожрала же их кошка! — с негодованием воскликнул Михаловиц. — Вы просто не умеете искать! А вы, магнифиценция, не сердитесь, что мы не можем вам сказать, в каком положении ваше дело. Но уверяю вас, я позабочусь обо всем сам. Вы еще долго пробудете в Праге?
— Да нет, теперь уже недолго. Жена, наверное, беспокоится. Самое позднее в августе я бы хотел быть дома. Много будет хлопот с подготовкой к новому семестру…
— Понимаю, понимаю, — повторял Михаловиц, — во всяком случае, я попросил бы вас перед отъездом еще раз к нам наведаться. Не беспокойтесь, я не забуду о вашем деле…
По всему было видно, что это не пустые обещания, какими выпроваживают назойливых посетителей. Есениус достаточно разбирался в людях, чтобы отличить притворство от искренности. Но способны ли добрые намерения преодолеть цепь интриг, которые опутывают императорский двор, высшие имперские и земские канцелярии, да и людей, стоящих во главе их?
Есениус готовился к отъезду в Виттенберг.
Как-то перед самым отъездом доктора, когда он в последний раз сидел в обществе Браге, Кеплера и Бахачека, императорский астроном, нарушая одну из долгих пауз этого прощального свидания, вдруг спросил:
— Не думаете ли вы совсем поселиться в Праге?
Этот вопрос Есениус уже не раз слышал из уст многих людей. Даже верховный канцлер намекал ему на это. В свое время доктор уже дал Браге обстоятельный ответ и поэтому был весьма удивлен, что императорский астроном снова вернулся к той же теме.
Тихо Браге стал развивать свою мысль:
— Неплохо, если бы, скажем, император пригласил вас к себе на службу в качестве врача…
Есениус засмеялся, ибо принял слова Браге за шутку. Видно, при расставании Браге хотелось напомнить о первом разговоре Есениуса с императором.
— Я уверен, что мне нечего опасаться такого приглашения. Император никогда не забудет и не простит мне разговора о тиранах.
— Мне неизвестно, что думает император об этом разговоре, но я знаю, что о вашем публичном анатомировании в Праге он имеет подробные сведения. И сегодня утром он спросил меня, не предполагаете ли вы провести еще одно вскрытие. Следовательно, не исключена возможность того, о чем я вам говорил. Приняли бы вы приглашение?
— Поступить на императорскую службу? Гм!.. Об этом можно подумать, — ответил Есениус и подкрутил усы.
Он не мог скрыть, что такое приглашение польстило бы его самолюбию. Да, скорее всего он бы его не отверг.
— Хорошо. Когда будет удобный момент, я сообщу вам об этом, — сказал Браге. — Впрочем, мне незачем говорить, что лично я был бы рад, если бы вы переселились в Прагу.
Есениус прибыл в Виттенберг на день раньше, чем рассчитывал. Несколько чарок вина, какими он потчевал кучера на остановках, действовали на последнего примерно так же, как кнут на лошадей. Расстояние быстро сокращалось, время летело. И нетерпеливый Есениус приближался к дому.
О, как он радовался предстоящей встрече с Марией! Большую часть пути он вспоминал о ней.
И вот он уже дома, сидит в широком кресле и рассказывает жене обо всем, что было в Праге. Старается говорить по порядку, но все время возвращается к отдельным событиям, дополняя их новыми подробностями. За интересным разговором он не замечает, как в комнату через большие окна крадется сумрак… И вот уже беседа продолжается при свете трех больших восковых свечей, вставленных в резной железный светильник.
— Долго ты задержался в Праге, Иоганн! — говорит Мария с укоризной. — Я уж думала, что ты решил там остаться.
— Пражский университет с удовольствием пригласил бы меня, но существует непреодолимое препятствие.
При этом Есениус хитровато улыбнулся.
— Что за препятствие? Разве для тебя может существовать какое-нибудь непреодолимое препятствие?
— Да. Это ты.
Мария широко раскрыла глаза:
— Я?
— Да, ты. — На этот раз Есениус улыбнулся по-мальчишески озорно: —Там не хотят женатых профессоров. У них заведено безбрачие, как у монахов.
— Брр! Какое же это, должно быть, неприветливое общество! Одни угрюмые холостяки.
— Среди них есть и приятные люди, например Бахачек. Но большинство непримиримо относится к женитьбе.
— Молодой человек там наверняка бы не удержался.
— Надолго — нет. Многие из молодых, полюбив, должны были оставить университет, чтобы жениться и завести семью. В этом одна из причин, почему Пражский университет пришел сейчас в упадок.
— Нет худа без добра: после этого ты будешь больше ценить наш университет, — улыбнулась Мария. — Надеюсь, что теперь ты останешься дома, а не отправишься снова в путь.
— В ближайшее время нет. Сейчас меня ждет здесь много работы. И в университете и дома. Хочу написать книгу о пражском анатомировании. В Праге я понял, как она нужна.
Но в первые дни после приезда для работы у него оставалось очень мало времени. Прежде всего надо было навестить всех знакомых, а их было немало. И повсюду приходилось начинать свой рассказ от Адама. Ведь в те времена новости передавались лишь из уст в уста. Даже тому, кто возвращался из соседней деревушки, было что рассказать. А того, кто приезжал из далекого города, любопытные осаждали со всех сторон, как в жару осаждают источник. Тот же, кто побывал в чужой стране, мог рассказывать до самой смерти — и всегда находились слушатели. Тем более, если рассказчик был таким блестящим, как доктор Есениус. Интересовались главным образом, правдивы ли слухи об императоре, интересовались его особой, императорским двором на Градчанах, красотою Праги. Коллеги Есениуса по Виттенбергскому университету, кроме того, расспрашивали о делах Пражского университета, о том, чем занимается Тихо Браге, как протекал сеанс анатомирования и какие он дал результаты…
Так наступила осень, а с нею и выборы университетских деканов.
Есениуса избрали деканом медицинского факультета.
В день святого Луки, 16 октября, начался новый учебный год, и у Есениуса начались лекции по медицине. Первая лекция всегда бывает немного торжественней, чем последующие. Такой была и эта вступительная лекция профессора Есениуса.
Есениус сидит в большом актовом зале за профессорской кафедрой, в профессорском одеянии — мантии, на голове у него красный берет. Перед ним раскрыты «Афоризмы» Гиппократа, а рядом — листы бумаги с заметками, которые частично являются дополнениями к «Афоризмам», а частично выводами из личных наблюдений профессора.
Перед ним ряды обычных дубовых скамеек, на каждой по шесть человек студентов. В основном это молодые люди восемнадцати— двадцати лет, у которых только-только начинают пробиваться усы. Среди них два-три человека постарше. Это так называемые «вечные студенты». На лекции они ходят редко, от коллоквиумов бегут, как черт от ладана. А без коллоквиумов бакалавра не получится, не говоря уж о лиценциате[16] или магистре. У некоторых на коленях лежит книга — тот же Гиппократ, которого читал Есениус. Но книги не у всех. Одним экземпляром пользуются два-три человека. Кое-кто разложил на коленях бумагу, собираясь делать заметки.
В эту торжественную минуту лица у всех студентов серьезны, хотя покрасневшие глаза некоторых свидетельствуют о бессонной ночи — вероятно, кое-кому пришлось допоздна петь в трактире студенческие песни, забавляя богатых горожан, которые взяли на себя все расходы по пирушке. Но теперь они пытливо смотрят на кафедру, на профессора, собирающегося учить их медицине.
Есениус начинает лекцию.
Хотя книга перед ним и открыта, но он не заглядывает в нее. Рядом с ней лежит план; Есениус быстро пробегает его глазами. И вот он уже глядит на студентов, словно желая связать их с собой невидимыми нитями. Он как бы ждет от них согласия или возражения… А студенты должны лишь молча слушать. И только по прошествии часа задавать вопросы. Опытный лектор знает, когда его слова увлекают слушателей и когда они сидят молча лишь потому, что не смеют говорить. Так и сейчас. Когда Есениусу удается увлечь студентов, заставить их следить за ходом лекции, вдуматься в то, что он говорит, в аудитории наступает такая тишина, что слышны дыхание и биение сердец. Но, когда он утомительно читает бесцветным, невыразительным голосом, студенты думают о чем-то другом. Взгляды их устремляются к окну и блуждают по крышам соседних домов, они начинают ерзать, шептаться. Время от времени шум усиливается, и профессор вынужден энергично протестовать.
Есениус продолжает лекцию:
— Для того чтобы мы могли решить задачу, выпавшую нам на этом свете, и чтобы мы исполнили свой человеческий долг, мы должны быть здоровыми. Но здоровье — это не такой дар, который достается каждому новорожденному в равной мере. Здоровье — это нежное растение, оказавшееся в объятиях мороза. Некоторые растения выдерживают ледяные объятия, другие гибнут от одного прикосновения. И если бы мы могли уберечь все растения от студеного дыхания, мы бы сохранили многие из них. Так обстоит дело и со здоровьем человека. О нем надо проявить заботу. Беречь человеческое здоровье — задача врачей. Это серьезная задача, и профессия врача — благороднейшая из всех. Поэтому врачом может быть только такой человек, который беспредельно любит людей и который понимает, каким сложным творением является человеческий организм. Этот основной принцип поняли уже народы древности, давшие миру таких врачей, как Гиппократ, Гален, Эмпедокл[17] и другие. Огромное счастье, что большинство произведений этих великих мастеров древности сохранилось до наших дней. В них заложены основы врачевания, и мы, врачи, будем постоянно к ним возвращаться. Но, прежде чем мы приступим к подробнейшему изучению каждого из них, мы должны запомнить клятву, которую произносили последователи школы Гиппократа. Выучим эту клятву наизусть, будем всегда ее вспоминать и обращаться к ней за советом в минуты, когда совесть наша смутится и мы растеряемся, когда по той или иной причине пути, которыми нам надлежит следовать, сокроются от нас в непроглядной мгле…
Возвысив голос, Есениус медленно читает текст знаменитой клятвы:
— «Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панацеей[18] и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно с моими силами и моим разумением, следующую присягу и письменное обязательство: чтить научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучить, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для воплощения подобного замысла… Чист и непорочен буду в жизни и в искусстве. Ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего неправедного и пагубного…
Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же клятву да будет обратное тому».
Многим студентам текст клятвы уже знаком. Однако сейчас он звучит как-то иначе: настойчиво и предостерегающе. В устах Есениуса клятва звучит внушительней. Это не просто цитата из древней книги — это наказ, о котором им напоминает человек, постигший всю его обязательность.
Гиппократовскую клятву Есениус приберег на конец лекции.
И вот он встает, улыбается студентам, а те выражают свою признательность бурными рукоплесканиями. Он ждет. Ждет, когда схлынет этот водопад чувств, чтобы ответить на возражения или вопросы.
Но нет ни замечаний, ни возражений, ни вопросов. Только бурные рукоплескания. А потом откуда-то с дальней скамьи раздается возглас:
— Виват профессор Есениус!
Успех наполняет душу сладостным чувством уверенности, он придает ему силы для дальнейшей работы. А работы много. Профессор anatomicus — так именуется Есениус в отличие от других профессоров — читает курс анатомии и хирургии пять семестров. Учебная программа строго распределена по годам, а в пределах года — по периодам. Так, например, курс анатомии читается в зимние месяцы. Летом — лекции по хирургии и ее практическое применение при операциях. Все это программа первого года. На втором году продолжается общая хирургия и зимой проводятся практические занятия с трупами: лето отводится для лекций о лечении опухолей. Третий год — повторение анатомии, изучение переломов, а четвертый — снова анатомия и лекции о лечении ран. Пятый год посвящается лечению нарывов.
Возвращаясь из университета, Есениус ежедневно по нескольку часов работал дома. Он закрывался в своем кабинете и писал, писал до глубокой ночи. Сидя за тяжелым дубовым столом в просторной комнате с двумя окнами и высокими кафельными печами, почти достигающими потолка, он чувствовал себя очень хорошо. Рукопись «Пражская анатомия» быстро продвигалась, стопка исписанных страниц росла с каждым днем. Есениус описывал вскрытие так, как оно в действительности протекало. В сочинении он привел свою вступительную лекцию, а затем все девять приемов вскрытия.
Посвящение и предисловие он оставляет на конец. Ведь вместе с «Пражской анатомией» он собирается издать трактат «О костях». Трактат в основном уже готов, но перед сдачей в печать его надо еще раз внимательно просмотреть и кое-что добавить. Кроме того, ему хотелось бы издать и «Методику распознавания болезней», которую написал его падуанский учитель профессор Эмилий Камполонг. Это, конечно, не оригинальная работа, ибо в ней Камполонг опирается на сочинение другого падуанского профессора, Иеронима Капивачи, но это не так уж важно. Все-таки это ценный труд и для студентов-медиков необходимый. Обязательно надо издать!
И вот наступает самое приятное для него мгновение — он приступает к посвящению. Это означает, что все уже готово. Мозг, находившийся все время в напряжении, может теперь избавиться от всего, что тревожило его многие месяцы, и детище, доставлявшее ему столько горьких и вместе радостных минут, облекается наконец в праздничные одежды, в которых его можно показать миру, — посвящение и предисловие.
«Пражская анатомия» и трактат «О костях» подготовлены к печати.
Есениус испытывает чувство облегчения, выполненная работа успокаивает его, и он вздыхает полной грудью. Рука, судорожно сжимавшая гусиное перо и не раз немевшая от усталости, теперь покоится на столе, вялая и расслабленная. Лишь роженица, изнуренная родовыми схватками, но вместе с тем охваченная радостью и волнением при виде ребенка, могла бы постичь всю сложную гамму блаженства человека, который произвел на свет свое творение, ставшее частью его существа.
Есениус понимал, что такое состояние продлится недолго. Как только время сгладит остроту содержания его книги, словно ветер, заметающий следы на песке, его душа вновь начнет тяготиться наступившим бездельем, и свобода уже не будет свободой, а превратится в муки, еще более горькие, чем муки напряженного творчества. Что же тогда? Новый замысел, новая работа.
В его сознании уже вырисовываются контуры нового произведения о хирургии, которое явится непосредственным продолжением «Анатомии».
В напряженной работе над новой книгой Есениус не замечает, как летит время. Зима уже прошла, обнажились холмы, и первая зелень возвещает о наступлении весны. Цветущие деревья напоминают Есениусу о том, что со времени его поездки в Прагу миновал уже год. Какая-то бесконечная тоска охватывает его душу. Поехать бы туда вновь!
И, словно в ответ на это желание, из Праги приходит письмо. Письмо от Браге. Среди приветов от семейства астронома, от Кеплера и молодого Фельса в письме есть фраза, которой Есениус никак не хочет поверить при первом чтении. Браге спрашивает, согласился бы Есениус занять должность личного императорского врача. Император, мол, не раз спрашивал о нем и в конце концов в ответ на почтительное предложение Браге выразил пожелание принять хирурга к себе на службу. Жалованье вполне приличное и, разумеется, выше того, какое он получает в Виттенберге. Так что пусть он, не откладывая, подумает и сообщит о своем решении при первой оказии. И, если это решение окажется положительным, желательно, чтобы Есениус перебрался в Прагу как можно скорее. Здесь он будет сердечно принят всеми друзьями.
— Ты бы хотела переехать в Прагу, Мария? — спрашивает доктор жену и смотрит на нее взглядом, в котором ее опытный глаз читает уже принятое решение. И она понимает, что, как бы она не возражала, ничего не изменится.
— А я уже думала, что мы умрем здесь, в Виттенберге, — тихо отвечает Мария. — Ты же знаешь, Иоганн, с каким трудом я привыкала к Виттенбергу после Братиславы. Теперь, когда я привыкла и чувствую себя здесь как дома, снова надо менять место…
— Если бы тебе приходилось переезжать в худший город, я бы не удивлялся твоему разочарованию, — с энтузиазмом воскликнул Есениус. — Но Прага! Подумай только, мы будем жить в Праге! В непосредственной близости от императора! Можешь ли себе представить, что значит быть личным врачом этого монарха?
Мария грустно посмотрела на мужа. Ей не хотелось разочаровывать его, но она должна была это сделать.
— Почему ты хочешь переехать в Прагу, Иоганн?
Он был несколько озадачен этим вопросом, ибо не понял, что она имеет в виду.
— Ведь я же рассказывал тебе, как прекрасна Прага. А кроме того, и это гораздо важнее, — кто не поменяет плохое на хорошее? Быть личным врачом императора!
— Только это и влечет тебя в Прагу? — укоризненно спросила она.
И он стал оправдываться, как мальчик, уличенный в скверном поступке:
— Не только это… но и все, что с этим связано. Человек никогда не должен удовлетворяться достигнутым, ибо, если бы он не стремился к высшему, он неизбежно стал бы опускаться, падать… Надо постоянно стремиться к высшей цели.
Высшая цель. И все же Есениус чувствовал, что эти слова только отговорка, с помощью которой он хочет скрыть свои истинные цели. И Есениус рассердился, рассердился потому, что он, такой красноречивый, не имеет под руками достаточно убедительных аргументов, которые помогли бы ему опровергнуть возражения жены.
— Высшая цель, — повторила она за ним, как эхо, только в голосе ее прозвучала горькая усмешка. — Что ты называешь высшей целью? Почести, которых ты добьешься на государственной службе? Если бы ты был политиком или генералом, мне было бы понятно твое стремление. Но ты ученый, Иоганн. Ты врач. Существует ли для врача цель более прекрасная и возвышенная, чем стремление как можно глубже изучить свою науку, чтобы еще лучше помогать своим ближним?
Она требовательнее к нему, чем он сам. Возможно, тут играет роль разница в возрасте. Но, в конце концов, это не так уж плохо, если жена на два года старше мужа. И все же Есениусу порой кажется, что не два года, а два десятилетия разделяют их. По внешнему виду этого сказать нельзя. Она выглядит так же, как и все женщины ее возраста, ничуть не старше — где-то между тридцатью и сорока. Но какое глубокое понимание жизни в ее словах, когда она просто и трезво рассуждает о самом сложном Деле! Мария, конечно, уступает своему мужу в образовании, но она обладает удивительным свойством проникать в суть вещей; во многом Мария Фельс разбирается гораздо лучше, чем ее супруг, она ясно видит то, чего не видит он, и быстро схватывает, вернее угадывает, скрытый смысл явлений. Сколько раз ему приходилось удивляться той точности, с какой она выражала его думы, хотя говорил он совсем другое. Словно она читала его мысли.
И сейчас он понимал, что она права, но не хотел в этом признаться. Ему казалось — признай он ее правоту, и тогда ему ничем не доказать необходимость переезда в Прагу.
— Я не только врач, но и философ. Занимаюсь даже историей, а она теснейшим образом связана с политикой.
— Не вмешивался бы ты в политику, Иоганн, — тихо произнесла Мария.
Есениус вспомнил слова императора, которыми тот закончил аудиенцию, вспомнил его совет, вернее предостережение, — не заниматься политикой. И он рассердился на жену, пытавшуюся его образумить.
— Я не согласен с тем, что ученые не должны заниматься политикой. Я убежден, что человечество было бы гораздо счастливее, если бы его судьбами распоряжались философы, а не генералы и чиновники, которые осуществляют власть огнем и мечом. Не понимаю, почему бы я не мог посвятить себя политике…
Выражение лица Есениуса свидетельствовало о том, что он расстроен. Он не любил подобных разговоров. Ему казалось, что словно кто-то заглянул к нему в душу и обнаружил в ней нечто, что он пытался скрыть не только от людей, но и от самого себя.
Но Мария стояла на своем.
— Ты, значит не понимаешь, почему не должен посвящать себя политике? Хорошо, я тебе объясню. Знаю, ты будешь на меня сердиться, но я обязана тебе это сказать. — Лицо ее стало серьезным, а во взгляде, обычно таком кротком и нежном, появилась неожиданная твердость. — Да потому, что политику ты не считаешь средством помощи своим близким, а лишь средством своего успеха. Ты думаешь, что политика удовлетворит твое честолюбие скорее, чем наука. А я боюсь за тебя, Иоганн, страшно боюсь…
И слезы, хлынувшие из глаз Марии, обезоружили Есениуса. Он было собирался горячо возражать, доказывать, что она сшибается, что она плохо его знает, приписывая ему такого рода побуждения, но, когда увидел, как искренна она в своих опасениях, горячность его мигом исчезла. Он подошел к жене и крепко ее обнял:
— Скажи, чего ты боишься?
— Не знаю… Я не могу привести какие-либо разумные доводы, но все мое существо протестует, требует, чтобы я предостерегла тебя от этого шага. Поэтому-то я и Праги боюсь…
Есениус ободряюще похлопал ее по плечу и весело сказал:
— Пустые страхи! Вы, женщины, всегда придаете значение предчувствиям и всякой подобной чепухе. Обещаю тебе, для твоего спокойствия, что ни в какую политику я мешаться не буду. После такого обещания поедешь со мной в Прагу?
— А когда ты хочешь ехать? — ответила она вопросом на вопрос.
— Как можно скорее. Как только в университете изберут нового декана.
— Поедешь на авось? Хочешь сжечь за собой все мосты? А если ты не придешься ко двору?
Она была права. Ведь и в самом деле он ничего толком не знал. Ему обо всем придется договариваться в Праге. Пожалуй, надо сначала поехать одному.
Мария согласилась.
— Конечно, Иоганн, поезжай пока один. Приготовь все для нашего переезда и возвращайся за мной.
Так Есениус во второй раз отправился в Прагу.
СМЕРТЬ ОРЛА
Чем ближе была Прага, тем сильнее чувствовал Есениус. что какая-то тайная сила влечет его туда. Ему казалось. что кони тащатся словно улитки. хотя кучер без устали подгонял их и карета неслась так быстро, как только позволяло состояние дороги.
И, когда кучер остановил лошадей у ворот Праги, Есениус понял, что это странное беспокойство, которое гнало его вперед, было не беспричинным. От первых знакомых, встретивших его в Праге. Есениус узнал грустную весть: умирает Тихо Браге. Доктор не хотел верить, это было так непостижимо, так невероятно!
На четвертый день своей болезни Тихо Браге почувствовал, что близится его последний час.
Он попросил свою дочь Софию приготовить ему постель наверху, в обсерватории, а сыновей. Тюге и Йоргена, — перенести его туда. Конечно, сыновья охотно отговорили бы отца от этой затеи, но поскольку воля Браге в доме была законом, подобным всемирному закону, обусловливающему движение планет и звезд, им ничего не оставалось, как выполнить без возражений просьбу умирающего. Они понимали, что, если будут медлить, отец станет волноваться и состояние его здоровья еще больше ухудшится.
Тем не менее сыновья вопросительно поглядели на Есениуса и Кеплера — последний целые дни проводил у изголовья своего учителя — в надежде понять по выражению их лиц, должны ли они подчиняться требованию больного.
Есениус молча кивнул головой. Он понимал, что переселение Браге наверх в обсерваторию не ухудшит и не улучшит его состояния. Да и все понимали — и лучше всех сам больной, — что близок конец. Лицо его посерело, словно смерть уже набросила на него свою тень. Временами ему ясно казалось, что «черная пани» уже стоит у деревянной резной колонки, поддерживающей полог над широкой постелью, в которой лежит он, закутанный до подбородка в мягкие перины. Для чего Браге спешит в обсерваторию? Неужели хочет убежать от нее, от смерти? Нет, он хорошо знает, что это было бы напрасной попыткой. Смерти не избежать, даже если луч света унесет его на самую далекую звезду.
Нет, ему просто захотелось еще раз увидеть свои звезды.
Браге уложили на кровать под большим окном, через которое они с Кеплером так часто наблюдали ночной небосвод.
— Откройте окно! — попросил он слабым голосом.
Холодное дыхание октябрьского вечера распространилось по комнате и свежестью своей коснулось разгоряченного лба больного. На лбу блестели капельки пота, словно утренняя роса на стеблях травы.
Через раскрытое окно Браге увидел часть небосвода, знакомую по тысячам наблюдений, но каждый раз новую и милую, как образ любимого существа. Он успокоился. Когда его взору представал бесконечный звездный мир, Браге испытывал чувство, будто душа его освобождается от пут, которыми он был привязан к этой невзрачной планете Земле, являвшейся, как он думал, все же центром солнечной системы.
На чем же прервался ход его мысли? Ах да: смерти не избежать, даже если луч света унесет его на самую далекую звезду.
Мысль ускоряет свой бег, она несется быстрее света и старается преодолеть бездонную тьму ночи; лишь кое-где освещенную одинокими точками световых маяков, которые в действительности являются огромными мирами. Как бесконечно далека эта звезда! Ведь, по его подсчетам, самая близкая из них в три тысячи раз дальше от Земли, чем Солнце. Мысль, унесшаяся подобно стреле в пропасть ночи, возвращается назад. Падает, словно птица, разбившаяся в стремительном полете о неведомую преграду. Вечность и Бесконечность — Сцилла и Харибда, о которые разбивается корабль разума.
Совершив полет по Вселенной, мысль астронома возвращается в свою телесную оболочку. Скоро она освободится от этой оболочки,
«А потом, — думает больной, — я уже буду наблюдать Вселенную с другой стороны, со стороны звезд, и мне станет все ясно, как уже стало ясно тому поляку Копернику. Этот торуньский каноник стремительным полетом своего ума, самсоновской силою своего учения разрушил колонны храма старой науки, старого мира, но не успел достроить мир новый. А я всю жизнь метался между этими двумя мирами. Один мир — это Птоломей с учением о неподвижности Земли, другой — Коперник, утверждавший неподвижность Солнца… Кто из них прав?»
Этот вопрос все время возникает в сознании больного, и в лихорадочном круговороте дум его учение предстает перед ним вместе с учением Коперника. Он вот-вот готов был принять это учение, удивительно упрощавшее все проблемы, но собственные выводы, результат всей его жизни, восставали против этого, а вычисления убеждали, что торуньский каноник неправ. По крайней мере, кое в чем неправ. Где-то ошибается. Он хотел проверить учение Коперника собственными вычислениями, но не успел. И остановился на полпути. Он пришел к выводу, что Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн вращаются вокруг Солнца. Но Земля стоит неподвижно, и вокруг нее вращаются Луна и Солнце. Он не может отступить от своих взглядов, пока кто-нибудь математически не докажет обратное. Браге надеялся, что это удастся ему. Свыше двадцати лет он записывал данные о движении планет. И прежде всего данные о движении Марса, ибо путь этой планеты интересовал его больше всего. Это огромный материал, только надо его обработать, сделать соответствующие выводы. Но он уже не успеет их сделать. Может быть…
— Кеплер… — прошептал он и вздохнул.
— Вы чего-нибудь хотите, отец? — спросил Тюге и поправил ему подушку.
— Кеплер здесь? — тихо спросил Браге, как бы очнувшись от глубокого сна.
— Я здесь, учитель, — негромко ответил Кеплер, подавшись вперед, чтобы больной его увидел.
— Ты здесь, Иоганн? — На изможденном лице Браге появилась и исчезла слабая улыбка.
По имени он называл Кеплера лишь в минуты душевного волнения, желая этим смягчить резкость былых вспышек, изгладить из памяти друга свою раздражительность, которой он восстановил против себя почти всех близких. Но Иоганн терпеливо переносил его вспышки и капризы — он понимал, что за ними кроется мудрое спокойствие… Спокойствие, глубина, мудрость. Кеплер умел прощать людям слабости. И Браге любил его за эти качества, за его долготерпение, любил даже сильнее, чем своих родных.
— Это хорошо, что ты здесь, Иоганн, — продолжал Браге. — Я хотел тебе сказать, чтоб ты продолжил мои наблюдения. Дарю тебе все свои записи… Ты только их продолжай… Докажи, кто прав.
Разговор его утомил. Дыхание стало частым, пот обильно выступил на лбу.
— Отдохните, учитель, — ласково сказал Кеплер и погладил горячую руку друга. — Я обещаю вам, что буду продолжать ваши наблюдения и приложу все силы, чтобы доказать, кто из вас прав…
Есениус пододвинул скамейку к постели больного и взял его за руку. Он едва нащупал пульс. Сердце слабело.
— Как вы себя чувствуете, дорогой друг? — спросил он, хотя прекрасно знал, что это лишний вопрос и что больной не может дать на него ответ. Надежды уже не было.
Браге медленно повернул голову и с минуту молча смотрел на Есениуса.
— И во сне и наяву вижу все время одну и ту же картину: будто нахожусь в березовом лесу, затопленном водой… Вода такая чистая, как бывает лишь весной, когда тают снега и все ручьи выходят из берегов. Вода разливается по лугам и лесам… Всюду слышно ее журчание… и вдруг мне кажется, что я это совсем не я, а одно из тех деревьев… одна из тех берез… Все это так странно и непонятно… И все же красиво…
Браге умолк, дыхание его успокоилось. Казалось, он уснул, и никто из присутствующих не осмелился вывести его из этого состояния, являвшегося не чем иным, как переходом от сна к смерти. Но он и сам еще вернулся к ним.
Браге открыл глаза и взглядом подозвал к себе Тюге.
— Вы чего-нибудь хотите, отец? — с нежностью спросил сын.
— Да, — ответил Браге, — я хотел бы кое-что продиктовать. Возьми бумагу и карандаш…
Тюге исполнил распоряжение отца. Все вокруг думали, что Браге собирается продиктовать дополнение к своему завещанию. Но он неожиданно удивил всех.
— С самого начала моей болезни меня волнует стихотворение, которое я сочинил, — тихо заговорил Браге и снова с минуту помолчал. — Пиши, Тюге, я буду диктовать.
Все со страхом поглядели на больного. Не сошел ли он с ума?
Но нет. Уже первые слова стихотворения убедили всех, что Браге действительно сочинил перед смертью стихотворение.
Медленно и выразительно диктовал он, стараясь, чтобы сын успел записать каждое слово.
Стихотворение было посвящено разлуке с близкими.
С волнением слушали присутствующие эту лебединую песню. В минуты душевного покоя Браге любил обращаться к поэзии. И сейчас, когда близилась его смертная минута, он понял, что ум его уже не сможет передать потомкам что-нибудь новое, до сих пор не известное, чего еще не было в его сочинениях. Ум отдал уже все. Оставалось сердце, наполненное возвышенным чувством любви к людям, словно соты — медом. Любви было так много, что он не мог унести ее с собой. Пусть хотя бы немного останется в этих слабых строфах.
Когда Тюге отложил бумагу со стихотворением, больной еще раз обратился к сыну:
— Почитай мне, Тюге…
— Библию? — спросил Тюге и посмотрел на полку с книгами, стоящую у дальней стены обсерватории.
— Еще рано… Почитай сперва из Бэкона. Из Роджера Бэкона.
Кеплер и Есениус снова переглянулись. Неужели его так утомило стихотворение, что он снова впал в лихорадочное состояние?
Тюге также не понимал смысла этой просьбы и растерянно глядел то на отца, то на Кеплера и Есениуса. Браге заметил их недоумение. С трудом приподняв голову, он указал на полку с книгами:
— Там в верхнем ряду, третья слева… это она.
Тюге выполнил волю отца и снял с полки нужную книгу. Она называлась: «Epistola Fratris Rogerii Baconis de secretibus operibus artis et natural et de nullitate magiae»[19] Впервые ее издали в 1552 году в Париже, хотя написана она была еще в 1260 году. Некоторые страницы книги были заложены цветными закладками, свисавшими, как из требника. Вероятно, так Браге отметил места, к которым часто возвращался.
— Читай по заложенным страницам, — приказал Браге. — Но только то, что отмечено на полях карандашом…
Тюге раскрыл книгу на первой закладке, придвинул к себе поближе свечу и стал медленно читать:
— «Велико число средств, с помощью которых мы можем обратить в бегство и уничтожить неприятеля, не прибегая к оружию и не соприкасаясь с его войсками. Например, мы можем воздействовать на обоняние вражеских солдат, отравив воздух; но есть и другие способы — стоит человеку прикоснуться к предмету, как он погибнет…»
Кеплер и Есениус знали эту книгу. Им были известны безумные пророчества ученого францисканца, жившего в XIII веке. Кто мог поверить предсказаниям, из которых за три с половиной столетия ни одно не подтвердилось? Так считали оба ученых и удивлялись тому, что умирающий попросил читать ему именно эту книгу. Ну, допустим, из Аристотеля или Птоломея… Но из Роджера Бэкона?
Между тем Тюге перевернул страницу и продолжал чтение:
— «С помощью науки можно соорудить такие механизмы, которые заставят корабль двигаться без усилий гребцов, причем с огромной скоростью, хотя управлять им будет лишь один человек. Точно так же можно построить быстро катящиеся коляски, и ни одно животное не будет их тащить.
Возможно также выстроить и машину для летания: человек сидел бы внутри ее и управлял аппаратом, который заставлял бы крылья хлопать по воздуху».
Больной слушал сосредоточенно, с интересом. По всему было видно, что все эти предсказания хорошо ему известны. Но почему он возвращается к ним сейчас, в последние минуты своей жизни? Неужели он верит в них?
Да, Тихо Браге верит, что пророчества Бэкона исполнятся, его вера тверда, как скала, на которой стоят устои грандиозного оста. Моста, повисшего над бездной трех столетий. Но мост еще в достроен. Есть только один пролет. Другой перекинут в будущее: от Тихо Браге куда-то в беспредельную даль грядущих берегов. Даже он, Браге, не видит его конца. Но необъяснимое чувство подсказывает ему, что там, на этом другом конце моста, роится мир, в котором осуществятся предсказания Бэкона.
— «Можно было бы построить аппараты, с помощью которых люди без опасений ходили бы по дну морей и рек».
«Глупые сказки, противоречащие данным науки», — так думают про себя Есениус и Кеплер. И все же, как и Браге, они внимательно слушают то, что читает Тюге. Они рады, что бурная фантазия Бэкона успокаивает больного, отвлекает его мысли от болезни, уносит его в мир нереальных вещей и невыполнимых желаний…
— «Вполне возможно так составить прозрачные стекла, что весьма малые и удаленные предметы смогут стать близкими; на невероятно большом расстоянии мы сможем прочесть совсем маленькие буквы, а звезды приблизить настолько, насколько нам это понадобится. А можно так составить стекла, что самые большие предметы будут казаться крохотными, а крохотные — самыми большими».
Кеплер снова бросил взгляд на Есениуса. Но на этот раз в его взгляде было не сомнение, а надежда.
— Вы слышите, Иоганн? — ослабевшим голосом спросил Браге, до сих пор не прерывавший чтения ни словом, ни вздохом, словно его здесь и не было. — «…Звезды приблизить настолько, насколько нам это понадобится». Подумайте об этом, Кеплер… Вы можете себе представить, что это могло бы значить для нашего дела?.. Для вашего… — поправил он себя.
И в этой поправке, в замене слова было столько умиротворенности и мужественной покорности судьбе, что глаза Кеплера наполнились слезами. Желая скрыть свое волнение, он отвернулся.
— Да, учитель, я приложу все усилия, — сказал Кеплер, и голос его дрогнул.
Сомнения Кеплера начинают рассеиваться. Во всяком случае, последнее предсказание кажется ему реальным, по всей вероятности, его можно будет осуществить. Ведь рассказывают же некоторые ученые, приехавшие из Италии, о падуанском профессоре Галилее, который уже сделал попытку построить прибор, составив вместе несколько увеличительных стекол, — телескоп. Удалось ли это ему? Или не удалось? Кто знает…
Между тем Тюге читает последнюю из отмеченных статей. В ней говорится о том. что ученые всего мира должны объединиться и общими усилиями создать книгу, в которой будут собраны все сведения о Вселенной.
Молодой Браге закрывает книгу и кладет ее на стол. В комнате воцаряется молчание. Постепенно в ней собираются и остальные члены семьи: жена, дочь София, второй сын Йорген и будущий зять Адам Фельс. Тенгнагель и его супруга сейчас за границей.
— Подойди ближе, дорогая моя Кристина, — подозвал жену Браге и взглянул на нее помутившимся взором. — И чем только мне отблагодарить тебя за все?.. Ты такая хорошая… такая… как хлеб.
Кристина склонилась над его горячей рукой и хотела ее поцеловать. Но Браге отнял руку и с трудом подняв ее, погладил Кристину по голове.
— Пусть прольется твоя доброта на головы наших детей, как благодатный дождь… А теперь можешь читать из другой книги.
Тюге взял со стола Библию. Он раскрыл ее и стал читать:
На минуту он остановился и посмотрел на отца. Ему показалось, что отец едва заметно кивнул головой. Тогда Тюге продолжал чтение:
Пока Тюге читает, Браге лежит неподвижно. Кажется, что он спит. Но вот сын снова прерывает чтение. На этот раз Браге уже не настаивает, чтобы тот продолжал. Наступила смертная минута.
Еще раз обращается к собравшимся старый орел. Не раз он смело бился своими могучими крыльями о небесные стены, а теперь, бессильный, умирает. Губы его шепчут:
— Закон Вселенной — гармония… Принцип гармонии положен в основу мироздания. — Небесные тела подчиняются этому закону и беспрекословно ему следуют… И только человек восстает против него, ибо хочет гармонию заменить хаосом… Но во Вселенной нет места для хаоса… Поэтому человечество раз и навсегда должно взяться за ум и отказаться от своего желания жить в хаосе. Пусть оно заменит это желание желанием жить в гармонии и любви.
Браге помолчал, потом прошептал еще несколько слов:
— Ах, если б не оказалось, что прожил я зря!
Все ждали, что он продолжит свою мысль. Перерывы в речи были очевидными признаками приближающейся смерти. Поэтому никто не удивился, что он замолчал. Замолчал надолго… Они все ждали, ждали… И вдруг порывисто вскочил Есениус и подошел к больному… И тогда все поняли, что произошло.
Если бы в эту минуту на полуоткрытые губы Браге опустилась пушинка, она бы не шевельнулась.
Орел умер.
Он лежал перед большим распахнутым окном с широко раскрытыми глазами, устремленными в осыпанное звездами ясное октябрьское небо. В его остекленевших глазах уже не было жизни, но в них еще отражался кусок того неба, которое он не раз наблюдал, полный сил и энергии. Ах, если бы с помощью волшебной системы стекол Роджера Бэкона все это небо уменьшилось до размеров его зрачка….
Как было бы замечательно, если б последним взглядом он вобрал в себя всю Вселенную, а Вселенная в ту же самую минуту взяла бы его к себе, чтобы слиться с ним в единое целое, где нет ни начала, ни конца, в таинственный круг, где встречаются рождение и смерть, прошедшее и будущее, где нет ни радостей, ни горя, ни человеческих страстей, ни слабостей, где господствует лишь возвышенный, непреложный закон гармонии.
ГВАРИНОНИУС
Есениус потерял своего наилучшего покровителя при императорском дворе. Он простился с покойным, произнеся траурную речь в Тынском храме, где совершался погребальный обряд. Останки императорского астронома были похоронены в этом же храме.
Однако со смертью Браге приглашение Есениуса ко двору в качестве личного врача императора осталось в силе. Гофмейстеру и главкому камердинеру все было известно, и они познакомили нового врача с условиями его работы. Условия были вполне приемлемы: жалованье — тысяча двести золотых в год и разрешение лечить кого угодно из лиц дворянского сословия, что вместе с другими заработками сулило приличное дополнение к сумме, выдаваемой из императорской казны. Строго запрещалось лечить людей не родовитых, в особенности евреев. Что же касается врачебных обязанностей, то с ними Есениуса должен был познакомить доктор Гваринониус — главный врач императора.
Имя Христофора Гваринониуса пользовалось во врачебном мире большим авторитетом. Его слава была равна, пожалуй, только славе Парацельса. Сам папа приглашал Гваринониуса в Рим и уговаривал стать его личным врачом. Но Гваринониус отверг заманчивое предложение и вернулся к своему пражскому владыке. Возможно, его решение было продиктовано не столько преданностью императору, сколько тем, что в Праге, в доме на Градчанской площади, он имел собственную и весьма прибыльную врачебную школу, которая называлась «Academia medicus».
Есениус без труда нашел дом Гваринониуса.
От слуги, который отворил дверь после троекратного удара тяжелым железным молотком, изображавшим змею Эскулапа, Есениус узнал, что Гваринониус сейчас читает лекцию. Слуга спросил, по какому делу пришел пан посетитель и настолько ли оно срочно, чтобы вызвать доктора из лекционной комнаты.
Есениус ответил, что готов подождать.
Он опустился в глубокое кресло с высокой резной спинкой и стал смотреть на дверь, из-за которой слышался громкий голос лектора. До Есениуса донесся текст латинских стихов:
Ведь это «Regimen sanitatis», основной медицинский труд салернской школы, наставления которой вместе с наставлениями, изложенными в «Compendium salernitanum», должны знать на память слушатели медицинских факультетов всех университетов.
Услыхав знакомые стихи, Есениус улыбнулся про себя и невольно стал шепотом повторять их вслед за лектором. Основные лечебные правила:
«Будь умеренным в потреблении вина, меньше ешь, и ничто тебе не будет во вред.
Избегай послеобеденного сна… Если выполнишь эти правила, будешь долго жить.
Позаботься главным образом о трех вещах: о веселых думах, об отдыхе, о скромной пище».
Знакомые слова воскрешали в памяти знакомые события. Сколько лет прошло с тех пор, как он сам слышал эти правила, а впоследствии, на экзаменах, повторял их? Не так уж много — чуть-чуть более десяти лет. А между тем сколько он забыл за это время! Теперь все снова возникает в его памяти. И вот ему кажется, что он сидит в большой аудитории Падуанского университета, в кругу своих соучеников, которые съехались в Падую со всех уголков Европы. Он слышит слова профессора, читающего лекцию. И из всех смешных и забавных историй вспоминается одна. В аудиторию входит знаменитый хирург и анатом Фабрицио дель Аквапенденте. Он сообщает слушателям, что завтра будут казнить преступника. Падеста, верховный правитель города, согласился отдать труп казненного университету для учебных целей, для анатомирования. Профессор спрашивает у своих слушателей, согласны ли они принять предложение падесты: хотят ли анатомировать человеческое тело — corpus humanum, или свиную тушу — corpus suis. Слушатели как по команде стали кричать: «Corpus suis! Corpus suis!» — дополняя свое требование топотом ног. И только один студент, немец Пфеферкорн, известный своим прилежанием, высказался за «corpus humanum». Однако несколько оплеух и тычков в бок при дополнительном «внушении» помогли ему понять значение слова «солидарность». Дело в том, что анатомирование свиньи приносило студентам двойную пользу: во-первых, студентов учили, как это было тогда принято, узнавать отдельные органы, правда, сличая их с теми, что были нарисованы в учебнике «Anatomia porci», а во-вторых, после они устраивали добрую пирушку и вдоволь наедались той же свинины.
Голос вдруг умолк, и сразу исчезли воспоминания.
Распахнулись двери, в них появился высокий седовласый старик с гордым взглядом. За ним, оживленно беседуя, высыпала группа молодых людей.
— Почему вы не велели меня позвать? — спросил Гваринониус после того, как Есениус назвал себя и изложил цель своего посещения. — На этот счет у моего Андреа имеются твердые распоряжения. Удивляюсь, почему он их не выполнил…
Есениус оправдывал слугу. Он сказал знаменитому врачу, что не хотел прерывать лекцию, и добавил, что ему было очень приятно сидеть в приемной, так как, слушая лекцию, он вспоминал свои студенческие годы в Падуе.
Гваринониус провел гостя в кабинет. Взгляд посетителя приковала громадная печь, на которой, словно в лаборатории алхимика, стояли различной формы банки и баночки, реторты и дистилляторы. Затем глаза невольно перебегали на две большие полки: одна была заполнена книгами, переплетенными в грубую, по большей части желтую свиную кожу, на другой в несколько рядов стояли глиняные, мраморные и металлические банки с латинскими надписями. Это была аптека Гваринониуса, который собственноручно готовил для императора все лекарства.
— У меня здесь небольшой беспорядок, — извинился хозяин, перекладывая кипу книг со стула на пол, чтобы освободить место для гостя. — Я запретил слуге убирать в этой комнате, потому что после его «приборки» ничего нельзя найти.
— По всему видно, вы здесь много работаете, — промолвил Есениус, усаживаясь.
Гваринониус сел напротив гостя. Он был по крайней мере вдвое старше Есениуса: виттенбергскому врачу исполнилось только тридцать пять лет, а Гваринониусу перевалило за семьдесят. Если бы кто-нибудь увидел их сейчас вдвоем, то, наверное, решил бы, что это отец и сын. На лице Гваринониуса, с седой бородкой и коротко подстриженными усами, жизнь оставила свои следы в глубоких морщинах, которые придавали его иссохшей коже вид старого пергамента. Две глубокие складки, идущие от носа к уголкам рта, свидетельствовали о решительности и твердой воле императорского лекаря. В черных глазах искрился задорный огонек.
Профессор окинул пытливым взглядом молодого врача, отметив безукоризненность одежды, и перевел глаза на его серьезное, слегка побледневшее лицо. Во взгляде старого ученого словно таился вопрос: «Что я найду в тебе — еще одного ученика, последователя — или нового-врага?» По слухам, дошедшим до Праги, а главное — по высказываниям покойного императорского астролога Тихо Браге, Есениус был человеком исключительной учености. Правда, о нем говорили, что он не признает авторитетов. «Ладно, посмотрим!» — подумал про себя Гваринониус и решил хорошенько изучить своего гостя.
— Я слышал от его императорского величества, — дружелюбно заговорил Гваринониус, — что он пригласил вас к себе в качестве личного врача. Знаю, что и Карлов университет весьма вас ценит. Ну что ж, надеюсь найти в вас хорошего помощника.
От слуха Есениуса не ускользнул едва заметный оттенок, с каким хозяин дома произнес слово «помощник». Этим он выразил надежду, что в своей научной деятельности Есениус будет следовать одним путем с ним.
— Это для меня большая радость, — с изысканной учтивостью ответил Есениус и слегка поклонился. — Для меня честь работать с ученым доктором, слава о котором разнеслась по самым дальним странам нашего материка.
В общении с сильными мира сего Гваринониус постиг все тонкости этикета и изысканности речи. И, хотя он понимал, что Есениус говорит так из-за учтивости, он все же почувствовал в его словах искреннюю нотку и поэтому отблагодарил гостя новым комплиментом. Он сказал, что отзывы его друзей, к сожалению уже покойных — Тихо Браге и Тадеаша Гайека из Гайека, — значат для него гораздо больше, чем дипломы и письменные свидетельства любых университетов.
Вскоре, однако, собеседники почувствовали, что произнесли достаточное количество учтивых фраз и пора перевести разговор на профессиональные дела.
— Вы уже видели императора? — спросил Гваринониус, резко меняя тему беседы. — Что вы можете сказать о состоянии его здоровья?
Есениус ответил осторожно:
— Беседа его величества со мной продолжалась весьма недолго. За такой промежуток времени трудно составить представление о состоянии здоровья человека, тем более такой важной особы, такой утонченной натуры, как его императорское величество. И, кроме того, для этого нужно знать все симптомы болезни. Но мне все же удалось, несмотря на кратковременность аудиенции, убедиться, что слухи о меланхолии абсолютно правильны.
Гваринониус задумчиво кивнул головой.
— К сожалению, это так. Наш коллега при дворе, доктор Писториус, целиком посвятивший себя лечению меланхолии у императора, расскажет вам об этом гораздо больше, чем я. Мы разделили свои обязанности: доктор Писториус лечит императора от меланхолии и, надо сказать, достиг, в особенности за последнее время, удивительных успехов; я забочусь о желудке императора и лечу его внутренние болезни. У вас, как у хирурга и анатома, по сравнению с нами дел будет гораздо меньше, потому что его императорское величество, благодарение богу, не страдает недугами, при которых пришлось бы пустить в ход нож или пилу.
— Его императорское величество распорядился, чтобы я испросил у вас соответствующие указания.
Гваринониус протянул руку Есениусу и скромно сказал:
— Что вы, домине доктор, совсем не указания. Неужели император употребил это слово? Нет, нет! Здесь мы все равны. Я не собираюсь быть вашим начальником, все мы подчиняемся непосредственно императору. Я посвящу вас только в распорядок, вернее сказать, познакомлю вас с характером нашей работы. Как я уже сказал, по крайней мере мне так кажется, для хирурга дел будет мало. Поэтому я буду вам весьма благодарен, если вы согласитесь помогать мне в лечении других болезней его императорского величества. С доктором Писториусом мы всегда советуемся о новых симптомах болезни императора. Такие консультации весьма полезны.
Есениус утвердительно кивнул головой.
— Правда, император — трудный пациент, — продолжал Гваринониус, — кроме меланхолии, как я уже сказал, он страдает болезнью желудка.
— Режим воздержания от тяжелых мясных и острых блюд, от вина и паленки. Вместо всего этого — отвар полыни, — полушутя, полусерьезно вставил Есениус.
Гваринониус улыбнулся:
— Хороший совет, но трудно выполнимый. Император не желает отказываться от вкусной острой пищи и от крепких вин. А полыни и в рот не берет, приходится разводить ее на коричной настойке. При этом лекарство действует вдвое слабее. В результате густая кровь попадает в голову, и это вызывает у императора состояние бешенства. Он начинает метаться и крушить все, что попадется под руку, как неистовый Роланд. Что делать? Приходится пускать кровь или ставить банки. В отдельных случаях даем слабительное. Таково состояние здоровья его императорского величества. А завтра доктор Писториус изложит вам свое мнение о меланхолии императора.
— В самом деле, хирург здесь мало поможет, — решительно заявил Есениус.
Мнение его о докторе Гваринониусе изменилось к лучшему. Вначале он думал, что придворный врач прописывает императору лекарства вроде жемчужного порошка, дробленых драгоценных камней или расплавленного золота, как часто в те времена поступали врачи в отношении высокопоставленных особ или просто богатых людей, имевших возможность платить большие деньги.
— Если бы это зависело от вас, вы бы гораздо охотней просто вырезали императору желудок. Не правда ли? — поддел Есениуса хозяин. — Но где потом возьмешь другой?
Однако виттенбергский профессор не поддержал шутки.
— Ах, как было бы интересно вскрыть вот такой больной желудок и посмотреть, чего ему не хватает! — задумчиво промолвил он. — Тогда бы многие болезни мы лечили гораздо успешней, чем теперь, когда мы вынуждены основываться лишь на догадках.
— Ведь вы это уже делаете? — промолвил Гваринониус с легкой насмешкой. Есениус хорошо понял, почему его собеседник сказал не «делаем», а «делаете». Удар был явно направлен в него. — Но больному это уже не помогает, ведь он мертв. Короче говоря, все эти ваши вскрытия для врачебной науки едва ли имеют большое значение.
Есениус порывисто поднял голову и посмотрел на Гваринониуса, словно не веря тому, что услышал.
— Вы противник анатомирования? — с удивлением спросил он. — Ведь анатомирование позволяет нам познать строение человеческого тела и деятельность всех его органов.
— Трудно познать их деятельность, когда они уже не действуют, — возразил Гваринониус с той насмешкой, которая была характерна для него в спорах со своими противниками. — Кроме того, наблюдение мертвых частей человеческого тела не имеет значения для лечения живого организма, ибо из этого невозможно сделать полезные выводы. Думаю, вы согласитесь со мной, что органы человеческого тела, прекратив деятельность или перейдя в состояние, отличное от того, какое было при жизни, существенно изменяются.
— Вы правы, они частично изменяются, — согласился Есениус, — но это вовсе не означает, что исследование их не имеет значения для нас, врачей. Когда мы будем знать строение этих органов, нам легче будет представлять их нормальную деятельность. И нам станет гораздо легче определить болезнь, которая возникла в результате нарушения этой нормальной деятельности. И, наконец, непосредственное изучение человеческого тела расширяет и дополняет наши сведения, полученные из книг.
— Гиппократ и Гален поведали нам о человеческом теле все, что о нем следует знать, — категорически заявил Гваринониус.
Он произнес это тоном, не допускающим возражений.
Но Есениус был настолько убежден в своей правоте, что его не так-то легко было обезоружить. Он понимал: перед ним убежденный последователь Галена. И не какой-нибудь юнец, а большой ученый. С таким достойно сразиться! Это хорошо образованный противник.
— Я высоко ценю научные труды Гиппократа и Галена, но не могу смириться с тем, что во врачебной науке они достигли тех вершин, после которых идти уже некуда. Наоборот, надо идти дальше.
Он говорил это твердо и решительно, так же, как минуту назад говорил Гваринониус, и лицо его пылало от возбуждения.
Гваринониус было нахмурился, но тут же успокоился и сказал, хотя и не без некоторой насмешки:
— Я готов думать, что у вас в Германии существует сейчас бомбастовское направление во врачебной науке.
Есениус понял, что Гваринониус намекает на имя великого немецкого врача Теофраста Бомбаста из Гогенхейма, назвавшего себя Парацельсом. Учение Парацельса завоевало многих сторонников даже в Праге. Есениус к ним не принадлежал и поэтому спокойно ответил:
— Я не нахожусь в числе приверженцев Парацельса, хотя и признаю, что во многом он прав и его принцип «назад к природе» заключает большую мудрость. Однако сожжение Парацельсом трудов Галена одобрить не могу. При всем этом я убежден, что Гален не был, не есть и не может быть последним словом медицины.
Гваринониус смотрел на своего виттенбергского коллегу взглядом старого, опытного мужа, который несколько высокомерно, но вместе с тем благосклонно выслушивает иллюзорные речи легко возбуждающегося молодого человека.
— Что мы по сравнению с Гиппократом и Галеном? Букашки перед великанами. Наши плечи слишком слабы, чтобы мы могли сдвинуть с места эти скалы.
Но Есениус упрямо отвечал:
— А может, эти скалы не так уж крепко приросли к земле, чтобы их нельзя было сдвинуть? Я не хочу сказать, что мы должны отбросить их, как ненужный хлам. Нет, совсем нет! Их надо только немного отодвинуть, чтобы они не загораживали нам пути вперед.
— Yuveatus ventus! Юность — ветер! — произнес Гваринониус и улыбнулся, ибо, хотя упрямство Есениуса и немного рассердило его, ему все же нравился этот молодой ученый, так решительно отстаивающий свои убеждения.
НОВОЕ ЖИЛИЩЕ
Смерть Тихо Браге оставила глубокий след в доме Цурти на Погоржельце. Пани Кристина первые дни ходила сама не своя, и при каждом упоминании о покойном глаза ее наполнялись слезами. Но постепенно она смирилась с происшедшим и стала привыкать к своей вдовьей доле. Всю свою заботу она перенесла на детей. А поскольку в разлуке любовь крепнет и тоска становится невероятно острой, из всех детей самой желанной для нее сделалась Альжбета, жившая далеко от родного дома. Тоска по ней еще больше усилилась, когда пришло письмо от Тенгнагеля к Браге и Кристине — он еще не знал о смерти тестя — с сообщением о том, что Альжбета родила красивого и крепкого сына. Как радовалась пани Кристина этому известию и как тосковала по своему первому внучонку! Это незнакомое существо, которое в ее представлении было олицетворением всего прекрасного, было единственным светлым лучом на закате ее жизни. Когда же она его увидит? Родился он осенью, и в лучшем случае родители привезут его весной. А может, даже летом. И пани Кристина без конца говорила о дочери, зяте и внуке, отвлекаясь тем самым от воспоминаний о покойном муже.
Барбора Кеплерова, жившая в доме Браге вместе со своим мужем и дочерью с того самого времени, как они покинули Градец в Штирии, слушала панн Кристину с большим сочувствием, свойственным каждой женщине, готовящейся стать матерью.
Она была полна радостных надежд, хотя радость эта временами омрачалась воспоминаниями о ее первенцах, которые так рано навсегда покинули своих несчастливых родителей. Может быть, третий будет счастливее?
Еще одна забота не давала покоя пани Кеплеровой: боязнь за мужа, за его здоровье. Зиму он кое-как продержался, но весна его свалила. Он простудился и должен был слечь в постель. Кашель доводил его до полного изнеможения. Есениус прописал ему лучшие микстуры и сам наблюдал за их приготовлением в аптеке доктора Залужанского. Он долго опасался, что это чахотка. Но Кеплер, тоже высказавший подобное предположение, сам же своей веселостью рассеял опасения Есениуса. С какой легкостью вздохнул виттенбергский профессор, когда с наступлением весны состояние здоровья Кеплера улучшилось настолько, что императорский математик наконец встал и принялся за работу!
— Иоганн, — заговорила однажды Барбора, когда Кеплер вернулся из Града, — нам надо подумать о новой квартире.
Кеплер был подготовлен к этому разговору. Мансарда, которую они занимали в доме Цурти, была для них мала: всего лишь одна большая комната и крохотная каморка. Скоро должен появиться новый член семьи, и он займет в маленькой квартире куда больше места, чем любой взрослый.
— Попрошу императора, чтобы мне дали подходящее жилище. Здесь нам уже тесно, а кроме того… гм… ведь скоро вернется Тенгнагель… Понимаешь?
Она понимала. Она знала характер Тенгнагеля. Это был неуживчивый, самовлюбленный человек, ревниво относящийся к Кеплеру. Тенгнагель был убежден, что он такой же крупный математик и ученый, как и Кеплер, если не крупнее, и считал себя наследником Тихо Браге не только как ближайший родственник, но и как астроном. Работать с таким человеком под одной крышей было крайне тяжело.
И супруги условились приложить все старания к тому, чтобы как можно скорее переселиться в другое место.
Хлопоты Кеплеров о переезде на новую квартиру напомнили и Есениусу о том, что ему следует заняться тем же самым. Университет обещал ему квартиру в Лоудовой коллегии, только ее надо будет подготовить: побелить, а возможно, кое-что и перестроить. Но зимой все это трудно делать. Отложили до весны. Тогда Есениуса это не очень тревожило, так как за женой он собирался ехать, когда потеплеет. Но теперь откладывать было уже нельзя.
И он собрался к Бахачеку. Кеплер предложил пойти вместе с ним.
Когда Есениус изложил Бахачеку цель своего визита, тот стал его успокаивать:
— Профессорский совет уже решил предоставить вам квартиру в Лоудовой коллегии. Речь идет только о ремонте и побелке… Надеюсь, это будет не дорого стоить. Но дело в том, что в университетской казне сейчас хоть шаром покати.
— Если задержка только в этом, я бы мог помочь. Сам расплачусь с мастерами, а университет мне вернет, когда у него будут деньги.
— Вот и прекрасно! — воскликнул успокоенный Бахачек. — С таким предложением мы можем хоть сейчас идти к ректору Быстржицкому. Разумеется, не обязательно сию же минуту, но, во всяком случае, уже сегодня мы можем все решить. Прежде всего нам не мешает немного подкрепиться.
Бахачек ударил несколько раз в ладоши и, когда явился слуга, распорядился подать пива.
— Надеюсь, хмельное лучше слез, не так ли? — улыбнулся Бахачек своим гостям, когда слуга вышел. — У меня уже слюнки текут.
В этот момент кто-то без стука отворил дверь.
Бахачек удивленно оглянулся, думая, что это слуга. Однако это был не он.
— Ах, это ты, Симеон? — добродушно воскликнул Бахачек. — Приветствую тебя. У тебя какие-нибудь новости?
В дверях стоял человек среднего роста, в рваном платье. В одной руке он держал потертую меховую шапку, в другой — посох. За плечами висела холщовая котомка. Из грязных башмаков, привязанных к ногам веревками, высовывались пальцы. Лицо у него было заросшее, с неопрятными усами и длинной бородой цвета соломы. Такого же цвета растрепанные волосы спускались до самых плеч. Глаза странно блестели.
Он заговорил пророческим голосом:
— Мир дому сему. Бог наш и спаситель Иисус Христос повелевает нам напоить жаждущих и накормить голодных. Живем мы не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. А живем мы для того, чтобы служить богу. Посылает бог к вам, почтеннейший и ученейший профессор, своего раба, чтобы завтра вы позаботились о нем так, как заботится отец наш небесный о птицах, которые восхваляют его своим пением.
Молодой человек умолк.
— Добро, добро, Симеон, — дружески ответил ему Бахачек, — можешь приходить завтра завтракать и обедать и ужинать. Ты давно у нас не был.
— Я прихожу, когда бог велит.
— Молодец, правильно поступаешь, — одобрил его слова Бахачек, изо всех сил стараясь сдержать улыбку. — А хорошо ли ты несешь службу, порученную тебе богом?
— Я стараюсь разбудить уснувшее сознание грешников, и господь бог каждый день записывает деяния мои. Если бы я молчал, камни бы стали взывать. И, если голос мой ослабеет, бог пошлет мне с ангелом трубу, звук которой уничтожил стены Иерихона.
Есениус слушал юродивого со смешанным чувством. Сострадание, которое испытывает каждый порядочный человек при встрече с людьми несчастными и убогими, постепенно уступало в нем профессиональному чувству. Симеон начинал интересовать его как больной.
Есениус обратился к Бахачеку с просьбой узнать у Симеона, правда ли, что мастер Прокоп якобы извлек камень из его головы.
Симеон охотно рассказал эту историю, придав ей, однако, другой смысл.
— Итак, я жил во грехах. Много их у меня было, я давили они мне душу, словно камни. И возвестил тогда господь бог, что пора взяться за ум и исправиться. Но я не услышал его голоса я продолжал грешить. И отец небесный наказал меня, вложил в мою голову камень. И камень этот заставил меня почувствовать всю тяжесть моих грехов. И все же бог не захотел, чтоб с этим грузом я ходил до самой смерти. Это было лишь предостережение. И послал он ко мне мастера Прокопа, который вывел меня на путь спасения. Прокоп избавил меня от камня в голове, а бог от грехов. И открыл мне бог глаза, и понял я, что все это было лишь испытанием. Выдержал я это испытание, и господь бог сделал меня своим посланцем.
Рассказывая эту историю, Симеон сохранял полную серьезность. Он так уверовал в свое назначение, что слушатели не могли его разубедить. Да они и не пытались — все равно ничего бы не вышло.
Бахачек без улыбки спросил:
— А нам ты не принес какой-нибудь вести?
— Вам нет, — ответил Симеон все так же серьезно, не замечая скрытой ирония в голосе Бахачека. — Вам-то нет, а вот этому доктору принес, — продолжал Симеон, указывая выразительным жестом на Есениуса.
— Что за весть? Надеюсь, ты можешь сообщить ее при нас?
— Обуял его смертный грех гордыни. Уподобился он падшим ангелам, которые возомнили себя равными создателю своему и отказали ему в послушании. И захотел он проникнуть в тайну, сокрытую богом от взора человеческого. Есть у него еще время раскаяться в грехах своих и стать праведным. Вяжу его насквозь, и душа его, словно книга, раскрыта передо мной. Но он, если вскроет тело мое, ничего не найдет в нем, ибо слеп есть. Взгляд его затуманила гордыня. Пойдет он, слепой, путями-дорогами, а услышит голос, который заманит его на край пропасти.
Симеон нахлобучил шапку и с достоинством вышел.
После его ухода в комнате воцарилось неловкое молчание.
Есениус не понял Симеона я вопросительно смотрел на Бахачека, ожидая, что тот переведет ему слова юродивого.
— Пустое, — махнул рукой Бахачек и громко рассмеялся. — Бог его знает, откуда он все это берет. Вычитает что-нибудь в Библии, подхватит у проповедников, да и сам придумает, недаром отец у него слыл грамотеем. Потом в голове у него все перемешается, и такую чепуху он городит, что ничего понять нельзя. Вроде того, что вы сейчас услышали.
Но Есениуса не удовлетворил ответ Бахачека, и тот вынужден был перевести ему все.
— Хорошо, что я не суеверен, — засмеялся Есениус. — Но теперь я уже не удивляюсь, что люди побаиваются Симеона и уверены, что он ясновидец. Он говорит так убежденно, что простой человек волей-неволей поверит его прорицаниям. Лишь бы это к нему не относилось. Люди ведь не любят слушать неприятные для себя вещи. Даже тогда, когда их говорит юродивый.
Есениус извинился и поднялся. Слуга проводил его в ректорские покои.
Когда Есениус ушел, Бахачек спросил у Кеплера:
— Как вам нравится наш доктор?
— Странный он человек, — задумчиво ответил Кеплер. — Но что-то влечет меня к нему. И все же я не могу сказать, что он близок мне по своему характеру. Наоборот, в нем есть нечто такое, что, как мне кажется, разгадал Симеон. Не смейтесь, вы ведь знаете, что говорят о словах юродивого.
— Что они сама истина, — докончил Бахачек мысль Кеплера.
— Совершенно верно. Ведь юродивый правильно подметил основную черту в характере Есениуса.
— Гордость?
— Он назвал это гордыней, то есть не столько гордостью, сколько честолюбием. Чудовищным честолюбием, которое бушует, словно огонь, и требует быстрого успеха.
— Каждый из нас мечтает об успехе в жизни, — заметил Бахачек.
И Кеплер почувствовал в этих словах не только попытку оправдать Есениуса, но и упрек в свой адрес. В тоне, каким Бахачек произнес свою фразу, слышался вопрос: «А разве вы не мечтаете об успехе?»
— Конечно, все мы мечтаем об успехе, — согласился Кеплер, — но он мечтает о быстром успехе. А это разные вещи.
Бахачек сидел, удобно расположившись в большом деревянном кресле, растирая свои пухлые короткие пальцы. Профессор думал о том, что хорошо бы посоветоваться с Есениусом, не знает ли тот какое-нибудь подходящее лекарство от ломоты в суставах.
— Я думаю, он имеет все основания надеяться на быстрый успех. Уже одно публичное анатомирование…
— А скажите, что, по-вашему, заставило его взяться за это анатомирование: слава академии или собственная слава? — спросил Кеплер.
Бахачек чувствовал, что голова у Кеплера работает так же правильно и точно, как работают хорошие часы; не так-то легко противостоять логике его выводов.
— Вероятно, и то и другое, — ответил Бахачек. — В конце концов, ведь он не извлек из этого никакой материальной выгоды. Возможно, вы и правы, но мне этот человек чем-то очень нравятся.
— Мне тоже, — поспешил согласиться Кеплер. — Поэтому-то я и хочу все знать о нем. Когда испытываешь сердечное расположение к человеку, всегда хочется как следует его узнать, оценить по достоинству, проверить свое мнение о нем у других людей, чтобы впоследствии не испытывать чувства разочарования. Не хочется отдавать свою дружбу недостойному. Есениус заслуживает того, чтобы мы раскрыли перед ним свое сердце, но… Надеюсь, нам еще представится случай поговорить с ним об этом откровенно. Разумеется, не сейчас, а потом, когда мы лучше его узнаем. А теперь, поскольку уже совсем стемнело, мне, пожалуй, пора идти на башню и приготовить все для наблюдения звезд. Пойдемте, ночь будет чудесная.
— Я согласен идти, но при двух условиях. Во-первых, мы должны дождаться Есениуса, а во-вторых, хорошо было бы подкрепиться, а то пиво быстро выветрится…
Есениус стремился осмотреть свою новую квартиру. Он знал, что коллегия находится где-то на Вифлеемской площади.
С ректором они договорились, что на другой день его проводит туда пробст[21] коллегии профессор Жабониус. Встретиться условились в Главной коллегии, у Бахачека. Бахачек отправился вместе с ними. По дороге он горячо расхваливал новую квартиру Есениуса.
— Вы получаете прекрасное жилье: две комнаты, кухня, прихожая, кладовая. Что и говорить — господские хоромы! Ах, как бы я хотел посмотреть на вашу жену и на ее радость, когда она прилетит в новое гнездышко!
Есениуса неприятно удивило, что Бахачек упомянул только о двух комнатах. Этого мало. Однако доктор надеялся, что комнаты будут достаточно большие и светлые.
Вскоре они пришли на Вифлеемскую площадь и миновали ворота Лоудовой коллегии, расположенной рядом с Вифлеемской часовней.
— И до храма Христа отсюда недалеко, — говорил Бахачек, продолжая превозносить достоинства новой квартиры. — У вас будут такие же удобства, как у основателя часовни Кржижа, которому принадлежит дом по соседству, — сейчас там Назаретская коллегия. Кржиж распорядился построить крытую галерею от своего дома до часовни.
— Я не так ленив, — улыбнулся Есениус.
Студенты, слонявшиеся возле коллегии, приветствовали профессоров на латинском языке. Они внимательно рассматривали Есениуса.
Жабониус ввел гостей в просторный и безлюдный двор. В центре двора находился крытый колодец, от которого через весь двор ручейком текла вода. В конце двора высилась куча навоза, запах которого ударил им в нос, едва они вошли в ворота.
— Здесь, — произнес Жабониус и открыл низкую дверь в стене.
Он вошел первым, за ним проследовали Есениус и Бахачек.
Двери были настолько низкими, что Есениусу пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о притолоку. Они вошли в небольшую прихожую, каменный пол которой находился на одном уровне с землей. За прихожей была кухня с открытым очагом. От прихожей ее отделяла толстая стена с полукруглым проемом без двери.
Всюду было пусто. Бывший владелец этого жилища умер, а его жена переехала к родственникам. Но Есениусу казалось, что его предшественник находится еще где-то здесь. Кухня была полна запахов пищи и едкого дыма.
Ничего хорошего не ждало их и в комнатах.
Чтобы попасть в них, надо было пройти через кухню. В каждой комнате было по два окна, но выходили они во двор.
Убогость помещения усугублялась полным отсутствием мебели. Есениус не мог скрыть своего разочарования.
Даже Бахачек, увидев квартиру в таком состоянии, перестал расхваливать ее.
— Прежний жилец, видно, не заботился о своем доме и немножко запустил его. Но это ничего. Вот увидите, как хорошо здесь будет, когда мы все приведем в порядок. Вам здесь понравится. И до Града отсюда близко…
Есениус как только мог любезно поблагодарил Бахачека за внимание и сказал, что подыщет себе другую квартиру, хотя и понимал, что этим он оскорбляет ректора и весь профессорский совет. Ведь ему хотели угодить, дали ему лучшее помещение, какое только мог предоставить университет, а он отказывается. Конечно, так поступать не годится. Но он не мог примириться с такой квартирой. Она не подходила ему и по своим размерам. Две комнаты! В Виттенберге у него было пять комнат. И в каком доме! И разве так уж нескромно с его стороны возражать против квартиры? Сюда и гостей не пригласишь. Иное дело квартира, которую занимает семья покойного Браге! А у доктора Гваринониуса просто дворец! Вполне понятно — личный врач императора. Но и Есениус личный врач.
— Конечно, квартира небольшая, зато удобная, — тянул свое Бахачек.
Жабониус, заметивший разочарование на лице Есениуса, счел необходимым вмешаться.
— А хватит ли вам двух комнат? Мы знаем, как трудно в них разместиться. Нам, одиноким профессорам, немного надо, но, когда у человека есть семья, и требования у него больше.
Есениус был благодарен Жабониусу.
— Боюсь, что для моей семьи этого будет маловато, — сказал Есениус. — В Виттенберге у нас пять комнат… Конечно, мы не повезем с собой все имущество, зато книг у меня много… Только для них нужна комната. Это будет мой кабинет. Вторая комната, и все! Была бы, по крайней мере, еще одна комната… для столовой. Она могла бы быть и гостиной.
Ученые растерянно поглядели друг на друга.
— А ведь мы и не подумали, что женатому человеку так много надо… Гм!.. Что же делать?..
Есениус молчал.
— Я могу предложить еще одно решение, — заговорил Жабониус. — Сразу же за стеной вашей квартиры, в Назаретской коллегии, находятся две пустые комнаты. Если пробить стену, то у вас получится целых четыре комнаты. Вам бы этого хватило.
Бахачек вопросительно посмотрел на Есениуса.
Есениус кивнул.
Жабониус обрадовался, что его предложение устраивает Есениуса.
Когда Бахачек и Жабониус рассказывали ректору, как они решили дело с квартирой Есениусу, Бахачек сердито заметил:
— Думаю, что его разочаровала квартира в Лоудовой коллегии.
Быстржицкий примирительно сказал:
— Мы можем предложить ему лишь то, что имеем. Мы дали лучшее, что только есть в нашем распоряжении. Но не удивляйтесь: он привык жить в условиях, которые много отличаются от наших… Да, в других странах больше почитают людей ученых.
МАРИЯ И БАРБОРА
Приезд Марии в Прагу был невеселым.
Когда квартиру в Лоудовой коллегии уже побелили и перестроили, присоединив к ней две комнаты из соседнего помещения, а Есениус готовился в дальний путь, в Виттенберг, судьба неожиданно уготовила ему новое испытание: заболел его шурин Адам Фельс. Есениус отложил поездку и энергично взялся за лечение шурина. Но, несмотря на все старания доктора и семейства Браге, в особенности одной из дочерей покойного астронома, Софии, которая была помолвлена с Адамом, состояние больного день ото дня ухудшалось. Есениус пригласил на консилиум доктора Залужанского. Оба они пришли к выводу, что Адам Фельс заболел эпидемической лихорадкой. Болезнь сопровождалась неутолимой жаждой, бессонницей и судорогами. Желудок перестал работать. Лекарства не помогали. Адам Фельс умер в страшных мучениях через две недели. Есениусу предстояла печальная обязанность похоронить своего шурина и еще более печальная — известить о случившемся Марию.
Пани Мария прибыла в Прагу в трауре, заплаканная. Сразу же по приезде она направилась на могилу брата. И только после этого занялась устройством квартиры. Одним из первых гостей Есениусов оказался управляющий Лоудовой коллегии профессор Якуб Жабониус из Вышетина.
Это был рыжеватый молодой человек с девичьим лицом. При разговоре с пани Марией он все время краснел, а Есениус в глубине души посмеивался над его смущением.
Жабониусу понравилось у новых знакомых. Теперь, когда комнаты были обставлены новой мебелью, — из Виттенберга Есениусы привезли только несколько самых лучших вещей, остальное купили в Праге — квартира стала по-настоящему уютной.
За исключением привезенного из Виттенберга, все сверкало новизной. От стен еще исходил острый запах известки. Вся обстановка комнат свидетельствовала о незаурядном вкусе хозяев: сказывались высокая требовательность ученого, который повидал свет и не остался безразличным к прекрасному, и женская склонность к порядку и комфорту.
Но, если в убранстве гостиной гармонически сочетались вкусы Есениуса и его супруги, то в соседней комнате все устраивал сам хозяин. Двери в эту комнату были распахнуты настежь, гость, сидящий в гостиной на почетном месте, мог видеть громадные книжные полки.
Взгляды Жабониуса не раз приковывали эти полки, снизу доверху заставленные книгами.
Есениус заметил этот любопытный взгляд.
— Посматриваете на мою библиотеку? К сожалению, большую часть книг пришлось продать в Виттенберге или раздать знакомым. Книги — тяжелый груз, и если бы я захотел перевезти в Прагу всю свою библиотеку, то для других вещей на подводе не осталось бы места. Хотите посмотреть, что у меня имеется?
Жабониус быстро поднялся и направился в соседнюю комнату. Там он сразу же подошел к полке, на которой заметил картонную папку с какой-то латинской надписью. Это было обращение к книгам, которое Есениус написал еще в Виттенберге:
«Приветствую вас, благословенные творения, которым дух человеческий дал бессмертие. Вы творцы благочестия и нравственности, наставники в науках, всегда готовые помочь и доступные для всех советники, верные помощники; ваше содержание не требует больших расходов, но вы отрада для нас и пища духовная, и крепость телесная, и путь к воспитанию чувств; облаченные в одну одежду, вы всю жизнь довольны ею, вы удивительные друзья и соратники в борьбе против времени, вы по-настоящему великолепны и навечно остаетесь свидетелями добродетели усопших. Приветствую вас, досточтимые создания, пристанище муз».
Жабониус с интересом рассматривал ряды книг, почти сплошь переплетенных в желтую свиную кожу или белый пергамент с золотым обрезом.
— У вас здесь весьма много книг, которые у нас совсем не известны.
— Если вас что-нибудь интересует, я с удовольствием вам дам, — поспешил сказать хозяин, уловив тайные желания Жабониуса. То, что не смели вымолвить его уста, выдавал взгляд, полный ожидания.
— И это здесь? — удивленно воскликнул гость, указывая на ряд книг, стоявших на одной из полок.
Есениус утвердительно кивнул, понимая, что имеет в виду Жабониус.
— Да, это мои сочинения, — скромно подтвердил он, но в этой скромности сквозила плохо скрываемая гордость.
Жабониус, ободряемый благожелательным взглядом хозяина, брал книгу за книгой и раскрывал их, чтобы прочесть название.
Первой книгой был трактат «О божественной и человеческой философии», далее «Новый Зороастра, краткая действительная и всеобщая философия», три трактата о человеке, несколько траурных речей об известных ученых, «Извлечение из всеобщей философии Джироламо Савонаролы Феррарского» и несколько диссертаций, написанных его учениками в Виттенберге. В конце полки стояли самые известные произведения Есениуса, которые он издал совсем недавно: «Пражская анатомия», «О костях» и «Руководство по хирургии». Все книги были написаны по-латыни.
Жабониус листал книгу за книгой: это были медицинские, философские, природоведческие, исторические, географические и религиозные сочинения. У Есениуса был широкий круг научных интересов.
— Постепенно придется пополнять библиотеку сочинениями здешних авторов, — заметил Есениус.
— Если разрешите, я хотел бы попросить у вас «Нового Зороастру».
— С удовольствием, — ответил Есениус.
Он был хорошим знатоком человеческой психологии и сразу понял, что этот выбор продиктован соображениями учтивости. Поэтому он тут же предложил гостю выбрать еще что-нибудь.
Жабониус оказался не единственным, кто заинтересовался книгами Есениуса. За ним появился Бахачек, а там и другие преподаватели. И вскоре гостеприимный дом Есениуса превратился в место частых сборищ университетских профессоров.
Но время от времени заглядывали сюда и другие посетители. Чаще всего это были пациенты или слуги из какого-нибудь дворянского или мещанского дома, приходившие с просьбой к Есениусу — разумеется, если он не устал, — посетить тот или иной дворец или дом горожанина и осмотреть больного.
Банщик Прокоп жил в третьем доме от Лоудовой коллегии. Считая Есениусов своими соседями, он пришел их навестить вместе со своей женой Аполеной. Аполена сразу же предложила пани Марии помочь ей по дому. Мария поблагодарила соседку за заботу и попросила подыскать расторопную служанку. Аполена пообещала найти хорошую и надежную девушку.
Есениус стал расспрашивать Прокопа о сыновьях. Он знал, что мастер весьма ими гордится. Хирург уже успел довольно близко с ними познакомиться, ибо старший, Ондрей, вел дружбу со студентами, а младший, Вавринец, уже не раз помогал пани Марии.
— Вы, видно, очень любите своих сыновей? — вмешалась разговор пани Мария.
— Ондрей мне помогает по лекарской части, — с воодушевлением заговорил мастер Прокоп. — К банному делу охоты у него нет, а вот если надо вскрыть нарыв или палец кому отрезать, он тут как тут. Чик-чик — и готово! Ловко это у него получается.
Есениус улыбнулся тому, как усердно хвалит своего сына Прокоп.
— Весьма похвально, что он так ловок, но с этим «чик-чик» неплохо бы быть поосторожней. Перед каждой операцией хирургу следует помнить, что часть тела, которую он собирается удалить, уже никогда не отрастет. Поэтому прибегать к хирургическому вмешательству надо в самых крайних случаях.
— Конечно, конечно, — горячо подтвердил мастер Прокоп. — Я ему то же самое говорю. Но ведь вы знаете, молодежь всегда немного торопится.
— Ну, а Ваврик? — поинтересовался Есениус.
Прокоп улыбнулся:
— Он у меня лучший латинист в городской школе. В следующем году я хотел бы определить его в академию. Но не знаю, как к этому отнесутся остальные мастера…
Есениус не понял причины опасений Прокопа. Что может быть общего между «остальными мастерами» и учением Вавринца?
Банщик стал объяснять:
— Понимаете, не все так просто в нашем деле. Мы, банщики, вместе с цирюльниками в цеху ремесленников занимаем последнее место. С нашим цехом никто не считается. В костеле нам отведены худшие лавки. Даже цеховое знамя нам не разрешают иметь. Право, не знаю, удастся ли мне что-нибудь сделать для Ваврика. Пока что еще ни один мастер из нашего цеха не отдавал своего сына в высшую школу. Можете себе представить, как бы на меня обрушились мастера из других цехов! Да они бы меня на смех подняли. А может, и профессоров уговорили бы, чтоб те не принимали Вавринца.
Есениус был немного озадачен рассказом банщика. Он и не подозревал, что между ремесленниками существуют такие распри.
— Это хорошо, что вы меня обо всем предупредили. Заранее я вам ничего обещать не могу, но поговорю с профессором Бахачеком и ректором Быстржицким. Постараюсь уговорить их не чинить вашему сыну никаких препятствий.
— Благодарю вас, премного благодарю!
— Пока не за что, ведь я для вас еще ничего не сделал. Но уверен, что мне удастся склонить профессоров на вашу сторону.
— Ты что это растрещалась, как сорока? — обратился Прокоп к жене.
Но Аполена так была занята разговором с пани Марией, что даже не услышала мужа.
— Повторяю, Аполена, нам пора домой. Сыновья голодные…
— Сейчас, сейчас, я только кончу, — нетерпеливо отмахнулась Аполена и склонилась к пани Марии, чтобы досказать какую-то длинную историю.
Когда мастер Прокоп и его жена ушли, Есениус с улыбкой сказал:
— Если каждый день будет столько гостей, то работать придется, пожалуй, только ночью.
— Надеюсь, что все будет не хуже, чем в Виттенберге, — успокоила его пани Мария. — Выдержали там, выдержим и здесь.
После посещения семьи Браге, где пани Кристина и пани Мария вдоволь наплакались, вспоминая своих дорогих покойников, супруги Есениусы отправились с визитом к Кеплерам.
Иоганн рассказывал Марии о своем друге столько хорошего, что ей захотелось познакомиться с императорским математиком и его женой.
Кеплеры жили далеко, при Эммаусском монастыре.
Мария очень быстро подружилась с пани Кеплеровой. Трехмесячная Зузанка явилась тем звеном, которое мгновенно сблизило обеих женщин.
Захлебывающийся от счастья Кеплер не мог скрыть отцовской гордости. Лицо его так и сияло от добрых слов, произносимых гостьей в адрес новорожденной. Ему никак не удавалось сосредоточиться на беседе с другом; взгляд его поминутно обращался к колыбели. Он несколько раз вскакивал, заговаривал с дочкой, улыбался ей, но так как она спала, он удовлетворялся тем, что поправлял одеяльце или сползший на глаза чепчик.
Пани Мария с грустной улыбкой наблюдала за ним.
В конце концов Кеплер понял, что у женщин есть много своих дел, и предложил Есениусу пройти с ним в кабинет.
Женщины остались одни.
— А у вас есть дети? — спросила Барбора Кеплерова пани Марию.
Этот безобидный вопрос ранил Марию в самое сердце.
— К сожалению, нет. Был у нас сынок, но господь бог взял его к себе еще совсем малюткой, — ответила она глухим голосом.
— Как и у нас, — вздохнула пани Барбора. — У нас ведь двое умерло… Что поделаешь!
— Так это третий ребенок?
— Четвертый. От первого брака у меня есть двенадцатилетняя дочь, Регина. Муж мой умер, и я вышла за Кеплера. Теперь у меня двое, но Кеплер… вы даже представить себе не можете как он рад малютке. А что бы было, если бы это был сын!
— Возможно, будет и сын. Все отцы одинаковы: радуются дочерям, но мечтают о сыне. Мужское тщеславие! Мой тоже гордился, что у него сын. И вот видите… Я иногда думаю, не взял ли его бог потому, что на него возлагались такие надежды.
— Успокойтесь, дорогая пани Мария, будет еще и у вас счастье.
Пани Мария отрицательно покачала головой. Она знала, что ее мечте не суждено сбыться. Когда она задумывалась над своей жизнью, ей казалось, что она смотрит в иссякший колодец. А иногда она сравнивала себя с засохшим деревом или с бесплодное скалой… И при этом она так умела скрывать свое горе, что даже муж не догадывался о всей глубине ее страданий, о неизмеримой силе ее тоски.
Со смертью сына мир словно перестал существовать для нее. Душа ее замкнулась перед ним, отвернулась от его соблазнов, стала непроницаемой для его влияния, безразличной к его радостям. Страдания укрепили ее сердце и очистили душу. Она бежала от света и погружалась в самое себя. К чему это привело? Говорят, что из глубокого колодца можно увидеть звезды даже днем. Видеть из него то, что другие, стоящие снаружи, не видят. Так, погрузившись в свое одиночество, смотрела пани Мария на мир, и через призму своих страданий судила о жизни и оценивала поступки людей. В том числе и поступки своего мужа. Она была ему советчицей, помощницей. В тех случаях, когда его терзали противоречия, она инстинктивно безошибочно чувствовала, какую запутанную нить следует распутать, а к какой и вовсе не надо прикасаться. Есениус знал, что она часто про себя осуждает его поступки и считает их легкомысленными. За все это он уважал ее и, пожалуй, немного побаивался.
Ее ласковый, но пытливый взгляд мгновенно схватил в Кеплере одну из главных его особенностей — доброе сердце.
— У вас хороший муж, — горячо сказала она.
— Да, — согласилась Барбора, — он нас очень любит. Зузанку, конечно, больше всех.
В это время Зузанка заплакала. Пани Барбора ногой покачала колыбель, но девочка не переставала плакать, и пришлось взять ее на руки. Когда Зузанка успокоилась, Барбора продолжила разговор:
— Говорил вам доктор, как любит мой муж звезды?
— Но это понятно, ведь он астроном.
Панн Кеплерова улыбнулась:
— Дело совсем не в том. Многие астрономы смотрят на звезды лишь как на предмет своих научных наблюдений. Я бы сказала так: их отношение к звездам точно такое же, как отношение врача к больному. Это сравнение, конечно, не совсем верно, ибо врач лечит, то есть вмешивается в течение болезни, влияет на больного, чего нельзя сделать в отношении звезд, ибо влиять на них человек не может.
— Наоборот, звезды влияют на людей, определяют их судьбу, — заметила пани Мария.
— Я думала, — продолжала пани Кеплерова, — что звезды для многих астрономов — лишь средство заработка, остальное для них безразлично. А мой Иоганн их любит. И все говорит о каком-то неизвестном законе, который весьма остроумен, а вместе с тем удивительно прост. Кеплер все надеется, что ему удастся открыть этот закон.
— А составил он гороскоп для малютки? — спросила пани Мария, кивнув в сторону Зузанки.
— Составил, только… я не знаю, что об этом и подумать.
— О чем? О гороскопе? Может, он очень плох?
На лице пани Марии было написано такое искреннее беспокойство, что Барбора поспешила успокоить ее:
— Да нет, наоборот. Гороскоп показывает, что все очень хорошо. Но представляете себе: мой муж говорит, что все это ерунда и вообще астрология — это чистое жульничество.
Такого пани Мария прежде не слыхала.
— Неужели? Но ведь… составляют же для людей гороскопы?
— Составляют, даже для императора, — подтвердила пани Барбора. — И Кеплер составляет, но при этом он не верит в астрологию. Разве не смешно?
Для пани Марии это не было смешным.
— Составляет гороскопы и не верит в астрологию? Но ведь это значит… поступать против своих убеждений?
— Да. Вы не можете себе представить, как это для него невыносимо. Он уже не раз собирался совсем бросить гороскопы и открыто сказать всем, что он об этом думает. Но мне все же удавалось удержать его от такого шага. Знаете ли вы, что это значит для нас? Даже не представляю, что бы мы тогда делали… Ведь гороскопы — это дополнение к жалованью.
Пани Барбора изливала душу перед женой Есениуса, но Мария слушала краем уха. В ушах ее звучала одна-единственная фраза: «Но мне все же удавалось удержать его от такого шага». Чувства Барборы были ей понятны, но еще больше был понятен Кеплер. Какие душевные муки должен он испытывать, идя против своих убеждений! Она представила себе, как бы поступила на месте Барборы. Ведь нужно заботиться о двух детях и муже, которому жалованье выдают нерегулярно. Можно ли требовать от Барборы, чтобы она отказалась от той денежной поддержки, которую время от времени приносят гороскопы? Смеет ли Мария уговаривать ее, чтобы она лишилась последней поддержки и положилась на волю случая? И все же колебаться нельзя. Такой человек, как Кеплер, не может, не смеет жить кривя душой. И женщина, соединившая свою судьбу с его судьбой, обязана делить с ним все тяготы жизни.
Барбора рассказывает о том, что переезд в Прагу обошелся им в сто пятьдесят золотых, что за первые четыре месяца жизни в столице они истратили сто золотых — все их сбережения и что потом они были вынуждены одалживать у Браге.
Пани Мария опускает голову, как бы соглашаясь, но думает при этом свою думу. Она думает о горькой правде, которую должна высказать пани Кеплеровой.
— Да, да, все это трудно. Но, во всяком случае, вы не должны запрещать своему мужу открыто говорить то, что он думает. Если он не верит в астрологию, не принуждайте его составлять гороскопы.
Пани Кеплерова вскочила. Она уложила в колыбель уснувшую Зузанку и еще ближе подсела к пани Марии.
— В мире есть куда большие ценности, чем деньги, — продолжала Мария. — Думали ли вы когда-нибудь о том, что чувствует ваш супруг, когда его вынуждают продавать свои убеждения?
Пани Барбора растерянно глядела на нее.
Она чувствовала себя виноватой, хотя еще не уяснила, в чем, собственно, ее вина.
— Я не задумывалась об этом. Почему бы ему не составлять гороскопы, если он умеет это делать, а люди его просят? Верит он в астрологию или нет, это дела не меняет.
— Я не согласна с вами, пани Барбора, — спокойно, но твердо возразила Мария и посмотрела на дверь в соседнюю комнату, откуда доносились голоса мужчин. Быть может, она боялась, что они, кончив разговор, придут сюда, помешают ей довести беседу до конца. — Гороскопы — это только следствие, а вам необходимо выяснить причину. Спрашивали ли вы когда-нибудь мужа, почему он не верит в астрологию? У него, значит, имеются для этого серьезные основания. Разве они вам безразличны? Неужели вы не интересуетесь работой вашего мужа? О, какая это прекрасная работа! Астрономия — великое призвание!
Барбора пристально посмотрела на Марию, стараясь понять свою собеседницу.
— Вы говорите о моем муже, будто знаете его многие годы. — Выражение глубокого сочувствия мелькнуло в глазах пани Марии.
— Я узнала его гораздо раньше, чем встретилась с ним. Представление о нем сложилось у меня по разговорам с собственным мужем. И, надо сказать, хорошее представление. Теперь, после того как мы познакомились, мне очень приятно, что я не ошиблась.
Барбора улыбнулась, не скрывая чувства гордости:
— Хотелось бы знать, так ли вы будете рассуждать, когда ближе его узнаете.
— Надеюсь, что мое мнение только укрепится, — поспешила уверить Барбору пани Мария.
И, когда ей стало ясно, что жена Кеплера не собирается отвечать на вопрос, интересуется ли она работой своего мужа, пани Мария вернулась к этой теме:
— У нас, жен ученых, совершенно иная жизнь, чем у других женщин. И, хотя мы недостаточно знаем все, с чем приходится бороться и отчего приходится страдать нашим мужьям, мы во многом ответственны за их работу.
— Что же я должна, по-вашему, делать? — спросила Барбора.
— Не заставлять мужа поступать вопреки своим убеждениям. Увидите, как он будет вам за это благодарен: он почувствует себя свободнее, уверенность его в себе укрепится, и в конце концов все это благотворно скажется на его работе.
Пани Кеплерова все еще колебалась. До сих пор к работе своего мужа она подходила лишь с материальной точки зрения. В родительском доме и в доме первого мужа она не испытывала недостатка, поэтому не могла с ним мириться и сейчас. А ведь отказ Кеплера от составления гороскопов, то есть потеря основного источника побочных доходов, неизбежно отразится на их доходах.
— Все это хорошо говорить да приятно слушать, но из красивых речей обеда не сваришь. Когда матери нечего дать детям, она должна отказаться от многих хороших намерений.
— Такого, пожалуй, не случится, — спокойно ответила пани Мария. — В конце концов, вы не одиноки. Найдутся люди, которые с радостью вам помогут, если вы попадете в беду. Во всяком случае, вы всегда можете рассчитывать на нас.
Барбора и сама понимала, что доводы ее весьма шатки, и после того, как ей открыто предложили поддержку, уже не могла больше сопротивляться.
— Не смотрите на будущее так мрачно. Вы обязательно дождетесь лучших времен. Но об этом вы сами должны позаботиться. Разве создать мужу хорошую рабочую обстановку — не благородная цель для жены? Это украсит его жизнь, благотворно скажется и на вашей семье. Неужели для этого не стоит приложить усилий?
Вместо ответа пани Кеплерова схватила Марию за руки и посмотрела на нее влажными глазами.
— Если бы знал Иоганн, — сказала она, — какую заступницу он приобрел в вашем лице! Не знаю, не знаю, не стану ли я ревновать его к вам.
— Вы не должны этого бояться. У меня достаточно забот моим большим ребенком, — ответила пани Мария и обернулась к дверям, за которыми ученые вели оживленный разговор.
— Итак, вы утверждаете, что основой глаза является хрусталик, который собирает световые лучи, отражающиеся от предметов, и что таким образом мы видим? — повторил Кеплер слова Есениуса. — Но что происходит со световыми лучами после того, как они проникнут в глазное яблоко? Что, собственно, такое — видение? Какими законами оно управляется?
Есениус удивленно посмотрел на Кеплера — он не был готов к этим вопросам. Что общего между глазом и звездами? Главное, чтобы у человека было нормальное зрение, то есть чтобы он имел зоркие глаза, тогда он может хорошо видеть и звезды.
— Нас, врачей, больше интересуют больные глаза или травмированные, другими словами — такие, которые не могут полностью выполнять свои функции. Наше стремление — вылечить больного, облегчить его страдания, улучшить его зрение. Но вы спрашиваете, что управляет видением? Разумеется, нерв, который соединяет глаз с головным мозгом. Что при этом происходит в глазу? Я мог бы попытаться ответить вам научными выкладками, но вряд ли цитирование Галена чем-нибудь вам поможет. Скажу откровенно, что с этой стороны я еще не изучил глаз.
— Жаль, — разочарованно произнес Кеплер. — Без этих основных данных я едва ли смогу написать свое сочинение об оптике.
Есениус был огорчен, что не смог исполнить желание друга. Просьба Кеплера взволновала его. Императорский математик задел в нем ученого, возбудил его честолюбие.
— Надеюсь, что ответ на вопрос, который вы мне задали, вам нужен не обязательно сегодня.
— Нет, нет, такая срочность ни к чему, — улыбнулся Кеплер. — Зачем же?
— Дело в том, что этот вопрос начинает меня интересовать. Я хочу договориться с палачом Мыдларжем, чтобы он достал мне несколько глаз. Я подробнейшим образом изучу их строение и потом, надеюсь, смогу более или менее складно ответить, по крайней мере, на некоторые из ваших вопросов.
Бледное лицо Кеплера покрылось румянцем.
— Вы не можете себе представить, как я буду вам благодарен за все это! Вот увидите, что общими усилиями нам удастся докопаться до чего-нибудь интересного.
ЮРОДИВЫЙ СИМЕОН
Град посещало много дам, разодетых по последней моде. Есениус уже давно привык к невероятной суматохе, которая царила в непосредственной близости от любителя тишины и покоя Рудольфа II. В королевском замке можно было часто встретить необычайно красивых женщин, ибо император был известен не только как поклонник мертвой красоты, запечатленной в холодном мраморе или ярких красках и стройной композиции картин, но и как поклонник красоты живой… Неопровержимым доказательством этого была Катарина Страдова.
Однажды к концу дня Есениус шел через второй замковый двор. Площадь, в полдень полная суеты и гомона, была пустынна. Только несколько караульных в полном облачении изнывали под лучами солнца. Кое-кто примостился в тени. Перед караульной будкой развалился в холодке большой волкодав. Время от времени он встряхивал головой, отгоняя назойливых мух. Казалось, ничто на этом свете не интересует его.
В этот момент во дворе появилась дама с целым выводком детей. В руках она держала букет из белых, красных и желтых роз. Одна из старших девочек вела на цепочке высокую, стройную борзую.
Заметив борзую, волкодав залаял и бросился на нее. Борзая рванулась ему навстречу. Девочка — ей было лет десять — попыталась ее удержать, но собака поволокла девочку за собой. Девочка стала звать на помощь, малыши запищали, перепуганная мать растерянно озиралась по сторонам. Но так как поблизости никого не было, она сама бросилась выручать свою дочь. Борзая тащила упирающуюся девочку, словно куклу. Девочка уже не могла ее остановить, но все еще держала поводок.
— Lascia Nero![22] — крикнула мать.
Но было поздно. Девочка споткнулась о камень и, падая, отпустила поводок.
Собаки вцепились друг в друга.
Все произошло в одно мгновение. И, прежде чем Есениус успел прийти на помощь, он оказался в самом центре собачьей свалки. Псы катались у его ног, грызли друг друга, а неподалеку лежа на земле, громко плакала девочка.
Есениус мгновенно понял, какая опасность грозит ребенку. Одним махом он перескочил через живой клубок, поднял девочку и передал ее перепуганной женщине. Потом прикрикнул на собак. Но все было напрасно. Тогда Есениус стал искать поблизости палку, чтобы разогнать разъяренных псов. Нигде ничего не было. Тут он вспомнил о шпаге, висевшей у него на боку. Он отцепил ее вместе с поясом и замахнулся. Волкодав убежал, а борзую Есениусу удалось схватить за поводок.
Девочка поранила руку и оцарапала лоб. Она все еще плакала. Есениус осмотрел ее раны и установил, что ничего серьезного нет и слезы ее были вызваны скорее испугом, чем болью.
— Grazie tante, signore[23], — по-итальянски поблагодарила Есениуса дама.
— Non, се di che,[24] — галантно отклонив благодарность, ответил Есениус также по-итальянски.
Вежливая улыбка на лице дамы сменилась радостным удивлением.
— Синьор — итальянец? — быстро спросила она и посмотрела на его рыжеватые усы, шевелюру и светлые глаза.
На итальянца не похож — не хватает смуглости, верного признака пылкого южного темперамента. Из уст его не льются водопадом комплименты, как это обычно бывает у итальянцев при встрече с прекрасной незнакомкой.
А незнакомка, стоящая перед Есениусом, была действительно прекрасна.
Он начинает догадываться, кто она. Изысканные манеры, итальянская речь убеждают его, что перед ним мать императорских детей — Катарина Страдова.
Катарина Страдова! Влиятельнейшая особа при дворе императора Рудольфа II. Влиятельнейшая — и при этом настолько мудрая, что никогда не употребляет свою власть для вмешательства в политику и даже для личных интриг. Женщина, которая своей привлекательностью и добрым нравом сумела привязать к себе императора сильнее, чем если бы была с ним обвенчана.
— Если разрешите, я провожу вас, — предложил Есениус даме, объяснив ей, что он врач. Личный врач императора.
Она с радостью приняла его предложение.
Есениус проводил Катарину Страдову в императорские покои и по пути почтительно отвечал на все ее вопросы об Италии: о Падуе, Венеции, Болонье, Флоренции. Каждый из названных им городов вызывал в ее воображении волнующие картины и такой прилив чувств, который мог быть выражен лишь в мечтательных возгласах.
Есениус промыл девочке раны, успокоил мать и откланялся.
Катарина Страдова задержала его властным, но вместе с тем грациозным движением точеной руки. Она подошла к вазе, в которую уже успела поставить букет, и выбрала из него для Есениуса красную розу.
Это была награда, но вместе с тем и жест королевы.
Хотя со дня смерти Тихо Браге прошло больше полугода, друзья и ученики не забывали о нем.
Каждый раз, когда Есениус и Кеплер проходили через Староместский рынок, они вспоминали о своем великом друге и сворачивали к храму поклониться его светлой памяти.
В тихой задумчивости стояли они перед тяжелым надгробием из красного мрамора, вделанным в одну из храмовых колонн. Каждый про себя пытался сопоставить действительный образ славного астронома с его изображением, высеченным на камне. Скульптор увековечил Браге в необычном одеянии: в латах, как храброго бойца. В левой руке он держал меч, а правой опирался на глобус. Конечно, наряд этот был необычным для Браге, но, если поразмыслить, скульптор поступил правильно: Тихо Браге был вечным бойцом.
Однажды в воскресенье, когда Есениусы возвращались из Тынского храма, они задержались на Староместском рынке, чтобы послушать проповедника, который, видимо, дожидался здесь окончания богослужения. Как только молящиеся вышли из храма, он вскочил на край фонтана, чтобы все его хорошо видели, и стал говорить.
Это был уже знакомый Есениусу юродивый Симеон.
— Разве не глупы те, кто думает, что человека украшает платье? — восклицал юродивый. — Некоторые из них даже судьбу благодарят за то, что в красивом платье и дурак выглядит мудрецом. Но стоит ему открыть рот, и все понимают — мудрость чужда ему. Еще никогда от сотворения мира любовь к роскошным одеждам не принимала таких размеров, как сейчас. В старину всегда можно было различить по одежде, кто к какому принадлежит сословию, у кого какое ученое звание, но теперь по одежде никто не скажет, кто доктор, кто земан[25] а кто ремесленник. Ненужная это гордость, греховная это роскошь, оскорбляющая господа бога.
Пожилые люди соглашались с ним, во всяком случае некоторые, но молодежь только смеялась над исступлением юродивого.
Потом Симеон обрушился на женщин.
— Знайте, — вопил он, — что все эти мантильи и короткие шубки, которые едва закрывают вам плечи, придумал дьявол. Наши предки не носили такой богопротивной одежды, ибо они имели стыд, который у нынешних женщин пропал. Кто из благочестивых людей может без возмущения смотреть на безобразные и нескромные женские наряды?
— Не в бровь, а в глаз, — раздался за спиной Есениуса знакомый голос.
Есениус обернулся и увидел доктора Залужанского и его жену.
— Он и вас, мужчин, не пощадил, — ответила Залужанскому его супруга и дружески приветствовала пани Марию.
А Симеон продолжал:
— Исполняется пророчество, которое говорит, что чешским женщинам больше всего будут нравиться итальянцы, испанцы, голландцы и французы. Женщины будут носить платья, придуманные дьяволом, они потеряют стыд, введут в обычай кринолины, остроконечные туфли и станут появляться с обнаженной грудью. И разгневается господь бог на страну и народ чешский.
В толпе послышался смех.
Тогда Симеон возгорелся гневом праведным и припомнил слова пророка Исайи:
— «И сказал господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят поднявши шею и обольщая взором, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит господь темя дочерей Сиона и обнажит господь бог срамоту их; в тот день отнимет господь их красивые цепочки, и звездочки, и лунки, и серьги, и ожерелья, и опахала, и запястья, пояса и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду, нижнюю, и платки и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки и покрывала.
И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище… Мужи твои падут от меча, и храбрые твои — на воине».
В глазах проповедника сверкал гнев, который смущал сердца, наполняя их тревогой за будущее.
Веселый смех, который в начале проповеди сопровождал речь Симеона, постепенно совсем смолк, и на рыночной площади стало так тихо, что слова юродивого, падавшие на головы присутствующих, гремели со страшною силою, словно раскаты грома.
— Горе тем, кто пишет неправедные законы, и тем, кто исполняет их, попирая права бедных в суде, и вершит насилие над моим народом, обижая вдов, обездоливая сирот. Что станете вы делать в день испытания и горя, которое придет издалека? К чьей помощи вы прибегнете и где сохраните свою славу, чтобы не согнуться под оковами и не упасть вместе с мертвыми?
Через пару дней, разговаривая с Бахачеком, Есениус вспомнил о Симеоне:
— Я слышал проповедь этого юродивого. О нем кто-нибудь заботится?
— Добрые люди поят и кормят его. А нет — он приходит к нам. Помните, вы недавно видели его здесь.
— Его речи, его проповеди внушают тревогу. Надо предостеречь его. Говорят, Симеона уже не раз брали под стражу при попытке возмутить народ…
— Но тут же и отпускали, — улыбнулся Бахачек, — как только убеждались, что он юродивый.
— Не знаю. Временами он говорит весьма разумно. Совсем как в поговорке, что устами младенцев и юродивых глаголет истина. Но правда всего обиднее.
— Пожалуй, так, — согласился Бахачек. — Симеон метит чем дальше, тем выше. Пожалуй, так не только горожанам, но и панам достанется.
— Не сносить ему тогда головы. Важные господа не потерпят правды даже от юродивого, — задумчиво заметил Есениус. — Вы бы с ним поговорили.
Бахачек пожал плечами:
— Я могу попытаться, но думаю, что это ничего не даст. Его не убедишь. Он уверен, что сам бог поручил ему изобличать пороки нашего мира.
— Все же попытайтесь.
Опасения Есениуса были небезосновательны. Дня через три Есениус возвращался из Града домой.
На замковой площади менялся императорский караул. Услышав звуки трубы, многие придворные сбежались во двор, чтобы посмотреть парадный марш вблизи. На площади оказалось довольно много именитых особ.
Есениус не раз видел это представление и не собирался задерживаться. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал знакомый голос: «Ба, да ведь это юродивый Симеон!»
Растрепанный, он стоял неподалеку от выстроившихся в шеренгу солдат и вещал:
— Кто будет поклоняться сатане и его изображению, кто примет знак его на лоб или на руку, тот будет пить вино божьего гнева из чаши возмущения, тот будет пытаем огнем и серою пред ликом святых ангелов и пред агнцем божиим.
Командир императорской стражи велел ему замолчать и отправляться ко всем чертям. Но Симеон не слушал. Напротив, окрик офицера распалил его еще больше. Он продолжал свою проповедь, полную скрытых намеков и пророчеств, которую все присутствующие расценили как оскорбление его императорского величества.
Тогда офицер приказал двум солдатам, вооруженным алебардами, отвести юродивого в темницу Черной башни. Симеон не сопротивлялся, добровольно пошел с ними, но по дороге продолжал выкрикивать свои загадочные прорицания.
Голос его, удаляясь, постепенно стихал и замер совсем, когда за ним захлопнулись тюремные ворота Черной башни.
ТАЙНОЕ ВСКРЫТИЕ
Примерно неделю спустя с Есениусом произошла удивительная история. Однажды вечером — Есениус как раз дежурил во дворце — к нему пришел императорский камердинер и передал приказ безотлагательно явиться к императору.
— Что случилось? Может быть, его императорское величество почувствовал себя плохо?
Камердинер пожал плечами. Неожиданный приказ императора удивил даже его.
— Я не сказал бы, что его императорскому величеству нездоровится. Он забавляется с принцами и принцессами в покоях пани Катарины Страдовой.
— Я должен явиться в покои пани Страдовой? Может быть, она заболела?
— Ничего не знаю. Я выполняю приказ его императорского величества. Вам велено подождать в приемной. Пойду доложить, что вы уже там.
Есениус понял, что дальнейшие вопросы бесполезны. Поэтому он молча зашагал за камердинером в императорскую приемную.
В приемной было пусто. Посетители знали, что если не попадешь к императору до полудня, то потом уже ждать нечего: время после полудня император посвящал своей семье или своим многочисленным коллекциям, вечер отводился алхимикам и астрономам.
Вскоре появился император. С его лица еще не успела сойти Улыбка — след недавнего веселья в кругу своих детей.
— Приготовьте инструменты и возьмите с собой ментик.
Сам император был в ментике и шляпе, будто собирался куда-то идти.
— Пошли!
Слуга взял два серебряных подсвечника с шестью зажженными свечами в каждом и направился к двери.
— В подвал! — приказал Рудольф.
По дороге император молчал, а его личный врач не осмеливался задавать вопросы.
Они шли пустынными темными коридорами. Мерцающее пламя двенадцати свечей отбрасывало причудливые тени на пол и стены.
Вначале Есениус предполагал, что ему придется произвести хирургическую операцию, но чем больше ступеней оставалось позади, тем сильнее им овладевали сомнения.
— Стой! — приказал император, когда они подошли к двери в центре главного подземного коридора, выложенного гладкими каменными плитами. — Возьмите подсвечники, доктор, — распорядился император.
Он вынул из подсвечника горящую свечу и дал ее слуге.
— Подожди нас здесь и не бойся, — приказал он ему, указывая на скамейку, вделанную в нишу с небольшим оконцем.
Затем Рудольф открыл тяжелые, обитые железом двери, как раз напротив ниши, и вошел в комнату. Есениус последовал за ним.
— Осторожней, не загасите огонь.
Предупреждение оказалось своевременным — из комнаты хлынул поток холодного воздуха. Пламя свечей испуганно затрепетало.
Есениус остановился посветить императору, который запирал двери изнутри.
Доктор осмотрел комнату, желая найти место, куда бы поставить подсвечники. Посреди комнаты он увидел большой стол с мраморной крышкой, на столе что-то белело. Есениус догадался, что там находится человеческое тело.
Труп.
Сколько он перевидал на своем веку трупов, сколько раз анатомировал их! Вид трупа обычно не вызывал у него волнения. Но сейчас мороз пошел у Есениуса по спине. Он понял, для чего привел его сюда Рудольф.
Возле стены стоял круглый столик на резных ножках.
Император вплотную придвинул его к большому столу и велел поставить туда подсвечники.
Есениус пытливо посмотрел на императора. Пламя свечей освещало Рудольфа снизу, отчего на лицо его легли черные тени, блеск глаз казался страшным.
— Мы слышали о вашем искусстве хирурга, в особенности об искусстве трупосечения, столько похвал, что мы хотели бы убедиться в этом собственными глазами. Пожалуйста, можете начинать.
Император величественным жестом сбросил с трупа покрывало и вплотную подошел к хирургу.
Есениус старался преодолеть охвативший его страх и держаться, как обычно, чтобы император не заметил, насколько он взволнован.
На столе лежало тело юродивого Симеона!
Бедный Симеон! Есениус вспомнил о своем разговоре с Бахачеком. Уже тогда он словно предчувствовал трагическую судьбу того бедняги. Симеон слишком много себе позволял, а большие господа не терпят правды даже от юродивых.
Император заметил, как вздрогнул Есениус.
— Вы его знаете? — пытливо спросил он.
— Видел его как-то на улице, а последний раз здесь, на замковом дворе. Думаю, что рассудок его был поврежден, ибо речи его были лишены связи и смысла.
— Да, лишены связи и смысла, — повторил император каким-о загадочным тоном. — Только не всегда так было. Порой в его речах было прямое подстрекательство к бунту.
— Он не мог отвечать за свои поступки, — возразил Есениус, пытаясь оправдать несчастного проповедника.
— Бог ему судья, — спокойно ответил император.
— Смею ли я спросить, ваше величество, что с ним произошло?
— Мы тоже хотели бы это знать и надеемся, что ваше вскрытие хоть немного прольет свет на подлинную причину его смерти.
Больше Есениус не спрашивал. Пока он подготавливал труп к вскрытию, император нетерпеливо ждал. Раздумывать было некогда, хотя Есениус даже в этой обстановке не мог пренебречь своими обязанностями врача. Смерть юродивого Симеона слишком глубоко его тронула. При первом взгляде на мертвого у Есениуса возникло подозрение, что Симеон умер не своею смертью. Мысль о преступлении подкреплялась тем обстоятельством, что труп был перенесен в подземелье замка и что император потребовал вскрытия, пожелав присутствовать при нем лично. Если бы речь шла о простом анатомировании! Но для чего тогда вся эта таинственность? Почему он должен анатомировать один, тайно? Ведь днем да еще с помощником он мог бы это сделать гораздо лучше. Неужели юродивого уничтожили по приказу императора? Или это не убийство? Может быть, разрыв сердца или кровоизлияние в мозг…
Император прав: вскрытие может объяснить смерть Симеона. И сразу же в голове Есениуса зашумел рой новых мыслей. Симеона убили по приказу императора, почему он не распорядился сразу же похоронить тело? Да и зачем императору давать согласие на убийство человека, которого все считали юродивым. Ведь если бы ему так хотелось этой смерти, суд без особого труда приговорил бы Симеона к казни. Пусть люди сочли бы такой приговор несправедливым. Что из того? Это был бы не первый несправедливый приговор в королевстве. В конце концов, зачем понадобился императору такой сложный способ, чтобы убрать непокорного смутьяна, если он мог заживо сгноить его в Черной башне? А может, Симеон все же умер собственной смертью?..
Так думал Есениус, пока раскладывал инструменты.
Итак, все готово, но доктор еще не знает самого главного: каков будет порядок анатомирования.
— Ваше императорское величество, — обращается он к Рудольфу, — вы изволите интересоваться какими-нибудь определенными органами или я должен действовать в последовательности, какую нам предписывают университетские правила? Но, в таком случае, я и до утра не закончу вскрытия.
— Нам бы хотелось посмотреть, как выглядят внутренности человека. Покажите нам только самые главные органы: желудок, сердце, мозг. И постарайтесь успеть до рассвета.
— Как прикажете, ваше величество.
Есениус чувствовал себя так же, как и много лет назад, когда впервые приступал к трупосечению. Руки у него немного дрожали. Не потому ли, что ему довелось вскрывать Симеона, смерть которого была овеяна тайной, или потому, что рядом с ним находился такой необычный зритель? А может, действовала обстановка, напоминавшая древние богослужения в катакомбах? Пожалуй, все вместе вызывало в нем то странное чувство с трудом преодолеваемого страха, которого он никогда не испытывал до сих пор при анатомировании.
Есениус слышит учащенное дыхание императора, который стоит совсем рядом слева — чтобы не мешать — и склоняется над трупом, стараясь ничего не пропустить в этом волнующем зрелище.
Доктор извлек желудок, вскрыл его и попытался уловить запах какого-нибудь яда. Но ведь есть немало ядов и без запаха. Тогда он вынул содержимое желудка и внимательно осмотрел слизистую оболочку его стенок. Оболочка воспалена. Следовательно, не исключено отравление. Но может быть, это только какая-нибудь болезнь, происхождение которой никак не связано с отравлением.
Последовательно изложив императору свои наблюдения, Есениус заключил их следующими словами:
— На живом организме было бы легче установить причину отравления, ибо врач всегда может увидеть те или иные симптомы, которые помогают ему сделать правильные выводы.
— В особенности если больной скажет ему, чем он отравился, не так ли? — с усмешкой заметил император и разочаровано добавил: — Короче говоря, осмотр желудка не дал ничего. Поэтому я думаю, что не стоит этим дальше заниматься. Покажите нам сердце.
Есениус вынул из грудной клетки сердце и показал его императору.
Император взял его в руки, прикинул вес, погладил, сжал и осмотрел со всех сторон.
— Вскройте его и покажите нам, где помещается душа, — негромко приказал император.
Усмешки уже не было на его лице, и вместо нее появилось выражение напряженности и нетерпения.
Есениус поклонился и сказал:
— Ваше величество, ученые не пришли к единому мнению о том, где помещается душа. Некоторые утверждают, что она пребывает в правой половине сердца, поскольку кровь не имеет туда доступа. Воздух поступает в правую половину через легкие, этот воздух вытесняет кровь из левой половины сердца, и кровь идет к голове и прочим частям тела. Когда человек вдыхает, кровь из сердца поступает во все органы, расположенные ниже сердца, а когда выдыхает, она направляется к верхним органам, в частности к голове. Вот почему, если человек вдруг дольше обычного задержит дыхание, то в голове начинается шум и темнеет в глазах. Это следствие того, что к голове нет прилива крови.
Император с большим вниманием выслушал объяснения Есениуса, полностью отвечавшие тогдашним научным взглядам, но не забыл при этом свой вопрос.
— Таким образом, вы не считаете, что местом пребывания души является сердце? — спросил он.
— Не считаю, ваше величество. Я думаю, что таким местом является голова, мозг. Да и Гален утверждал то же самое.
— А в какой именно части мозга она пребывает? — задал новый вопрос император.
— К сожалению, этого никто не знает, — признался Есениус. — Безуспешно пытаемся мы найти место души при вскрытии трупа — душа уже покинула тело и от нее не осталось никаких следов.
Император нахмурился. По всему было видно, что он ожидал большего.
— Вы полагаете, что, если бы вам пришлось разрезать живого человека, то вы бы нашли его душу? — Тихо спросил он и вновь посмотрел в глаза Есениусу своим загадочным пытливым взглядом.
Есениус вновь почувствовал, как по спине у него забегали мурашки. Сердце стало наполняться неясной тревогой. Чего хочет император?
— Нет, не думаю, ваше величество, — учтиво ответил он, — ибо душа невидима. Мы бы ее не увидели и в живом организме, если бы вздумали рассечь его.
— Вы когда-нибудь уже пытались убедиться в этом? — настойчиво продолжал император.
Есениусу показалось, что он хочет загнать его в тупик.
— Живое человеческое тело нельзя вскрывать, — ответил Есениус, пытаясь повернуть опасный разговор в другую сторону.
— Нельзя или невозможно? — упорно настаивал император.
— Это было бы преступлением, — сказал хирург. — Ни один врач не взял бы его на свою совесть.
Император вновь нахмурился.
— С древнейших времен до нас доходят свидетельства о том, что в Египте Герофилос и Еразистратос вскрывали приговоренных к смерти и рабов.
— Совершенно верно, но мы сейчас осуждаем их действия — решительно возразил Есениус.
Ответ хирурга явно разочаровал императора.
— Для врачей это могло быть весьма поучительным, — продолжал Рудольф, — ведь очень важно увидеть собственными глазами, как взаимодействуют внутри человека его отдельные органы. Как течет кровь, как возникают жизненные соки…
Представив себе эту картину, Есениус вздрогнул. Ему много доводилось видеть людских страданий. Мог ли он сознательно причинить кому-либо боль, чтобы этим удовлетворить свою любознательность? Нет, здравомыслящий человек не может так поступать.
Но император, словно читая мысли своего врача, решительно настаивал на том, против чего возражал Есениус.
— Разумеется, вы бы приготовили лекарство, которое избавило бы человека от страданий. Жаль, что доктор Гайек умер. Он обещал нам приготовить панацею от всех болезней.
— Сомневаюсь, чтобы он смог приготовить средство, приняв которое человек перестал бы чувствовать боль. Боль можно только приглушить. Совсем уничтожить ее нельзя. С сотворения мира боль сопутствует человеку. А для врача она лучший помощник. Ведь если больной не сможет сказать, где у него болит, как же врач будет его лечить? Сообщи нам этот юродивый, что у него болело, мы бы легко установили причину его смерти.
— Следовательно, даже при вскрытии сердца вам не удалось выяснить этой причины? — спросил император, не скрывая на этот раз усмешки. — Но, может быть, вы все же выяснили, был он юродивым или нет?
— Юродивость, иными словами слабоумие, определяется исключительно поведением больного. В мозгу очень редко можно заметить какие-либо изменения.
— Стало быть, юродивость нельзя излечить, удалив ту часть мозга, где гнездится болезнь?
Хотя в комнате было холодно, Есениуса обдало жаром. Хирург чувствовал, что император недоволен вскрытием. Он явно ждал от Есениуса разгадки тайн человеческой жизни, решения тех вопросов, которые волновали его бессонными ночами, когда он, как призрак, бродил по пустым покоям дворца или бежал от солнечного света, спасаясь в полумраке своего рабочего кабинета, и проводил целые часы среди своих коллекций, мечтательно глядя на самые ценные сокровища. Неудовлетворенный, он покидал мастерские алхимиков и вышки астрологов, стремясь в волнующем наблюдении над органами человеческого тела приблизиться к пониманию самой большой тайны — тайны жизни и смерти. Но тайна так и оставалась нераскрытой. Есениус, показав Рудольфу строение человеческого организма, словно подвел его к двери с замысловатым замком, но ключа не дал. Да он и не мог его дать, ибо не имел сам.
Понимает ли это император? Смирится ли он покорно перед этой величайшей, пока еще не разгаданной тайной или возмутится? Не сменит ли чувство бессилия прилив бешенства, объектом которого будет избран он, Есениус? Обычно бледное лицо императора стало розоветь. Это был тревожный признак, означавший, что император сильно возбужден. И Есениус понимал: покажи он Рудольфу даже мозг несчастного Симеона, это не рассеет его сомнений, не уничтожит беспокойства. А что будет потом, как отблагодарит его император?
Рудольф отошел от стола и посмотрел вокруг, как будто чего-то ища. Возможно, у него заболели ноги и ему захотелось присесть.
Нервы Есениуса были напряжены до предела. Все свое внимание он сосредоточил на анатомировании, хотя при этом не забывал украдкой следить за каждым движением императора. Он был начеку, как бы ожидая приближения какой-то неведомой опасности. Ему хотелось привлечь внимание императора к своей работе.
— Если ваше величество позволит, я вскрою череп. — И, когда император кивнул в знак согласия, он продолжал: —Посмотрим, имеются ли в мозгу какие-нибудь следы умопомешательства.
Император придвинул стул и сел. Это предложение Есениуса его явно успокоило.
— Хорошо, вскрывайте. И подробно обо всем расскажите.
Теперь Есениус окончательно убедился, что вскрытие черепа было основной целью этого необыкновенного анатомирования.
Император хочет убедиться, можно ли по изменениям в мозгу распознать умопомешательство и вылечить его, вскрыв череп. А вдруг таким образом можно излечить и его болезнь?
Взмах острого ножа — и скальп уже на полу. Теперь с помощью пилы можно вскрыть лобную кость.
— Скажите, доктор, существует какая-нибудь разница между мозгом этого юродивого и, скажем, мозгом… императора?
Голос императора прозвучал почти просительно. Рудольфу мучительно хотелось ухватиться за какие-то неоспоримые доказательства своей исключительности, ибо ему казалось, что земля уходит из-под ног и увлекает его с собой в пропасть.
Но Есениус не мог ему помочь. Впрочем, даже если он и дал бы какой-то ответ на этот нелепый вопрос, разве поверил бы император, что его мозг не отличается от мозга простого человека?
«Между мозгом императора и мозгом юродивого нет различия», — такой ответ вот-вот был готов сорваться с языка хирурга. Но он вовремя понял: Рудольф ждет совсем другого.
— Между мозгом отдельных индивидуумов нет различия, — сказал наконец Есениус. — Во всяком случае, покуда речь идет о строении его и составе. Различие есть только в величине.
И вот оба с пристальным вниманием рассматривают серое вещество мозга, но не замечают в нем ничего такого, чем бы оно отличалось от мозга здоровых людей.
Острый нож Есениуса вонзается в мякоть вещества, и хирург и император смотрят, что делается внутри мозга, в слоях ткани, напоминающих своим рисунком полукружия радуги. Но и там они ничего не находят. Нет даже следов кровоизлияния — ничего такого, что могло бы хоть как-то приблизить врача к разгадке тайны, которая для императора важнее, чем расположение звезд в час, когда он появился на свет.
Есениус растерянно пожимает плечами и снова вкладывает мозг в черепную коробку.
— Ignoramus et ignorabimus[26], — покорно произносит император.
А его личному врачу нечего сказать в утешение своему владыке. Он чувствует лишь жалость, которую испытывает врач к неизлечимо больному человеку, но не смеет ее показать.
После своего первого анатомирования Есениус был горд тем, что совершил. Он чувствовал себя тогда исполином, который осмелился приоткрыть завесу, скрывавшую от простых смертных тайну жизни. В тот раз анатомирование было для него самоцелью. Теперь же оно должно было вскрыть причину болезни и смерти человека. Но он не узнал ни того, ни другого. Вместо гордости, которую он испытывал после первого вскрытия, сейчас им овладела лишь горечь сожаления и какая-то безграничная покорность, ибо он осознал, какими бессильными оказываются даже знаменитейшие врачи перед некоторыми загадками природы.
Всю дорогу в ушах у него звучали слова императора:
«Ignoramus et ignorabimus».
Он сравнивал себя с деревом, на которое налетела буря. От всей его самоуверенности не осталось и следа. Ему казалось, что гораздо лучше было бы отказаться от избранного пути и посвятить себя чему-нибудь другому. Сомнения, безнадежно овладевшие императором, передались и ему. Где-то глубоко внутри он ощущал странное беспокойство. Будто там, в душе, со все прибывающей силой забил источник сомнений. И в шуме его все время, безостановочно повторяются одни и те же знакомые, обезоруживающие слова: «Суета сует…»
Мария заметила, что муж расстроен, и стала его расспрашивать.
Он поделился с ней своими сомнениями.
— Это ужасно, когда человек вдруг начинает понимать свое бессилие. И еще при таких обстоятельствах! Что мне толку от моей науки, если я не могу дать ответа на такой простой вопрос: «Отчего умер юродивый Симеон?»
Есениус присел к столу, подпер рукой голову. Вся радость жизни покинула его.
С той головокружительной высоты, на которую вознес Есениуса успех, он снова пал на самое дно.
— Пожалуй, ты преувеличиваешь, Иоганн, — осторожно промолвила Мария. — Какая тебе польза, если бы ты узнал, отчего он умер? Надо обращать больше внимания на живых. Им ты можешь помочь, а мертвым уже все безразлично. И еще я тебе скажу, Иоганн: не сдавайся после первой же неудачи. Постарайся найти ее причину. Ты искал ее?
Есениус признался, что нет.
— Ну вот видишь! Знаешь, в чем я вижу причину твоей неудачи? В том, что ты больше полагался на книги, чем на собственные наблюдения. И эта новая неудача должна заставить тебя еще упорнее работать.
Лицо Есениуса просветлело. Он порывисто встал, подошел к жене и, целуя ее в лоб, сказал:
— Nescimus, sed sciemus[27]
Разговор с Марией не убедил Барбору. Она все еще не могла согласиться с тем, чтобы ее муж перестал составлять гороскопы.
Барбора постоянно вспоминала первые месяцы их жизни в Праге. Как было тяжело просить у Браге жалкие гроши и как унизительно получать отказ — у самого, мол, нет! Горько об этом вспоминать. Теперь у Кеплера приличное жалованье, только получает он его всегда с опозданием. Если бы можно было на него рассчитывать, они бы прокормились. Но что поделаешь, если Кеплеру опять вот уже несколько месяцев ничего не платят. Хоть бы потом отдали. Но об этом не может быть и речи. Дадут немного, а остальное жди месяцы, а то и годы. Как же при этом отказываться от единственно надежного источника дохода, каким являются гороскопы? У Регины такой возраст, когда молодой организм требует хорошего питания. А платья, башмаки и все прочее? И это только одному ребенку. Расходы на Зузанку, хотя она и совсем крошка, немногим меньше. Все время надо что-то покупать, не говоря уж о квартире. Марии легко говорить: детей у них нет, а побочных доходов куда больше, чем у Кеплеров.
Так рассуждала Барбора, решившись отстаивать раз и навсегда заведенный в доме порядок. Но все же она вспомнила слова панн Марии: «Ты не можешь судить обо всем только со своей точки зрения. Вникни в положение Иоганна. Разве ты забыла, что он тебе однажды сказал? «Для меня неважно, что думают о моей работе современники и будут ли люди читать сразу же после моей смерти мои книги. Но я глубоко убежден, что через сто лет их оценят по достоинству и прочтут с тем интересом, какого они заслуживают». А если он так уверен в значительности своих исследовании, она не должна ему мешать, не должна отвлекать своими кухонными интересами.
Долго боролись в Барборе заботливая мать с доброй женой. Ей казалось, что интересы детей находятся в противоречии с интересами мужа. Но постепенно она уступила. Помогло то, что императорская казна несколько месяцев аккуратно выплачивала жалованье придворным служащим.
Пани Барбора обходилась жалованьем и перестала вспоминать о гороскопах.
Кеплер с головой погрузился в свою работу.
В ясные ночи он отправлялся в загородный дворец королевы Анны. Здесь, в большом зале верхнего этажа, император создал обсерваторию. Сюда он велел перенести все приборы, принадлежавшие Тихо Браге; некоторые из этих приборов — самые большие, не помещавшиеся в доме Браге, — были установлены здесь еще при жизни придворного астронома.
Каждый раз, когда Есениус дежурил ночью, они встречались с Кеплером на Граде.
— Жаль отвлекать вас от работы, — сказал однажды вечером Есениус Кеплеру, — но я с удовольствием пошел бы с вами в Бельведер. Я там еще не был. С покойным Браге мы не раз вместе наблюдали ночью небосвод. Только не знаю, не буду ли я вам в тягость…
— Как вы можете так говорить? — вспыхнул Кеплер. — Ведь вы знаете, как я ценю ваш интерес к моей работе. Я буду весьма рад, если вы отправитесь со мной. Хотя бы сегодня. Ночь ясная, и мы сможем беспрепятственно наблюдать звезды.
Есениус сообщил камердинеру, где он будет, и вместе с Кеплером отправился в королевский парк. С тех пор как он стал личным врачом императора, его только раз вызвали ночью к Рудольфу. Поэтому он имел все основания предполагать, что и эта ночь пройдет спокойно.
Полная луна озаряла парк серебристым светом. Глубокая тишина окутала все вокруг. Неподвижный воздух был насыщен запахом роз, кусты которых окаймляли дорожки, усыпанные золотистым песком. Справа и слева от дорожек искусной рукой садовника геометрическими фигурами — квадратами, кругами, полукружьями, звездами — были рассажены яркие цветы, среди которых выделялись прекраснейшие тюльпаны. Несколько лет назад их привезли из далекой Турции как подарок султана императору. Это были первые тюльпаны в Центральной Европе.
В таинственной темноте кустов вспыхивали огоньки светляков. Время от времени в воздухе проносились летучие мыши.
Откуда-то снизу, вероятно из города, слабо доносился лай собак.
Зеленоватая крыша замка в таинственном ночном освещении напоминала киль опрокинутого корабля, покоящегося на дне прозрачного водоема.
Тихий разговор и скрип песка под ногами были единственными звуками, которые, как круги на воде, расплывались вокруг идущих. Но вот замерли и эти звуки. Остался только один звук — шум фонтана.
Друзья молча остановились.
— Что это? — прошептал Есениус. — В Праге звонят? В такой поздний час?
Кеплер улыбнулся и, не говоря ни слова, схватил доктора за руку и подвел к фонтану.
— Поющий фонтан, — сказал он, глядя с улыбкой на удивленное лицо Есениуса.
— Так этой есть поющий фонтан? — воскликнул доктор и прислушался к прекрасной мелодии.
Он уже слышал о творении мастера Яроша, об этой диковине пражского императорского сада, но не представлял себе, как может петь фонтан, и, конечно, не знал мелодии этой песни.
Теперь он слышал ее собственными ушами.
К монотонному шуму воды присоединялся отдаленный, нежный звон. Казалось, что звонили все колокола пражских храмов, но звон их был приглушенный, порою замирающий, будто музыка, доносящаяся откуда-то издалека, чуть ли не с того света.
Очарованный Есениус с наслаждением слушал эту прелестную музыку, и радостное чувство наполняло его душу.
— Я начинаю верить в правдивость легенды о древнеегипетских башнях, которые начинали петь с восходом солнца. Однако неизвестно, можно ли сравнить их пение с пением этого фонтана.
До замка оставалось всего несколько шагов. Кеплер провел Есениуса внутрь и кликнул слугу, чтобы тот им посветил.
Гулко раздавались шаги поздних посетителей, когда они проходили пустынным большим залом-приемной загородного дворца.
Обсерватория, напротив, была так заставлена всевозможными инструментами и приборами, что посетитель не знал, на что прежде обратить внимание. Был здесь и большой трикветрум Коперника, который так ценил покойный Браге, несколько секстантов и квадрантов разной величины, всевозможные другие приборы, циркули и несметное количество книг. Многое было знакомо Есениусу еще по дому Тихо Браге.
— Пойдемте наверх, — предложил Кеплер.
Они поднялись на галерею и остановились, залюбовавшись спящей внизу под ними Прагой, озаренной лунным сиянием.
Над морем черепичных крыш к чистому, усеянному звездами небу вздымались десятки пражских башен. Отчетливее всего были видны, словно близнецы, башня Тынского храма и стоявшая напротив нее башня ратуши… немного поодаль за ними высоко вознеслась крыша костела панны Марии Снежной… А вот и колокольня Гавельского храма, влево от нее должен быть Каролинум… сюда же, по направлению к Влтаве, — Вифлеемская часовня, в тени которой Лоудова коллегия — жилище Есениуса. Все эти здания, казалось, громоздились друг на друга как попало, и все же человек не мог подавить в себе чувство восхищения, какое доставляла ему эта ни с чем не сравнимая, своеобразная, неповторимая красота.
«Такой я ее еще не видел», — подумал Есениус, прикованный к панораме ночной Праги, и облокотился на парапет, доходивший ему до груди. Рядом с ним стоял Кеплер.
Они были одни. Вокруг ни души. Здесь, высоко над уснувшим городом, вдали от мирской суеты и придворных интриг, они могли свободно дышать, словно им удалось покинуть землю и вознестись в надзвездные дали.
В такие мгновения хочется быть откровенным, душа льнет к близкой ей душе, перед которой она могла бы раскрыться, как цветок под лучами солнца.
— Я хотел бы с вами поговорить, Иоганн, — начал Кеплер и повернулся спиной к городу, чтобы видеть Есениуса. Лицо Кеплера оставалось в тени. Произнеся первые слова, он замолчал, желая установить, готов ли Есениус его слушать, а затем продолжал — Возможно, вам это покажется смешным. Речь пойдет о моей супруге, Барборе…
О семейных делах Кеплер еще никогда не разговаривал с Есениусом. Это была святая святых, куда нельзя заглядывать посторонним. Чем он так огорчен, что решился открыться? Виду него человека, который никогда не был так счастлив, как теперь.
— Если я смогу дать вам совет или помочь в чем-либо…
— Нет, нет, вы меня не так поняли, — порывисто возразил Кеплер, и на его тонких бледных губах появилась растерянная улыбка. — Не знаю, как и начать… Вы давно женаты, у вас такая разумная жена, вы, вероятно, лучше это понимаете… А я, признаться, ничего понять не могу. Но, чтобы вас долго не мучить, скажу: Барбора — прекрасная женщина.
Есениус не понимал, зачем он все это говорит. Зачем убеждает, что Барбора прекрасная женщина. Ведь он, Есениус, в этом никогда не сомневался.
— И вы только теперь это поняли? — снисходительно улыбнулся Есениус.
— Да, только теперь, через пять лет супружества. Вы только подумайте: с тех самых пор, как мы поженились, моя жена требовала от меня, чтобы я составлял гороскопы и делал прогнозы для календарей. Ведь вы прекрасно знаете, как неприятно делать что-нибудь против своей воли и своих убеждений. Но что поделаешь? Барбора не хотела сократить расходы. А жалованье из императорской казны — вещь ненадежная. Вам это известно?
— К сожалению, — вздохнул Есениус. — Если бы у меня не было частной практики, я, право, не знаю, как бы мы могли свести концы с концами.
— Вот видите! — воскликнул Кеплер. — Я и оказался в таком положении. Пожалуй, еще в худшем: лечить людей и предсказывать судьбу — вещи несравнимые. А сейчас произошло просто чудо: Барбора резко переменилась. Сказала мне, чтобы я не обращал внимания на домашние дела, что мы как-нибудь обойдемся, и если мне так уж претит, то лучше бросить эти самые гороскопы. Теперь я продолжаю свой трактат о принципах астрологии, он давно уже был разработан, но из-за размолвки с Барборой я его бросил. Я вам только хочу сказать, что человек никогда до конца не знает даже собственной жены. Ведь я думал о человеке хуже, чем он есть на самом деле. Вы меня понимаете?
— Понимаю, очень даже понимаю, — с участием ответил Есениус, но на душе у него заскребли кошки. Сколько внимания проявляет Мария к его работе, желая быть ему полезной… Но стоит ли он этого? Может ли это оценить? Придет домой, и забудется его раскаяние.
— Не сердитесь на меня, что я поделился с вами радостью, которую доставила мне сегодня Барбора. Но если бы вы знали, что это для меня значит! Теперь я смогу закончить свой трактат об основах астрологии, а потом буду продолжать «Паралипомены» — там я касаюсь законов оптики.
Когда Кеплер заговорил об астрологии, Есениус вспомнил императора.
— Вы собираетесь издать «Основы астрологии»? — помолчав, спросил Есениус.
Кеплера удивил этот вопрос.
— Разумеется. Зачем бы я тогда писал?
— А вы подумали о том, как отнесется к вашему сочинению император?
— Я ему скажу заранее, что собираюсь опубликовать «Основы астрологии», и попрошу разрешения посвятить ему эту книгу, — сказал Кеплер.
Есениус невольно повысил голос:
— Вы собираетесь посвятить императору произведение, направленное против астрологии?
— А почему бы и нет? — спокойно ответил Кеплер, не замечая волнения Есениуса. — Думаю, что императору милее открыто высказанная точка зрения, пусть даже противоположная его взглядам, чем обман. Вы тоже не побоялись высказать свое мнение, хотя оно и не совпадало с мнением императора.
— Это нельзя сравнивать. Тогда речь шла совсем о другом. Но астрология — слабость императора. А что, если он не примет вашего посвящения? Будете вы тогда издавать свою книгу?
Кеплер утвердительно кивнул:
— Не могу быть непоследовательным. Не хочу говорить одно, а думать другое.
— А если император откажется от ваших услуг?
С еще большей убежденностью, чем в первый раз, Кеплер ответил и на этот вопрос Есениуса:
— Прага — не единственный город, где можно жить. Я мог бы попытаться получить место в Вюртенберге, в Саксонии, Виттенберге, в Иене, Лейпциге или еще где-нибудь. Человек не должен приносить в жертву свои убеждения. Разве на моем месте вы поступили бы иначе?
Есениус долго молчал. Он смотрел вниз на прекрасный город, с которым успел сродниться всем сердцем, и в то же время чувствовал, что его теперешнее положение — только трамплин к настоящим делам. Не хотелось бы ему покинуть Прагу.
Есениус ощущал на себе мягкий взгляд Кеплера, который напомнил ему глаза Марии. Эти глаза не допускали лжи.
Голос доктора дрогнул, когда он ответил:
— Стало прохладно, и нам, пожалуй, пора возвращаться.
Есениуса работы во дворце прибавилось. Доктор Гваринониус прихварывал, и Есениусу приходилось его заменять. Теперь он стал чаще встречаться с императором.
Тем не менее, их сближение шло медленно, хотя после анатомирования юродивого Симеона отношения между ними несколько изменились. Несмотря на то что результаты анатомического сеанса не удовлетворили императора, сам сеанс его чрезвычайно заинтересовал, и с этого времени Есениусу оказывалось явное предпочтение. Император был недоверчив даже к своему ближайшему окружению. Давая аудиенцию, он мало говорил, зато охотно выслушивал собеседника. А Есениусу, как врачу, важно было знать о состоянии здоровья императора из его собственных уст. Рудольф был убежден, что кто-то его сглазил. Ни одному из своих личных врачей он не верил, что речь идет о простом нездоровье. «Нет, нет, не пытайтесь нас уговорить. Наши недруги нас сглазили, чтобы лишить трона…» Все знали, кого он имеет в виду. Прежде всего — собственного брата, эрцгерцога Матиаша. Трудно приходилось личным врачам императора.
ТРИНАДЦАТАЯ КОМНАТА
Есениус понимал, что обычным путем, который приемлем для других больных, здесь ничего не достигнешь. Прежде всего надо сделать так, чтобы император не видел в нем врача. Надо попытаться снискать его доверие. А для этого врач должен интересоваться тем, что интересует императора: искусством, астрологией, алхимией…
Вскоре император заметил, что с Есениусом можно поговорить и об искусстве. И темы их бесед значительно расширились.
Есениус еще в Падуе, где прошли его студенческие годы, не ограничивался узким кругом медицинских наук и, как поклонник всего прекрасного, интересовался живописью и скульптурой.
В Италии было достаточно возможностей углубить этот интерес, а его встречи с выдающимися падуанскими и венецианскими художниками позволяли ему теперь высказывать свои суждения о произведениях искусства. Он не был профессионалом, но сразу мог отличить подлинную живопись от мазни и умел обосновать, почему ему нравится то или иное творение. На картины и скульптуры он смотрел глазами знатока.
— Я вижу, вы интересуетесь искусством, — как-то в весенний солнечный день сказал ему император. — Не хотели бы вы взглянуть на мои коллекции?
Такое внимание было редким явлением. Император ревниво оберегал свои коллекции от нескромных взглядов, точно опасаясь, что этим утратится их ценность. Все эти сокровища он хотел иметь лишь для себя. И прятал их, как прячет дукаты скряга. Залы, в которых он разместил свои сокровища, были словно сказочной тринадцатой комнатой, куда никому не было доступа. Только высоким иностранным особам показывал император свои сокровища, в особенности послам, представляющим великие государства, чтобы они могли рассказать о виденном своим монархам, а те завидовали бы ему и восхищались им. Привилегию посмотреть императорские собрания изредка получали некоторые знаменитые мастера, главным образом живописцы и скульпторы. Если послов и других высокопоставленных особ сопровождал лично император, то художников сопровождал кто-нибудь из придворных живописцев или скульпторов, чаще всего Бартоломео Шпрангер или Андриен де Вриес, а в особых случаях сам управляющий императорскими коллекциями Октавиан Страда.
Ключи от галереи, где находились художественные коллекции, император хранил в ящике письменного стола. И никто без ведома Рудольфа не мог попасть в галерею.
Есениус с нескрываемой радостью поблагодарил императора за исключительное внимание, а тот велел хирургу явиться к нему сразу же после полуденного звона колоколов.
«Кто же меня будет сопровождать: Страда, Шпрангер, фон Аахен или Вриес»? — задавал себе вопрос Есениус. Впрочем, это было ему безразлично. Важно то, что он увидит императорские коллекции.
— Его императорское величество находится в мастерской, и никто не смеет прерывать его занятия, — заявил главный камердинер, когда Есениус в указанное время явился в приемную императора.
— Да, но его императорское величество велели мне явиться к определенному часу — сразу же после полуденного звона, — ответил Есениус на возражения камердинера.
— Если вы явились по повелению императора, тогда другое дело. Будьте любезны следовать за мной.
Кроме искусства, астрологии и алхимии, у императора была еще одна слабость — художественное рукомесло. Больше всего ему нравилось вырезать по дереву орнаменты, но для разнообразия он любил мастерить и часы. Иногда рисовал.
Мастерская, куда ввел Есениуса камердинер, отличалась от прочих мастерских, виденных им до сих пор. Это была смесь столярной, слесарной, часовой и живописной мастерских. Самые разнообразные инструменты, разложенные на двух больших и нескольких маленьких столиках, совсем не гармонировали с дворцовой обстановкой и странно выделялись в этой комнате с высоким потолком, расписанным золотом и фресками итальянских мастеров. Но при дворе Рудольфа было столько поражающих несоответствий, что это уже никого не удивляло.
— Наш доктор точен, — улыбнулся император и, обращаясь к старому мастеру Криштофу, который посвящал его в тайны столярного ремесла, сказал: — На сегодня довольно.
Император отложил молоток, долото и снял зеленый передник. Он остался в коричневого цвета панталонах и белой, отороченной кружевом рубахе. Мастер Криштоф снял с гвоздя коричневый кожаный камзол с пришитыми суконными рукавами и помог императору одеться. На голове у императора была низкая шапочка, напоминавшая берет. В мастерскую он приходил в этом рабочем костюме.
Мимо склонившегося в учтивом поклоне мастера Криштофа император вместе с доктором Есениусом направляется в свой кабинет. Без сомнения, там его ждет Страда или Шпрангер, чтобы сопровождать Есениуса при осмотре императорских собраний.
Но кабинет пуст. Камердинер заменяет кожаный камзол своего господина дорогим белым ментиком на шелковой блестящей подкладке желтого цвета.
Рудольф вынимает из стола большую связку ключей и говорит Есениусу:
— Можно идти.
Так, значит, император Рудольф будет сопровождать его сам!
Не успел Есениус опомниться от неожиданности, как император уже отпирал большие белые двери Испанского зала, совсем недавно отстроенного итальянским архитектором Горацио Фонтано де Бруссато для придворных торжеств и балов. Это свое назначение зал выполнял недолго. Император распорядился разместить здесь часть своих коллекций.
Войдя в зал, император заботливо запер за собой дверь.
Итак, вот он, этот знаменитый зал, о котором с восхищением говорили во всей Европе.
— А теперь смотрите что хотите и как хотите.
Рудольф прошел в центр зала и присел на мягкий стул.
Есениус все время ощущал на себе его взгляд. Он знал, императора интересует первое впечатление, какое вызовут у посетителя эти художественные сокровища, но вместе с тем ему важно мнение Есениуса и об отдельных произведениях. Все это неприятно действовало на доктора. Спокойному созерцанию мешало и то, что он не знал, сколько у него времени на осмотр. Если он будет торопиться, император посчитает это недостатком интереса или слабым знанием предмета, а если задержится подольше, не будет ли это испытанием терпения императора?
И Есениус решил сразу же выяснить все свои сомнения.
— Смею ли я спросить, ваше императорское величество, сколько времени у меня для осмотра?
— Ровно столько, сколько вам потребуется, — любезно ответил император. — На меня не обращайте внимания. Здесь для меня времени не существует.
Слова императора успокоили Есениуса. Он мог целиком отдаться окружающей его красоте.
О, как благотворно она действует на душу! Человек обо всем забывает. И радость, вызванная прекрасным, овладевает всем его существом.
Так подействовали прекрасные творения, собранные в этом зале, и на Есениуса. Прежде всего он обошел весь зал, чтобы сперва бегло ознакомиться с выставленным здесь, а уж потом стал подробнейшим образом рассматривать каждую картину, каждую скульптуру.
Здесь не было ни одного произведения, сделанного рукой ремесленника. На каждом лежала печать подлинного творческого горения. Десятки и сотни картин: миниатюрных, средних по величине, и поистине огромных. Целые ряды скульптур античных мастеров и итальянских мастеров эпохи Возрождения. А в соседних комнатах — бесчисленное количество искусно выполненных ювелирных и граверных работ. В конце зала находились столы и витрины со всевозможными драгоценными предметами.
Есениус прежде всего рассматривает картины работы Дюрера. Они висят в конце зала.
Вот «Мадонна с младенцем». На голове у нее небесно-голубой шарф. Какое удивительное очарование овладевает человеком! Детское лицо матери, нежно глядящей на свое обнаженное дитя. Гармоничное сочетание красок, среди которых доминирует небесно-голубой цвет прозрачного шарфа. Вероятно, все это вместе наполняет зрителя сладостной грустью, овеянной невольным воспоминанием о собственной матери.
Посмотрев другую работу Дюрера — огромное полотно «Казнь десяти тысяч христиан во времена персидского царя Сапора», — Есениус еще раз вернулся к мадонне. Ему хотелось избавиться от тяжелого впечатления, какое произвела на него картина, на которой богатая фантазия художника запечатлела все возможные виды казни. Страшное зрелище! Есениус пытается отвлечься от содержания картины и разобраться в ее художественных достоинствах: композиции, колорите, рисунке. Но одно от другого отделить невозможно.
Император отвел глаза от «Илиона» — прекрасной статуи Скопаса, на которую он мог смотреть часами, — и взглянул на Есениуса. Взор его выражал удовлетворение.
— Вам нравится Дюрер?
Есениус вздрогнул. Он совсем позабыл об императоре.
— Очень, ваше величество!
Он не мог кривить душой. Его восторг был искренним. Ему нравились итальянские художники, он всегда считал, что они недосягаемы, что их никому не превзойти, но великого нюрнбержца любил всем сердцем.
— Вы уже видели «Поклонение волхвов» и «Праздник четок»?
«Поклонение волхвов» Есениус видел еще в Виттенберге в храме Всех Святых. А теперь картина здесь. Как это могло случиться?
— Я видел ее впервые еще в Виттенберге.
Император плутовато улыбнулся.
— Она и сейчас там висит, — таинственно ответил он. — Только оригинал здесь.
— А в Виттенберге? — удивленно спросил Есениус.
— Там копия. — Император засмеялся тихим смехом человека, предпочитающего больше смеяться про себя, чем вслух. — Жители Виттенберга народ упрямый, а тамошние монахи совсем твердолобые. Свою картину они не хотели уступить ни за какие деньги. В конце концов удалось договориться с одним условием — мы должны были поручить изготовить копию, которую почти невозможно отличить от оригинала.
Бледные губы Рудольфа снова озарила довольная улыбка. Он радовался этому удачному ходу, как радуется мальчишка после ловкой проделки.
Вершиной творчества Дюрера была его картина «Праздник четок».
— Лучшей картины Дюрера я до сих пор не видел! — воскликнул Есениус, забывая об этикете.
Но такое нарушение этикета не возмутило императора. Искренний восторг посетителей его галереи он ценил выше, чем вежливую похвалу.
— И едва ли увидите, — заметил он самодовольно.
Дюрер был любимым художником Рудольфа, а картину «Праздник четок» он ценил выше всех произведений живописи.
Поэтому-то ему было не жаль заплатить храму Святого Варфоломея в Венеции двадцать две тысячи талеров за эту картину и дать вместо нее точную копию. А чтобы в пути картину не повредили, ее накрутили на деревянный валик, упаковали в непромокаемый кожаный мешок, и всадники в сопровождении вооруженной стражи переправили ее через Альпы в Прагу. Теперь она сверкает среди других уникумов, как солнце среди планет.
После Дюрера следовали Джотто, Фра Анджелико, Леонардо, Рафаэль, Корреджо, Тициан и многие другие.
Никогда еще Есениус не видел такого количества собранных вместе шедевров.
Дойдя до конца зала, он снова возвращается. Но идет не вдоль противоположной стены, а через середину зала, где на подставках стоит ряд картин одинаковой величины.
Как отличны эти картины от тех, которые он только что рассматривал! Там словно собрались на торжественный праздник все святые, окруженные ангелами. Здесь же, наоборот, представлена бурлящая повседневная жизнь человека среди себе подобных и в борьбе с природой. Какая широкая панорама, сколько действующих лиц на каждой картине! И каждый персонаж живет. Люди составляют группы, которые, однако, неразрывно связаны со всем изображенным на картине.
Впечатление, вызванное этими картинами, невозможно сравнить с тем, которое создалось в душе Есениуса, когда он разглядывал творения Дюрера и полотна итальянских мастеров. Сначала он чувствовал себя как в храме. А потом, выйдя из храма, он сразу же попал в суматоху ярмарки или карнавала.
Праздник жизни! Но с какой стихийной силой он изображен!
Кто живописал эти полотна? Есениус еще никогда не встречался с картинами этого мастера. А император, видимо, любит художника, иначе не собрал бы столько его полотен.
— Смею я узнать, ваше величество, имя автора этих картин?
— Они вам нравятся? Своеобразные картины… Но все же прекрасные, не правда ли? Рисовал их голландец Питер Брейгель[28]. Собственно говоря, картины, которые перед вами, нарисовал для нас его сын Ян точно с отцовских оригиналов. Сами оригиналы нам не удалось приобрести.
— Питер Брейгель, — вполголоса повторил Есениус, словно желая навсегда запечатлеть в памяти это имя.
— Вы, вероятно, устали, доктор. Отдохните немного. Подвиньте сюда стул.
Стул стоял под одним из высоких окон. Есениус подвинул его ближе к императору.
— Что вы скажете об этой картине? — спросил император, показывая на одну из картин Брейгеля, против которой он сидел.
Это были «Слепые». Хотя Есениус уже видел картину, он еще раз внимательно на нее посмотрел. Разглядывая ее, он обдумывал свой ответ императору. Картина подавляла трагической безысходностью. Шесть слепых с поднятыми к небу головами и с широко раскрытыми, но погасшими глазами идут друг за другом, опираясь на посохи. Первый, поводырь, сорвался с берега в поток… он напрасно простирает руки, взывая о помощи… Его друг, следовавший за ним, не может ему помочь, потому что он сам уже падает вниз. Та же судьба ждет и остальных четырех, не подозревающих, что впереди поток. «Как мог художник избрать такой трагический сюжет?» — думает Есениус.
— Это невероятно сильное произведение. Оно потрясает, — не спеша говорит Есениус.
— Шпрангер утверждает, что это страшная картина. А вам не кажется, что она отвратительна?
Император смотрит на Есениуса из-под полуопущенных век, желая убедиться, искренне ли отвечает доктор.
— Мне кажется, что выражение «отвратительна» — недостаточно точное определение. Картина очень правдива. Художник дал кусочек настоящей жизни. А если художник рисует правду жизни с такой убеждающей силой, как этот голландский живописец, его произведение нельзя назвать «отвратительным», хотя оно и не соответствует утонченным требованиям к искусству.
— Понимаем, что вы хотите сказать. Не надо искать прекрасное только в высших сферах, в ангелах, святых, даже в языческих божествах, которых так любит рисовать Шпрангер, — оно есть и на этом свете. В повседневной жизни. Всюду вокруг нас. При такой точке зрения мы считаем прекрасным не только ваше анатомирование, которое вы недавно нам показали, но и тот труп, который вы вскрывали. Когда мы смотрели на вскрытие, у нас было то ощущение, какое мы испытываем при взгляде на механизм остановившихся часов. Должен вам сказать, что, глядя на устройство часового механизма, вы испытываете удивление. Даже если они не работают. И даже если механизм разобран, а вы глядите на каждую его деталь в отдельности. Так и при взгляде на человека… на человеческое тело. Испытываете ли вы такое ощущение?
Есениус еще ни разу не слыхал, чтобы император рассуждал так пространно. Как правило, Рудольф был молчалив. Но в галерее, среди своих сокровищ, он словно преображался. В этой особой обстановке он сбрасывал с себя панцирь монаршей неприступности и становился почти робким человеком с душой чуткой к прекрасному и к простым человеческим чувствам. Может быть, поэтому он любил посещать галерею в одиночестве. Вероятно, опасался, что в такие минуты не был достаточно вооружен против всевозможных посягательств советников и просителей, которым в другой раз оказывал успешное сопротивление.
Красота, как благоухание, наполнявшая огромный зал, на мгновение сблизила императора и его врача, создавая настроение для доверительной беседы.
Во время этой тихой беседы императорский врач хочет получить ответ на некоторые волнующие его вопросы. Нормален ли император? Рассуждает ли так душевнобольной человек? Нет, это не речь сумасшедшего, а размышления бесконечно ищущего человека, которого беспокоят вопросы, далекие людям его круга; Положение Рудольфа требует от него действий, а он боится их, избегает, бежит от них в сказочное царство снов. Живет в ином мире и в отчаянии пытается уничтожить границу между этим миром и миром другим, в котором живет все его окружение. Трагедия его состоит в том, что его никак нельзя убедить в несовместимости этих двух миров. И поэтому он беспомощно мечется из стороны в сторону и горит и страдает от собственной неудовлетворенности, как страдает от его неутомимых поисков вся империя.
И вот император сидит рядом с Есениусом и смотрит доверчивым взглядом и ждет ответа, как ждут целебного лекарства. Будет ли он доволен ответом доктора?
— Когда передо мной вскрытое человеческое тело, больше всего меня интересует взаимодействие его отдельных органов. Я стараюсь понять, какой недуг привел к тому, что прекратилась их жизнедеятельность. Ищу причину, чтобы предотвратить этот недуг в живом организме.
— А смерть— вызывает ли она у вас какие-нибудь эмоции? Какие-нибудь образы наподобие вот этого? — Император едва заметно сделал жест рукой в сторону картин Дюрера и итальянских мастеров. — Не испытываете ли вы страха перед ней? Это необъяснимый и непреодолимый ужас перед неизвестным…
Чувства страха перед смертью Есениус никогда не испытывал. Он видел немало умирающих: некоторые отходят спокойно, ровно, даже торжественно; душа других давно уже на том свете, но тело все еще корчится в последней борьбе. И, наконец, третьи судорожно цепляются за жизнь, держатся за нее всеми силами, пусть даже она была плохой, и чуть ли не теряют рассудок при мысли о том, что пришел страшный час, когда они в полном одиночестве отправятся в неизвестный путь.
Император, очевидно, принадлежит к этим последним. Что сказать ему в утешение?
— Иногда, вскрывая, к примеру, сердце молодого человека, задумываешься над тем, сколько совсем недавно было в нем высоких чувств. Или, распиливая череп, начинаешь думать о тех мыслях, что рождались в этом мозгу при его жизни. И очень часто в таких случаях приходит на ум, какое особое строение мозга способствует тому, что один человек духовно туп, а другой создал непреходящие ценности. Зависит ли это от строения мозга? Почему только некоторые смертные возвышаются над своими современниками и потомками, как возвышаются Александр Македонский, Гомер, Аристотель, Леонардо да Винчи, Коперник? Такие мысли тревожат меня во время вскрытия, но, как правило, я смотрю на свое дело с чисто врачебной точки зрения.
Рудольф молчал. Он смотрел на Есениуса, но мысли его были далеко, ответ доктора не избавил его от сомнений.
— Для чего мы собирали все это с таким упорством? Что останется из этого после нас? Доставит ли все это нашему преемнику хотя бы частичку той радости, какую доставляет нам? Если нет, так зачем все это здесь? Зачем?
Император не ждал ответа на свои вопросы. Он только махнул рукой, как бы желая сказать: суета сует и всяческая суета.
Рудольф поднялся:
— Продолжим осмотр, доктор!
Император привел Есениуса в комнату, где находились произведения императорских «штейншнейдеров» — шлифовальщиков драгоценных камней, — которые создали для своего владыки прекрасные изделия, по красоте превосходящие самое богатое воображение.
Эти драгоценные камни, которым были приданы формы разнообразнейших геометрических фигур, по своей отделке могли соперничать с филигранными изделиями золотых дел мастеров, резчиков, чеканщиков, краснодеревщиков, часовщиков, сабельщиков, ружейников и кольчужников.
Изделия из перьев невиданных экзотических птиц, привезенные испанскими конквистадорами из Новой Индии, стояли рядом с изделиями из азиатского фарфора, венецианского стекла и китайского шелка.
Есениус медленно шел длинной анфиладой комнат, и его интерес постепенно падал, притуплялся.
Когда они вошли в большой зал, где были собраны различные диковинки, император сразу ожил и стал объяснять гостю, что тут находится. По всему было видно, что здесь собрано самое для него дорогое.
На почетном месте в центре зала на деревянной подставке стоит огромная амфора.
— Это один из тех сосудов, воду в котором наш Спаситель превратил в вино на свадьбе в Кане Галилейской. А вот другая достопримечательность: рог единорога. За небольшой кусочек этого рога платят бешеные деньги. А здесь целый рог… Рог, растертый в порошок, обладает лечебными свойствами. Чаша, выточенная из роговины этого животного, имеет свойство обезвреживать яд, и если человек выпьет из такой чаши отраву, то на его здоровье это никак не отразится.
Есениус усмехается про себя и шагает дальше. Ибо рог единорога — только первая диковинка в ряду других. Мехом отороченная шапка — это шапка Пршемысла Пахаря, а вот эти два огромных заржавелых гвоздя — из Ноева ковчега, их достоверность подтвердил сам иерусалимский патриарх. Грамота об этом лежит здесь же…
Потом император открыл дорогую, инкрустированную деревом шкатулку и показал восхищенному Есениусу два корня, напоминающие человеческие фигурки. Один из них походил на мужчину, другой на женщину.
На фигурках были надеты шелковые рубашечки — на одной розовая, на другой голубая.
— Мандрагора, — произнес Рудольф и передал фигурки Есениусу, чтобы тот мог рассмотреть их вблизи. — Это близнецы. В голубой рубашечке — он, и зовут его Марион; в розовой — она, ее зовут Труданчес. Удивительно изящная вещица! Стоила несколько тысяч золотых.
Есениус знал, почему у суеверных людей мандрагора ценится так дорого. Растет она будто лишь под виселицей. Когда ее вытягивают из земли, она якобы стонет, и так страшно, что тот, кто услышат эти стоны, умирает от страха. Поэтому никто не может сам вырвать мандрагору из земли. Самый удобный способ добыть ее — привязать один конец веревки к мандрагоре, а другой — к собачьему хвосту. Потом с дальнего расстояния испугать собаку звуком трубы или выстрелом. С вытащенной мандрагорой собака далеко не убежит, потому что быстро околеет. После этого мандрагора теряет свою вредную силу и начинает приносить своему владельцу одну лишь пользу.
Есениус вспомнил о покойном Тадеаше Гайеке, который осуждал людей, веривших в волшебную силу мандрагоры, и рассказывал, как ловкие мошенники обрабатывают различные корешки, чтобы они имели форму человеческой фигуры…
Наконец император подводит Есениуса к отдельно стоящему деревянному ящику, на котором нарисована человеческая фигура. В нем покоится редкое сокровище: египетская мумия. Рисунок на крышке ящика, изображающий человека, сделан несколько тысячелетий назад египетским художником. Император сам открывает крышку, и Есениус смотрит на набальзамированный, обвитый полотняными лентами труп египтянки, у которой уже нет части ноги.
— Это доктор Писториус понемножку отщипывает, — объясняет император. — Приготавливает «тинктуру мумия». Недавно пан гофмейстер Криштоф Попел из Лобковиц выпросил кусочек. Растер его в порошок, смешал с каким-то вареньем, принял и очень скоро выздоровел. «Тинктура мумия» — весьма надежное средство.
Есениус молчит. Еще ни одному больному он не прописывал этой «тинктуры». Он знает более верные лекарства.
— А если не помогает даже «тинктура мумия», обязательно поможет этот образок.
Император вынул из небольшого, украшенного перламутром ларца какую-то святую иконку и показал Есениусу ее обратную сторону. На ней была надпись. Есениус прочитал:
sator
агеро
tenet
opera
rotas
— Вы можете это прочесть слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх, и каждый раз получатся те же слова, которые даны в первоначальном тексте.
— Sator агеро tenet opera rotas, — прочитал Есениус и вполголоса перевел: — «Своими трудами поддерживает кормчий колеса в движении».
— А знаете, кто этот кормчий? Господь бог.
— Ваше величество полагает, что этот образок и все эти средства являются верным лекарством против болезней? — учтиво спросил Есениус.
— Вы прекрасно знаете принцип Гиппократа: «Где не поможет лекарство — поможет нож. Где не поможет нож — поможет огонь. А где и огонь окажется бессильным, там речь идет о неизлечимой болезни». Однако Гиппократ был язычником. Мы, христиане, не можем ограничиваться его тремя средствами. Нам всегда остается еще одно, последнее и вернейшее средство — бог. Неоднократным повторением слов, написанных на этом образке, больной наверняка вымолит помощь божию и вылечится…
«…или помрет», — подумал Есениус. Но вслух свою мысль не высказал.
Поблагодарив самым учтивым образом императора за оказанное внимание, Есениус отправился домой. В душе у него были противоречивые чувства. Осмотр императорских художественных сокровищ дал ему истинное наслаждение. Но вместе с императорские курьезы поколебали его уверенность в подлинности многих произведений и наполнили душу сожалением, что ловким торгашам и жуликам удалось выудить у доверчивого монарха столько денег за эти сомнительные ценности.
На другой день управляющий императорскими коллекциям Страда спросил у Есениуса:
— Домине доктор, вы повидали мир. Так скажите мне искренне, приходилось ли мм встречать что-нибудь подобное?
Он ждал, кто Есениус рассыплется в похвалах. Но доктор в раздумье ответил:
— Когда я учился я Падуе, меня интересовали жизнь и философия Савонаролы, флорентийского проповедника, которого как еретика сожгли па костре. Я отправился во Флоренцию, чтобы там на месте познакомиться с его жизнью. Мне посчастливилось увидеть художественные собрания, принадлежащие роду флорентийских владык Медичи. Хотя тамошнее собрание не столь богато, как собрание его императорского величества, но думаю, что оно гораздо ценнее…
Страда прервал Есениуса:
— Можете себе представить, сколько миллионов истратил император на все эти сокровища?
Страда чувствовал себя задетым тем, что кто-то осмелился подвергнуть сомнению ценность и значение императорского, а в каком-то мере и его художественного собрания.
— Я уже слышал о том, как щедро расплачивается император за произведения искусства и другие ценные вещи. Но, кроме императора, от этого никто ничего не выигрывает. Флорентийские коллекция Медичи доступны всем художникам, и они могут на них учиться. А самые выдающиеся творения находится даже в общественных местах: в храмах и дворцах. Купол флорентийского собора Брунеллески возвышается над всем городом, и каждый может любоваться его безмерной красотой. Надгробие на могиле Медичи, созданное Микеланджело, не спрятано, как запретная вещь, а выставлено для обозрения всех посетителей часовни. «Персей» Челлини[29] в Лоджии деи Ланци открыт каждому, кто проходит через площадь, точно так же как и восхитительные барельефы Джиберти на дверях баптистерия. Извините, что я касаюсь таких подробностей, но вы знаток и прекрасно понимаете, что я имею в виду… Скажите, если бы вы не состояли на государственной службе при дворе, а жили просто в Праге, разве вам не было бы обидно, что здесь, чуть ли не в двух шагах от вас, столько прекрасных творений, которые вам недоступны? Не плохо ли это?
Говоря все это, Есениус так разгорячился, что увлек и Страду. Но, как верный государственный чиновник, Страда не мог ничего сказать против императора. Однако он не осуждал и Есениуса. Он задумчиво произнес:
— Тут я ничего не могу изменить. Вы сами видите, какой оригинал наш император. Я бы не осмелился повторить ему ваши слова. Да вы и сами бы этого не сделали. Во всяком случае, в ваших интересах ни с кем не делиться подобными мыслями.
«БЕАНИИ»
После праздника святого Луки, то есть после 16 октября, в университете наступал новый семестр.
Начинался он с «беаний». Новоизбранный ректор Бахачек написал по поводу этого знаменательного события цветистым слогом по-латыни соответствующее извещение с указанием точной даты. В извещении он обращался ко всем магистрам, студентам, а также к их родственникам или просто к почитателям академии, чтобы все они, по возможности, приняли участие в «беаниях». Педель вывесил извещение на воротах Большой коллегии, а копии разослал по всем пражским школам.
В понедельник, в четыре часа, в Большой коллегии под курантами стали собираться студенты. Первыми пришли «беане» — новички, которые намеревались записаться на первый курс. Шли они неуверенно, робко озирались по сторонам, выискивая знакомых, от которых в эти трудные минуты можно было бы получить поддержку. Самый понурый вид был у юношей из провинции. Эти четырнадцати-пятнадцатилетние пареньки напоминали испуганных телят, которых ведут на бойню и которые не понимают, что с ними происходит. Они только предчувствуют, что их ждет что-то неизведанное и страшное.
У пражских юнцов было смелости побольше. Кое-кто надеялся на родственников, обещавших прийти на «беании». Это была немалая поддержка! Другие знали некоторых преподавателей, родители постарались упросить того или иного магистра взять опеку над их отпрыском. Вместе с новыми студентами, собственно, пока еще «беанами», стали появляться и студенты старших курсов, которые с нескрываемой радостью издевались над перепуганными новичками. «Подождите, беане, сегодня мы вас проучим. Сразу постигнете, что такое студент. Этот день вам запомнится до самой смерти». Так они стращали новичков. А бедные «беане» решили, что будут мужественными, сильными, что не поддадутся слабости, а в будущем году — ого-о! — радуйтесь, новые «беане», уж мы постараемся выместить на вас все наши невзгоды! Так переходил этот древний обычай от одного поколения студентов к другому.
Вот уже пришли первые гости, родители некоторых пражских учеников. Они расположились на предназначенных для них скамьях в последних рядах, ибо первые ряды отведены для учителей. Для ректора поставлено особое кресло.
Студенты стоят вдоль стен большой аудитории: с одной стороны — «беане», напротив них — слушатели старших курсов.
Перед первым рядом возвышается деревянная «коза». Это символ «беаний». Спина у «козы» сколочена из двух досок на манер крыши с острым гребнем. Наконец появляются преподаватели.
Есениус пришел вместе с женой.
Но вот суета, вызванная приходом преподавателей, утихла. Все ждут сигнала ректора. Ректор оглядывает собравшихся серьезным, величественным взглядом. Он выжидает, когда стихнет шум и все наконец усядутся. Потом кивает высокому, с длинными каштановыми волосами студенту, держащему в руках свернутую в трубку бумагу. Это церемониймейстер, на обязанности которого лежит проведение «беаний».
Студент выходит на середину зала и громким голосом читает приветствие.
Возвышенной латынью, пересыпанной гекзаметрами, он возвещает присутствующим смысл сегодняшних торжеств.
— В этот священный храм науки и искусств вошло сегодня несколько неучей и неотесанных увальней, которые представления не имеют об изящных нравах образованных людей. По существу, они глупы, как овцы, ничего не понимающие и проявляющие свое отношение к жизни только громким блеянием: бе-бе-бе-бе! Ведь и их прозвище произошло от сходства с бессловесными животными. Beatus est animal nesciens vitam studiosorum, что означает: «Блаженно животное, не ведающее жизни учащихся». Первоначальные письмена цитированной латинской фразы дают слово «беанус». Эти увальни и тупицы пришли к гражданам академии с нижайшей просьбой, чтобы славная «альма матер» воспитала из них приличных и образованных людей. Одним словом, чтобы она обтесала их грубый нрав, что является основным условием для принятия в университет. Процедура, свидетелями которой мы с вами сейчас будем, весьма стара. Прошел когда-то через нее и отец философии Аристотель, который по прибытии в Афины, где собирался учиться в тамошней академии, должен был перенести всяческие испытания, чтобы избавиться от своих грубых деревенских привычек. И нет никаких сомнений, что это исправление грубых нравов сыграло впоследствии главную роль в его великой учености. Поэтому и вы, «беане», возьмите пример со славного мудреца древности и смело пройдите через сегодняшний обряд, который принесет вам немалую пользу.
Потом он назвал имя студента, который стоял первым по списку. Это был Вавринец, сын мастера Прокопа.
Вавринец вышел из рядов и нерешительно направился к центру аудитории, где стояла «коза». Он пытался улыбаться, чтобы скрыть свое волнение. Когда Вавринец уже стоял перед «козой», он осмелился поднять глава, в его взгляд встретился с ободряющими взглядами отца в Есениуса. Они ободряли его, словно приказывая: «Выдержи!»
Вавринцу приказали взобраться на «козу», и двое старших студентов покрыли его капюшоном из мешковины, к которому были приклеены большие ослиные уши из бумаги. Эти ослиные уши были основным символом «беава».
Но вот к нему уже подходит студент-церемониймейстер с огромным деревянным мечом в руке и снова классическими строфами объясняет зрителям, что ослиные уши были бы отвратительным украшением на ученой голове, и поэтому их необходимо отрубить.
Сильным взмахом меча он отсекает правое ухо, которое тотчас отлетает в сторону. Удар значительно сильнее, чем это требуется для бумажного уха, и деревянный меч изрядно рубанул беднягу Вавринца по плечу. Разумеется, среди старших студентов это вызывает громкий смех. А матери Вавринца кажется, что долговязый студент чуть ли не вонзил меч в сердце ее сына.
Вавринец заерзал на «козе», но, чем больше он двигался, тем больше страданий причиняла ему острая козья спина.
Тем же приемом отсек церемониймейстер я левое ухо. При этом он приговаривал, что лучшее средство избавиться навсегда от ослиных ушек — это внимательность в учении. Он призывал Вавринца учиться, учиться и снова учиться, ибо только при этом он завоюет место среди образованных людей, которые суть украшение человечества.
Однако этого еще мало. Церемониймейстер продолжает речь. Он говорит, что у этого увальня, кроме ослиных ушей, имеются еще и воловьи рога и их необходимо отпилить. Появляется студент с деревянной пилой, который делает вид, что отпиливает у Вавринца рога. Конечно, он делает это так, чтобы бедняге было побольнее. Бедняжка думает, что настал конец мучениям. Увы, он ошибается. При снятии капюшона церемониймейстер основательно растрепал юноше волосы и теперь показывает на его голову. Обращаясь к зрителям, он говорит, что у этой деревенщины голова словно воронье гнездо. Видно, дома он спал в хлеву вместе с волами. Поэтому его надо постричь и причесать. Церемониймейстер хлопает в ладоши, и появляется «цирюльник» с большими деревянными ножницами и граблями. Он начинает «стричь» волосы так, что Вавринец хотя и крепится, но слезы выступают у него на глазах. Мать Вавринца тихо всхлипывает, несмотря на то что мастер Прокоп толкает ее в бок и шепчет, чтобы она не срамила сына.
С тем же усердием студент-«цирюльник» «расчесывает» граблями голову Вавринца.
Однако работа «цирюльника» на этом не кончается. Церемониймейстер провозглашает, что «беана» необходимо побрить, ибо все лицо его густо заросло стерней. При этом он так треплет беднягу Вавринца по щекам, что у того искры сыплются из глаз.
«Цирюльник» приносит «бритву», сделанную из двух деревянных планок, кисть для побелки и старую, облупленную глиняную миску, полную мыльной пены. Обмакнув кисть в пену, он мылит Вавринцу лицо, мыло набивается в ноздри, глаза и рот. Вавринец фыркает, словно кошка, когда ее заставляют нюхать перец. Преподавателям эта забава нравится. Они уже успели забыть, как сами подвергались подобным испытаниям. А «цирюльник» бреет, заталкивая пену Вавринцу за воротник. Наконец приходит прислужник «цирюльника», чтобы умыть побритого. Делает он это просто — выплескивает ему в лицо горшок воды.
Бедняга Вавринец, какой он счастливый — на его мокром лице не видно слез, которые струйками текут по щекам! Теперь он даже улыбается — все позади.
Но только теперь сказывается результат «беаний». Едва Вавринец слезает с «козы», ноги у него подкашиваются и он чуть не падает. Каждый шаг причиняет ему страдания, Вавринцу кажется, что у него в теле не осталось ни одной кости. Он идет разбитый, качаясь из стороны в сторону. Но именно эта неподражаемая походка вызывает у всех присутствующих взрывы смеха. Смеются все, даже мать Вавринца не может удержаться от смеха, хотя и смотрит на парнишку полными любви глазами.
Мастер Прокоп поворачивает к доктору Есениусу просветленное лицо. Он улыбается, и его улыбка как бы говорит: «Хорошо себя держал, не правда ли? Будет из него человек!»
Второго «беана» ожидает кое-что новое. Вот он с закрытыми глазами должен что-то отгадать. Ему нежно гладят лицо и лоб якобы для того, чтобы «развить у него память», а на самом деле просто-напросто обмазывают его сажей. Когда с глаз у него снимают повязку, он никак не может понять, почему все так смеются.
«Беан», которого сажают на обыкновенную лавку, беспечно радуется, что ему повезло. Но радость его кратка. Сразу же рядом с ним появляется «фельдшер», спрашивая, не болят ли у «беана» зубы. Пока «фельдшер» смотрит ему в рот, другой студент, подкравшись сзади, залезает под лавку. «Болит у тебя этот зуб?» — спрашивает фельдшер. «Нет», — отвечает «беан». «А этот?» — «Тоже нет!» — «Гм! Странно! Ни одного больного зуба! А вот этот?» В этот миг студент, находящийся под лавкой, колет «беана» в мягкое место тонким гвоздем. Не ожидавшим такого подвоха «беан» с визгом подскакивает. Общество чуть не лопается от смеха. Только «фельдшер» сохраняет серьезное лицо, деловито замечая: «Значит, этот болит… Ничего не сделаешь, придется его удалить». Он берет огромные деревянные клещи, впихивает их «беану» в рот и, подбадриваемый громкими криками старших студентов, с победоносным видом вытаскивает кабаний зуб, незаметно вложенный им в рот «беана»… Аудитория сотрясается от хохота.
Пока все «беане» пройдут муштру, пролетит часа три. Наконец кончаются страдания последнего «беана». Церемониймейстер подходит к ректору, кланяется и по-латыни докладывает, что процедура испытания на выдержку окончилась.
Ректор благодарит церемониймейстера и просит декана Кампануса «депонировать беанов».
Кампанус встает и направляется к «беанам». Их как будто подменили. Они упоены чувством собственной значительности, держатся важно.
В краткой речи декан повторяет то, что вначале было высказано в форме шутки: он говорит о символическом значении «беаний» и призывает юношей во время учения и во всей своей дальнейшей жизни придерживаться поучений, преподанных им на «беаниях». В конце он предостерегает их, чтобы они не опускались снова в пучину невежества, из которого их вывело это символическое очищение. После этого он вызывает каждого студента и заносит в список первого курса. На этом «беании» для студентов кончаются.
Преподавателям предстоял еще «convivium». Студенты приготовили им угощение. Но сами они в пиршестве не участвуют. Остаются только те, кто будет прислуживать у стола. Родственники студентов и почитатели академии расходятся.
А старшие студенты?
Для них день не кончается. После ужина они направляются в корчму, чтобы отметить сегодняшние торжества. Каждый привез из дому кое-какие гроши. Впрочем, важно иметь на первую кружку. А иногда и этого не нужно. Если в корчме веселится шумная компания горожан, среди них всегда найдется какой-нибудь доброжелатель, который пригласит к столу веселых школяров, чтобы они позабавили его песнями и чтением стихов.
И так в день «беаний» в корчме «У золотой розы» почти до самой ночи раздаются веселые народные песни, а порой и куплеты бродячих студентов. Ночной сторож, проходящий мимо корчмы около десяти часов вечера, ясно слышит хоровую песню, слова которой можно легко разобрать, несмотря на закрытые окна:
Настали осенние дни, а с ними пришли и всякие болезни, так что докторам работы хватало.
Захворала и Катарина Страдова. Доктор Гваринониус ежедневно навещал ее по нескольку раз, но болезнь не проходила. На вопросы своих коллег Гваринониус отвечал путано и таинственно. Заболела пани Страдова будто оттого, что надышалась земных испарений. Эти испарения, образующиеся главным образом над реками, болотами и горячими источниками, сразу же поднимаются вверх и вредны для людей. В небесах, высоко над земной поверхностью, они скапливаются, скопление это раскаляется и превращается в кометы. Кометы нарушают законы Вселенной, ибо у них нет определенных путей, и они беспорядочно носятся во тьме Вселенной. Осенью эти вредные испарения дольше находятся непосредственно над Землей, так как влажный ветер не позволяет им подниматься в высоту. Тут они соприкасаются с людьми, а отсюда возникают осенние болезни, проявляющиеся в кашле и лихорадке.
Так объяснял Гваринониус происхождение болезни Катарины Страдовой, а его коллеги, ученые врачи, серьезно кивали головами.
Даже Есениус признавал выводы Гваринониуса правильными. Только теория комет ему не нравилась. Ведь кометы довольно редкое явление, а согласно Гваринониусу — в своих взглядах тот опирался на мнение большинства, — ежегодно должна была бы возникать по крайней мере одна комета.
На этот вопрос лучше всего ему ответит Кеплер. И Есениус решил поговорить с ним об этом.
Вскоре занемог и доктор Гваринониус. Вероятно, и он надышался «смрадных» испарений.
Есениус не удивился, что на другой день после заболевания лейб-медика его пригласили к пани Страдовой.
Тепло укутанная, она сидела у горящего камина и вышивала.
Пани Катарина встретила его милой улыбкой и заговорила хрипловатым голосом:
— И четверти года не прошло со времени нашей последней встречи, и вот полюбуйтесь, как недобрая судьба за такой короткий срок может изменить человека
Лицо ее приняло страдальческое выражение, но даже больная она была прекрасна. Есениусу показалось, что тогда, когда им пришлось встретиться на дворцовой площади, лицо у нее было полнее. С тех пор она похудела и стала бледней. Но это не лишило ее прелести. Наоборот, бледность при иссиня-черных волосах делала ее лицо еще более выразительным.
Есениус расспросил ее о самочувствии и посмотрел горло. Оно было воспалено.
— Что вам прописал доктор Гваринониус?
— Aurum potabile.
Aurum potabile — жидкое золото. Средство, которое прописывали врачи состоятельным пациентам.
— И не помогает?
— Пожалуй, нет. Во всяком случае, не так, как обещал доктор Гваринониус.
— Попробуем что-нибудь другое.
Знатной больной Есениус не прописал ни одного дорогостоящего лекарства: ни настойки из растертых жемчугов, ни золотого порошка, разведенного в сиропе. Он посоветовал совсем простое лекарство, народное: вдыхать пары ромашкового отвара и полоскать горло отваром репейника. А так как в этом случае ему хотелось угодить Страдовой, он прописал ей «настоящее» лекарство: сладкий, густой сироп.
— Если и это не поможет, тогда придется прописать более действенное средство, — сказал в заключение Есениус.
— Что это за действенное средство — с чисто женским любопытством спросила пани Страдова.
— Соленая вода, — кратко ответил Есениус, даже не улыбнувшись.
— Соленая вода! Брр! Ни за что на свете! — воскликнула больная и поморщилась.
К счастью, к действенному средству прибегать не пришлось, ибо все, что прописал Есениус, отлично помогло. Здоровье Катарины Страдовой улучшалось изо дня в день.
Когда пани Страдова чувствовала себя уже совсем хорошо, она пригласила Есениуса и вместе с благодарностью вручила ему кошелек с талерами.
Это была самая высокая плата, какую Есениус когда-либо получал от своих пациентов.
Об успешном лечении узнал, разумеется, и император.
МИРИАМ
Будущее рисовалось перед Есениусом в самых розовых тонах. Казалось, дорога к дальнейшим успехам ему открыта. Император был к нему благосклонен, Катарина Страдова ценила его, а богатые пражане предпочитали другим врачам. Двери в дома знати распахивались перед ним настежь. Кроме врачебной репутации, немало способствовал этому также и его фамильный герб. Он висел в «большой» комнате в простенке между окнами. Этот герб был дарован его покойному отцу в 1562 году императором Фердинандом I и состоял из трех частей: внизу — золотой щит с тремя вершинами; на средней вершине растет вяз, на двух крайних стоит черный медведь, к шее которого две руки откуда-то сверху протягивают поводок. В центре герба изображен — богатый шлем с пышной короной, а из-за короны виден другой черный медведь. Он стоит на задних лапах, а в передних держит ветвь вяза.
На этот герб Есениус часто поглядывал с любовью и тайно представлял, как, например, прекрасно он бы выглядел на дверцах собственной кареты…
Но Марии в этом не признавался,
В последние дни Есениус был занят исследованием человеческого глаза, надеясь своими выводами помочь Кеплеру в его сочинении об оптике. У палача Мыдларжа он взял глаза какого-то казненного преступника и по ним стремился выяснить основы видения. Сидя в своем кабинете, он исследовал связь зрачка и сетчатки, раздумывая над тем, почему световой луч, проникающим через роговицу и зрачок внутрь глаза, прежде чем достичь сетчатой оболочки, должен пройти через жидкость. Имеется ли какая-нибудь связь между видимым изломом весла, погруженного в воду, и строением глаза? Имеет ли здесь место зрительный обман, происходящий от несовершенства глаза, или другое явление, которое к глазу не имеет отношения и существует само по себе?
На все эти вопросы он не находил ответа ни у Гиппократа, ни у Галена. Не мог на них ответить и Кеплер.
— Вероятно, здесь действуют какие-то законы, которых мы еще не знаем, — сказал он как-то в глубоком раздумье. — Вокруг нас так еще много непонятных явлений, и человек должен жить по крайней мере сто лет, чтобы хоть какие-то из них исследовать до конца.
И все же Кеплер с благодарностью принимал результаты исследования Есениуса. Они помогали ему в работе над книгой об оптике.
У Есениуса был тяжелый день. Здоровье императора снова ухудшилось. Возобновились припадки гнева, и никто, кроме врачей, не решался попадаться ему на глаза. Когда припадки кончались, император впадал в меланхолию. Он не хотел никого видеть, сидел в одиночестве в темном кабинете и погасшим взором смотрел куда-то вдаль, за стены кабинета, за границы этого мира. Что он видел там? Какая сила превозмогла его страх перед смертью и вложила ему в руку острый кусок стекла, которым он пытался вскрыть себе вены? Лабиринт мыслей Рудольфа II оставался недоступным даже для его близких. Никто не мог сказать, что привело императора к такому отчаянному поступку.
Есениус осмотрел рану — вена оказалась неповрежденной, — зашил ее и забинтовал руку. Но кто мог поручиться, что император не повторит сегодняшнюю попытку?
День был напряженный, полный волнений, и Есениус, возвращаясь из Града, предвкушал отдых. До завтрашнего утра можно рассчитывать на покой. Разумеется, если за ним кто-нибудь не придет.
Поднявшись на Каменный мост, он остановился и стал смотреть, как на островке Кампы женщины полощут белье в Влтаве. Пройдя несколько шагов, он залюбовался полетом чаек и прислушался к их крикам. Он оперся о каменный барьер и стал смотреть на развалины Вышеграда, поднимающиеся над зелеными холмами, уже дышавшими весной. Было начало апреля, и воздух таил запахи влажной земли. После полудня прошел дождь, но тучи уже разошлись, и лужи на мостовой сверкали, как осколки зеркала. Заходящее солнце окрашивало небосклон всеми оттенками желтых и красных цветов.
«Будет хороший день, — подумал Есениус, глядя на ясное небо. — Похоже, что солнечная погода продержится всю неделю.
В приятном расположении духа он вернулся домой. Поужинал и, как обычно, сел писать.
Писал долго. Между тем стемнело, и он зажег светильник.
Вскоре постучал какой-то поздний посетитель. Есениус поднялся из-за стола и пошел к двери.
— Кто там? — спросил он.
— Горем преследуемый человек пришел к вам за помощью, — ответил кто-то за дверью.
Есениус открыл.
В прихожую вошел человек в длинном черном кафтане и в черной шляпе. Даже если бы у него не было седых пейсов на висках и желтого колечка на груди, то и тогда было бы ясно, что посетитель еврей.
«Древний, как патриарх», — подумал Есениус, вглядываясь в иссохшее лицо старца. Хозяин закрыл дверь и пригласил гостя в меньшую комнату. Здесь гость представился по всей форме:
— Я раввин Иегуда Лев бен Безалел.
Есениус не пытался скрыть удивление. Имя пражского раввина Льва было известно не только каждому обитателю Праги, но и далеко за пределами королевства. Раввин Лев был лучшим талмудистом своего времени, написал несколько религиозных книг, по которым учились во всех еврейских высших школах. А самое главное — имя раввина Льва всегда упоминалось в связи со всякого рода кабалистикой и черной магией. Люди утверждали, что это он сотворил из глины огромного искусственного человека — Голема, который оживал, как только раввин вкладывал ему в рот таинственный знак — шем. А после этого и выполнял все работы, какие только ему давал Лев.
Даже император Рудольф заинтересовался раввином. Он пригласил его к себе в Град и в течение двух часов разговаривал с ним при закрытых дверях. Никто так и не узнал содержания этого разговора. Но посвященные утверждали, что император уговаривал ученого раввина поделиться с ним тайнами своего искусства. Раввин согласился, думая, что этим он добьется благосклонности императора к своим единоверцам. Однажды вечером император посетил дом раввина в Пражском гетто. Подробности Есениусу рассказал в свое время покойный Тихо Браге, сопровождавший тогда императора. И Тихо Браге утверждал, что его рассказ есть святейшая правда и что все это он видел собственными глазами вместе с Рудольфом. Голема раввин Лев показывать не захотел. Клялся, что ничего подобного нет и в помине, что люди переоценивают его возможности. Никто из смертных не обладает такой силой, чтобы оживлять мертвую природу. Зато раввин показал им другие чудеса. Он сделал так, что Градчаны, весь королевский замок появились у него в комнате. Казалось, протяни руку — и коснешься его стен. А потом по настоятельной просьбе императора вызвал образы ветхозаветных пророков. Тайну этого своего искусства раввин не поведал даже Рудольфу.
— Чем могу вас отблагодарить, почтеннейший рабби[30], за что вы в такой поздний час посетили мое скромное жилище? — учтиво спросил Есениус.
— «Милосердием Иеговы и вашего бога прошу вас, высокоученый доктор, спасите мою внучку! — горестно воскликнул рабби, и его голос пресекся, словно его душили слезы.
— Расскажите подробнее, чем я могу быть вам полезен. сказал Есениус, хотя уже догадывался, что разговор пойдет о медицинской помощи.
Раввин прижал руки к груди и умоляющим голосом произнес:
— Моей единственной внучке, моей любимой Мириам очень плохо. У нее камни в почке, и сегодня вечером случился приступ. Умоляю вас ради всего, что вам дорого, удалите ей камни!
Есениус уже хотел было спросить, почему, мол раввин не поможет внучке своей кабалистикой и черной магией, но искаженное горем лицо старика тронуло его сердце.
— Почему вы пришли за помощью именно ко мне, рабби? — сдержанно спросил он. Ведь у вас есть свой доктор, Лев из Левенштейна. А кроме того, вы прекрасно знаете, что врач-христианин не имеет права лечить еврея, не говоря уж о том, что врачи не занимаются удалением камней. Это дело цирюльников.
Нельзя сказать, чтобы с последним он был сам согласен, но это была хорошая, убедительная отговорка.
— Вы правы, высокоученый доктор. Я понимаю, что это занятие цирюльников. Но я не могу доверить жизнь своей внучки, своего единственного сокровища, рукам фельдшера. Да и она говорит, что это для нее равносильно смерти… Вот я и пришел к вам, высоко ученейший доктор, вы моя последняя надежда.
— Дайте своей внучке какое-нибудь успокаивающее средство, которое уменьшит боль, а завтра вечером доктор Лев сможет ею заняться…
— О нет, не отказывайтесь, высокоученый доктор! — воскликнул раввин. — Она не доживет до завтрашнего вечера. Если бы вы знали, как она слаба, какой это хрупкий цветок, вы бы сжалились над ней. Если бы вы видели, как она терпеливо переносит боль, вы бы ни минуты не раздумывали. Камень бы сжалился над ее страданиями! Ради бога, прошу вас доктор, пойдите к ней! Я заплачу вам, сколько вы скажете… Я отдам вам все свое имущество, только пойдите, только спасите мою Мириам, единственную радость моей жизни!
Голос его прервался. Есениус был тронут. Боль несчастного старика была такой искренней, что у него не хватило силы ему отказать.
И он обнадежил раввина:
— Успокойтесь, все будет хорошо.
— Значит, идете? — радостно воскликнул раввин. — Спасибо вам, тысячу раз спасибо, высокоученый доктор! Я знал, что не ошибусь в вас.
— Я не могу идти сейчас с вами, высокочтимый раввин, — возразил Есениус. — Я должен приготовить инструменты. Отправляйтесь домой, не позже чем через час я буду у вас. Где вы живете, я знаю.
— Весь этот час я буду молиться господу нашему, чтобы он внушил вам мысль прийти на помощь к моей внучке. Пусть Иегова услышит мои мольбы.
Когда раввин ушел, Есениус направился к Марии.
— Ты слышала, Мария? — спросил он.
— Слышала, — тихо ответила она. — Что ты будешь делать, Иоганн?
В волнении он несколько раз прошелся по комнате.
— Не знаю, ничего не знаю, — повторил он. — Другой врач на моем месте сказал бы себе: «Ведь это только еврейка!»
— Надеюсь, что ты так не думаешь, Иоганн? Прежде всего это человек.
— Да, человек. Речь идет о спасении жизни. И все-таки— Ты понимаешь, Мария, что это значит? Чем это нам грозит?
Мария посмотрела на него нежным, ласковым взглядом и. тихонько сказала:
— Я думаю о том, чем это ей грозит, Иоганн.
Есениус остановился и опустил голову.
— Ведь речь идет не только обо мне, Мария, но и о тебе. Ты знаешь, что врачи-христиане не имеют права лечить евреев. Но мое положение еще хуже — ведь я личный врач императора. Если император узнает, что руками, которыми я касаюсь его священного тела, я перед тем касался тела еврейки, он посчитает это оскорблением и не только лишит меня места, но и, вероятнее всего, заключит меня в тюрьму.
Упоминание о тюрьме глубоко взволновало Марию. О таком исходе она и не помышляла. Теперь она поняла, что муж не преувеличивает.
— Врач, который лечит еврея, опозорен.
— Знакомство с палачом тоже позор, но ты провел с ним целую ночь, — прошептала Мария в ответ.
Есениус с беспокойством посмотрел на жену.
— Если император и узнает, еврейские талеры все исправят. Хороший подарок Рудольфу, и он смирится… Если, например, евреи поднесут ему какую-нибудь дорогую картину или скульптуру, — в задумчивости проговорил Есениус.
Мария подняла голову. Значит, Иоганн готов идти. Просто он хочет получить ее согласие на тот случай, если произойдут неприятности, которые повлияют на его положение. Чтобы она его потом не упрекала.
Мария сжала руку мужа:
— Зачем рассчитывать только на плохое, Иоганн. А если у тебя и будут неприятности, каждый порядочный человек тебя оправдает, и я никогда не упрекну тебя, Иоганн, наоборот, буду тобою восхищаться. Спасти человеческую жизнь — самая первая обязанность врача. А если это еще связано с опасностью, заслуга врача увеличивается вдвое. Иди, Иоганн!
— Хорошо, пойду! — решительно произнес Есениус. Примерно через час, незадолго до закрытия ворот еврейского гетто, Есениус был перед домом раввина «У каменного льва» на Широкой улице.
По дороге он не встретил ни одной живой души. Евреи праздновали пасху, в каждом доме шла торжественная трапеза, на которой присутствовали все члены семьи.
Молоток у дверей имел форму львиной головы. Есениус трижды постучал. За дверями послышались торопливые шаги, и в замочной скважине зазвенел ключ. Заскрипели петли, и показался мальчик со светильником в руках.
— Вы доктор? — радостно спросил он и повел Есениуса темным коридором со сводчатым потолком в комнату, где его уже ждал раввин Лев.
— От всего сердца приветствую вас! Пусть Иегова сопровождает каждый ваш шаг и увенчает успехом все ваши начинания и в этом скромном доме.
Есениус только теперь внимательно рассмотрел раввина. Это был как будто не тот человек, который тому около двух часов умолял его о помощи. Перед Есениусом стоял не сломленный горем, причитающий старик. Здесь, в своем доме, Лев был исполнен достоинства, даже торжественности.
Он совсем не похож ни на чародея, ни на мага, скорее, напоминает ветхозаветного пророка. Его высокая, стройная фигура подобна тополю. Длиннополый кафтан, доходящий ему до щиколоток, казалось, еще больше увеличивает его рост. В лице преобладают две краски: желтая и белая. Желтый цвет имеет морщинистая, высохшая, будто лишенная крови кожа. Белый — седая борода, спускающаяся ниже пояса, усы в густые брови, словно вытканные из паутины.
Но глаза! Есениус не может оторвать от них взгляда, хотя знает и чувствует, что сейчас не время заниматься изучением физиономии хозяина. И все же то и дело он заглядывает в удивительные глаза старца. Какой благородный взгляд, величественный, властный! Сколько в нем огня, сколько жизни! Раввин уже очень стар, но в глазах у него сверкает неугасимый огонь юности.
Теперь Есениус не удивляется, что суеверные люди приписывают раввину сверхъестественную силу, предполагают, что он создал Голема.
Есениус подходит к постели больной.
Широкая постель с пологом придвинута к стене изголовьем, так что к больной можно легко подойти.
У постели жена раввина, Перль, а рядом с ней — зять, Исаак Коган. Внук раввина, открывавший Есениусу дверь, куда-то исчез. Однако он вскоре появляется вместе с некрасивой женщиной, которую называет «мама». Это дочь раввина Фёгель, мать больной. Имя, означающее «птичка», родители дали ей при рождении, надеясь, что из нее вырастет красавица. И это имя стало для дочери раввина источником еще больших мук, чем зеркало, в которое она смотрелась. Она окончательно смирилась со своей судьбой после замужества. Господь богато одарил Мириам тем, что так скупо отпустил матери. Раввин берег внучку как зеницу ока, она стала для него солнечным светом, озаряющим его старость. Родители в ней души не чаяли, а для сынов Израиля она была источником страданий, ибо они видели ее красоту или слышали о ней и приходили издалека, чтобы завоевать ее сердце. Волосы у нее были чернее эбенового дерева, в глазах светился отблеск небес, а губы напоминали дольки очищенного апельсина.
И теперь этот цветок на семнадцатой весне своей жизни увядал на глазах, а они ничего не могли сделать.
Поможет ли ей доктор, о котором они столько слышали?
От постели неслись приглушенные стоны. Глаза больной были закрыты; казалось, она не слышит, что делается вокруг.
— Чтобы умерить боль, мы дали ей маковый отвар, — сказал раввин Лев, озабоченно переводя взгляд с Есениуса на свою внучку.
Есениус огляделся. Комната была маленькой, большую часть ее занимала кровать. Рядом с нею стоял небольшой столик, на котором были расставлены кружки с отварами и пузырьки с лекарствами.
Внимательно осмотрев больную, Есениус установил, что у нее камень в правой почке. Пока Есениус осматривал больную, у той начался новый приступ. Бедняжка корчилась от боли и так стонала, что невозможно было слушать.
— О боже, боже, зачем ты заставляешь меня страдать? Помогите мне, умоляю вас, помогите или дайте что-нибудь, чтобы я умерла!.. Только избавьте меня от этих мучений!
Обессиленная болью Мириам уткнула лицо в подушку и тихо стонала.
Есениус видел, что операцию откладывать нельзя.
— Мне нужен большой и крепкий стол, — тихо сказал он.
Раввин задумался.
— В соседней комнате есть подходящий стол, но он уже накрыт к праздничному ужину… Да и в моем кабинете стоит большой стол, только… — Раввин смутился и нерешительно посмотрел на своего зятя. — Кто принесет стол?
Это был серьезный вопрос. Ведь был канун праздника, первая звезда уже давно зажглась на небе, а в праздник нельзя работать. Именно поэтому отказался прийти доктор Левенштейн.
Есениус понимал колебание раввина, но одному ему с операцией не справиться. Ему должен помочь кто-нибудь из членов семьи раввина.
Раввин, его зять и внук стали потихоньку советоваться. Говорили по-древнееврейски, вероятно чтобы их не понял Есениус, а скорее всего потому, что о таком деле можно было говорить только на священном языке праотцов.
— Зять мой и внук мой, вы оба хорошо знаете, что я всегда самым решительным образом наставлял вас строго выполнять все требования талмуда. Я требовал от вас, чтобы вы были неумолимы к себе и другим в делах веры. Ныне я прихожу к вам с просьбой забыть мои наставления и нарушить священные правила. Я не уверен в том, что имею право так поступать. Сердце отца, ослабевшее от горя, противостоит разуму, который требует строгого соблюдения обычаев. Поэтому я хочу услышать ваше мнение.
Молодые люди с волнением слушали речь главы семейства. Мог ли он ждать от них иного решения, чем то, которое он уже сам принял? Ведь один из них был отцом, а другой братом больной. И, конечно, раввин не ждал ничего другого, кроме согласия.
— Мы нарушили закон уже тем, что пригласили к Мириам гоя, — почти шепотом сказал Коган.
Раввин утвердительно кивнул головой.
— Пусть всевышний уменьшит его страдания на том свете за то, что он пришел к Мириам, — пробормотал раввин.
Наконец раввин Лев сообщил Есениусу, что зять и внук сейчас принесут стол из его кабинета.
Стол с трудом удалось поставить между постелью и камином.
Есениус мог приступать к операции. Он открыл плоский деревянный ящичек с инструментами и вынул оттуда два ножа, ножницы, крючки и иглы. Положил затем в камин на угли две металлические пластинки для прижигания.
Он дал больной лекарство, чтобы заглушить боль, а женщинам сказал:
— Дайте ей чего-нибудь спиртного, чтобы она опьянела.
Женщины пошли в кухню выполнять приказания доктора. Есениус на несколько минут остался наедине с раввином.
— Я должен вас предупредить, рабби, — операция будет нелегкой. Мириам придется много вытерпеть и… при такой операции надо быть ко всему готовым… возможно, что мы не достигнем желаемого результата. Я ни за что не могу поручиться. И не упрекайте меня в случае неудачи.
— Боже сохрани, доктор, боже сохрани! Я убежден, что вы сделаете все возможное, чтобы ее спасти. А если вам это не удастся, то не удастся и никому другому. Пусть будет какой угодно результат, я буду вам благодарен до самой смерти, что вы согласились сделать эту операцию.
Когда все члены семьи собрались, Есениус объяснил каждому, что ему надо делать.
Мириам перенесли с кровати на стол. Есениус проверил, раскалились ли инструменты, и только после этого подошел к столу.
— Именем божьим начнем, — тихо произнес он и уверенной рукой рассек раскаленным ножом белую кожу.
Хотя Мириам была одурманена различными отварами и спиртными настойками, все же она жалобно застонала. Мать гладила ее по голове и утешала ласковыми словами. У раввина тряслась борода и от волнения стучали зубы. Когда Коган подавал доктору раскаленную металлическую пластинку, которой Есениус собирался прижечь кровоточащую рану, он нечаянно прикоснулся ею к руке доктора. Есениус почувствовал жгучую боль и пожалел бедную Мириам, которой причинял невыносимые страдания.
В комнате распространился запах паленого мяса.
Наступил решающий момент операции.
Фёгель смотрит только на лицо своей дочери. Старая Перль отвернулась, ибо ей кажется, что каждое проникновение ножа в тело любимой внучки пронзает ей сердце. Зять и внук подают доктору инструменты.
И только старый раввин наблюдает за ходом операции. Страдания внучки волнуют его беспредельно. По его морщинистому лицу текут крупные слезы и исчезают в густой седой бороде. Вполголоса, нараспев он читает молитву.
Сколько длится операция? Час? Два? Есениус того не знает, не знают и остальные. Время перестало для них существовать. Все думают лишь об одном: удастся? Не удастся? Всем хочется услышать из уст врача обнадеживающее слово. И они нетерпеливо смотрят на него. Но губы хирурга крепко сжаты. По лицу Есениуса видно, что он целиком поглощен своей работой. Тогда они пытаются прочесть ответ в его глазах. Когда им удается перехватить его взгляд, надежда их растет: взгляд Есениуса спокоен.
Вот он зашивает разрез. Потом смазывает рану заживляющим маслом и перевязывает ее чистым белым полотном.
На лбу у него поблескивают капельки пота. Трудная работа окончена.
Мириам переносят на кровать, мать укрывает ее одеялом.
На бледном лице девушки следы страшного изнеможения, но искаженные страданием черты постепенно проясняются. Мысль о том, что самое страшное уже позади, помогает ей прийти в себя.
На дворе уже глубокая ночь. И Есениус чувствует себя очень усталым. Он старательно умывается теплой водой, потом переодевается и в завершение чистит инструменты. Одновременно он думает, что делать дальше. Если идти домой, то надо будить рихтара[31] и добиваться от него разрешения открыть ворота Еврейского города. Придется объяснять, почему он задержался так поздно в гетто, и тогда завтра об этом будут знать все.
— Вы хотите идти домой сейчас? — спросил раввин. И, не дожидаясь ответа Есениуса, предложил: — Вам лучше переночевать у нас.
Хозяева проводили его в небольшую комнатку, рядом со спальней Мириам. Доктор будет поблизости на случай, если ночью больной потребуется помощь.
Проснувшись через несколько часов, Есениус решил зайти к больной и узнать, как она себя чувствует. Он нащупал на столике кресало и трут и стал высекать огонь, чтобы зажечь свечу.
Звук кресала услыхали в соседней комнате. Там раздался шум отодвигаемого кресла и приближающиеся шаги.
Дверь потихоньку приоткрылась, и раввин вполголоса спросил:
— Вам что-нибудь угодно, доктор?
— Благодарю вас, нет. Я только хотел проведать больную.
— Весьма нас этим обяжете, — поклонился раввин. — Вероятно, рана причиняет ей большие страдания.
Есениус оделся и в сопровождении хозяина пошел к Мириам.
— Рана еще долго будет болеть. Но Мириам мужественная девушка. Не так ли?
Мириам попыталась улыбнуться. Но улыбка получилась такой жалкой, что сердце Есениуса сжалось от сострадания.
Однако состояние больной не вызывало опасений. Он еще раз положил на рану повязку, с новой мазью, и сказал девушке несколько утешительных слов.
— Хотите снова лечь? — спросил раввин Есениуса. — А не лучше ли нам выпить по бокалу вина?
— А вы разве не собираетесь спать? Я бы не хотел лишать вас отдыха, — ответил Есениус, который уже выспался и чувствовал себя бодрым. Бокал вина был бы сейчас как раз кстати.
— Мы привыкли в пасхальную ночь не спать. Беседуем до самого утра.
Раввин распорядился, чтобы в комнату, где спал Есениус, принесли кувшин вина и два бокала. Когда это было выполнено, он прикрыл дверь, показывая этим, что не хочет вести разговор в присутствии своих домашних, и сел за столик напротив Есениуса.
— Иегова не дал нам провести пасху беззаботно и весело, так, как положено проводить этот праздник. Это наказание за то, что мы служим ему не так, как следовало бы.
— Если речь идет о вас, высокочтимый рабби, то я думаю, что это обвинение к вам не относится. Слух о вашей богобоязненной жизни и религиозном усердии исключает всякую мысль о том, что вы могли уклониться от своих обязанностей.
— Сегодняшний вечер еще долго будет служить темой моих размышлений, — задумчиво произнес раввин.
— Вы упрекаете себя, что пригласили иноверца? — спросил Есениус, зная, как трудно было раввину решиться на это.
— Нет, нет, — быстро ответил раввин, — я вам так обязан, так бесконечно благодарен за то, что вы пришли, но… Не знаю, поймете ли вы меня… Пожалуй, лучше всего об этом не говорить…
— Вы можете смело говорить со мной, рабби. Я постараюсь понять вас. Не бойтесь меня обидеть.
Раввин еще с минуту колебался, но наконец заговорил.
Он словно пытался оправдаться в собственных глазах.
— Я весьма согрешил перед своим господом, что не удовлетворился его решением и пошел по недозволенному пути, стараясь изменить это решение.
Он облокотился на стол и закрыл лицо руками.
Есениус не нарушал его раздумий. Он терпеливо ждал.
— Я подпал под влияние слабости и делал то, что мне нашептывали опасения деда, беспокоящегося за жизнь внучки, а не то, что диктовали мне обязанности раввина.
— Значит, вы сожалеете, что позвали меня? — спросил Есениус.
— Нет. Еще раз повторяю вам, что нет, — сказал раввин и посмотрел на Есениуса влажными глазами. Потом горячо продолжал: — Не жалею даже сейчас. Но это и есть самое страшное. Я знаю, как должен был поступить, когда Левенштейн отказался прийти. Если бы речь шла о другом человеке, а не о Мириам, я бы без колебаний сказал: «На все воля божия. Не смейте идти против нее. Если господь решил, что она будет жить, — значит, выдержит все, что угодно. А если решил призвать ее к себе — все будет напрасно». Но я позвал вас. Я распорядился, чтобы вся моя семья осквернила праздник физическим трудом. Все это я совершил и при этом не чувствую сожаления, что поступил именно так. Вы меня понимаете?
Если бы отчаяние раввина не было искренним, Есениус только посмеялся бы над таким самобичеванием.
Но теперь он попытался рассеять сомнения раввина:
— Послушайте, рабби, и меня тоже могли бы мучить сомнения. Ведь я согласился лечить еврейку, хотя наши законы это запрещают. Но я подумал, что в этом случае главный судья — моя совесть, и вот я пришел. Я не рассуждал о том, что от воли божьей зависит, будет жить Мириам или умрет. Обязанность врача — бороться за жизнь. И родители, конечно, тоже обязаны бороться за жизнь своих детей. Никто не обвинит вас в том, что вы старались сохранить жизнь внучке.
Раввин внимательно выслушал Есениуса до конца. Потом выпрямился и убежденно заговорил:
— Но есть закон. Первый и самый важный закон тот, о котором поведал Иегова Моисею на горе для народа Израиля. А в этом законе упоминается только об уважении детей к родителям. Об обязанности родителей по отношению к детям там нет ни слова. И, если кто-нибудь из любви к своим детям или к детям своих детей нарушит закон, оправдания для этого нет: наказание господа его не минует.
— Вы упомянули закон, досточтимый рабби. Но ведь существуют и другие законы. Законы, действующие во всей Вселенной. И эти законы вы хотели нарушить. Разве по этому поводу вы не испытываете угрызений совести?
Раввин не понял смысла его слов и воскликнул высоким, переходящим в дискант голосом:
— Я? Я хотел нарушить всемирный закон? Прошу вас сказать: как и когда?
Есениус спокойно посмотрел ему в глаза:
— Да, вы пытались нарушить закон Вселенной. Вы хотели помериться с ней силою. Вы создали глиняного Голема и пытались с помощью своего кабалистического искусства вдохнуть в него жизнь. Я не верю, что вам это удалось.
Раввин порывисто вскинул голову и широко открытыми глазами посмотрел на доктора. В его взгляде застыл ужас. Есениус задел больную струну в его душе.
Замешательство раввина длилось не больше минуты. Вскоре он пришел в себя и с достоинством спросил:
— Вы уже и об этом слыхали? — В голосе его прозвучало с трудом скрываемое самодовольство, а по лицу скользнула едва заметная улыбка. Замечание Есениуса насчет Голема льстило ему. — Вы первый человек, который не верит в Голема. Все остальные убеждены, что мне удалось его создать; все уверены, что он до сих пор находится в моем доме. Признаюсь, я действительно пытался сделать Голема. Я вылепил его из глины, но оживить его мне так и не удалось. Как вы об этом узнали?
Разговор наконец перешел на интересную для Есениуса тему — на Голема. Чего только он не слыхал со времени своего приезда в Прагу об этом искусственно созданном существе, которое оживает, когда ему в рот вкладывают таинственный знак шем! И живет он с воскресенья до вечера пятницы. В канун субботы раввин вынимает шем, и гигантский Голем снова превращается в мертвую глину.
— Как вы узнали, что мне не удалось оживить Голема? — повторяет свой вопрос раввин и пытливо смотрит на гостя.
— Да ведь это противоречит законам природы, о которых я только что говорил. Сколько алхимиков ломает себе голову над тем, как приготовить эликсир жизни, который мог бы сохранить людям вечную молодость! И все напрасно. А почему? Да потому, го все живое неминуемо идет навстречу своей гибели. Что родилось, должно погибнуть. Пока наступит смерть, организм пройдет через постепенное увядание, которое мы называем старением. Изменить этот закон не в человеческих силах. Поэтому никто не может сделать человека вечно молодым или бессмертным. Поэтому нельзя превратить мертвую глину в живой человеческий организм. Законы природы этого не допускают.
Утро уже прокрадывалось в комнату через занавешенные окна, когда собеседники закончили свою словесную баталию. И хотя они коснулись многих вопросов, но не решили ни одного.
— Предоставим же изнуренному телу и утомленному духу отдых. Не так ли? — спросил наконец раввин.
Но Есениус отверг это предложение.
— Уже день. Ворота, наверное, открыты. Пойду домой, чтобы успокоить жену. А пока еще раз проведаю больную.
— А я хотел поговорить с вами о вознаграждении…
Есениус остановил раввина:
— Об этом не может быть и речи. Но, если вы хотите что-нибудь для меня сделать…
— Все, что в моих силах! — воскликнул раввин.
— Я был бы весьма вам признателен, если бы вы показали мне образцы своего тайного искусства. Что-нибудь из того, что вы уже показывали его императорскому величеству и покойному Тихо Браге. Я был бы также очень рад, если бы при этом мог присутствовать мой друг Кеплер.
Раввин не смог скрыть неприятное удивление. Очевидно, он не рассчитывал на такую просьбу. Но смущение его продолжалось недолго.
— Весьма рад, высокоученый доктор, весьма рад, — не спеша заговорил он. — Только предупредите меня заранее о своем приходе. Я охотно дам вам представление, которое видели его императорское величество и Тихо Браге. Но не ждите никаких чудес. Ничего такого, что противоречило бы законам природы.
Намек раввина не ускользнул от Есениуса. Он принял его как вызов к новому поединку.
КОЛДОВСТВО РАВВИНА ЛЬВА
Опасения и заботы мучили пани Марию, когда она задумывалась о карьере мужа при императорском дворе. Она не раз предупреждала его не слишком полагаться на благосклонность императора. Но Есениуса сердили ее страхи. Есениус был немного суеверен и побаивался, что Мария в конце концов назовет на него императорскую немилость.
У Кеплера таких забот не было.
Благосклонность императора его не ослепляла. Он не покупал ее комплиментами, не гонялся за нею. «Я выполняю свою работу добросовестно», — думал он в те минуты, когда император дарил его своей милостью. В первые дни пребывания в Праге, когда ему на каждом шагу приходилось натыкаться на всякие препятствия и осложнения, он решил покинуть этот город, но после смерти Браге все изменилось, его положение улучшилось. Барборе Прага пришлась по душе, и у Кеплера появились такие условия для работы, каких он никогда не имел.
Теперь Кеплер не собирался менять свое место, да и не был готов к этому.
И тут грянул гром среди ясного неба.
Из чужих краев вернулся Тенгнагель и стал претендовать на наследство Тихо Браге, к коему относились записи с результатами двадцатилетних наблюдений Марса, а также все приборы покойного, установленные в Бельведере.
Записями и приборами пользовался Кеплер.
Началась долгая тяжба, которая мешала Кеплеру работать и отравляла ему жизнь. Кеплер ссылался на то, что, как преемник Тихо Браге, императорский астроном должен пользоваться его записями и приборами, поскольку эти приборы хранятся в императорской обсерватории. Доводы Тенгнагеля были более вескими. Приборы действительно находятся в императорской обсерватории, но это еще не означает, что они являются собственностью императора. Ведь император не покупал их для Тихо Браге. Покойный астроном привез приборы с собой с острова Вен. И, если император желает их приобрести в свою собственность, пусть их покупает. Пока дело не будет решено, Кеплер не имеет права пользоваться ими. Даже старший помощник покойного, Лонгмонтан, мнением которого поинтересовались, высказался в том же духе.
Вся эта история порядком злила Кеплера, но он не мог упрекать Тенгнагеля за то, что тот хлопочет о своей собственности.
Дело запуталось, и император, вместо того чтобы сразу положить ему конец, принял соломоново решение: велел спорное имущество запереть, а Кеплеру запретил входить в обсерваторию.
— Будь доволен, Иоганн, теперь, по крайней мере, ты можешь спокойно сидеть сложа руки, — успокаивала его Барбора. — Тебе не дают работать. В конце концов император будет вынужден вмешаться в эту историю. Так нечего тебе и волноваться.
Но Кеплер волновался. И еще как!
— Ну как ты можешь так говорить, Барбора! Ведь я хожу как безрукий, как слепой. Представь себе, что у тебя заберут все горшки, сковородки, кастрюли и заставят варить обед. Что бы ты стала делать?
— Я бы сказала, что без горшков варить нельзя, и дело с концом. И ты должен заявить императору, что без приборов работать не можешь, другими словами, не можешь выполнять свои обязанности.
— А дальше? Что будет дальше? Скажи, что будет дальше? — нетерпеливо восклицал Кеплер, повышая голос. — Сидеть сложа руки, бессмысленно глядеть на луну и, смотря по тому, затянуто небо облаками или нет, предсказывать, какая погода будет завтра? Так, что ли? Неужели ты не понимаешь, Барбора, что приборы нужны не столько императору, сколько мне? Вот почему меня так огорчает вся эта история.
Кеплер не преувеличивал. Собственных астрономических инструментов у него не было. Перед приездом в Прагу он запрашивал Тихо Браге, брать ли ему с собой инструменты или нет. И при этом составил скромный список того, чем располагал. Просматривая этот список, Браге от души смеялся. Да разве это сравнишь с превосходным ураниенбергским оборудованием! Нет, не стоит возиться с такой мелочью. И Браге посоветовал Кеплеру продать свои инструменты, ибо в Праге их достаточно.
Вот и оказалось, что Кеплер вдруг очутился в положении погорельца, с пустыми руками, а бездеятельность для него была величайшим наказанием.
Что теперь делать?
Пришли Есениусы и попытались его развлечь. Но тщетно
— Я постараюсь найти себе занятие где-нибудь в другом месте, — решительно заявил Кеплер.
Есениус с ним не согласился.
— Не торопитесь. Император человек настроения. Возможно, он снова одарит вас своей милостью.
— Мне нужны приборы, а не милость! — горячо воскликнул Кеплер.
— Я не согласна с вами, доктор, — вмешалась в разговор Барбора, укоризненно глядя на своего мужа. — Как можно тут ждать? В самом деле, лучше всего покинуть Прагу. Иоганн легко найдет себе службу в другом месте.
Видя, что никто ему не противоречит, Кеплер успокоился. Уйти с императорской службы казалось ему в нынешнем положении наилучшим выходом.
Есениус молчал. Он знал быстрые смены настроения у императора и был убежден, что история с приборами Браге скоро уладится. И, наконец, Кеплер не может покинуть Прагу без согласия Рудольфа.
Так рассуждал про себя Есениус, поглядывая на Марию.
— А ты что об этом думаешь, Мария? — спросил он.
— Я считаю, что Кеплер должен остаться в Праге, но не ждать императорской милости, а бороться.
Слово «бороться» вывело всех троих из задумчивости. Больше всего оно поразило Кеплера. Такое слово — и из уст женщины!
Но Есениус не понял, что имеет в виду его жена. Бороться с императором? Да ведь это безумие.
Пани Барбора крепко прижала к себе Зузанку, будто ей грозила какая-нибудь опасность.
— Бороться? — воскликнул Кеплер. — Как вы это себе представляете, пани Мария?
В глазах Марии зажглись огоньки.
— А вот как: не смейте считать себя побежденным и не сидите сложа руки. Не сдавайтесь! Воюйте! Покажите им, что обойдетесь и без них. Без их приборов. Закажите новые приборы.
Лицо Марии порозовело от волнения. Смутившись оттого, что вмешалась в разговор, она виновато опустила глаза и еще больше покраснела. И стала похожа на девушку, которая впервые ринулась в схватку с миром, отстаивая свои представления о добре и красоте. В эту минуту она была прекрасна.
Кеплер смотрел на нее с восхищением.
— Новые приборы? — повторил он. — А вы представляете, сколько они стоят? Ведь Браге приобретал их постепенно. Собирал более двадцати лет…
— Я и не предлагаю, чтобы вы приобрели их сразу. Но хотя бы самые нужные, — возразила Мария.
— Пусть даже так… Где взять столько денег? Придется, видно, снова заняться предсказаниями и гороскопами. Я еще не забыл, как это делается. — Он улыбнулся и с пафосом заговорил. — «Если в час рождения Луна и Марс соединены добрым лучом, телесные и душевные свойства ребенка будут развиваться в прекрасной гармонии. Марс как раз находится в созвездии весов, из чего следует, что ребенок будет понятлив, ему свойственны будут добрые суждения и блестящее красноречие. Его любимыми предметами будут философия, математика и астрономия. Сатурн старается повредить ребенку, но если Марс находится в противостоянии к Сатурну, то все попытки Сатурна называются безуспешными…» Вот так. А теперь прошу у вас столь блестящий гороскоп десять золотых.
И Кеплер шутливо обратился к жене:
— Так что же, Барбора, вернемся к гороскопам?
Пани Барбора искоса взглянула на Марию и ответила:
— Надеюсь, что обойдемся без гороскопов, Иоганн. У тебя Праге много друзей. Они наверняка тебе помогут, если ты к ним обратишься. Барон Гофман, Эриксен…
— Барон Гофман уже столько раз нам помогал, что я не хочу беспокоить его новой просьбой.
Мария многозначительно посмотрела на мужа.
Наконец Есениус понял.
— А разве нас вы не считаете своими друзьями? — спросил он Кеплера. — У меня есть кое-какие сбережения. Не все ли равно, где им находиться: дома в сундуке или у вас?
— Нет, не все равно, — ответила вместо мужа Барбора: — если деньги у человека в сундуке, он всегда может взять оттуда сколько ему нужно, а если он дал их взаймы, то еще немало походит, пока получит обратно.
— Нет, нет, прошу вас, не смотрите так на наше предложение, — постаралась рассеять сомнения Барборы Мария. — Наша помощь не отразится на нашем хозяйстве. Вы можете ее принять без всяких опасений. А мы были бы очень рады. Не правда ли, Иоганн?
Предложение Есениусов воодушевило Кеплера. Он воспрянул духом и снова принялся строить планы на будущее.
— Императорский механик Биргиус изготовит мне приборы. И я вовсе не должен за все сразу ему заплатить. Он наверняка подождет. Да и Эриксен как-то предлагал одолжить мне на время кое-что из своих приборов… Таким образом, я уже сейчас могу быть обеспечен самым необходимым и приступить к работе. — Лицо его раскраснелось. — Теперь я смогу вновь наблюдать путь Марса, этой волнующей всех планеты. Он должен привести меня к разгадке тайны, которую напрасно старался разгадать Коперник. Я чувствую, что разгадка близка… Но придется еще повоевать. Да, воевать, бороться, собирать силы для последнего удара, которым я заставлю небо выдать свои самые сокровенные тайны.
И он запнулся.
Есениус помог ему вопросом:
— Не ошибка ли это, что только Марс заслуживает внимательного наблюдения, а на остальных планетах нет ничего любопытного?
— И другие планеты интересны, и еще как! — воскликнул Кеплер и подошел к столу, на котором были разложены книги и бумаги.
На груде бумаг сверху лежало письмо. Кеплер взял его и показал Есениусу:
— Мне пишет Галилей. И такие замечательные вещи, что не сразу им поверишь. Вы помните криптограмму[32], которую он мне прислал несколько месяцев назад?
Есениус припомнил, что действительно тому около полугода Кеплер показывал ему письмо Галилея, в котором содержались загадочные, непонятные строки. Собственно говоря, это было одно длинное, во всю строку, слово, не имевшее смысла. Вот как оно выглядело: «Smaismirnilmepoetalevmibunenuqtlaviras». Так в те времена извещали ученые о своих открытиях. Фразу, сообщавшую об открытии, зашифровывали и рассылали друзьям. А те потом ломали голову над ее расшифровкой. Попытался это сделать и Кеплер. После изнурительной и долгой работы ему удалось из написанных букв составить следующую фразу. «Salve umbistineum geminatum Martia proles». Занятый наблюдением Марса Кеплер невольно предполагал, что и открытие Галилея касается этой планеты. Правда, у него получалось на одну букву больше. «Ну и пусть. Вероятно, Галилей ошибся! Со временем узнаем», утешал себя Кеплер и ждал.
— Это было что-то в связи с Марсом, не так ли? Вы мне тогда показывали.
— Что вы! — воскликнул Кеплер. — Я сам думал, что криптограмма касается Марса. Но теперь Галилей сообщил мне нечто совсем иное. Знаете, каков смысл той криптограммы? «Altissimum planetam tergeminum observavi»[33].
Есениус не понимая смотрел на Кеплера:
— Самая далекая планета Сатурн. Но что означает тройная планета?
— В письме Галилей мне все подробно объясняет. Раньше он думал, что Сатурн обычная звезда. А сейчас с помощью каких-то приборов, которые приближают звезды к нашему глазу, он убедился, что вокруг Сатурна имеется кольцо. Мне трудно себе это представить, но Галилей пишет, что это потрясающее явление.
Ох, если бы я мог его увидеть! Но простым глазом я ничего не вижу- Имей я приборы Галилея, мне наверняка удалось бы найти что-нибудь подтверждающее систему Коперника. Я уже набрел на след, но не хочу об этом говорить, пока не получу неопровержимых доказательств. А речь, по существу, идет о такой простой вещи, что это кажется почти невероятным. Но законы природы прекрасны именно своей великолепной простотой.
— Не поведаете ли вы, о чем идет речь?
— Пока нет. Только тогда, когда буду во всем уверен. Я еще должен вычислить пути некоторых планет и устранить неточности в подсчетах. При наблюдении простым глазом весьма легко допустить ошибку. О, если бы мне удалось раздобыть прибор Галилея для наблюдения звезд!
Есениус смотрел на своего друга испытующим взглядом. Еще в Падуе он не раз видел молодого профессора Галилея, но, так как занимался медициной, на лекции по астрономии не ходил. Со временем это имя стерлось из его памяти, как и многие другие.
— Галилею удалось осуществить то, о чем лишь мечтал Роджер Бэкон. Помните, когда умирал Браге, он приказал сыну читать вслух Бэкона? — Есениус кивнул головой, и Кеплер взволнованно продолжал: — «Остроумным расположением стекол удастся приблизить весьма отдаленные предметы на расстояние руки; также мы сможем читать мелкие буквы с большого расстояния, и с помощью этих стекол мы сможем приближать отдаленные звезды на любое расстояние…» Кажется, так там было сказано? Представьте себе, что Галилею удалось смастерить такой прибор из шлифованных стекол, которые приближают звезды, и их можно рассмотреть куда подробней и лучше, чем простым глазом.
— А вы не могли бы изготовить такой прибор?
— Я вообще не представляю себе, как он выглядит. Пытался я как-то наблюдать звезды через различные стекла, но лучше, чем простым глазом, не получалось. Я написал своим знакомым в Италию, но сомневаюсь, что это будет иметь какой-нибудь успех. — Кеплер глубоко вздохнул.
— Как бы Галилей с этим своим звездоглядом не кончил так же, как и Бруно с его населенными звездными мирами, — неторопливо произнес Есениус.
Кеплер нахмурился. Напоминание о Джордано Бруно охладило его воодушевление.
— Вы так думаете? Вы скептик, Иоганн. Я не утверждаю, что вы неправы… Если бы мне удалось доказать верность теории Коперника, то после этого мне было бы все равно, что станет со мною и моим делом. Такое доказательство не удалось бы скрыть!
— А вы фантазер! — с восхищением воскликнул Есениус. — Какой молодец этот Кеплер! Никого не страшась, он смело идет к своей цели.
— Хотел бы я посмотреть собственными глазами на те четыре луны Юпитера, которые недавно открыл Галилей и назвал лунами Медичи, — задумчиво произнес Кеплер, глядя в пространство.
Он вскочил, подошел к столу и показал Есениусу книгу, лежавшую под письмом Галилея:
— Взгляните!
Есениус взял тоненькую книжку. Франческо Сицци «Dianalа». Имя автора было ему незнакомо, ничего не говорило и название.
— Книжку мне прислал Галилей, — пояснил Кеплер. — Сицци итальянский аристократ. Он доказывает в этой книге, что у Юпитера вовсе нет четырех лун, о которых поведал миру Галилей.
— О! Это смелое утверждение, — воскликнул Есениус. — А чем он обосновывает ошибку Галилея?
— У него семь аргументов. Вы только послушайте! — Кеплер стал перечислять. — Во-первых, все астрономы мира всегда считали, что планет семь, а не больше. Во-вторых, семерка есть абсолютное число — ведь и неделя, установленная богом, имеет семь дней. В-третьих… — Приводя каждый новый аргумент, Кеплер загибал один палец на руке, как бы желая этим подчеркнуть значительность каждого довода Сицци. — В-третьих, тела имеют четыре физические особенности: холод исходит от Сатурна, засуха — от Марса, тепло — от Юпитера и влажность — от Венеры. Остальные три планеты, согласно гороскопам, регулируют эти явления. В-четвертых, возможность существования других планет противоречит учению астрологии. В-пятых, семи существующим металлам соответствует семь планет и больше их быть не может. В-шестых, Ветхий завет говорит о семи планетах, в соответствии с этим у евреев принят семисвечник. И, наконец, седьмой, последний аргумент: Джованни Пико де Мирандола в своем сочинении «Гептафо» доказал, что священное писание признает только семь планет и, следовательно, утверждения Галилея, открывшего еще четыре небесных тела, находятся в противоречии со священным писанием.
— А что на это говорит Галилей?
— Ничего. Смеется. У него есть аргумент, который опровергает все доказательства Сицци: прибор для наблюдения за звездами. И каждый может убедиться собственными глазами в справедливости его утверждений.
— Вы думаете, что люди больше поверят своим глазам, чем Сицци или Мирандоле?
— Поверят, увидите, поверят! — решительно сказал Кеплер и отбросил книжку Сицци.
Мария и Барбора молча слушали этот спор, ибо не подобало женщинам вмешиваться в споры мужчин. Барбора потихоньку поднялась и пошла взглянуть, спит ли Зузанка. А пока она ходила, Мария с напряженным вниманием прислушивалась к беседе мужчин. При последних словах Кеплера она воскликнула:
— Как прекрасна, как восхитительна ваша вера в победу человеческой мысли! Ах, если бы вам удалось как можно скорее найти доказательства, которые вы ищете!
— Благодарю вас за поддержку, пани Мария, — горячо ответил Кеплер и, обернувшись к Есениусу, добавил. — Какой вы счастливый, Иоганн, что у вас такая жена!
Похвала Кеплера заставила Есениуса вновь испытать угрызения совести. Так ли он относится к Марии, как она того заслуживает? Уже не раз он убеждался, что во многом она разбирается лучше его. Но, к сожалению, он приходил к такому выводу только тогда, когда сталкивался с неудачей.
Когда они вернулись домой, Есениус с некоторой укоризной сказал:
— А почему бы тебе не давать мне такие же советы, как Кеплеру?
— И это говоришь мне ты, Иоганн? Неужели я тебе мало даю советов? Только ты всегда хочешь жить своим умом.
Мириам понемногу выздоравливала. Она уже ходила и, когда Есениус пришел ее проведать, встретила его, как старого знакомого.
Убедившись, что состояние здоровья девушки не вызывает опасений, Есениус сказал раввину, что дальнейшие посещения уже не нужны, и напомнил ему об обещанном:
— Когда бы мы с моим другом Кеплером могли прийти к вам, высокочтимый рабби, чтобы убедиться в ваших талантах?
Они условились о дне визита. Все это время Есениус и Кеплер гадали, чем удивит их раввин Лев.
Вступив в Еврейский город через ворота за Староместским рынком, они словно очутились в совершенно ином мире. Казалось, эту часть Праги от остального города отделяли не только внушительные ворота и стены, а какое-то бескрайнее пространство, преодоление которого требует длительного времени. Там, за воротами, — широкий, вольный мир. В гетто совсем другое ощушение. Кажется, что дома, выстроившиеся вдоль узких улочек вот-вот тебя раздавят. Улицы здесь кривые. Видны только первые два-три дома, а что там впереди, за ними, неизвестно.
В пестрой толпе снуют здесь и христиане и евреи. Богатые горожане идут рядом с виноградарями и влтавскими сплавщиками. А среди них мелькают местные обитатели с желтыми кругами на груди, приветствующие друг друга и разговаривающие между собой на родном языке, дабы не могли понять «неверные».
Чтобы не привлекать к себе внимание, друзья шли не спеша, делая вид, что не преследуют никакой цели. Они прошли через все гетто. В общем, вели себя так, как и сотни других, которые пришли сюда за покупками или просто так поглазеть.
Добравшись до кладбища, прилегающего к стенам гетто, они повернули обратно и, миновав синагогу, в которую не смеет ступить нога иноверца, остановились перед домом «У каменного льва».
Вежливость требовала прежде справиться у раввина о его здоровье. Потом Есениус порадовался быстрому выздоровлению Мириам. И только после того, как они поговорили о делах, которые в равной степени интересовали всех, Есениус обратился к раввину с вопросом, готов ли тот показать им «представление». Раввин ответил, что готов, и ввел их в небольшую комнату, всю задрапированную тяжелым красным бархатом. Окон в комнате не было. На столе в семисвечнике мерцали свечи.
Раввин предложил друзьям сесть. Посреди комнаты стояло два стула. Кроме стола со светильником и этих двух стульев, никакой другой мебели в комнате не было.
— Оцените сами результаты моего скромного искусства, — произнес раввин и стал гасить свечи одну за другой.
Комната погрузилась во мрак, и только кончики фитилей на двух свечах чуть-чуть искрились, постепенно тускнея. Потом и они погасли, наполнив комнату тяжелым, удушливым дымом.
Кеплер, у которого были слабые легкие, раскашлялся.
В темноте они не различали фигуры раввина, и только по его бормотанию определили, что он стоит перед ними и произносит что-то похожее на заклинание.
Есениус почувствовал неприятный озноб. В голове у него пронеслись слышанные им страшные истории о ритуальных убийствах, но он тут же постарался отогнать эти бесполезные мысли.
Впрочем, ему не пришлось долго размышлять, так как вскоре послышался слабый шорох и черная стена, стоявшая перед ними, стала постепенно сереть, как это бывает на рассвете, когда вдруг в темноте проступают переплеты окон.
Есениус решил, что раввин раздвинул тяжелый занавес и серая поверхность, представшая перед ними, — не что иное, как стена.
Вдруг из сосуда, стоявшего неподалеку от них — это была высокая, почти по пояс Есениусу, ваза с широким горлом, — показался столбик белого дыма, светившийся во тьме таинственным серебристым светом. Когда дым окутал почти всю стену, раввин снова повторил какое-то заклинание — или это было повеление, — и из клубов дыма постепенно стала вырисовываться многоцветная картина без четких контуров. Сперва трудно было разглядеть, что на ней изображено, но, когда дым рассеялся, постепенно обозначились и контуры. И гости сразу узнали Градчаны. Будто исчезла стена или распахнулось огромное, выходящее прямо на королевский замок окно. Все было видно так отчетливо, залито солнечным светом, что у зрителей создавалось впечатление, будто они стоят на Каменном мосту и со стороны Мостецкой башни смотрят на противоположный берег Влтавы. Все было как наяву: желтые и белые стены домов, красные крыши, зеленые сады и голубое небо… Удивляло только одно обстоятельство: нигде ни живой души, все было неподвижно, будто вымерло.
Но не успели они налюбоваться этим зрелищем, как из вазы снова стал подниматься пар или дым — они так и не смогли узнать точно, что это было, — дым этот постепенно заволакивал картину, а картина меркла, и наконец образы ее растаяли и исчезли.
Хотя Есениус и Кеплер были подготовлены к такому зрелищу, сейчас, увидев все собственными глазами, они испытали невольный страх.
Их удивление возросло, когда через минуту перед ними появилась другая картина. По странным контурам зданий они предположили, что перед ними какой-то восточный город.
— Иерусалим, — пояснил раввин, когда картина стала отчетливее.
И снова они увидели совсем рядом многие достопримечательности этого удивительного города.
— Как это ему удалось? — прошептал Есениус, наклоняясь к Кеплеру, который с большим интересом наблюдал за происходящим. Он пытался во что бы то ни стало разгадать тайну раввина.
— Думаю, что кое-что я уже понял, — тоже шепотом ответил Кеплер. — Потом я вам расскажу.
Но загадочное представление продолжалось. После того как были показаны города, стали появляться великие люди. Первым из мглы показался Моисей. Он строго посмотрел на сидящих. Рога придавали его взгляду еще большую суровость. После Моисея появился ветхозаветный царь Давид. Есениусу и Кеплеру показалось — и они даже невольно вздрогнули, — что он сделал Движение, как бы собираясь подойти к ним.
Но это продолжалось лишь мгновение. Не успели они хорошенько разглядеть, что происходит, как образ исчез в клубах густого белого дыма, и комната вновь погрузилась во мрак. Раввин в темноте направился в соседнюю комнату, вытащил из очага уголек и зажег от него кудель. Вернувшись с горящей куделью, он засветил все свечи.
Никаких следов от «представления» в комнате не было видно. Пока они сидели в темноте, исчезла даже огромная ваза.
— Не кажется ли вам, что все это выглядело как нарисованная картина? — шепотом спросил своего соседа Кеплер, пока раввин зажигал свечи.
— Действительно, — согласился Есениус. — Но как все это устроено?
— Разрешите принести вам, высокочтимый рабби, свою благодарность, — промолвил Кеплер. — Все было весьма интересно. Нет ничего удивительного, что ваше искусство произвело такое впечатление на его императорское величество и на Тихо Браге.
Раввин улыбнулся:
— Это весьма высокое признание моего скромного искусства.
— Надеюсь, вы не рассердитесь на меня, если я попытаюсь найти объяснение всему, что вы нам показали? Мне кажется, что кое в чем я уже разобрался.
— В самом деле? — скептически спросил раввин, не веря, что можно проникнуть в его тайну, которая для всех казалось непостижимой.
— Я внимательно рассматривал ваши картины, — медленно произнес Кеплер. — У нас, астрономов, способность к наблюдению развита особенно хорошо.
— Но и Тихо Браге был астроном, — возражал раввин Лев. Замечание раввина не смутило Кеплера.
— Это верно, но мы по сравнению с Браге оказались в более выгодном положении. Мы знали, что нас ждет, наш страх уже не был столь велик, и мы не забыли, что надо смотреть в оба.
— А что вам удалось заметить? — спросил Лев, не переставая улыбаться.
— Мы заметили, что доказанное вами вовсе не реальность, а рисованные картины.
Кеплер угадал. Раввин вздрогнул, не скрывая своего удивления. Такого ответа он не ожидал.
— Я восхищен вашей проницательностью! — воскликнул он. — До сих пор никто из моих гостей этого не заметил. Ну, что скрывать! Это действительно были рисованные картины.
Но Кеплер и Есениус не желали успокоиться на том, что разгадали сами.
— Весьма интересно узнать, на чем же нарисованы эти картинки? Ведь на стенке ничего нет, она чистая, — заговорил Есениус. — А между тем мы их видели именно здесь, на стене.
— Волшебный фонарь, — с таинственной улыбкой ответил раввин.
Но и это объяснение ничего не дало обоим ученым.
— Мы никогда не видели волшебного фонаря, — заметил Кеплер. — И мы были бы весьма благодарны вам, если бы вы нам объяснили, о чем идет речь, а еще лучше — если бы вы нам все это показали.
Раввин некоторое время колебался, но потом, видимо, решил исполнить просьбу Кеплера.
— Раз вы разгадали первую часть, почему бы вам не показать вторую? Итак… Гм! Как бы вам это рассказать… Среди единоверцев мои опыты сыскали мне уважение, и, если бы вы узнали мою тайну, это повредило бы моей репутации.
— Вы можете быть спокойны, высокочтимый рабби, эту тайну мы сохраним.
— Я уверен, что могу на вас положиться.
Лев принес из соседней комнаты черный ящичек с длинной трубкой. Поставив ящик на стол, он принялся объяснять:
— Это и есть волшебный фонарь. Обыкновенный ящичек, впереди у него увеличительное стекло — линза. Перед линзой ставится нарисованная на стекле маленькая картинка, а сзади она освещается. Картинку надо поставить вверх ногами. Посмотрите, вот так.
Раввин держал двумя пальцами стеклышко, на котором была нарисована картинка. Посмотрев на свет, они увидели на стекле в уменьшенном размере то, что перед этим видели на стене.
— И эту маленькую картинку вы так увеличили? И это ее вы нам только что показывали? — взволнованно воскликнул Кеплер. — Вы утверждаете, что это сделано с помощью линзы?
— Да, утверждаю, — спокойно ответил раввин, не понимая подлинной Причины волнения Кеплера.
Но волшебный фонарь взволновал и Есениуса. Ведь это сбывшееся пророчество Роджера Бэкона, то, о чем совсем недавно они говорили с Кеплером.
— Какое у вас стекло?
— Стекло, переделанное в линзу.
— Переделанное в линзу, — задумчиво повторил Кеплер. — А нельзя ли с помощью этого стекла наблюдать звезды?
— С помощью этого стекла едва ли. Во всяком случае, я не пытался. Но ведь мы можем попробовать.
Раввин вынул линзу из волшебного фонаря. Ночь была ясная, небо усеяно звездами. Правда, луна уже увеличилась до последней четверти. Раввин открыл окно с той стороны, где светила луна, и направил на нее линзу. Кеплер внимательно наблюдал за ним. Но раввин с разочарованным видом передал линзу Кеплеру.
— Ничего, — промолвил он.
Кеплер взглянул на небо через линзу. В уме уже зародилась великая идея. Он понял, что линза сама по себе еще ничего не стоит. Но весь этот разговор с раввином натолкнул его на великолепную мысль. Линзу необходимо соединить еще с чем-то Эту мысль надо развить, и именно этим путем надо идти.
Домой Кеплер возвращался рассеянный и по дороге едва отвечал на вопросы Есениуса.
Целую неделю он никуда не показывался. Во дворец передал, что плохо себя чувствует. Но, когда Есениус пришел его навестить, он не вышел. Пани Барбора по секрету сообщила Есениусу, что Кеплер чувствует себя плохо от переутомления. Целые дни он проводит в своей мастерской вместе с механиком и шлифовальщиком стекол, которые что-то там мастерят. Уходят эти двое от них почти ночью и ведут себя словно заговорщики. Пусть доктор Есениус не сердится, но она не может его туда впустить. Есениус вернулся домой разочарованный.
Но в воскресенье после полудня явился Кеплер. Он попросил Есениуса, не откладывая, пойти с ним.
— Куда? — недоверчиво спросил Есениус.
— Все вам объясню… только потом. А сейчас надо идти. Говорил он взволнованно, и его глаза, обведенные черными кругами, лихорадочно блестели.
— Захватить инструменты? — спросил Есениус.
— Не надо, — махнул рукой Кеплер. — Все, что нам надо, имеется здесь. — И он похлопал по деревянному продолговатому футляру, который держал под мышкой.
Есениус больше не спрашивал.
Друзья направились к Староместскому рынку. Оттуда к Тынскому храму.
«Ага, — подумал Есениус, — он ведет меня к памятнику Браге». Друзья часто наведывались туда и поэтому ничего особенного в этой прогулке Есениус не видел.
Но что это? Кеплер идет не в главный притвор, а через боковые двери направляется прямо к башне. По узким стертым ступенькам он поднимается наверх. Это трудный путь, но сейчас он еще труднее, так как Кеплер шагает через две ступеньки, торопится, будто на башне пожар. Вскоре у Есениуса начинает пульсировать в висках, но он не хочет отстать от своего друга: его разбирает любопытство — какой сюрприз приготовлен ему на вершине башни.
Вот они уже на переходе, соединяющем две башни.
Перед ними открывается чудесный вид. Внизу — Старое Место с его черепичными крышами, немного поодаль — Новое Место, а прямо напротив, за Влтавой, — величественная панорама Градчан.
Оба тяжело дышат, но у Кеплера нет терпения ждать, пока они отдохнут. Он открывает свой деревянный футляр и вынимает оттуда какой-то цилиндрический предмет… Он похож на короткий широкий кларнет.
— Подождите, я погляжу, хорошо ли видно, — говорит Кеплер и приставляет трубку к правому глазу, а левый зажмуривает. — Посмотрите и вы, — говорит он, и на лице у него какое-то напряженное ожидание. Он передает трубкообразный предмет Есениусу и, прежде чем Есениус успевает задать вопрос, произносит одно-единственное слово, которое все объясняет: — Звездогляд.
Есениус прикладывает трубу к глазам и направляет ее вниз на рынок. Но в ту же минуту опускает ее.
Кеплер смеется по-детски, радостно:
— Ну, как вам нравится мой звездогляд?
— Изумительно! — восторженно восклицает Есениус и снова прикладывает к глазам трубу, или звездогляд, как называет ее Кеплер.
Он внимательно разглядывает картину, которую видит через трубу. Люди, казавшиеся раньше букашками, теперь совсем близко, рукой можно достать, да и все остальное кажется таким близким, что даже не верится. Есениус поднимает трубу, и его восхищение растет: в двух шагах от него Градчаны, он ясно видит людей перед замком, куда направляет звездогляд.
Есениус с восторгом смотрит на Кеплера и взволнованно шепчет:
— Иоганн, вы сами не понимаете, что вы создали!
— Понимаю, — улыбается счастливый Кеплер, — а вечером поймете и вы. Потому что то, что вы видите сейчас, — ничто по сравнению с тем, что увидите вечером. Только бы не было туч!
Домой они возвращались задумчивые, на каждом шагу останавливались и улыбались друг другу, словно два заговорщика, которых связывала общая тайна.
Есениус с трудом дождался вечера. Каждую минуту подходил он к окну и внимательно посматривал на небо, не затягивает ли.
Казалось, что ночь будет ясной.
Как только стемнело, он направился к Кеплеру. А когда взошла луна, Кеплер повел гостя на небольшую деревянную башенку, возвышавшуюся на крыше его дома.
Было полнолуние, на небе ни облачка.
Кеплер подал Есениусу телескоп.
Есениус направил его на Луну.
Чувство удивительного возбуждения, смешанного с радостью, наполняло его душу. С минуту Есениус смотрел молча, как зачарованный. Он и не подозревал, что Кеплер с волнением следит за выражением его лица.
— Боже небесный, да ведь это чудо! — воскликнул наконец Есениус сдавленным от волнения голосом.
То, что Есениус увидел в телескоп, превзошло все его ожидания: он увидел Луну такой, какой ее видели до сих пор на земле лишь немногие.
Вселенная раскрылась перед ним, как книга.
Он лишь на мгновение оторвался от телескопа, чтобы поделиться радостью со своим верным другом, и снова приник к трубе, устремленной к таинственным небесным светилам.
Он заговорил. В голосе его было нечто большее, чем воодушевление, — в нем звучал страх:
— Иоганн, могу ли я верить собственным глазам? Неужели это возможно? Ведь я вижу на Луне горы и долины. Какие-то кратеры…
Есениус отложил телескоп, чтобы по выражению лица Кеплера убедиться, может ли он верить увиденному.
В эту торжественную минуту Кеплер не мог произнести ни слова и лишь улыбался другу. Ведь только он до конца понимал, какое огромное значение имеет телескоп и для него и для всей астрономии.
— Посмотрите на планеты, — посоветовал он Есениусу. — Вон там Сатурн.
В объективе телескопа засверкало кольцо Сатурна.
— Иоганн, — обратился Есениус к Кеплеру, — вы представляете, сколько тайн раскроет теперь Вселенная перед нами?
— Великое множество. И все же по сравнению со всеми ее тайнами это будет незначительной толикой. А сколько раз нам придется изменять свои прежние представления! Например, Луне. Теперь ясно, что на ней огромные горы и кратеры. Раньше мы думали, что ее поверхность гладкая, словно зеркало, а темные пятна объясняли неравномерным составом лунной массы.
Погруженный в себя, Кеплер сначала не заметил, что Есениус его не слушает.
— Простите, Иоганн, — сказал Кеплер, — над чем вы так задумались?
Есениус вздрогнул, задумчиво посмотрел на Кеплера:
— Я думал о том, можно ли смастерить такие стекла, чтобы стали видными самые ничтожные по величине предметы, которые не заметны глазу. С одной стороны, огромные размеры и беспредельные расстояния, а с другой — бесконечно малые величины. Думаю, что это связано одно с другим. Но я не рискую развивать далее свои мысли. Все это так… так замечательно, что я просто боюсь об этом думать.
— Нельзя бояться, Иоганн. Надо смелее идти вперед! — прошептал Кеплер.
Вероятно, и его ошеломили заманчивые перспективы, которые открывались перед ним. И он вновь вернулся к истинной цели своего открытия.
— Это только начало, Иоганн. Первая несовершенная попытка. Я убежден, что при умелом расположении стекол мне удастся создать более мощный телескоп, с помощью которого наш взор проникнет в самые дальние сферы Вселенной. И тогда мне, вероятно, удастся доказать правильность учения Коперника. Я уверен, что мне это удастся!
А потом мечтательно добавил:
— Когда человек представит беспредельность звездных миров и включит в их систему нашу маленькую планету Землю, его высокомерие рассеется, как дым… Только тогда он поймет, каким ничтожным созданием является человек… Но когда мы думаем, какие чудесные вещи создал и еще создаст ум человека, сердце наше наполняется гордостью и уста произносят слова восхищения: как велик и прекрасен человек!
Кеплер произнес эту фразу таким проникновенным тоном, что его волнение передалось Есениусу.
Есениус обнял своего друга и воскликнул:
— Если бы только мы никогда не потеряли веры в величие и красоту человека!
ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ
— Ах, доктор, плохи ваши дела. Что там произошло у вас с раввином Львом? — спросил однажды перед обедом у Есениуса Криштоф Гарант из Полжиц, императорский стольник.
Он прислуживал императору за столом и должен был вовремя догадаться, какое блюдо хочется отведать государю. Пан Гарант был и собеседником императора за обедом. Поэтому он знал много такого, о чем другие придворные узнавали позже или вовсе никогда не узнавали.
Вопрос Гаранта заставил Есениуса насторожиться. Доктор был уверен, что его визит к великому раввину остался тайной.
— О чем вы говорите? — спросил он, делая вид, что не понимает вопроса.
Гарант посмотрел по сторонам — они встретились в коридоре перед императорскими покоями — и подвел Есениуса к оконной нише.
— Вы ничего не должны от меня скрывать, — заговорил он, понижая голос, и Есениус решил, что пан Гарант дружески к нему расположен. — Я бы на вашем месте поступил точно так же. Но император… Ведь вы знаете…
— Откуда он узнал? — тихо спросил Есениус, и сердце у него сжалось.
— Ха-ха-ха! Разве здесь можно что-нибудь скрыть? Императорские шпионы следят за каждым нашим шагом. А еще больше сведений, чем император, получает главный камердинер Ланг. В его руках собираются нити всех интриг при дворе. Вероятно, это он донес императору.
— Вы сколько заплатили Лангу? — удивленно спросил Есениус.
— Да ни за что. Просто так, чтобы снискать его расположение. Чтобы не поминал о вас худо. Все врачи, художники, состоящие при дворе, платят ему или преподносят ценные подарки в знак благодарности. С вас он ничего еще не требовал? Ну, не он лично, а кто-нибудь от его имени…
Есениус признался, что приходил к нему какой-то человек, видно, доверенный Ланга, и намекал, что если доктор поднесет камердинеру какой-нибудь подарок, то заслужит тем его расположение. Есениус притворился, что не понимает, о чем идет речь, тогда тот открыто попросил подарок. Есениус отказал.
— Ах, не мудро вы поступили! Теперь Ланг будет выуживать любую мелочь, чтобы напортить вам. Постарается всеми силами выжить вас из дворца или отравить вам жизнь. Похоже на то, что это первая его попытка. Думаю, император потребует вас к себе. Приготовьтесь к обороне.
Есениус поблагодарил Гаранта за предупреждение. Теперь он, по крайней мере, заранее мог обдумать, как защищаться.
Прошла неделя, другая, но все оставалось по-старому. Может, Рудольф забыл? Но если забыл, то не забыл Ланг. Уж он-то постарается в нужный момент напомнить обо всем императору.
Поэтому Есениус совсем не удивился, когда его пригласили в мастерскую Рудольфа.
На этот раз император не занимался столярным делом и не разбирал часы. Он сидел за грудою бумаг и усердно их штудировал.
— А, наш доктор! — произнес он через некоторое время, показывая, что заметил вошедшего, но тут же снова углубился в чтение бумаг.
Вдруг он отложил письмо, которое держал в руках, поднял голову и, глядя Есениусу в глаза, насмешливо спросил:
— Собственно, мы уж и не знаем, можем ли мы говорить «наш доктор», если в гетто считают его своим.
Есениус слышал биение собственного сердца и чувствовал, что ко лбу и щекам приливает кровь.
Но он продолжал молчать, ожидая прямого вопроса.
— Итак, что вы можете сказать в свое оправдание?
Только теперь заговорил Есениус.
Он не оправдывается. Но рассказывает императору все обстоятельства дела. Как пришел к нему раввин Лев, рассказывает о своих колебаниях, о присяге императору, о возможных последствиях — в общем обо всем, умалчивает только об одном: об участии Марии в этом деле. Он все берет на себя. Если он должен понести наказание, он понесет его один.
Император внимательно слушает своего личного врача, но по выражению его лица нельзя понять, что он думает. Только время от времени Рудольф кивает головой. И это все.
Есениус принимает этот жест за одобрение и продолжает свой рассказ.
Затем следует вторая часть рассказа — описание операции.
Безразличие на лице императора исчезает. Оно сменяется любопытством. И наконец первый вопрос:
— А она красивая, эта молодая еврейка?
Вопрос императора неприятен Есениусу. Он счел его неуважением к успешно выполненной операции. Но ему хочется возбудить интерес к рассказу тем, к чему Рудольф наиболее восприимчив, — красотой. С поэтическим жаром он описывает достоинства внучки раввина, сравнивая ее со всем прекрасным, что приходит ему на ум. Он не испытывает угрызений совести оттого, что в своей речи прибегает к пересказу «Песни песней». В сознании у него звучат сочные слова, благоухающие ароматом заморских цветов и отдающие сладостным привкусом крепких южных вин. Он не повторяет дословно Соломона. Нет, он только прибегает к некоторым его образам и выражениям. И достигает желаемого результата. Все мысли императора уже заняты внучкой раввина.
— Мириам, — шепчет Рудольф так тихо, что Есениус скорее по губам, чем на слух улавливает это имя.
Вдруг император спрашивает:
— Вы думаете, операция ей помогла?
Есениус ответил, что после операции Мириам быстро поправилась и теперь чувствует себя очень хорошо.
— Очень хорошо, — вновь прошептал император.
И Есениус не понял — эхо ли это его последних слов или одобрение.
Возможно, в этот момент император заметил на лице своего личного врача выражение удовлетворения и поэтому вдруг нахмурился.
— Но ваши дела плохи, ибо вы оскорбили наше величество, — заговорил он изменившимся голосом, — мы должны вас наказать.
Есениус поклонился и с покорностью сказал:
— Я верю в справедливость приговора вашего императорского величества.
— Не переоценивайте нашу доброту, — строго сказал император.
С минуту он о чем-то думал, а потом продолжал уже мягче:
— Если бы мы видели хотя бы раскаяние на вашем лице! Но сдается, что это грубое нарушение обязанностей вас вовсе не огорчает… Раскаиваетесь ли вы в своем проступке?
Вновь такой же вопрос, как тогда, при первом разговоре. От ответа, возможно, зависит вся дальнейшая судьба Есениуса. Если бы он покорно опустился на одно колено и с сокрушением раскаялся в своем проступке, возможно, ему бы удалось отвратить от себя монарший гнев. Но в Есениусе заговорило упрямство. Собственно, это было не упрямство. Сознание ему подсказывало: «Ты хорошо поступил. Правильно!» И он не раскаялся, что пришел на помощь внучке раввина. Если бы он ответил сейчас что-нибудь иное, как бы он мог потом смотреть Марии в глаза?
И он сказал правду.
— Нет, ваше императорское величество, я не раскаиваюсь.
Казалось, что ответ Есениуса не поразил императора. Возможно, другой ответ его бы разочаровал.
— Меру наказания мы определим потом, когда взвесим все обстоятельства, связанные с этим случаем…
Рудольф, видимо, хотел еще что-то сказать, и Есениус ждал. Неожиданно император заключил:
— Мы хотим сами убедиться, правда ли все то, что вы нам тут рассказали. Мы спросим об этом раввина Льва и Мириам…
Покидая мастерскую императора, Есениус должен был пройти мимо главного камердинера. Краешком глаза доктор заметил злорадную усмешку на губах Ланга, но вместе с тем и попытку прочитать по лицу Есениуса, чем кончился разговор его с императором. Есениус уходил озабоченным, но не удрученным. Поэтому, заметив пытливый взгляд Ланга, он улыбнулся веселой, беззаботной улыбкой.
Но мысленно Есениус все время возвращался к загадочным словам императора о раввине и его внучке. Что касается раввина, то тут все ясно: император добивается, чтобы ему как следует заплатили. Императорская казна, как обычно, пустовала. Совсем недавно евреям пришлось поглубже залезть в свои кошельки, чтобы отсрочить исполнение императорского указа, по которому все они за связь с главными врагами империи — турками — должны были покинуть Прагу. Золотые талеры не изменили императорского решения, указ остался в силе, но о его исполнении никто не заботился. Все осталось по-старому: евреи не спешили уезжать, а в руках у императора осталось довольно верное средство вымогать деньги у обитателей гетто. И вот теперь случай с Мириам. Возможно, речь вовсе и не пойдет о деньгах. Кто знает? Но, во всяком случае, император потребует от раввина, чтобы тот посвятил его в тайны кабалистики.
Тут уже ничего не попишешь.
Но что замышляет император в отношении Мириам?
Велит он ей явиться с дедом или одной?
Чем продиктован его интерес к прекрасной израильтянке?
Столько вопросов — и ни на один он не может ответить с полной уверенностью. Поступки императора непостижимы. И если бы речь шла только об императоре! Но Есениус знает, какое влияние имеет на Рудольфа его главный камердинер. Он охотно помогает императору во всех сомнительных делах и порядком обогащается за его счет. Он не только берет взятки, но и присваивает себе часть подарков, преподносимых императору, и даже открыто злоупотребляет его доверием. Расходы по собственному столу он покрывает за счет императорской казны.
Что же делать? А может, вообще ничего не делать? Если пойти к раввину, Ланг об этом узнает в тот же день. Определенно узнает и то, о чем они будут говорить. И уж тогда император наверняка не помилует своего врача.
Долго Есениус раздумывал, как ему быть.
В конце концов, посоветовавшись с Марией, он решил зайти к Катарине Страдовой. И там в разговоре, между прочим, упомянул о внучке раввина и о том интересе, какой проявил к ней император.
В глазах Катарины зажглись зловещие огоньки. Она ничего не сказала и только поблагодарила Есениуса за визит.
Когда раввин Лев, по приглашению императора, прибыл во дворец, благородный поклонник прекрасного Рудольф, к своему крайнему удивлению, узнал у него, что Мириам недавно вышла замуж за какого-то ученого талмудиста из Кракова и что сейчас она уже в пути к новому месту своего пребывания.
Если император и намеревался дать возможность раввину откупиться подарком или какими-нибудь новыми демонстрациями его искусства, то после известия о замужестве Мириам благосклонность его сменилась трудно скрываемым гневом. Раввин был рад, что отделался кошельком с талерами.
А Есениус напряженно ждал, когда же на его голову обрушится императорский гнев.
Но другие, более значительные события отвлекли внимание императора от раввина и его семьи.
Летом 1606 года Прагу посетила страшная гостья — чума. Черная смерть незаметно появилась в стенах города. Неизвестный человек шел по улице и вдруг зашатался. Прохожие решили, что он выпил больше чем следует, и не обратили на него внимания.
Но человек этот вовсе не был пьяным. Утром он вышел из дому совершенно здоровый, и вдруг ни с того ни с сего у него закружилась голова и сжалось сердце. Он еле добрался домой. Там прилег и больше не встал.
Вскоре на пражских улицах стали появляться такие же пошатывающиеся люди. Прохожие торопливо их обходили. Уже было известно, что они заражены чумой.
Страх охватил жителей Праги. Черная смерть уносила все новые и новые жертвы. Те, у кого были родные или знакомые в деревне, бежали туда из чумного города. Бежали и богатые горожане, имевшие возможность оплатить свое пребывание в еще не зараженных местах.
Но большинство жителей Праги было вынуждено остаться в городе.
Они пытались преградить путь болезни, заколачивая окна и двери жилищ, старались не выходить на улицу, ибо воздух был заражен чумой. Но никакие самые крепкие ставни не могли оградить дома от страшной заразы. И смерть с неутомимой настойчивостью уносила десятки жертв.
Чешская канцелярия именем императора издала указ, в котором говорилось о божьей воле, о гневе его и милости, о грехах человеческих и наказании за них… Потом последовало несколько медицинских мер, с помощью которых пытались предотвратить заразу. Главными из них была частая стирка белья и одежды, мытье жилищ и протирание тела уксусом. Вместе с тем пражанам повелевалось как можно чаще раскладывать большие костры на улицах, рынках, площадях и пустырях, ибо сухой воздух и дым являются самыми сильными врагами чумы.
И вот по всему городу запахло уксусом, пополз едкий запах дыма.
Больше всего доставалось врачам и цирюльникам. В другое время они оспаривали друг у друга больных, теперь же у всех появилось столько работы, что, будь их втрое больше, они все равно не успели бы с ней справиться.
Даже доктор Есениус вытащил из тяжелого дубового сундука, стоявшего на чердаке, свое противочумное одеяние. Он обулся в сапоги с высокими голенищами, надел кожаную рясу, закрывавшую тело от шеи до пят, на голову натянул кожаный капюшон с отверстиями для глаз и рта. Сверху капюшона он нахлобучил шляпу с широкими полями, прикрыл рот губкой, смоченной в уксусе, и наконец натянул кожаные перчатки, перевязав их у локтей ремешками. В таком одеянии он ходил по улицам, не боясь, что зараженный чумой воздух проникнет в его организм.
Лечил он только аристократов. Плата врачам за лечение была такой высокой, что простые горожане охотнее звали цирюльников. А бедняки обходились и вовсе без всякой помощи.
Среди пражских врачей Есениус был наиболее известен. И пражская знать наперебой приглашала личного врача императора.
В это время Есениус почти не видел жены, боясь ее заразить. Она жила в соседней комнате, и они переговаривались через закрытую дверь.
— Мария, — обратился он к ней как-то вечером, вернувшись из дома вице-канцлера Богуслава из Михаловиц, — поехала бы ты в деревню. Даже вице-канцлер собирается отправить туда свою семью.
Весь императорский двор уже перебрался в Брандыс. Император, как ни запирался, как ни скрывался от людей, все же не был уверен, что ему удастся избежать чумы. Опасаясь за свою жизнь, он послушался совета врачей и вместе с Катариной Страдовой, ее детьми, челядью и высшими имперскими сановниками отбыл в Брандыс. По повелению императора туда же отправилось семейство Кеплеров. Есениусу предложили выбор: ехать со всем двором или оставаться здесь.
Он решил остаться.
Но страх за Марию не давал ему покоя.
— Нет, нет. Иоганн, — с живостью ответила она из-за двери, — я не хочу даже думать об этом! Если я не останусь поблизости от тебя, я буду бояться, не заболел ли ты, не умер ли.
Есениус обрадовался ответу жены и еще больше укрепился в своем решении уговорить ее покинуть Прагу.
— Пойми, Мария, ты не облегчишь мое положение, если останешься здесь. В работе ты мне не поможешь, а с людьми я тебе встречаться не разрешу. Вот и будешь сидеть затворницей в четырех стенах. Зачем подвергать себя лишней опасности? Ты лучше поезжай с Михаловицами, а минует опасность, я приеду за тобой.
В конце концов она позволяла себя уговорить.
Есениус остался в Праге один.
Только теперь он целиком отдался своей работе. Посещал госпиталь, где лежали бедняки. В их лачугах не было возможности отделять больного от здоровых. И те из больных, кто еще мог держаться на ногах, брали в руки колотушки и, мерно ударяя в них, обходили стороной здоровых, направляясь в госпиталь. А тех, что не могли идти, санитары и стражники клали на тележки и везли туда же.
Город будто вымер. Без острой необходимости никто не появлялся на улице. И мало кто осмеливался войти в чужой дом, даже если на нем не было белого креста — знака, что в доме чума.
Есениус не ходил к знакомым. Чаще других он видел мастера Прокопа. Общественные бани были закрыты, и банщик мог посвятить себя лечению больных чумой. Он ходил с доктором Есениусом в госпиталь и учился у него бороться против страшной болезни.
Однажды Есениус посетил кладбище. Городские советники пригласили его туда, чтобы он посмотрел, достаточно ли глубоко вырыта братская могила, где без гробов должны были быть зарыты бедные жители Праги.
Есениус осмотрел могилу, пригласил могильщиков засыпать ее известью и направился к выходу.
Тут он заметил бедно одетую худую женщину, которая медленно шла между могил. Она осматривалась по сторонам, точно искала чего-то. В руках у нее был какой-то сверток, прикрытый белым платком. Опытным глазом Есениус определил, что под платком ребенок.
В нескольких шагах от Есениуса она остановилась. Положила трупик на землю, а сама пошла за лопатой, стоявшей у дерева неподалеку от братской могилы.
Есениус подошел к ней.
— Это ваш ребенок? — спросил Есениус. Его голос из-под капюшона звучал глухо.
— Да, — ответила женщина. — Уже второй умирает от чумы. Сперва умер муж, потом Вашек, а вот сейчас Аничка. У меня еще двое дома. Не знаю только…
Она не договорила, но Есениус все понял.
— А почему вы не положили его в гроб?
Женщина посмотрела на него бесконечно грустным взглядом. Глаза у нее были тусклые, они напоминали погасшие угольки.
— Мне не на что купить хлеба для живых детей.
Есениус вздрогнул. Возможно ли, что люди не имеют денег купить гроб для мертвого ребенка и хлеб для живых?
Он взял из рук женщины лопату и стал копать могилу.
Когда они закопали застывшее тельце девочки, женщина поблагодарила его и направилась к выходу. Доктор пошел рядом с ней. Он чувствовал, что не может ее так оставить.
— Кто лечил вашего мужа и детей? — спросил он немного погодя
Она удивленно на него посмотрела. Видно, не поняла вопроса.
— Какой доктор был у вас? — повторил он.
— Доктор? — еще больше удивляясь, переспросила она. — Какой доктор к нам пойдет? Доктора могут позвать только паны или богатые горожане. А у нас нет денег и на цирюльника.
И снова Есениус почувствовал в словах женщины упрек.
— Я пойду с вами, — решительно сказал он. — Посмотрю ваших детей. Я доктор.
Женщина вздрогнула.
— Что вы! Не надо! Где нам взять денег, чтоб вам заплатить!
Есениус запнулся. Слова, невольно сорвавшиеся с уст бедной женщины, были страшным обвинением всем врачам. В том числе и ему.
— Мне не нужно никаких денег, — слегка смутившись, промолвил Есениус. — Я хочу вам помочь. Пойдемте. Ведите меня.
Она провела его в свою лачугу.
Это была грязная каморка, служившая одновременно и комнатой и кухней. Возле сырой стены стояла кровать, на полу лежали два соломенных тюфяка. Один был пуст, на другом лежало двое детей. Старшему было приблизительно около четырех, младшему не более двух лет. Дети спали.
— Я дала им маковый отвар, — сказала женщина. — Если бы я этого не сделала, они бы стали шалить или выскочили на улицу. А там и заразиться недолго.
Есениус осмотрел детей, а потом и женщину. Никаких признаков болезни он не обнаружил. Но, когда прошелся по комнате, лицо его стало хмурым. В этом грязном и сыром помещении непременно заболеют и остальные обитатели.
— Всю мебель и стены вы должны протереть уксусом, а потом окурить комнату ладаном, — строго сказала Есениус.
— А вы знаете, сколько на это пойдет уксуса? — воскликнула женщина. — На целых пять грошей! А где мы их возьмем? А ладан? Для этого надо быть женой пономаря.
Слушая женщину, Есениус нахмурился.
«Боже праведный, — думал он, — сколько еще на свете нужды, а человек о ней и не ведает!»
Есениус вынул из кармана кошелек и высыпал в руки женщине целую горсть монет.
— Купите все, что я вам велел.
Женщина попыталась поцеловать ему руку в знак благодарности, но он спрятал ее за спину и спросил:
— А теперь расскажите, где тут у вас поблизости больные. Раз уж я здесь, надо будет зайти и к ним.
Чувство удовлетворенности, испытанное им, когда он давал женщине деньги, продолжалось недолго. Как только он вышел из комнаты, оно исчезло совсем. Он понял, какое это слабое оружие против черной смерти и нищеты.
Надо действовать иначе. Но как?
И все же несчастная женщина не выходила у него из головы. Тогда он направился в больницу доктора Залужанского и поведал ему свои переживания.
— Посоветуйте, друг, что нам делать.
Доктор Залужанский на минуту прервал свое занятие — он толок в медной ступе какие-то твердые заморские зерна — и, указывая пестиком, произнес:
— Это не наша забота. Мы делаем что можем. Лечим. А об остальном пусть думают в ратуше или во дворце. У нас своих дел хватает.
Но Есениус все еще остро переживал свою встречу с несчастной женщиной, все еще видел каморку с двумя спящими детьми, и, словно волна к берегу, возвращалась к нему неотвязная мысль: надо что-то делать!
— Но мы должны хотя бы обратить внимание властей на то, с чем сталкиваемся во время работы. Возможно, об этом не знают…
Залужанский улыбнулся:
— Хотя бы и не знают! Но что из того? Испокон веков были бедные и богатые. Богатым было всегда хорошо, а бедным — плохо. Так устроен мир, и не нам с вами его изменить. Вы только представьте себе, что произойдет, если вы явитесь к городскому или императорскому рихтару и коншелам и бросите им прямо в лицо: «Эй, рихтар и коншелы, враг в городских стенах, а вы ничего не предпринимаете. И враг этот пострашней, чем турок-безбожник. Прикажите протрубить сигнал и объявить тревогу. Призовите всех пражских врачей, цирюльников и фельдшеров! Ибо зря паны, рыцари и горожане прячутся в задних комнатах, напрасно они обкуриваются ладаном — этим не остановишь поступи смерти. У нее надежная твердыня в каморках городской бедноты. Необходимо изгнать заразу из лачуг бедняков. Потом с нею будет легче справиться». Нет, дорогой доктор, вы бы добились не большего успеха, чем юродивый Симеон. В лучшем случае вам бы ответили: «Занимайтесь своим делом! А мы будем заниматься своим. Будем поступать так, как нам велит наша сословная совесть».
Единственной пользой, которую принес энтузиазм Есениуса, была его памятка о чуме. Несколько лет назад, еще в Виттенберге, он написал трактат о черной смерти. Теперь он отпечатал выдержки из него и дал по одному оттиску каждому больному. В своем вступлении он утверждал, что главная причина заразы — гнилостный воздух. При этом он, однако, не исключал и влияния звезд. Есениус опроверг Фернелия, который отрицал этот путь распространения болезни, аргументируя тем, что в таком случае должны болеть и звери… Во время чумы самое главное — щадить свое сердце, и поэтому Есениус советовал больным душевное спокойствие, веселое настроение, приятную музыку и беседы, а также теплые ванны.
Может быть, Есениус и не понимал, что подобные советы он дает не тем людям, которым сперва хотел помочь, а настоящим своим пациентам — богатым горожанам и аристократам.
И о женщине с кладбища он скоро позабыл.
В то лето на пражские крыши частенько взлетал «красный петух». То ли люди стали менее внимательными, то ли увеличилось число злоумышленников — неизвестно, но пражане не раз слышали грозную тревогу.
Есениус почти никого не видел из своих друзей. Иногда его навещал Бахачек, который был тогда ректором Пражского университета.
— Такая тоска дома! — сказал однажды Бахачек, зайдя к Есениусу. — Мне недостает людей. Порой даже кажется, что я нахожусь в тюрьме. Большинство преподавателей и студентов разбежалось, а я не знаю, чем заполнить эту бесконечную пустоту. Но, видно, и у вас не веселей… Не сходить ли нам куда-нибудь выпить?
О Бахачеке поговаривали, что он любитель вина. Но сейчас по всему было видно, что ему не столько хотелось выпить, сколько посидеть в компании. Есениус прекрасно его понял и поэтому быстро согласился.
Солнце уже зашло, и на улице не было ни одной живой души. Дома с заколоченными дверями и окнами напоминали тайные убежища первых христиан. При взгляде на них прохожих невольно охватывал страх.
Бахачек шел уверенно. Трактир «У солнца» выглядел отнюдь не страшно. Через его окна на улицу неслось многоголосое пение веселящихся людей.
Они вошли в скудно освещенные душные комнаты. Здесь не проветривали: хозяин и гости делали все возможное, чтобы преградить путь страшной заразе. Окна совсем не открывались, а двери только тогда, когда в них входили или выходили.
Трактир был переполнен до отказа. Все столы и стулья были заняты. Ведь многие трактиры закрылись из-за чумы. Да и пили теперь пуще прежнего. Трактирщик, решивший не закрывать трактир в это страшное время, превратил свое заведение в золотое дно.
Слуга, заметивший редких посетителей, принес из кухни столик и два стула и поставил их у дверей, ведущих в комнаты хозяина.
Только теперь Есениус внимательно осмотрелся по сторонам. Судя по одежде, здесь были сплошь бедняки, которые не смогли уехать из города, как это сделали богатые горожане.
Все те, кто прежде задумывался над тем, имеют ли они право отдать за чашу вина или кружку пива несколько грошей, теперь бездумно сорили деньгами, полученными от старьевщика за обноски или взятыми в долг у богатого соседа. Будущее перестало существовать. Никто не думал, что будет через день, через неделю, через месяц, С легким сердцем продавали люди последние сапоги — ведь летом можно ходить и босиком, а кому придет в голову думать о зиме?
Все пили, пели, танцевали. Это был какой-то зловещий карнавал, на котором главной плясуньей и королевой была смерть.
Есениусу вспомнились все картины на сюжет «Танца смерти», все гравюры, изображающие «Танец мертвых», и с каким-то неприятным чувством он отгонял от себя мысль, что и здесь происходит нечто подобное. Это были еще не мертвецы, но приговоренные к смерти, из которых кто-то будет помилован, а остальные закончат свой танец уже на том свете.
Хотя в трактире было множество людей, появление ректора университета и знаменитого врача было замечено. Шум на минуту смолк, и взгляды всех присутствующих обратились к нежданным гостям. Из произнесенных полушепотом замечаний новые посетители поняли, что разговор идет о них. Но у всех было достаточно приподнятое настроение, и веселье продолжалось.
Есениус и Бахачек разговаривали вполголоса. Невеселый это был разговор. Жизнь каждого в то время висела на волоске. А у смерти была богатая жатва.
Друзья задумчиво смотрели на царившее вокруг оживление. Они пришли сюда, чтобы развлечься. Чтобы сбросить с себя тоску и заботы, чтобы отдаться бесшабашному веселью, которое приходит с вином или водкой. Но, странное дело, среди этого бьющего ключом веселья обоим стало грустно. То, что они видели и слышали, не было беззаботной радостью, а скорее весельем отчаяния.
Есениус и Бахачек ушли бы, если не услышали разговор за соседним столиком. Там сидело шестеро. Громче всех разглагольствовал щербатый огромного роста детина. Он был одет в кожаный камзол неопределенного цвета.
— А я вам говорю, что заразу на нас накликали евреи. И дело тут вовсе не в воздухе и, уж конечно, не в наших грехах.
— Вашек дело говорит, — присоединился к щербатому его сосед, коренастый парень с длинными русыми волосами. — Раввин Лев якшался со злыми силами, знает всякие чары и волшебства. Сами евреи этим хвастаются. Поверьте Вашеку, это раввин навлек на город беду.
Щербатый говорил так громко, что было слышно за всеми соседними столами. Конечно, к таким словам трудно было остаться глухим. Постепенно говор стал стихать, и некоторые, чтобы лучше услышать, подходили к щербатому.
— Я вам говорю, люди добрые, мы не должны это так оставить, — поддерживал своего соседа белобрысый толстяк.
— Евреи хотят извести христиан, — закричал великан Вашек, — а мы покорно сносим все, как бараны! Что вы скажете на это, люди?
Его вопрос был как бы сигналом, тлеющим трутом, брошенным в бочку с порохом.
— На евреев! Пошли на евреев!
Трактир мигом превратился в разворошенное осиное гнездо. Никто не усидел на месте. Все повскакали из-за столов и обступили Вашека и его товарищей.
Вашек сразу стал предводителем. Остальные были готовы подчиниться его приказам и следовать за ним — пусть ведет их куда хочет.
Однако Вашек еще не отдал приказа. Вероятно, он и сам испугался своих речей. Но отступать было поздно. Со всех сторон неслись возбужденные крики.
Но Вашек в нерешительности произнес:
— Нас маловато. Наш перевес в силе продлится недолго.
Парни на мгновение опешили. Даже самые прыткие, у которых с языка готово было сорваться слово «баба», задумались над словами Вашека и пришли к выводу, что они не так уж глупы. Однако их колебания длились недолго.
— Зайдем в трактир «У золотого винограда», там полно народу, позовем всех с собой, — предложил кто-то.
И все разом согласились:
— К «Золотому винограду»! Пошли к «Золотому винограду»!
Щербатый отдал распоряжение:
— Кто живет поблизости, отправляйтесь по домам и берите с собой топоры, молотки, цепы или алебарды.
Напрасно умолял трактирщик сначала расплатиться с ним. Его успокоили, обещая скоро вернуться и принести столько золота, а также серебра, что всего его погреба не хватит.
Толпа ринулась из трактира, шумя и бурля, словно река в половодье.
Есениус и Бахачек остались сидеть на своих местах. Пока возле них бушевала разъяренная толпа, они только молча слушали. Но, когда народ схлынул, они взглянули друг на друга, словно пробудившись от тяжелого сна.
— Это ужасно! — прошептал Есениус.
— Что делать? — взволнованно воскликнул Бахачек. — Следует предупредить раввина Льва.
— Прежде всего надо поставить в известность староместского рихтера. Попросить, чтобы он выслал к воротам гетто ратников, — предложил Есениус.
— Пошли вместе?
— Нет, — возразил Есениус. — Вы идите один, а я пойду к «Золотому винограду». Попытаюсь отговорить людей от их безумного намерения. Объясню им, что волшебством нельзя накликать чуму.
— Я бы на вашем месте этого не делал, — горячо запротестовал Бахачек. — Ничего вы этим не достигнете.
— Возможно, вы и правы, но я должен попытаться. Врач должен стараться вылечить пациента, даже когда состояние больного безнадежно. Это моя обязанность.
Бахачек пожал плечами. Продолжать спор было времени. Они договорились встретиться у «Золотого винограда» и разошлись.
Когда Есениус пришел в трактир, Вашек и его друзья уже были там. Долго уговаривать посетителей «У золотого винограда» им не пришлось.
Есениус понимал, что времени терять нельзя. Он вышел на середину зала и громко, стараясь перекричать всех и обратить на себя внимание, произнес:
— Послушайте меня, люди добрые! Я доктор медицины Есениус, и вот что я хочу вам сказать. Вы собрались идти на евреев, вы думаете, что они накликали на наш город чумную заразу. Не делайте этого! Говорю вам как врач: чуму нельзя вызвать чарами. Я уже видел несколько эпидемий чумы, изучал ее. Говорю вам правду, что чума передается только через больных. Верьте мне…
Он не смог окончить фразу. Замолчавшие было на минуту люди пришли в ярость, когда поняли, что он защищает евреев. На этот раз их гнев обрушился на него.
— Не слушайте его, не верьте ему! — закричал белобрысый толстяк. — Он подкуплен евреями!
— Да это тот доктор, что лечит евреев. Проучить бы его как следует!
Положение становилось угрожающим. Есениус увидел вокруг себя сжатые кулаки, но тут его узнал трактирщик.
— Будьте благоразумны, друзья! — воскликнул он. — Ведь это личный врач императора. Вы уж, пожалуйста, ради меня пощадите его. А то и мне худо придется, если с ним что-нибудь случится в моем трактире.
Потом он обратился к Есениусу, который безуспешно пытался перекричать толпу.
— Вы ученый человек, — добродушно заговорил он, — и здесь вам не место. Гораздо разумнее сказать себе: «Уступи, мудрейший, и не жги себе пальцы за других».
Слова трактирщика оказали свое действие. Люди ворча отошли от Есениуса и стали собираться в путь.
— Через какие ворота ворвемся? — спросил кто-то.
— Через Микулашские. Они ближе, — ответил предводитель толпы.
— Тогда пошли! — раздалось сразу несколько голосов.
Понимая, какие тяжелые последствия мог иметь этот безрассудный поступок, Есениус сделал последнюю попытку, чтобы их остановить. Он бросился к дверям и расставил руки, загораживая собой выход.
— Подождите! Одумайтесь! Вы хотите совершить беззаконие! Это преступление!
Все было напрасно.
Чьи-то сильные руки, как клещами, сжали ему плечи. Его рывком оторвали от дверей и отбросили к стене… Потом он почувствовал тупой удар по голове и потерял сознание.
Когда Есениус очнулся, он увидел над собой Бахачека. Рядом с миской холодной воды стояла трактирщица.
— Слава богу, пришел в себя!
Есениус силился вспомнить, где он и что с ним. Он лежал в постели, но в чужой. На голове у него был холодный компресс. В затылке он ощущал жгучую боль. В голове гудело, как будто там работала мельница.
— Как ваши успехи, магнифиценция? — спросил он слабым голосом по-латыни, чтобы Бахачек мог ему ответить без опасений, что их поймут трактирщик и трактирщица.
— Все хорошо. Рихтар предупредил стражников гетто. Послал на помощь ратников. Так что, когда толпа подошла к воротам, там уже стояли вооруженные отряды. Бунтовщики поняли, что у них ничего не вышло, и разошлись. Уходя, они грозили расправиться с тем, кто выдал их план.
Бахачек значительно улыбнулся, а Есениус с облегчением вздохнул.
— Благодарение богу, что хоть на этот раз нам удалось предотвратить тяжкое преступление.
Он потихоньку встал с постели и с помощью Бахачека поплелся домой.
БУДОВЕЦ
С приходом осени чума начала ослабевать; число жертв каждодневно уменьшалось, и жители Праги облегченно вздохнули. Работы у докторов убыло. И тогда Есениус еще острее почувствовал свое одиночество, еще острее понял, что значит для него Мария, насколько беспомощен он без нее…
Во второй половине октября Мария вернулась. Отрадной была встреча супругов после столь долгой разлуки! Вернулся из Брандыса и императорский двор, и жизнь Есениуса потекла обычным путем. Только в эту осень в Праге было много оживленней, чем в другие годы. Причиной была чума. Дворяне, которые возвращались из своих поместий, изголодались по развлечениям и пирам большого города, и теперь устраивали празднество за празднеством по любому поводу.
Светская жизнь захватила и Есениуса. Круг его знакомых в Праге увеличивался. Через университетских профессоров он свел знакомство со всеми известными врачами и учеными, а посещая Град, сошелся с художниками, которые работали у императора. Каждому из них было приятно слово похвалы знаменитого доктора, который посетил множество стран и мог сравнивать их творения с творениями чужеземных мастеров. Придворные живописцы Шпрангер, Аахен и Стевенс уважали мнение ученого и почитали его знатоком картин. Более же всего восхищали Есениуса прекрасные гравюры Эгидия Саделера. На огромнейших листах бумаги можно было увидеть всю Прагу как на ладони.
Художник отобразил малейшие подробности. Сколько башен, сколько домов! Какая пестрота! Долго, очень долго рассматривал Есениус это чудо точной, тонкой работы, находя на гравюре всё новые и новые подробности, достойные удивления. Заметив, с каким живым интересом следит гость за его работой, Саделер в знак благодарности подарил Есениусу гравюру, которую тот повесил в своей комнате. Но в окружении императора находились не только живописцы и граверных дел мастера. В мастерской «Точильщика и резчика камней» мастера Мизерони Есениус с напряженным вниманием следил за тонкой работой мастеров когда драгоценные камни приобретали вид чудесных геометрических фигур. Стоило на минуту дольше подержать камень на станке, и вся работа пошла бы прахом. Но рука мастера уверенна: и вот уже перед вами творение совершенной красоты. Гранями розетты[34] свет преломляется и отражается с ослепительным блеском. Иные чувства возникают, когда смотришь на работу «инструментмахеров» — инструментальных мастеров Эразма Габермеля и Юстуса Биргиуса, которые делают астрономические приборы для императорской обсерватории. Этими приборами восхищается Кеплер, частый гость обоих мастеров. Императора больше всего занимает работа над тем прибором, который Габермел изготовляет по его приказу. Это должен быть вечный двигатель.
Как личный врач императора, Есениус мог довольно близко познакомиться и с высшим и средним дворянством, многие из дворян обращались к нему за помощью. Пользоваться услугами личного врача императора среди знати считалось столь же изысканным, как ходить в зал для игры в мяч на Граде или заказывать новое платье у портного Зулоага, испанца, проживающего на Малой Стране. Словом, Есениус стал модным врачом пражской знати. Иногда его вызывали по разным пустякам. Как-то раз у одной высокородной дамы заболела голова, и она тотчас послала за Есениусом. Сначала он сердился на это, но позже выучился скрывать от своих пациентов, что он о них думает. Он терпеливо выслушивал все жалобы, внимательно осматривал больного и прописывал дорогие лекарства. Чем дороже лекарство, тем больше доверия к врачу.
Доходы Есениуса увеличивались, и не только потому, что росло число больных, но и благодаря легкости заработка. Прежде, когда он требовал плату за простой совет здоровому больному, в нем хоть и слабо, но протестовала совесть, потом и она замолчала. Зато не молчала Мария. Если бы она сердилась, ворчала, Есениус попытался бы если и не переубедить ее, то хотя бы заставить замолчать. Но Мария не повышала голоса, она по-матерински увещевала и жалела его, словно говорила с неслухом-сыном.
Он пытался задобрить ее дорогим подарком — купил ей золотую цепь с бриллиантом. Она поблагодарила, но не обрадовалась. И не надела украшения.
— Тебе не нравится? — спросил он разочарованно и сам испугался разговора, который должен был последовать.
Ее лучистые глаза казались почти прозрачными — как будто он заглянул на дно чистого родника.
— Отчего же, нравится. Красивая вещица. Только…
Она замолчала и взглянула на мужа с нежной лаской. Ей было жаль огорчать его.
— Тебе хочется чего-нибудь другого? Только скажи.
Она отложила шитье и проговорила:
— Сядь, Иоганн, подле меня, давай поговорим.
Она говорила ласково, но именно это ее миролюбие вызвало в нем чувство протеста. Он сделал усилие, чтобы его вопрос не прозвучал грубо.
— Что с тобой, Мария? Никогда-то ты не бываешь довольна.
Она не отвечала, только в упор смотрела на него. Но в ее взгляде не было гнева. И он не выдержал этого ясного и правдивого взгляда, опустил глаза и добавил уже тише:
— Со мной ты никогда не будешь спокойной, хотел я сказать.
— Не надо ничего объяснять, я знаю, что ты хотел сказать. Вся беда в том, что ты успокоился, Иоганн.
Даже теперь она не повысила голоса, но ему показалось, что эти слова она прокричала ему прямо в ухо.
— А помнишь, Иоганн, что ты мне сказал — прошли уже годы с того дня, — ты помнишь, когда мы вернулись от Кеплеров и ты спросил, почему я не посоветую тебе то же, что и Кеплеру? Видишь, Кеплеру мой совет кое-чем помог. Он заказал инструменты и смог продолжать работу. А ведь он отказывал себе в самом необходимом, чтобы продолжать исследования. Он живет своей работой, а не видит в ней только источник дохода.
Последние слова Марии задели Есениуса за живое.
— Разве я работаю только ради денег? Во время чумы я остался здесь и многих лечил бесплатно. Еще и свои деньги давал, если нужно было.
— Это делает тебе честь, Иоганн. Но такими благодеяниями человек просто хочет успокоить свою совесть… А теперь все опять идет по-старому. И ты спокоен? И не возмущается твоя гордость и честь врача?
— Бога ради, Мария! Ты говоришь со мной так, будто у меня на совести какое-то преступление. Я не совершил ничего нечестного или непорядочного. Я нисколько не хуже других здешних докторов.
— Не хуже, это правда. Что же касается знаний и опыта, то ты стоишь гораздо выше их. Но все же я бы хотела, чтобы ты превосходил их не только разумом, но и сердцем. И поэтому мне не нравится…
— Что не нравится?
— Как ты лечишь… Бывает, что ради крупного гонорара ты идешь против своей врачебной совести. Ты не говоришь чувствительным барынькам, выдумывающим себе болезни, что они здоровы, а выписываешь им дорогие лекарства и требуешь высокой платы.
— Задаром даже петух не копается в земле. А если бы я лечил за небольшую плату, меня бы стали вызывать люди, которым довольно и цирюльника. Я настолько известен в Праге, что могу требовать столько же, сколько и остальные императорские врачи.
Есениус волновался именно потому, что чувствовал правоту жены. Кто охотно признает свои ошибки?
Мария глубоко вздохнула и пригладила волосы на висках.
— Да, ты знаменит, Иоганн, — промолвила она почти шепотом. — Слава твоя велика. И за славу ты требуешь денег.
Он быстро встал. Возможно, он желал возразить ей, но потом раздумал, упрямо сжал губы и ответил холодно:
— Да, именно так. Пусть платят! В конце концов, моя слава — это результат моей шестилетней упорной работы в Праге. А если к этому прибавить еще десять лет в Виттенберге, ты должна признать, что мой успех заслужен.
— Слава — как молодое вино: она сладка, но коварна. Ты думаешь, что тебе не повредит эта сладкая водичка. Пьешь, пьешь ее — и вдруг она ударяет в голову. Рассудок твой мутится, и ты уже не видишь, что окружает тебя. Хватишь лишку, и станешь смешон или жалок.
— Так что же я, смешон или жалок?
Мария вздохнула:
— Хорошо, Иоганн, что ты можешь шутить. Но я отвечу тебе. Пока ты не относишься ни к тем, ни к другим. Пока что тебе только завидуют. Даже те, кто льстит тебе в глаза. Зато эти же льстецы будут больше других радоваться, если с тобой случится несчастье.
— Я вижу, моя слава неприятна тебе, — сказал он с упреком.
— Ты плохо меня понял, Иоганн. Я рада твоим успехам — ведь успех большая награда, чем деньги, — но я боюсь, что от славы у тебя закружится голова и в тебе погаснет пламя благородного стремления. Ты утратишь высокую цель, которая привела тебя в Прагу. Скажи положив руку на сердце, Иоганн: видишь ли ты еще эту цель или… — Она замолчала, сама испугавшись мысли, которая возникла у нее. Затем испытующе посмотрела на мужа и медленно произнесла: — Или ты достиг уже цели, Иоганн?
— Нет! — почти выкрикнул он.
Может быть, он хотел заглушить собственную совесть. Снова она отозвалась в нем, закричала, как разбуженное дитя. Он вдруг увидел себя, как в зеркале.
— И это я, который некогда был ректором в Виттенберге! Это я, кого сопровождал Браге во время визита к императору! Такой ли представлял я тогда свою высшую цель? Нет.
— Значит, я не ошиблась в тебе, Иоганн! — радостно воскликнула Мария. — Ты сам понял, что ты на неверной тропе, которая не ведет к этой высшей цели. Нужно искать другого пути.
Он кивнул и с нежностью взял ее руку:
— Скажи, Мария, какова она, эта высшая цель? Может, я уже утратил ее. Иногда мне кажется, что это сияющий свет, который указывает дорогу… Иногда это только блуждающий огонек, который в конце концов заводит в трясину. Ну, а как ты представляешь себе эту высшую цель?
— Ты же сам сказал, Иоганн: это свет, к которому должен стремиться каждый, даже рискуя собственной жизнью. Это та высшая точка, которой желает достигнуть человек, и, если достигнет ее, сможет на склоне своих дней сказать себе: я прожил недаром. У тебя есть такая цель, Иоганн?
Снова ее взгляд светится тем душевным огнем, который так восхищает его в ней и которому он немного даже завидует.
— Не знаю, — отвечает он. — Пожалуй, есть, но говорить об этом трудно. Я еще не знаю, чего хочу… Хотел бы свершить подвиг… но…
— …не знаешь, каким путем тебе идти? Видишь перед собой множество дорог и не можешь выбрать какую-нибудь одну, не знаешь, какая ведет к цели. Тогда в первую очередь брось ту дорогу, которую считаешь ложной. Ты ведь знаешь, о какой дороге я говорю?
— О той, по которой я шел доныне, — ответил он тихо и поцеловал волосы Марии.
Потом сел за свой стол и принялся за работу. Но мысли его были бог весть где. Долго сидел он так над чистым листом бумаги с гусиным пером в руке и задумчиво глядел прямо перед собой. Он даже не заметил, что уже стемнело. Мысли его были далеки от работы.
Когда пришла Мария и спросила, зажечь ли свет, он кивнул и ответил вопросом, который беспокоил его все время:
— Как ты думаешь, у Кеплера есть высшая цель?
— Да. Разумеется, есть. И увидишь, скоро он достигнет ее.
Есениус ничего не сказал. Только взгляд его потемнел, как будто впитал в себя весь сумрак, заполняющий комнату.
В ноябре вице-канцлер пан Богуслав из Михаловиц праздновал день своего рождения.
Пани Михаловицова позаботилась том, чтобы ее муж пригласил Есениуса и пани Марию. Ведь с той поры, как личный врач императора стал лечить ее подагру, пани чувствовала себя много лучше.
Итак, в назначенный день Есениус и его жена отправились в большой дом Михаловица на Целетной улице.
— Я очень многим обязана вашему мужу, — сказала пани Михаловицова, сердечно приветствуя Марию.
— Он немало рассказывал мне о вас, — вежливо ответила Мария.
Есениус бывал у Михаловица несколько раз. Он уже неплохо знал этот прекрасный дом, и теперь его не занимали больше ни покрытые искусной резьбой поставцы, ни стены, выложенные пластинами драгоценных пород, на которых висело несколько картин итальянских мастеров. Его занимали люди.
Собралось их тут больше двадцати человек. Мужчины были одеты большей частью по испанской моде, в разноцветные камзолы с широкими разрезными рукавами и накрахмаленными кружевными брыжами и в короткие сборчатые штаны, доходившие до половины бедер, где они сходились с белыми, туго натянутыми чулками. Только на некоторых из них виднелись обычные суконные штаны чуть пониже колен, заправленные в сапоги, называемые «поцтивице»; чехи носили их издавна. Так же по-разному были одеты женщины. Преобладали платья, сшитые по заморской моде, которые отличались от чешских платьев пестротой расцветки, чешское платье было проще, цвета не бросались в глаза, украшения были скромнее.
Пани Мария радовалась, что своим туалетом она не отличалась от других знатных дам. Ее платье было из голубого бархата, мантилья из красного атласа. Очень широкая юбка с кринолинами по бокам переходила в узкий корсет. Шелковые разрезные рукава были подбиты ярко-желтым, солнечного цвета шелком. Узкие у запястья, они застегивались драгоценными пуговицами. Манжеты были из дорогих французских кружев. Завитые щипцами волосы красиво выделялись на фоне высокого плоеного воротника, напоминающего мужские брыжи, тоже из тончайших кружев. Голову ее украшал черный берет, а шелковая сетка поддерживала хитро убранные волосы; черный берет гармонировал с двумя широкими черными бархатными полосками, окаймляющими подол голубой юбки.
Пани Мария чувствовала на себе взгляды женщин, и, хотя она была строга к себе, ее охватило приятное чувство спокойствия, смешанного с тщеславием, какое испытывает каждая женщина, когда она уверена, что вызывает восхищение. Больше всего радовало ее, что и муж смотрел на нее с видимым удовольствием.
— Уважаемый доктор! — обратился к Есениусу человек в черном магистерском одеянии, декан факультета художеств Пражского университета Ян Кампанус Воднянский. В руке у него был свиток пергамента.
— Какой счастливый случай! — обрадовался Есениус и сердечно поздоровался с деканом. — Придет еще кто-нибудь из академии?
— Насколько мне известно, кроме меня, приглашен только Бахачек. Я думал, что он уже здесь. Меня же до последней минуты задержала работа: я переписывал начисто свою здравицу. — Он поднял руку с пергаментом.
Есениус вежливо отозвался:
— Следовательно, нас ожидает еще и праздник духа. И польза от сегодняшнего вечера будет, таким образом, двойная.
Кампанус принял комплимент серьезно. В Праге его считали лучшим из современных поэтов, и его заздравные оды высоко ценили не только те, кого он воспевал, но и знатоки. Слава его возросла особенно с той поры, как верховный канцлер Лобковиц запретил студентам высшей школы представлять его латинскую драму в стихах «Бржетислав и Итка». Мало того: канцлер принудил автора разорвать у него на глазах это произведение, которое, по его словам, оскорбляло императора. Неизвестно, стала бы драма столь популярной, если бы представления ее были разрешены…
Гости были в полном сборе, однако хозяин не давал знака переходить в столовую. Очевидно, кого-то еще ждали. Вице-канцлер вполголоса совещался о чем-то с женой. Вероятно, о том, стоит ли ждать или велеть подавать ужин.
И тут появился Бахачек. Он вошел, задыхаясь и вытирая ладонью пот со лба. На нем было красное суконное профессорское одеяние и короткая шуба.
Прерывающимся голосом, едва переводя дыхание, он оправдывался перед хозяином:
— Извините, что я заставил вас ждать… Нет, ничего серьезного не произошло. Так, чепуха… Говорю себе: Матей, сегодня ты ляжешь спать поздно, а потому будет лучше, если ты поспишь про запас. Я думал, что Кампанус меня разбудит… Вот и похрапываю я спокойно, как вдруг приходит фамулус с кувшином пива и удивляется, что я дома. Ведь я предупредил, что вечером уйду. И представьте: пиво он принес для себя. Каков шалопай! Один бог знает, кто подает ему столь дурной пример… Ну, я выпил на дорогу и бросился бежать сломя голову, чтобы не опоздать. В самом деле, стыдно: живу за углом и прихожу последним.
Хозяева и гости улыбаясь слушали Бахачека. Страдальческое выражение его лица всех развеселило.
Вице-канцлер пригласил гостей проследовать в столовую, где были накрыты два стола.
У дверей застыло трое слуг: один — с кувшином, другой — с большой миской и третий — с полотенцем. Помыв руки, гости сели: с одной стороны каждого стола — мужчины, с другой — женщины. Посреди, между обоими столами, был поставлен маленький стол для двоих: для вице-канцлера Михаловица и его жены Уршулы.
Есениус сидит между Бахачеком и Кампанусом. Напротив пани Мария. Они улыбаются друг другу и понимают один другого, того без слов.
Только женщина может оценить все хлопоты, связанные с приготовлением подобного пира. Мужчина обратит внимание на количество и разнообразие блюд, оценит как знаток пиво и вино, но все остальное ускользнет от его внимания. От женского взгляда не скроется ничего.
Гирлянды из барвинка по краям скатертей, — горы фруктов в вазах, порядок расположения приборов — ничто не ускользнуло от внимания пани Марии. Наибольшее удивление гостей вызвали два великолепных произведения кондитерского искусства: на одном столе возвышалась сделанная из марципана и всевозможных цветных сладостей Староместская ратуша, на другом — пражский Тынский храм.
Не успела пани Мария все рассмотреть, как явились слуги с суповыми мисками. Едва слуги поставили их на стол, хозяин поднялся, за ним остальные — и живой разговор, царивший за столами до этой минуты, сменила громкая молитва.
Когда все снова уселись и принялись за еду, четверо музыкантов, сидевших на деревянном возвышении в углу столовой, взялись за инструменты — две скрипки и два рожка, — и пир продолжался в сопровождении музыки.
После мясного супа наступила очередь рыбного.
Когда после рыбы подали индейку с горошком, Бахачек предупредил Есениуса:
— Надеюсь, вам уже знакомы здешние распорядки: мяса будет еще много. Берите только то, что вам нравится, и ровно столько, чтобы вы могли съесть и другие блюда.
Это было весьма полезное предостережение, потому что после индейки принесли пирога, а потом поросенка с хреном. И опять пироги.
Пани Мария вскоре отложила прибор, да и Есениус был уже сыт. И, когда ему предложили гуся с острыми приправами» он только с сожалением посмотрел на него, а на баранину в уксусе даже не взглянул. От всех блюд попробовал, наверное, только Бахачек.
Четыре часа длилась эта трапеза. Было произнесено много торжественных речей. Первую здравицу возгласил пан Вацлав Будовец из Будова, прозванный «Козья бородка». Он восхвалял заслуги хозяина, особенно его усилия защитить истинную веру от ее врагов. После него вице-канцлера приветствовал по-немецки граф Иоаким Ондрей Шлик. Он говорил о заслугах Михаловица при «федровании» — защите государственных интересов королевства чешского. Потом встал Кампанус и прочел по-латыни свою торжественную оду. Ода была длинной, в ней Кампанус так превозносил вице-канцлера, будто тот уже умер.
Вице-канцлер благодарил ораторов сердечным пожатием руки и выпивал с каждым бокал вина.
— А теперь, дорогие господа, кто имеет охоту к танцам, пусть соблаговолит перейти в соседнюю залу.
Есениус и Мария пошли к танцующим. По обычаю, на первый танец муж пригласил свою жену и, получив согласие, поцеловал ей руку. Когда же начался следующий танец, он охотно уступил свою жену лучшему танцору, а сам вернулся в столовую. И тут к нему обратился пан Будовец, с которым до сих пор он не был знаком.
Это был старик весьма почтенного вида, который, даже если молчал, обращал на себя внимание. Оратор он был знаменитый, и слушать его было одно удовольствие. Неудивительно, что в 1603 году, когда Будовец первый раз выступил на церковном соборе, он так пронял присутствующих своим огненным словом, что многие не удержались от слез.
Правда, он настроил против себя императора, который сказал, что придет день, и Будовец ответит суду за свои дела. Но враждебное отношение к нему императора только повысило уважение и любовь других протестантов к Будовцу.
Обращаясь к Есениусу, пан Будовец пренебрег каким бы то ни было вежливым предисловием, даже лицо его не приняло приветливого выражения, напротив — он бросил на доктора взгляд исподлобья и проговорил:
— Так, значит, это вы тот арианин, исповедник огня?
Есениус улыбнулся, потому что принял слова старика за шутку. Он знал, откуда дует ветер. Все дело в «Зороастре». Ему даже немного льстило, что Будовцу известно его философское сочинение.
— Да, это я. Только я не арианин.
— Хотелось бы мне поговорить с вами об этом, — сказал Будовец, садясь рядом с Есениусом. — Значит, вы не считаете себя арианином? — продолжал Будовец. — Но ведь Зороастра — главный представитель арианской веры. А вы посвятили ему целую книгу.
— Да, я написал о Зороастре книгу, но это не совсем оригинальная работа. Я основывался на Патрицци, — объяснял Есениус, немного удивленный осуждением старика. До сих пор он слышал об этом своем произведении только хвалебные отзывы.
— Дело не в том, является ли зороастровская философия, которую вы там проповедуете, оригинальной или заимствованной. В любом случае это наука вредная, противоречащая основам христианского вероучения.
Будовец строго и гневно посмотрел на Есениуса. В религиозных вопросах он был неумолим.
— Я старался согласовать с христианством учение Зороастры, — спокойно ответил Есениус.
— Невозможно соединить огонь с водой, — с горячностью воскликнул Будовец. — Не может быть согласно с христианским вероучением то, чего нет в Библии. А укажите мне в Библии такое место, где говорится о том, что наша земля была сначала жидкой и огненной и что только постепенно она охлаждалась и становилась твердой. И что в земных глубинах и поднесь имеются остатки этого огня… А именно об этом твердите вы в «Зороастре». Разве не так?
— Так, но ядро Земли еще и посейчас горячее, в этом можно легко убедиться, наблюдая извержения вулканов. Когда я учился в Падуе, там были студенты из Неаполя, и они говорили мне о частых извержениях вулкана Везувия.
— Я видел дымящийся Везувий собственными глазами, — возразил Будовец. — Но извержение вулканов не подтверждает ваш взгляд о жидком ядре Земли; это только доказывает существование ада. Ведь и Данте в «Божественной комедии» пишет, что где-то вблизи Везувия он вступил с Вергилием в преисподнюю.
Это были для того времени серьезные аргументы. Но Есениус остался при своем мнении. Тогда старый защитник веры тут же привел другое возражение:
— Если мы допустим, что ваши вулканы можно отождествить с вратами преисподней, как же сравнить зороастровское или же ваше представление о посмертной жизни с христианством? Можете вы доказать, что на Луне живут люди, звери и растения? И что там люди совершеннее, чем мы?
— Насколько я помню, в книге сказано, что это только предположение. Я не утверждаю, что там и в самом деле есть жизнь.
— Существо вопроса от этого не изменяется, — повысил голос старик и наклонился к Есениусу, словно боялся, что его слова не будут услышаны доктором. — Речь идет о том, что вы допускаете возможность такой жизни, возможность существования живых существ на Луне, и сомневаетесь в непогрешимости священного писания. Ведь в книге бытия ясно говорится о том, что бог сотворил человека только как жителя Земли. И, следовательно, и всех животных и все растения. Как же люди — потомки Адама и Евы — попали бы на Луну? Это еретические мысли, доктор! Ваше счастье, что вы живете не в Италии и не в Испании. Там святая инквизиция сожгла бы вас как еретика. Так же как сожгли Савонаролу или Джордано Бруно.
Будовец говорил так громко, что гости, сидевшие за другим столом, стали оборачиваться. Некоторые подошли ближе и стали с любопытством слушать.
Вице-канцлер, боясь, как бы в его доме не возникла ссора, поспешил вмешаться.
— Могли бы вы ненадолго нарушить столь занимательную беседу? — спросил он с улыбкой настоящего дипломата. — Мы тоже хотели послушать пана Будовца.
— А в чем дело? — спросил Будовец с неудовольствием, прерывая разговор, столь его занимавший.
— Нам нужно посовещаться о ближайшем соборе…
О, ближайший собор! Больше Будовца не нужно было просить — он встал и отошел с Михаловицем к группе гостей, которые его в нетерпении ожидали.
Есениус с облегчением вздохнул. Он не боялся научных споров, но по сравнению с Будовцем положение его было невыгодным: единственным аргументом Будовца была вера, писание, а против такого щита Есениус не мог и не хотел сражаться. Ведь и сам он был человек глубоко верующий, хотя он не мог не интересоваться науками, которые в некоторых случаях противоречили писанию. Этим своим свободомыслием он отличался от Будовца и от большинства ему подобных.
Он хотел встать, но тут к нему обратился Гарант:
— Старого пана Вацлава нужно узнать ближе. Это благородный человек. И мощный столп чешскобратской веры. Его суровые слова исходили от золотого сердца.
Удивленный Есениус ответил иронически:
— Но уважать мнение других или, по крайней мере, стараться понять его, очевидно, не в привычках пана Будовца.
— И все же это только первое впечатление. Если вы поближе познакомитесь с ним, вы определенно измените свое мнение.
Около вице-канцлера Михаловица собралась группа, в которой были, кроме Будовца, еще старый Кашпар Каплирж из Сулевиц, граф Матиаш Турн, граф Иоаким Шлик и еще некоторые другие господа.
— Не присоединитесь ли и вы к нам? — пригласил Михаловиц Есениуса и Гаранта.
Есениус чувствовал, что приглашение Михаловица — проявление исключительного доверия. Его, значит, считают уже за своего, если не боятся говорить в его присутствии о самых важных политических вопросах, хотя он и личный врач императора. Ведь разговор шел о господстве католического меньшинства над протестантским большинством в королевстве.
Когда поздно вечером гости расходились, Будовец крепко пожал Есениусу руку и сердечно сказал:
— Я ряд, что вы участвовали в нашем разговоре, хотя бы как молчаливый слушатель. По крайности, вы теперь знаете, что у нас болит. Для нас важно и то, чтобы люди нашей веры, которые находятся в близости императора, правильно поняли то, что происходит в королевстве. Может, вы еще не с нами, но главное, что вы не против нас. Можем мы пригласить вас еще раз на такую беседу?
Есениуса так удивила приветливость старого пана Будовца, что он ответил, не размышляя:
— Я буду рассматривать такое приглашение как большую честь. Ведь это наше общее дело, — проговорил он.
Примерно через месяц после праздника у вице-канцлера к Есениусу пришел слуга испанского посланника Гильена де Сан Клементе и передал учтивую просьбу своего господина: не удостоит ли достопочтенный доктор своим посещением пана посланника, так как его милость очень мучит подагра. Пусть доктор Есениус любезно назначит время, когда за ним приехать карете его милости, если он не может отправиться тотчас.
Просьба была выражена так цветисто, что иному человеку показалась бы невероятно преувеличенной и неискренней. Но Есениус был знаком с испанским этикетом и потому в подчеркнутой вежливости слуги не увидел ничего иного, кроме желания посланника Сан Клементе, чтобы Есениус не отказался прийти к нему. Такое опасение было естественным — ведь Сан Клементе не таил своей ненависти к «еретикам». А Есениус после недавнего разговора с Марией стал выбирать пациентов. Он уже отказывался навещать больных, которым, в сущности, не требовалась его помощь.
«Он, вероятно, серьезно болен, если решился пригласить именно меня», — подумал доктор и решил принять приглашение.
Когда Есениус вышел из дворца, моросило. Низко над Прагой. как будто опираясь на шпили пражских костелов, висело огромное полотнище мрачных туч, из которого вот-вот хлынет ливень. Хорошо, что посланник прислал карету. Будем надеяться, что его щедрость не изменит ему и после визита и Есениуса проводят в карете домой… Однако возможно, что вежливость господина существенно отличается от вежливости лакея.
Когда он прибыл в великолепный дворец на Малой Стране, посланник испанского короля Сан Клементе сидел в просторном кресле и читал. Хотя на улице было светло, тяжелые красные бархатные занавески на больших окнах были закрыты и в комнате горели свечи.
Увидев Есениуса, Сан Клементе встал и шагнул ему навстречу. Он немного припадал на правую ногу, лицо его болезненно морщилось, но посланник силился скрыть боль приветливой улыбкой. Казалось, он стыдился своей слабости.
— Добро пожаловать, доктор, разрешите приветствовать вас, — начал испанец, предлагая гостю кресло, и продолжал: — Подагра замучила меня… В левом колене как будто что-то дергает.
— В левом колене? — удивился Есениус, потому что он сразу заметил, что посланник хромает на правую ногу.
— Да, да, в левом колене, — подтвердил Сан Клементе и громко застонал, когда Есениус коснулся колена, чтобы убедиться, не опухло ли оно.
Заболевания доктор не обнаружил, но слова больного насторожили его. Он прописал мазь, а на ночь мешочек с теплой золой.
— Весьма полезно для вашей милости отправиться в Карловы Вары. Тамошние источники благотворно действуют на подагру. Супруга вице-канцлера Михаловица, проведя там месяц, вернулась в превосходном состоянии здоровья.
Сан Клементе поблагодарил Есениуса за совет и пригласил его немного подкрепиться.
Это было настоящее пиршество: великолепное холодное мясо, сочные апельсины и инжир, гроздья винограда, гора сладкого печенья и несколько бутылок наилучшего испанского вина.
Есениусу пришлось по вкусу все, но его тревожило, чего же от него хочет посланник.
Скоро он это узнал.
Сан Клементе заговорил о состоянии здоровья его императорской милости. Это было вполне естественно при встрече представителя иностранного государя с личным врачом монарха.
Он спросил, не думает ли Есениус, что для здоровья императора было бы полезней, если бы он отрекся от обязанностей своего сана в пользу наследника.
Есениус ответил осторожно, что его мнение не может приниматься в расчет и что целесообразнее было бы спросить об этом политических деятелей: например, верховного канцлера.
Сан Клементе объяснил этот уклончивый ответ по-своему.
— Милый доктор, вы не учитываете своего влияния, если думаете, что ваше слово ничего не значит для его императорского величества, — сказал он любезно и снова поднял бокал с пенистым вином.
Когда они выпили, посланник продолжал:
— Не знаю, думали ли вы о возможном наследнике императора. Для протестантов желателен эрцгерцог Матиаш. Думаю, что и вы такого же мнения. Но я бы желал обратить ваше внимание на другую особу…
Сан Клементе выжидающе помолчал, но Есениус догадался, кого он имеет в виду. Драматическая пауза, которая должна была увеличить напряжение, не достигла результата… Среди придворных было давно уже известно, что трон Рудольфа хотел бы получить испанский король Филипп III для своего шурина, эрцгерцога Альбрехта, младшего брата Рудольфа. Супружество Альбрехта с сестрой Филиппа, Изабеллой, не было благословенно детьми, и Филипп надеялся, что империя Рудольфа после смерти Альбрехта будет присоединена к испанской короне. Это был неплохой расчет. И испанская политика при дворе императора имела могущественных приверженцев. Главная заслуга в этом принадлежала Сан Клементе и его неисчерпаемому кошельку. И Есениуса не очень удивило, когда Сан Клементе произнес имя Альбрехта.
— Если протестантские сословия беспокоятся о свободе своей веры, могу уверить вас, что эрцгерцог Альбрехт охотно дал бы им такую же гарантию, какую они надеются получить от эрцгерцога Матиаша. А мой государь и повелитель испанский король пошел бы в своем великодушии еще дальше и не оставил бы своей щедростью людей, которые бы каким-нибудь образом помогли его шурину стать преемником Рудольфа.
«Так вот в чем дело!» — улыбнулся про себя Есениус.
Сан Клементе ждал его ответа.
— Высокая политика не относится к области моих непосредственных интересов, — ответил Есениус вежливо, но твердо. — Мое положение при императорском дворе, хотя я и очень ценю его, не дает мне возможности влиять на развитие политических отношений.
— Мы не требуем от вас ничего невозможного. Достаточно в удобную минуту замолвить его императорскому величеству словечко за эрцгерцога Альбрехта. Или, если этот способ не устраивает вас, вы могли бы придумать что-нибудь другое: обратить внимание чешских протестантских сословий на Альбрехта, чтобы потом они, чешские сословия, предложили его кандидатуру императору. Как я уже сказал, король не оставит вас своей милостью.
Подобное предложение Есениуса ни к чему не обязывало. Но он отказался.
— Пусть ваша милость не прогневается на меня, но я должен ответить решительным «нет». Пока я на службе у его императорской милости, я считал бы несовместимым со своим положением и со своей честью принимать участие в чем-либо, что было бы направлено против его императорского величества или что император мог бы рассматривать как таковое.
Голос Есениуса был тверд, в нем звучала неколебимая решимость.
Сан Клементе сделал последнюю попытку:
— Я думаю, было бы лучше, если бы вы не спешили с ответом. Вы не обязаны решать немедленно…
— Я уже решил и останусь при своем решении.
Посланник еще раз выпил за здоровье Есениуса и с подлинным дипломатическим искусством постарался скрыть разочарование.
Есениус вежливо откланялся.
На другой день секретарь посольства принес ему в черном футляре прекрасный кинжал с рукоятью искусной работы. Это было подлинное произведение искусства. Гонорар за его докторский визит. Но можно было считать это и даром внимательного хозяина. Дар, который должен был напомнить ему, что предложение посланника остается в силе.
Есениус хорошо понял жест Сан Клементе. Он улыбнулся и положил кинжал в ящик письменного стола.
СИЛА СОМНЕНИЙ
Много дней и ночей размышлял Есениус о визите к испанскому посланнику. Существовала ли связь между этим событием и тем, что он слышал в доме вице-канцлера Михаловица? Было ли случайностью, что оба события произошли почти в одно время, или испанский посланник узнал, что протестантские круги пытаются использовать личного врача императора для своих политических целей? Но ведь Есениус скорее только подозревал, что Будовец, Михаловиц и другие заинтересованы в том, чтобы он употребил свое влияние на императора для успешного осуществления их планов.
Есениуса радовал, но в то же время и беспокоил такой интерес к его особе. Это был результат его возросшего влияния при императорском дворе.
Действительно, со времени смерти Гваринониуса работы у него прибавилось. Число личных врачей императора, конечно, не уменьшилось, потому что место Гваринониуса занял Матей Руланд, но главная часть забот об императорском здоровье выпала на долю Есениуса. Если при жизни Гваринониуса Есениус иногда неделями не видел императора, теперь он встречался с ним почти каждый день. Рудольф привязался к доктору, который, кроме медицины, был хорошо знаком с искусством, немного занимался астрологией и проявлял интерес даже к алхимии, хотя и не слишком доверял ей. Когда император предложил ему исполнять обязанности покойного Тадеаша Гайека из Гайека и испытывать всех алхимиков, которые пытались предложить свои услуги при императорском дворе, Есениус очень вежливо, но решительно отказался и объяснил это тем, что недостаточно знаком с алхимией. Алхимия занимала его только из-за ее огромных, еще не использованных возможностей, которые открывались подлинным исследователям при соединении и разложении различных элементов. Сколько опытов видел Есениус собственными глазами в лабораториях известных мастеров-алхимиков, а порой производил и сам. Если бы кто-нибудь дал себе труд и испытал все особенности элементов, которые светились в тиглях над пламенем алхимических печей, кипели, выпаривались, слагались в пестрые кристаллики и чудесно меняли цвет! А самые искусные из этих мастеров нагоняли на зрителей страх, смешивая красную и синюю жидкости и получая в результате жидкость чистую и прозрачную, точно вода горного потока.
Но все эти опыты сами по себе никого не интересовали. Они не были целью, но только средством отыскать таинственный «философский камень» и «эликсир жизни», обладавшие якобы чудесным свойством превращать металлы в золото и сохранять вечную молодость.
Спокойное течение жизни доктора было нарушено незначительным, на первый взгляд, событием.
Вавринец часто помогал пани Марии. Его считали уже членом семьи. Он чувствовал доверие к Есениусу и обращался к нему со всеми своими трудностями и сомнениями. Были это большей частью мелочи. Есениус усмехался, но помогал юному студенту.
От своих товарищей Вавринец отличался большей серьезностью и великой страстью к чтению. Потому он так любил ходить к Есениусу.
Доктор давал ему книги из своей библиотеки, которые, он полагал, могут заинтересовать студента.
В остальном юноша был таким же, как его товарищи, и участвовал во всех студенческих проделках и проказах. Однажды студенты решили убедиться, на самом ли деле у раввина Льва имеется Голем. Ходили слухи, что Голем лежит по субботам на чердаке синагоги. И вот несколько студентов забрались в Еврейское предместье и по переносной лестнице поднялись на чердак синагоги. Только Голема они там не нашли… Разочарованные студенты забыли о предосторожности и, предполагая, что синагога пуста, стали переговариваться вполголоса. Словом, когда они сходили с чердака, их услышал шамес, храмовой слуга. Он поднял шум, и через минуту перед синагогой собралась целая толпа разбуженных жителей предместья. Они требовали смерти святотатцам. Кричали, что студенты хотели украсть предметы культа. Только благодаря рассудительности раввина Льва толпа постепенно успокоилась и отказалась от решения казнить святотатцев на месте. Это было бы чревато последствиями для всей религиозной общины, послужив сигналом к осуществлению императорского положения о насильственном выселении евреев из Праги и из всего чешского королевства. Злоумышленников только задержали, и раввин заверил всех, что на следующий день они будут переданы староместскому рихтару, который их и накажет.
А молодые люди и не подозревали о том, что им угрожало. К счастью, слухи о нападении на синагогу распространились по городу, и уже утром об этом знал Бахачек.
Ректор считал своим долгом выручить студентов. Ведь только он был вправе наказывать их. Но раввин, хотя он лично был знаком с Бахачеком, не уступал, считая вину студентов слишком серьезной. Наконец вмешался Есениус. А его раввин не мог не послушать. С тяжелым сердцем он выдал студентов, потребовав с ректора обещания, что их строго накажут.
Итак, Вавринца и его товарищей ждало самое строгое наказание в университете: заключение в орнитобоске, в курятнике.
За девушками Вавринец ухаживал так же, как и его товарищи. Он улыбался им, таскал их за косы и, только когда встречался с русоволосой высокой Зузанкой Залужанской, терял уверенность, краснел и не знал, куда девать руки, которые сразу начинали ему мешать.
Товарищи смеялись над ним, но Есениус не касался этого тайного уголка в его сердце. Доктору нравилось, что именно Зузанка пробудила в сердце Вавринца нежные чувства.
Как-то раз Вавринец явился очень озабоченный.
Есениус писал, и юноша не решался обратиться к нему. Наконец доктор отложил гусиное перо, посыпал бумагу песком и сказал:
— Что случилось, Ваврик? Что тебя мучает?
Вавринец доверчиво взглянул на Есениуса:
— А вы не прогневаетесь на меня, если буду говорить о… профессоре Бахачеке?
Есениус от удивления даже присвистнул:
— О профессоре Бахачеке?
Вавринец покраснел:
— Вы не выдадите меня, если я вам скажу? Если спрошу вас кое о чем?
— Говори, Ваврик, доверие за доверие.
— Правда ли то, что читает нам профессор Бахачек на лекциях по космографии?
Есениус знал, что Бахачек преподает космографию по книге Себастиана Мюнстера, так как более пятидесяти лет назад это всемирно известное учебное пособие перевели на чешский язык. Но что и как преподавал Бахачек, этого доктор не знал.
— Почему ты это спрашиваешь, Ваврик? Откуда ты взял, что профессор Бахачек говорит неправду?
Вавринец опять покраснел и ответил запинаясь:
— Не то чтобы профессор Бахачек говорил неправду… Я не так хотел сказать. Он ведь нам только читает «Космографию» Мюнстера. Но разве правда все, что пишется в этой «Космографии»?
Вопрос был задан и требовал ответа. Правда, Есениус еще никогда не задумывался о правильности «Космографии» Мюнстера. Если говорить откровенно, он только перелистал эту огромную, в две тысячи страниц, книгу. Но речь шла о добром имени профессора Бахачека, и доктор уклонился от прямого ответа, спросив Вавринца, что вызвало у него сомнения.
— Правда ли, что в стране короля Иоанна живут огромные чудовища с одним глазом посреди лба?
— А еще что, Ваврик?
— Или что в иных местах живут люди, у которых такая длинная нижняя губа, что, когда они спят, они прикрывают ею лицо. И что есть там и люди без голов, с глазами на плечах и ртом на груди. Верно ли, что на острове Доден живут люди с одной ногой, которая велика, точно лопата, и что на этой одной ноге они передвигаются так быстро, что и конь не догонит их?
— В мире есть еще много неоткрытого, Ваврик. И немало есть неисследованных стран. Рассказы о чудесах, подобных тем, о которых пишет Мюнстер, в самом деле удивительны и маловероятны. Но разве могу я утверждать, что это неправда, если я там не был?
Вавринца ответ Есениуса не удовлетворил.
— Но многие люди побывали в тех краях. Пан Криштоф Гарант был в Святой земле и в Египте. И Мартин Кабатник там был — и они не видели ничего такого, о чем пишет Мюнстер. Был сам Мюнстер в тех краях, о которых пишет?
Есениус не мог прийти в себя от удивления. Этот шестнадцатилетний студент рассуждает о вещах, о которых даже он, Есениус, еще серьезно не задумывался!
— Мюнстер составил свою «Космографию» по описанию путешествия Мандевилла и по свидетельствам других писателей и путешественников.
— А Мандевилл там был?
Вавринец не отставал, туманный ответ Есениуса его не устраивал. А дать более точный и ясный ответ доктор не мог, потому что он и сам не разрешил еще этого вопроса.
— Я думаю, что лучше всего, Ваврик, если ты прочтешь книги путешественников, которые сами побывали в странах, описанных ими… Я имею в виду «Миллион»[35] венецианского путешественника Марко Поло, записки о плавании Христофора Колумба, о Эрнандо Кортесе и другие подобные сочинения.
— Если бы я мог прочесть эти книги! — с тоской сказал Вавринец.
— Я помогу тебе. Скоро я пошлю в Виттенберг рукопись своего последнего произведения и напишу издателю, чтобы он послал мне новые описания путешествий, ладно?
Вавринец ушел, но Есениус уже не мог сосредоточиться на работе. Вопросы студента все больше и больше беспокоили его. Сомнения, которые мучили студента, охватили и его.
«Правильно ли, — думал доктор, — что мы принимаем на веру все, что нам оставили предшественники? Что мы не стараемся обогатить эту сумму познаний собственными исследованиями? Правильно ли, что мы верим в существование безголовых или одноглазых людей? Что допускаем существование деревьев, плоды которых скрывают в своей сердцевине животных? Слабость это или привычка, из которой должна вырвать нас сила сомнения?»
Нет, нет, сомнения совсем не плохая вещь. Ведь Есениус и сам при вскрытии обратил внимание на бессмысленность утверждения о том, что мужчины имеют на одно ребро меньше, чем женщины.
И сколько у него было еще случаев убедиться, что личные наблюдения часто противоречат тому, что утверждали древние и что все его современники считали законом. Правда, пока что его размышления касались лишь медицины. О космографии он не думал. Это дело Бахачека.
Бахачек — умнейший профессор Пражского университета. В астрономии он почти равен Кеплеру. Он приверженец гелиоцентрической системы Коперника и не верит, что кометы возникают из испарений Земли и предсказывают войны и несчастья. Тут Бахачек открыто противопоставил свое мнение мнению всех прочих ученых. Потому что к этому он пришел благодаря собственным исследованиям. Но что касается космографии, то неужели он верит в существование чудес, о которых пишет Мюнстер? Есениус был убежден, что Бахачек не слишком доверяет Мюнстеру, но, к сожалению, ничего не может ему противопоставить. Более пятидесяти лет Мюнстер — альфа и омега космографии. Никто его еще не опроверг. А путешественники последних десятилетий Описали лишь небольшую часть света, и нельзя, опираясь на эти труды, составить новую космографию.
Под вечер доктор собрался к Бахачеку в Главную коллегию. Бахачек был дома, он как раз переписывал оду, сочиненную по случаю свадьбы богатого пражского горожанина.
— Добро пожаловать! — обрадовался профессор.
Он предложил гостю стул и принес из кладовой бутылку вина.
После небольшого вступления Есениус рассказал Бахачеку 0 беседе с Вавринцем, не называя его имени, и спросил Бахачека, что бы он ответил студенту.
— С той поры, как Колумб открыл новый свет и Магеллан объехал вокруг Земли, человечество добыло немало новых сведений. Из свидетельств этих путешественников мы узнали, что в мире есть множество вещей малопонятных и достойных удивления. Почему же и не существовать таким, о которых говорит Мандевилла или пишет Мюнстер в своей «Космографии»?
— То же самое думал и я, — сказал Есениус. — Но, когда я вспомнил, что читал в этих новых описаниях путешествий и что слышал от самих путешественников, я ничего не мог припомнить о людях, тело которых устроено иначе, чем наше. Люди отличаются лишь цветом кожи, ростом и строением лица. Что касается животных, то я допускаю, что на свете есть много таких, о которых мы и не помышляем. Например, в императорском зверинце имеются страусы. Если бы мы их не видели собственными глазами, мы не поверили бы, что такие могут существовать. Или, например, чучело крокодила в императорских коллекциях…
Бахачек хмуро глядел на своего друга. Он признавал, что, по существу, тот прав, но…
— Если к каждому научному произведению мы будем подходить с сомнением, не расшатаем ли мы столпы, на которых зиждется все человеческое знание? Мы лишимся тогда самой крепкой своей опоры. Чего же мы, в таком случае, достигнем?
— Мы приблизимся к правде, — задумчиво ответил Есениус.
Бахачек быстро встал и принялся ходить по комнате. Разговор с Есениусом так его взволновал, что он не мог усидеть на месте.
— Я мог бы вам на это ответить вопросом: что такое истина? Что это, постоянная, неизменная величина? Нет. Каждая эпоха признает свою истину. Древние исповедовали науку Птоломея, Гиппократа, Галена. Сегодня мы исповедуем учение Коперника, Везалиуса, да и многих других, потому что они представляют научные истины нашего века. Разве мы знаем, за какую правду будут биться поколения, которые придут после нас?
Бахачек остановился перед Есениусом и посмотрел на него в упор.
Но Есениус отвечал ему немного насмешливо:
— Наука минувших времен теперь многих уже не удовлетворяет. Например, студента, о котором я вам говорил. Он уже полон сомнений. И его сомнение — это творческая сила, которая должна перейти и к нам.
— Так что же я должен делать? — взволнованно воскликнул Бахачек.
— Я думаю, так, как мы комментируем Гиппократа, Галена, Разеса и Авиценну в медицине, Аристотеля — в философии, именно так мы должны поступать, преподавая и другие науки. Растет новое поколение, которое не удовлетворяется тем, что удовлетворяло нас.
— Значит, мы должны капитулировать перед неуважением молодых к вечным истинам?
— Я бы не называл это неуважением, но силой сомнения. Не будем закрывать глаза на эту бунтующую силу, потому что и нам она может принести немало пользы.
— А авторитет университета? Уважение студентов к профессорам?
Есениус посмотрел на Бахачека и медленно ответил:
— Авторитет университета тем больше, чем больше нового он вкладывает в головы своих студентов. И тут не прогневайтесь на меня за искренность — наш университет в настоящее время не на первом месте. Что же до уважения студентов к профессорам, то оно пропорционально знаниям, которые они получают от них. Мы же не каменные идолы, а люди, которым не чужды чувства и мысли наших студентов. И не будем открещиваться от сомнений, которые мучают наших учеников. Подумайте об этом. И поверьте мне, это совсем не повредит университету.
Зимний вечер.
От окон дует, и Есениус придвинул стул к камельку. Дрожащее пламя в закопченном очаге не в силах согреть всю комнату. Стены дышат холодом.
На столе Есениуса — славные творения Андреаса Везалиуса, личного врача императора Карла V и испанского короля Филиппа II: «Семь книг о строении человеческого тела». Он перелистывает страницы, и взгляд его останавливается на рисунках Калькаро, ученика великого венецианского живописца Тициана. До сих пор еще никто не изображал человеческое тело так наглядно и точно. Для создания этого произведения объединились два мастера: искуснейший хирург и прекрасный художник. Везалиус анатомировал, а Калькаро рисовал. А врачи, глядя потом на рисунки Калькаро, не верили собственным глазам: ведь эти рисунки опровергали древние авторитеты! Например: человеческая печень изображалась состоящей только из двух долей, а не из пяти, как учил Гален. И это не было ошибкой художника. Рисунки Калькаро лишь подтверждали то, о чем писал Везалиус. Свыше двухсот ошибок в учении Гиппократа и Галена. Да ведь это богохульство, безбожие — низвергать старые идолы! Молодое поколение восхищалось Везалиусом, боготворило его, но старые ученые призывали на его голову все громы и молнии. Что же удивительного, если известный профессор Сорбонны, учитель Везалиуса Жак Дюбуа, назвал его сумасшедшим.
Открытая книга лежит перед Есениусом, но его взгляд оторвался от рисунков и блуждает по стене, на которой играют отблески света и причудливые тени от горящей свечи.
Есениус размышляет о Везалиусе. Нужно вновь издать его «Исследование анатомических взглядов Филлапио». Для студентов-медиков это произведение Везалиуса служит отличным учебным пособием. Но книга давно уже распродана, и ее нигде не достанешь. Да, нужно снова издать ее и дополнить описанием жизни Везалиуса. Великий анатом заслужил это. И Есениус выполнит свой долг.
Он пишет жизнеописание Андреаса Везалиуса. Его детские годы, проведенные в Брюсселе, затем годы учения в Париже, Лувене и Падуе, где двадцатилетний доктор Веэалиус стал профессором хирургии и анатомии. И всю свою жизнь Везалиус занимался лишь одними вскрытиями. Сначала вскрывал мышей, лягушек, кошек и собак, которых боялись брюссельские мальчишки и которых Андреас относил домой, а там разрезал и анатомировал. Его круглые черные глаза блестели от волнения. А отец Андреаса, доктор Везалиус, после безуспешной попытки запретить ему его забавы примирился наконец с пристрастием сына и решил, что тот будет врачом. В Париже, Лувене и особенно в Падуе Андреас дружил с палачами и использовал эту дружбу для греховных дел: он доставал у них тела преступников, а потом дома, в своей студенческой каморке, анатомировал их. Мало того: он крал человеческие трупы с виселицы либо выкапывал их на кладбище. И, застань Везалиуса за таким делом местные власти, его собственное тело закачалось бы на виселице.
Есениус очень живо представляет себе, что чувствовал при этом Везалиус, — ведь и ему, Есениусу, тоже приходилось тайком добывать трупы.
И сколько общего в дальнейшей судьбе Везалиуса с его судьбой! Андреас был личным врачом императора и короля, так же как и Есениус. Общее есть и в их научной работе, хотя содержание и сущность произведений Везалиуса значительнее. И их произведения пользовались одинаковой славой.
Зато страшный конец Везалиуса невольно удручает Есениуса. Если доктор завидует славе великого анатома, то не завидует последним годам его жизни.
Однажды Везалиус вскрывал тело какого-то дворянина с согласия и в присутствии его родственников. Когда же вынул сердце и показал его собравшимся зрителям, сердце внезапно сократилось.
Везалиуса обвинили в убийстве. Говорили, что дворянин был еще жив и что это Везалиус убил его.
Напрасно доказывал анатом, что дворянин был уже мертв, что он не ожил бы, даже если б его сердце не тронули.
Лишь по милости короля смертную казнь заменили Везалиусу другой карой: он должен был отправиться в Святую землю и там покаяться в своем грехе.
Везалиус покорился приговору, надел власяницу, взял посох пилигрима и, как последний из последних, отправился в далекий путь, из которого уже не вернулся. Он умер на острове Занте.
Так окончилась богатая, плодотворная и мученическая жизнь Андреаса Везалиуса…
Есениусу за эти недели стал так близок его великий предшественник, что он неотрывно думал о нем. Судьба Везалиуса запала ему в сердце. И доктор решил поведать миру о жизни великого ученого.
Но, едва написал он несколько страниц, кто-то громко, нетерпеливо застучал в окно.
— Кто там? — крикнул Есениус, не вставая. «Кого так поздно черти несут?» — подумал он про себя.
— Это я, Кеплер. Откройте, Иоганн!
Кеплер вошел задыхаясь.
— Я нашел, Иоганн! — воскликнул он еще в дверях. — Наконец-то мне удалось!
Есениус недоумевающе уставился на придворного математика.
Но Кеплер, не обращая внимания на удивление друга, вошел в комнату, сел и, взглянув на него проясненным взглядом, повторил взволнованно:
— Наконец-то мне удалось! Вы представить себе не можете, как я счастлив!
— Что удалось вам, Иоганн?
Кеплер только теперь понял, что Есениус не знает о причине его радости.
— Мне удалось найти доказательство, подтверждающее теорию Коперника и уточняющее ее!
Волнение друга передалось и Есениусу. Он знал, что Кеплер старался найти это недостающее доказательство с самой смерти Тихо Браге. Семь лет искал он его! Какое это, должно быть, прекрасное чувство, когда после стольких лет напряженного труда и блужданий впотьмах человек достигает цели!
— Рассказывайте! Да говорите же! Я в нетерпении.
— По существу, это так просто, что сначала я не хотел даже верить в истинность своего открытия. Планеты движутся по эллипсам, причем в одном из фокусов эллипса находится Солнце.
Он ждал результата своих слов. Он уже понимал их неизмеримое значение. Поймет ли его Есениус?
Есениус понял.
В первую минуту он даже онемел от изумления, потом произнес не переводя дыхания:
— По эллипсам? Значит, не по окружностям, как полагал Коперник?
— Да, по эллипсам, подобным несколько вытянутым окружностям. Таким образом, бесполезными оказываются все сложные расчеты эпициклов и деферентов, которые до сих пор затрудняли нашу работу. Я встретился еще с одним очень важным положением. Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее ее движение. То есть радиус-вектор каждой из планет в равные времена описывает равные плоскости. Следовательно, этими двумя положениями вполне решается проблема гелиоцентрической системы Коперника.
Кеплер стал серьезным. Великая задача, которую он взял на себя, еще не вполне разрешена.
— Мне недостает еще одного. Требуется уточнить скорости, с которыми планеты вращаются вокруг Солнца, открыть закономерность между орбитами отдельных планет. Но я верю, что и это мне удастся. Теперь мне будет легче работать…
Есениус быстро встал и движением руки остановил Кеплера:
— Простите, Иоганн, что я прерываю вас. Но то, что вы говорите, так прекрасно, что я должен разбудить Марию.
Кеплер хотел удержать его, но Есениус был уже в другой комнате.
Он вернулся через минуту.
— Сейчас она придет, только оденется.
— Жалко нарушать ее сон, — смущенно сказал Кеплер.
Есениус опять жестом остановил его:
— Она не простила бы мне, если бы утром узнала, что вы были тут и объявили мне о своем открытии, а ее при этом не было.
Мария пришла румяная от первого сна. А улыбка ее была полна теплоты и участия.
— Я очень, очень рада, что с этой великой новостью вы прежде всего пришли к нам. Вы даже не знаете, как мы ценим такое доверие,
— Я боялся, что вы рассердитесь, ведь такой поздний час… но я не мог усидеть дома. Если бы вы знали, что я чувствую! Я взволнован куда больше, Иоганн, чем когда мы впервые смотрели в телескоп на Луну. Как бы это сказать… я думаю, что это открытие огромной важности. Больше всего меня занимал Марс. Иоганн знает, каким трудным для астрономов был расчет пути этой планеты. При предположении, что путь Марса окружность, мы должны были использовать вспомогательные величины, при помощи которых мы старались объяснить разницу между теоретическими расчетами и практическими наблюдениями, которые противоречили друг другу. При эллипсоидной орбите расчеты полностью совпадают с практическим наблюдением. Это так просто и притом так величественно!
Его слушали с восхищением. Есениус по достоинству мог оценить открытие Кеплера. Он чувствовал удовлетворение, что многолетняя работа Кеплера увенчалась успехом, но вместе с тем в нем заговорило и другое чувство, чувство жалости к самому себе — ведь ему до сих пор не удалось сделать ничего столь же великого. В чем причина? В том, что он не нашел еще правильной дороги?
Мария не могла постигнуть всего величия открытия Кеплера. Она не знала, что от темных древних эпох, когда человек впервые осмелился полными любопытства глазами взглянуть на тайны Вселенной и попытаться разгадать ее сложную механику, этот черноволосый слабогрудый человек с бледным лицом первый высказал мысль, которая не приходила в голову еще никому. Она не чувствовала холодящего величия минуты, в которую они двое — Иоганн и она — стали участниками огромной радости Кеплера. Она еще не понимала, что их друг своими двумя положениями вывел астрономию из хаоса ложных теорий и открыл перед ней ясную дорогу. Но тем не менее Мария искренне радовалась, что Кеплер именно с ними пришел поделиться своей удачей.
Долго продолжался этот дружеский разговор, главное слово в котором принадлежало Кеплеру. До поздней ночи он развивал перед ними свои мечты о последствиях своего открытия. Наконец Кеплер заметил, как уже поздно, и торопливо простился.
— Я должен был бы зайти еще к Бахачеку, — сказал он уходя. — Я уже представляю, как широко откроет он глаза и как будет радостно хлопать себя по бокам. Но очень поздно. Я пойду к нему утром. Доброй ночи.
— Доброй ночи, Иоганн. Пусть снятся вам после этого великого дня приятные сны, — сказал Есениус, пожимая ему руку.
— Желаю вам еще много таких успехов, — взволнованно проговорила Мария.
Они стояли у ворот, пока он не свернул за угол.
— Счастливый человек! — прошептала Мария. — Теперь ты видишь, Иоганн, что у Кеплера есть ясная цель?
Он не ответил. Только сжал ее руку.
Весной Есениус и Мария переехали в новый дом. Исполнилось желание пани Марии. Отныне их жилье было светлым и красивым, а из окон открывался вид на башни и шпили Старого Места и на зеленые королевские сады.
Теперь она могла принимать гостей. И как же она ждала их прихода в своей новой квартире! Всю неделю перед великим днем она очень волновалась. Ведь обещал быть вице-канцлер с супругой! Кроме них, были приглашены Кеплеры, Залужанские и все профессора университета с ректором Бахачеком во главе.
В воскресенье, после богослужения, прежде всех пришли к Есениусу профессора. Девять человек в магистерском платье привлекли внимание на улице. Впереди важно шествовал тучный ректор Бахачек, по левую его руку высокий и стройный декан Кампанус, оба в пурпурных мантиях. За ними — остальные профессора в темно-голубых или черных мантиях, все с красными беретами на головах. Магистр Троилус Гагиохоранус, который читал «Этику» Аристотеля, шел, углубленный в разговор с магистром Вавринцем Бенедикти, словаком из Недожар в Венгрии. За ними шел профессор Альбертус из Каменка, великий знаток и любитель древнееврейского языка, магистр Скала, вдохновенно преподававший чешскую историю, магистр Пэониус, который читал «Политику» Аристотеля, профессор Вратиславский, комментатор Цицерона, и, наконец, Матей из Судет, профессор права.
Едва пани Мария успела встретить их, как пришли Залужанские, и тут же под окнами загремела карета Михаловица.
Последними прибыли Кеплеры; они жили дальше всех.
Наконец гости разместились и можно было подавать обед.
Пани Мария не ударила лицом в грязь. И, если обед не был таким богатым, как ужин у Михаловицев, зато все было так вкусно приготовлено, что гости хвалили от чистого сердца.
На этот раз с торжественной одой явился Бахачек. Темой его оды было имя хозяина: Есениус — Ясень. В оде Бахачек желал, чтобы жизнь в новом доме росла и зеленела, как зеленеет растущий на доброй почве ясень.
После обеда, когда мясные и пряные блюда были запиты хорошим глотком вина, развязались языки и у остальных гостей. Но, хотя за столом находилось девять профессоров, разговор коснулся не университета, а политики. Ведь Чехия напоминала в то время закрытый котел с кипящей водой. Содержимое его бурлит, клокочет: котел под давлением пара начинает дрожать, и никому не известно, как долго он сможет выдержать. Выпустить пар, перестать подкладывать огонь — или же предоставить котел его судьбе, пусть себе разорвется.
Император очень постарел, и его здоровье настолько ухудшилось, что временами он бывает невменяем.
Он не занимался государственными делами, не участвовал более в заседаниях Тайного совета и не допускал к себе врачей. Все время он проводил среди своих коллекций или в лабораториях алхимиков. Месяцы проходили, прежде чем он подписывал какую-нибудь государственную бумагу, и неудивительно, что положение в стране весьма усложнилось. Все больше росло недовольство правлением Рудольфа.
Наконец против императора взбунтовался и его родной брат эрцгерцог Матиаш.
— Правда ли, что эрцгерцог Матиаш идет на Чехию с двадцатью тысячами войска? — спросил вице-канцлера Залужанский — ведь Михаловиц должен был знать больше, чем они.
— К сожалению, это так, — серьезно ответил Михаловиц, и по его голосу чувствовалось, каким важным он полагал это событие.
— На чьей же стороне будем мы: императора или Матиаша?
Этот вопрос задал Бахачек. Он имел в виду университет и чешских протестантов, потому что университет был тесно связан с протестантскими сословиями.
Михаловиц ответил:
— Наши сословия теперь точно между мельничными жерновами. С одной стороны, пан Жеротин сулит нам от имени Матиаша золотые горы, только бы мы нарушили присягу императору и перешли на сторону Матиаша. С другой стороны, император теперь, когда он в затруднительном положении, будет уступчивее и обеспечит нам религиозные свободы. Правда, если верховный канцлер и испанская партия не отговорят его. Увидим, на чем порешит сейм.
— Для чего эти околичности? — горячо воскликнул Бахачек. — Нам бы надо последовать примеру мораван и присоединиться к Матиашу. Что вы на это скажете? — обратился он к остальным гостям.
Но все молча ожидали ответа пана вице-канцлера.
— Трудно трясти сливовое дерево, пока плоды не созрели, — отозвался Михаловиц. — И в подобных делах нельзя принимать опрометчивое решение. То, что сделали венгры, австрийцы и мораване, — бунт против государя. Для чего нам становиться на противозаконный путь, когда всего можно достигнуть и законно?
— Вы думаете, Рудольф согласится? — опять спросил Залужанский.
— Обстоятельства принудят его выбрать какой-нибудь один путь: против Матиаша или против сословий. Я думаю, что уступить чешским протестантским сословиям будет для него меньшим злом, чем уступить Матиашу, ибо с одной стороны — свобода веры, с другой — потеря земель. Но еще неизвестно, сочтет ли партия Лобковица потерю некоторых земель меньшим злом, чем уступки протестантам. А канцлер в данном случае использует все свое влияние на императора.
— На императора должен повлиять и кто-нибудь из наших, — выпалил Бахачек.
— Но кто? Ведь все важнейшие должности в руках католиков, нам трудно даже попасть на прием к императору. Если бы Кеплер помог нам…
— Я политикой не занимаюсь. Меня интересуют лишь небесные явления, — защищался Кеплер.
Вмешался Залужанский:
— Да, от Кеплера большой пользы не будет. А может быть, помог бы доктор Есениус?
— Откровенно говоря, занятия врача да еще научная работа отнимают мое время настолько, что я не в силах заниматься еще и политическими делами. И потом, мне кажется, несовместимым с моей честью участвовать в чем-нибудь, направленном против императора.
Михаловиц постарался рассеять его сомнения:
— Ни о чем подобном никто и не помышляет. Нам хотелось бы только, чтобы кто-нибудь преданный нам и находящийся вблизи императора помог бы нам предъявить наши требования. У меня довольно значительный пост, но доступ к императору для меня не свободен. А если бы вы, доктор, замолвили словечко Рудольфу, вы много сделали бы для нас. Я не требую от вас ничего, что бы противоречило вашей верности государю… Так как же, можем мы рассчитывать на вашу помощь?
Есениус ответил не сразу. Это предложение отличалось от предложения испанского посланника. На этот раз речь шла о деле, близком ему. Здесь, в этом королевстве, в этом прекрасном городе, он не чувствовал себя чужестранцем. Возможно, Михаловиц прав: он должен сделать то немногое, чего требуют от него. Ведь это ничуть не противоречит его совести.
Он встретился взглядом с Марией. Она кивнула.
Тогда Есениус ответил вице-канцлеру:
— Я считаю ваше дело своим. Будет у меня возможность что-нибудь сделать для вас, я сделаю это охотно. Но я не могу обещать вам ничего определенного.
В рабочем кабинете императора с утра было шумно. Секретарь императора Ганневальд и тайные советники убеждали своего господина не ожидать Матиаша, а заблаговременно покинуть Прагу и ехать в Германию. Немцы останутся ему верны, они не оставят своего императора.
— Дорог каждый час, ваше императорское величество. Если вы будете долго размышлять, вы попадете в руки вашего надменного брата эрцгерцога Матиаша и…
В многозначительном молчании, которое следовало за этим «и», император как будто видел свою дальнейшую судьбу: Матиаш с огромным войском на подступах к столице, осада Праги, кровопролитие на улицах, взятие Града, пленение императора и заключение в каком-нибудь заброшенном замке… Бррр… Даже подумать страшно! И еще страшнее, что Матиаш способен на это. С юных лет в нем кипит неукротимое тщеславие, которое ничто не в силах сдержать. Имей Рудольф деньги, он выставил бы против Матиаша порядочную армию! Но казна опять пуста.
С тяжелым сердцем отдал он триста тысяч золотых из своего кармана. Но разве это отвратит грозящую опасность? На эти деньги можно завербовать самое большее тысяч пять-шесть наемников. А у Матиаша их больше двадцати тысяч.
Пожалуй, правы советники: лучше уехать. И уехать скорее. Дорог каждый час. Но…
— Что же будет с нашими коллекциями?
— Жизнь вашего императорского величества важнее всех коллекций. Самое ценное погрузим на возы и отвезем, куда только вы прикажете. Мы можем снарядить пятьдесят, сто или двести возов…
Советники нетерпеливы. У них земля горит под ногами, они ряды быть уже где-нибудь за границами государства, где не нужно бояться дикого Матиаша. На императора нельзя положиться; Напрасно обещал он уехать из Праги, нет нужды, что он теперь как будто решился, — через минуту он может переменить решение. Да смилуется над нами бог!
Нужно как можно скорее вынудить императора отдать приказания готовиться в путь.
Но император размышляет. Хотя он уже согласился уехать, покинуть Прагу, он еще не решается скрепить свое согласие приказом. Снова в нем заговорил демон сомнения. А вдруг Матиаша можно остановить какими-нибудь обещаниями? Или же случится что-нибудь непредвиденное, что разрушит замыслы его коварного брата? Пути провидения неисповедимы. Ох, если бы можно было как-нибудь повлиять на это провидение! Будь жив Тихо Браге, он наверняка дал бы ему хороший совет. Он бы прочитал в звездной книге, чем закончится авантюра Матиаша. Возможно, он подсказал бы, как победить его, взять в плен…
И император ушел в приятные мечтания: вот перед ним плененный Матиаш ждет решения своей судьбы. Он дождется того, чего заслужил: смерти. Смерть! Разгоряченная фантазия императора прядет пряжу приятных грез. Матиаш падает перед ним на колени и просит милости, молит, чтобы император сохранил ему жизнь. Какая сладкая минута вкусить плоды победы! И в императоре отзывается голос крови. С его мятежного и спесивого брата достаточно такого унижения. Рудольф не отплатит ему злом за зло. Он великодушно решает заменить смертную казнь пожизненным заточением в каком-либо из королевских замков.
В то время как император упивается своими мечтами, советники в нетерпении ожидают окончательного решения.
Они его не дождутся, потому что Рудольф вдруг приказывает:
— Позовите верховного канцлера!
Поникли головами императорские советники, нахмурились лица высших имперских чиновников. Они чувствуют, что император опять, как угорь, выскользнул из рук.
Четко отдаются на каменных ступенях шаги секретаря, посланного за верховным канцлером паном Зденеком Попелом из Лобковиц.
И канцлер не заставляет себя долго ждать. Назревают великие события, и ему приходится нелегко.
В императорском рабочем кабинете Лобковиц нашел советников Ганневальда и Аттемса. Император задержал их у себя, чтобы они поддерживали его против канцлера, потому что император не может решиться покинуть Прагу, не хочет и оставаться.
— Мы пригласили вас для того, чтобы объявить о нашем намерении покинуть престольный город, — проговорил император неуверенно, скосив глаза на своих советников.
— Куда намерены вы отправиться, ваша императорская милость, в эти смутные времена? — спросил в великом удивлении канцлер.
— Я еще не знаю точно… возможно, к нашему племяннику Леопольду в Пассау. Мы желали отправиться к курфюрсту Саксонскому, но он сообщил, что не готов к нашему приезду.
— Но отчего ваша императорская милость хочет покинуть Прагу? — спросил Лобковиц и с упреком посмотрел на обоих советников: он хорошо знал, откуда ветер дует.
— Наш мятежный брат Матиаш приближается к Праге с большой военной силой. Мы не можем отдаться ему на милость… Нам грозит опасность.
Лобковиц приблизился к императору, опустился на одно колено и воскликнул:
— Ваша императорская милость не может так поступить! Покинуть королевство теперь, в час величайшей опасности? Все ваши верные подданные ждут, что вы встанете во главе их и будете защищать свои священные права, свою корону. Ваша императорская милость, вы не можете покинуть Прагу! Вы не можете бросить королевство! Это было бы предательством…
Император наклонился к канцлеру, словно желал помочь ему встать.
Советник Аттемс не мог молча слушать, как страстно канцлер отговаривает императора, и, забыв об этикете, раздраженно обратился к Лобковицу:
— Предательство по отношению к его императорской милости совершают те его советники, которые скрывают от него истинное положение, уменьшают значение грозящей опасности и мало заботятся о жизни императора. Ваша императорская милость, отвратите слух свой от подобных советов.
В глазах Лобковица зажегся недобрый огонь. Ганневальд и Аттемс немцы, им мало дела до чешского королевства. Для них Рудольф II — только римский император, для Лобковица Рудольф — прежде всего чешский король.
— Один из предшественников вашей милости на престоле чешском, Ян Люксембургский, сказал: «Бог даст, не случится того, чтобы чешский король бежал с поля битвы!» Наше королевство готовится к бою. Ваша императорская милость не может уклониться от этого боя, — закончил Лобковиц.
Рудольф, который не любил слушать неприятные вещи, отвернул болезненно искривленное лицо и закрыл уши руками.
Ганневальд думал, что император больше не желает слушать верховного канцлера, и счел удобным вмешаться:
— Ваша императорская милость, в пане Лобковице говорит только чиновник королевства, который не думает о более широком отзвуке событий. Когда ваша милость будет в безопасности, можно будет обратиться к императорским курфюрстам, а с их помощью ваша милость сможет потом вернуться в Чехию и прогнать узурпатора.
Император безнадежно посмотрел на своих советников. Слова верховного канцлера подействовали на него. И Лобковиц ковал железо, пока оно было горячо.
— Вы думаете только о собственной шкуре, — говорил он советникам. — Судьба королевства безразлична для вас. Глупцы, разве вы не понимаете, что достойнее защищать свою землю до последней капли крови, чем без боя отдать ее врагу, а потом с кровавыми потерями добывать снова?
Потом он обратился к императору:
— Ваша императорская милость, если вы покинете Прагу, вы утратите все, возможно и императорскую корону. Если вы останетесь, вы можете еще многое сохранить.
Аттемс подошел к Лобковицу.
— Вы отличный политик и не можете не видеть, какими опасностями чреват ваш совет для его императорской милости, сказал он. — Если его императорская милость захочет выставить против Матиаша армию, сделать это можно только за счет уступок чешским общинам, то есть протестантским общинам. Я думаю, это ясно для вас. И я не понимаю, как вы можете примирить со своей совестью верного сына церкви эту игру на руку лютеранам и еретикам.
— Аттемс прав, — вновь заныл император, который сокрушенно слушал этот горячий обмен мнениями. — И папский нунций и испанский посланник советуют нам не идти больше на уступки протестантам. И вы, пан канцлер, до сих пор были согласны с этим. Поэтому мы не можем объяснить себе столь быструю смену ваших убеждений. Что же, и вы предали нас?
Канцлер снова опустился на колени, схватил правую руку императора и поцеловал ее.
— Как может ваша императорская милость думать обо мне такое! Я готов в любое время положить за вас жизнь.
Император опять сделал ему знак рукой встать. Потом спросил:
— Но до сих пор вы нас уговаривали не покидать Прагу. Как же вы хотите позаботиться о нашей безопасности? Что вы советуете нам сделать?
Аттемс и Ганневальд удвоили внимание.
Император устало, апатично смотрел на верховного канцлера. Он не видел спасения. Так или иначе, за все придется платить самой высокой ценой. Все соединилось против него, — что же может посоветовать Лобковиц?
— Ваша императорская милость должны договориться со своим братом эрцгерцогом Матиашем.
Рудольф готов был выслушать из уст верховного канцлера любой неприятный совет, но этот он воспринял, как укол кинжалом. Он снова отвернулся и заткнул уши.
Лобковиц ждал. Он еще не кончил, не сказал самого главного.
— Лучшего совета у вас нет? — упавшим голосом спросил император.
— Нет, ваша императорская милость, это единственная возможность спасения. Если вы хотите сохранить для себя Чехию и Моравию, то должны отдать Матиашу Венгрию и Австрию. И, кроме того, сделать его наследником чешского. престола. Естественно, что ему нужно обещать полное прощение. И его приверженцам и войскам.
Император вздохнул. Где же прекрасные мечты о мести, которыми он только что упивался?
Его положение таково, что просить придется ему. Рудольфу просить Матиаша, чтобы тот принял королевскую корону! Чтобы он удостоил принять большую половину страны, а ему, императору, оставил меньшую! Какое унижение, какой позор!
Нет, он не мог согласиться с планом канцлера.
— Мы пошлем к эрцгерцогу кардинала Дитрихштейна, чтобы выговорить наивыгоднейшие условия… — Император замолчал. О, только бы не принимать сейчас окончательного решения! Отдалить его… ждать… заставить ждать… пусть решит время… — Мы могли бы не торопиться с этим… с наследованием.
— Без этого от эрцгерцога ничего не добьешься, — сказал канцлер.
— Постараемся не говорить о наследовании, — снова повторил император. — Если эрцгерцог не согласится, мы предложим ему и наследование.
Лобковиц до этой минуты изо всех сил старался быть терпеливым. Но, когда он увидел, что императора не убедишь, он решился говорить открыто. Он очень учтиво попросил императора не закрывать глаза на правду и избегать последствий собственных ошибок.
И Лобковиц начал перечислять эти ошибки, допущенные императором в течение многих лет. Это была долгая речь. Император чувствовал себя так, как будто ему на голову лили расплавленный свинец. Но у него не было сил прервать канцлера и заставить его вспомнить о почтении к своему государю.
Он слушал, опустив голову, и, возможно, именно теперь увидел многое в настоящем свете.
Когда верховный канцлер кончил, император кивнул. Голова его все больше и больше опускалась на грудь. Казалось, он согнулся под тяжестью этих упреков.
Наконец Рудольф поднял голову и проговорил с тоской:
— Ну хорошо, предложите ему наследование. А теперь оставьте нас одних. Мы слишком устали от этого разговора.
Долго сидел так император в высоком кресле, подперев голову.
Через некоторое время в комнату проскользнул камердинер и спросил с поклоном, не нужно ли чего его императорской милости.
— Нет, ничего, не мешай нам думать… Или подожди! Проводи нас в Испанский зал.
Камердинер, привыкший к императорским причудам, не удивился этому приказу. Он подал императору трость с набалдашником из слоновой кости, набросил ему на плечи плащ и проводил в Испанский зал.
— Жди нас здесь и никого не впускай.
До позднего вечера ждал камердинер у дверей Испанского зала.
Император сидел перед мраморным Илионом и снова, как уже много раз до этого, наслаждался его красотой. Часы и часы он мог неподвижно сидеть и смотреть на любимую статую, которая сияла белизной мрамора, как будто от нее исходил свет.
Благотворное чувство полного покоя, которое всегда посещало его при созерцании этого изваяния, сегодня было особенным, до сих пор не изведанным. Глубокая печаль легла на нахмуренное лицо императора. Здесь ему не нужно было притворяться, скрывать свои чувства. Возможно, каменный герой понимал его тяжелые душевные муки лучше, чем люди, которые принуждали его делать столь мерзкие вещи. Лучшие минуты в жизни он провел здесь, в немом разговоре с Илионом.
Наконец император встал, приблизился к изваянию, провел рукой по холодному мрамору и грустно прошептал:
— Благодарю тебя, Илион, благодарю тебя за всю эту красоту!
Потом он еще раз обвел взглядом свои сокровища, грустно усмехнулся и вышел.
Ночью император во второй раз пытался лишить себя жизни. С обнаженной грудью он бросился на оленьи рога, висевшие низко на стене. Но сердце не задел, а причинил себе лишь легкое ранение.
И ненавидимый всеми, вызывающий жалость император должен был и дальше нести бремя своей странной судьбы.
ГРАМОТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА РУДОЛЬФА II
Потом события грянули, как вода в половодье. Все хитрости и обещания Рудольфа не помешали Матиашу продолжать поход на Прагу. По Либеньскому миру императору пришлось уступить своему брату Венгрию, Австрию и Моравию. Себе он оставил лишь Чехию, Силезию и Лужицы. Одновременно Рудольф признал Матиаша своим наследником, наследником чешской короны.
Но обещание, которое он дал чешским общинам за их помощь против Матиаша, нужно было выполнять. А речь шла об обеспечении свободы вероисповеданий.
Правда, император не спешил и оттягивал свое решение почти год, но, когда религиозные общины решили обратиться к последнему средству — с оружием в руках защищать свою веру. И когда они избрали из своих рядов тридцать дефензоров и начали собирать войско, Рудольф понял, что дальше откладывать невозможно.
Итак, 10 июля 1609 года император подписал грамоту, известную под именем «Грамота его величества Рудольфа II», которая обещала спокойную религиозную жизнь в Чехии на долгие времена. Конечно, если император и его советники будут руководствоваться ею.
Вечером 10 июля в масхаузе Карловой коллегии состоялось великое празднество. Профессорам было что праздновать. Университет, согласно грамоте, входил в ведение дефензоров, защитников протестантской веры. Только они имели право приглашать и отпускать профессоров.
Ректор Бахачек пригласил на конвивиум кое-кого из тридцати дефензоров. Пришли трое: Вацлав Будовец, граф Иоахим Ондрей Шлик и Богуслав из Михаловиц. Пришли и друзья университета, доктора Залужанский и Есениус.
Есениусу было известно, что главная заслуга в получении грамоты принадлежит Будовцу.
Профессоров интересовали все подробности, связанные с грамотой.
— Будет ли грамота иметь силу, если верховный канцлер отказался подписать ее? — опасался Залужанский.
Шлик беззаботно махнул рукой.
— Вместо верховного канцлера ее подписал Адам из Штернберка, пражский надворный советник, которого на это уполномочил император, — объяснил граф. — Самая важная подпись — это подпись его императорской милости. А если бы Лобковиц попытался забыть об этом, у нас есть средства напомнить ему.
Все знали, о чем думает Шлик. Об ополчении, которое он набирал по приказу директоров и которое позволяло чешским общинам держать императора в страхе.
— Когда я привел вчера на Град депутацию из двенадцати человек, чтобы вручить его императорской милости благодарственное послание, — сказал Будовец, — император не слишком обрадовался его содержанию. Он думал, что немедленно после издания грамоты мы распустим ополчение…
— …и отдадимся тем самым на милость императора и особенно верховного канцлера, — быстро прервал его Шлик и торжествующе оглядел собравшихся профессоров, словно обещая им, что директора не так-то легко дадут провести себя императорским советникам.
А вице-канцлер Михаловиц добавил:
— Пока грамота не будет утверждена, пока чешские сословия не соберутся на сейм, ополчение не будет распущено, и это должен признать император, как бы он этого ни желал. Но главное, грамота — решенное дело.
— И весьма знаменательно, — сказал Будовец, — что грамота относится не только к лютеранам, но и к чешским братьям и кальвинистам. Словом, она знаменует полную свободу вероисповеданий. И притом касается не только крестьян.
— Значит, грамота отвергает принцип — чья земля, того и вера? — спросил Есениус. — Теперь крепостные не будут обязаны исповедовать веру своего пана?
— Да, — ответил Будовец. — В грамоте говорится, что каждый подданный императора имеет право выбрать себе веру по своему убеждению. Поэтому я и говорю, что это великая победа.
— А ведь и в иезуитской коллегии в Клементине отмечают победу, — проговорил с другого конца стола Недожерский.
Будовец не принял это сообщение за шутку. Он серьезно ответил:
— Я думаю, именно в этом величайшая ценность нашей грамоты: она не возбуждает зависти католиков. Грамота не является поражением католиков, потому что они ничего не потеряли все их льготы в грамоте подтверждены. Подробности будут а «Уравнении», которое выйдет одновременно с грамотой.
— Что касается нас и нашей академии, то наше положение наверняка улучшится, — заключил Бахачек, который всегда думал только об интересах университета.
— И теперь уже не придется возбуждать интерес к университету публичными вскрытиями, — прибавил Есениус, вспоминая все трудности первого анатомического сеанса в Праге.
Будовец отозвался:
— Мы употребим все силы для того, чтобы гордость нашего королевства, славная академия Карлова, не терпела никакой нужды. И, если дефензоры не будут заботиться о вас, вы можете всегда обращаться прямо ко мне. Я готов сделать все, что в моих силах, для пользы нашей академии.
— Благодарю вас за любезное обещание, — ответил за всех Бахачек. — Мы используем вашу драгоценную поддержку только для блага академии.
— За это надо бы выпить, — предложил Кампанус.
Все подняли оловянные кружки.
— А что вы скажете о будущем, ваша милость? — обратился Бахачек к Шлику.
Лицо Шлика сделалось серьезным. И он ответил с тревогой.
— Если император изволит соблюдать положения грамоты, в стране воцарится религиозный мир. Я не хотел бы каркать, но то, что верховный канцлер Зденек Лобковиц отказался подписать грамоту, не дает нам больших гарантий на будущее. Об этом говорят и примеры прошлого.
— Следовательно, вы думаете, император отречется от грамоты? — с опасением спросил Бахачек.
Шлик посмотрел на Будовца, как будто предоставляя ему ответить на этот опасный вопрос.
— Думаю, не отречется, — медленно отвечал Будовец. — Достаточно, если он и его советники будут вести себя так, будто грамоты не существует. Ведь император завтра же пожалеет, что подписал грамоту, и будет утверждать, что его принудили.
На миг стало тихо, и на лицах присутствующих появился невысказанный вопрос: а что потом?
Будовец угадал их опасения и сказал в ответ:
— Мы все спрашиваем себя: что будет потом? Отступить мы не можем. Так будем бороться за свои права не только на сейме, но и, если потребуется, с оружием в руках. Я надеюсь, что в той борьбе, которая нас еще ждет, мы сможем вполне положиться на университет..
Профессора хором подтвердили, что на университет можно положиться всегда, в любых обстоятельствах.
— Благодарю вас, друзья, за обещание. Мы верим, что удастся избежать войны, но должны быть готовы ко всему… А теперь вы меня извините, но дольше пользоваться вашим драгоценным обществом я не могу, меня ждет граф Турн.
Профессора посидели еще немного, но радостное настроение не возвращалось. Постепенно все разошлись по домам.
Бенедикти предложил Есениусу проводить его.
— Полагаю, что и вы должны решиться, Есениус, — проговорил он, когда они шли по затихшим улицам Старого Места.
— На что решиться? — спросил Есениус, хотя он догадывался, о чем думает Бенедикти.
— Вы ведь слышали, что говорил Будовец. Если император будет продолжать свою старую политику, неминуемо произойдет столкновение с сословиями. А я думаю, что обещание, которое мы дали Будовцу, вы считаете важным и для себя.
Есениус молча кивнул.
— Если произойдет столкновение императора с сословиями, — продолжал Бенедикти, — академия будет на стороне сословий, а значит, против императора. — Он остановился и взял Есениуса за руку. — Я думаю, что вопрос, который я вам задал, вы уже решили для себя. И я нимало не сомневаюсь, как вы его решили. Мы все считаем вас за своего. А вы пойдете с нами или против нас?
Есениус чувствовал, что на этот вопрос он не может дать уклончивый ответ. Бенедикти и с ним все остальные профессора университета имеют право знать, что он, Есениус, думает по этому поводу. Ведь они видят в нем своего друга и ничего от него не скрывают.
— Разве вы можете помыслить, чтобы я пошел против вас? — сказал доктор с упреком. — Можете рассчитывать на меня во всем.
Они крепко пожали друг другу руки.
Решение это не было для Есениуса внезапным. Может ли он остаться в стороне, если правители королевства угнетают веру, которую и он исповедует? Он считал себя борцом за истинную веру, считал, что христианский долг велит ему принять участие в борьбе против ее угнетателей.
Правда, теперь, после подписания грамоты его величества, эта борьба ослабела. Но тем лучше! По крайней мере, не потребуется ему менять образ жизни.
Хотя небольшое оживление не повредило бы.
…Смерть раввина Льва вызвала у Есениуса целый рой воспоминаний. Знакомство с этим незаурядным человеком оставило в его душе глубокий след. Кто знает, какую тайну унес раввин с собой в могилу.
Вскоре после известия о смерти Льва Есениус встретил Кеплера в коллегии Бахачека.
— Всех нас ожидает смерть, — проговорил Кеплер. — Раввин был так стар, что скорей можно удивляться его долгой жизни, чем смерти. Но все же подобное известие всегда грустно. Ведь совсем недавно я был у него…
— Вы были у него? — удивился Есениус.
— Не ходили ли вы к нему чинить Голема? — спросил Бахачек.
Кеплер рассказал, что на прошлой неделе к нему пришел внук раввина Льва. Мальчик передал, что дед очень болен и хотел бы еще раз поговорить с профессором Кеплером о чем-то весьма важном.
— Мне было любопытно, — продолжал Кеплер, — и я отправился в его дом на Широкой улице. Раввин сидел у камина в кресле, ноги его лежали на горячих кирпичах. Он сказал мне, что у него отмирают ноги, холод поднимается вверх и скоро достигнет сердца. И тогда, сказал он, наступит конец. Говорил он об этом очень спокойно. Потом мы перешли к главному: он читал мой труд «Astronomia nuova», и его заинтересовали два положения этой книги. Он хотел, чтобы я ему кое-что объяснил.
— Странно, что на смертном ложе человек интересуется такими вопросами, — заметил Бахачек.
— Это было только вступление к тому, что хотел сказать мае раввин. Вы знаете, о чем он спросил у меня? Почему я опубликовал свое открытие, что планеты движутся по эллипсам, а не по окружности. Мне непонятен был смысл его вопроса. Раввин ответил, что такие великие таинства нельзя открывать непосвященным. Он, например, такое открытие унес бы с собой в могилу.
— И что вы ответили ему, Иоганн?
Есениус весь превратился в слух, хотя он знал, как Кеплер должен был ответить раввину.
— Я ответил ему, что в своей работе я опираюсь на результаты исследований многих ученых. Это цепь, которая тянется из далекого прошлого, от времен Птоломея. Каждый из нас только звено этой цепи, и я не вправе сохранить для себя ничего из того нового, что мне удалось узнать. Я хотел опровергнуть его мнение о науке как об опасном оружии в руках непосвященных — необразованных людей. Но не знаю, признал ли раввин, что есть разница между кабалистикой и астрономией.
— Но ведь он и сам занимался астрономией, — заметил Бахачек.
— Мы разговаривали долго; не знаю, остался ли доволен нашей беседой. Для меня же весь этот разговор был весьма знаменательным. Он многому меня научил.
— Я надеюсь, что вы поделитесь с нами? — усмехнулся Есениус.
— Все очень просто: нужно искоренять ошибочные взгляды о так называемой герметичности науки. Наука должна уподобиться лесному источнику, из которого может напиться всякий жаждущий, безразлично, гордый ли это пан с пышной свитой или простой путник. Вы согласны со мной?
— Согласны, согласны, — ответил Бахачек.
Канцлер Лобковиц не подписал грамоты. Но император оставил без последствий этот «бунт». Он и не думал освобождать канцлера от должности. Предусмотрительные люди делали из этого вывод, что вопросы религии в Чехии нельзя считать разрешенными. И, конечно, канцлер с помощью сильной «испанской партии» предпримет все, чтобы не соблюдались параграфы грамоты и как можно скорее отменили свободы, даваемые некатолическим вероисповеданиям. Хотя Есениус очень редко встречался с канцлером, да и то по службе, Зденек Попел из Лобковиц вдруг вспомнил о своем бывшем соученике.
Члены «Societas Iesu» подготовили в пражском Клементине театральное представление. Ученики иезуитской коллегии несколько дней старательно готовились к спектаклю. На это время их освободили от всех других обязанностей: они могли не учить и и даже не присутствовать на лекциях, лучшие пражские ремесленники готовили великолепную сцену с различными чудесами, помогал им императорский механик, а портные шили богатейшие одеяния по эскизам императорского придворного живописца Шпрангера. Это представление должно было затмить все бывшие до него.
Слухи о готовящемся зрелище достигли и Града, вскоре в Праге только и говорили что об этом представлении которое должно было произойти в страстной четверг.
В среду перед полуднем к Есениусу пришел писарь из Чешской канцелярии и вручил ему свиток пергамента:
— Его милость пан верховный канцлер Лобковиц посылает это приглашение и надеется, что вы соизволите его принять, Есениус развернул свиток. Это было нарядно напечатанное приглашение, в котором говорилось, что в Праге почитают за честь пригласить благородного пана доктора медицины Иоганна Есениуса де Магна Есен и его досточтимую супругу (имена были написаны от руки) на представление мистерии «Ценодоксус», которую написал пан Бидерман. Представят ее воспитанники коллегии Клементинум в страстной четверг после полудня…
Писарь из Чешской канцелярии давно ушел, а Есениус всё еще держал в руках приглашение и размышлял, как ему поступить.
Ясно, чего хочет канцлер: тем самым он как бы предупреждает доктора, что люди, которые находятся на службе у императора, должны держаться императорской партии.
Есениус знал, что значит разгневать сильнейшего вельможу королевства. Ведь Рудольф не встанет на его защиту — в подобном деле он будет заодно с канцлером.
Что делать?
Он вспомнил о Кеплере. Если пригласили придворного врача, наверное, такой же «чести» удостоился и придворный математик.
Есениус отправился к Кеплеру.
Но Кеплер ни о чем не знал.
— Может быть, приглашение придет завтра, — ответил он. — Впрочем, даже если я и не буду приглашен, то в следующий раз могут пригласить и меня. Так что обсудим ваше приглашение вместе.
— Думаю, все это направлено только против меня.
— Это ничего не меняет. Вы говорите, что такие приглашения получили многие протестанты. Следовательно, удар направлен против всех протестантов.
— Но у меня иное положение. Личный врач императора более зависим, чем дефензоры или члены протестантских общин. И я думаю, что все наши рассудили бы так же.
Кеплер молчал, словно мысли его блуждали в бесконечных межзвездных просторах. Немного погодя он вернулся к предмету разговора и проговорил:
— Если бы речь шла только о том, присутствовать ли вам на этом представлении… Но тут дело в другом: подчиниться ли этому косвенному приказу или взбунтоваться? Считаете ли вы, что вам стоит все поставить на карту? Думаю, что нет. Я бы на вашем месте пошел.
Есениуса доводы Кеплера не очень убедили. А что скажет Мария? Не подумает ли она, что его поступок проистекает только из слабости?
Но Мария после некоторого размышления сказала ему, в сущности, то же, что и Кеплер.
И они решили пойти.
Представление происходило в большом зале Клементинума, стены которого в честь этого события были украшены дорогими гобеленами на библейские сюжеты.
Есениус и Мария были в Клементинуме впервые. В протестантских кругах это логово иезуитов почитали главной цитаделью католицизма в королевстве.
Студент-распорядитель провел их в третий ряд, где сидели почетные гости. Есениусу было неприятно такое внимание. Он втайне надеялся, что их посадят где-нибудь в последних рядах и они затеряются среди горожан и прочих незнатных гостей.
Насколько позволяли приличия, Есениус и Мария смотрели по сторонам, желая узнать, кто же присутствует на представления.
Здесь были все самые известные особы королевства. Красное кресло с позолоченными подлокотниками в центре первого ряда приготовлено для императора. Хотя всем известно, что его милость не явится, кресло поставлено. Рядом с креслом для императора — кресло верховного канцлера Лобковица и его жены Поликсены из Першина. Кресла пусты — вельможные гости еще не появились. Но остальные места почти все заняты. С другой стороны императорского кресла сидит архиепископ Карел из Ламберка. Он разговаривает с ректором Клементинума патером Лавинием. На лице архиепископа болезненное выражение, следы страдания, но здесь, в этой праздничной обстановке, он превозмогает болезнь и с улыбкой отвечает на поклоны гостей. Лавиний не может долго оставаться на месте; как только появляется какой-нибудь важный гость, он бросается ему навстречу и приветствует его с подчеркнутой сердечностью. Так он встретил первого камергера Адама из Штернберка, высшего гофмейстера Георга из Швамберка и верховного судью Адама из Вальдштейна. Ректор явно доволен, что пришли все первые особы королевства. Почти все с супругами. А вот появляется и верховный канцлер с женой. Легким поклоном отвечает Лобковиц на поклоны присутствующих, а пани Поликсена улыбается знакомым дамам.
Есениус и Мария обрадовались, заметив среди гостей вице-канцлера Михаловица и его жену, пани Уршулу.
По знаку Лавиния несколько слуг затягивают тяжелые занавески на окнах. Залу наполняет сумрак, хотя на улице еще светит солнце. Только на сцену льется широкий поток слабого света. Музыканты начинают играть интродукцию. Перед занавесом является Муза и латинской одой прославляет императора и всех почтенных гостей.
Затем следует краткое пояснение к действию: адвокат Ценодоксус — действительно существовавший персонаж, и жил он так, как представлено в пьесе. Пусть же почтенные гости извлекут из всего, что они увидят, урок.
«Моралите», — подумал Есениус, стараясь отгадать, сколько времени потребуется актерам для представления борьбы добра со злом и неизбежной победы добра. Три или четыре часа? Иногда подобные зрелища бывают с продолжениями и длятся дня три, не меньше.
Занавес раздвинулся, и на сцене разыгрывается эпизод из жизни адвоката Ценодоксуса. Главный персонаж представлен перед зрителями в наилучшем свете. Он богобоязнен, справедлив, честен, мудр, но… После первых же сцен ясно, что с Ценодоксусом не все ладно. Какие-то силы действуют против него…
Полет черта лишь на мгновение отвлек внимание зрителей от разговора на сцене. А дело шло не о пустяках: силы ада знают, что жизнь адвоката Ценодоксуса — это только личина, и поэтому решают завоевать его душу для ада. Они посылают в мир Гипокризис — Лицемерие, чтобы устроить адвокату западню. Напряженность возрастает.
«Бедняга Ценодоксус, — думает Есениус. — Если тут замешана женщина, да к тому же изворотливая, он пропал».
Пани Мария взволнованно следит за действием и что-то вполголоса спрашивает.
Но, если ад наполнил зрителей ужасом, зато следующее явление возносит их на вершину блаженства.
Раздвигается третий занавес; он висит над главной сценой, и перед изумленными зрителями открывается небо. От главной сцены, теперь закрытой, оно отделено слоем нарисованных облаков. Слышны напевы ангельских хоров.
— Как прекрасно! — шепчет толстая соседка пани Есениусовой.
Многие женщины забывают, что они на театральном представлении, и набожно крестятся…
Два хора белых ангелов поют гимны во славу творца. Песнопения сопровождаются музыкой. Музыка и пение наполняют души зрителей восторгом. И вот самый волнующий момент: ангелы расправляют белые крылья и по двое взмывают в воздух… Песня допета, и на сцену выходит Христос в сопровождении святых. Они должны решить, как защитить Ценодоксуса от козней ада. И святые посылают ему на помощь Хранителя — Ценодоксофилоса и Совесть — Консциенцию.
Напряжение растет, потому что только теперь начинается настоящая борьба между двумя силами, между небом и адом. Зрители вжились в происходящее, они воспринимают его за действительность и, страшась за судьбу главного героя, ободряют и предостерегают его от грозящей опасности.
Ценодоксус тяжело заболел. Болезнь, представленная злым духом Морбусом, уже овладела им. За его душу все еще сражаются злые и добрые духи, но Ценодоксус больше не может даже раскаяться в своих проступках. Он умирает…
На главной сцене пышно отпевают Ценодоксуса. Умерший лежит в открытом гробу. Церковный хор поет Miserere, и зрители чувствуют душевную тоску, как и при всяких похоронах, когда становится особенно ясной быстротечность человеческой жизни.
Появляется Люцифер, чтобы тоже участвовать в этом страшном суде. Все три сцены открыты первый раз за время всего представления.
Зрителям кажется, что они стали свидетелями волнующего судебного поединка. Истец — Люцифер, а свидетели обвинения — все черти. Адвокаты и свидетели защиты — ангелы.
Даже за самым волнующим процессом в жизни не следили бы с таким напряжением, как за этим небесно-адским судом. Особенно когда чаша весов с грехами Ценодоксуса начинает перевешивать в сторону сил ада.
И вдруг, прерывая погребальное пение, мертвый Ценодоксус отчаянно кричит:
— Я погиб!
На сцене смятение. Гости, пришедшие на похороны, в страхе убегают, предоставляя несчастного его судьбе.
Смятение овладевает и зрителями. Когда закричал Ценодоксус, многие женщины громко расплакались. Иезуиты могут быть довольны. «Я раскаюсь, стану лучше, не погрязну в грехах, подобно Ценодоксусу, чтобы не постигла меня его судьба», — так думает почти каждый из зрителей.
С такими чувствами расходились пражане после того, как небесный суд осудил Ценодоксуса на вечные муки.
И Есениус какое-то время тоже был под впечатлением представления. Он освободился от него только на улице, когда его лица коснулось свежее дыхание Влтавы.
Зрители расходились по домам. Дворян ожидали кареты либо носилки. Горожане шли домой пешком.
Есениус с женой возвращались в карете вице-канцлера. Было уже совсем темно, небосвод усеяли мерцающие звезды.
— Ну, что вы скажете? — спросил Михаловиц Есениуса, когда карета тронулась.
— Надо признать, что все устроено со знанием дела, — ответил Есениус. — Теперь я понимаю, для чего они пригласили нас.
Михаловиц кивнул и проговорил:
— Если они предполагают, что тем самым подорвут нашу веру, они ошибаются.
Есениус сначала не отзывался. Он думал.
— Нашим студентам тоже нужно представить пьесу, — сказал он наконец. — Нам надо предложить это Бахачеку. Кампанус охотно написал бы что-нибудь подходящее.
— Что ж, я согласен, что в этом случае театр не цель, а средство. Оружие в борьбе, — согласился Михаловиц.
— Считать это вызовом на поединок? — живо спросил Есениус.
— Да. Если противник вызывает нас, мы можем только принять вызов.
КРОВАВАЯ МАСЛЕНИЦА
Январь года 1611 начинался в Праге невесело.
Из южной Чехии приходили беспокойные известия: эрцгерцог Леопольд, племянник императора, с войском княжества Пассау вторгся в страну.
Это было невероятное известие. Неприятельское войско — на земле королевства!
— Неужели это возможно? — спрашивали люди. — Ведь война не была объявлена! Почему император не выставляет войска для обороны и почему не приказывает прогнать захватчиков?
Опасения жителей главного города королевства увеличивались: войско княжества Пассау, не встречая на своем пути никаких преград, неумолимо приближалось к Праге. И никто не собирался оказывать ему сопротивление.
Теперь стало ясно, что войско наступает с молчаливого согласия императора.
Чешские общины быстро организовали военное ополчение для зашиты Праги от неприятеля. Счастье, что Турн, Будовец, Шлик и другие директора заранее узнали о подготовляемом нашествии.
Теперь, когда вражеское войско двигалось по чешской земле, они смогли быстро организовать оборону столицы.
Это была невеселая масленица. Сообщения о приближающейся пассауской армии сеяли тревогу. Никто не знал, что ждет его завтра.
В такое тревожное время люди особенно нуждались в дружеском слове, утешении и поддержке.
Залужанские пригласили Есениуса с женой отпраздновать вместе с ними конец масленицы. Пришли и Кеплер с Барборов доктор Борбониус и некоторые профессора.
Но, хотя ужин был отличный и вино превосходное, настроение не поднималось.
Неудивительно, что главной темой разговора было вторжение пассауского войска, которое расположилось уже на Белой Горе, возле самой Праги.
— Какую цель преследует император этим опасным предприятием? — спросил Кеплер, который в иное время почти не интересовался, политикой, заботясь больше о небесных светилах, чем о том, что происходит вокруг него.
— Это-то ясно, — ответил Залужанский. — Император пожалел, что издал грамоту и пошел на уступки своему брату Матиашу. Вот он и призвал своего племянника Леопольда для того, чтобы тот укротил чешские общины. И это лишь первый шаг. Если он удастся, император откажется от грамоты, нападет на Матиаша и возьмет назад все свои обещания. Вот в чем штука.
— Неплохо придумано, — сказал Бахачек, вытирая жирные от утки пальцы краем скатерти, — если только все не обернется против него.
— Неужели вы желаете, чтобы этот постыдный план ему удался? — возмутился Бенедикти.
— Охота вам спорить о бесчестной игре императора! — заметил Залужанский. — Есть о чем говорить!
— У нас у всех одна и та же мысль, что император пренебрег своими обещаниями, — высказался за всех Бенедикти. — Если он не распустит пассауское войско, мы будем вынуждены изгнать его собственными силами.
Так открыто не говорил еще никто из них. Поэтому слова профессора всех взволновали. Бенедикти избавил их от тяжкого бремени: он назвал вещи их собственными именами.
— Да, мы выгоним их! — с одушевлением воскликнул Бахачек. — Мы выступим против императора! Думаю, что теперь даже общины не будут долго размышлять, с кем идти: с императором или с Матиашем. Теперь все не так, как три года назад. Сейчас мы все стоим за Матиаша.
И, хотя ни один из присутствующих не мог представить Бахачека в роли бойца, с мечом или мушкетом в руках, его воодушевление увлекло всех.
Кроме Кеплера и Есениуса.
Кеплер тихо улыбался, не поддаваясь общему волнению. Он был далек от мирской суеты и не собирался участвовать в этой большой государственной игре.
Есениус припомнил слова вице-канцлера Михаловица о надвигающейся войне. Он не думал, что война нагрянет так скоро.
Весь этот разговор был ему не по душе, словно он изменил присяге, данной императору, или совершил преступление…
И еще неприятней стало, когда Бахачек при всех обратился к ним:
— А за кем пойдете вы, Есениус и Кеплер?
Есениус ответил за обоих:
— Наше положение, Кеплера и мое, отличается от вашего. Что касается меня, я никогда не таил своего сочувствия к чешским общинам. Но обстановка слишком сложна, и нужно время на размышление. Прошу, дайте нам подумать… Не поймите меня превратно… не прогневайтесь… Но я не могу сжечь за собою все мосты… Выскажитесь и вы, Иоганн.
Кеплер сощурил близорукие глаза, как будто бы смотрел на чересчур яркий свет, и сказал добродушно:
— Меня не занимают государственные дела, в политику я не вмешиваюсь.
Тогда заговорил Залужанский:
— Я думаю, что мы зашли слишком далеко. Я согласен с доктором Есениусом: надо подождать, как будут развиваться события, а потом посмотреть, какое решение примут дефензоры. Они обязаны защищать веру. А нам надлежит печься о процветании академии. Что мы можем предложить дефензорам для того, чтобы академия очнулась от своего сонного состояния?
— Вы уже долгие годы не являетесь членом профессорского совета, доктор, вам легко советовать… другим. Я не знаю, подавали бы вы столь рискованные советы, если бы сами должны были исполнять их! — Бахачек, который высказал этот упрек, покраснел, ибо и он относился к противникам предложений Залужанского.
— Не знаю, правильно ли осуждать и отвергать мой план только потому, что он новый или, как вы говорите, рискованный. Но все, что я предлагал, в других академиях давно уже не считается новым. Не понимаю, почему профессорам не выбрать себе один или два предмета и преподавать их по определенной системе.
— Это ограничение академических свобод, — хмуро ответил Бахачек, взглянув на своих коллег и на Есениуса, чтобы убедиться, можно ли рассчитывать на их поддержку. — Разве хорошо, если профессор, декан или даже ректор не сможет сам выбрать себе предмет? Что делать, если мне велят читать, скажем, медицину?.. Что скажете, Есениус?
Есениус не мог уклониться от ответа на такой прямой вопрос. Он не согласился с Бахачеком, ему по душе были предложения Залужанского, но не хотелось сердить ректора.
Поэтому он ответил примирительно:
— Доктор не то хотел сказать. Вам никто не может приказать преподавать медицину, если вы этим никогда не занимались.
— Понятно, — подтвердил Залужанский. — Каждый профессор выберет себе предмет, который ближе ему, которым он лучше всего владеет, и этот предмет станет его специальностью.
— И он будет твердить до самой смерти одно и то же? — быстро спросил Бахачек и упрямо вскинул голову.
— Нет, это не так, — мирно ответил Залужанский. — С каждым годом преподавание будет улучшаться. Имей каждый профессор постоянный предмет, он бы мог совершенствоваться в своей области, что, впрочем, совсем не во вред академии.
— Я полагаю, доктор, вы не думаете, что теперешние профессора недостаточно подготовлены? — сдержанно спросил Кампанус.
— Это мне бы и в голову не пришло, — быстро рассеял их подозрения Залужанский, уже жалея, что начал этот разговор.
Ведь ему полагалось быть вежливым и гостеприимным, но он был ученым, требовательным к себе и другим и неуступчив, как человек, убежденный в своей правоте.
Кеплер, который до сих пор не участвовал в этом споре, почел необходимым высказаться, на чьей он стороне.
— Мы все знаем вашу магнифиценцию, — обратился он к Бахачеку, — как ученого чрезвычайно талантливого. Это же относится и к остальным профессорам. Но я не считаю правильным, если в начале каждого года профессора решают, кто из них и что будет преподавать. Может случиться, что Аристотеля захотят преподавать все, а Гомера или Цицерона преподавать будет некому. Или так: профессору, который является блестящим специалистом по древнееврейскому языку и единственным специалистом по этому предмету в академии, надоест преподавать свой предмет и он пожелает заняться чем-нибудь другим, в чем он слаб. Не прогневайтесь, магнифиценция, но это неправильно.
Слова Кеплера подействовали на всех своей спокойной серьезностью.
— Вы преувеличиваете наши недоразумения, — ответил с неудовольствием Бахачек, запал которого значительно утратил свою силу.
Пани Залужанская хотела прекратить этот спор:
— Я думала, вы собрались в дружеском кругу отметить конец масленицы. А вы начали спорить. Все мужчины таковы!
Ее слова подействовали, как холодный душ.
Бахачек постарался загладить неприятное впечатление удвоенной сердечностью.
Но очень медленно рассеивалось напряжение, которым так неприятно ознаменовалось начало вечера, и, только когда профессора принялись по очереди рассказывать разные забавные истории, в комнате зазвучал смех.
Внезапно после полуночи невдалеке забили колокола. Вместо торжественного «бам-бам» зловеще раздавалось «бим-бим-бим», — звонили в один колокол.
— Что это? — удивленно спросил Кеплер.
Залужанский послушал, а потом озабоченно ответил:
— У панны Марии на Тыне бьют тревогу.
Все вскочили.
Сомнений не было: на колокольне Тынского храма действительно били тревогу.
— Что происходит?
— Видно, где-то горит, — предположил Бахачек. — Надо бы выйти посмотреть…
Все торопливо надели шубы и вышли.
После тынских колоколов забили тревогу в костеле Святого Гавла — теперь звон раздавался над их головой и казался еще более зловещим.
Но огня не было видно. Мимо них по Железной улице бежали к Староместскому рынку люди.
— Что случилось? Куда вы бежите? — спросил у первого попавшегося Бахачек.
— А вы не знаете? Пассауская армия вторглась в город! На Малой Стране идут бои!
Прохожий даже не остановился. Последние слова он прокричал уже издалека.
И они бросились бежать по ночным улицам в том же направлении, к Староместскому рынку.
Там царили шум и тревога. Перед ратушей собрались стражники и наемные жолнеры. Кое-кто осматривал мушкеты, другие выкатывали со двора ратгауза пушки. Офицер нетерпеливо погонял людей. Когда наемники кое-как подготовились, они быстрым шагом направились по Капровой улице, мимо Еврейского города, к Влтаве. С Малой Страны слышались выстрелы.
Профессора стояли в конце Железной улицы, глядя на необычное волнение. Как рой светлячков, сновали по рынку люди с горящими факелами. К тоскливому звону колоколов примешивались громкие приказы, грохот пушек, которые везли по булыжной мостовой.
В раздумье смотрели профессора друг на друга, и ни одному не хотелось высказать мысль, которую все считали наиболее разумной: воротиться домой.
И тут они увидели человека, который сломя голову бежал в обратном направлении. Его немедленно обступили, спрашивая, что нового на Влтаве и на другом берегу.
— На Малой Стране светопреставление, — ответил беглец и перекрестился. — Чужеземцев тьма-тьмущая. На Итальянской площади кровь течет рекой…
— Они придут и сюда? — спросила испуганно пани Кеплерова, думая о детях, которые одни остались дома.
— Сюда нет, — ответил задыхающийся парень, ладонью вытирая вспотевшее лицо. — На Мостецкой башне спустили решетку, а Каменный мост и Карлову улицу перегородили цепями.
— Пойдем к Влтаве? — спросил Есениус, когда парень побежал дальше.
Слова Есениуса пришлись по душе Марии, да и другим.
— Я бы пошел, — решительно заявил Бенедикти, — но вы — другое дело. У вас жена, у профессора Кеплера семья, у доктора Залужанского дочь… Вы не должны подвергаться опасности. Мы не умеем обращаться с оружием и ничем не можем помочь защитникам города. А зрителями туда идти не годится. Вернемся домой.
Они воротились. Не только женщинам, но и кое-кому из мужчин было не по себе. Правда, не от страха, а от волнения. А возможно, и оттого, что февральский ночной воздух дышал морозом.
Всем было не до разговоров, всех беспокоил настойчивый вопрос: что дальше?
На другой день они узнали более подробно о ночной атаке.
Первый напор пассаусцев был настолько сильным, что шестидесяти всадникам удалось проникнуть через Каменный мост и Мостецкую башню в Старое Место. Но защитники не дремали. С Мостецкой башни быстро спустили решетку и направили жерла пушек на Малую Страну. Те шестьдесят всадников, что проникли в Старое Место, не смогли уже вернуться, а жители Праги приготовили им почетную встречу: открыли по ним стрельбу, забросали камнями и обливали из окон верхних этажей горячей смолой. Лишь немногим удалось уйти из города через Вышеград…
После бессонной ночи Есениус отправился, несмотря на просьбы и уговоры Марии, к Влтаве — он желал добраться до Града. Улицы Старого Места были огорожены цепями и заполнены вооруженными дозорами. Людей было относительно мало. По крайней мере, к Влтаве мало кто отваживался подойти из страха, как бы не попасть под шальную пулю.
— Куда вы идете, магистр? — кричали ему ополченцы.
— На другой берег, — ответил Есениус, пробираясь между вооруженными людьми к воротам, загороженным решеткой, за которой видны были пушки, направленные на Градчаны.
Ополченцы засмеялись.
— Вы идете сражаться с неприятелем? Без оружия? Чем же вы будете биться? Голыми руками или словом божьим?
Есениус, не обращая внимания на их шутки и хохот, пробирался к решетке в надежде, что стража пропустит его.
— Отодвиньте решетку, мне нужно пройти на Малую Страну, — проговорил он повелительно.
— Кто вы, упрямый храбрец? — спросил насмешливо ополченец, который охранял решетку.
— Я доктор и иду помогать тем, кто нуждается в моей помощи.
— У меня приказ не поднимать решетку под страхом смерти, — ответил ополченец. — И так уже один эскадрон врагов прорвался…
— Кто у вас командир?
Его привели к командиру, которому он повторил свое требование. Командир только отрицательно мотал головой.
— Это все равно, что идти на верную смерть, — убеждал он. — Как только вы окажетесь на расстоянии выстрела, по вас откроют огонь. Зачем вам на тот берег — разве вы не слышите, что там бой? А пуля не рассуждает, доктор вы или простой горожанин, ей все равно. Опомнитесь, доктор, ведь и на Малой Стране есть фельдшера, цирюльники и доктора. Они позаботятся о раненых.
Еще некоторое время Есениус пытался убедить командира, но напрасно. С тяжелым сердцем вернулся он домой.
По дороге к Главной коллегии ему навстречу попадались люди, которые с волнением рассказывали о том, что творится у панны Марии Снежной. Говорили, что монахи хотели скрыть там двоих пассауских всадников, а возмущенные пражане убили монахов…
«Горе тому, кто вызовет народный гнев!» — подумал Есениус огорченно и, кажется, в первый раз почувствовал ненависть к императору. Император — причина всех бед, и кто знает, что еще будет впереди. Но тут же как врач он стал оправдывать Рудольфа. Он больной человек, он не ответствен за свои действия. Но тогда его нужно лишить власти. Но разве Матиаш лучше. Похвально ли то, что учинил он против своего же брата? Есениусу казалось, что нет. Он не понимал, отчего Бахачек и другие так стоят за Матиаша. Надеются, что он будет охранять свободу верований? Но кто поручится за будущее? Не просто ли это тактика — все его обещания?
Таким размышлениям Есениуса помешал хозяин дома, в котором жил доктор, горожанин Петипрсты.
Он казался озабоченным. Есениус догадывался о причинах. Петипрсты был ревностный католик, и его, конечно, радовало вторжение чужеземцев. Он с опасением следил за ходом боев, протекавших не так, как желала того императорская партия.
— Простите, доктор, что я пришел к вам именно теперь, когда во всем городе волнение. Но дело очень спешное… Ведь вы слышали о несчастных монахах, которых замучили у панны Марии Снежной? Что вы скажете на это? Ужас! Ужас! Одиннадцать душ погублено. Да увенчает их отец небесный мученическим венцом!.. Ох, и разболтался же я, а о главном-то и позабыл. Вы знаете, доктор, — тут Петипрсты наклонился к Есениусу и понизил голос до шепота, — одному из несчастных монахов удалось вырваться из когтей этих дьяволов…
Петипрсты говорил взволнованно, торопливо, не давая Есениусу вставить слово. Но Есениус прервал его и спросил мрачно:
— Почему вы называете их дьяволами? Они убеждены были, что их действия являются справедливой расплатой за вину монахов. Ведь монахи укрыли двоих кирасиров.
Петипрсты всплеснул руками.
— Но ведь это неправда! А если даже это и правда, разве святая церковь не дает с незапамятных времен убежища всем несчастным?
Есениус не знал, что на это ответить. Если кирасиры действительно просили об убежище, монахи не могли им отказать. Но кто мог разъяснить это негодующему, глухому от ненависти народу?
Ох, тяжко быть судьей в таком деле!
— Вы только для того и пришли ко мне, чтобы рассказать о монахах?
Петипрсты опомнился.
— Нет, нет, дело совсем иного рода, но связано с монахами. Как я уже говорил, один из монахов спасся. Он прыгнул с крыши да так и лежит с другой стороны монастырской ограды. У него переломаны ноги, и добрые люди отнесли несчастного к миноритам[36] у Святого Гавла. Я знаком с привратником миноритов. Он знает, что вы у меня живете. И вот он пришел ко мне и просит, ради бога, умолить вас посетить несчастного монаха. Он жестоко страдает…
Есениус слушал Петипрсты с неприятным чувством. Ему было не по сердцу, что к нему обращаются с такой просьбой. Это, пожалуй, похуже случая с внучкой раввина…
— Почему же привратник не обратился к какому-нибудь врачу-католику?
Петипрсты был, по-видимому, готов к такому вопросу.
— Никто из них с вами не сравнится. Возможно, этому бедняге придется отрезать ногу. И привратник говорит, что это можете сделать только вы… — Он умоляюще посмотрел на Есениуса.
Когда Есениус вошел в келью привратника, старый монах спросил:
— Вас послал мой друг Петипрсты?
— Нет, меня послала моя совесть, — ответил Есениус и выдержал долгий, испытующий взгляд привратника.
И то, как ответил Есениус, и то, как он держался, понравилось монаху. Морщинистое лицо его смягчилось.
— Пусть отец небесный отплатит вам за это! Нам дорога помощь иноверца. Все мы дети божьи, — добавил он быстро, как будто в оправдание.
Когда они вошли, взгляд Есениуса остановился на небольшом распятии, стоявшем на столе у постели больного монаха. Другой монах стоял на коленях у кровати и читал вслух латинские молитвы.
— Оставьте нас ненадолго, брат Эгидий, — приказал привратник.
И монах послушно вышел.
Привратник обратился к больному:
— Брат Бонавентура, это доктор Есениус, личный врач его императорского величества, он вас вылечит…
Есениус уже хотел осмотреть раны монаха, но брат Бонавентура резким движением руки остановил доктора раньше, чем тот успел прикоснуться к нему.
— Не прикасайтесь ко мне! Я не хочу, чтобы вы лечили меня! — воскликнул он, и в глазах его вспыхнули ненависть и страх.
Привратник подошел к больному и стал уговаривать его:
— Успокойтесь, брат Бонавентура, доктор Есениус знаменитый врач.
— Нет, нет! — защищался монах. — Я совершу смертный грех, если позволю еретику прикоснуться ко мне!
— Но, брат Бонавентура, одумайтесь! Доктор Есениус личный врач его императорского величества, и если император не боится смертного греха…
— Нет, нет, не хочу! — кричал монах, глядя на Есениуса, как будто тот был самим дьяволом. — Это еретик! Его подослали эти подручные сатаны, которые сбросили отца Ансельма и отца Марка с крыши и погубили всех братьев. Он пришел отравить меня… Прочь! Прочь! Уходите прочь!
— Не бойтесь, брат Бонавентура, доктор Есениус не имеет никакого злого умысла. Он искренне желает помочь вам. А вам нужна помощь врача.
— Да, мне нужна помощь, но не его! — кричал больной, с ненавистью глядя на Есениуса. — Лучше мне умереть, чем благодарить за спасение жизни еретика.
— Вы не смеете так говорить, брат Бонавентура, — остановил его привратник. — Я запрещаю вам. За спасение жизни вы будете благодарить господа нашего, а не доктора Есениуса. С жизнью нельзя обращаться столь легкомысленно, как это делаете вы. Значит, божий промысел не судил вам умереть, если вы спаслись. И ми должны сделать все, чтобы вы как можно скорее выздоровели. Позвольте доктору хоть посмотреть ваши раны. Не сопротивляйтесь, прошу вас!
Монах слушал молча и устало. У него больше не было сил сопротивляться.
Есениус снял повязку. Правая нога более всего пострадала от падения. Голенная кость была сломана и прорвала кожу, а колено было раздроблено; верно, монах при падении ударился о камень. Кроме того, левая нога монаха была вывихнута, а ссадины и синяки покрывали все тело.
— Правую ногу придется отнять, — тихо сказал Есениус, взглянув на привратника.
Тот молча кивнул.
— Это единственная возможность спасения, — произнес Есениус. — Иначе ногу поразит гангрена.
Долго привратник уговаривал брата Бонавентуру. Тот желал лучше умереть, чем жить калекой. Наконец молодость и воля к жизни победили, и он согласился.
Есениус начал готовиться к операции. Монаха перенесли в кресло с высокой спинкой и дали ему отвар из маковых зерен и некоторых других трав — такие средства всегда имелись в монастыре. Когда все было приготовлено и инструменты прокалены, Есениус потребовал два ремня, которыми крепко стянул ногу в двух местах, близко одно от другого. Тем самым он остановил приток крови в ногу и сделал ее менее чувствительной.
Двое сильных монахов держали брата Бонавентуру, пока Есениус резал ногу…
Он спас монаху жизнь — и, однако, уходил домой грустный. Только сегодня он понял, какую пропасть разверзает между людьми религиозная ненависть. Он перебрал в мыслях события последних лет, борьбу сословий с императором, борьбу между обоими королями-братьями и, наконец, последние события — от ночного вторжения врагов до этой ампутации.
Есениус с трудом поборол сомнение, которое возникло в глубине его души. В самом ли деле все это из-за религии?
Голос сомнения не умолкал. Дело не только в вере. Люди убивают друг друга за власть!
Есениус испугался этого внутреннего голоса и сразу же заставил его замолчать.
Нет, нет, это неправда! Это дьявол искушает его, хочет ослабить его веру, чтобы легче потом заполучить его душу.
Он сжал кулаки и прошептал невидимому врагу:
— Apage, satanas! Apage![37]
ЛЕВ ЗОВЕТ ИМПЕРАТОРА
Рудольф и сам не думал, что его тщательно подготовленный план потерпит полное крушение. Пражские ополченцы стойко сопротивлялись пассауской армии генерала Рамэ. Сословия не хотели вступать в переговоры с пассаусцами и сражаться против Матиаша, — они отправили к Матиашу специальных послов с просьбой о помощи. И Матиаш с великой радостью воспользовался случаем отнять у брата власть. Он оставил ему только императорский титул, отобрав все земли, которые были еще под властью императора, и чешскую королевскую корону. Матиаша мало заботило, что во время его коронации Рудольф заперся в самом отдаленном крыле Града и оплакивал там утраченное могущество.
Обманутый жизнью отшельник доживал последние месяцы своей жизни. Что еще его удерживало на земле? Отблеск прежней императорской власти? Чарующе прекрасный город, раскинувшийся по обеим сторонам Влтавы, собрания редкостей в Испанском зале, чистокровные арабские лошади в мраморных конюшнях или лев Магомет, который тосковал по теплому солнцу своей африканской родины? Кто знает… Никто не мог разобраться в думах императора. А менее всего он сам.
К свисту январского ветра, сотрясавшего окна императорского рабочего кабинета, примешивался другой звук: глухое рычание льва. Днем оно еще кое-как заглушалось остальными звуками, которые неслись со двора или из оленьего рва, но ночью — ночью это было страшно! Все живое погружалось в сон, воцарялась тишина. Кроме стражи, бодрствовали лишь император и лев. Любимый лев Рудольфа Магомет. Слух императора был чувствителен к львиному рычанию, как — грех сравнить — слух матери к плачу ребенка. И этот милый звук навевал на него приятные сны. Но если раньше в голосе Магомета слышалась хищная сила, мощное желание жизни, то теперь это был уже не победоносный рев царя зверей, но болезненное завывание, в котором слышался плач.
— Магомет зовет императора, — шепотом передавали друг другу испуганные слуги, которым известно было предсказание Тихо Браге, сделанное двенадцать лет назад. Браге сказал тогда императору, что, когда погибнет лев, умрет и император.
Легковерный монарх верил предсказанию и с того времени, как Магомет заболел, не знал ни минуты покоя. Уже несколько раз Рудольф покушался на самоубийство, а теперь впал в другую крайность: он был охвачен великой жаждой жизни. После долгого перерыва император снова призвал своих врачей, терпеливо дал осмотреть себя и стал принимать все лекарства, которые они выписали.
Но больше, чем о себе, беспокоился император о своем льве.
— Дайте ему наилучшего мяса, которое только можно достать. И не сырым, пусть повар приготовит лучшие кушанья.
Напрасно камердинер твердил, что лев охотнее ест сырое мясо, — император настаивал на своем. Он отменил приказ только тогда, когда ему доложили, что Магомет не притронулся к жареному мясу.
Врачи с опасением следили за ходом болезни императора. Она словно действительно была связана с болезнью животного.
Однажды император призвал Есениуса и приказал:
— Пойдите в зверинец и осмотрите Магомета.
Есениус не успел скрыть удивление, но император поспешил успокоить его:
— Не бойтесь, с вами пойдет укротительница Пылманова. В ее присутствии Магомет ничего вам не сделает. Ступайте, доктор, осмотрите его. А потом выпишите хорошее лекарство. Сделайте все, чтобы он выздоровел.
Есениус не мог не повиноваться приказу своего господина.
Он отправился в зверинец и поговорил с укротительницей. От нее он узнал, что лев очень стар и для продления его жизни лекарства нет. Но для успокоения императора он велел приготовить лекарство и от монаршего имени приказал укротительнице подмешивать его в пищу Магомета.
И все чаще повторяли придворные и челядь:
— Лев зовет императора.
Восемнадцатого января Магомет издох. Слуги и камердинеры боялись объявить императору горестную для него весть. Но ее Нельзя было утаить — император отличал голос Магомета от голосов остальных львов. И ему сказали правду.
Он принял ее, как решение судьбы, перестал принимать лекарства, перестал слушать докторов.
— Что будем делать с его императорской милостью? — спросил озабоченный доктор Руланд Есениуса.
Тот пожал плечами:
— Мы должны постараться отвлечь императора от мрачных мыслей. Наконец, Тихо Браге мог ошибиться при составлении гороскопа.
Император слушал уговоры врачей, но не верил им. Он не мог забыть предсказание Тихо Браге.
— Неужели вера в это предсказание столь пагубно влияет на императора? — усомнился Михаловиц, когда Есениус рассказал ему, что состояние Рудольфа все ухудшается.
— Возможно, на здорового человека это так бы не повлияло, но не забывайте, что император болен. Очень болен. Физически и душевно. До сих пор он был полон желания жить, жить и жить. Теперь его воля ослабла. Император убежден, что должен умереть, и примирился с этим, как с чем-то неотвратимым.
— А что дальше?
— Боюсь, что предсказание Браге исполнится. Всему причиной суеверие императора.
В ночь на 20 января памятного 1612 года всем приближенным императора стало очевидно, что близится конец.
Императорская опочивальня наполнилась людьми. Катарина Страдова бодрствовала у постели умирающего всю ночь. Кроме нее, при императоре находились оба личных врача, исповедник и главный камердинер.
В опочивальне было натоплено. Окна не открывались с самого начала болезни Рудольфа. Спертый воздух был насыщен запахами лекарств. Дышать было трудно, но никому даже в голову не пришло отворить окно.
Врачи видели, что их помощь уже не нужна, поэтому они взглядом дали знак исповеднику приступать к своим обязанностям. Исповедник попытался уговорить умирающего, чтобы он причастился святых тайн. Но Рудольф не хотел даже слушать об этом. Хотя он как будто примирился с мыслью о смерти, ему хотелось отдалить этот момент настолько, насколько это будет возможно.
— Мы хотели бы кое-что спросить у вас, падре, — шепотом, с трудом произнес он и сделал знак капуцину, чтобы тот ближе подошел к постели.
— Извольте, ваше императорское величество. — Исповедник наклонился к Рудольфу.
По лицу императора было видно, с каким напряжением собирает он свои ускользающие мысли.
— Скажите нам, падре, будем ли мы потом… когда… когда наша душа покинет свою смертную оболочку… останусь я тогда императором?
Так вот какие сомнения мучат императора в последние часы жизни!
Что исповедник может ответить ему?
Он старается выбраться из этой мышеловки, делая вид, что не понял вопрос Рудольфа.
— Телесной оболочке вашего величества будут оказаны почести, какие положено.
Нетерпеливый взгляд императора свидетельствует о том, что умирающий не хочет дать обмануть себя. Он требует ответа.
— Нас не занимает телесная оболочка, мы говорим о душе. Душа! Что будет с душой? Будут ли ей и там оказывать императорские почести?
С напряженным ожиданием смотрит он на исповедника и не замечает, что в глазах священнослужителя возникает ужас перед таким богохульством.
— Праведные души будут вкушать столь неизмеримое блаженство, что все земные блага — лишь слабый отблеск его. Скажем, как нельзя огонек свечи сравнивать с солнцем.
Ответ священника немного успокоил императора. Он прикрыл глаза и облегченно вздохнул.
Капуцин пожелал использовать эту смену настроения, чтобы еще раз попытаться уговорить императора:
— Но вечного блаженства могут удостоиться только души, которые оставят бремя своих грехов на этом свете…
— Бремя грехов… — повторил император шепотом, как будто бы хотел постигнуть весь огромный смысл этих слов.
Наконец он кивнул. Это было едва заметное движение, но исповедник увидел его.
Все присутствующие опустились на колени, и капуцин дал императору последнее причастие.
После обряда главный камердинер приблизился к Есениусу и спросил его тихо:
— Проживет ли император до утра? Или разбудить верховного канцлера? При последних минутах государя должен присутствовать первый сановник…
— Лучше, если вы разбудите его.
После этого Есениус подошел к Катарине Страдовой, отозвал ее от постели умирающего и сказал вполголоса:
— Если бы принцы и принцессы пожелали проститься…
— Уже? — спросила Страдова, и ее прекрасные глаза наполнились слезами.
Император едва воспринимал окружающее. Сознание возвращалось к нему только временами, подобно волнам прибоя, набегающим на морской берег.
Священник опустился на колени и читал вполголоса молитву.
Пришли дети императора и попрощались с отцом. Никто не скрывал больше слез. Даже верховный канцлер Лобковиц.
Есениус напряженно следил за лицом императора. Губы уже онемели, но сердце еще отбивало редкие удары.
Все взгляды обращаются к врачу.
Воцаряется гнетущая тишина.
Есениус склоняется над неподвижным телом, раскрывает шелковую сорочку и прикладывает ухо к императорской груди.
Потом выпрямляется и торжественно объявляет:
— Его императорского величества больше нет среди живых.
Взволнованный Есениус готовится к великому событию: он идет анатомировать императора.
Верховный канцлер потребовал, чтобы он набальзамировал тело Рудольфа II.
И, пока гонцы на быстрых конях спешат в Вену, чтобы сообщить великую новость королю Матиашу, Есениус готовится к анатомированию. Он работает не один. В помощники себе он потребовал доктора Залужанского и мастера Прокопа.
Когда обнаженное тело императора положили на стол, Есениус вспомнил о юродивом Симеоне. Тогда император был зрителем. А нынче…
Бальзамирование длилось несколько дней. Есениус часто задумывался над жизнью этого чудаковатого монарха. Чем больше он думал, тем больше поражали его противоречия в характере императора. Он почувствовал, что должен написать жизнеописание Рудольфа, хотя бы в связи с восшествием на престол нового государя. Матиаш только начинал свое царствование, от него можно многого ожидать…
И Есениус принялся за свое сочинение о Рудольфе и Матиаше. Он работал вдохновенно, употребляя большие периоды, как это было тогда принято.
Вначале он поведал о победах императора над турками — причем не забыл упомянуть и о том, что император одержал их, не покидая своей столицы, иными словами — что их одержали за него военачальники, и затем продолжал:
«Тем временем Рудольф, одушевленный этой удачей в помышлениях своих, возлюбил жизнь, лишенную опасностей и покойную. Он уединился в Пражском Граде и доверил жизнь и звание свое, самое возвышенное в этом мире, некоторым своим рабам и низким прихлебателям, отдавшись целиком иному и к титулу его не подходящему занятию, и людям казалось, что он совсем не думал о своем государстве. И посему многие отвратили от него свои сердца, ибо под сенью и защитой его императорского и королевского величия эти прожорливые грабители и ненасытные глотки, когда подточили главный опорный столп, или столп свободы всеобщей, и когда все права сделали продажными, и звания и должности в стране, они искали только для себя пользы, но всеобщее добро и благо дерзко и распущенно уменьшали и навыворот переиначивали, не давая ни высшим, ни низшим вольного доступа к императору, королю и господину их, в скромных и необходимых нуждах своих с униженными просьбами прибегающими к защите, и подданные от такого угнетения не уставали тосковать и стонать, что Прагу невозможно называть уже прекрасной Прагой, но Pragam plagam, то есть Прагой грустной и страшной…»
Потом Есениус описывал, как начались волнения в империи, как выбрали королем брата императора — Матиаша.
Есениус не забыл упомянуть и обо всех знамениях, которые, как говорили, давно предсказали падение императора:
«Такое печальное падение с высот предсказали императору различные чудеса и указания на небе и на земле. Башня, та, что стоит у королевских помещений на Граде Пражском, наклонилась так, что грозила обрушиться из-за великой тяжести кровли, которую вынуждены были снять; и, без всякого сомнения, это означало, что глава королевства в скором времени в могилу уложена будет. Какой-то простой человек, который пробрался в ночное время в судейскую палату, где происходил сейм или королевский суд, уселся на королевское место, осененное балдахином, и там его нашла спящим ночная стража. Это знаменовало, что столица скоро осиротеет и без короля, своего господина, останется пустой. Незадолго перед смертью императора громом разбило несколько пражских костелов. Пожары и бедствия бродили по Праге. Солнце затмилось полностью. Новая звезда была замечена в полночь, и имя ей дали Серпенториус — Змеевик; потом явились одна и за ней другая комета. И больше того: лев, самый старший, который был императору неизмеримо дорог, потому что содержался при дворе множество лет, так вот он и два орла, которые были равно любимы императором, все в одну и ту же минуту несчастным образом умерли. О чем когда Рудольфу стало известно, он сам себе скорую смерть предрек».
Доктор был спокоен за свое сочинение. Он послал рукопись в Виттенберг своему книгоиздателю с просьбой скорее напечатать ее.
Смерть выбрала еще несколько жертв среди знакомых Есениуса. У Кеплера умерла жена; а через несколько недель после смерти императора покинул этот мир старый верный друг — Бахачек.
— Что будете делать, Иоганн? — спросил Есениус Кеплера после похорон императора. — Поедете в Вену с королем Матиашем?
Кеплер покачал головой.
— Мне это ни к чему. Гороскопами я больше не занимаюсь, а Матиаша не интересуют астрономия и математика. Думаю, что его милость легко обойдется и без меня.
Есениус кивнул. Он хорошо знал, что Рудольф II держал при своем дворе Кеплера скорее как украшение.
— Поступайте профессором в здешний университет, — предложил Есениус. — Вас примут с радостью. Им нужен астроном и математик. Бенедикти один не может справиться. Собственно, кроме риторики, Бенедикти интересует только математика. Астрономией в Карловом университете никто не занимается.
— Благодарю вас за предложение, — ответил Кеплер подавленно, — но я не могу его принять…
— У вас есть на примете что-нибудь лучшее? — спросил Есениус, удивленный грустью, которая слышалась в голосе его друга.
— Лучше ли, не знаю, — ответил Кеплер. — Меня приглашают в Линц профессором. Я решил отправиться туда. А вы, Иоганн? Вы решили остаться при дворе Матиаша?
— Не знаю… Мне, правда, сообщили, что король охотно назначит меня своим врачом. Но Мария советует мне не связывать себя ни с какой службой. А что вы думаете об этом, Иоганн?
Кеплер улыбнулся.
— Пани Мария никогда не советовала плохо. Ее мнение очень ценно. Но, с другой стороны, если вас приглашают… Быть личным врачом короля, в скором времени, может быть, и императора… об этом стоит подумать. Если вам нужна слава, не размышляйте ни минуты. Но, если вы желаете достигнуть успехов как ученый, послушайте жену. Однако, что бы вы ни решили, не забывайте никогда, что вы врач.
Долго размышлял Есениус о словах Кеплера. Эти горячие слова проникли в его сердце. Ему казалось, что, если он послушает друга, он станет лучше и будет счастливее. Свое будущее он видел теперь глазами Кеплера.
В тот вечер он всем сердцем желал принять совет математика.
Но только в тот вечер.
Наутро он думал по-другому. Голос Кеплера не звучал уже так убедительно. Служить при королевском дворе, думал Есениус, совсем не то, что быть обычным врачом.
И он не мог представить себе, как будет жить отныне в прежнем окружении, но без тех благ, которые ему давало положение при императорском дворе.
И решил поступить на службу к Матиашу.
ПАНИ МАРИЯ
Какой приток новых сил ощутил Есениус, когда получил приказ приступить к службе при венском дворе!
В Вену Есениус отправился сначала один. Он хотел приготовить приличное жилище. А Мария приедет, когда все будет готово.
Прием при королевском дворе был холоднее, чем при дворе Рудольфа. Ни алхимия, ни астрономия не интересовали Матиаша. Ему представлялось достаточно случаев убедиться, что успеха добиваются скорее сильной волей и мудрой дипломатией, чем составлением гороскопов. Если возможно ускорить ход событий и способствовать их успешному разрешению, лучшее средство для этого — деньги. Они могут сделать приятнее даже жизнь монарха. Матиашу и вправду требовалось немало золота. Прежде всего — на военные нужды; воевал он успешно, но это стоило таких денег, что он вынужден был отказывать себе во многом. Больше всего любил он блестящие празднества, любил и искусство. Первая страсть была сильнее, и поэтому, когда Матиаш вступил на престол, Вена стала весьма шумным городом. Пиры и развлечения, охоты и пестрые кавалькады, поражающие невиданным количеством участников, были наибольшей радостью короля. Матиаш был полной противоположностью своего меланхолического брата. Неудивительно, что еще при жизни Рудольфа многих любителей развлечений привлекала шумная Жизнь при дворе Матиаша. Теперь Матиаш мог удовлетворить и свою любовь к искусству, получив все императорские коллекции. И к деньгам Матиаш относился иначе, чем его брат. Рудольф желал наполнить свою казну золотом, которое обещали ему алхимики, и на это щедрой рукой бросал последние золотые из почти пустой казны. Матиаш не верил алхимикам. Он больше ценил верные талеры, полученные от налогов и податей, чем золотые горы, обещанные алхимиками. Своим врачам он тоже не слишком доверял, ставя их на одну доску с алхимиками и астрологами. И поэтому разговор нового личного врача с королем Матиашем был очень коротким.
Несколько незначительных вопросов о королевском здоровье, явно неискренний интерес к семье доктора, к его путешествию в Вену, и все. Даже обязанности доктора не были сколько-нибудь точно определены: его королевская милость пошлет за ним, как только потребуется… И ясно было, что своим двоим врачам-итальянцам Матиаш доверял больше, чем врачу покойного Рудольфа. Есениус почитал своим долгом спрашивать каждый день перед полуднем в Гофбурге о здоровье его королевской милости и узнавать, нет ли каких приказаний. Но приказаний не следовало. Есениусу было неприятно, что он оказался здесь последней спицей в колеснице, но он утешал себя мыслью, что у него будет теперь время для научной работы, как только он найдет приличное помещение.
Сначала он поселился в гостинице неподалеку от Гофбурга, чтобы быть вблизи от «работы». Когда же убедился в том, что подыскивать себе жилье с такой точки зрения нецелесообразно, он нашел себе комнату возле собора Святого Штефана, у одной старой вдовы.
Очень скоро он снискал доверие этой вдовы. А с той поры, как дал ей лекарство против головокружений, она старалась угодить ему во всем. Как-то в воскресенье она пригласила его обедать. Кушанья были роскошные, и Есениус почувствовал, что за этим что-то кроется. Госпожа Вальдмюллер явно чего-то добивалась от него.
Предчувствие не обмануло его.
После доброго жаркого старушка улыбнулась беззубым ртом и прошамкала:
— У меня к вам великая просьба, господин доктор. Я говорила вам, что муж моей сестры очень болен. Доктор Гофбауэр лечит его уже больше двух лет, но не может вылечить. Один бог знает, какие хворобы мучают моего родственника. Только уходит одна, как приходит другая. А доктор Гофбауэр лишь выписывает дорогие лекарства. Ох, это им стоило уже целого состояния! У них было два дома — и один уже сожрали хворобы. Конечно, не в деньгах дело, лишь бы помогло. Так ведь нет же… Я рассказывала о вас сестре, и мы осмелились просить вас взглянуть на ее мужа.
Есениусу трудно было отказать. Но не хотелось и соглашаться. Идти к больному, которого лечит другой врач, без ведома этого врача, — нет, это похоже на браконьерство, как если бы он собирался охотиться в чужих угодьях.
Госпожа Вальдмюллер поняла только, что доктор не соглашается, и огорчилась. Она привела на помощь сестру.
Были пущены в ход слезы — женщинам удалось сломить сопротивление Есениуса.
Был теплый солнечный осенний день, однако Гейер, так звали больного, сидел на постели с укутанной платком головой. Комнату натопили так, что трудно было дышать.
— Откройте окно и не подкладывайте больше дров, — сказал Есениус.
Госпожа Гейер испуганно заморгала маленькими глазками.
— Но… доктор Гофбауэр особенно настаивал на том, чтобы мы хорошо топили и ни на минуту не открывали окон.
— Если хотите выполнять предписания доктора Гофбауэра, незачем было приглашать меня! — раздраженно ответил Есениус.
Госпожа Гейер испугалась. Она со слезами ответила:
— Не сердитесь на меня, господин доктор. Мы очень несчастны. Отныне мы станем исполнять все, что вы прикажете.
Есениус осмотрел больного.
Гейер, бывший купец — некогда он возил драгоценные товары из самого Леванта, — был тучный человек с круглым, налитым кровью лицом, по которому сейчас катились крупные капли пота.
— Вытрите ему лицо, — приказал Есениус. — А окно прикройте, чтобы он не простудился.
— Да, господин доктор, как бы мне не простудиться, — озабоченно повторил Гейер. — С тех пор как я заболел, я все простужаюсь. Только подует ветер, сразу начинаю чихать и кашлять. — Гейер закашлялся.
И Есениус понял, что за больной перед ним.
Подробный осмотр лишь убедил его в правильности этого предположения. У Гейера ничего не было. Он просто выдумывал себе болезни. Вернее, ему внушал это доктор Гофбауэр. Если Гейер чувствовал боль или недомогание, причиной тому были лекарства ловкача-доктора, нашедшего себе в здоровом больном дойную корову. Он доил ее уже два года, и как доил! Неудивительно, что Гейеру пришлось продать дом. Если так пойдет дальше, через год и другого не станет. Есениусу уже встречались подобные доктора. Они заставляли пациента болеть так долго, как только возможно, и были очень несчастливы, если больной все же выздоравливал.
— Какие лекарства выписывает вам доктор Гофбауэр? — спросил Есениус, желая убедиться, что он прав в своем предположении.
— Сначала он давал мне тинктуру из жемчуга. Это было очень дорогое лекарство: стоило двенадцать золотых. Но, хотя я после этого и почувствовал себя лучше, полностью я не вылечился. Потом доктор выписал мне лекарство из семидесяти составных частей. После него у меня по всему телу пошла сыпь. И доктор дал от нее какую-то мазь. Говорили, что ту самую мазь, какой пользовали покойного императора Рудольфа. И я целых полгода мазался ею, пока сыпь не прошла. А потом у меня начались приливы крови. Видите, я все время потею. Теперь врач предписал мне тинктуру, в которой растворен ксерион. Я не знаю, что это такое, но, наверное, хорошая вещь, иначе она не стоила бы так дорого…
Есениус слушал простодушную исповедь господина Гейера и больше не жалел, что дал себя уговорить. Вне всякого сомнения, купец попал в руки несведущего врача-знахаря и аптекаря-жулика.
Но самое главное — он не может сказать Гейеру правды. Тот просто не поверит, что здоров. Врач должен постепенно «вылечить» его.
Есениус выписал безвредное освежающее лекарство, стоящее несколько грошей, и ушел.
Во второй визит он сказал Гейеру, что его состояние улучшилось и скоро он будет совсем здоров. Нужно только чаще отворять окна и выходить на улицу.
Он решил, что третий визит будет последним. Гейер здоров, врач ему больше не понадобится.
Но, раньше чем он отправился к Гейеру в третий раз, к нему явился доктор Гофбауэр.
Есениус понял зачем.
Доктор Гофбауэр, маленький человечек с лицом заправского плута и с беспокойными глазками, выразил радость, что ему привелось приветствовать в Вене такого ученого и славного коллегу, каким является личный врач короля Матиаша. Он пришел дружески пожать руку коллеге и предложить ему самое тесное сотрудничество. Он уже слышал об успешном лечении господина Гейера. Это тем удивительнее, что ему самому не удалось вылечить этого пациента за два года.
— Возможно, неправильно были выбраны лекарства, — ответил Есениус с насмешкой, которую Гофбауэр не мог не заметить.
— Но ведь я выписывал ему все лучшее, что способна изобрести врачебная наука в содружестве с аптекарским искусством! — воскликнул доктор Гофбауэр и постарался выразить на лице искреннее удивление.
— Я думаю, что в этом и заключалась главная ошибка, — продолжал тем же вежливо-насмешливым тоном Есениус.
«Пора, пожалуй, ему указать на дверь, — подумал он, — но пока этот жулик не скажет мне, с чем пришел, я не могу это сделать».
— Вы думаете, что лекарство, которое вы рекомендовали, действеннее того, что выписывал я?
— Я убежден в этом.
Доктор Гофбауэр прикусил язык. Этот приезжий — наглец, придется обломать его.
— Я желал бы поставить вам на вид то, что в вопросе целесообразности лекарств, предписываемых больным, со мной заодно все здешние врачи… Даже в случае схожих болезней нельзя предавать разным больным одинаковые лекарства. Нужно учитывать различные обстоятельства, скажем, общественное положение больного…
Есениусу надоели эти разговоры вокруг да около.
— Довольно играть в жмурки, давайте поговорим открыто. Вы считаете, что богатому пациенту нужно предписывать дорогие средства, а неимущему всякую ерунду?
Льстивое выражение исчезло с лица Гофбауэра. Его сменила ухмылка.
— Хорошо, поговорим открыто. Если бы вы отбили у меня самого лучшего пациента потому, что сами хотели что-нибудь заработать, я бы понял это и мог даже простить. Все мы люди. Но отбить пациента, которого человек лечит два года, и сказать ему, что он здоров, — позвольте, это переходит всякие границы! Где же вы до сих пор жили? На Луне, что ли?
— Вы отлично знаете, что я жил в Праге и был личным врачом императора Рудольфа, — высокомерно ответил Есениус.
— Да, я это знаю, — быстро возразил Гофбауэр. — И вы делали то же самое, что делаю я и все остальные врачи. Правда, в другой форме. И вы за плату поддерживали веру пациента в то, что он болен. Ведь мы не имеем постоянного заработка! Что же прикажете нам делать?
— Зарабатывать себе на жизнь честным трудом, — сурово ответил Есениус. Он чувствовал, что раздражение его усиливается— Бессмысленно продолжать этот разговор. Давайте сократим его! Скажите, чего вам надо? Зачем вы пришли ко мне?
Лицо Гофбауэра стало пепельным. Голос его задрожал от сдерживаемой ненависти:
— Я пришел предупредить вас. С волками жить — по-волчьи выть. Вы не должны поступать во вред остальным.
— А что, если я не пожелаю уступить? Вы предадите меня анафеме?
Гофбауэр хмуро взглянул на Есениуса:
— Все здешние врачи будут против вас.
Есениус с минуту молча смотрел на человечка, который стоял перед ним, и ему стало обидно: и это врач! Но вместе с тем он Почувствовал и упрек: кто виноват, что есть и такие между нами? Потом он сказал мирно, почти без гнева:
— Вы должны говорить только за себя. Я не верю, что все врачи пренебрегли заветом Гиппократа и академической присяги, как это сделали вы.
— Оставьте в покое присяги и заветы! — огрызнулся Гофбауэр. — На это ничего не купишь. Лучше одумайтесь. Я вам дал добрый совет.
— Благодарю за него. Но, если позволите, и я дам вам совет. Когда я начал изучать медицину, в первом же семестре я выучил на память присягу Гиппократа. Я помню ее до сих пор. Не мешало бы и вам повторять ее время от времени. Самое дорогое для врача — доверие больных. Нельзя обманывать это доверие. Иначе вы будете виноваты не только перед своими пациентами, но и перед самим собой. Может случиться, что и вам понадобится когда-нибудь помощь врача. Может ли быть действенной эта помощь, если вы всегда будете подозревать вашего врача в том, что и он таков же, как и вы? Вы сами подрубаете сук, на котором сидите. Опомнитесь, Гофбауэр, пока не поздно!
Гофбауэр слушал Есениуса с насмешкой. Он не перебивал его, но по презрительно опущенным уголкам губ было видно, что слова Есениуса обращены к глухому.
— Вам бы теологию изучать, а не медицину, — ответил он зло и ушел.
Спор с Гофбауэром смутил Есениуса. Есть зеркала, которые отражают человека удивительно изуродованным. Ему казалось, что Гофбауэр — такое кривое зеркало, и он, Есениус, видит в нем свое изуродованное до неузнаваемости подобие. И это подобие говорит ему с ухмылкой: «Еще немного, и ты был бы таким же! По какому праву ты теперь судишь Гофбауэра? Откуда взялась у тебя смелость считать себя лучше, чем он? А если ты и лучше, разве это твоя заслуга? Не будь Марии и Кеплера, разве не плавал бы ты в тех же водах, что и Гофбауэр? Успех, деньги, слава — все это толкает человека по наклонной плоскости».
Ах, как жалко, что нет с ним Марии! Как нужен ему теперь ее совет, ее ободрение!
В последующие недели только одно событие взволновало спокойную гладь его жизни: его посетил брат Даниель из Шопрона.
Есениус не виделся с ним девять лет. Последний раз они встретились в Виттенберге перед отъездом Есениуса в Прагу.
Братья сердечно обнялись и долго смотрели друг на Друга, стараясь прочесть на лицах следы времени.
— Как я рад, что вижу тебя в добром здравии, Янко! — заговорил брат Есениуса. — Как только я получил твое письмо, тотчас же собрался. А уж раз я здесь, то хотел бы с тобой посоветоваться. Ты старше, у тебя больше опыта, ты можешь помочь мне советом.
— Готов дать тебе любой совет, — отвечал Есениус, — только доверься мне.
— Я хочу сменить службу, — сказал Даниель, — меня приглашают главным егермейстером к эрцгерцогу Фердинанду. Посоветуй, как поступить. Мне обещают плату много большую, чем в Шопроне.
Есениус задумался. Даниель был его полной противоположностью. Он никогда не был особо силен в учении. С малых лет его влекло в поля и в лес. Уже мальчишкой он знал всех птиц не только по виду, но и по голосу; всех лесных зверей он распознавал по следам; все деревья — по листьям. Он знал все кусты, цветы и травы. Разумеется, он желал для себя такой службы, которая позволила бы ему как можно чаще быть в лесу. Женитьба на дочери зажиточного горожанина в Шопроне доставила ему такую должность: он стал лесничим города Шопрона. Он был главным распорядителем на всех охотах и снискал известность наилучшего в стране стрелка.
И вот тут-то и узнал о нем племянник короля, эрцгерцог Штирийский Фердинанд.
— В таком деле тяжело советовать, — отозвался Есениус. — Я не сомневаюсь, что на новой службе тебе было бы лучше. Только эрцгерцог слишком ревностный католик.
— Именно этого я и боюсь. Потому я и хотел посоветоваться с тобой.
— К сожалению, о Фердинанде рассказывают малоутешительные вещи. Говорят, он дал обет деве Марии извести в своей стране еретиков. А эти еретики, как ты знаешь, — мы, протестанты. Я думаю, тебе свободнее на нынешней службе. А у Фердинанда тебя будут окружать чужие люди. Тебе придется все начинать сначала, а в этом нет ничего приятного, поверь.
— Значит, ты думаешь, мне следует отказаться?
— Не спеши. Ты должен узнать, каковы там условия, и только обсудив вопрос со всех сторон, ты можешь решить.
На этом братья расстались. Есениус обещал, что, как только приедет Мария, они вместе навестят Даниеля в Шопроне.
Через несколько дней к Есениусу явился университетский педель с письмом от ректора Сигизмунда Гейслера.
От волнения лицо Есениуса покраснело. Он надеялся, что университет пригласит его читать лекции или хотя бы на публичное трупосечение.
Но, когда он вскрыл письмо, на его лице появилось разочарование.
Университет, опираясь на свои былые, традициями установленные права, указывал, что в городе Вене работу врача могут исполнять лишь доктора, которых уполномочил на то университет. Вместе с тем ректор требовал от Есениуса, чтобы он представил свой докторский диплом, без коего он не имеет права практиковать.
Есениус горько улыбнулся. Опять старая история с дипломом!
Придется идти к ректору и выполнять эти неприятные формальности.
В глазах ректора не было ни капли сочувствия или даже обыкновенной любезности, которая должна была бы возникнуть при встрече двух коллег, — ведь уже десять лет назад Есениус исполнял должность ректора.
Он представился ректору и сказал, что явился по его вызову.
— Да, да, — отозвался ректор холодно и смерил его испытующим взглядом. — Я надеюсь, диплом вы принесли с собой.
— Простите, что я не попросил у здешней академии разрешения на практику, я не знал, что это требуется. Ни в Виттенберге, ни в Праге санкции университета не требовалось. Да и в качестве личного врача его императорской милости…
— Ваше положение личного врача его императорской милости не обязывает нашу академию относиться к вам иначе, чем к другим. Его императорская милость может именовать своим личным врачом любого знахаря-фельдшера. Нас это абсолютно не касается. Но что касается практики, тут мы следуем предписаниям, вменяющим нам в обязанность проверять диплом каждого доктора, который намеревается практиковать в нашем городе.
По холодному, осуждающему тону ректора было ясно, что он получил о Есениусе самые неблагоприятные сведения.
Кто в этом заинтересован? Ведь университет не стал бы по собственной инициативе интересоваться дипломом личного королевского врача. Кому он стал поперек дороги?
Долго думать не пришлось. Имя Гофбауэра тут же всплыло а его памяти.
Но как Гофбауэр узнал о дипломе?
— Что ж, мне придется подчиниться местным законам. Диплом я вам охотно представлю. То есть не диплом, но подтверждение всех профессоров Падуанского университета о том, что я сдал предусмотренные для докторов экзамены. Только мне придется просить вас подождать несколько месяцев, потому что этого документа у меня с собой нет, он остался в Праге.
— А!.. — торжествующе протянул ректор.
Одно это восклицание объяснило Есениусу больше, чем если бы ректор произнес длинную речь. Восклицание ректора означало: «Теперь ты у меня в руках. Ты думаешь, я поверю твоей отговорке?» А возможно, оно говорило еще и о другом: «Теперь, когда мы дадим тебе по рукам, ты недолго останешься на хлебах у императорской милости».
Насладившись своим триумфом, ректор продолжал следствие:
— Самое удивительное и странное, что столь важный документ вы не взяли с собой на новую службу, а еще удивительнее, что вы сами признаетесь в том, что не имеете диплома, взамен его только какое-то подтверждение… Насколько я знаю, и в Италии каждому доктору при окончании университета выдают докторский диплом. Почему же вы его не получили?
Теперь ректор был настолько убежден в своей правоте, что нисколько не сомневался, как вести себя с подобным самозванцем. Только одно сбивало его с толку: этот бесспорный лжец держится удивительно — он не теряет уверенности и достоинства. Видно, он повидал свет, это стреляный воробей. Тем больше будет заслуга ректора, если он выведет его на чистую воду.
— Вы правы, ваша магнифиценция, доктора получают дипломы и в Падуе. Должен был получить и я. Только получение диплома было связано с присягой; я должен был присягнуть на верность императору и папе. Императору я принес присягу без размышлений, но от второй присяги отказался. Я протестант, и это противоречило бы моей совести.
Говоря, Есениус смотрел прямо в глаза ректору.
Эта уверенность несколько сбила ректора. Неужели его суждение об этом человеке было ошибочно?
— Вы были единственным протестантом из тех, кто кончил курс вместе с вами?
— Нет, нас было четверо.
— И остальные тоже отказались присягать?
Оба вопроса ректора были произнесены торопливо, один за другим, весь разговор шел стремительно.
Есениус ответил не сразу. Наконец он негромко сказал:
— Трое других присягнули и папе.
Ректор ожидал отговорок, стремления вывернуться, а этот чужеземный доктор обезоружил его своей искренностью. Ведь он говорит себе же во вред. Если он отказался присягать папе, значит, он является закоренелым еретиком.
— Вы не жалели позднее, что поступили столь легкомысленно? Разве у вас не было до сих пор неприятностей из-за вашего Диплома?
— И сколько! — ответил с горькой усмешкой Есениус. — В Виттенберге некоторые тамошние профессора обвинили меня в том, что я не имею права преподавать в университете. Тогда я потребовал из Падуи подтверждение в том, что я кончил учение, и его подписали все принимавшие экзамены профессора… Как только жена приедет из Праги, я представлю вам эту бумагу.
Ректор поглаживал длинную бороду и с любопытством разглядывал гостя. Его взгляд уже смягчился. Ректор умел уважать чужие взгляды и потому при всей недоброжелательности к иноверцам не мог подавить в себе симпатию к человеку, который сам выбрал себе нелегкий путь с препятствиями чтобы только не поступить против своей совести.
Но ректор еще не избавился от всех сомнений.
— Чем вы можете подтвердить правдивость ваших слов? — спросил он.
— Я мог бы просить поручиться за меня его милость канцлера Лобковица, который вместе со мною учился в Падуанском университете. Однако это продлилось бы ровно столько же, сколько займет путь моей жены из Праги. Я могу вам предложить только мое честное слово.
— Хорошо. Принимаю, — ответил ректор почти дружелюбно и добавил: — Только напишите в Прагу немедленно.
Самыми опасными при венском дворе людьми были трое верных слуг короля: первый министр и доверенное лицо Матиаша архиепископ Кесл и два шута, Нелло и Агрион. Кесл обладал почти неограниченной властью, Нелло был любимцем Матиаша, а Агриона боялись за его острый язык.
Есениусу не раз приходилось встречаться с шутами во дворце.
Все королевские гости боялись Агриона, потому что он не щадил никого, кто попадался ему на язык. Никто не знал, откуда у него такое имя — Агрион, что значит по-латыни «стрекоза». Шут обладал остротой ума, соединенной с редким даром речи. Его слова жгли, как крапива. Для большинства людей его физические недостатки были лишь поводом для насмешек. Они смеялись над ним, а он платил им тем же, да еще с лихвой.
Возможно, Есениус был единственным, кто видел в Агрионе человека. Обездоленного, несчастного человека, который ни разу не испытал человеческого участия и целебной силы любви. Ни словом, ни взглядом не дал Есениус почувствовать карлику, что считает его не таким, как все прочие люди.
Агрион, в свою очередь, платил доктору привязанностью. Возможно, эта симпатия и привела как-то Агриона к Есениусу.
Застенчиво, как люди, не привыкшие ходить к врачам, после долгих околичностей он высказал наконец цель своего визита.
— Бог так отметил меня, — начал он, указывая на свои горб, — что я служу людям лишь предметом для насмешек. Помогите мне. Избавьте меня от горба. Я хорошо заплачу!
И он доверчиво посмотрел на Есениуса, уверенный, что доктор может помочь ему.
А доктору стало грустно оттого, что он должен был обмануть доверие карлика.
— Мне очень жаль, Агрион, но я должен огорчить тебя. Твой недуг неизлечим. Нашей науке неизвестно средство, способное выпрямить твой позвоночник.
Агрион все еще не терял надежды.
— Если бы вы хоть попробовали, доктор! — сказал он умоляюще. — Я думаю, можно как-нибудь вытянуть тело…
Грустная улыбка врача лишила Агриона последней надежды.
— Это была бы опасная попытка, Агрион, без малейшей надежды на благоприятный исход. Ты должен примириться с судьбой. Вооружись терпением и силой, которые помогут тебе противостоять людской злобе.
Карлик ушел, низко склонив голову. Слова доктора так огорчили его, что он словно стал еще меньше ростом.
Несколько дней Есениуса не покидало тяжелое чувство. Он долго не встречал Агриона и думал, что шут избегает его.
А потом, занятый работой, и совсем забыл о горбуне.
— Вы слышали, Агрион умер? — спросил его как-то королевский камердинер.
— Не может быть! — воскликнул пораженный Есениус. — Что с ним случилось?
— Какой-то доктор Гофбауэр…
При упоминании этого имени недоброе предчувствие овладело Есениусом. Он схватил камердинера за плечо и проговорил взволнованно:
— Доктор Гофбауэр? Этот… Ох, плохо же я позаботился о несчастном Агрионе! Что он сделал?
Камердинер рассказал:
— Агрион уже давно искал доктора, который бы согласился вылечить ему горб. Наконец ему попался Гофбауэр, который утверждал, что в древности выпрямляли горбатых, привязывая их к лестнице и бросая эту лестницу с крыши на землю…
— Да, Гиппократ упоминает об этом. Это называлось — потрясение. Лестницу обкладывали подушками, чтобы больной не ушибся, и так бросали его с крыши. При падении на землю пациент, привязанный к лестнице, испытывал якобы такой толчок, что позвонки сами принимали должное положение.
— Ну да, — живо откликнулся камердинер, — так и Гофбауэр обещал вылечить Агриона. Бедняга горбун поверил ему…
— …и заплатил за это жизнью. Да ведь это убийство!
— Все так и говорят, что это убийство. Его величество король приказал арестовать Гофбауэра. Он уже заключен в темницу и ожидает суда.
При дворе обсуждали это событие. Все жалели доверчивого карлика и ругали неуча-врача.
— Этому проходимцу еще повезло, что он проломил затылок Агриону, а не Нелло. Этого король бы ему не простил.
Так рассуждали при дворе, с напряжением ожидая, какая судьба постигнет Гофбауэра.
Есениус был приглашен на суд.
Еще прежде, чем он получил это приглашение, ему пришлось немало подумать о происшествии, стараясь стать на место судьи. Гофбауэр виновен, это бесспорно, но в какой мере?
Это должен установить суд.
Гофбауэра обвинили в убийстве. Когда судья предоставил маленькому доктору слово, он очень подробно объяснил сущность лечения и привел выдержки из древних авторов, говорящие о благоприятных исходах этой операции. Свою защитительную речь Гофбауэр заключил торжественным призывом к совести судей и всех присутствующих:
— Я невиновен! Хотя меня и постигла неудача, причинившая смерть Агриону, хотя я и сам строго спрашиваю с себя как с врача, — я невиновен. Я испытал на больном средство, не применяющееся нынешними врачами, но описанное самим Гиппократом. Если мы следуем за ним в лечении других болезней, как можно ставить мне в вину, что я счел это испытанным и надежным средством? Если вы признаете меня виновным, то подорвете доверие ко всем докторам. Ведь каждый из нас движим высокими помышлениями и святой целью — помочь ближнему. Мы исполняем свою службу действительно самоотверженно и бескорыстно. Мы отдаем свои силы и здоровье на службу своих страдающих братьев. А вознаграждение, которое мы получаем за свой благородный труд, так мало, что о нем не стоит и говорить…
Эти слова Гофбауэра были встречены приглушенными смешками.
Есениус больше, чем кто-либо другой из присутствующих, понимал, какую бесстыдную комедию играет доктор Гофбауэр. Даже смерть человека не пробудила в нем совести. Вместо того чтобы признать вину, он хочет склонить суд на свою сторону болтовней, в которой нет ни капли искренности.
Наконец и доктора Есениуса пригласили высказать свое мнение.
Хотя на него весьма неприятно подействовала речь Гофбауэра, он старался выступить перед судом беспристрастно.
— Доктор Гофбауэр оправдывал применение данной операции множеством цитат из древних авторитетов. И я не считал бы доктора Гофбауэра виновным, если бы он это средство, применяемое древними врачами, Гиппократом и иными, использовал в тех случаях, в каковых и они достигли успеха. Возможно, что резкий толчок, который испытывает тело больного при падении лестницы с крыши, может привести к выпрямлению вывиха в позвоночнике. Но ни в каком случае нельзя выровнять позвоночник, искривленный от рождения. И об этом доктор Гофбауэр не мог не знать.
Зал суда зашумел от волнения. Гофбауэр неприязненно смотрел на Есениуса.
— Следует ли утверждать, что операция, произведенная над Агрионом, может быть приравнена к убийству? — спросил судья.
Есениус старался получше сформулировать ответ на вопрос, решающий судьбу человека.
— Я не дерзну ответить на такой важный вопрос одним словом. Дело заслуживает хотя бы краткого разбора. Я не желал бы отнимать у вас драгоценное время, но, если суд призван вынести справедливый приговор — а я убежден, что это является вашей целью, — он должен ясно представлять себе работу врача и ее нравственные законы.
Судья, очевидно, был согласен с Есениусом, потому что кивком головы дал ему понять, что он может продолжать.
— Если мы проследим за работой врача с древнейших времен, мы увидим, что она является непрерывной цепью сражений. Представьте дорогу, с обеих сторон отмеченную вехами. И с одной стороны дороги этих вех больше, чем с другой. Это ошибки.
На другой же стороне расстояние между вехами очень велико. Это наши успехи. Соотношение такое очень безрадостно, и человека слабого, нетерпеливого оно должно отпугнуть и отвратить от работы врача. Но настоящего врача подобные вещи не испугают; врач хочет бороться за то, чтобы наша работа сопровождалась непрерывным рядом успехов и очень редко в ней совершались бы ошибки и разочарования. Вся наша наука должна быть направлена к этой великой и возвышенной цели.
Есениус помолчал, перевел дух. Оглядел собрание. Он увидел, что его внимательно слушают, и продолжал:
— Терниста тропа к успехам. Она требует жертв. Если эти жертвы являются ценой новых успехов науки, мы миримся с ними, как с героическими жертвами. Но нас удручают жертвы, которые ничего не приносят, напрасные жертвы. Такой напрасной жертвой явился и Агрион.
Присутствующие удвоили внимание. Теперь речь пойдет о Гофбауэре.
— Я должен ответить на вопрос, как я расцениваю врачебную деятельность Гофбауэра. Доктор Гофбауэр решился применить средство, которое не давало никакой надежды на успех и которое, с точки зрения врача, являлось опасным для жизни. Возможно, он поддался просьбам и уговорам несчастного, который не только согласился на эту операцию, но сам желал ее. Но это не оправдание. Долгом врача является в таком случае отговорить пациента. А потому после достаточного рассуждения я отвечаю: доктор Гофбауэр из-за своего легкомыслия является виновником смерти человека. А так как это не первый случай его недобросовестного отношения к своему долгу врача, я считаю, что в будущем ему нельзя доверять такую важную и ответственную работу, как заботы о здоровье больных. Потому я предлагаю досточтимому суду потребовать, чтобы университет лишил доктора Гофбауэра диплома врача.
Суд принял предложение Есениуса.
Но Есениус не почувствовал удовлетворения.
«Сколько таких Гофбауэров еще осталось среди нас!» с горечью подумал он, выходя из зала суда.
Приезд Марии внес в жизнь Есениуса изменения.
«Теперь все пойдет по-другому, — думал Есениус, — все будет как в Праге…» Но так не случилось. Вена не могла сравниться с Прагой. В Праге он сразу нашел друзей и доброжелателей, тут же с самого приезда он везде встречал лишь недоверие, неприязнь и зависть. Он не мог избавиться от чувства, что здесь он только чужестранец и что его настоящий дом в Праге.
Причин было много. Своей столицей Матиаш сделал Вену, и этот выбор отражался на всем. В Праге протестанты представляла немалую силу и поэтому занимали многие значительные должности при императорском дворе. Вена была городом строго католическим, и протестанту трудно было получить значительный пост. Есениус чувствовал это по себе.
Подлинным личным врачом императора был итальянец Риччи, Есениус лишь считался им.
— Не печалься об этом, Иоганн, — утешала его Мария. — Ведь и в Праге первым личным врачом покойного императора Рудольфа был Гваринониус. И это не мучило тебя.
— Дело вовсе не в том, первый я или второй врач императора. Просто здесь со мной порой обращаются так, как будто я и вовсе не врач.
— Порой, — примирительно ответила Мария. — Значит, не всегда. Вспомни о твоем выступлении на суде по делу Гофбауэра. Меня при этом не было, но я могу представить себе, как великолепно это должно было выглядеть. И университет признал тебя и ценит…
— Но при дворе ведут себя так, как будто не знают о моем существовании! — выговорил наконец Есениус. Эта несправедливость больше всего донимала его. — Если бы мне, по крайней мере, вовремя платили.
Мария попыталась использовать недовольство мужа для того, чтобы предложить ему план, который она вынашивала уже долго:
— А не лучше ли нам, Иоганн, вернуться в Прагу?
До сих пор она не решалась задать ему этот вопрос. Но теперь, увидев, как изводят его все эти неприятности, она решилась.
Он подошел к ней, положил ей руки на плечи и ответил с улыбкой:
— Ты шутишь, Мария?
— Я серьезно, Иоганн, — тихо возразила она. — В Праге нам было лучше, и, если мы вернемся туда, нам снова будет хорошо.
Она заметила, как тень прошла по его лицу.
— В Праге нет императорского двора, там я буду лишь обычным врачом, как десятки других. А тут все же личный врач императора. Неужели мне добровольно возвращаться к тому, с чего я начал? Нет, Мария, ты не можешь требовать от меня такого.
Ее глаза угасли. Она не предполагала встретиться с таким страстным сопротивлением. Как он тщеславен, если из-за пустой гордости готов сносить любые обиды! Значит, все те уроки, что уже дала ему жизнь, были недостаточны?
— Что же ты собираешься делать, Иоганн? — грустно спросила Мария. — Ты и дальше будешь сносить все несправедливости и обиды?
— Нет, и именно поэтому я не уеду из Вены. Это было бы трусостью. Я буду бороться! Не так-то им легко будет со мной справиться.
— Бороться, Иоганн? С кем? С императором?
— Не с императором, а с людьми, которые пытаются очернить меня перед императором, которые становятся у меня на дороге.
Но он не убедил Марию. Она покачала головой и так же мирно сказала:
— Интриги не победить личными качествами. Оружие, которым ты обладаешь как врач, недостаточно против оружия, которым сражаются в придворных кругах.
— Я буду бороться не только как врач, но и как дворянин, — ответил он самоуверенно.
— Что ты имеешь в виду, Иоганн?
— Я напишу панегирик императору.
Она вздрогнула:
— Ты уже написал один панегирик императору! — Ее голос зазвенел, лицо покрылось румянцем.
— Да, год назад, когда Матиаш короновался чешским короной, я написал поздравительную речь. Император весьма благосклонно высказался о ней и поблагодари меня.
— Но он не стал к тебе благосклоннее, и все осталось по-старому.
— Потому что меня оговорили его советники. Панегирик, который я напишу теперь, я посвящу императрице Анне. Если она будет на моей стороне, интриги всех императорских советников ни к чему не приведут. Разве не блестящая мысль? — У него загорелись глаза.
Но Мария смотрела на мужа, как будто открыла в нем новую черту.
— Ну скажи, разве не отличная мысль? — повторил он, смущенный ее долгим молчанием.
Мария старалась говорить спокойно, но красные пятна на ее бледном лице и тонкой шее свидетельствовали о глубоком волнении.
— Мне не нравится это, Иоганн, — ответила наконец она принужденно. — Помнишь, что сказал Кеплер? Никогда не забывай, что ты врач. Будь всегда и прежде всего врачом.
Мария не отговорила Есениуса. Он написал панегирик о потомстве Фердинанда I и Максимилиана II, причем больше всего хвалил Матиаша. Немало возвышенных слов было посвящено и императрице Анне, которую он сравнивал со славной византийской императрицей Теодорой.
Когда Есениус после выхода книги прочел Марии посвящение, он весело спросил жену:
— Как тебе это нравится? Красиво я написал?
Ей не хотелось портить его радость. Она знала, каких волнений и надежд стоит ему издание каждой новой книги, поэтому ответила кратко:
— Красиво.
Он заметил, как холодно и безучастно она сказала это.
— Нет, скажи откровенно, что ты об этом думаешь?
— Что я могу тебе сказать? Это красиво, но… это неправда.
Даже и эти ее слова не убедили его. Он считал, что она несправедлива к нему, и объяснял это ухудшением ее здоровья.
Она уже из Праги приехала похудевшая, побледневшая, с выражением усталости в глазах.
В последнее время состояние Марии ухудшилось. Хотя она делала над собой героические усилия, по лицу было видно, как она страдает, и внешние признаки болезни скрыть она не могла.
Есениус стал замечать, что жена не ест вместе с ним.
— Почему ты не ешь? — спрашивал он озабоченно.
— Я поела, — отвечала она. — Не дождалась тебя…
Однажды в кухне он нашел тарелку с недоеденной овсяной кашей. Это и была ее еда.
Подозрение, которое было сначала робким, как первый удар цыпленка по скорлупе яйца, начало расти. Страшное предчувствие набросило на его жизнь мрачную тень.
Он пригласил на консультацию доктора Риччи.
Итальянский доктор подтвердил его диагноз.
— Рак желудка, вы были правы, — сказал он в прихожей тихо, чтобы больная не услышала.
Хотя Есениус и сам точно знал ход этой ужасной болезни, он спросил у своего коллеги, как непосвященный, который ждет хоть какого-то утешения:
— Как вы думаете, долго она еще будет мучиться?
Риччи пожал плечами.
— Вы же знаете, как это бывает. Все зависит от сердца. Месяц… два месяца… не больше трех. Теперь надо только стараться облегчить ее страдания… Это будет тяжело и для нее, и для вас. Да поможет вам бог…
Следующие недели были очень грустными. Мария так слабела, что не могла ходить. Она лежала и молилась. Но молитвы приносили облегчение только душе. Она похудела еще больше, лицо стало пепельным, нос заострился — словом, Есениус уже видел «гиппократовские знаки», знаки смерти…
Мария ждала смерти, как облегчения страданий. Грудь ее теснила страшная тяжесть: страх за мужа. Что он без нее будет делать? Но смерть не отвратить ничем, ни молитвой, ни беспокойством за любимых, которых нельзя оставить одних…
В середине мая Мария закрыла глаза — навеки.
Как дерево, выдернутое с корнями мощным вихрем, как ладья с поломанным веслом в бурном море, — таким был Есениус в эти тяжелые дни. Он смотрел на лицо жены, которое в мигающем свете свеч казалось еще бледнее, чем днем, слушал молитвы двух плакальщиц и думал. Губы машинально повторяли слова молитвы, но мозг был занят другим. Утрату Марии, как свежую рану, он будет чувствовать до самого конца своей жизни. Время, конечно, немного залечит ее, но его жизнь изменится, как меняется река, когда она попадает в другое русло. Восемнадцать лет, которые они провели вместе, оставили глубокий след — он не сможет привыкнуть к одиночеству. И вот эти восемнадцать лет вновь проходят перед ним.
Он упрекает себя, что не часто давал почувствовать Марии, как она ему дорога и нужна. Ему достаточно было знать, что Мария принадлежит ему, что она с ним, что он может всегда и со всем обратиться к ней. Это давало ему уверенность и силы. Знала ли об этом Мария?
Тоска сжала ему сердце. Он никогда не сможет отблагодарить ее теплым словом…
Нет, невозможно, чтобы он никогда не встретился с ней. Смерть не может разделить их навеки. В этом его утешение.
А Есениусу теперь нужно утешение, очень нужно.
Он почтит память Марии, он напишет книгу о бессмертии Души и разошлет её всем своим знакомым.
Сначала нужно позаботиться о достойном погребении усопшей. Есениус решил перевезти тело жены в Шопрон и там похоронить.
Он шлет печальную весть всем друзьям. Одно из первых писем он посылает Кеплеру в Линц.
«Свидетельствую мою преданность Вам, доброжелателю моему и другу самому дорогому.
С тяжелым, сокрушенным горем сердцем извещаю Вас, что господь бог всемогущий, господин живота нашего и смерти, податель всех благ этой жизни, дорогую и горячо любимую супругу мою, Марию Есениусову, урожденную Фель, из этой юдоли слез к себе призвал и сделал ее наследницей царства небесного. И тем меня, покорно принявшего крест сей, в невыразимую печаль погрузил. Коль скоро тело дорогой усопшей ничего иного не требует, как только предания матери нашей земле, чтобы оно там до судного дня отдохновение приняло, окажем ей эту последнюю почесть и похороним ее по христианскому обычаю в городе Шопроне в пятнадцатом часу.
Осмелюсь поэтому почтительнейше просить Вас, чтобы Вы телу любимой супруги моей последнюю христианскую любовь отдали и проводили вместе с другими дружески к нам расположенными особами в этот последний путь из дома моего брата Даниеля Есениуса в Шопроне до храма Богоматери, в том же городе находящегося…»
Тело усопшей отвезли в Шопрон, чтобы покоилось оно в тамошнем храме, в близости от живых членов фамилии.
Кеплер на погребение не прибыл.
ЖИВАЯ СОВЕСТЬ
Еще когда Есениус был в трауре, в Вену приехал Кеплер и нанес ему визит.
Они не виделись с той поры, как Есениус покинул Прагу. Сначала ученые часто писали друг другу. Письма их были очень сердечными. Они сообщали друг другу о семье и обменивались научными новостями. Есениуса радовал каждый успех Кеплера, хотя сам он часто испытывал укоры совести. Словно его кто-то спрашивал: «А ты?»
Неожиданно от Кеплера перестали приходить письма. «Наверное, очень занят работой, — думал Есениус, — вот и забывает написать».
Зная рассеянность Кеплера, он снова написал ему. Но и на этот раз Кеплер не ответил.
Видно, дело было не в забывчивости. Но в чем же? Есениус не мог понять, чем он обидел друга.
Ему было очень больно сознавать, что какое-то недоразумение нарушило их прекрасную дружбу. Но, не чувствуя за собой никакой вины, он надеялся, что со временем все выяснится.
И вот вдруг после похорон без всякого предупреждения явился сам Кеплер. Тем дороже был для Есениуса его приезд.
Они посмотрели друг другу в глаза, и в этом взгляде, глубоком и пытливом, растаяло всякое отчуждение: они горячо обнялись и долго, безмолвно жали друг другу руки.
— Пусть бог дарует вам силы в вашем великом горе, Иоганн, — промолвил Кеплер. — Я получил ваше сообщение поздно и потому не смог тотчас же прибыть на похороны. Простите.
Они беседуют одни в пустой комнате, но тихие слова, идущие из самых потаенных глубин сердца, вызывают в их памяти невидимые образы дорогих существ, которые столь недавно составляли неотделимую часть их жизни. И задушевные слова очищают душу и снимают тяжесть с сердца. Как будто рухнула невидимая преграда между ними, как будто все снова как в Праге…
— Я два раза писал вам, Иоганн, — проговорил Есениус, но вы мне не ответили. Вы получили мои письма?
Этот упрек прозвучал скорее как жалоба на какое-то препятствие, которое стало на пути их дружбы. Есениус внимательно смотрел на Кеплера.
Кеплер выдержал взгляд твердо.
— Я был зол на вас, Иоганн. Очень зол. И, если бы не удары судьбы, которые обрушились на нас обоих и которые показали мне, как ничтожны пред лицом вечности даже самые большие человеческие страсти, я бы сердился на вас еще и посейчас. Но, когда я взвесил все, я пришел к убеждению, что неправ.
Есениус слушал пораженный. Значит, он не ошибся!
— Ради бога, из-за чего? Я ничего не знаю…
Кеплер внимательно смотрел на стол, рисуя на нем в задумчивости какие-то орнаменты и геометрические фигуры.
— Возможно, вы рассердитесь, но я должен вам все сказать. Наша дружба должна выдержать и это испытание.
Есениус не верил своим ушам. Он и представления не имел, на что намекает Кеплер. Хотя он не чувствовал вины, слова Кеплера и его тон говорили о том, что дело не шуточное.
— Мне было неприятно то, что вы написали о Матиаше.
У Есениуса словно гора с плеч свалилась. Слава богу, только это. Но теперь его одолело любопытство.
— Простите, друг мой, но я в самом деле не понимаю, отчего вы рассердились. Ведь тут нет ничего, что могло бы вас задеть. Я написал в честь императора…
— Именно в этом-то все дело! — горячо воскликнул Кеплер. И, понизив голос, добавил грустно: — Иоганн, почему вы погрязли в мелочах?
Есениус не понимал, в чем его упрекает Кеплер.
— Вы врач, Иоганн, известные врач. Самый лучший врач, которого я знаю. Почему вы забываете об этом? Почему не пишете только своих медицинских книг? Почему унижаетесь на манер придворных писак, которые стараются снискать благосклонность хозяина безвкусными хвалебными одами? И одами, как они сами знают, совсем незаслуженными?
Есениус покраснел. По какому праву Кеплер разговаривает с ним в таком тоне? Со студенческих лет он ни от кого не слышал подобных упреков.
— Простите, Иоганн, — промолвил Кеплер грустно. — Я знал, что вы рассердитесь. Считайте, что я ничего не сказал. И забудем об этом.
— Нет, наоборот, продолжайте. Нам нужно поговорить. Надо объясняться, — быстро сказал Есениус и добавил прерывающимся голосом: — Я не ожидал ваших слов и не готов… Дайте собраться с мыслями…
— Я не хотел вас обидеть, — оправдывался Кеплер, жалея, что затеял этот разговор.
— Мы, врачи, должны иногда пользоваться ножом, а то и раскаленным железом, если нужно помочь больному. Но, если врач на этот раз вы, а я больной, режьте, не смотрите, что нож вонзился глубоко. Я убежден, что вы хотите мне помочь.
— Значит, вы согласны? Да, я хочу вам помочь.
Голос Кеплера звучал взволнованно. Есениус успокоился, подавил в себе последние следы раздражения и обратил взгляд к другу, с доверием ожидая его обвинения и приговора.
— Итак, мы говорили о панегирике императору. Мне отвратительны подобные восхваления. Я знаю, что сильным мира сего они милее всякой музыки, но для чего становиться на этот путь нам, ученым? Императора окружает достаточно людей, которые выполняют эту работу за деньги.
— Я думал не о деньгах, — сердито прервал Есениус.
Кеплер остановил его:
— Знаю, ваши побуждения были благороднее.
— Да, я стремился послужить нашему делу. Я надеялся, что панегириком склоню императора на свою сторону и тогда изменится его отношение к протестантам.
— И улучшится ваше личное положение при императорском дворе, — добавил с насмешкой Кеплер. — Надеюсь, вы уже убедились в бесполезности подобных усилий?
— К сожалению, — вздохнул Есениус.
— Вот видите, — улыбнулся Кеплер. — На отношение императора к нам, протестантам, влияют факторы более мощные, чем ваш панегирик: архиепископ Клесл, папский нунций, императорский племянник эрцгерцог Фердинанд и так далее. Откровенно вам говорю: наше раболепие, когда мы посвящаем свой труд какой-нибудь высокородной особе, слишком унизительно. И пора покончить с этим обычаем.
Есениус должен был признать, что Кеплер прав. Он на собственном опыте убедился в этом. Когда вышло его сочинение, посвященное Матиашу, единственной наградой ему оказались несколько милостивых слов, произнесенных монархом. За эту честь пришлось платить слишком много. Дорогая цена для удовлетворения тщеславия.
И Кеплер, как будто читая его мысли, глубоко вонзил нож — острое слово — в душу своего друга.
— Я читал ваш «Oratio Inauguralis», вашу хвалебную речь, которую вы посвятили Матиашу в честь его провозглашения чешским королем. Вы упоминали в этой речи, как Геркулес еще в детстве задушил змею и как Александр Македонский укротил дикого коня Буцефала. Какова цель этой прозрачной аллегории? Славить Матиаша за то, что он подавил бельгийских и нидерландских повстанцев против габсбургской тирании? Иоганн, спросите свою совесть: правильную позицию вы себе избрали?
Слова Кеплера проникают в сознание Есениуса, как горячие угли, и нестерпимо жгут… Он вспомнил о своей диссертации, направленной против тиранов, которую он пламенно защищал во францисканском соборе в Падуе; вспомнил свой первый разговор с покойным императором Рудольфом, — тогда он без страха высказал государю свое мнение о тиранах — и поставил рядом с этим восхваление Матиаша, монарха, который постыдно нарушил все данные протестантам обещания.
— В ту пору я еще не знал, что император нарушит данное им слово и отнимет наши свободы, — почти выкрикнул Есениус, как будто хотел заставить замолчать голос своей совести. — Вы ведь знаете, что тогда, после нашествия пассаусцев, он казался нам заступником, единственным защитником наших религиозных свобод, которые он торжественно поклялся сохранить. Когда Матиаш со своим войском выгнал пассаусцев и освободил Прагу, все нам представлялось в розовом свете.
Но голос совести звучал обвиняюще:
«Ты отступил от своих принципов! Ты, некогда борец против тиранов, сегодня прославляешь тирана! Почему, за что? За крохи милости, за фамильярный хлопок по плечу, за кусок белого хлеба, за место в лучах господского благоволения».
Этот внутренний голос звучал суровее упреков Кеплера. Как он был слеп! Почему не постарался взглянуть на себя со стороны, почему не задумался над тем, как расценят его поступок друзья? Неужели и вице-канцлер Михаловиц судит о нем так же, как Кеплер? А Будовец? А Бенедикти? Если да, то почему никто из них никогда ему об этом не говорил? Какие мучительные мысли! Но Кеплер еще не кончил.
— Иоганн, мой отец должен был сражаться за свободу под знаменами герцога Альбы против нидерландских бойцов, — продолжал Кеплер, — которых воины Альбы называли «мятежниками». Отец должен был сражаться и против «мятежников» в Бельгии, и, когда он позже рассказывал нам об этом, я плакал от жалости над судьбой этих несчастных героев, бессильно сжимая кулаки и страстно мечтая сражаться с ними вместе за их святое дело… даже против собственного отца. Вы понимаете, Иоганн, какая это была сила? Вы удивляетесь, почему мне так больно было увидеть вас среди врагов? Я считал, что вы предали нашу дружбу… Но есть тут и другое, — продолжал он. — Я отказался служить Матиашу, чтобы не чувствовать себя связанным. Собственно, мне не пришлось долго раздумывать, потому что мне горек императорский хлеб. Да и прежде было время убедиться в этом. Если мы с вами, скажем, заказываем у портного одежду обувь у сапожника, мы считаем своим долгом платить за работу. А у знатных господ, особенно у знатнейшего из них, это не в обычае. Они всегда должны тем, кто им служит. Мне королевская казна задолжала больше четырех тысяч золотых. И я поблагодарил за такую службу и принял место профессора математики в Линце, в гимназии. А как обстоят ваши дела?
— Да и мне задолжали тысячу двести талеров… Пожалуй, даже больше, — нехотя ответил Есениус.
— Вот видите! И вы еще восхваляете такого господина!
— Я уже давно собираюсь отказаться от императорской службы и вернуться в Прагу, — тихо ответил Есениус.
Кеплер, ни слова не говоря, пожал ему руку.
— Но вы еще сказали не все, что хотели, — напомнил Есениус.
— Я все сказал: жаль растрачивать ваш опыт и талант на сочинение таких произведений, как панегирик Матиашу. Правда, и я составлял календари и гороскопы, но мне надо было на что-то жить. И все же мне стыдно. К счастью, это не моя вина. А что касается научной работы — я никогда не разменивал ее, когда я занимаюсь наукой, мне помогает мысль, что я служу не только императору, но и всему человечеству, что я тружусь не только для нынешнего поколения, но и для потомства.
Есениус горько усмехнулся и махнул рукой:
— Для потомства останется неизвестным, кто такой был доктор Есениус!
— Это неправда, Иоганн, — ответил Кеплер. — Вы не цените себя. Только от нас зависит, будет ли помнить нас потомство. Не сочтите это нескромностью, но что касается меня, я убежден, что память обо мне сохранится. И если даже наши современники и не читают моих трудов, их будут читать через сто лет.
Он сказал это просто, без тени тщеславия, так же, как сообщил бы, что после разговора с Есениусом возвратится в Линц.
Есениус взглянул на старого друга с удивлением. Сколько величия в этом сознании важности собственной работы! И в его сердце закралось что-то похожее на фальшивый звук в музыке — в первую минуту он счел это завистью. Но нет, это скорее просто сожаление. Да, ему стало жалко, что о своих трудах он не может говорить столь уверенно, как Кеплер.
— Вы совсем другое дело, Иоганн, — проговорил он в глубоком раздумье. — Но которая из моих книг переживет меня? Что смогут рассказать мои произведения через сто лет?
Кеплер ответил не сразу. Он очень хорошо чувствовал, сколько муки в словах Есениуса. И все же не мог рассеять его сомнения. Даже как друг. Есениус прав. К сожалению.
— Кто же в этом виноват, Иоганн? — тихо спросил он и, не ожидая ответа, добавил: — Только вы. Почему вы не остались только врачом? Почему желаете быть и философом, историком, космографом и еще бог знает чем? Вы хотите быть универсалом, но мы живем не во времена Аристотеля, ни даже во времена Леонардо[38], когда один человек мог объять всю сумму человеческих знаний. «Ars longa vita brevis» — «Жизнь коротка, искусство долго», — говорит Гиппократ в своих «Афоризмах». И ничего против этого не возразишь. Но нужно сделать выводы: выбрать одну область и посвятить ей всю жизнь. Иначе человек останется лишь на поверхности и сможет только повторять чужие мысли.
Слова Кеплера глубоко подействовали на Есениуса.
Только теперь личный врач императора понял, как далеко вперед ушел Кеплер. Он понял, в чем заблуждался он сам, когда ступил на путь наименьшего сопротивления, где обходил препятствия, вместо того чтобы преодолевать их. Ему придется еще много поразмыслить, прежде чем он до конца поймет слова друга.
Разговор перешел на дела и заботы Кеплера.
— Что же ваша научная работа? Когда-то, еще в Праге, открыв эти два закона движения небесных тел, вы сказали, что ищете и третий закон. Вы его нашли?
— К сожалению, пока нет, хотя работа продолжается годы.
— Но ведь ваши два закона доказывают правильность системы Коперника?
— Мне недостает еще маленького звена в цепи доказательств. Я надеюсь, что скоро найду его. Собственно, я держу уже его за хвост, но остается еще взять его за рога, и тогда система Коперника будет безупречна.
Глаза Кеплера горели воодушевлением.
И он был прекрасен в это мгновение.
— А как вам живется на новом месте?
— Не могу пожаловаться. Во всяком случае, я чувствую себя намного свободнее, чем на службе у императора. Я мог бы сказать, что совсем удовлетворен, если бы… — Кеплер умолк. Потом продолжал: — Судьба наделяет человека и хорошим и плохим. Недавно я узнал, что в Эльмендингене обвинили в колдовстве и посадили в тюрьму мою мать. Я предпринимаю все возможное, чтобы помочь ей, но не знаю… Страшно подумать, чем все может кончиться. Костром.
Есениус вздрогнул. Обвинение в колдовстве опаснее, чем обвинение в убийстве.
— Но, возможно, ей удастся доказать свою невиновность, — озабоченно проговорил он.
— Но как? — с горечью отозвался Кеплер. — Множество людей присягнуло, что она летает на метле, обвинили ее в чернокнижии. Говорят, что она насылала порчу на коров эльмендингенских крестьян. Как может она доказать свою непричастность? И главное, как долго сможет она доказывать, что невиновна? Она стара, ей почти семьдесят лет, и, если ее подвергнут пыткам, она признается во всем, что они пожелают. Понимаете, как это страшно?
Хотя в Праге ведьм и не сжигали на костре, но Есениус слышал о том, что происходит в чужих землях: в Испании, во Франции, в Голландии и в Швейцарии. И хуже всего то, что обвиняемого в колдовстве никто не осмеливался защищать, чтобы и на него не пало подозрение в связи со злыми силами. Если человек обвиняется в убийстве, то учитывают и смягчающие обстоятельства, но если в колдовстве — нет ему прощения. Тут даже малейшее подозрение равносильно самому большому преступлению. Ибо стоит на волосок поддаться дьяволу, и ад приобретает полную власть над человеком.
— Какая слепота, какой ужас! Стоит ли вообще бороться за расширение познаний человека, за торжество его разума, если ученые люди верят в ведьм и все ваши усилия доказать истину напрасны? — безнадежно произнес Есениус.
Кеплер поднял голову, и его бледное лицо залил румянец волнения.
— Нельзя поддаваться таким мыслям, Иоганн, — страстно воскликнул он. — Это же бегство с поля битвы. А мы не имеем права его покидать, мы должны сражаться против невежества и слепоты. Нельзя допустить мысли о том, что люди летают на метле, это противоречит здравому смыслу. Мы должны заявлять об этом открыто.
— И тогда нас постигнет участь Джордано Бруно или Мигуэля Сервета, — с горечью ответил Есениус.
Кеплер задумался. У него было такое чувство, будто он наткнулся на глухую стену. И в самом деле, не лучше ли молчать, идти не далее того, на что осмелились предшественники и современники? Или выждать, пока провозвестники новых идей мощным потоком заполнят море невежества… Однако такие сомнения недолго владели Кеплером. Рассуждай так Колумб, он никогда бы не открыл Новый Свет, и, если бы Коперник не дерзал идти дальше своих предшественников, еще сегодня Земля считалась бы центром Вселенной… Нет!
— И что бы нам ни грозило, мы не имеем права отступать, — заключил он.
— Вы непобедимы в вашем святом порыве! — с восхищением воскликнул Есениус. — Хотел бы и я стать таким же неустрашимым борцом за правду.
— Отчего вы так говорите? — с упреком отозвался Кеплер. — Ведь и вы боролись и боретесь своей наукой за правду. К сожалению, вы немного свернули на иной путь, но ведь это в прошлом! Не станем об этом больше говорить. Теперь речь идет о настоящем, а главное — о будущем. Поэтому я могу только одобрить ваше решение покинуть здешний двор. Вена, а особенно императорский дворец, — среда не из лучших для ученого, который хочет бороться за правду. Как доктор медицины, вы имеете достаточно возможностей жить независимо, свободно. Не размышляйте, освободитесь от пут, которыми вы позволили себя опутать добровольно.
Есениус был согласен со словами друга. Но после переезда Есениуса, возможно, они больше и не увидятся.
Кеплер не думал обо всех последствиях отъезда Есениуса из Вены. Он видел только одно: отъезд полезен для Есениуса, и это казалось ему самым важным. Все остальное должно было подчиниться главному. Решать должен разум, а сердце пусть молчит.
— А вы, Иоганн? — спросил Есениус Кеплера. — Почему бы вам не вернуться в Прагу?
Кеплер покачал головой:
— Единственно возможным для меня местом был бы университет. Я не сомневаюсь, что некоторые профессора Пражской академии рады были бы видеть меня там, но… — Кеплер помолчал минуту. — Но, пока не решится дело моей матери, я никуда не уеду из Линца. Я хочу быть как можно ближе к ней.
— Я понимаю вас и признаю ваши доводы, — взволнованно ответил Есениус. — Но это означает, что мы очень редко будем видеться… если мы вообще когда-нибудь увидимся.
Голос его дрогнул. Их соединяло пятнадцать лет искренней дружбы. Пятнадцать лет успехов и разочарований. И теперь, когда они снова встретились, эта прекрасная дружба должна была кончиться разлукой, как день кончается вечером.
— Мы будем писать друг другу. Ведь Прага не на другом конце света, ответил Кеплер ободряюще, хотя и его одолевала печаль. — А если писем долго не будет, если кто-нибудь из нас не соберется или забудет написать… посмотрим ясной ночью на звезды. Там наши взгляды встретятся, мы оба увидим близкую Луну или отдаленный Марс, Кассиопею или уходящий в бесконечность Млечный Путь. И, когда наши взгляды встретятся, сердца наши согреют воспоминания…
Он замолчал, задумчиво глядя перед собой.
Есениус первым нарушил тишину:
А если и при взгляде на звезды не согреется сердце?
Кеплер улыбнулся спокойной улыбкой примирившегося с судьбой человека:
— Будем считать это знаком того, что другой смотрит уже сверху… и ожидает там своего друга.
RECTOR MAGNIFICUS (ВЕЛИКИЙ РЕКТОР)
Есениус недолго оставался в Вене. К концу лета 1615 года он подал в отставку. Его просьба была удовлетворена быстро — все-таки при императорском дворе будет одним еретиком меньше. После возвращения из Вены он стал «всего только» пражским врачом. Сначала ему пришлась по душе эта перемена. По крайней мере, будет больше свободного времени и никто не заставит его, как на императорской службе, поступать против своей совести.
Материальных забот у него не было.
Теперь он остался один, а его доходов хватило бы на целую семью.
После беспокойной, наполненной интригами жизни в Вене он сразу попал в тихий уголок. Его жизнь в Праге походила теперь на гладь стоячей воды. Но Есениус не любил стоячих вод. Его беспокойный дух скоро пресытился таким существованием и затосковал по переменам. Сначала это было какое-то недовольство собой. Ему казалось, что он прозябает в бездействии. И, хотя от полувека отделял его только шаг, он чувствовал себя еще молодым и полным сил для дела любой трудности. Но никто не требовал от него свершения таких дел. Несколько тяжелых больных — и все.
Он теперь часто углублялся в произведение Везалиуса «О строении человеческого тела». И, открывая книгу, думал о ее творце. Какой головокружительный взлет — и какое падение.
В судьбе Везалиуса было что-то беспокойное, загадочное и необъяснимое. На суде он оправдывался тем, что некоторые органы человеческого тела могут даже после смерти непроизвольно сокращаться. Момент смерти не прекращает всей деятельности организма. Только этим можно объяснить и то, что волосы, усы и ногти растут еще некоторое время после смерти человека. Даже сердце от прикосновения могло сократиться.
Неразрешимый вопрос, поставленный Везалиусом, все больше занимал Есениуса. Если Везалиус прав и в момент смерти не прекращается деятельность всех органов, не исключена возможность, что некоторых людей можно вернуть к жизни даже с того берега…
У него голова пошла кругом от такой мысли.
А что, если попробовать и доказать?..
Он даже думать не решался о последствиях этого опыта. Несколько дней ходил сам не свой, не мог ни есть, ни спать, настолько захватили его планы и поиски средств их осуществления.
Наконец он решился.
Однажды вечером, когда небо было затянуто тучами, он зашел к палачу Мыдларжу и поведал ему свой план.
Мыдларж заинтересовался. Это было еще заманчивее, чем составление скелета пятнадцать лет назад.
— Я бы решился. Но вы должны получить разрешение рихтара. Так безопаснее.
Есениус признал совет разумным.
Рихтар даже отступил на шаг, когда Есениус обратился к нему со своей просьбой. Неслыханно! Рихтар с трудом верил своим ушам, и Есениусу пришлось повторить просьбу.
— Это же святотатство! Смертный грех! Дьявольское наваждение! — восклицал рихтар.
Но Есениус убедил его, хотя пришлось употребить все свое красноречие.
В день казни, когда осужденному должны были отрубить голову, рядом с палачом стоял Есениус.
Люди привыкли, что во время казни рядом с осужденным находится только священник. Что же тут делает врач?
Когда голова осужденного упала под мечом палача, Есениус подошел к трупу, приложил упавшую голову и попытался остановить кровотечение. Прижав друг к другу перерезанные вены, он постарался соединить пластырем отделенные части тела.
Но это не дало ожидаемого результата. На одну минуту приоткрылось веко над левым глазом, и все… Только непроизвольное движение, ничего больше. Но для Есениуса и это было важно. Это доказывало, что Везалиус не ошибся в своем предположении. Если бы удалось убедить в этом судей, Везалиусу бы удалось избежать сурового приговора и он не окончил бы своих дней изгнанником, человеком, отмеченным клеймом убийцы.
Несколько раз Есениус повторял свои опыты, но все они кончались безуспешно.
«То же самое, наверное, чувствовал раввин Лев, стараясь оживить мертвую глину, — разочарованно думал Есениус. — Глина или мертвое тело — это одно и то же. И мое разочарование сильнее, потому что я старался оживить тело, в котором еще минуту назад билась жизнь…»
Единственным результатом опытов были слухи, пущенные кем-то по городу. Имя Есениуса произносилось с восхищением, завистью и ненавистью.
Но ему было все равно. Итак, еще одна из вех, отличающих неудачи на пути исследований, о которых он говорил на суде в Вене. Груз, который притягивал к земле и не давал мысли воспарить к облакам.
Пройдет еще немало времени, прежде чем он почувствует себя готовым к новому взлету.
Но он будет готовиться!
Ведь в других странах веют уже новые ветры, и он просто не может остаться к этому равнодушным.
В бурном потоке событий Есениус только изредка вспоминал, что где-то далеко в Виттенберге изучает медицину бакалавр Вавринец Адамек, сын мастера Прокопа. Вспоминал о нем, встречаясь с мастером Прокопом или его старшим сыном Ондреем, у которого была уже своя цирюльня. Теперь он был известен в Праге как искусный фельдшер.
Но однажды в дом Есениуса вступил красивый молодой человек в черной мантии и красном берете магистра. Есениус в первую минуту не узнал гостя.
— Что вам угодно, магистр? — спросил он, решив, что к нему пришел больной, и, как видно, чужеземец.
— Вы не узнаете меня? — смеясь, воскликнул молодой человек.
Есениус всплеснул руками.
— Боже великий, это ты, Ваврик? Добро пожаловать, друг, Добро пожаловать! Садись.
Посещение молодого магистра принесло истинную радость Есениусу. Вавринец Адамек поступил в Пражский университет, а затем и в Виттенбергский, только благодаря стараниям Есениуса. При каждой встрече с мастером Прокопом Есениус справлялся о Вавринце, а когда кто-нибудь приезжал из Виттенберга, он никогда не забывал осведомиться о своем юном друге.
Доктор приготовил на скорую руку угощение и забросал гостя вопросами. Вавринцу пришлось рассказывать все по порядку. Сначала об университете. Кто теперь ректор, кто декан. И главное: кто из былых коллег Есениуса там живет и работает. Вавринец долго рассказывал, а доктор слушал его, согретый особенным чувством, в котором сливались печаль приближающейся старости и нерастраченные запасы любви, переполнявшие его сердце. Есениус остался один. Время еще не притупило скорби по сыну и жене. О Марии он думать не переставал, иногда ему даже казалось, что она не умерла, вот сейчас он вернется домой, а Мария ждет его с ужином, потом станет участливо расспрашивать о работе… В такие минуты возвращение домой казалось особенно тягостным Сердце терзала жестокая тоска, и он часто ночью отправлялся в госпиталь или к своим тяжелобольным, только бы отвлечься от горестных мыслей.
При взгляде на Вавринца Есениус вспоминал и о своем сыне Ферко. Печаль, спутница этого воспоминания, была одновременно печалью по всем несбывшимся надеждам и мечтам.
Он смотрел на Вавринца и видел свою собственную молодость. Вавринец стоит у начала жизненного пути, все у него еще впереди. А Есениус уже на вершине. Нет, и вершина уже позади— теперь он спускается вниз. Нет, он не чувствует еще себя старым, но его беспрестанно мучают сомнения о смысле его работы. «Неужели все позади?» — спрашивает он себя. Его сильная натура протестует, она побуждает его к новому напряжению всех сил, но всякий раз его останавливает вопрос: «Зачем? Для кого?»
Приезд Вавринца и расстроил его и придал ему новые силы. Для него этот юноша словно сын. Он может передать ему свой опыт; Вавринец сумеет найти применение такому наследству. Но не только Вавринец должен учиться у него, ведь в медицине сделано много новых открытий, о которых доктор Есениус не знает. Почему бы и старшему не поучиться у молодого? Особенно, у человека такого острого ума, как Вавринец Адамек.
— А теперь расскажи мне, какие новости в нашей науке — в медицине, а особенно в хирургии.
— Весьма большие новости, — подтвердил Вавринец.
Он стал рассказывать об открытиях французского врача Паре, который совершенно случайно убедился в том, что при хирургических операциях гораздо лучше перетягивать жгутом кровеносные сосуды, чем прижигать их, дабы остановить кровотечение. При этом и раны скорее заживают, и больные страдают гораздо меньше.
— Это действительно очень важное открытие, — признал Есениус. — Только испытан ли этот новый способ?
— Я сам убедился в превосходстве способа Паре, — ответил Вавринец. — Ведь я запомнил ваш девиз, доктор: не принимать слепо все, чему учат древние, но на опытах убеждаться, правильно ли их учение. Что неправильно, отбросить. Этот принцип, разумеется, относится и к опыту современных ученых. Способ Паре уже выдержал испытания, и его можно принять без всяких колебаний.
Есениус задумчиво смотрел на своего молодого коллегу.
— Бессмысленно отвергать новые научные данные на том только основании, что мы привыкли к старым. Когда тебе случится оперировать по новому способу, Ваврик, — возьмешь меня учеником?
Вавринец покраснел, но Есениус дружески улыбался ему. Он говорил серьезно.
— Я буду очень рад, если вы поможете мне советом и своим богатым опытом, — ответил Вавринец скромно. — А если мне известно что-нибудь новое, чему вас не учили, когда вы были студентом, то я охотно поделюсь своими знаниями.
Вавринец часто посещал Есениуса, и стареющий одинокий доктор всякий раз искренне радовался его приходу.
— Когда вы снова устроите публичное анатомирование трупа? — спросил однажды Вавринец.
— Публичная анатомия имеет значение для студентов, изучающих медицину, а раз в Пражском университете нет теперь медицинского факультета, публичное вскрытие не имеет никакого смысла. Это было бы только зрелище, способное ошеломить зрителей, не имеющих понятия об истинной миссии медицины, особенно о ее значительном ответвлении, называемом хирургией. Еще Гиппократ в своем труде «О частности» предостерегал против таких вещей.
Но для совершенствования в своем искусстве Есениус продолжал вскрывать трупы, и Вавринец помогал ему.
Для обоих это стало школой лучшей, чем все книги древних ученых,
— Сколько трупов вы уже вскрыли? — спросил однажды Вавринец.
— Наверное, не меньше сотни.
— Если человек столько времени занимается анатомией, — воскликнул с восхищением Вавринец, — то, по-моему, это должно внушить ему уверенность.
Есениус оторвался от работы, взглянул на своего молодого помощника и ответил серьезно:
— Наоборот, Ваврик, это наполняет человека глубоким смирением перед такой вещью, как человеческое тело. И не раз я повторял слова Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Мне казалось в такие минуты, что я негодный, неумелый ученик, который посягнул на таинство. И все же наше призвание — самое прекрасное из всех существующих. Заботиться о жизни и здоровье человека — что может быть чудеснее и благороднее? Я имею в виду не человеческую жизнь как что-то обособленное, я мыслю о человеке как о частице Вселенной. И мне приходит в голову изречение из арабской космологии: «Вселенная устроена подобно человеческому организму, а человеческий организм во всем подобен Вселенной, так как одно является зеркалом другого, — когда человек познает Вселенную, и Вселенная определяет человека. И, как меж отражением в зеркале и его оригиналом, подобие получается обратное: что велико в одном, мало в другом, и наоборот. Солнце и Луна не существовали бы, если бы человек не мог их видеть: око ничего не видит, если не отражает света небесных тел. Солнце и Луна подобны глазам человека, а глаза человека подобны Солнцу и Луне. Легкие человека соответствуют сфере воздуха, его кости — земной тверди, и так далее. Посему кто постигнет строение своего тела и души, постигнет одновременно и сущность всех остальных вещей».
Есениус делился со своим молодым другом своими богатейшими познаниями и опытом, они вместе обсуждали новые проблемы, с которыми встречались в работе, и Есениус часто с сожалением думал: «Жаль, что мой Ферко умер. И он мог бы изучать медицину».
В этом же 1615 году скончался близкий друг Есениуса — Вавринец Бенедикти Недожерский. Он трудился до последнего дыхания, и все его помыслы и силы были отданы университету. Он добивался реформ, которые должны были вызвать к жизни новые силы находящейся в упадке Карловой академии. Как страстно он убеждал дефензоров, чешскую знать и пражских граждан заботиться о возвышении родного языка; он призывал не поддаваться инородным влияниям, чтобы чужеземная чума не поразила чешские нивы. Призыв Бенедикти Недожерского не остался без ответа. Он дождался издания закона о чешском языке и умер спокойно, примиренный с жизнью. Он завещал университету 1600 талеров своих сбережений.
Когда возвращались с похорон, профессор Кампанус, который написал в память об усопшем оду, сказал Есениусу:
— Бенедикти показал нам, как прекрасен наш родной язык. Мы пренебрегаем им ради латыни, и это неправильно. Мы должны чаще вспоминать о Бенедикти.
Прошло два года тихой жизни в Праге.
Прибой политических событий шумел вокруг Есениуса, но не касался его. Ни в каких событиях он не участвовал.
Но однажды — это было осенью 1617 года — вице-канцлер Михаловиц пригласил его для важного разговора. После краткой беседы о незначительных вещах Михаловиц приступил к делу:
— Мы хотим пригласить вас, доктор, на работу. Я позвал сюда профессора Кампануса, чтобы он объяснил вам, в чем дело.
Кампанус заговорил по знаку Михаловица:
— Если вы следите за жизнью нашей академии, то, наверное, видите, что это уже не жизнь, а прозябание. Несколько лет назад мы пригласили вас, чтобы возбудить у уважаемых господ помощью ваших анатомических работ интерес к судьбе нашего университета. Когда это не помогло, мы стали искать другой путь. Мы избрали ректором сына графа Шлика. Потом мы выбрали ректором сына пана Михаловица…
Михаловиц прервал Кампануса:
— Повторяю, что считал эту честь для сына чрезмерной и хотел отговорить нашу профессуру от их намерения. Но мне не удалось.
— Да, это так, — ответил Кампанус и объяснил Есениусу: — Юный пан Смил с полной ответственностью приступил к своей работе, но, конечно, ему недоставало опыта. И понятно, что он больше входил в нужды студентов, чем профессоров.
— И в других странах весьма распространено избирать молодых ректоров, принадлежащих к знатным семьям, — заметил Есениус, не высказывая своего отношения к вопросу.
Кампанус продолжал:
— Ведь мы возлагали на это большие надежды. Что касается пана вице-канцлера, тут мы не ошиблись. В его лице университет приобрел искреннего друга.
— Только моей дружбе немало лет, и родилась она не в тот день, когда моего сына выбрали ректором.
— Если бы все ректоры были такими, как пан Смил! Но нынешний наш ректор Стржела из Рокиц своими недостойными выходками набросил тень на доброе имя нашей академии.
Михаловиц согласился:
— Действительно, это был неудачный выбор. Я не поддержал его кандидатуры, но большинство дефензоров были со мной не согласны. Надеюсь, это послужит для нас уроком на будущее и больше подобные выборы не повторятся.
— Нет, ни в коем случае! — быстро подтвердил Кампанус. — Я верю, что вы поможете нам, уважаемый друг Есениус.
Есениус обернулся к профессору, ожидая, что он выскажется яснее.
— Мы хотели бы, чтобы вы приняли звание ректора университета, — медленно проговорил Кампанус и взглянул на Есенина.
— Это для меня великая честь, и я, в самом деле, не знаю… — просто отозвался доктор.
Но Михаловиц прервал его:
— Формальности мы оставим до выборов. Теперь поговорим по-деловому и без церемоний. Я рад, доктор, что вы согласны. Вы были уже ректором университета в Виттенберге, и, что касается академических дел, у вас есть опыт. А о вашем научном опыте не стоит и говорить.
— Вся профессура согласна с выбором, — добавил Кампанус. — Как нам известно, осенние выборы ректора а нашем университете происходят всегда в день святого Гавла. Мы сообщим о вашем согласии факультету, а потом поговорим и об остальном Я благодарю вас от имени всего профессорского совета.
В первое воскресенье после дня всех святых зала Главной коллегии до отказа наполнилась гостями.
В этот день состоялась инвеститура доктора Есениуса.
Избрание ректора считалось внутренним делом университета и происходило без участия гостей, но введение в должность — инвеститура — было главным событием в жизни университета.
Торжество должно было начаться в девятом часу, после проповеди в костеле, но первые гости начали сходиться в восьмом часу, то есть в пятнадцатом часу по принятому тогда исчислению времени. Жизнь текла тогда медленно, как могучая река, и каждая щепоть времени не расценивалась на деньги. Если люди приходили в назначенное место на час раньше, долгое ожидание не казалось им утомительным: в разговорах со знакомыми время летит быстро.
Вице-канцлер Михаловиц послал карету, чтобы отвезти Есениуса из дома до Карловой коллегии.
Трубачи в пурпурных кафтанах с позолоченными пуговицами поднимают свои трубы, и по всему широкому двору несутся торжественные звуки.
Двери распахиваются, и все присутствующие встают. В дверях появляется педель, весь в черном, в черной шелковой шапке. В руке у него жезл. Он медленно направляется к возвышению, где будет происходить инвеститура.
За педелем, словно покинутый сирота, в пышной процессии следует молодой Стржела из Рокиц — бывший ректор университета. За ним шествуют двое молодых людей в красивых ярких одеждах, с серебряными цепочками вокруг шеи. Они несут два серебряных жезла. И только за ними шествует новый ректор.
За ним — профессора, ректорский сенат, а потом все остальные преподаватели. В этой смеси черного и темно-красного цветов выделяется одеяние Есениуса. Короткие орехового цвета штаны красиво дополняет темно-зеленый кафтан с серебряными пуговицами и накрахмаленным прилегающим кружевным воротником. На кафтан накинут короткий серо-голубой плащ, подбитый белым шелком. На голове — черная профессорская шапка с белым пером.
Второй педель несет эпомидем, то есть торжественное ректорское одеяние статуты и печать университета. Он опускает эти знаки отличия на край длинного стола. Профессора усаживаются за стол.
Почти все присутствующие знакомы Есениусу — Михаловиц, Будовец, все дефензоры. Перед его мысленным взором ожили тени умерших: Бахачека, знавшего толк в радостях земного бытия; Бенедикти, который не уставал воспевать достоинства и красоты чешского языка; доктора Залужанского, столько раз успешно сражавшегося со смертью, но повергнутого в бою за свою собственную жизнь.
Это самые близкие. А сколько еще людей узнал он в Праге, сколько их умерло…
Он думает о них, но вот пришли ему на ум слова Кеплера, сказанные им при последней встрече:
«Мне придает силы мысль, что я служу не императору, но человечеству; что я тружусь не только для нынешнего поколения, но и для потомства».
С торжественным чувством принимает Есениус от вице-канцлера эпомидем и золотую цепь, символ своего звания.
Еще большая торжественность звучит в его голосе, когда он произносит присягу. Облаченный в академическую мантию, он открывает статуты и присягает университету, что будет свято чтить все законы, что будет верен королю и королевству; что будет разумно расходовать деньги, которые доверят ему; что употребит их на пользу университета и что после окончания срока его избрания он по крайней мере месяц останется в Праге, чтобы ответить, если потребуется, за все поступки на посту ректора. И, наконец, он обещает записывать все наиболее достойные памяти события.
После присяги профессоров новому ректору — ее составил проректор от имени всех профессоров — Есениус встает и начинает свою пространную речь. В речи о пользе наук он не скрыл того, в каком упадке находится некогда столь славный Карлов университет, упомянул и о причинах сего и, наконец, набросал план преобразований.
И он завершил свою речь горячим призывом к дефензорам:
— Милостивые любезные защитники и друзья, прошу вас — так же согласно, как вы побеждаете врагов наших, боритесь против варварского невежества. Если вы неукоснительно будете стремиться к этой цели, наша академия вознесется на невиданную доселе высоту. Если бы я дожил до этого времени, я считал бы, что родился в золотом веке.
Есениус имел твердое намерение вывести университет из того положения, в котором он находился в последние годы.
Поэтому его не ослепил блеск золотой цепи, возложенной на его груди. Он чувствовал только ее тяжесть. Его радовало это избрание, но он глубоко сознавал ответственность, которая была связана с его новой должностью. Университет и дефензоры оказали ему великое доверие.
«Я сделаю все, чтобы не обмануть этого доверия, — решил он, — даже ценою жизни».
ПРЕШПОРКСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
Ладью, кормчим которой сделали Есениуса, ожидало беспокойное плавание.
Дефензоры признавали только права, которые дала грамота Рудольфа II, но о своих обязанностях забывали. Есениус с его поистине демосфеновским красноречием натыкался на глухую стену молчания, стоило только зайти речи о нуждах университета.
В конце концов, это было понятно: дефензоры не знали подробностей университетской жизни.
Хуже было непонимание некоторых профессоров. Слишком привыкли они к старым порядкам и ни за что не хотели нововведений, предложенных новым ректором. Сколько сил и напряжения стоило ему убедить их отказаться от этих порядков, вредных университету! Многие способные профессора, которые охотно согласились бы принять место в университете, не могли туда попасть.
И в хозяйстве царила неразбериха. Профос Главной коллегии и директора студенческих коллегий хозяйничали как бог на душу положит. За ними никто не надзирал, никто не знал, куда уплывают доходы университета. А университетская казна была постоянно пуста.
Когда новый ректор осудил такие порядки, он встретил дружный отпор профоса и всех директоров, да и остальных профессоров, которые опасались, что новые порядки только ухудшат их положение.
Есениуса называли справедливым Катоном. Но в этом прозвище скрывались насмешка и неприязнь.
В начале 1618 года в ректорскую канцелярию явились дефензоры Вацлав Будовец и граф Шлик.
— Мы пришли попросить вас о службе, магнифиценция, — начал Будовец. — В марте мы хотим созвать в Праге съезд протестантских сословий, чтобы решить, как помешать дальнейшему нарушению грамоты его величества. Если мы не примем участия в распрях костелов в Броумове и Гробах, император будет считать, что грамота и уравнение в правах больше не существуют.
Броумов и Гробы — две общины, которые стали краеугольными камнями борьбы протестантских сословий против императора. Есениус знал всю эту историю, в университете часто говорили о ней. Годами длился спор этих двух общин с католическими властями о праве протестантов строить свои костелы на земельных участках, принадлежащих католическим магнатам. Гробский костел был построен на земле бржевновского аббата, а броумовский — на земле пражского архиепископа.
Наконец дело дошло до того, что пражский архиепископ приказал разрушить костел в Гробах, а брженовский аббат приказал костел в Броумове закрыть. Некоторых членов общины посадили в тюрьму.
Шлик сказал язвительно:
— Пока у Матиаша не было наследника престола, он не решался так открыто нарушать грамоту. Но теперь, когда мы проголосовали за Фердинанда и позволили ему короноваться чешским королем, Матиаш решил, что ему теперь нечего нас больше бояться. И вот результаты — события в Броумове и в Гробах.
— Мы должны решительно выступить против императорского своеволия! — энергично заявил Будовец. — Долг дефензоров велит нам оборонять веру против всяческих нападок. Поэтому мы решили созвать съезд наших сословий. Мы желали бы, чтобы съезд происходил тут, в Главной коллегии.
Это было слишком неожиданно.
— Пусть простят мне ваши милости, но я боюсь, что академический статут не дает мне права решать подобные вопросы.
— Как же так? — быстро отозвался Будовец. — Разве академия собирается выступить против нашего святого дела? Разве интересы Карлова университета расходятся с интересами чешских сословий?
Шлик только слушал. Потом сказал спокойно:
— Грамота отдает Карлов университет под попечительство дефензоров. Его магнифиценция, как видно, не считает нас представителями дефензоров. Можно исправить эту формальность. Мы пришлем вам решение с подписями всех дефензоров.
— А может быть, вы не намерены подчиняться решению? — Раздражение Будовца еще не улеглось.
Ректор оставался бесстрастным.
— Я нимало не сомневаюсь в правах дефензоров, — ответил он мирно. — Но понимаю так, что академия подсудна им только в деле приема и увольнения профессоров, в деле имущества и в других подобных делах.
— Значит, охрана свободы совести не касается академии? — взорвался Будовец.
Шлик, опасаясь ссоры, вмешался;
— Я понимаю опасения его магнифиценции, ведь и я был ректором университета в Иене. Мы должны выслушать его. И выслушать спокойно, потому что я убежден, что доктор такой же ревностный христианки, как и мы.
Есениус с благодарностью взглянул на Шлика.
— Да, ваша милость, вы правильно поняли, что я имею в виду. Съезд, обсуждающий приказы императора, Матиаш будет рассматривать как акт враждебный. Я опасаюсь, что дело дойдет до распрей, в которых придется принять участие и академии. И я не знаю, пойдет ли это на пользу дальнейшему расцвету нашего учебного заведения.
Будовец молча слушал слова Есениуса, потом сказал:
— Признаю, что ваши опасения проистекают от заботы о судьбе академии, а не из религиозного легкомыслия. Но съезд мы должны созвать. А под открытым небом мы собираться не можем. И ни у кого из нас нет столь большого помещения, чтобы уместить всех. Зала академии — единственное место, где может происходить такое собрание.
Ректор должен был признать справедливость слов Будовца, Но он не желал принимать решение сам.
— Если дефензоры решат, что, несмотря на высказанные мною соображения, они все же должны созвать съезд в помещении университета, я сообщу это ректорскому сенату и всему профессорскому совету.
Так было решено, и съезд протестантских сословий чешских, созванный в марте 1618 года, происходил в зале университета.
После съезда напряженные отношения между сословиями и императором, которого представляли в Праге наместники, обострились настолько, что в конце мая господа чешские протестанты выбросили из окна пражского Града наместников Славату и Мартиница, а заодно и писаря Фабриция. Хотя их сбросили со второго этажа, наместники остались целы, так как упали на груду прошлогодних листьев и старых бумаг, выброшенных из канцелярии.
Это удивительное спасение дало пищу множеству толков. Нашлись люди, которые клялись, что видели под окном деву Марию с распростертым плащом, в который она подхватила падающих и потом тихо опустила их на землю.
Люди верили этим речам, так как видели чудо в том, что ни один из выброшенных с такой высоты не пострадал.
Начиналось чешское вооруженное восстание против Габсбургов.
Однажды летом вице-канцлер Михаловиц пригласил Есениуса на совет. Пришли граф Турн, Шлик, Будовец и еще несколько видных протестантских деятелей.
— Ваша магнифиценция, мы решили пригласить вас на это собрание, чтобы просить сослужить великую службу нашему делу, — начал Будовец. — Мы хорошо помним ваше обещание, которое вы некогда дали его милости пану вице-канцлеру. Вы говорили, что мы вполне можем рассчитывать на вас. Теперь нам остается действовать только силой. Нам нужно сильное войско и мощные союзники.
— Короче — в Прешпорке в будущем месяце венгерские сословия сойдутся на общий сейм. К этому приурочена коронация Фердинанда венгерским королем. Мы должны склонить на нашу сторону венгерские сословия, чтобы вместе действовать против Фердинанда. Поэтому мы решили отрядить вас с посольством на прешпоркский сейм. Я думаю, вам ясны цели посольства. Мы хотим убедить венгерские сословия, что наша борьба справедлива, что мы желаем только сохранить обеспеченные грамотой религиозные свободы, которые Фердинанд уничтожил. В этом заключается главная цель вашего посольства. В таком духе вы и должны выступать на сейме. Но мы будем рады, если вы не ограничите свою деятельность только этим. Вы должны использовать свое пребывание в Прешпорке для установления личных связей с видными венгерскими протестантскими магнатами. Постарайтесь убедить их, что наша борьба за религиозное равноправие — дело не только чешского королевства. То, что сегодня мешает нам, завтра может постигнуть и Венгрию. Но, хотя вы и будете облечены посольской неприкосновенностью, действуйте осмотрительно. Ну как: принимаете поручение?
Сердце Есениуса забилось от волнения.
Вот и пришел его час!
Первое, что он почувствовал, было радостное волнение. Ему льстило, что выбрали именно его. Его желание быть на виду в значительной степени удовлетворилось избранием на пост ректора, но сколько профессоров перед ним побывало на ректорском посту, и ни одному из них не поручали дела такой важности. Он первый! Эта мысль удовлетворила его тщеславие и честолюбие…
Он полностью отдавал себе отчет в значении посольства. Дело, которое возлагают на него сейчас сословия, значительнее звания ректора, которое он принял по их же настоянию. Теперь-то он сам примет участие в политических событиях. Возможно, что от успеха этого посольства будут зависеть дальнейшие судьбы страны… Но для этого дела нужен опытный дипломат и политик.
— Я ценю высокую честь и доверие, которые вы мне оказываете, но считаю своим долгом уведомить вас, что меня ожидает неуспех, так как я не обладаю достаточным опытом в этой области. Мой язык привык точно формулировать мысли, чтобы слова всегда выражали единственное значение, и я, возможно, не замечу ловушек, которые мне могут расставить опытные дипломаты и политики. И потому считаю, что вам следует подумать, не лучше ли для пользы дела поручить посольство кому-нибудь более способному.
Тут слово взял граф Турн:
— Понимаю ваши опасения, магнифиценция, мне знакомо это чувство неловкости и беспокойства, когда человек приступает к исполнению новой должности. Нужно прыгнуть в пучину для того, чтобы научиться плавать. Я так стал военачальником. Мне сказали, что нет никого лучше, и пришлось согласиться. Так и теперь. Мы убеждены, что никто не справится лучше вас.
— Да, ваша милость, вы правы, — подтвердил Будовец. — Ректор Есениус — венгерский рыцарь, уже по этому одному протестантские венгерские сословия примут его охотнее, чем кого-нибудь другого. Что же касается опасений, что вы можете заблудиться в лабиринте политики, я думаю, что это напрасные опасения. Мы хотим, чтобы вы сражались за наше дело правдой. Вы обладаете ораторским искусством, и поэтому, каковы бы ни были результаты вашего посольства, мы примем их с убеждением, что вы сделали для нашего дела все возможное. И мы твердо верим в то, что вы не откажете нам.
Есениус не хотел заставлять просить себя, но не забывал и о своем долге по отношению к университету. И он поделился с дефензорами своими заботами.
— Не печальтесь об университете, — сказал Михаловиц, один из дефензоров, долгом которых было печься об университете. — Вас будет замещать проректор. Все дефензоры согласны с тем, чтобы эту миссию поручить именно вам. Согласятся и профессора.
Дольше отказываться было невозможно. Дело было слишком серьезным в следовало бы откровенно обсудить все затруднения, которые могли встретиться в работе, но оттягивать решение из ложной скромности не годится.
— Кто же поедет со мной?
— Послом будете только вы. Для переписки и личных услуг вы можете взять студентов — двух или трех человек. Если кто-нибудь из них говорит по-венгерски, это только пойдет на пользу делу.
— Хорошо, я возьму троих. Можно с уверенностью сказать, что охотники найдутся. А когда нам следует отправиться в путь?
Это был очень важный вопрос, потому что к такой дальней дороге нужно как следует приготовиться.
— Важно, чтобы вы прибыли в Прешпорк еще до коронации, потому что неизвестно, будет ли заседать сейм и после нее. На дорогу вам потребуется около недели, вот и рассчитывайте так, чтобы прибыть вовремя. Об экипаже мы позаботимся.
Есениус устроил все дела, связанные с университетом, а потом спросил студентов старших курсов, кто желал бы отправиться в путешествие вместе с ним. Назвалось семеро, это было заманчивое приключение, возможность повидать свет, да еще даром. Есениус выбрал троих: Вилиама Схлейдана, Станислава Росицкого и Яна Марстада.
Двадцатого июня на рассвете крытая дорожная карета отъехала от Главной коллегии. На крыше кареты в кожаном бауле везли парадное рыцарское платье Есениуса, в которое он собирался облачиться в честь торжественного события. Путешествовал он в легкой летней одежде: тяжелую сутану магистра он оставил дома — и так в закрытой карете было очень душно, хотя окна были всю дорогу открыты.
Шесть дней длилось утомительное путешествие из Праги в Прешпорк.
Полумертвые от усталости, на шестой день после полудня они приблизились к городским воротам. Подъемный мост перед Михаловскими воротами был перекинут через глубокий и широкий ров, наполненный водой. Карета прогрохотала по мосту и с трудом протиснулась через узкие ворота. Кучер громко кричал на пешеходов, которые, того и гляди, могли угодить под копыта.
Они поселились в гостинице «У зеленого дерева», недалеко от Дуная. Много стараний пришлось приложить, пока хозяин наконец уступил Есениусу одну из своих комнат: город битком был набит гостями. Студентов поместили на сеновале. В Прешпорк съезжались знатные гости и из той части страны, которая не находилась под турецким владычеством[39]: все желали присутствовать при коронации. Большая часть дворян разместилась у родственников или знакомых в городе. Другие — в замках и поместьях, расположенных в окрестностях Прешпорка, на Червеном Камне и в Правецкой крепости.
Есениус был снабжен рекомендательными письмами к венгерским протестантским деятелям.
Сразу же после приезда он нанес нм визит, чтобы склонить их на свою сторону раньше, чем он получит возможность обратиться к целому сейму. В этом заключался главный его план: добиться согласия на выступление на сейме и там предъявить все аргументы в пользу союза чешских и венгерских сословий.
Но как ошибался он, надеясь на сочувствие венгерских протестантов! Пражские события относили тут к разряду сугубо чешских дел, а с ними венгры не хотели иметь ничего общего.
— Это чешский бунт, — говорили ему. — Нас это не касается. Мы за вас в огонь не полезем.
Есениус употребил все свое красноречие, убеждал, что в этом деле заинтересованы не только чехи, что речь идет о том, быть или не быть религиозным свободам протестантов. Что события в Чехии непосредственно касаются венгров, потому что все они пустились в плавание на одном корабле. И бесспорно, что позицию, которую император занял в отношении чешских протестантов, он займет и по отношению к протестантам венгерским.
Все понимали, что он прав, признали его аргументы, но страшились войны. Турки, которые для Праги представляли весьма отдаленную опасность, здесь были близкой и горькой действительностью. Правда, теперь заключен был мир, но это не мешало туркам устраивать набеги на земли горной Венгрии, жечь дома, убивать, угонять в рабство. Нет, нет, оставьте нас в покое с вашим бунтом!
Есениус обращал свое слово к глухим. Он не имел успеха нигде, потому что и те деятели, которые были с ним согласны и признавали разумным помочь чешским сословиям, ставили свое решение в зависимость от решения большинства. Да, если бы решение принял сейм…
Есениус решил попытать счастья у палатина[40] Жигмунда Форгаха.
Форгах принял его дружески, как положено знатному венгерскому магнату принимать венгерского рыцаря.
Есениус объяснил вельможе — который, впрочем, был осведомлен о его деятельности в Прешпорке, — цель своей миссии: установить тесное сотрудничество чешских сословий с венгерскими для охраны общих интересов.
Форгах был ревностным католиком, звание палатина получил от императора всего полтора месяца назад, поэтому Есениус не решался говорить открыто, что речь идет, собственно, об охране интересов протестантов против растущего влияния католиков. Но у Форгаха было слишком хорошее политическое чутье, чтобы за этими неопределенными словами не угадать их истинного смысла.
— Я предполагаю, ваша магнифиценция, что вы имеете полномочия заключить мир с императором, то есть с его наместниками, — приветливо сказал Форгах, следя лисьими глазами за впечатлением, которое произведут его слова.
Есениус действительно не был готов отвечать на этот вопрос.
Но быстро нашелся:
— Ваша милость, чехи не находятся в состоянии войны ни с кем, а если нет войны, невозможно заключить мир. У нас спокойствие и порядок, в нашем королевстве царит полное единство.
Форгах едва заметно наморщил лоб. Однако тут же овладел собой и ответил равно приветливо, но с некоторой насмешливостью в голосе:
— Дефенестрация господ императорских наместников, как видно, одно из доказательств мира и единства, царящих в Чешском королевстве… Но будем говорить по существу. Какое средство вы считаете наиболее действенным для того, чтобы успокоить эту бурю?
— Если позволите, ваша милость, я отвечу на ваш вопрос как врач, который занимается удивительными и тяжелыми человеческими болезнями: все королевство и религиозные общины мира подвержены таким же недугам, что и мы, люди, и так же, как и людям, им можно вернуть здоровье. Опытный врач лечит человеческие болезни трояким путем: первый — диетой, при которой больному дают вместо лекарств домашние средства или отвар из простых трав; второй — больного лечат различными снадобьями, приготовленными в аптеке, лекарства эти горькие; третьим средством пользуются цирюльники, когда неизлечимо больные члены отсекают железом, прижигая их предварительно огнем, и это с превеликой болью для страдающего, который вместе с болезнью может погибнуть или же остаться, скажем, хромым до смерти. Обычно же врачи, по учению Гиппократа, начинают с мирных средств, используя сильные только в тех случаях, когда другого выхода нет. И если Венгрия от недавней своей немочи[41] излечилась только диетой, то есть ей помогли искренние союзники, то о недуге королевства Чешского нечего и сомневаться, он намного легче. Если же домашние средства оказались бы бессильными, мы смогли бы прибегнуть к более сильному средству, то есть к курфюрстам Священной Римской империи, к некоторым или ко всем. Прибегнуть сейчас к оружию — средство неверное, и оно противоречит латинскому изречению: «Ignera gladio ne fodito» — «Огонь мечом не затушишь». Лучше и безопаснее следовать Цицеронову совету: «…Двояко люди действуют в отношении себе подобных — порой по-дружески или используя правовые процессы, а порой путем насилия, и первым способом пользуются люди разумные, другой же более подходит к лютым зверям, этим способом можно пользоваться лишь тогда, когда первый вовсе непригоден». Если ваша милость позволит, я выскажу эти соображения славному сейму.
Форгах решительно рассек рукой воздух, как будто взмахнул саблей, и ответил сухо:
— Сейм подробно информирован об этом деле из самых надежных источников. Выступление такого рода на сейме вам может позволить лишь император. Подождите в гостинице решения его императорской милости. Я немедленно пошлю известие в Вену.
Этим разговор окончился.
Палатин приказал Есениусу не выходить из гостиницы и ждать дальнейших указаний. Есениус подчинился и два дня не трогался с места. У отворенного окна, из которого открывался прекрасный вид на городскую крепость, он писал свое послание сейму.
Но 1 июля, в день коронации Фердинанда II венгерским королем, Есениус нарушил свое домашнее заключение. Такое редкое событие, как коронация, пропустить нельзя. Итак, в этот солнечный летний день, когда площадь, окружавшая прешпоркский собор, и окрестные улицы были переполнены любопытными, которые ожидали процессии, Есениус смешался с толпой.
Обряд коронации длился более трех часов, и Есениусу все это порядком надоело. Он выбрался из толчеи и зашел в трактир.
Задумчиво сидел он над чаркой и размышлял о судьбе своего посольства. Склонить на свою сторону поодиночке ведущих протестантских деятелей ему не удалось, на сейме говорить ему не позволили, а после коронации сейм разойдется. Надежда погибла. Остается последняя искра: второй разговор с Палатином — после коронации. Если и это не удастся…
И к горечи неудавшегося поручения примешивалась еще и личная обида — надежды, которые на него возлагали, он не оправдал.
Его назвали по имени.
— Янко! — Кто-то с силой хлопнул его по спине.
Есениус с неудовольствием взглянул на смельчака — и лицо его прояснилось. Вскочил со стула:
— Даниель! — воскликнул он радостно.
И братья обнялись.
Даниель Есенский прибыл на коронацию в свите эрцгерцога Фердинанда. Он был теперь его егермейстером. Никто не мог сравниться с ним по части меткой стрельбы и устройства охоты. И за это эрцгерцог полюбил Даниеля и назначил на столь высокий пост, несмотря на то что Есенский был протестант; все остальные должности при дворе занимали исключительно католики. Даниель Есенский умел везде отыскать какое-нибудь развлечение для своего господина. И он всегда находился в свите эрцгерцога. Так вместе с Фердинандом он попал в Прешпорк.
— Я уже второй день ищу тебя, — сказал Даниель. — У меня к тебе важное дело. Но сначала давай выпьем за счастливую встречу.
Когда они выпили, Даниель огляделся, не слушают ли их, а потом сказал вполголоса:
— Уезжай скорее из Прешпорка, Янко! Ты в опасности. Они хотят посадить тебя в тюрьму.
Есениус удивленно посмотрел на брата.
— Меня посадить? Но ведь у меня охранная грамота сословий, как посол я личность неприкосновенная… Отчего же…
— Тебя обвиняют в предательстве и в оскорблении императорского величества. Палатин Форгах послал гонца в Вену и потребовал согласия императора на твое заключение. Говорят, новая метла хорошо метет, Форгах хочет выслужиться перед императором. И я думаю, новому королю тоже не будет неприятно, если еще один протестант получит урок.
— Откуда ты все это знаешь?
— Я пил вечером вместе с людьми из канцелярии палатина, и вино развязало им языки. Я вытянул из них все, что мне требовалось. Правда, я обещал хранить тайну. Не раздумывай, Янко, переоденься и уезжай…
Есениус молча смотрел перед собой. Неужели палатин Форгах способен на такую подлость — посягнуть на неприкосновенность посланника? Будь что будет, он не предаст того, что ему доверили.
— Нет, Даниель. Если бы я уехал, это можно было бы счесть доказательством того, что я сам чувствую себя виноватым. Я ведь здесь не частное лицо, а посланник народа, и лучше смерть, чем такой стыд. Благодарю тебя за предупреждение, Даниель, только я остаюсь. Да исполнится воля божия.
Даниель вздохнул:
— Делай как знаешь.
На другой день Есениус отправился во дворец требовать аудиенции у нового короля. Он представился как венгерский рыцарь, долг которого — пожелать счастья и божьего благословения его милости по случаю столь торжественного события. Он думал так: если они хотят арестовать меня, пусть это произойдет скорее.
Ему пришлось долго ждать ответа.
Наконец пришел камергер и объявил, что его примет гофмейстер.
Согласился ли король на аудиенцию?
В покое, куда ввел его камергер, было двое господ: гофмейстер и канцлер.
Они весьма вежливо ответили на его приветствие, и канцлер проговорил:
— Ваша магнифиценция, по приказу его королевской милости, мы имеем честь объявить вам: его милость король Фердинанд. который от многих венгерских господ наслышан о вас и вашем великом искусстве, весьма к вам благосклонен. Если бы его королевская милость не была занята неотложными делами, несомненно вам была бы дана аудиенция. Но ввиду сложившихся обстоятельств выслушать вас поручено нам.
Есениус поклонился в знак благодарности и ответил:
— Я прошу благородных господ передать его королевской милости мою почтительнейшую благодарность за такие милостивые слова. Я за счастье почитаю, что такой государь, как его милость король Фердинанд, изволит быть столь благосклонным к моей скромной особе. С верноподданнейшей почтительностью желаю его милости благословения божия и процветания по случаю его второй коронации. И, если я могу чем-нибудь служить его милости, пусть располагает мною и моим искусством.
— Мы передадим ваши слова его милости, — ответил гофмейстер. — Если вам угодно добавить что-нибудь связанное с вашей миссией, мы выслушаем вас столь же охотно.
— Да, я хотел бы сказать следующее. Как во время оно их императорским величеством Рудольфу и Матиашу я служил в качестве врача, так я служу в качестве посланника — ныне сословиям королевства Чешского, принимающим святое причастие под двумя видами. По силе и праву, данным этим сословиям блаженной памяти императором Рудольфом II над консисторией[42] и академией пражской, выбрали меня ректором академии и облекли меня этим посольством. Моей миссией является поставить сословия королевства Венгерского в известность, в силу каких неизбежных причин должны были чешские сословия занять нынешние свои позиции.
Выражение официальной вежливости исчезло с лица гофмейстера. Он нахмурился, глаза его зловеще блеснули.
— Его милость светлейший король венгерский и чешским, являясь справедливым государем, который помнит о своих обещаниях и о данном им слове, весьма удивлен, что чехи ни слова не написали ему о происшедших волнениях. Они не оказывают ни малейшего знака верноподданнической покорности Фердинанду, хотя он и является их законным королем. Наоборот, чем дальше, тем непокорнее становятся они в своем упрямом неповиновении.
— Позволю себе почтительнейше ответить на эти упреки: как только этот инцидент произошел, сословия тотчас же уведомили о том императора. Но император объявил их бунтовщиками.
Этот ответ весьма не понравился гофмейстеру.
— Это отговорка, ваша магнифиценция, которая только подтверждает, что все, что исходит от императора, вы полагаете несправедливым, но все предпринимаемое чешскими сословиями любезно вам. В любом случае чешские сословия обязаны были обратиться к своему законному королю.
Есениус обдумывал ответ, который оправдал бы чешские сословия в этой оплошности или, как назвал бы это гофмейстер, в уклонении от верноподданнического долга.
— К его королевскому величеству чешские сословия не обратились. Ведь у них в памяти жив был пример императора Матиаша, который, когда ожидал еще чешского королевского трона, ответил на просьбу сословий помочь им получить у императора Рудольфа религиозные свободы тем, что при жизни императора он не будет вмешиваться в дела королевства. Мы боялись, что его королевская милость Фердинанд ответит точно так же…
Разговор не принес ожидаемых результатов.
И Есениус решил отправиться еще раз к палатину Форгаху.
КРЕСТЬЯНСКАЯ БАШНЯ
Король Фердинанд сразу же после коронации вернулся в Вену. Когда несколько стихла суета, Есениус собрался к палатину, в прешпоркский дворец. Студенты сопровождали его.
Во дворце к ним присоединился и Даниель Есенский, который оставался в Прешпорке, желая быть поблизости от брата на случай несчастья.
Ждать им пришлось недолго. Есениуса пригласили войти, сопровождающие остались за дверью.
Палатин сидел за столом, покрытым искусной резьбой, и делал вид. что кончает какое-то письмо, так что Есениус должен был ждать, пока палатин отложил перо, встал и любезно приветствовал его.
Прежде чем пригласить Есениуса к столу, палатин осведомился, как понравилась ему коронация, как чувствует он себя в Прешпорке, который, конечно, не может сравниться с прекрасной и величественной Прагой. Наместник заключил разговор такой фразой:
— Я убежден, что вы увезете с собой незабываемые воспоминания о Прешпорке.
Есениус поблагодарил его наклоном головы.
«Даниель напрасно беспокоился», — подумал он при этом.
Когда палатин замолчал, Есениус решил, что теперь самое время заговорить о деле.
— Позвольте, ваша милость, сообщить вам о цели моего посольства от имени чешских сословий. Так как сейм уже распущен и я не могу больше выступить на нем…
Форгах любезно улыбнулся:
— Да, конечно. Только подождите немного. Не согласитесь ли бы перейти со мной в другую комнату… У меня там есть для вас кое-что. Это удивит вас…
Они вошли в другую комнату.
Форгах взял со стола грамоту, которая была уже приготовлена.
— У меня для вас, ваша магнифиценция, императорский приказ. Прошу ознакомиться.
И, раньше чем Есениус опомнился, Форгах вышел и оставил его в одиночестве.
Есениус начал читать. Он не верил своим глазам. Это был приказ об аресте. Форгах не постеснялся нарушить столь грубо основные права посла.
Не успел он дочитать, как в зал вошел начальник дворцовой стражи с офицером.
— Именем императора я арестую вас, отдайте шпагу, — сказал офицер.
Есениус не защищался. Он знал, что любая его попытка обречена на неудачу. Он вручил офицеру шпагу и сказал огорченно:
— Я решительнейшим образом протестую против такого попрания прав посланника!
— Я извещу его милость палатина о вашем протесте, — отвечал начальник стражи. — А теперь позвольте мне обыскать вас, чтобы убедиться, нет ли при вас какого-нибудь тайного послания.
Есениус взглянул на вооруженного офицера и понял, что все протесты напрасны. Его обыскали. Потом в сопровождении начальника стражи и офицера он вышел в зал, где ожидали студенты, окруженные солдатами.
Они тоже были арестованы.
— Не теряй надежды, Янко! Я попрошу за тебя своего господина, — сказал на прощанье обеспокоенный брат.
Офицер приказал доктору и его свите следовать за ним.
Арестованные шли вместе, солдаты — за ними.
Их провели в другую часть двора, где располагались службы и помещения для солдат; там были и темницы.
Посольство заперли в темной и сырой комнате, пропитанной запахом гниющей соломы.
Есениус вздрогнул от отвращения, когда его глаза немного привыкли к темноте и стали различать окружающую обстановку. Сначала узники не решались даже сесть на такую грязную подстилку. Они бродили по душной и тесной комнате, наталкиваясь друг на друга.
— Где вы ляжете, ваша магнифиценция? — спросил Схлейдан, усаживаясь по-турецки на гнилой соломе.
— Не думаешь ли ты, что нас оставят здесь на ночь! Они могут арестовать меня, но обязаны содержать сообразно с моим положением! — ответил Есениус.
Схлейдан молчал. Возможно, он думал, что претензии ректора теперь неуместны. А впрочем, с какой это стати благородные господа должны сидеть в тюрьмах? Черт возьми! Он улегся на соломе под оконцем. Через некоторое время к нему присоединились и остальные двое, только Есениус никак не мог смириться со своим положением. Но тщетно он посылал стражников за начальником и за палатином — солдаты делали вид, что ничего не слышат.
Несколько позже пришел тюремщик. Он принес им в деревянных мисках какую-то похлебку, более похожую на помои. Кроме этого, им принесли по краюхе хлеба и кувшин воды. Это было все.
День тянулся бесконечно долго, потом начало смеркаться, а вскоре и совсем стемнело. Есениус устал. Все его надежды оказались напрасными. Он улегся на солому и уставился глазами в потолок. Спать он не мог.
И студенты не могли уснуть. События сегодняшнего дня взволновали молодых людей. Тяжелые заботы и опасения мучили их, и тоску увеличивало еще чувство, что они на чужбине, далеко от дома, и никто из знакомых ничего не сможет узнать об их судьбе. Одному богу известно, доколе будут они тут заживо гнить… Орнитобоск был, конечно, не слишком приятным местом, но провести хоть одну ночь в университетском курятнике среди студентов почиталось чуть ли не героизмом, это почти приравнивалось к шуточной церемонии приема студентов: пока молодой человек не побывал в орнитобоске, он не считался настоящим студентом.
В курятнике они не испытывали этого чувства неуверенности и тоски, которое охватило их здесь.
Есениус слышал, как студенты ворочаются на соломе, и стал утешать их.
— Не беспокойтесь, спите, молодые люди. С вами ничего не случится. Они поступили с нами постыдным образом, но все это выяснится в самом ближайшем времени. Если у вас будут что-либо выпытывать, всю вину свалите на меня. Вы только исполняете мои приказания.
Студенты вскоре заснули. Есениус же большую часть ночи провел без сна.
Утром их повели к начальнику стражи.
Есениус выразил протест против заключения их в тюрьму.
— Я не получил приказа касательно того, что с вами нужно обходиться по-особому, — ответил, пожимая плечами, начальник стражи. — Притом, с сожалением должен сообщить вам, что сведения, полученные мною о ваших планах, столь ужасны, что, если бы вам удалось осуществить вашу миссию, мятеж распространился бы по всей Венгрии. Поэтому и обращаются с вами, как с наиболее опасным преступником.
— Это ложь, будто я желал вызвать в Венгрии мятеж. Моя миссия заключалась в том, чтобы установить братские связи между чешскими и венгерскими сословиями.
— Суд подробнее разберется во всем, — ответил начальник стражи и добавил: — Так как было установлено, что находящиеся с вами прямо не участвовали в ваших действиях, направленных против короля и императора, его милость палатин приказал отпустить их на свободу.
Есениус вздохнул с облегчением. По крайней мере, студентов освободят.
Они ведь и в самом деле ни в чем не виноваты. Если уж кто-то должен страдать, так пусть это будет он, глава посольства. Кроме того, если его провожатые окажутся на свободе, и ему скорее удастся выбраться. Студенты вернутся в Прагу и поставят в известность чешские сословия обо всем, что произошло. И помощь не заставит себя ждать.
— А вы, ваша магнифиценция, приготовьтесь к дороге. Вечером вас отвезут в Вену.
В нынешнем положении Есениуса и это сообщение обрадовали его. В Вене находится император Матиаш, который знает его лично. Там и король Фердинанд. И, конечно, он скорее дождется правосудия. А если не правосудия, то какого-то облегчения. Ведь Даниель на службе у Фердинанда. Любим Фердинандом… Возможно, Даниель и поможет брату.
Он собрался в дорогу, а потом под стражей ждал вечера, пока за ним придет карета.
Они отправились в путь в сопровождении небольшого отряда. Путешествовали ночью, чтобы процессия не вызывала излишних волнений.
В Вену прибыли перед утром. Карета остановилась недалеко от городских ворот, потому что солдаты не знали, куда им везти узника. Это решить мог только судья.
Прошло около часа, и, наконец, верхом, в полном вооружении явился уголовный судья и приказал солдатам везти узника к нему домой. Для этого нужно было проехать через весь город, и странная процессия везде вызывала большое любопытство.
По прибытии судья составил протокол, а потом приказал отвезти Есениуса в так называемую Крестьянскую башню.
Разница между прешпоркской и здешней тюрьмой заключалась только в том, что в Прешпорке тюрьма была под землей, а здесь — наверху, в башне. Помещение невелико, всюду паутина, окно наполовину выбито, и вдобавок в камеру проникал запах из каморки, расположенной по соседству, которая была, собственно, отхожим местом. Ни постели, ни стола. Опять пришлось укладываться на соломе. По крайней мере, эта хоть сухая.
Есениус снова выразил против таких условий протест. Он требовал учесть его рыцарское звание и соответствующим образом обходиться с ним. На его слова не обратили внимания.
Ему не позволили даже известить брата и не дали ни бумаги, ни письменных принадлежностей.
«Как заживо погребенный», — думал он с горечью.
Однажды ночью его разбудил шум засова.
— Встать! — приказал громкий голос.
В камеру вошли трое.
Судя по одежде, один из них был дворянин. Другой, одетый более скромно, оказался доктором права. А третий — обычным щелкопером; за ухом у него торчало перо, за пазухой свиток бумаги.
— Да, не очень-то тут удобно, — произнес, сморщив нос, главный.
— Я рад, что и вы считаете условия, в которых я нахожусь, неприемлемыми, — ответил Есениус. — Я был бы признателен, если бы вы поставили в известность о моем положении тех, кто заключил меня сюда.
Господин молча кивнул. Потом приказал писарю приготовиться. В камере не было стола, и писарь развернул бумагу на коленях.
— Какого вы вероисповедания? — спросил председатель после обычных вопросов об имени и дате рождения.
— Евангелического.
— Были вы на императорской службе к моменту ареста?
— Нет, но я всегда хранил верность императору.
— Когда и кто выбрал вас ректором пражского университета?
— В прошлом году в день святого Гавла. Выбрали меня чиновники, облеченные правом избирать ректора.
Писарь поднял голову:
— Смею ли я попросить говорить медленнее? Я не успеваю записывать, здесь очень неудобно…
Председатель помедлил, пока писарь все не запишет. Потом продолжал допрос:
— Вам было приказано отправиться с посольством в Прешпорк или вы сделали это по собственной инициативе? Какую награду вы получили за это или намереваетесь получить?
— Должность посла мне доверили дефензоры, ведению которых принадлежит университет. Никакой платы я за это не получил и не должен получить.
Опять на некоторое время остановились, чтобы писарь мог все записать.
Когда на вопрос, является ли он членом какого-либо общинного управления, Есениус ответил отрицательно, председатель задал вопрос, весьма огорчивший допрашиваемого:
— Раз вы являетесь легатом[43] чешских сословий, принимающих святое причастие под двумя видами, определенно вам знакомы некоторые их тайны?
При мигающем свете свечи, стоявшей на скамье, где писал писарь, не было видно, что при этом вопросе лицо Есениуса залила краска. Волнение изменило его голос.
— Директора не предпринимают ничего тайного и ничего не скрывают из своих действий; их слишком много для этого — тридцать человек, и, если бы они хотели делать что-либо тайное, это оказалось бы просто невозможно.
— Что вы можете сказать о дефенестрации наместников? Вы одобряете подобные действия?
На этот вопрос он ответил пространнее, так как знал, что ответ будет решающим для его дела. Предшествовавшие вопросы были не так важны. Теперь он должен стараться не погубить себя и недипломатическим ответом не повредить делу чешских сословий.
— Я не желал этого, но что случилось, того не вернешь. И мне не пристало судить и порицать это событие. Мне хорошо известно, что в древние времена греки велели глашатаям объявлять по городу: «Cui praesens rei publicae status non placet, velit abire» — «Кому существующее устройство не по вкусу, пусть уходит в то место, где ему будет нравиться». Но у меня не было достаточных причин уходить из города, ибо и священное писание учит нас, что каждому надлежит оставаться на том месте, на которое он богом поставлен, и ревностно исполнять свой долг.
— С какой целью вербуют чешские сословия народ? Не злоумышляют ли они против австрийского дома?
— Чехи не собираются начинать войну; но, если кто-нибудь начнет войну против них, они будут защищаться.
— На чью помощь и поддержку они рассчитывают?
— Прежде всего и больше всего — на помощь божию, а потом на справедливость своего дела, на единоверцев и на прирожденную доблесть чешского народа.
— Кто из чужеземных государей предлагает им помощь?
— Когда я был в Праге, послы, отправленные в чужие края, еще не возвратились.
— Не было ли целью вашего посольства требовать военной помощи от венгерских сословий?
— Ничего подобного прошу не приписывать мне.
— Достаточно.
Председатель встал. Столь поздний допрос утомил его. Сопровождающий его доктор едва сдерживал зевоту. А руки писаря одеревенели от писания.
Все были рады концу допроса.
Узник еще раз попросил председателя комиссии, чтобы ему переменили место заключения. Председатель обещал.
После этого Есениус стал ждать перемен. Он надеялся, что его вызовут к начальнику тюрьмы и объявят, что он свободен. А если уж его не отпустят на свободу, то переведут хотя бы в другое место заключения.
Но ничего подобного не произошло. Время текло, только дни становились короче, и в камере было так холодно, что стали топить печь — топка, впрочем, была на лестнице. Есениусу это немногим помогло, потому что сквозь выбитое окно шел холод, который, казалось, проникал до самых костей. И, хотя он спал одетый под ветхим одеялом, но страшно мерз по ночам.
Самое ужасное — это бездействие, и он отчаянно тосковал по перу и бумаге. Ему казалось, что никогда в его голове не зарождалось столько великих мыслей, как теперь, когда у него нет возможности записать их. Желание писать было столь настойчивым, что он старался успокоить его совершенно бессмысленным занятием: он писал пальцами на стенах тюрьмы, выцарапывал ногтями картинки, потом буквы. У него не было системы, это была слабая иллюзия деятельности — иллюзия того, что он пишет…
Чем больше недель проводил он в тюрьме, тем сильнее становилась его ненависть к Матиашу. Если император не обязан отвечать за свои действия, как же он договаривается со своей совестью? И можно ли вообще говорить о совести? Держать человека столько времени в тюрьме, даже не допросив его как следует, — разве такой поступок может оправдаться совестью? Наступает зима, конец года… Не думают же они держать здесь его в будущем году? В году 1619? Кеплер был прав, что не желал служить такому государю.
Вспоминая о Кеплере, Есениус продолжал царапать ногтем известку. У него получилось несколько букв. Одно I и четыре М. Надпись выглядела так: IММММ.
Он сам был удивлен, когда очнулся от дум и заметил на стене эту надпись, которую он нацарапал машинально. Машинально? Он ведь думал при этом о Матиаше и о Кеплере. Какая же связь? И он вспомнил. Действительно, надпись имела отношение к Кеплеру.
Тихо Браге составлял когда-то гороскоп одному знатному господину и попросил Кеплера участвовать в этом труде. Кеплер счел это шуткой. Несколько минут размышлял, потом написал на листке бумаги наобум, как казалось, несколько цифр, а под ними — одинаковые буквы. Это выглядело так:
ММММММ
Браге посмотрел на запись, но покачал головой, не сумев разгадать ее смысла. Кеплер так объяснил ему: «Это начальные буквы латинской фразы: «Magnus Monarcha Mundi Medio Monse Martio Morietur» — «Могущественный монарх мира умрет в середине месяца марта».
«А цифры? Это дата?»
Кеплер ответил шутливо:
«Я должен был присоединить к пророчеству некую дату, чтобы вы не ждали исполнения его предсказания на будущий год».
Браге что-то пробормотал и недовольно отвернулся. Он счел шутку Кеплера неуместной.
Наверное, и Кеплер давно забыл об этом случае, так как не придавал ему никакого значения. А теперь из глубины памяти выплыла эта надпись. Ясно, что писал он не думая, иначе воспроизвел бы всю надпись целиком.
Вдруг его обеспокоила мысль: «Почему же я приписал там большое I?» Он постарался восстановить ход своих мыслей. О чем он думал? О Кеплере? Нет, о Кеплере он подумал позднее… А, вот что: сначала он думал о Матиаше. И писал: «Imperator Matthias» — император Матиаш.
«Сколько вещей человек делает в жизни машинально!» — подумал он и удивился. Теперь ему казалось, что он открыл окошко в собственную душу.
Человек сам себя не знает.
Он улыбнулся этой мысли, и больше надпись его не интересовала.
Так прошел месяц. В начале декабря комиссия явилась снова. Это были те же самые люди.
Председатель на этот раз держался строже. Результаты первого допроса, как видно, не успокоили его. По крайней мере, таково было впечатление Есениуса.
— Я требую, ваша магнифиценция, чтобы вы выражались яснее, чем в прошлый раз, — сказал председатель.
— Я буду говорить по совести, — ответил Есениус.
— Только этим вы можете облегчить свое положение. Итак, начнем. Считаете вы справедливыми акции чешских сословий?
Есениус мысленно усмехнулся.
«Вы хотите, чтобы я говорил ясно. Хорошо, буду говорить ясно».
— Да, считаю справедливыми, — ответил он твердо. — Потому чешские сословия и послали меня в Венгрию, чтобы я доказал венгерским сословиям справедливость их борьбы. Сословия, принимающие святое причастие под двумя видами, требовали только тех свобод, которые были им даны. Другая сторона не тайно, но явно мешала протестантам исповедовать их веру и старалась отменить грамоту его величества Рудольфа Второго. Людей склоняли к папистской вере обещаниями, дарами, деньгами или насилием. Протестанты не давали возможности строить храмы и костелы, а некоторые выстроенные были разрушены. Сословия выступили против этого на сейме, но напрасно.
Есениус говорил открыто, быстро, взволнованно, не думая, поспевает ли за ним писарь.
Зато председатель не задавал другого вопроса, пока писарь не записал всего.
— А не собираются ли чехи выбрать другого короля?
Хотя Есениус знал, как неспокойно в Чехии, он ответил осмотрительно:
— Чехи до сих пор признают императора Матиаша своим королем и господином и являются его верными подданными.
О Фердинанде он не упомянул. Председатель ничего не сказал на это, но хорошо все запомнил. Потом продолжал допрос:
— Какова же цель чешских сословий?
— Они требуют только, чтобы император поручился им, что ни их, ни их потомков в будущем не постигнет подобная несправедливость.
Так допрашивали его несколько ночей подряд, но безрезультатно. Есениус решительно протестовал против обвинения в мятеже, которое ему предъявляли, и защищал позицию чешских сословий против императора.
И все же он дождался перемен.
После долгих просьб ему дали книги, бумагу и перья. Хотя его руки стыли, он начал писать протесты и требования, пересыпая свои жалобы цитатами из древних философов и из библии, чтобы смягчить сердца тех, кому писал. А адресаты его были особами значительными: одна из жалоб была направлена королю Фердинанду, но тот отвечал, что не желает иметь ничего общего с чешскими бунтовщиками. Есениус написал другое письмо прямо императору. И третье — председателю императорского суда. Но все письма остались без ответа.
Так убегали недели и месяцы. Наступила зима, но по делу Есениуса не вынесли еще никакого решения. Когда безнадежность его достигла предела, тюремщик привел к нему гостя — доктора прав Рота из Праги, которого послали чешские сословия, чтобы вызволить Есениуса из тюрьмы.
После стольких месяцев одиночества это была огромная радость. Конечно, он мог видеть Рота только в присутствии тюремщика и ему приказали говорить только по-немецки, чтобы дозорный мог следить за разговором, но все равно радости Есениуса не было предела. Теперь хоть протянулись какие-то нити к внешнему миру. Он уже не чувствовал себя заживо погребенным А когда он узнал от Рота, что и на сейме в Прешпорке венгерские сословия требовали его освобождения, ему легче стало переносить все лишения.
Общие усилия венгерских сословии и доктора Рота не оказались тщетными: вечером, перед святым Микулашем[44], к Крестьянской башне подъехала карета, в которой Есениуса отвезли в дом судьи. Тот поместил его — как видно, по приказу свыше — в одной из собственных комнат. Есениус мог свободно передвигаться по дому и по двору. Он только не мог выходить из дома. Но что было важнее всего — он мог принимать посетителей. К нему пришел и Даниель и обрадовал его известием о скорой свободе…
Судья переменил свое отношение к Есениусу. Раз им интересуются люди высшие, следовательно, этот узник — лицо значительное. Ведь о нем говорили на прешпоркском сейме. Поэтому судья весьма вежливо обращался со своим пленником и заботился о том, чтобы тот ни в чем не терпел нужды.
Однажды судья явился к Есениусу очень взволнованный:
— Знаете ли вы, ваша магнифиценция, что говорят о вас в Бурге?
В Бурге находился император.
— Не намереваются ли отпустить меня на свободу? — спросил он с надеждой.
Судья улыбнулся:
— К сожалению, об этом я ничего не знаю. Но в Крестьянской башне тюремщик обнаружил какую-то новую загадочную надпись на стене. Надпись эта обнаружена в камере, в которой содержали вас. Речь идет о буквах «IМ М М М». Это вы написали?
Есениус тоже улыбнулся:
— Да, я, — ответил он. — И что?
— Ни тюремщик, ни начальник тюрьмы — никто не мог разгадать этой загадки. Все в городе загадывали ее друг другу, и наконец это дошло до короля Фердинанда. Он заинтересовался таинственной надписью, так как решил, что эти буквы «М» как-то связаны с Матиашем. Король сам отправился в Крестьянскую башню, чтобы взглянуть собственными глазами на эти письмена.
Есениус стал слушать с интересом.
— И что? Он разгадал?
— Разгадал, — ответил судья. «Imperator Matthias Mense Martio Morietur» — «Император Матиаш умрет в месяце марте».
Есениус едва не вскрикнул. Он и сам не думал, какой смысл могли иметь слова, которые он нацарапал на известке. Вот, значит, как поняли его! Интересная игра.
— Что же сказал на это его величество? — спросил Есениус.
Если бы «предсказание» сбылось, королю это не было бы неприятно: ведь тогда он стал бы императором.
— Король взял мел и под вашей надписью написал объяснение: Iesseni Mentiris, Mala Morte Morieris.
Есениус вздрогнул. Даже люди, которые не верят приметам, не хотят слушать предсказания своей смерти. Шутка Кеплера обратилась теперь против Есениуса и ранила его своим острием. Ему и в голову не приходило до сих пор, что из начальных букв, которые он сам написал на стене, можно составить такие слова, как это сделал король Фердинанд: «Есениус, лжешь. Умрешь злой смертью».
— Что скажете на это, ваша магнифиценция? — спросил судья, увидев, что Есениус стал серьезным.
— Если исполнится мое предсказание, то исполнится и предсказание короля, — ответил с улыбкой Есениус, стараясь подавить неприятное чувство.
Судья понес этот интересный ответ в Бург и постарался, чтобы о нем узнал король.
Когда король услышал, как Есениус принял его объяснение, он спокойно улыбнулся и сказал:
— Если бы он был осторожным человеком и обладал даром предвидения, он бы извлек из этого хороший урок. Но бесполезно советовать бабочке не приближаться к пламени свечи. Все равно она когда-нибудь опалит себе крылья.
Доктору Роту удалось наконец добиться полного освобождения Есениуса. Помогло этому и обстоятельство, что чешские сословия посадили в тюрьму в Праге доктора Панзона и мелницкого капитана Топенца. И объяснили, что не отпустят их, пока в Вене не отпустят Есениуса.
Восемнадцатого декабря 1618 года карета с доктором Есениусом и доктором Ротом отъехала от ворот дома судьи. Даниель Есенский хотел, чтобы рождество брат провел у него, но Есениус спешил в Прагу отчитаться о результатах своего посольства.
В Прагу он прибыл как раз в сочельник.
НАЧАЛО БУРИ
Первой заботой Есениуса было составить для директоров подробное описание своего заключения (директора, в сущности, были чешским революционным правительством). Это описание снабжено было длинным, подробным названием. Таков был в то время обычай. Есениус описал все с того дня, как его арестовали, до самого дня освобождения. По совету директоров, это описание напечатали и издали. А когда книга вызвала живой интерес, он перевел ее на немецкий язык и в этом же году издал по-немецки.
В день святого Георгия состоялись выборы нового ректора. Ректора выбирали два раза в год: весной, в день святого Георгия, и осенью — в день святого Гавла. Снова выбрали Есениуса.
Директора ценили его политические способности, протестантские сословия уважали его, а профессора университета, хотя и сердились на него, что, мол, ради политических страстей он забывает университет, были рады, что благодаря заслугам Есениуса значение университета в бурные годы конца второго десятилетия XVII века столь возросло.
Легковерные люди — а кто тогда не был легковерен? — произносили имя Есениуса не только с почтением, но и с боязнью, особенно после смерти императора Матиаша. После тяжелой болезни император Матиаш во второй половине марта умер. Когда Есениус услышал известие о смерти императора, он не хотел в первую минуту даже верить этому. Какое-то неприятное предчувствие стало томить его. Ведь он писал на стене, ни о чем не думая, — и лишь король Фердинанд придал надписи какой-то особый смысл. Есениус никогда не верил, что это предсказание исполнится. Сколько всяческих пророчеств твердили люди! И, если из ста предсказаний девяносто восемь не исполнилось, а два случайно исполнились, о тех девяноста восьми никто и не вспоминал Но о тех двух пророчествах, которые по чистой случайности исполнялись, твердили все. И Есениус подпал под это правило. Случайно исполнилось его «предсказание» — даже не его собственное, ведь это было предсказание Кеплера, — и люди готовы предположить, что он в сговоре со злыми силами. И тщетно бы он стал объяснять им теперь, что это была всего лишь шутка, — никто бы не поверил. И теперь не оставалось ничего иного, как смириться с такой нежеланной славой.
Наследником императора Матиаша стал Фердинанд II. Его непримиримая борьба против всяких «ересей» явилась главной причиной чешского восстания.
До сих пор чешские сословия, принимающие святое причастие под двумя видами, считали свою борьбу оборонительной, они защищали свои права. Поэтому они и выбрали дефензоров для охраны веры. И потом все время подчеркивали, что они верны императору. Но теперь, когда больше года шли бои между императорской армией и сословным ополчением, каждому стало ясно, что дальше невозможно играть в жмурки: сражаться против императорской армии и уверять императора в своей верности. Пора было открыто объявить цели восстания. И открыто выступить против Фердинанда.
В августе было решено низложить Фердинанда и выбрать нового короля.
Многие боялись такого шага: Фердинанд сочтет это оскорблением своей особы и всего Габсбургского дома.
— Мы не выбирали Фердинанда королем, мы только признали его по требованию покойного императора Матиаша. Нам просто навязали его, — так говорил вице-канцлер Михаловиц. — И, если теперь мы выберем другого короля, мы ни в чем не будем виноваты перед Фердинандом.
— И напротив — это наилучшая возможность восстановить исконные права сословий, которым только и пристало избирать чешского короля, — решительно поддержал его пан Кашпар Каплирж.
— Нам бы нужно выбрать королем нашего человека, а не чужеземца, — присоединился Криштоф Гарант. — Пусть пан Будовец скажет, что он думает по этому поводу.
Все обернулись к Вацлаву Будовцу, который сидел нахмурившись и в раздумье теребил конец своей седой бороды.
После такого прямого обращения Будовец встал и сказал:
— Если я должен высказаться откровенно, то я не согласен ни с одним из высказанных мнений. По мне, так нам вообще никакой король не нужен. Чехия и прилегающие к ней земли должны быть не королевством, а свободной общиной, как, например, Нидерланды.
Зал зашумел множеством взволнованных голосов. Свободная община, республика — это неслыханно! Об этом и говорить нечего! Впрочем, уже нашли, кому предложить чешский престол: курфюрсту[45] Фридриху Пфальцскому.
Низложение Фердинанда и избрание нового короля должен был решить сейм, созванный на лето.
— Что вы скажете об этом выборе? — спросил Есениуса профессор Кампанус, когда окончился совет ректорского сената.
Есениус наморщил лоб.
— В этом вопросе даже среди директоров нет единства. Шлик решительно против Фридриха. Он предлагает избрать королем саксонского курфюрста Иоганна Георга. Но курфюрст не желает чешской короны; он не хочет ссориться с Габсбургами. Савойский герцог Карл-Эммануэль католик, у него мало надежды быть избранным на чешский престол. Остается Фридрих Пфальцский.
— Одно несомненно: Фридрих — кальвинист, и что касается религии, нам опасаться нечего. А в остальном… вряд ли его будет волновать благо королевства Чешского.
— Сословия рассчитывают, что, обратясь к Фридриху, они получат помощь его тестя — английского короля Иакова Первого. Я, конечно, не искушен в высокой политике, но думаю, для Иакова Испания важнее Чехии. То есть он не станет поддерживать своего зятя и чешских протестантов, чтобы не поссориться с Испанией, а отсюда и целый ряд последствий…
— Я знаю, Нидерланды, — озабоченно проговорил Кампанус.
Он был посвящен в сложности большой политической игры, которую вели чешские сословия. От разговора с Есениусом он не ожидал ничего нового, он хотел только проверить собственные надежды и сомнения.
— Да, Нидерланды, которые на собственном опыте испытали тяжесть борьбы за свободу совести, Нидерланды охотно помогли бы, если бы помогла Англия. Да, получается заколдованный круг…
— …выход из которого нам придется искать самим, — добавил Кампанус.
Так обсуждали кандидата на королевский трон не только Есениус и Кампанус, но люди во всем королевстве. Многих мучили скрытые опасения: а не получится ли так, что от одного несчастья мы избавимся, а другое накликаем?
Но быстрое течение событий остановить уже было нельзя.
На святого Руфа, 26 августа 1619 года, чешский сейм выбрал двадцатитрехлетнего Фридриха Пфальцского чешским королем, объявив предварительно избрание Фердинанда недействительным.
— «Alea iacta est» — «Жребий брошен», — сказал проректор Петер Фраделиус, когда на всех башнях пражских храмов зазвонили колокола в честь новоизбранного короля. — Теперь спор Фердинанда с сословиями может быть разрешен только силой оружия. Я не верю, чтобы Фердинанд смирился со своим изложением и признал нового короля. Как это отразится на нас, на академии?
— Мы должны приготовить какую-нибудь торжественную речь, чтобы от имени академии приветствовать нового короля, когда он прибудет в Прагу, — насмешливо ответил Есениус.
Фраделиус вздохнул:
— Действительно, теперь нам не остается ничего иного, мы должны расхлебывать кашу, которую заварили директоры.
Есениуса неприятно задело сомнение в тоне проректора.
— Так ты, Петер, не согласен с нами? Не одобряешь меня?
— Кому дело до мнения университета в этих бурных событиях, — отозвался миролюбиво Фраделиус, как будто желая смыть с себя заранее подозрение, что принадлежит к противоположному лагерю. — Все мы обязаны защищать нашу святую веру и права университета, которые даны были его основателем, блаженней памяти императором Карлом Четвертым. Только я боюсь, как бы нам не очутиться в самом центре событий. И тут важно наше личное отношение к происшедшему…
Фраделиус остановился и внимательно посмотрел на ректора, как он отнесется к его словам…
— Наше личное отношение не может отличаться от нашего официального отношения как деятелей университета, — твердо ответил Есениус, и на его лице отразилось неудовольствие.
— Мы служим Афине Палладе, а не Аресу, — так же твердо проговорил Фраделиус. — Избрание Фридриха означает неизбежно войну.
— Иногда приходится служить обоим божествам или перейти на службу другого божества, — настаивал ректор, но убедить Фраделиуса ему не удалось.
Проректор придвинул свой стул ближе к креслу Есениуса и сказал вполголоса:
— Для чего ты суешься в самый огонь, Иоганн? Ведь тебя лично это дело не касается. Пусть чехи выпутываются сами. Для чего вмешиваться нам, чужеземцам?..
Последнее слово Фраделиус произнес шепотом, но оно прозвучало, как взрыв.
Есениус резко отодвинул кресло.
Он подошел к Фраделиусу, облокотился о край массивного дубового стола.
— Ты понимаешь, что говоришь, Петер? — проговорил он c изумлением. — Разве мы тут чужеземцы? Я не считаю себя чужеземцем. Прага мне дом, хотя я здесь и не родился. Разве Прага не стала тебе родной?
Фраделиусу стало стыдно, и он поспешил оправдаться:
— Я не говорю, что не люблю Прагу, но… Родина ученых — весь мир. Если бы я был профессором в Сорбонне, я любил бы Париж, и судьба французов меня так же интересовала бы, как интересует ныне судьба чехов…
Есениус, сильно взволнованный, прошелся по комнате и вернулся к Фраделиусу:
— Нет, Петер, я не верю, не могу поверить, чтобы тебе было все равно, живешь ты в Праге или в Париже… и что тебе безразлична судьба чехов. Возможно, прежде и я бы так же ответил. Для меня Падуя или Виттенберг не отличались раньше от Праги. Ведь я относительно с легким сердцем переехал из Праги в Вену. Но в Вене понял, чем для меня стала Прага. Когда я был в Праге, меня не тянуло в Виттенберг. Но, когда я переехал в Вену, я почувствовал себя как в изгнании и все время тосковал по этому прекрасному городу над Влтавой. Прага стала моей настоящей родиной. Я не знаю, как тебе лучше объяснить это, но думаю, что во мне отозвался голос крови. Горное Ясено далеко от Праги и речь людей в горной Венгрии отлична от речи пражан, но все равно: когда я в первый раз услышал чешский язык, на эти звуки отозвалось что-то в моем сердце, как будто бы с самого дна выплыли воспоминания… И сразу я почувствовал себя здесь как дома. Ты понимаешь, раз я так привык к окружению — нет, точнее — я слился с ним, как капля сливается с морем, — меня стали радовать радости этих людей и печалить их заботы, я чувствую себя одним из них. И поэтому я не очутился в тупике, Петер, как это случилось с тобой. Если сражаться придется не только словом, я готов к этому.
Он положил Фраделиусу руку на плечо и сказал сердечно:
— Подумай, Петер. Я не верю, что мы окажемся в противоположных лагерях. Мы должны быть вместе.
Фраделиус смотрел на ректора, как будто бы не верил искренности его слов. И, чтобы рассеять свои сомнения, спросил прямо:
— Ты хочешь, следовательно, соединить не только судьбу академии, но и свое будущее с судьбой чешского мятежа? А ты понимаешь, что в случае неуспеха это может стоить жизни?
Ректор в упор посмотрел в глаза проректору и решительно ответил:
— Да, я твердо решился. И не говори о мятеже. Это справедливая борьба. Речь идет о лучшем, что есть в этом королевстве, о душах, об их спасении, о доблести, которой всегда отличался народ чешский среди других народов. Я верю, Петер, что и ты пойдешь с нами. И надеюсь, что ты поддержишь план, который я хочу предложить на ближайшем ректорском сенате: чтобы и мы, академия, призвали к оружию наших крепостных и поддержали таким образом сословия в их борьбе против Фердинанда.
— Ваша магнифиценция, университетское ополчение готово.
Педель стоял по стопке «смирно», как будто сам был солдатом, и это впечатление усиливалось тоном, каким отдавал он рапорт.
— Позови проректора и всех профессоров, — сказал ректор
— Проректор и профессора готовы; они ждут вашу магнифиценцию, — так же по-военному ответил педель.
— Хорошо, сейчас иду.
Во дворе Главной коллегии ждали только прихода ректора. Это было событие весьма выдающееся в жизни университета, поэтому во дворе, кроме профессоров и студентов, собрались все служители и соседи университета. А сорванцы сбежались со всей Железной улицы.
Посреди двора стояло четверо крестьян. Выстроившись в ряд, они хмуро глядели перед собой. Это были крепостные университета, которые пришли в Прагу, подчиняясь приказу о всеобщей воинской повинности. Общины должны были послать на каждые шестнадцать домов по одному ополченцу. Ополчение составляло часть наемного войска сословий.
Из крепостных общин университета пришли эти четверо, которые и предстали сейчас перёд ректором для того, чтобы он убедился, в каком они состоянии и смогут ли они достойно охранять интересы университета и сословий.
Это и был «мунштрунк». Чешский язык в те времена был в значительной степени пересыпан немецкими выражениями, а что касается слов военного обихода, они почти все были немецкими.
В зале к ректору присоединились профессора, а потом вся процессия медленным, торжественным шагом спустилась во двор. Студенты и соседи расступились, пропуская профессоров.
Временный командир ополчения, какой-то усатый студент, который служил раньше в наемном войске, скомандовал:
— Смирно!
Крестьяне, сгорбленные от работы и нужды, с трудом выпрямили спины и попытались выполнить команду.
Есениус обошел свой «гарнизон».
Картина, увиденная им, отнюдь не казалась обнадеживающей. Все четверо были уже немолодые люди, с худыми, морщинистыми лицами. Одеты кто во что горазд. На головах старые, заржавленные шишаки, в руках оружие: у одного — ружье, у другого — самострел, у третьего — алебарда, вооружение же четвертого составлял обыкновенный шест. Двое затянуты в кольчугу, надетую прямо на заплатанные кацавейки. Обладатель ружья красовался даже в каком-то военном мундире. А на четвертом ничего военного не было, по виду он больше походил на лесоруба.
В руках сильных мужчин и такое вооружение полезно, но что будут делать с таким старьем эти немощные старики, которым больше пристало бы возиться с внучатами, чем воевать!
— Почему пришли именно вы? — спросил Есениус самого старшего, голова которого, как грушевое дерево в мае, была вся белая. — Вы сами вызвались? Разве у вас нет мужчин помоложе и посильнее?
При его словах, произнесенных миролюбивым и сочувственным тоном, и остальные «солдаты» придвинулись ближе.
Седой старик горько усмехнулся:
— Кто же пойдет добровольно? Да и какой из меня солдат? Полвека назад я воевал против турок, но тогда было совсем другое дело. А теперь? Рихтар приказал идти, что делать? Те, кто помоложе, должны работать. Даром говорил я, что стар, немощен.
— И со мной так же! И у нас так было? — вмешались и остальные. Они забыли про построение, обступили Есениуса и стали жаловаться.
Командир не решался прикрикнуть на «солдат», поскольку сам ректор допустил такое грубое нарушение дисциплины. Он только подавал им знаки, приказывая снова стать в строй.
Есениус заметил знаки командира и смутился. «Мунштрунк» превратился в выслушивание жалоб. А ведь дело важное.
— Вот что: закончим «мунштрунк», потом придете в масхауз, и там поговорим.
Командир счел момент удобным, чтобы вмешаться. Он отдал приказание, и крестьяне постарались принять самые воинственные позы. Слова ректора ободрили их. «Мунштрунк» кончился.
Возвратившись с профессорами в университет, Есениус попросил их, если им не трудно, принять участие в чрезвычайной беседе, на которой он хочет поговорить с университетским ополчением.
Крестьяне оставили оружие в прихожей, не выпуская из рук шишаков.
Старик, с которым перед тем разговаривал Есениус, и теперь выступил вперед, чтобы говорить за остальных.
— Ты сказал, что в ополчение тебя назначил рихтар, — начал Есениус, — и что молодых, сильных мужчин оставили дома, потому что они нужны для работы?
— Истинно так, ваша милость, — подтвердил старик, а остальные дружно кивнули.
— Ведь только мы, крепостные, должны исполнять все повинности, — вмешался другой, тощий и длинный, с бельмом на глазу. — Господа и кто побогаче дают выкуп, а мы — свою шкуру…
— Да уж какой там выкуп! — воскликнул третий «солдат», невысокий, растрепанный, с лохматыми бровями. — Они только напишут, что, мол, дадут столько-то и столько-то денег, а сами не дают. Говорят, господа задолжали вербовщикам кучу денег. Даже представить трудно, какая это сила. Ежели какой бедняк задолжает оброк, так уж пристав непременно заявится и возьмет все, что есть, а ты подыхай с голоду. Такая нынче жизнь.
Профессора молчали. Что они могли сказать? Университет должен был представить ополченцев — разве они отвечают за то, что рихтары послали именно этих бедняков?
— Покорнейше просим вашу милость, отпустите нас домой, — стал просить самый старший, который, очевидно, был самым смелым. — Мы немощны, дома у нас семьи, внуки… Да и по работе мы кое на что полезны. Дома мы еще что-то сделаем, а на войне от нас какой прок?
Тут уже все стали жаловаться хором.
— Но согласитесь, добрые люди, что университет должен представить кого-то в ополчение.
Крестьяне склонили головы. Никто не решался сказать, что университет может отделаться выкупом. И профессора тоже молчали — дубовый, окованный железом сундук, вмещающий университетскую казну, был пуст.
Только Кампанус подошел к делу с другой стороны.
— Каждый из нас в эти времена должен приносить какие-то жертвы, — произнес он. — Ведь мы защищаем истинную веру господа нашего Христа, который пожертвовал своей жизнью за нас всех. Жертвы, которые мы приносим во славу его, — только малая мзда за всю его великую любовь к нам, грешникам.
Казалось, что слова Кампануса подействовали. Крестьяне задумались.
Через некоторое время снова заговорил старик:
— Да, господь наш терпел и отдал жизнь за нас за всех. Но почему за него страдать должны только мы, крепостные? Почему не хотят они заслужить царствие небесное?
Серьезное возражение. И Есениус понял, что в разговоре с этими простыми людьми он находится в невыгодном положении.
— Но ведь вам не стоило бы жаловаться, — отвечал он с упреком. — Разве вам здесь плохо? Ведь вы находитесь на содержании, как профессора и студенты, а работы от вас не требуют никакой.
Старик поскреб в затылке:
— Если бы нам и вперед оставаться в Праге, мы бы и слова сказали. В жизни нам не было так хорошо, как теперь, но, если нас пошлют воевать, снова придется голодать.
Есениус оглянулся на профессоров, намерены ли они продолжать разговор.
Но все молчали, и он разрешил крестьянам уйти. Решение профессоров им сообщат потом.
— Полагаю, что не стоит посылать их на войну, — проговорил в раздумье Кампанус.
Профессора заерзали в своих креслах.
Все чувствовали, что зашли в тупик. Если они не выставят ополчения, зачем было вызывать их в Прагу? Университету ведь солдат не надо…
— По домам отпустить мы их не можем, — возразил ректор, — потому что университет как владелец крепостных должен выставить какое-то ополчение. Но мы должны послать других — из огня да в полымя.
Где выход?
Проректор Фраделиус нашел выход.
— По Праге бродит сейчас множество всяких подозрительных людей, большей частью беглых наемников, с которыми ухо надо держать востро. Кто-то должен охранять наш славный Каролинум от этого сброда. И поэтому мы можем взять у директоров разрешение оставить наших солдат здесь, в Праге, дабы они охраняли профессоров и имущество академии.
Такой план всем понравился. Все единодушно хвалили его и попросили ректора, чтобы он переговорил об этом с директорами.
Есениус сам был рад, что они так мудро разрешили вопрос.
Но, когда он задумался над этим случаем, ему стало грустно.
Да, все очень сложно. Господа всеми дозволенными и недозволенными способами стараются увильнуть от воинской повинности. Народ не хочет воевать, потому что не знает, за что воевать.
А наемники воюют за деньги. Только директорам нечем платить, и наемные солдаты бунтуют либо дезертируют.
«Боже, навстречу какому будущему мы идем?» — спрашивал себя Есениус. Тщетно искал он ответа на свой вопрос.
Будущее разверзлось перед ним, как черная пропасть.
БАНСКАЯ БЫСТРИЦА
Положение Чехии ухудшалось с каждым днем. Необходимо было искать новой помощи.
Чешские сословия решили направить посольство к герцогу трансильванскому Габору Бетлену, возглавлявшему венгерские сословия, которые также выступили против императора Фердинанда II. Бетлен созвал сейм в Банской Быстрице, и все ожидали, что на нем разрешатся самые волнующие проблемы. Положение в Венгрии было крайне тяжелым, и народ во всей стране надеялся, что после этого сейма многое изменится.
Чешские сословия также много ожидали от этого сейма. Возглавлять посольство назначили представителя дворянского сословия Смила из Годейова. Кроме того, в посольство назначили Кристиана Андерспаха Берка из Дубы и из Липего и ректора Пражского университета Иоганеса Есениуса.
Когда Есениусу сообщили о назначении, он потребовал несколько дней на размышление. Опыт прешпоркского посольства не изгладился еще из его памяти, и новое приключение хоть и прельщало его, но одновременно и страшило. А кроме того, его немного задело, что возглавлять посольство назначили не его, а Смила из Годейова. Но, поразмыслив обо всех преимуществах этого назначения, доктор Есениус должен был признать, что решение было верным. И поэтому по прошествии трех дней он объявил директорам, что принимает назначение. И на его решение повлияли также некоторые другие доводы: отъезд посольства заставил забыть все личные заботы и опасения. Теперь мысли были заняты высшими интересами. А главное — он лично знаком со многими венгерскими магнатами еще со времени пребывания в Прешпорке с первым посольством. И, что было важнее всего, один из самых могущественных венгерских вельмож, Имрих Турзо, сын Георга Турзо, хорошо знакомого с Есениусом, был весьма к нему благосклонен. Сословиям было известно, что роль Турзо на сейме будет велика. Опыт с прошлым посольством Есениуса сказал, что одного лица недостаточно для такого важного дела. И поэтому сословия решили отправить в Быстрину посольство из трех человек: двоих представителей знати и одного дворянина. И надлежащую свиту.
Пять дорожных карет катились по ухабистой пыльной дороге по направлению к Банской Быстрице с северо-востока, от моравско-венгерской границы, которую они пересекли на Вларском переходе. На колесные оси налипла сухая грязь, пыль покрывала кареты густым слоем — по всему было видно, что они едут издалека.
Это было чешское посольство к Габору Бетлену. Прагу оно покинуло 2 июня 1620 года, а нынче 13-е, и рассчитывало к вечеру этого дня прибыть в Быстрицу.
Чешское посольство в Быстрице приняли истинно по-королевски. Около сотни самых знатных венгерских магнатов вышли на четверть мили от города — на верхний конец Радвана — и там ждали гостей. Трубили трубачи, кони вставали на дыбы; как звезды в небе, блестели в золотых лучах заходящего солнца драгоценные камни на одежде венгерских дворян, и глаз не знал, на чем остановиться, — на великолепных одеждах знати или на превосходных лошадях.
После приветствий вся процессия двинулась к Банской Быстрице, где послам было приготовлено достойное их званию жилье.
Банская Быстрица в те летние месяцы года 1620 изменилась до неузнаваемости. Одна только свита герцога Габора Бетлена состояла из двух тысяч солдат и множества придворных герцогини. И каждый участник сейма полагал делом чести иметь с собой достойную свиту вооруженных слуг. Самая большая после герцога свита окружала Имриха Турзо.
Бетлен поместился в городской крепости. Остальные вельможи и посольства заняли все большие дома на главной площади, а солдаты расположились лагерем в садах или на окружающих город лугах. Свита занимала все служебные помещения.
Никогда доселе Быстрица не видела такого множества людей.
Сейм был созван 26 мая, но герцог прибыл только 9 июня, а некоторые посольства еще позже, и сейм фактически не начинался.
В четверг перед полуднем сверкающая карета герцога остановилась перед домом; на площади, где разместилось чешское посольство; в этой карете и отправились в замок легаты.
Путь был коротким, не более двухсот шагов, замок находился тут же, в другом конце площади, но, несмотря на это, на площадь стеклись сотни зрителей. И каждый отметил про себя, что герцог послал за легатами собственную карету.
Почетный караул солдат, который встретил перед замком посольство, свидетельствовал о том, что оно было на съезде одним из самых значительных. И понятно: ведь уже тому два года, как чехи восстали против Габсбургского дома и, не остановившись на этом, низложили короля Фердинанда и выбрали другого. Бетлен также боролся против императора, против Габсбургов; и он больше всего желал отвоевать самостоятельность Венгерского королевства и соединить его с герцогством Трансильвания.
Чешское посольство собралось на широком подворье Быстрицкого замка, ожидая его временного хозяина Не успели все как следует оглядеться, как распахнулись бесшумно двери и к ним навстречу, приветливо улыбаясь, вышел Габор Бетлен.
Все видят его в первый раз, но знают, что это он. Приземистый, с головой, ушедшей в плечи, на первый взгляд в нем нет ничего величественного. И лицо его, до половины заросшее густой черной бородой, скорее неприятно. И все же в нем есть что-то притягивающее, отчего, раз увидев, хочется увидеть его вновь. Это глаза. Большие черные глаза, которые светятся глубокой мудростью. В его взгляде не сквозило обычное высокомерие, присущее высшей знати. Воля, решимость идти своей дорогой до конца — вот что светилось в его глазах. А кроме того, людей подкупали его искренность и простота в обращении.
Пан Смил из Годейона произнес приветственное слово от имени короля Фридриха и чешских сословий, после чего между ним, герцогом и канцлером Пехи завязался сердечный разговор.
Пока не прибыли послы Моравии, Силезии и обоих Лужиц, не могли начаться и официальные переговоры. Наконец послы прибыли.
В силезском посольстве состоял и доктор медицины Гашпар Дорнавиус, о котором Есениус много слышал как о славном ораторе. Они сразу же познакомились.
Теперь, когда все собрались, предстояло выполнить еще один долг: вручить свои верительные грамоты. Герцог решил, что этот торжественный обряд произойдет в воскресенье, до полудня, сразу же после богослужения.
Чешские послы велели приготовить в доме, где они остановились, торжественный обед. Бетлен поручил Имриху Турзо и канцлеру Шимону Пехи непременно присутствовать на этом обеде, чтобы предложить послам некоторые вопросы, на кои им следовало получить ответ. Вопросы касались денежных средств. Их нужно было немало.
Легаты потребовали время на размышление и обещали дать герцогу исчерпывающий ответ.
А теперь забудем на время все заботы и почтим эти скромные дары божьи, которые нам в меру своих способностей приготовила здешняя кухарка, — пригласил гостей пан Смил из Годейова.
Есениус сидел рядом с доктором Дорнавиусом.
— У вас легатский опыт больше моего, — доброжелательно проговорил Дорнавиус, хотя Есениус при первых его словах подумал, что доктор имеет в виду его пребывание в венской тюрьме. — Как вы думаете, можем ли мы питать хоть какую-нибудь надежду на успех?
Доктор Дорнавиус был благообразный старец с разделенной надвое бородой и большой плешью, которую покрывали крупные капли пота.
— Я полагаю, что основой нашего успеха может быть то, что нам предложил в качестве второго вопроса герцог: денежные средства. Чем скорее мы предоставим деньги, тем скорее герцог вышлет армию.
— Вы думаете, что сословия сумеют найти требуемую сумму? Какова должна быть сумма?
— Сумма невелика — четыреста тысяч золотых, — веско ответил Есениус.
Дорнавиус тихонько свистнул.
— Да, это сумма! Нелегко будет сословиям собрать столько денег!
Есениус кивнул.
Дорнавиус развивал свои мысли далее:
— Я опасаюсь, весьма опасаюсь, что и деньги не обеспечат нам помощи герцога. Вы слышали, что говорят послы императора? Что Фердинанд прикажет изгнать из Вены и вообще из Австрии всех до единого протестантов.
— Сомневаюсь, что он решится на такое, — заметил Есениус, — поскольку это имеет и другую сторону. А что, если бы, скажем, герцог предпринял те же меры по отношению к католикам?
И король Фридрих… Нет, я не верю этому, это обернулось бы против государства…
Обед кончился, и возобновились переговоры. Турзо советовал послам договориться с императором.
Есениус и Дорнавиус умолкли и стали слушать беседу.
— Как видите, и его милость герцог еще не сжег за собой всех мостов, — говорил Турзо. — Пока здесь находятся императорские послы, есть еще возможность договориться.
Юный граф искренне был убежден в возможности осуществления своего плана.
Но многоопытный Смил из Годейова не позволил увлечь себя и ответил с сомнением:
— Император не желает мириться с чехами. Ведь всем нам знакомо его изречение: он, мол, не будет спать спокойно до тех пор, пока не вырвет с корнем в своей империи ересь.
Но Турзо и против этого высказал свои возражения:
— Императорские послы прилагают все усилия к тому, чтобы герцог заключил с императором прочный и безопасный мир.
— Да, нам известно об этом, — согласился Годейовский, — однако император согласен вести переговоры с его милостью герцогом как с наместником Трансильвании и Венгрии, но ни в коем случае не желает вести переговоры с Чехией и относящимися к Чехии провинциями, то есть с союзниками герцога. От нас он требует капитуляции; мы должны вернуть ему трон и изгнать нынешнего чешского короля Фридриха. А с этим, разумеется, мы не желаем согласиться.
Эти доводы признал разумными и Турзо. И все же он не верил, чтобы император не пошел на уступки в этом вопросе.
— Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы избежать войны, — заключил он.
И послы выразили ему благодарность за усилия мирно разрешить спор чешских сословий с императором.
Первого августа на сейм прибыло новое императорское посольство, во главе с графом Коллальто.
На почетном месте в зале, где происходил сейм, под красным балдахином стояло кресло для герцога Бетлена. Граф Коллальто, который вошел в зал раньше, чем герцог, прошествовал прямо к почетному месту и опустился в кресло, не снимая шляпы. Этим он дал понять присутствующим, что представляет здесь императора.
Зал зашумел, как улей. Некоторые порешительнее схватились за эфес шпаги и только ждали знака, чтобы обнажить оружие. Но без герцога они ни на что не могли решиться.
Вошел герцог. Все встали и приветствовали его долгой овацией. Только граф Коллальто по-прежнему надменно восседал на возвышении. Все взгляды обратились к нему. И сразу наступила гробовая тишина. Как поступит герцог? Прогонит наглеца? Или покинет зал? Ничего подобного не произошло. Только зловещий огонек блеснул в глазах герцога и уголки рта скривились в усмешке.
Он остановился перед своим креслом, обнажил голову и стоя выслушал императорского посла.
Граф Коллальто говорил резко, его речь была пересыпана скрытыми и явными угрозами, слушая которые приверженцы Бетлена едва сдерживали свой гнев. Сам герцог слушал спокойно, лицо его было неподвижно и бесстрастно.
А Коллальто ставил условия: объявить вновь о покорности императору, разорвать союз с чешскими бунтовщиками и вернуть духовенству, а особенно иезуитам отнятое у них имущество. Если это не будет выполнено, его милости императору придется поступить по-своему.
Ответ герцога был лаконичным: он спрашивает, имеют ли послы достаточно полномочий для того, чтобы заключить с ним и с его союзниками мир. Коллальто отвечает, что его полномочия не простираются столь далеко и он не может заниматься делами союзников герцога, то есть чехов, дела которых подсудны лишь императорскому сейму.
Герцог отвечает: «Я не приму никакого решения без своих союзников. А теперь пусть послы отправляются восвояси и, если у них не будет полномочий на заключение мира не только с ним, но и с его союзниками, пусть лучше не возвращаются».
Бурные аплодисменты участников дают императорским послам явное представление об отношении собравшихся.
Выступление Коллальто на сейме было подобно грозе, очищающей воздух. Теперь и Турзо убедился в том, что договориться с императором невозможно. Зато самое время заключить соглашение с чехами.
Послы Чешского королевства и прилегающих к нему земель обещали Бетлену уплатить четыреста тысяч золотых в четыре срока. Он сам прибавит к этому двести тысяч, а двести тысяч соберут венгерские сословия. Из этой суммы сто тысяч заплатят Порте[46], чтобы обеспечить мир и поддержку султана. А на семьдесят тысяч герцог в течение месяца поставит двадцать тысяч солдат.
Договор о соглашении ознаменовался великим торжеством, после чего начались приготовления к выборам Бетлена венгерским королем; выборы должны были состояться 25 августа.
— Мне кажется, что нынешнее наше посольство будет успешнее, чем ваше прешпоркское, ваша магнифиценция, — удовлетворенно промолвил Смил из Годейова.
— Полагаю, что мы можем сказать: наше посольство было успешным, — ответил Есениус.
— Давайте подождем с оценкой. Если сословия вовремя соберут деньги и Бетлен незамедлительно выставит и пошлет нам армию, то лишь тогда мы сможем говорить о подлинном успехе — добавил Берка из Дубы.
Они тогда и не подозревали, что именно эта помощь Бетлена и решит судьбу битвы при Белой Горе.
На следующий же день после возвращения из Банской Быстрицы посольство явилось в Град к королю Фридриху и потребовало аудиенции.
Король не заставил долго ждать. Он прервал свою беседу с главой сопротивления австрийских сословий и членом военного совета Эразмом Чернемблом и пригласил послов в свои покои. Затем предложил Смилу из Годейова лишь коротко осветить события: подробный отчет будет заслушан позже, когда сойдется военный совет. Король приказал незамедлительно явиться верховному канцлеру пану Велиму из Роупова и всем членам военного совета. Кроме присутствующего Чернембла, в военный совет входили Кашпар Каплирж из Суслевиц, генерал из Гофкирха, полковник Готтгард из Старгемберга, Андреас Унгнад и Бебисдорф.
— Если бы я посмел подать вашей королевской милости скромный совет, я предложил бы пригласить и графа Матеса Турна, — промолвил пан Смил. — Он как раз находится во дворце и, если не ошибаюсь, еще не ушел.
— Превосходно, я согласен. Пусть позовут и графа Турна, — торопливо проговорил король; он весьма охотно присоединялся к чужому мнению, только бы не решать самому.
Фридрих не был приверженцем строгого этикета, как Габсбурги, и поэтому в разговоре не употреблял даже «pluralis maje- staticus» — он говорил «я», а не «мы», как это было принято у особ царствующего рода. Еще раньше, чем пан Смил из Годейова начал свой отчет, король пригласил послов к столу, который стоял вдоль стены под окнами, и сам уселся во главе стола.
Смил из Годейова, который сидел рядом с королем, встал и отвесил низкий поклон. Он приготовился к речи, полагая, что короля интересуют результаты переговоров с Бетленом, но король знаком приказал ему снова сесть.
— Подождите немного, — проговорил он вежливо, словно оправдываясь. — Но нынче нам предстоит еще много разговоров, поэтому не мешало бы вам слегка подкрепиться…
Послы с удивлением переглянулись. Они уже слышали, что король весьма не прочь пригубить бокал, но не ожидали, что он будет пить и при таких обстоятельствах.
Камер-лакей принес вина, и только когда все выпили за здоровье короля, Фридрих приготовился слушать пана из Годейова.
— Можете не вставать, — разрешил ему король. — Скажите без лишних церемоний, каковы ваши дела в Банской Быстрице. Бетлен, конечно, требует денег? Я так и думал.
В то время как пан из Годейова знакомил короля с деятельностью посольства, Есениус внимательно смотрел на Фридриха Пфальцского, дополняя собственными впечатлениями суждение, составленное о короле с чужих слов.
Как-то ему пришлось видеть короля вблизи. Это было в день вступления Фридриха в Прагу. Есениус приветствовал короля перед дворцом торжественной латинской речью от имени высокой школы Карловой. Но тогда Фридрих был окружен королевскими почестями и блеском и старался придать лицу приветливо-надменное выражение, как того требовала торжественная минута. Все, кто приветствовал Фридриха в Праге, ожидали и надеялись на новый расцвет королевства. Не прошло и года с той поры, а надежды рассеялись, как дым, думы и чаяния погибли, как от майских холодов.
Король слушает, с трудом сосредоточиваясь на словах Смила. Часто посматривая на двери, словно нетерпеливо ожидая прихода приглашенных, он еще чаще поднимает свой бокал. Время от времени он приглашает и послов наполнять бокалы, а то и забывает о своем долге хозяина и пьет в одиночестве. И послы рады этому: если осушать бокалы наравне с королем, так, пожалуй, голова затуманится раньше, чем начнется совет.
Собственно, даже такая мелочь — вино при сообщении о столь важном посольстве — говорила против этого короля. Веселый и беззаботный, не прочь выпить лишний бокал — таково было первое всеобщее впечатление. Впрочем, можно было дополнить еще и другой существенной чертой Фридриха Пфальцского: он любил поволочиться за хорошенькими женщинами. Он был еще молод, всего двадцать четыре года, и хорош собой. Фридрих был весьма вежлив и предупредителен к прекрасному полу и сам более ценил свое рыцарство, чем королевский титул. Он мог поцеловать руку простой горожанке, если она была красива, и ему было мало дела до того, что королева Елизавета, дочь английского короля Иакова I, спесивая англичанка, как называл ее народ в Праге, злилась, когда узнавала о подобном поведении своего супруга или о том, что он переплывал Влтаву только для того, чтобы снискать себе популярность среди жителей Праги, которых этот поступок искренне забавлял. «Как он смеет так унижать королевское достоинство!» — огорчалась королева.
«Милый молодой человек, но что это за король!» — подумал Есениус. Он нахмурился, вспомнив о своих двух посольствах и о бедах, которые надвигались на королевство, как черные тучи затягивают постепенно весь горизонт.
Из задумчивости вывел Есениуса приход верховного канцлера пана Вилема из Роупова.
Король оживился. Он приказал камер-лакею придвинуть кресло канцлера поближе к своему.
Фридрих желал бы, чтобы канцлер был рядом, и он мог бы вовремя получить нужный совет. Без канцлера он чувствовал себя как без рук и не мог принять ни одного решения.
Вскоре собрались все члены военного совета; пришел и граф Турн, один из командующих сословного войска.
— Я просил вас участвовать в этом совете с тем, чтобы вы послушали о переговорах, которые вело наше посольство с Габором Бетленом, и чтобы вы могли принять решение по этому вопросу. Пан из Годейова, можете приступать к докладу.
Смил из Годейова изложил по-немецки все, что происходило в Банской Быстрице.
На лицах участников совета сначала отражалась только радость. В особенности когда пан Смил подробно описывал встречу, которую оказали чешскому посольству в Банской Быстрице. И следующая часть сообщения обрадовала их, ибо пан из Годейова не забыл ни одной подробности, которая увеличивала значение и славу посольства; все радовались, что добрая слава о Чешском королевстве разносится далеко по свету. Но когда пан Смил коснулся самого важного — вопроса о деньгах, о цене военной помощи Бетлена, — лица присутствующих нахмурились. Четыреста тысяч талеров! Дороговато, но что поделаешь? Собственно, все дело не в цене, есть еще более важный вопрос: где достать деньги?
Выслушав сообщение, король поблагодарил главу посольства за столь успешное завершение дела и похвалил действия его, а равно и остальных членов посольства.
— А теперь мы постараемся разрешить задачи, которые поставлены перед нами, — произнес, поднимая бокал, король.
Все последовали его примеру.
Потом король Фридрих вынул из кармана свои часы-луковицу:
— Я попрошу вас, господа, высказаться кратко, поскольку через час мне предстоит отправиться на охоту.
Есениус поднял голову и взглянул на пана из Роупова, ожидая его возражений против подобной торопливости. Но верховного канцлера слова короля ничуть не удивили. Очевидно, не впервые король предпочитал развлечения государственным делам.
«Куда заплывем мы на корабле, ведомом таким кормчим?» с горечью подумал Есениус, и у него тоскливо сжалось сердце.
Деньги, деньги и снова деньги — вот о чем говорили на совете.
— Надо предложить жителям Праги дать нам заем, — высказался верховный канцлер.
Король, который всегда соглашался со всем, что ни предложит верховный канцлер, на этот раз не решился высказать свое одобрение. Он смотрел на остальных членов военного совета, приглашая их высказаться. Но все молчали. Они хорошо знали, что, выступая против верховного канцлера, они выступят и против себя. Потому что, кроме горожан, есть только два источника, из которых можно черпать деньги: евреи и знать. Последнее — только на крайний случай, если другого выхода не будет.
И граф Турн высказал общие мысли, когда добавил к словам канцлера:
— Не следует забывать и о евреях…
Все одобрительно зашумели. Ну конечно же! Ведь деньги и евреи это так же связано между собой, как лето и тепло, рана и боль, жажда и вода. Еврейская община — кладезь более неистощимый, чем серебряные Кутногорские или Приибрамские копи. В подобных случаях забывать о евреях нельзя.
— Большую помощь могло бы оказать нам увеличение оброка, — сказал генерал Гофкирх. — Я убежден, что не все возможности еще исчерпаны.
Король ждет, что скажут другие, но никто больше не проронил ни слова. Все знают, каково может быть четвертое предложение, отчего же они боятся произнести эти слова?
Есениус сознает всю мучительность положения. На память приходят слова горожан и простого люда: господа всегда ищут, как бы свалить тяжесть на других. И вот он собственными глазами убедился в этом.
Наконец, когда молчание нестерпимо затянулось и все участники совета уставились в землю, словно что-то искали, за это неблагодарное дело взялся сам король.
Дворянскому сословию следовало бы показать пример, пожертвовав на всеобщее благо.
Это был меткий выстрел. В чем бы ни упрекали короля, на этот раз он вел себя правильно.
Фридрих взглянул на верховного канцлера, и пан Вилем из Роупова с готовностью кивнул.
— Вполне согласен с вашей королевской милостью, — проговорил он. — Я сам при последнем сборе налогов исполнил свой долг и пожертвовал для общего блага перья цапли со своей шляпы. А моя супруга собственноручно связала для одного из сражающихся солдат рукавицы.
Верховный канцлер с удовлетворением смотрит на членов военного совета и послов. Члены совета презрительно усмехаются, хотя никто не решается высказаться вслух. Ведь, если на весы положить их собственные пожертвования, они вряд ли перевесят перья цапли, о которых жители Праги сложили уже шутливую песенку.
Наконец высказался Эразм Чернембл.
— Не выплаченные наемникам деньги превышают уже два с половиной миллиона золотых. Если к ним мы прибавим требования Бетлена, то это составит почти три миллиона золотых. Такую сумму мы едва ли соберем за счет добровольных пожертвований. Пожертвования должны быть больше, мы не можем все бремя свалить на горожан и крепостных. Я знаю, неприятно отрезать от своего, но, если благо королевства и успех нашей борьбы действительно нам дороги, мы должны глубже покопаться у себя в сундуках. План займа у горожан и новых податей с еврейской общины я не считаю удачным. Нельзя так обременять подданных налогами.
Лицо верховного канцлера все более и более вытягивалось при словах Чернембла. Он переглянулся с паном из Бебисдорфа. «Если ему охота копаться в сундуке, пусть-ка покопается прежде в своем, а наши оставит в покое!» Пан из Роупова посмотрел на графа Турна, стараясь прочесть и в его взгляде одобрение. Но граф Турн сделал вид, что не замечает вопросительного взгляда канцлера. Он прекрасно знал, что происходит в армии сословий, и условия, в которых находился деревенский люд. Он знал, что Чернембл прав, и, хотя это горькая правда, ее придется принять как лекарство.
— Пан Чернембл сказал нам только о своем несогласии с тем, что было предложено. Но этого недостаточно. Что же предложит нам он сам?
Чернембл, точно ожидая этого приглашения, без колебаний высказал свои мысли. Ясно, он об этом подумывал и прежде.
— Раньше чем налагать новые подати, необходимо взыскать старые долги. И не считаться ни с какими отговорками и отсрочками, но требовать с каждого все сполна. Чтобы иметь возможность поступать столь строго, каждый сборщик должен быть уверен, что налог взимается справедливо.
— На это есть главный сборщик налогов; военный совет не может этим заниматься, — возразил верховный канцлер.
— Я и не настаиваю, чтобы этим занимался военный совет, — спокойно возразил Чернембл, — я только обращаю ваше внимание на то, что не всегда выполняется. Не раз случалось, что с тех, кто налог заплатил, сборщики взимают дважды, трижды, хотя многие господа не платили еще ни разу.
— Это отдельные недосмотры, — небрежно заметил верховный канцлер, как будто речь шла о мелочи.
— Нужно все это выяснить, — приказал король и посмотрел на Чернембла. — У вас еще какие-нибудь планы?
— Да, — ответил Чернембл, повышая голос. — Это вопрос о непомерно высокой оплате службы ряда старших офицеров.
Генерал Гофкирх и полковник Старгемберг беспокойно заерзали. Генерал недовольно откашлялся и обиженно проговорил голосом, напоминающим рычание медведя:
— От командира зависит боеспособность армии. Именно потому мы все силы должны приложить к тому, чтобы командиры были довольны.
Граф Турн счел должным вмешаться в этот все обостряющийся обмен мнениями:
— Я согласен с господином генералом, нам действительно безразлично спокойствие командиров, но равно важно, чтобы и армия была спокойна. А в армии не все в порядке. Я позволю себе предложить вашей королевской милости и военному совету подробное донесение.
— Я просил вначале выяснить вопрос с оплатой высших чинов — раздраженно сказал Чернембл, опасаясь, что при подробном разговоре об армии забудут о его плане.
Начали обсуждать оплату высших чинов, причем выяснилось, что жалованье некоторых генералов равно жалованью целого полка наемников. И, когда командиры получают какие-то суммы на оплату наемникам, они сперва возмещают недостатки собственного жалованья и только остаток делят между солдатами. Неудивительно, что недовольство среди солдат растет, многие полки открыто взбунтовались. Сам главнокомандующий сословного войска Маннсфельд, если бы ему не удалось смирить бунтующих солдат несколькими сотнями золотых, выданных из его личных денег в счет будущего жалованья, поплатился бы головой.
Командиры требуют жалованья на полный состав войска. При вербовке, как известно, каждый командир сообщает количество солдат, находящихся у него под началом, и берет деньги в расчете на это количество наемников. Но в боях состав армии уменьшается, новой вербовки не объявили, а жалованье выплачивают на полный состав войска и на тех, которые давно погибли. По рапортам о выплаченном жалованье против императора сражается гигантская армия сословий, а в действительности нет и половины.
Король уже несколько раз смотрел на часы, потому что час выезда на охоту приближался.
Чернембл, заметив нетерпение короля, постарался покончить со своими расчетами.
— Как я уже сказал, нельзя возлагать на крестьян большие подати. Но я знаю чудесное лекарство, которое способно воодушевить крепостных так, чтобы они отдали за наше дело добровольно все, что они еще способны дать.
— Слушаем, слушаем! — зашумело собрание (тогда им не пришлось бы так глубоко залезать в собственные карманы).
— Дайте крепостным свободу! — произнес Чернембл, повысив голос, и каждое его слово падало на головы присутствующих, как удар молота. — Тогда у них будет за что воевать.
Что тут началось! Будто разворошили осиное гнездо. Разочарование, огорчение, гнев — все было в голосах господ, собравшихся в королевском покое. Никто и слышать не хотел о таких вещах. Нет, такой ценой они не желали добровольной помощи народа. А кто же будет отрабатывать барщину? Неужели потом платить за работу собственным крестьянам? Неслыханно! Нет, невыгодна такая торговля! Война может через короткое время кончиться, и она кончится победой Чешского королевства — зачем же дорогой ценой покупать то, что и так можно получить? Зачем приносить такие жертвы? Победа над императором может в таком случае стать Пирровой победой. Нет, нет, никакого союза с народом, иначе мы больше потеряем, чем приобретем.
Все единогласно отвергли план Чернембла.
Король встал, собираясь уйти.
— Продолжайте без меня, — сказал он, когда все присутствующие поднялись со своих мест. Он положил часы в карман и добавил — Председателем будет пан верховный канцлер.
Король ушел. Пан из Роупова пригласил присутствующих подкрепиться вином. Возможно, от выпитого вина, а возможно, от радости, что все пришли к соглашению, отвергнув план Чернембла об освобождении крепостных, но все, кроме Чернембла, пришли в отличное расположение духа и отчет графа Турна об армии приняли без существенных разногласий, хотя то, что говорил Турн, не казалось им обнадеживающим.
Бунтующая армия — это, конечно, дело серьезное, но это можно легко исправить — нужны деньги. Хуже другая весть: в Южной Чехии — крестьянские волнения!
Верховный канцлер хмурился, на переносице у него пролегли зловещие морщинки.
— И что им опять надо? Ведь весной, когда разгорелся мятеж в Бехынске, мы удовлетворили все их требования.
— Не все, а только два, — вежливо заметил граф Турн. — Мы заплатили им за сожженные и вытоптанные посевы и позаботились о защите их от насилий наших наемников. А третье — снятие крепости — было отсрочено. Об этом, мол, речь пойдет после окончания войны.
— Хорошо, хорошо! — нетерпеливо сказал пан из Роупова. — Но ведь крестьяне согласились с этой отсрочкой. Так чего же им еще?
— Наше второе обещание не было выполнено. Не в нашей власти обеспечить крестьянам охрану от нашего же войска. Наемники разоряют крестьян хуже неприятеля.
— Но ведь с согласия его королевской милости мы издали указ о том, что крестьяне могут обороняться против насилии наемников, — ответил верховный канцлер, весьма удивленный тем, что в действительности все выглядит вовсе не так, как он и члены военного совета представляли здесь, в Праге.
— Что может сделать один человек или даже целая семья против оравы озверевших солдат? Солдаты не получают жалованья, они голодны, разве удивительно, что они грабят и убивают? Крестьяне, конечно, защищаются. Чтобы лучше защищаться, они собираются толпами. А если они оказываются достаточно сильными, они бьют всех, кого попало, — не только наемников, но и своих панов. Настоящий бунт.
Есениус слушал с удивлением. Хотя в Праге и поговаривали скверное об армии, он считал, что сообщения преувеличены. А тут от людей, облеченных такой властью, он узнал, что действительность намного хуже всех слухов. Это другая, менее известная сторона медали в войне. С одной стороны, искатели приключений, для которых война стала ремеслом и источником легкой наживы, вместе с ними толпы жестоких, на все способных людей, которые готовы воевать за любого, кто больше заплатит, а с другой — народ, который терпит страдания за чужие интересы, который идет воевать, но не знает, за что: все равно приходится рисковать своей шкурой.
Только теперь, когда начали говорить о положении народа и о возможностях увеличить его боеспособность, слово взял Есениус. Он говорил о нужде, которую видел в Верхней Венгрии, и о надеждах, которые народ возлагает на результаты войны.
— Я врач и при исполнении своего долга встречаюсь с бедностью весьма часто, — говорил он. — Но я стараюсь поддаваться не сочувствию к тем, горе которых я каждодневно наблюдаю, а изо всех сил стремлюсь уменьшить это горе. Если мне удается это, я радуюсь. Если же нет, я подчиняюсь воле божьей, посылающей нам муки. Но, благородные господа, существуют не только те страдания, которые посылает нам промысел божий и против которых мы бессильны. Есть страдания, которые причиняют нам люди. И против этих страданий можно и должно воевать. Нужно многое изменить. В Венгрии король Габор Бетлен много обещал и много начал уже осуществлять. Надо бы обратить внимание его милости короля Чехии на это обстоятельство и напомнить ему о том, что нужно для пользы людей нашего королевства.
Пан Вилем из Роупова смотрел на пана из Годейова с удивлением и упреком. От себя говорит Есениус или от имени всего посольства? Пан Смил из Годейова только пожал плечами. Жест этот должен был означать, что Есениус ничего не сообщал ему о своем выступлении и говорит только за себя.
Чернембл одобрительно кивал Есениусу, и его взгляд говорил: «Вот видите, он подтверждает мои слова».
Верховный канцлер больше не морщился; он ответил Есениусу язвительно:
— Мы весьма благодарны вашей магнифиценции за то, что вы ознакомили нас с вашими взглядами врача на положение в нашей стране. Но если ваша магнифиценция не может предложить лекарства от упомянутых вами недугов, нам придется принимать решение без учета требований вашей науки. С сожалением должен констатировать, что военный совет не может воспользоваться предложениями его магнифиценции доктора Есениуса, поскольку… как бы это выразиться… они непосредственно не связаны с посольством. Не желает ли кто-нибудь из членов посольства дополнить сообщение пана Смила из Годейова?
Никто не ответил. Для чего? Все существенное сказал уже пан из Годейова — кто пойдет против ветра? Ответ канцлера, хотя и вежливый, был, в сущности, окриком.
Радость от успешного посольства сменилась в душе Есениуса горечью и печалью. Все шло по старой, привычной дороге, и все попытки как-то повернуть события наталкивались на скалу себялюбия знати и безразличия ее к интересам общественным.
Лавина неслась уже так стремительно, что не было силы ее остановить.
НОЧЬ ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ БЕЛОЙ ГОРЕ
Над Прагой опустилась ночь. Страшная ночь, полная злых предчувствий. Рассудок еще не постигает их, но душа, томящаяся в тоске, уже предчувствует. Это острая боль в сердце, которую суеверные люди чувствуют при появлении кометы, а трусы — когда приближается гроза. Ночь кажется еще страшнее оттого, что опасность еще только приближается и неизвестно, как она велика, и поэтому она кажется неизмеримой.
Такова была ночь с 8-го на 9-е ноября — после битвы при Белой Горе.
В Праге знали уже, какой разгром постиг после полудня армию повстанцев всего за несколько миль от города. Тысячи солдат, бежавших с поля боя, явились в Прагу и разместились в ней, как будто речь шла о каком-то случайном привале. Что армия разбита, видно было по тому, как приходили в Прагу наемники — поодиночке, беспорядочными группами, сборными отрядами. Офицеров нигде не было видно. Солдаты оказались предоставленными самим себе. Жители Праги хорошенько не знали, союзное ли войско заняло Прагу или же неприятельское. По повадке солдат узнать это было невозможно.
Они приходили, покрытые грязью, — накануне лил дождь, и распаханные поля в окрестностях Праги совсем размокли, — солдаты были совершенно без сил, но на удивление веселые, словно не было никакого поражения. Фортуна — капризная ветреница, раз улыбнется одному, раз другому. Вот теперь она улыбнулась императорской армии. Но что из того? При первом же удобном случае она опять улыбнется им. Возможно, даже завтра. Если им прикажут защищать Прагу, они будут ее защищать. Ведь за это им платят. Собственно, с платой не все в порядке: уже полтора года они вовсе ничего не получали; правда, когда началось возмущение, им заткнули глотки малой толикой. А раз и пословица говорит: «Каков Ян, таков ему и кафтан», ясно, что солдатам не очень хотелось воевать. Да и за что воевать? Война — их ремесло; кто больше платил, за того и для того они воевали; немцы, венгры, валлоны, французы, сербы, румыны — кого тут только не было! Горстка чехов и особенно храбрых мораван, которые пали недалеко от поместья Звезда все до последнего, не могли своим самоотверженным примером воодушевить остальных солдат.
— Пусть воюют паны! — говорили солдаты в свое оправдание и бежали с поля боя при первой же возможности.
И так в ночь с 8-го на 9-е ноября Прага превратилась в военный лагерь потерпевшей поражение армии.
Вечером, когда в город вернулись солдаты армии сословий, Есениус отправился в Главную коллегию, чтобы быть там, где он больше всего нужен.
Четверо вооруженных крепостных из вотчин университета находились на своих местах. Они еще не потеряли голову, как все, хотя лица их были озабоченны и испуганны.
За ужином молчали, и этот ужин напоминал больше поминальную тризну.
— Голову выше, друзья! — ободрял их Есениус. — Не все еще потеряно. Прага будет защищаться. Войск достаточно, и, если к ним присоединятся вооруженные горожане, врагу не прорваться в город. Скоро на помощь явится армия Габора Бетлена и выручит осажденную Прагу. Положение не безнадежно.
Его слова немного повысили настроение собравшихся.
— Пока король с нами, не нужно так мрачно смотреть на вещи. Одно проигранное сражение еще не решает судьбы королевства. Сколько сражений за последнее время выиграла и проиграла наша армия! Но война продолжается. — Так рассуждал декан Кампанус.
— Надо вооружить студентов, — предложил Есениус, который каждое событие связывал с университетом. — Правда, нам пришлось бы купить оружие…
Оружия у университета было очень мало. И то, что нашлось на чердаке, устарело и заржавело. Большей частью это были палаши, копья и вилы еще с гуситских времен. И почти весь этот «арсенал» пошел на вооружение четверых университетских «воинов». Современного, огнестрельного оружия не было. И, так как университетская казна, конечно, пустовала, возможностей вооружить студентов не было никаких.
Впрочем, в Главную коллегию наемники не заглянули. Не оттого, что испугались четырех вооруженных крестьян — те сотрясались от страха, — наемники отказались от посещения университета после заверения крестьян, что живут здесь только бедные профессора, у которых ничего нет, разве что книги. А книги не интересовали наемников.
Поздно вечером один из студентов пришел с известием, что король Фридрих с семьей готовится к бегству.
— Немыслимо! — ужаснулся Есениус. — В такие минуты король не может покинуть страну. Это было бы непростительным малодушием.
Но студент утверждал, что видел собственными глазами, как король со свитой только что явился в Старое Место и укрылся в доме королевского рихтара. Вся улица заполнена телегами, груженными ценностями, вывезенными из Града. Утром вся процессия намерена отправиться далее в Пфальц. И многие из чешских магнатов собираются бежать вместе с королем…
Есениус подумал, что и ему следовало бы уйти из Праги. Чувство приближающейся опасности, которое он старался подавить отговоркой, что не все потеряно, превратилось теперь в настойчивое злое предчувствие, из которого и зародилась мысль о бегстве. Но эта мысль возникла помимо его воли, он немедленно отверг ее. Он не может уйти! Не смеет уйти!
«Теперь не уснешь», — подумал он и стал размышлять о создавшемся положении: если король покинет город, значит, об обороне никто и не помышляет. В этом случае действительно все потеряно. Еще нынче ночью Прагу может осадить императорская армия. Если они не придут ночью, завтра они определенно будут здесь. А после…
Глубоко задумавшись, он сидел при мигающем свете свечи, пока его размышления не нарушил последний гость.
Пришел молодой доктор Адамек.
— Почему ты здесь, Вавринец? На кого же оставил жену? — спросил Есениус.
— Мне нужны вы, ваша магнифиценция, — взволнованно ответил Вавринец. — Вы должны уйти. Вам грозит опасность. Немедленно уходите!
Грустная улыбка осветила озабоченное лицо Есениуса.
— Я не могу бросить университет на произвол судьбы, как капитан не может оставить корабль во время шторма. Собственно, мы тут даже не знаем, что делается в городе…
— Страшные вещи. Точно близится конец света. Говорят, на Белой Горе остались целые горы трупов и среди них несметное количество раненых… Без помощи. Те, кто мог передвигаться, добрались сами или с помощью своих здоровых товарищей до Праги. Некоторых привезли на лошадях… Остальные там. Крижовницкий госпиталь переполнен. Раненые лежат буквально один на одном. И никто не заботится о них… Это страшно!
Есениус, ошеломленный известием о бегстве короля Фридриха, опомнился. Слова доктора Адамека потрясли его. В нем заговорила совесть. Заговорил врач.
— Ты говоришь, никто не заботится о раненых в госпитале? Ради бога, почему? Ведь там есть врачи и фельдшеры.
— Да, только теперь мало кто решается выйти из дому. Каждый боится за себя. И врачи. Только доктор Борбониус в госпитале Но он не может справиться один.
— Я отправлюсь туда, — быстро решил Есениус. — Пойду в госпиталь.
Никто из профессоров не противоречил. Они одобрили решение ректора, хотя некоторые считали, что лучше бы ему подумать о себе. Но не решались сказать об этом, чтобы не ухудшить и без того тяжелое состояние Есениуса.
— И я пойду с вами, — решился Вавринец.
Но Есениус покачал головой.
— Я думаю. Вавринец, вполне достаточно, если я пойду одни. У тебя есть неотложные дела дома.
— Я пойду домой за инструментами и узнаю, что там нового. Потом отправлюсь с вами.
Есениус был тронут. Он не отговаривал Вавринца, он знал, что решение молодого врача так же твердо, как его собственное. Необходимо сохранить человеческие жизни, даже если придется заплатить своей.
Они зашли в дом Адамеков в конце Железной улицы.
Пани Зузанка, одетая, сидела в кухне при свече, коротая в ожидании мужа время за книгой. Кухня выходила окнами во двор, поэтому пани Зузанка могла не опасаться, что свет, проникающий сквозь щели, ставен, привлечет какого-нибудь запоздалого ночного гостя. Книга, которая лежала перед ней, была «Хроника о печальной кончине Гвискарда и Сигизмунды, дочери короля Салернийского, весьма жалостная история». Эта книга в те годы была очень любима, и ее можно было найти в любом доме. И пани Зузанка читала ее уже третий раз. Но сегодня она никак не могла сосредоточиться на горестной судьбе двух влюбленных сердец, которые нашли наконец утешение, соединявшись после смерти. Она старалась читать, но замечала, что мысли ее витают где-то далеко и она ничего не помнит из прочитанного. При каждом звуке, доносившемся с улицы, она вздрагивала, думая, что возвращается Вавринец.
Ее немного удивило, что муж пришел с ректором Есениусом. Ее удивление сменилось страхом, когда муж объявил, что немедленно должен отправиться в госпиталь. Но только румянец, заливший ее прекрасное лицо, выдал ее волнение. Первым движением пани Зузанки было воспротивиться этому, постараться сберечь мужа, не позволить ему подвергаться опасности, но она не выдала своих чувств. Только испытующе взглянула на мужа и промолвила:
— Иди, иди, Вавринец, это твой долг. Обо мне не беспокойся. Я в доме не одна… Нет, я пойду с вами и помогу перевязывать раненых. Ведь вы возьмете меня, ваша магнифиценция?
В ее голосе и взоре было столько твердой решимости, что Есениус не возражал. Он сказал, что решать должен Вавринец.
Так оба доктора вместе с женщиной вышли на пражские улицы. Вавринец в одной руке нес фонарь с дрожащим огоньком, другой, спрятанной за пазуху, сжимал ящик с инструментами. И ректор нес под плащом свои инструменты.
Не раз пробирался Есениус в ночные часы по пражским улицам, но никогда еще его не снедала такая тоска. Ему казалось, что все вымерло. Дома глядели на улицы и площади темными глазницами окон, из-за которых не пробивался ни единый луч света. Жители дрожали от страха и не могли уснуть, ожидая, что вот-вот перед домом послышатся крики и стук в ворота. А в комнате только старики, мужчины и дети. Молодые девушки и женщины цепенеют от страха, забившись куда-нибудь на чердак или в погреб, спрятанные под ворохами соломы, под сеном или просто под грудой тряпья. Зубы стучат от страха и от холода, а сырой туман проникает до самых костей…
Но все это наши ночные пешеходы только предполагали, потому что из темных и молчаливых домов на улицу не проникало никаких признаков жизни. Только когда наемники оглушительно барабанили в ворота, со двора слышался собачий лай.
Дома не выдавали никому своих тайн, но улицы являли редким прохожим невиданные картины. Только офицерам удалось устроиться на ночлег в домах. Унтер-офицерам и простым солдатам пришлось устроиться на ночлег под открытым небом. Чтобы хоть немного согреться, солдаты разложили большие костры.
Когда наши путники приблизились к первому костру, панн Зуэанка надвинула капюшон низко на лицо и высоко подняла воротник короткого мехового жакета. Но один из солдат, которые расположились на бочонках и больших камнях около весело потрескивающего огня, заметил их и воскликнул:
— Это что за привидения бредут сюда!
Кое-кто из солдат лениво оглянулся.
— Бросьте в костер что-нибудь сухое, чтобы нам лучше разглядеть красотку! — раздался какой-то пьяный голос, и сразу же нашлось несколько охотников, которые бросили в костер два резных стула. С вечера они жгли бочонки, найденные у лавки мясника, а когда всё спалили, принялись ломать ворота, ставни и заборы. Наконец ворвались в ближайший дом и стали выбрасывать в окна столы, стулья, кровати… Теперь все пошло в костер.
Солдат, который первым заметил их, закупорил деревянную флягу, из которой пил, и преградил доктору дорогу.
— Куда так спешите, поздние прохожие? — спросил он хриплым голосом, не спуская нахальных глаз с Зузанки.
Зузанка отвернула лицо.
— Мы доктора и идем в госпиталь спасать ваших раненых и умирающих товарищей, — ответил с достоинством Есениус и хотел идти дальше.
Но теперь им преграждало дорогу несколько человек.
Слова Есениуса немного утихомирили солдат. Если бы с врачами не было Зузанки, их бы оставили в покое. Но такую редкую добычу наемники не хотели легко выпустить из рук.
— А эта красотка? Докторша, что ли? — спросил с насмешкой пьяный солдат, указывая пальцем на Зузанку.
Зузанка отступила на шаг и спряталась за спину своего мужа.
Вавринец поставил фонарь наземь, чтобы освободить на случай необходимости правую руку.
— Она идет с нами перевязывать раненых, — объяснил Есениус. Он хмуро посмотрел на солдат и вдруг решительно сказал — Освободите нам дорогу или позовите командира!
В ответ на его слова наемники громко загоготали:
— Кто его знает, где теперь наш командир! Храпит где-нибудь на мягких белых перинах или спит, под землей на Белой Горе… Вот что, ученые доктора, — оставьте нам эту голубку, а сами идите с богом!
Вавринец схватился за кинжал, но Есениус стиснул его руку и прошептал:
— Спокойно… Мы договоримся с ними…
— Уж слишком вы бережете вашу голубку, — скалил зубы пьяный солдат. Он подмигивал своим товарищам, собираясь потешить их. — У нас нет злых мыслей. Мы бы хотели, чтобы она перевязала наших раненых — ну, вот этого хотя бы…
У солдата, сидевшего рядом с крикуном, правая рука была обмотана мешковиной. Он спокойно сказал:
— Двух пальцев нет, как будто пес сожрал.
— Покажи, — приказал Есениус и приблизился вместе с солдатом к огню.
Он поставил ящик с инструментами на один из свободных бочонков и размотал грязную повязку. Солдат заохал: повязка прилипла к ране и теперь снова потекла кровь.
— Рана засорилась, — сказал Есениус деловым тоном. — Так оставить нельзя…
Он стал чистить рану, а Вавринец и Зузанка помогали ему.
Наемники обступили их и с любопытством следили за пальцами Есениуса. Если до сих пор они сомневались, что это доктор, то теперь поверили собственным глазам. И наглость в их обращении уступила место сначала нескрываемому любопытству, а потом, когда они увидели, как искусно Есениус очистил искалеченные пальцы и зашил рану, чтобы она скорее зажила, их любопытство сменилось восхищением и молчаливым почтением, какое простой человек испытывает к тому, что недоступно его разуму и силам. Умолкли насмешки, и никто из солдат не смотрел больше на Зузанку взглядом, заставлявшим Вавринца схватиться за кинжал…
Однако среди солдат нашлось много раненых, и все они хотели, чтобы им оказали помощь. Тут были только легко раненные, но, если бы пришлось перевязывать всех желающих, пришлось бы задержаться по крайней мере на два часа.
— Послушайте, приятели, мы охотно всех вас перевяжем, но не требуйте, чтобы мы сделали это немедленно. Прежде всего это невозможно при таком свете, и потом, что важнее, в госпитале ждут нас такие раненые, что опоздай мы немного, и это будет стоить им жизни. Идемте с нами в госпиталь, мы найдем там время помочь вам.
Это показалось солдатам разумным, поэтому они присоединились к Есениусу и Адамекам и сопровождали их до госпиталя.
Солдаты, которые отправились с докторами, были словно их личной охраной.
Им попалась еще одна группа греющихся у огня солдат, но те их даже не заметили; они самозабвенно пели какую-то прежалостную балладу. Другая группа горланила веселую песню, а какой-то наемник даже пустился в пляс…
— Вот и последствия того, что сословия доверились наемной армии, — горько проговорил Есениус. — Что наемникам до судьбы жителей этого города, что им до целого королевства!
Вавринец кивнул и добавил:
— Если император заплатит им дороже, они пойдут служить и ему… Да будет милостив к нам бог!
Они добрались до госпиталя без приключений.
Никогда Есениус не видел сразу столько горя и страданий, сколько увидел сейчас в Крижовницком госпитале. На каждой койке лежало по трое раненых. Возчики, которые привозили этих несчастных, твердили, что убитых и раненых на Белой Горе больше, чем деревьев в лесу. Возить придется целый день, если доставить в госпиталь всех, кто продержится до завтра.
Множество раненых валялось прямо на полу и не только в палатах, но и в сенях и в коридоре. И многие еще сидели или стояли, прислонившись к стенам, тупо глядя перед собой. Есениус и Вавринец с Зузанкой вынуждены были перешагивать через тяжело стонущих раненых, прежде чем проникли во внутренние покои госпиталя.
Там они нашли доктора Борбониуса в белом фартуке, с засученными рукавами.
— Слава тебе, господи! — приветствовал он вошедших. — Как вы тут нужны!
И они немедленно приступили к работе.
У них не было времени готовиться к каждой операции так, как этого требовали правила.
— Двоим придется отнять ноги и одному руку, — объяснил доктор Борбониус. — Я один не хотел приниматься за это…
У них не было под руками усыпляющих средств, не было даже водки, чтобы напоить раненых перед ампутацией, и пришлось самые тяжелые операции проводить при полном сознании пациентов. Им затыкали рот пробковым кляпом с дыркой для воздуха, и Зузанка завязывала им платком глаза, чтобы они не кричали от боли, не волновались еще больше при виде крови.
Когда покончили с самыми тяжелыми, они минуту отдохнули. Но со всех сторон слышались стоны и вздохи.
— Есть тут, кроме меня, кто-нибудь из мораван? — кричал солдат с обвязанной головой. — Где все мораване?
Солдаты-чужеземцы не понимали его вопроса, а те, кто понимал, не хотели отвечать. Есениус уже слышал о том, как геройски сражались мораване: прижавшись к ограде, а потом к стенам виллы Звезда, они сражались до последнего дыхания. Ни один не сдался… Геройски умирали они под ударами намного превышавших их числом врагов, как под мощными взмахами косца один за другим через равные промежутки времени падают широкие закосы травы. Благодаря случайности или недосмотру страшного косца этот один колос остался на корню, одна человеческая жизнь сохранилась, и теперь в жестоком одиночестве последний мораванин зовет своих товарищей.
«Возможно, что смерть пощадила его для того, — подумал взволнованный Есениус, — чтобы он возвестил о геройской гибели своих братьев, повторивших подвиг спартанцев у Фермопил…
— Naar huis! Breng me naar huis! Ik wil te midden van de mijnen sterven. Домой! Отвезите меня домой! Я хочу умереть среди своих! — стонал какой-то усатый голландец с рассеченным плечом.
С другого конца палаты слышались жалостные вздохи изрубленного француза:
— Меs pauvres enfants! Меs pauvres enfants! Бедные мои дети, бедные мои дети!
В бурной и полной приключений жизни, которую вел наемник, он, наверное, не раз забывал, что женат и имеет детей. Но теперь, в час страдания, когда он уже почувствовал на себе ледяное дыхание смерти, он вспомнил о близких и жалобно застонал.
— Wasser! Dieser Durst, dieser schreckliche Durst! Воды, хочу пить! Дайте пить! — шептал другой, с блуждающим взглядом и пылающим жаром лицом.
Достаточно было Зузанке взглянуть на его потрескавшиеся губы, чтобы она сразу поняла, чего он просит, и поднесла ему кружку.
Больше всего беспокоили ее двое. Они были явно моложе ее, но война отметила их уже на всю жизнь.
Одному только что отрезали ногу. Когда Зузанка подошла к нему, он заговорил умоляюще:
— Nem akarok meg meghalni! Не хочется умирать!
Как будто он просил отогнать от него смерть; как будто в ее силах было сохранить ему жизнь. Но Зузанка не понимала его слов. Он был венгр, и никто из его соседей не понимал его. Раненых венгров в госпитале почти совсем не было. Все скрылись, как только разгорелся бой.
Другой, светловолосый, красивый, повторял только одно слово, которое все понимали; и, однако, по этому слову нельзя было определить, к какому народу принадлежит он.
— Мама! Мама! — стонал он с отчаянием.
У него была горячка, пуля застряла в животе. Он уже не отдавал себе отчета, где находится, потому что, когда Зузанка приложила к его горящему лбу влажные салфетки, он прошептал с благодарностью и облегчением:
— Ох, мама!
Врачи работали без отдыха, и Зузанка помогала им. Там, где они не могли помочь своей наукой, прикосновение женской руки успокаивало боль.
Перед рассветом, когда они уже сделали все и могли некоторое время отдохнуть, Вавринец опять попросил Есениуса:
— Уходите, ваша магнифиценция. Еще есть время.
Есениус устало улыбнулся и покачал головой:
— Я не могу оставить университет… Не могу оставить этих несчастных… — и показал на десятки страждущих вокруг.
Вавринец больше не просил его уходить.
А когда в обед они вернулись в Главную коллегию, по дороге повстречались им первые императорские солдаты, вторгшиеся в Прагу. Вавринец промолвил грустно:
— Жаль, что вы не использовали последней возможности, ваша магнифиценция… Вы понимаете, что нынче ночью, возможно, проиграли жизнь?
Есениус остановился, взглянул в глаза Вавринцу долгим взглядом и ответил твердо:
— Возможно. Но я сохранил честь.
И эти слова сняли у него с сердца тяжесть, которая до сих пор мучила его.
«ИЗГОНИ ИХ БИЧОМ ОГНЕННЫМ…»
Приближалась зима, наполняя сердце Есениуса беспокойством…
Со времени катастрофы на Белой Горе, а особенно после разговора с доктором Адамеком, когда тот предостерегал Есениуса и просил его уйти, к доктору уже не возвращался прежний покой. Он постоянно испытывал мучительную тоску, точно предвидя неведомую опасность, уйти от которой уже невозможно. Напрасно старался он заглушить это состояние, невидимый источник выносил из глубин душевных всё новые и новые страхи: предчувствие ужасного будущего.
«Что страшит меня? — пытался он успокоить себя. — Ведь курфюрст Саксонский поручился за жизнь всех вождей сопротивления и, кроме смещения ведущих должностных лиц, ничего не произошло. Император Фердинанд, несмотря на все его недостатки, человек набожный: он ежедневно присутствует на двух-трех мессах, во время процессий тела господня он всегда преклоняет колени, пусть даже ему приходится опускаться прямо в грязь… Он определенно почитает победу при Белой Горе за достаточное проявление милости пресвятой девы и не помышляет отяготить свою совесть местью. «Мне отмщение!» — сказал господь, и император помнит эту заповедь…»
Так утешал себя Есениус днем, а по ночам его одолевали видения. Случалось, снился ему Мыдларж, и всегда это-был страшный сон, пробуждение от которого было настоящим освобождением. И снова, как незваный гость, подкрадывалось беспокойство, подтачивая его мозг, как дятел подтачивает червивый ствол. Он пробуждался, когда слышал на улице крики или звон оружия, и у него начиналось дикое сердцебиение при звуке приближающихся шагов. Напрасно успокаивал он себя безрадостной мыслью, что никто не минует того, что ему уготовано, но он чувствовал какую-то странную перемену… Как врач, исследующий признаки неизвестной болезни, следил он за этим своим состоянием Он хотел разделить все свое существо на две независимые от друг от друга части: преследуемый ужасными призраками Есениус-человек, которою должен лечить Есениус-врач. Такое анатомирование собственного внутреннего мира, однако же, принесло ему облегчение: он вспомнил свою теорию о цикличности человеческой жизни. Это не его открытие, теорию эту он заимствовал у древних, но и сам на основе собственных наблюдений убедился в том, что в человеческом организме в определенные периоды происходят большие изменения. Самая большая перемена происходит на границе между молодостью и старостью. Теперь ему пятьдесят четыре года. Возможно, это только первые признаки великой перемены, к которой он должен быть готов. Так объяснял себе Есениус свое собственное душевное состояние — естественными причинами, — и это немного успокаивало его. Как ректору университета, ему пришлось пойти тернистой тропой кающегося, чтобы отвратить от школы императорский гнев. Профессорский совет послал его к герцогу Лихтенштейну, наместнику, чтобы от имени университета высказать сожаление по поводу недавнего заблуждения. Сердце его обливалось кровью.
— Признаем, что мы заблуждались, признаем, что мы прегрешили против неба и против его императорского величества. Пусть другие оправдываются, мы раскаиваемся. Судьям, которые будут судить наши действия, мы поведаем о нашей покорности: мы виновны, не спрашивали совета нашего, не слушали нас. Наука наша служит миру, и нужен ей мир, миром она жива; мы не желали войны. Отцу государства, нашему всемилостивейшему императору, мы говорим: отпусти, отец наш, сами не ведали мы, что творим, и ныне приносим наше покаяние.
Но желанного результата он не достиг.
Однажды вечером в квартире ректора раздался звонок. Так сообщили о своем приходе чужие.
— Прошу, — сказал Есениус, поднимая голову от работы.
Кто тревожит его ночью? Кто из чужих может прийти так поздно?.. И он взглянул на дверь.
На пороге стоял императорский рихтар Старого Места Шрепл.
— Пошли вам господь добрый вечер! — проговорил он и, не снимая шапки, подошел к столу, за которым сидел Есениус.
Лицо рихтара не предвещало ничего доброго. Есениус встал и, сохраняя наружное спокойствие, спросил:
— Чему обязан таким поздним визитом?
— Ваша магнифиценция, я исполняю свой долг…
Есениус помимо своей воли взглянул на полуотворенную дверь, не ожидает ли там городская стража. Но он никого не увидел, не слышно было ни голосов, ни шороха. Это немного успокоило его. Наверное, рихтар должен выяснить какой-нибудь вопрос… Может быть, студенты схватились где-нибудь со стражей… Но тогда пришел бы городской рихтар…
— Слушаю. Если дело не терпит до утра, я готов ответить вам немедленно.
— У меня никаких вопросов… по крайней мере, в этом месте. Дело куда важнее. Мне очень неприятно, но я только исполняю свой долг… — Рихтар замолчал, он искал приличествующие случаю выражения. И Есениус понял. — Мне приказано арестовать вас. Прошу вас не сопротивляться и по доброй воле следовать за мной. Перед воротами коллегии ждут четверо стражников.
Ах, вот что! Стражники не смеют вступить на территорию академии без позволения ректора. Это традиционная привилегия университетов. Какая нелепость: только с его согласия стража может вступить в здание университета, чтобы арестовать его. А что бы сделал рихтар, если бы он оказал сопротивление? Вряд ли он справится с ним… Но Есениус отогнал эту безумную мысль и сказал себе, что не может поступать неосмотрительно и тем самым унизить достоинство университета.
— Естественно, что я подчиняюсь, — ответил он спокойно. — Но не могли бы вы отложить это до завтра? Я должен поручить университет заместителю. Нужно передать знаки достоинства ректора; печать и все грамоты и бумаги. Ручаюсь своим рыцарским словом, что утром я сам явлюсь в ратушу.
Рихтар впервые с самого своего прихода посмотрел на Есениуса более человеческим взглядом. Благодарение богу, с этим мороки не будет.
— Я верю вашему слову, ваша магнифиценция, и, если бы это зависело от меня, я охотно удовлетворил бы вашу просьбу. Но приказ, который я получил, не позволяет мне нарушить его букву. Еще нынче ночью я обязан доставить вас в тюрьму.
Есениус задумался: одеваться ему или позвать профессоров?
— По крайней мере, одну любезность вы могли бы мне оказать, — сказал он, взглянув на рихтара. — Скажите, кроме меня, вы должны арестовать еще кого-нибудь?
Это был очень важный вопрос. Если арестуют его одного, дело не столь серьезно. Но, если арестуют и других, дело осложнится…
— Я не нарушу никакой тайны, если отвечу, что приказ касается только вас. Правда, я говорю лишь от своего имени. Я не знаю, что происходит в Новом Месте и на Малой Стране.
Есениусу и этого было достаточно. Если бы были предприняты какие-нибудь широкие акции против вождей сопротивления, его не сочли бы главным преступником.
Немного успокоившись, он приказал позвать декана Кампануса. Проректор Фраделиус был в Германии, куда его послали договориться о помощи чешским сословиям. Заботы об университете он должен был поручить Кампанусу. Они не могли действовать сообразно с требованиями ритуала, потому что рихтар начал терять терпение. И Есениус только в общих чертах познакомил Кампануса с хозяйством университета. Он отдал печать и ключи и наскоро перечислил, что нужно выполнить в первую очередь.
— А если меня будут держать там долго, не забывайте обо мне, — прибавил он с горькой иронией, пытаясь улыбнуться.
Кампанус заверил ректора, что университет предпримет все, чтобы освободить своего ректора, и попытался утешить его, что произошло какое-то недоразумение; пусть доктор не отчаивается, и бог не оставит его…
Есениус тепло оделся, взял с собой еще смену белья и шерстяное одеяло да еще вынул из сундука несколько талеров, которые могли пригодиться ему в заключении.
Он обнял своего друга и ушел в сопровождении рихтара.
Привели его в холодную и грязную камеру Староместского замка, которая так и называлась — «Грязной». Он очутился в одиночестве. И это означало, что арестовали его по важному государственному делу.
В первые дни своего заключения Есениус не раз благодарил бога, что ему уже было дано вкусить «сладости» тюрьмы. Теперь, по крайней мере, легче переносить свое положение. И он сравнивал. «Грязная» камера имела множество преимуществ по сравнению с Крестьянской башней в Вене.
Хуже всего оказалось бездействие и одиночество. Есениус ни минуты не мог быть без работы. Девиз, который он избрал себе и приказал увековечить в виде подписи к портрету, «Officio mi officior» — «Служением ближним себя сокрушаю», был символом всей его жизни. Он сразу почувствовал себя как без рук. Мысль его не знала покоя, но все было впустую. Ему не дали ни пера, ни бумаги. Наученный горьким опытом, он все взял с собой, но в тюрьме у него это отобрали. Дух его был истомлен напряженной работой мысли, тело измучено бесконечным хождением взад и вперед по камере — шесть шагов туда, шесть обратно. Все часы напролет. Если сложить все его шаги, куда бы он пришел? Хорошо еще, что он взял с собой несколько талеров. Его лучше кормили. Только и хорошее отношение тюремщика нужно было покупать. И средства Есениуса истощились раньше, чем он предполагал. Перед рождеством у него не оставалось уже ничего. Ему позволили написать в университет. Он господом богом просил не забывать его и прислать хоть пятьдесят талеров…
К рождеству он еще ничего не получил. На счастье, тюремщик сжалился (он надеялся, что это не пройдет даром) и принес ему еды из дому.
Грустное, очень грустное рождество было у доктора Есениуса. С улицы в камеру доносились колядки. В этот вечер он не ложился. И не шагал по камере. Он сидел на нарах и вспоминал. Колядки напомнили ему детство. Теплый воздух родного дома как будто проник через влажные, облезлые стены даже сюда, к окоченевшему узнику, который собственным дыханием отогревал руки, а воспоминаниями — сердце. В полночь, когда зазвонили колокола на башнях Тынского храма и протрубили радостные фанфары, Есениус стал перебирать в памяти все прекрасные рождественские вечера, которые он провел вместе с Марией Фельс.
После Нового года его пришел навестить Кампанус, принес ему поздравление от всех профессоров и десять золотых. Больше университет дать не мог. Прежде всегда находился какой-нибудь меценат, который жертвовал деньги на доброе слово кого-либо из профессоров, но с этого несчастного воскресенья 8 ноября все стараются обойти академию, как проклятое место. Пусть ректор не сердится на профессоров. Может быть, он поручит продать кое-какие вещи…
Есениуса обрадовал приход друга и его обещание еще прийти. Возможно, он принесет какое-нибудь радостное известие — ведь университет делает все возможное, чтобы помочь ректору вновь обрести свободу. Он, Кампанус, убежден, что это удастся, — кроме Есениуса, никого не арестовали, и он не видит причины, почему бы держать в тюрьме ректора…
В самом деле, в чем могут обвинить его? Его удивляло, что до сих пор ни разу не было допроса. Кто заинтересован в том, чтобы держать его в тюрьме? Неужто это дело Зденека Лобковица, который после победы Фердинанда снова стал верховным канцлером? Но как бы там ни было, нет никаких причин беспокоиться.
Его надежда на скорое освобождение возросла, когда ему вернули письменные принадлежности. Он писал, и время летело быстрее, хотя работать можно было только вечерами, при свете свечи, потому что днем в камере было слишком темно — январские дни короткие и хмурые. Когда на улице бушевала метель, в камере и днем было как ночью, но зажигать свечу узнику не разрешали; он слушал, как бьют часы на башне, и ждал вечера.
Но бывали и другие дни. Ясные, солнечные зимние дни, когда на улице трещал мороз, стены покрывались инеем, и узник часами простаивал, прижавшись спиной к печке, которую топили из коридора. Тогда было не до писания. В такие дни он с тоской глядел на кусочек голубого неба и радовался первым солнечным лучам, проникающим в его тюрьму. С прояснившимся лицом смотрел он на золотистый квадрат решетки на стене и следил за тем, как он передвигается; как почти незаметно он опускается на кирпичный пол, а к полудню становится все меньше и уж не движется, как будто натолкнулся на невидимое глазу препятствие — потом сразу квадрат света исчезал, и в камере разливались сумерки. Раньше чем свет совсем пропадал, Есениус прикрывал его ладонью, теплое прикосновение солнца наполняло его таким чувством, как будто весь он согревался на солнце, на свободе.
Когда минутный мираж исчезал, узник начинал разглядывать стены. Сырость начертала на них неправильные пятна серо-черных оттенков. В сумраке эти пятна принимали различные образы, и он узнавал в них фантастические лица, страшных зверей, как будто неизвестный художник старался оживить видения Апокалипсиса, а то он видел дальние страны и загадочные растения. Образы эти меняли свой вид; каждый день он видел иные картины.
До того, как ему разрешили иметь перо и бумагу, его мучила мысль, что он не может писать, теперь он болезненно переносил отсутствие книг. Это было жестоким мучением. И он стал повторять целые выдержки из своих любимых произведений. Он отлично знал древнегреческую и римскую литературу и помнил много на память. Но до сих пор ему никогда не приходилось так напрягать память, потому что он всегда мог перечитать позабытое. А тут не было книг. Потому он как можно больше старался извлечь из своей памяти. Многое он позабыл, множество стихов навсегда стерлось. Все же он упрямо напрягал память и наконец из отдельных стихов, как из мозаики, составил целую поэму, а потом вполголоса читал, наслаждаясь ее красотой. Как ново, как свежо он воспринимал сейчас «Письма с Черного моря» Овидия! Только теперь вполне понял он и постиг всем сердцем их горестную красоту.
И в самом деле, что делают его друзья? Где они? И кого в нынешнем своем положении может он почитать за друга? Ему обидно, что он забыт, но он ищет сам этому оправдания: ведь каждому следует позаботиться о себе. И каждый боится…
В таких мрачных размышлениях — надежды сменялись отчаянием — тянулось однообразное время. Прошел январь, февраль близился к концу.
Однажды ночью, в конце февраля, Есениуса разбудил шум, топот тяжелых окованных сапог, скрежет ключей в ржавых замках и хлопанье дверей.
«Что происходит?» — подумал он, окончательно просыпаясь и прислушиваясь. Из обрывков разговора, доносившихся к нему, он хотел узнать, что творится снаружи. Как видно, привели новых узников. И их, должно быть, много… Кто они? Завтра он все узнает от тюремщика.
Ждать до следующего дня не пришлось. Тяжелые шаги приближались к его камере. Загремели ключи, и тяжелые окованные двери отворились.
— Доктор Есениус, одевайтесь и готовьтесь в дорогу! — прокричал тюремщик, ожидая у дверей исполнения своего приказа. Рядом стоял страж с чадящим факелом. Двери оставались открытыми.
И через двери Есениус узнал в коридоре две знакомые фигуры: доктора Риппла и бывшего капитана староместского ополчения Яна Кутнауэра из Зинненштейна.
Сердце Есениуса забилось от радостного волнения. Он счел, что настал час освобождения. Улыбнувшись тюремщику, он спросил:
— Меня отпускают на свободу?
Тюремщик замотал головой, и на его лице мелькнуло сочувствие. Это он носил Есениусу еду из ближайшей гостиницы. Узник склонил его на свою сторону несколькими талерами. Теперь, когда этого узника не станет, тюремщику придется искать нового источника доходов. К счастью, среди новоприбывших найдутся такие, которые с удовольствием будут платить за подобные услуги.
— К сожалению, такого приказа я не получил, — ответил тюремщик. — Я должен отвести вас к карете, которая доставит вас в Белую башню на Граде, где находятся другие благородные узники.
Радость Есениуса исчезла так же скоро, как и возникла.
У входа ждала крытая повозка с двумя вооруженными всадниками впереди и двумя сзади. Один из всадников впереди кареты держал в руке горящий факел.
Узник на минуту остановился и полной грудью вдохнул свежий воздух, полный влажных испарений от тающего снега, который сгребли перед ратушей и домами на Староместской площади в кучи высотой с человека. Тюремщик не торопил его, а у ожидающих солдат времени было вдоволь. А может быть, в их сердцах отозвалось то немногое, что оставалось в них человеческого, когда они увидели, как действует на заключенного этот минутный мираж свободы. Пересечь площадь и короткую Железную улицу— и Каролинум! Но между домом и им непреодолимая стена, воплощенная в этих людях: в тюремщике и солдатах.
И после волны, которая на мгновение смыла с него все тяготы и окрылила его тоску, новая волна принесла новую тяжесть. Из одной беды в другую — вот и вся перемена, которая ожидала его. Ноги его отяжелели, по всему телу разлилась слабость…
С глубоким вздохом сделал он первый шаг. Шаг к повозке… шаг навстречу своей темной судьбе.
Камеры в Белой башне были немного приветливее темниц грязной староместской тюрьмы. Эта тюрьма была для благородных господ! Господам во всем выгода. Даже если они приговорены к тюрьме, если они приговорены к смертной казни. Горожан или представителей четвертого сословия вешают, человеку же благородному рубят голову. Причем палач не имеет права прикоснуться к осужденному. Только меч его может коснуться благородного человека; прикосновение же палача оскверняет их, и палач может поплатиться за оскорбление дворянина.
Есениус был заключен в одном помещении с паном Криштофом Гарантом. Оба обрадовались встрече, несмотря на то что она произошла при столь грустных обстоятельствах.
Они сердечно обнялись, а потом долго держались за руки. Пан Гарант не мог говорить от волнения.
— Что же происходит, скажите на милость? Я давно уже не имею никаких сведений с воли, — сказал Есениус, тронутый печалью, с какой Гарант сносил свое заключение.
Прерывающимся голосом Гарант рассказал ему все, что знал. Как император обманул всех руководителей восстания видимостью того, что гроза пронеслась и все забыто. И внезапно с ясного неба грянул гром. В ту же ночь стражники рассыпались по всему городу и разом забрали всех видных чешских протестантских деятелей.
— Здесь в башне заключены Будовец, Каплирж, Шлик, Богуслав из Михаловиц, Отто из Лоса… Я видел их собственными глазами. Кроме них, тут находится и множество других, которых взяли после нас. Арестовано и много горожан… Императорские войска опустошили крепость Пецку. У нас ужас что происходит, говорю я вам! Что только сотворят с нами эти палачи!
Сердце Есениуса исполнилось болью, потому что теперь, когда он узнал о массовых арестах, не осталось уже надежды на скорое освобождение; но, взглянув на измученного Гаранта, он пересилил свою тоску и начал как только мог утешать товарища по заключению.
Гарант понемногу успокаивался, наконец он сам стал убеждать Есениуса, что особенно страшиться им нечего. Если бы собирались строго, ради примера, наказать участников восстания, для этого избрали бы только наиболее приметных вождей. А если в тюрьмы ввергнуто столько людей, всех не казнят. Разве они осмелятся!
Есениус делал вид, что верит доводам Гаранта. Но чувствовал, что тоска растет.
Какое счастье, что он не один! Вдвоем не так длинно тянется время. Ведь пан Гарант посетил с Германом Чернином из Худениц святую землю и Египет и написал обо всем, что он видел там, книгу. Есениус читал ее, но насколько живое слово увлекательнее мертвой буквы! И сколько занимательных подробностей не попало в книгу! Иначе сочинение занимало бы пять томов вместо существующих двух. Пан Гарант с радостью вспоминал и рассказывал такому благодарному слушателю. И слушать он был готов столь же охотно, как и рассказывать. Так и коротали они вдвоем тоскливое время заключения…
О том, чтобы они не скучали, позаботился и суд, назначенный самим императором. Председателем был королевский наместник Лихтенштейн.
Сначала их допрашивал прокуратор Еничек. Каждого особо в своей канцелярии. А если допрос иных заключенных подсказывал новые вопросы, он вызывал заключенного снова и допрашивал о новых обстоятельствах. Некоторых допрашивали по пять раз. Вся эта процедура только предшествовала главному допросу, включавшему сто тридцать два пункта. Ответы на них составляли существо обвинения, которое выдвигал против них суд.
Суд начался в конце мая. Но что это был за суд, великий боже! Все члены его были заранее настроены против обвиняемых, они и не собирались решать, виновны или не виновны подсудимые, они должны были только подтвердить обвинение в предательстве и измене. Император игнорировал обычный суд королевства, а по своему произволу учредил суд новый. И этот суд должен был решить судьбу вождей сопротивления.
О намерениях и целях суда можно было догадаться даже по внешним признакам. Особая судебная комиссия, казалось не удовлетворившись мрачностью и зловещей суровостью большой судебной палаты на Граде, приказала задрапировать палату темно-фиолетовым сукном, словно шли приготовления к торжественному реквиему: на стенах висели лиловые покровы, столы были покрыты лиловым сукном, кресла судей обтянуты лиловым шелком. В глубине, на золоченом кресле, стоявшем на возвышении, точно трон — сходство увеличивал балдахин над креслом, — восседал председатель суда, герцог Карл Лихтенштейн. Его дорогие одежды, украшенные сверкающими самоцветами, резко выделялись на фоне зловещей, напоминающей погребальную, обстановки залы суда. По обеим сторонам председательского кресла, пониже и поскромнее, стояли кресла других членов комиссии — немцев. И среди них лишь доктор Капр (который писал свое имя Каппер) из Капрштейна знал чешский язык. Чехом был только прокуратор Вацлав Еничек. Он сидел за длинным столом, который и составлял барьер между подсудимыми и трибуналом, возвышающимся в глубине. Посреди стола виднелось распятие, по бокам его — две горящие свечи.
Судьи заняли свои места, и процесс начался. Составив из ответов на сто тридцать два вопроса обвинение протестантских деятелей, прокуратор опросил каждого еще раз, перед лицом всего суда, признает ли он себя виновным в том или ином действии.
Есениуса спросили, признается ли он в том, что в качестве ректора университета он позволил протестантским сословиям чешским собраться в зале Главной коллегии на съезд, на котором они присягали против его императорской милости.
Есениус ответил на этот вопрос так же, как и ранее: положительно. Однако добавил, что университет обязан был подчиняться дефензорам и зал университета для съезда назначили дефензоры.
Такой же ответ он дал и на остальные вопросы — о посольстве в Прешпорк и в Банскую Быстрицу, о приеме, оказанном Фридриху Пфальцскому от имени университета, и еще о нескольких связанных с этим событиях.
В сущности, те же вопросы задавали по очереди каждому из обвиняемых. И у каждого оказалось для защиты столько аргументов, что все без колебания ожидали только одного приговора — лишения свободы.
Их было пятьдесят человек. И, хотя каждому задавали всего лишь несколько вопросов, прошло немало часов, пока выслушали всех.
«Теперь они удалятся на совещание и вынесут приговор», — подумал Есениус, когда прокуратор кончил задавать вопросы.
Но, вопреки его ожиданиям, председатель объявил заседание на сегодня законченным. Для вынесения приговора обвиняемых пригласят особо. А сейчас стража отвезет их в тюрьму — каждого соответственно его знатности и положению.
— Я-то надеялся, что это кончится уже сегодня, а теперь опять неизвестность! — жаловался и вздыхал Гарант. — Господи, господи, почему я отступился от тебя! Зачем до своего последнего дня я не остался предан вере, в которой родился на свет?
Гарант до недавних пор был католиком и только перед самым восстанием позволил уговорить себя, поддавшись советам своих друзей, и перешел в протестантство.
Есениус дружески успокаивал его. Разве пан Гарант изменил веру не из убеждения? Неужели он перешел в протестантство только ради высокого положения и других выгод?
Слова Есениуса подействовали. Гарант с горячностью начал защищаться. Нет, боже упаси, разве он изменил бы веру из личных выгод!..
Напряжение начало понемногу ослабевать. Чем больше времени проходило со дня судебного заседания, тем увереннее становились надежды узников. Если так медлят с вынесением приговора, значит, дело их тщательно изучается и нет причин бояться поспешного решения. И слабой, едва заметной искоркой затлел среди сомнений огонек надежды: может быть, приговора и не будет вовсе, а их просто отпустят на свободу — разве и без того мало они вынесли?..
Но в субботу 19 июня им приказали собираться в дорогу.
Все знали, вернее предчувствовали, что это означает. Приговор! В чешской канцелярии, в той комнате, откуда два года назад выбросили из окна наместников, были собраны также узники из сословия горожан, которых привезли в крытых повозках из Староместской тюрьмы и Новоместской ратуши.
Есениус дружески кивнул доктору Борбониусу, который стоял рядом с Сикстом из Оттерсдорфа, прежним дефензором и директором, и вел с ним тихую беседу.
«Как он поседел! — подумал Есениус. — Неужели и у меня так побелели волосы?»
Все это время он не имел возможности взглянуть на себя в зеркало, но, когда он оглядел всех знакомых, которых так недавно видел и хорошо помнил, сердце его сжалось от горя. Все постарели чуть ли не на десять лет.
«Значит, и я такой же», — подумал он с тоской. В кресле на возвышении восседал герцог Лихтенштейн. И он как будто изменился. При первом допросе лицо его было холодно, точно высеченное из мрамора, а брови нахмурены, как небо перед бурей, теперь же в этом лице появилось что-то человеческое. Он-то знает содержание свитка пергамента, который лежит перед прокуратором. Но осужденные еще ничего не знают. В их глазах надежда и страх и еще какое-то щемящее чувство неуверенности, от которого сжимается сердце.
После опроса по фамилиям всех присутствующих герцог Лихтенштейн встает и объявляет, что император в Вене полностью подтвердил данный приговор и срок исполнения назначен на понедельник 21 июня.
Лихтенштейн снова опустился в кресло и кивнул прокуратору, чтобы тот зачитал обвинение.
Ужасное предчувствие сковало осужденных. Их глаза полны ужаса, а сердце замерло. Следовательно, будут и смертные приговоры. Это невероятно, но как же иначе объяснить слова Лихтенштейна? До сих пор никто из них не ожидал смерти. Возможно ли?! «Нас оклеветали, предали, нарушили обещание!» До сих пор они утешали себя мыслью, что им не грозит смерть, мало того — они надеялись, что их недолго продержат в тюрьме.
И вот неожиданный удар.
Но осужденные не знают самого главного. Кто? И как?
Они набирают полную грудь воздуха, чтобы сдержать бешеное биение сердца, и слушают.
Наступила гробовая тишина. И сами они — уже мертвецы, которые сошлись на мрачном полночном сборище. Господи, сделай так, чтобы пропел петух и рассеялось это страшное видение!
Видение не рассеивается, оно становится отчетливее, опутывает их одного за другим и ввергает куда-то в бездну.
Прокуратор читает обвинительное заключение по-чешски, потом по-немецки. Обвинение кончается просьбой высшему суду о вынесении приговора.
Член комиссии доктор Меландер отвечает на эту просьбу по-немецки: приговор уже вынесен и решение принято по праву и справедливости и так, как того требуют честь и авторитет его императорской милости.
Эти слова по-чешски повторяет доктор Капр из Капрштейна.
После этого Меландер читает приговоры.
Нет, это уже не действительность, а кошмарный сон: сначала идут приговоры о пожизненном заключении, об изгнании. Но большая часть осужденных слышит страшное, немыслимое слово: смерть.
Графу Иоакиму Ондрею Шлику, гласит приговор, отрубить правую руку, потом четвертовать и части тела повесить на перекрестке дорог; но неизреченной милостью императора приказано лишь обезглавить графа, а его голову и правую руку потом прибьют на Мостецкой башне.
Вацлав Будовец из Будова, председатель апелляционного суда, приговорен к подобной же казни, но милостью императора он будет обезглавлен; голову же его прибьют на Мостецкой башне.
Криштоф Гарант из Полжиц и Бездружиц будет обезглавлен, но голова останется при мертвом теле.
Кашпар Каплирж из Сулевиц будет обезглавлен, голову его также прибьют на Мостецкой башне.
Богуслав из Михаловиц будет обезглавлен, голову прибьют на Мостецкой башне.
И те, чьи имена еще не прозвучали, теряют всякую надежду. Итак, значит, смерть — различие только в исполнении приговора.
Есениус знает, ему нечего ждать милости, и впереди его ждет смерть на эшафоте.
Тоска легла тяжелым камнем на сердце. Он почти задыхается. «Смелей, смелей! Только бы не показать слабости этим кровавым палачам!»
Он слушает свой приговор:
— Ян Есениус из Горного Ясена, доктор медицины и ректор университета Пражского. За посольство, направленное против императора на Венгерский сейм, ему, живому, вырезать язык, потом живого четвертовать, а части тела повесить на перекрестке дорог. В неизреченной же своей милости император смягчал приговор: язык ему, Есениусу, вырежут живому, но потом он будет обезглавлен и после смерти четвертован. Голова и язык будут прибиты на Мостецкой башне.
Палачи, жестокосердные палачи, так вот когда вы показали свои волчьи зубы!
Глаза жертв императорской жестокости пылают от гнева, и судьи могут прочитать в них все, чего не высказали они сквозь крепко стиснутые губы. Но язык онемел от ужаса. Первым опомнился Шлик. После того как был зачитан приговор, он произнес надменно:
— Невелика беда остаться без погребения! — Потом он продолжал, повысив голос: — Вы можете разрубить это тело на тысячу частей, вы можете разворошить все наши внутренности, но и там вы не найдете ничего иного, кроме того, что мы перед всем миром ясно и открыто высказали в своей Апологии. Нас не тщеславие побуждало. За нашу оскорбленную веру, за наши учредительные права, за свободу народа боролись мы с оружием в руках. Фридрих был разбит, Фердинанд победил. Но этот результат ни на йоту не умаляет справедливости дела, которое защищали сословия. Господь предал нас в ваши руки. Да будет воля его! Да святится имя его!
И Есениус, обуреваемый справедливым гневом, погрозив кулаком, обратился прямо к Лихтенштейну:
— Вы постыдно и жестоко поступаете с нами! Но знайте: найдутся люди, что головы наши, которые вы выставляете на позорище, с почестями погребению предадут.
Потом их отвели в тюрьму.
В воскресенье им позволили попрощаться с близкими и знакомыми и допустили к ним священников.
К каждому из осужденных пришел проститься кто-то. К одним пришли только жена или дети, к другим — братья, сестры и родственники. Осужденным также разрешили посещать друг друга. Стража в коридорах была усилена, но общению узников между собой никто не препятствовал. И в течение целого дня они навещали друг друга, поддерживая упавших духом.
У Есениуса в Праге родных не было. Но тем больше знакомых пришло проститься с ним: все профессора, доктор Вавринец Адамек с женой Зузанкой, отец Вавринца мастер Прокоп, священник Липпах и кухарка Есениуса.
После полудня, когда в камере Есениуса находился его Друг Богуслав из Михаловиц, пришли проститься со своим ректором студенты. Среди них были чехи, мораване и словаки. Сидеть было негде, они в растерянности остановились около стола и в молчании слушали, как товарищи Есениуса по заключению вместе с патером Розациусом пели псалмы.
Студенты не решались нарушить молчание и только грустно переглядывались, чувствуя тяжесть на сердце.
И сознание, что люди, которые находились сейчас рядом с ними, уже осуждены на смерть и что они видят их последний раз в жизни, увеличивало их тоску.
— Вы точно на похоронах, — попытался пошутить Есениус, заставив себя улыбнуться.
Но шутка не удалась. Молодые люди опечалились еще больше.
Один из студентов попытался нарушить мучительное молчание. Но он от растерянности начал с того, что нужно было ему сказать в конце:
— Мы пришли проститься с вами, ваша магнифиценция…
— Я благодарен вам за внимание, — ответил Есениус мягко. — Но не уходите. Давайте поговорим. Вы помните, как вы пели мне в коллегии чешские и словацкие песни? Отчего бы вам не спеть сейчас? Идите ближе, друзья!
Он взял за руку студента, который был ближе всех к нему, и отошел в угол, приглашая за собой и остальных.
— Тут мы не будем мешать другим, — сказал он вполголоса и обвел взглядом студентов, которые полукругом стояли около него.
На другом конце камеры Гарант и Михаловиц пели с патером Розациусом:
— Прошу вас, друзья, спойте мою любимую, — попросил Есениус, обращаясь к студентам-словакам, которые знали песню.
Они чувствовали, что должны исполнить его просьбу. Это последнее желание их ректора.
Они переглянулись, растерянные и тронутые этой удивительной просьбой, и начали тихо, чтобы не мешать тем, кто был в другом конце комнаты.
Нелегко им было петь. Казалось, будто чья-то железная рука стиснула горло.
Те, кто был на другом конце, сначала с неудовольствием покосились на доктора Есениуса, который в такую минуту обратился к мирскому. Но проникающая в самое сердце протяжная мелодия захватила их, они перестали петь и прислушались.
Есениус прислонился к холодной стене и слушал, подняв голову. Он слушал так отрешенно, как будто внимал слова и напев своей любимой песни всем существом, всеми нервами, натянутыми, как струна скрипки, и отвечающими на малейшее прикосновение смычка.
А студенты пели:
Они пели и чувствовали, что слова песни и ее протяжный напев созвучны трагической действительности. Страшная тяжесть сжала им сердце, а потом поднялась выше, сдавила горло и наконец залила глаза слезами. Как капли дождя по стеклу, струились по их лицам слезы, и они не осушали их… не стыдились их. И не прекращали пения.
Когда студенты допели песню, Есениус улыбнулся странной и грустной улыбкой.
Что бы им сказать на прощание такое, чтобы эти слова стали достойным завершением его жизни? Он должен ободрить их, ведь они еще слабы для жизненной борьбы, не искушены, и смерть для них — только страшное несчастье. Они не обрели еще достаточно жизненной мудрости, чтобы примириться с нею с таким же философским спокойствием, как, например, Сократ…
И память подсказывает уже многократно читанные и повторенные слова, но которые на этот раз произносятся им в самом прямом, а не переносном смысле. Слова Сократа обращены к гражданам афинским:
— «Смерть — это одно из двух: или небытие и мертвый ничего не чувствует, или же, утверждают некоторые, переселение души из одного места в другое. И тогда человек ничего не воспринимает, это как сон, сон без видений. В таком случае смерть — удивительное благо. Если бы кто-либо подумал о той ночи, когда он спал так крепко, что ему даже и не приснилось ничего, и если бы с этой ночью сравнил он остальные ночи и дни своей жизни и потом посчитал, сколько в его жизни было дней и ночей приятнее этой ночи, то, по моему мнению, и великий царь, а не только обычный человек удостоверился бы, что таких ночей без сновидений очень мало. И если смерть — нечто подобное, я почитаю ее за благо: ведь тогда все время будет только одной ночью. Но ежели смерть, наоборот, подобна перемещению с места на место и если истинно, будто на том берегу находятся все умершие дотоле люди, что же может быть лучше?»
Есениус замолчал, устремив на них ясный и спокойный взгляд. Точно близкая смерть радовала его.
Студенты ответили не словами, лишь взглядами. И он окончил цитату твердым голосом:
— «Но теперь время уходить — мне на смерть, вам в жизнь; кто из нас идет к лучшей цели, неизвестно никому, только богу».
Потом по очереди обнял и расцеловал всех.
И с улыбкой смотрел им вслед. Он знал, что у дверей студенты обернутся еще раз и простятся с ним последним взглядом. И этот последний взгляд останется в их памяти до самой смерти. В какой бы связи ни вспомнили они о нем, всегда перед ними предстанет он таким, каким оставался в эту последнюю минуту. И он не смеет показать им слабость.
Он посылает им вслед улыбку, как последний прощальный луч. Вышли… Есениус чувствует, что силы его на исходе. Он собрал последние силы, чтобы улыбнуться студентам.
И, когда двери за ними затворились, воздвигнутая его волей плотина прорвалась — он отвернулся к стене, закрыл лицо руками и глухо зарыдал.
Поздно вечером их привезли в тюрьму, расположенную в Староместской ратуше. Туда же доставили и осужденных горожан. Тюремные камеры наполнились до отказа. Но и тут, как и в Белой башне, стража не мешала осужденным посещать друг друга. Двери камер оставались отворенными. Усиленно охранялись только двери, ведущие на улицу, и ворота ратуши.
Хотя рихтар поместил господ и горожан отдельно, теперь о звании никто не думал, никто не вспоминал про свое дворянство, наоборот, в эти предсмертные часы все старались поддержать друг друга.
Священники проводили с осужденными всю ночь.
Будовец с Михаловицем и Гарантом тоже пришли навестить Есениуса. Позже пришли и другие знакомые. Камера была полна людей.
Слабость, которая сломила Есениуса после ухода студентов, миновала, и теперь он разговаривал со своими товарищами по несчастью спокойно, ровно.
— Еще год назад мы не думали, что нас ожидает такой конец, — вздохнул Будовец, садясь на скамейку около стола.
— Как же это могло произойти? Почему? — тихо спрашивал Михаловиц.
Этот вопрос тревожил всех.
— Почему? — подхватил Будовец, оглядывая всех.
Младший священник Катус, который пришел с патером Липпахом, перестал молиться на другом конце камеры и приблизился к столу, за которым сидел Будовец.
— Это за наши ошибки и прегрешения, — медленно и значительно произнес Будовец. — Мы не постигли всего величия задачи, которую возложили на себя.
— Зачем обвинять себя, если мы хорошо знаем, что всему виной венгры, которые обратились в бегство чуть ли не с начала Белогорской битвы, — быстро возразил Михаловиц.
— И это наша вина, что венгры обратились в бегство, — с грустью отвечал Будовец, глядя прямо перед собой, точно перед ним серела не сырая, обшарпанная стена, а как будто он видел перед собой даль, видел клубок, в котором переплетены нити причин и следствий всех событий. — Это наша вина, что венгры бежали и что, кроме мораван, никто не сражался с одушевлением. Что им до нашей победы? Ничего. Им нужны деньги. А раз мы им не платили, на что большее нам надеяться? Мы забыли о народе — в этом наша тягчайшая вина, в этом наше заблуждение.
Да, теперь это признали и остальные. Они начали восстание без народа, они решали судьбы страны без участия народа — и вот как все кончилось.
— Если бы мы могли исправить свою вину! — со вздохом сказал Криштоф Гарант.
— Исправить невозможно, мы можем только понести наказание, — ответил Будовец.
— Бог простит нам вины наши, совершенные ведомо и неведомо, — тихо проговорил Михаловиц.
— Пусть простят нам те, кто за наши ошибки и заблуждения понесет расплату в будущем, — добавил Будовец, осеняя себя крестом. Он поднял глаза: — Господи, ослепи дух мой, дабы не узрел я тех бед, кои должны обрушиться на мою родину…
О еде не думал никто. И все же, когда прислуга рихтара пришла спросить, что приготовить на ужин, не отказались. Хотелось подкрепить свои силы перед завтрашним «выходом», чтобы ослабевшее тело не предало их гордый дух. Ибо они, не сговариваясь, преисполнились твердой решимости: не проявить ни малейшей слабости и умереть твердо и с достоинством.
После трапезы священники вновь приступили к исполнению своего долга. Они переходили из одного помещения в другое, стараясь ободрить приговоренных, беседовали с ними и пели псалмы. Когда их надрывающие душу молитвы кончились и наступила тишина, пан Криштоф Гарант в последний раз рассказал о том, что видел он в святой земле.
Теперь они остались одни. После наступления темноты ушли последние посетители. Остались только священники и стража. И стража была захвачена торжественно-горестным чувством. Увидев, что осужденные отрешились от всего светского и никто из них не помышляет о бегстве, они оставили свои алебарды и, преклонив колени на холодном полу коридора, молились и пели вместе с осужденными.
Часы на башне пробили полночь, и их чистый бой выделялся на фоне другого звука, который до сих пор заглушался песнопениями и громкими молитвами. Только теперь они поняли, что означает этот другой звук — непрерывный тупой стук где-то снаружи, — который проникал через приотворенные оконца, через переходы, даже через толстые стены: это плотники строили помост. Большую сцену, где разыграется последнее действие трагедии.
Стук молотков напоминает им, что они подошли к концу пути.
Возвышение, которое воздвигают там на площади, — это мост, по которому они перейдут из жизни в смерть.
— Возлюбленные други мои, — обращается к ним Будовец, — используем последние оставшиеся нам часы для отдохновения души и тела. Не для того, чтобы удовлетворить грешные требования плоти, но для того, чтобы собрать силы для завтрашнего великого испытания…
Улеглись кто где попало и попытались уснуть.
И Есениус старался уснуть. Но сон не шел к нему.
Теперь, когда напряжение ослабело и он перестал бороться с теми страшными представлениями, которые неотступно стояли перед глазами, его охватил озноб.
Всю силу воли напрягает он, чтобы призвать последний сон, в котором еще можно ощутить свое бытие. Завтра он уснет долгим, вечным сном. И во имя этой великой минуты он жаждет запастись силами. Он обращается к своему любимому Лукрецию и на границе бдения и сна повторяет его слова.
Смерть говорит:
— Остается извечно все то же, — повторяет он, успокоенный и примиренный с жизнью. — Круг замыкается…
ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
Наступил рассвет последнего дня.
Часы на башне Староместской ратуши торжественно отбили пять ударов. С последним прокричал петух, встречая рождающийся день радостным приветом. Но в то же время скелет с песочными часами в руке зазвонил в свой колокольчик — колокольчик этот извещал об умирающем. И в этот день колокольчик означал, что готовятся в последнюю дорогу осужденные, для которых этот незабываемый рассвет 21 июня года 1621 станет последним.
Вчера еще пражский народ не верил, что это возможно. До последней минуты все ожидали чуда. Эту веру поддерживали передаваемые шепотом известия о всевозможных знамениях. Многие были убеждены, что разверзнутся небеса и прольется из них кровь и сера; что Влтава потечет вспять; что разверзнется земля и поглотит всех противников церкви Христовой… Даже приговоренные надеялись, что не все еще потеряно. Хотя ночью не было дождя, на восходе солнца над крышами староместских домов засверкала чудесная яркая радуга.
— Не теряйте надежды, маловерные, — старались вселить друг в друга мужество приговоренные, указывая на это удивительное явление. — Господь наш милостивый улыбается нам.
А на площади все уже было готово к кровавому зрелищу. Перед ратушей возвышался построенный за ночь помост, обтянутый черным сукном. Помост был продолговатый, широкий, в четыре локтя высотой. Как сцена большого театра. Если бы помост стоял не перед ратушей, а на другом конце площади, против Тынского храма, прохожий, не знающий о том, что должно произойти, мог бы подумать, что готовятся к представлению страстей Христовых. Большое распятие только утвердило бы его в этой мысли, — если бы не зловещие фигуры в черных плащах, которые стояли перед крестом. Их было семеро. Счастливое число. Но от этой живой черной семерки сегодня никто не ожидал счастья… Стоящий у края помоста держал перед собой большой наточенный меч, острие которого опиралось о помост и достигало груди черной фигуры. Это был палач Ян Мыдларж со своими шестью подмастерьями. У них куколи закрывали всю голову, только впереди были прорезаны отверстия для глаз. Лицо Мыдларжа было открыто.
Он стоял на помосте, как каменное изваяние, обратившись лицом к фасаду ратуши, где на специально приготовленном месте сидели императорские рихтары всех трех частей Праги — Нового Места, Старого Места и Малой Страны — вместе с членами городского самоуправления — гласными. У помоста, в два ряда, — солдаты с поднятыми алебардами. За солдатами — народ. Народу собралось столько, что яблоку негде было упасть. Каждому хотелось стоять ближе. И тем, кто стоял впереди — а они пришли еще ночью, чтобы занять места, — приходилось выдерживать натиск задних рядов. Вся площадь была заполнена людьми. Но и на прилегающих улицах толпился народ. Железная и Целетная улицы были наиболее многолюдны — оттуда еще кое-что было видно. Но самые лучшие места были у тех, кто жил на самой Староместской площади. Из окон на первом и втором этажах владельцы домов, их родные и знакомые следили за ужасным зрелищем. А крыши — вотчина воробьев — заняты были мальчишками — учениками ремесленников и подмастерьями. Даже из бойниц на башнях Тынского храма высовывались головы…
Приговоренные находились еще в здании ратуши, готовые к казни. Они сняли со своего платья воротники, чтобы палачу легче было рубить голову. Все громко молились, повторяя слова священников, окружавших их.
Входит городской рихтар и выкликает имя графа Иоакима Шлика. Последним взглядом осужденный прощается со своими друзьями и в сопровождении рихтара, священника Розациуса и своего слуги всходит на помост.
Осужденный обращает лицо к солнцу, и его губы шепчут:
— Солнце справедливости, господи, сделай так, чтобы сквозь мрак смерти я перешел к вечному свету твоему!
Но эти его слова были слышны только священнику, который сопровождал его и сохранил его слова в памяти, как и последние слова остальных осужденных, в память грядущим поколениям.
А народ, толпящийся внизу, не слышит ничего, потому что, как только осужденный взошел на помост, шестеро барабанщиков что есть силы ударили по своим инструментам, обтянутым траурным сукном. Судьи опасались, чтобы последние слова осужденных не вызвали волнений среди зрителей. И в течение всей казни шестеро барабанщиков будут непрестанно барабанить и барабанить…
Последняя молитва перед распятием, и осужденный уже опускается на колени на черное сукно. За спиной его стоит заплечный мастер, палач Ян Мыдларж.
Едва заметный знак осужденного — он приготовился, — и меч палача единым ударом отсекает голову от тела.
Помощники палача немедленно заворачивают тело в черное сукно, на которое опустился осужденный, и относят свою скорбную ношу под помост. А другие помощники палача между тем расстилают другой кусок черной ткани и посыпают место свежими опилками, чтобы в них впитывалась кровь. Второй осужденный не увидит никаких следов только что происшедшей казни.
Второго вызывают Вацлава Будовца. И он шагает ровной поступью; он прожил на этом свете восемьдесят лет, немного ему оставалось еще. Это и сказал он в предсмертном слове.
— Седины мои, великая честь выпала вам — мученический венец вас осенит.
Никто из осужденных не знает, в каком порядке будут их выкликать, и поэтому, как только входит рихтар, каждый из них думает: «Теперь очередь моя». И, когда уводят другого, тоска по жизни вливает в сердце каплю надежды: еще остается минута жизни. Но тут же охватывает желание, чтобы все скорее кончилось, чтобы настал покой, вечный покой…
— Криштоф Гарант!
Он обращается к своим друзьям и говорит на прощание:
— Боже великий, сколько стран я исходил, какие опасности пережил, сколько дней не видел хлеба, однажды был засыпан песком, и отовсюду вызволял меня господь. А теперь я должен невинно принять смерть в любимом родном краю. Отпусти, о господи, недругам моим!
Больше всего хватает за сердце, но и вливает мужество прощание со старым Кашпаром Каплиржем из Сулевиц, который идет на смерть четвертым. Его поддерживает слуга. Но не страх смерти сковал его ноги. Смерти он не боится и готов к ней, он ждет ее, ведь старость лишила его уже всех радостей жизни. Ему и сидеть тяжело, и лежать, и ногами он почти уже не владеет. Еще вчера сказал он своим товарищам по несчастью, что герцог Лихтенштейн передал ему с племянницей — если он попросит о милости, она будет ему оказана. Но Каплирж отказался.
Просить милости — значит, признать себя виновным. Он велел передать герцогу, что милости искать будет только у бога, перед которым он был грешен, но перед герцогом он не грешен ни в чем.
И почтенный старец простился со всеми, а потом, опираясь правой рукой о плечо слуги, а левой — о палку, медленно поднялся по лестнице и взошел на помост…
О гордых словах, обращенных к императору, которые бросил в лицо рихтару следующий осужденный, Прокоп Дворжецкий из Ольбрамовиц, его друзья уже не узнали, потому что в их подземные темницы доносилась снаружи только приглушенная барабанная дробь, напоминающая отдаленный гром. Но рихтары слышали слова Дворжецкого.
— Скажите императору, — мощным голосом воскликнул бывший высший чиновник королевства Дворжецкий, — что я предстаю ныне перед неправедным судом, но он предстанет перед судом грозным и справедливым!
Так уходят они один за другим — знатные господа, рыцари, горожане: Бедржих из Билы, Индржих Ота из Лоса, Вилем Конецхлумский, Богуслав из Михаловиц…
Михаловиц, лучший друг…
— Простите меня, доктор, — сказал он Есениусу, крепко сжимая ему руку, — ведь из-за меня вы присоединились к сопротивлению и должны теперь делить нашу жестокую участь.
— Мне нечего прощать вам, — ответил взволнованный Есениус. — Оба мы служили правому делу. И, если господь наш не увенчал его успехом, мы покорно должны принять волю его.
Он обнял друга и отвернулся, чтобы Михаловиц не видел его увлажнившихся глаз.
А палач между тем сменил притупленный меч на другой, остро наточенный. Солнце поднялось уже высоко, начинался зной. А голуби, которые, услышав барабанный бой, испуганно кружили над башнями Тынского храма, теперь привыкли к этим звукам и уже летали над самой площадью.
Группа осужденных с железной последовательностью неумолимо уменьшается. Пятнадцать из них предстали уже перед очами творца.
Теперь очередь Есениуса. Когда он услышал свое имя, он почувствовал легкость во всем теле. Хуже всего ожидание. Теперь осталась только минута.
Он готов. Взглянул на патера Липпаха, который должен сопровождать его. Но вперед выступили и все остальные священники: Розациус, Врбенский, Якеш, Клеменс и Гартвициус. Наверное, потому, что Есениуса ожидала самая страшная казнь и они хотели все вместе ободрить его. Но это не было главной причиной. Они хотели этой последней почестью проявить свою благодарность за всю его деятельность, направленную на благо города, веры и народа.
Лицо его прояснилось. И он тихо промолвил:
— Благодарю вас, братья, бог заплатит вам.
Он взошел на помост. Барабанная дробь, доносившаяся в тюрьму, звучит еще страшнее.
Его появление вызвало волнение собравшихся.
Самый главный «преступник»!
Судьи зашевелились в своих креслах, рихтары, как по команде, обернулись к палачу, не забыл ли он о самом главном.
Заметно волновались и зрители.
Есениус! Славный врач и ректор университета Есениус! Все знают, какая ожидает его казнь.
— Есениус! Есениус! — тысячи уст произносят это имя.
И он слышит свое имя, несмотря на барабанный бой. Он слушает и голоса толпы вливают в него силу и мужество…
Он сделал первые шаги по помосту, и множество людей слилось перед его глазами в одну многоцветную массу, в которой он не различал отдельных лиц. Он знает, что там его друзья, профессора университета, студенты, множество знакомых, но у него нет времени искать их в этом людском море. Только несколько шагов отделяют его от палача, который держит в руке нож… Взгляд Есениуса со страшной силой тянется туда, к Мыдларжу, ни на миг не может он оторваться… Но иная сила оторвала глаза Есениуса от палача. Это затерянный среди людей на площади молодой доктор Адамек горячим взглядом смотрел на своего друга. И Есениус узнал Вавринца. И попытался улыбнуться ему. В этой его последней улыбке был призыв, который молодой доктор прекрасно понял. «Передаю тебе факел, который нес. Прими его и следи, чтобы пламя не погасло. Пусть освещает оно темные углы ночи до самой твоей смерти. И потом передай его другому, как я передаю тебе!» Он удерживает взгляд Зузанки, как старался удержать в тюрьме последние лучи солнца. «Прощай, Зузанка, будь опорой и помощницей своему мужу…»
И еще несколько шагов. Ноги отказывают ему… Он бы оперся на руки священников, которые находятся рядом, но нет! Он не доставит своим недругам такой радости. Мощным напряжением воли Есениус выпрямляется и проходит оставшийся путь к палачу.
И тут молнией блеснула мысль: он должен еще что-то сказать! В последний раз использовать дар речи, который дан людям для того, чтобы они могли понимать друг друга. Он должен последний раз услышать свой голос… сказать последнюю фразу, последнее слово.
Он остановился и обратился к священнику Липпаху:
— Придет время — и наша правда засияет ярче солнца.
Приблизился палач Мыдларж с ножом в руке и проговорил:
— Простите меня, доктор!
Есениус кивнул. Ему показалось, что в глазах палача стояли слезы…
Нож блеснул на солнце…
…И воздух прорезал пронзительный женский вопль:
— Боже милостивый, и как ты смотришь на такой ужас?
Протяжный крик казался стоном Мелузины в трубе, от которого стынет кровь и останавливается дыхание.
Последний взгляд осужденного — и милосердный удар меча избавил измученную голову навсегда от забот и волнений, а сердце от боли.
На другой день небо низвергло потоки слез над поруганной красавицей Прагой.
Никому не хотелось идти на дождь, и все же что-то гнало жителей Праги из дому. Любопытство и ужас, эти две противоположные силы, которые держали их вчера на Староместской площади, еще владели ими. И сегодня, подчиняясь этой неодолимой власти, с самого рассвета тянулись они к Мостецкой башне.
Люди шли разные. Одни прощались вчера на Староместской площади с живыми и пришли теперь поклониться мертвым, а другие, те, что торжествовали вчера, пришли сегодня насладиться пьянящей победой: радостью наполнялись их сердца при взгляде на тела поверженных врагов.
Среди первых были доктор Вавринец Адамек и его жена Зузанка.
Они пришли очень рано. Молча остановились под башней сначала со стороны города, потом перешли на Каменный мост. Они повернулись спиной к Граду и обратили свои взоры к самой крыше башни, где на железных прутьях висело шесть голов. А другие шесть были с другой стороны.
Среди тех шести, которые видны были с моста, была и прекрасная голова доктора Есениуса. Его четвертованное тело было насажено на колы за городскими воротами, там, где проходила дорога на Белую Гору.
Косой дождь мешался со слезами на Зузанкином лице, этот же дождь сослужил последнюю службу и головам мучеников. Смыл с них засохшую кровь и следы пыли. Очистил их.
Молодая чета стоит на покрытом древней славой мосту; они стараются оживить в памяти восторженные слова, которыми Есениус вспоминал свой приезд в Прагу, свою первую встречу с ней.
Теперь он глядит на нее мертвым взором; кто знает, как долго он будет смотреть так на красоту, которой не мог вдосталь налюбоваться при жизни. Он старался порвать путы, связывающие его с Прагой. Но его душа болела тоской по ней. Она была его судьбой. Он вернулся. Должен был возвратиться, как неверный возлюбленный возвращается к своей настоящей великой любви, как измученный жизнью блудный сын возвращается к матери, чтобы припасть к ее ногам.
Дождь бьет по каменной ограде моста, ветер раскачивает ветви деревьев на Кампе, и Влтава поет монотонную песню о вечном коловращении жизни. Жаль, что людям непонятны слова песни. Возможно, они принесли бы утешение им, поведали, что борьба за великие цели — это самое прекрасное в жизни.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Ignoramus et ignorabimus» — «Не знаем и не будем знать!»
Кто первый произнес эти слова, полные столь глубокого неверия в силы человеческого разума? Был ли это какой-нибудь средневековый алхимик, напрасно затративший целую жизнь на бесплодные попытки превратить в золото неблагородные металлы? Или их сказал его современник астролог, не сумевший угадать по звездам свою же собственную судьбу? А быть может, они вырвались у ученого монаха, одного из тех, что долго и тщетно пытались разрешить знаменитый вопрос: «Сколько же чертей может уместиться на острие иглы?»
Так или иначе, но трудно было бы выразить лучше общий дух схоластики средневековья, печально известной философии, корни которой уходили все в ту же религию.
«Нет истины вне священного писания, и все, что противоречит ему, идет от самого дьявола, а посему не мудрствуйте лукаво!»— столетиями поучала свою паству господствующая церковь, и поучала в такой форме, что возражать ей было слишком опасно: для тех, кто не боялся загробных мук, не страшился пресловутого адского пламени, в распоряжении церковников был и вполне материальный, чисто земной огонь, — костры инквизиции, на которых жгли подобных смельчаков, долго не затухали почти на всей территории Западной Европы. Чтобы в этих условиях спорить с духовенством, надо было обладать не только пытливым умом, но и мужественным сердцем, сердцем Боруха Спинозы и Джордано Бруно.
И все же такие люди находились. Находились ученые, сумевшие вырваться из дебрей схоластики и на деле осуществлявшие девиз, являющийся девизом ученых и нашего времени: «Neecimus sed sciemus!» — «Не знаем, но будем знать!» Из столетия в столетие, как эстафету, передавали они друг другу свои наблюдения и упорным трудом накопленные знания. Не всем им удалось стать первооткрывателями великих научных истин и попасть на страницы школьных учебников наряду с Николаем Коперником и Галилео Галилеем, но каждый из них внес свой существенный вклад в науку, и без этих, порой несправедливо забытых имен человечество никогда бы не добралось до современных нам изумительных вершин знания. Любое крупное научное открытие связано со многими славными именами. Разве смог бы, например, немец Иоганн Кеплер при всей своей гениальности вывести законы движения небесных светил, если бы не труды датчанина Тихо Браге, десятки лет наблюдавшего за движением планеты Марс? А чего добился бы великий француз Луи Пастер, если бы не скромный голландский оптик Антон Левенгук, изобретатель первого микроскопа? И талантливый английский врач Томас Гарвей никогда не открыл бы системы кровообращения. если бы ему не предшествовали работы основателей научной анатомии: голландца Андреаса Везалиуса и чеха Яна Есениуса.
Все эти имена, как прославленные, так и несправедливо забытые, дороги нам, дороги всему прогрессивному человечеству. Вот почему каждый, без сомнения, с глубоким интересом прочтет книгу современного словацкого писателя Людо Зубека, посвященную яркой жизни и трагической судьбе одного из таких смелых пионеров науки, верного сына своего народа, замечательного чешского ученого, доктора Яна Есениуса и его друзей, знаменитых астрономов Тихо Браге и Иоганна Кеплера.
Людо Зубек не только талантливый писатель — он к тому же и видный историк. Его роман не изобилует нередкими для исторических произведений головоломными приключениями и заведомо надуманной, запутанной интригой. События в романе развиваются плавно и просто, и все же он увлекает, захватывает своей правдивостью, глубиной и трагизмом описываемых событий. Да и герои Зубека не вымышленные личности, а подлинные исторические персонажи, не бледные схемы, а настоящие живые люди, и притом люди своего времени, со всеми присущими им слабостями и противоречиями. Так, они верят в бога, хотя почти на каждом шагу убеждаются в абсурдности многих догм священного писания, и в своих исследованиях идут чисто материалистическим путем. Их религия, пожалуй, не что иное, как некая традиция, простая дань эпохе, нисколько не мешающая ни Есениусу, ни Кеплеру, ни даже Тихо Браге неумолимо разбивать религиозные мифы о происхождении Вселенной и человека. Зубек предельно, скрупулезно точен в каждой исторической детали, в каждой мелочи средневекового быта — он буквально воссоздает эпоху.
А эпоха эта была исключительно сложной. Великие географические открытия XVI века, колонизация богатейших земель Нового Света, выгодная торговля с Индией, Индонезией и Китаем — все то, что открыло «зеленую улицу» буржуазии ряда европейских стран, нанесло в то же время тяжелейший удар экономике Германии, Австрии и Чехии. Потеряли свое значение основные торговые артерии срединной Европы — Балтийское море и альпийские перевалы, — переместились на Запад и Дальний Восток центры мировой торговли. Постепенно захирела «Великая Ганза», разорился знаменитый банкирский дом Фуггеров. Если к началу XVII века во Франции короли, опираясь на мощную национальную буржуазию, почти покончили с феодальной раздробленностью в стране, если буржуазия Англии в это время готовилась к решающей схватке со своим отечественным феодализмом и откровенно делала ставку на захват политической власти, а буржуазия Голландии после упорных боев уже добилась этой власти, основав первое в мире буржуазное государство, то на территории Священной Римской империи (в состав которой входила Германия, Австрия и Чехия) феодализм еще никогда не чувствовал себя более прочно и уверенно.
Номинально Священная Римская империя находилась под властью императоров (избираемых каждый раз собранием семи крупнейших князей — курфюрстов), но только номинально. Фактически это огромное многонациональное государство, которое Маркс справедливо называл «шутовской империей», состояло из бесчисленных больших и малых феодальных владений, почти или полностью не зависимых от центральной власти и постоянно враждующих друг с другом и с императором. Таким, в сущности, независимым государством была и Чехия, король которой на протяжении столетий был одним из курфюрстов. Еще большей независимости добился чешский народ в результате победы в гуситских войнах (1419–1434). Мощная революционная армия чехов под руководством знаменитого Яна Жижки, разгромив пять «крестовых» походов германских рыцарей, тем самым почти полностью ликвидировала немецкое засилие в стране, что способствовало бурному развитию национальной чешской культуры. Однако вторжение в Европу турок в 1526 году заставило Чехию искать помощи у Австрии, наследственной вотчины императоров излома Габсбургов, и присоединиться к ней, хотя и на правах самой широкой автономии. Присоединились к Австрии и еще не захваченные турками районы Венгрии. Такое крупное территориальное приобретение было как нельзя более на руку Габсбургам, ведшим непрерывную тяжелую борьбу со своими вассалами германскими князьями, борьбу, которая, как часто бывало в те времена, принимала форму религиозных войн.
Много веков подряд в Европе безраздельно господствовала католическая церковь во главе со своим римским пастырем, по влиянию и силе не уступавшим многим королям, а по алчности и жадности значительно превосходившим их всех вместе взятых. Но пришла пора — и пришли к концу золотые дни католицизма. Вступив в смертельную схватку с феодализмом, буржуазия направила свой первый удар на его верную союзницу — католическую церковь. Еще в начале XVI века в Германии и Швейцарии возникли новые вероучения Лютера и Кальвина, отрицавшие многие положения католической церкви, и в первую очередь — власть римских пап и непомерную роскошь духовных князей. Эти учения быстро завоевали господство во многих странах Европы. Правда, в «шутовской империи» церковные реформы были поддержаны не буржуазией, а князьями-феодалами, получившими тем самым новое действенное оружие против католиков-императоров. Зато Габсбурги, чей утлый трон частенько и весьма основательно покачивался, видели в римских папах свою единственную опору и взяли на себя как бы роль оплота всеевропейской реакции и отживающего феодального общества. Они изо всех сил, судорожно цеплялись за католицизм.
Первая война между Габсбургами и германскими князьями закончилась поражением императоров. «Чья страна, того и вера», — так было сформулировано мирное условие по заключенному в 1555 году Аугсбургскому договору между обеими враждующими сторонами. Габсбурги были вынуждены уступить, но они не утратили надежд на объединение страны под своей эгидой и только ждали подходящего случая, чтобы снова ринуться в бой.
Прежде всего им надо было укрепить свой тыл. За Австрию они не беспокоились, там католицизм был достаточно прочен и силен, зато в Чехии, на родине гуситского движения, по-прежнему имела место почти полная свобода вероисповедания. Ликвидировать сразу эту свободу, идти на риск возможного восстания императоры не решались, и они действовали весьма осторожно, понемногу урезывая права протестантов и гуситов и тем самым усиливая влияние католического духовенства.
Таким было положение в Чехии в 1600 году, к моменту приезда туда Есениуса. Император Рудольф II, человек болезненный, слабовольный и весьма ограниченный, был далек от каких-либо крупных политических целей. Он любил разыгрывать роль покровителя наук и искусств и, перенеся свою столицу из Вены в Прагу, собрал при своем дворе почти всех наиболее выдающихся ученых того времени. Здесь были и известный датский астроном Тихо Браге, и впоследствии еще более прославленный математик Иоганн Кеплер, и многие другие. Поистине блестяще, с огромной поэтической силой описывает Зубек Прагу, ее удивительную красоту, быт и нравы пражских горожан. Читатель будто и сам окунается в XVII век, начинает жить его жизнью, посещает вместе с Есениусом знаменитые пражские бани, своеобразное место для диспутов, рассматривает вместе с ним редчайшие коллекции, собранные при дворе Рудольфа II, присутствует на первом в Праге публичном анатомическом сеансе.
Нам, людям XX века, может показаться странным, даже нелепым демонстрация зрелищ подобного рода, но вместе с тем трудно переоценить и огромное прогрессивное значение, которое они имели для того времени. Ведь каждый самый маленький шаг вперед, каждый удар по векам господствующим предрассудкам и суевериям, каждая, хотя бы ничтожная, крупица материалистического познания мира способствовала прогрессу науки, привлечению в ее ряды всё новых и новых ученых.
Читатель присутствует при последних минутах жизни Тихо Браге и невольно склоняет голову перед памятью великого астронома. Его длительное, поразительно точное для невооруженного глаза наблюдение движения небесных светил помогло впоследствии Кеплеру установить, что планеты движутся вокруг Солнца не по кругам, как предполагал Коперник, а по эллипсам.
А Зубек увлекает читателя все дальше и дальше, он знакомит его с каждым движением души, с каждой мыслью своих героев.
Вот уже Есениус не только личный врач императора, а и наиболее популярный врач в Праге. Его слава растет, вместе с ней растет его благосостояние. Но сомнения продолжают одолевать Есениуса. Внутренне он глубоко завидует Кеплеру, в душе он во всем согласен со своей женой Марией, которая ждет от мужа большего, чем деньги, большего, чем положение в обществе. Человек должен бороться за что-то великое, за такую идею, за которую ему не жалко отдать жизнь.
А какое глубокое волнение охватывает читателя, когда он вместе с Есениусом и Кеплером впервые смотрит в подзорную трубу, вторую подзорную трубу в мире, прабабку современного телескопа, которую сконструировал Кеплер по образцу подзорной трубы Галилея! Ведь он как бы присутствует при рождении подлинно научной астрономии, той астрономии, которая позволяет нам сейчас делать первые шаги к завоеванию Космоса.
Со смертью Рудольфа II напряжение в Чехии возрастает. Брат Рудольфа, император Матиаш, — ревностный католик. Для борьбы с возрастающим влиянием католической церкви еще при Рудольфе был создан унион — союз, объединивший всех протестантов Чехии. В этот союз входит и Есениус. Не потому, что он был таким уж ревностным протестантом, как Будовец или Михаловиц. Нет, вопросы религии для него всегда стояли на втором месте. Но так повелевает ему его долг, сознание, что свобода совести есть неотъемлемое право каждого человека. Глухая, пока еще скрытая борьба между императором и унионом, возглавляемым тридцатью дефензорами, или директорами, постепенно нарастает и со смертью Матиаша принимает активную форму — чешские феодалы избирают своим королем не наследника Матиаша, Фердинанда II, а Пфальцского курфюрста Фридриха.
И опять Зубек глубоко историчен. Посольство Есениуса в Венгрию, причины его неудачи — все это описано исключительно точно и тонко, здесь опять нет ничего надуманного, нарочитого. Правда, первый арест Есениуса и пребывание его в тюрьме выглядят несколько бледно, но автор, видимо, бережет краски для заключительного этапа своего романа — блестящих сцен чешского восстания и его трагического конца.
Зубек намеренно опускает батальные сцены, и в этом он прав. Прав он и в том, что подавляющие массы чешского народа остались в стороне от этого восстания, что они не рассчитывали тут что-либо выиграть или проиграть, что само восстание было делом рук феодалов-дворян. Но трудно с ним согласиться в некоторой идеализации вождей восстания, помещиков-крепостников, и уж совсем странно звучат слова Будовца, предлагающего основать в Чехии республику наподобие буржуазной Нидерландской республики.
Без третьего сословия (а оно в Чехии было ничтожно по своему влиянию) подобная республика могла бы быть лишь республикой аристократов (на манер Венеции), что явилось бы для страны еще одним шагом назад, но уж никак не вперед.
Итак, во главе восстания стояли крупные феодалы. Не имея поддержки городского населения, ненавидимые собственными крепостными, которых они обирали ничуть не хуже феодалов-католиков, они и восстание против Габсбургов предприняли с помощью наемных солдат, глубоко безразличных ко всем вопросам политики и религии.
Как раз эти моменты у Зубека даны с потрясающей силой. Полная бездарность Фридриха Пфальцского, прозванного в насмешку «зимним королем» (он пробыл в Чехии всего одну зиму 1619/20 года), недостаточная поддержка со стороны венгров, ослабленных постоянной угрозой турецкого нашествия, нейтралитет германских князей (за который они несколько позже тяжело поплатились), блестящий военный талант полководца Фердинанда Тили — все это далеко не главные причины поражения восставших. И, конечно, дело не в том, что чешские феодалы пожалели денег на наем солдат. Восстание с помощью наемных солдат, вернее одних наемных солдат, было заранее обречено.
Это понимает и Есениус, понимает и все же принимает в нем участие. Правда, он еще не ведает, какой страшный конец его ждет. Мстительный и злобный Фердинанд, возомнивший себя таким же великим собирателем империи, какими были Людовик IX во Франции и Иван IV в России, хотя не обладал ни изумительным дипломатическим даром первого, ни талантами второго, воспользовался случаем, чтобы укрепить свою власть и тем самым подготовиться к войне с германскими протестантами. Эта знаменитая Тридцатилетняя война, началом которой послужили чешские события, уже не интересует автора. Как ни плачевно окончилась она для Габсбургов, Чехия на целых три столетия прочно подпала под их власть.
Нельзя остаться спокойным, читая последние страницы романа. Как сложны и вместе с тем по-человечески просты и понятны переживания героя, его надежды и отчаяние! Нет, Фердинанд ничего не забыл, ничего не простил. Страшная судьба ждет Есениуса. И тут Зубек внезапно обнаруживает, что он не только историк, не только повествователь, летописец жизни исторических персонажей, — нет, он писатель, наделенный поистине блестящим трагедийным талантом.
Кончились скитания Есениуса, скоро оборвется тонкая ниточка его жизни, но именно в эти мучительно тяжелые минуты он как бы снова обретает себя. Разве не сбывается его мечта, его давнишняя мечта умереть за идею, за настоящую большую идею? И разве идеи справедливости и свободы не столь же прекрасны, как те, о которых некогда говорил Кеплер? Разве не остаются и памяти народа борцы за его интересы, за его национальную независимость? Вот почему так величественно спокойны Есениус и его друзья, вот почему, прощаясь со своими учениками, Есениус находит в себе силы улыбаться, вот почему он смело бросает в лицо палачам слова беспощадного обвинения.
Он не сверхчеловек, далеко нет! Лишь мучительным напряжением воли подавляет он вполне естественный человеческий страх перед смертью. Но именно это и потрясает нас в нем, именно поэтому мы переживаем его судьбу, как пережили бы судьбу близкого, дорогого нам человека. Гордость, уверенность в своей правоте — вот что помогает Есениусу скрыть проявление слабости и умереть так же, как он жил: стоя, а не на коленях.
Гремят барабаны, чтобы заглушить последние слова осужденных, и занавес закрывается. Он закрывается для современников погибших, но не для будущего. В сердцах своего народа, в сердцах простых людей всего мира герои Зубека живы и будут жить века.