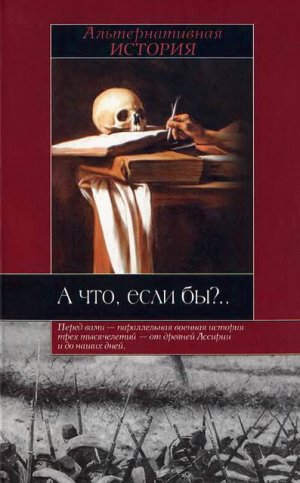
WHAT IF?
Edited by Robert Cowley
От редакции
Занимаясь историей, а в особенности историей военной, любой исследователь хотя бы иногда задумывается — а что, если... Конечно, с точки зрения истории как строгой науки подобные обращения к псевдоистории следует считать не вполне этичными. Но кому не захочется в какую-то минуту переиграть прошлое, в надежде понять настоящее или почувствовать власть над событиями — пусть хотя бы только воображаемую.
Смысл и ценность альтернативных сценариев состоит в том, что они делают историю осязаемой и позволяют лучше видеть ее ключевые моменты, где она могла пойти по другому пути. Подобным «перекресткам истории» и посвящена предлагаемая Вашему вниманию книга.
Этой работой мы продолжаем тему альтернативной военной истории, начатую вышедшими ранее книгами: «Победы, которых могло не быть», «Упущенные возможности Гитлера» и «Вторжение, которого не было». Она представляет собой сборник эссе, написанных видными американскими историками и повествующих о ключевых (с точки зрения авторов) моментах истории — по преимуществу военной. В поисках «критических точек» авторы охватили почти три тысячи лет истории человечества — от древней Ассирии до наших дней. Для каждой такой точки они приводят свой анализ вероятных последствий изменения хода событий и пытаются построить картину образовавшегося в результате нового мира. Иные выводы могут показаться забавными, другие пугающими, третьи заставят призадуматься, но всех их объединяет одно — сугубо специфический, «американский» взгляд на историю. В каждом из рассматриваемых сценариев особое место уделяется тому влиянию, которое это событие могло оказать на историю Северной Америки и ее обитателей. В силу этого особый интерес приобретают главы, посвященные событиям, происходившим собственно в Америке и мало известным у нас. Книга представляет значительный интерес как для любителей истории, так и для тех, кто стремится понять логику американского мышления.
В процессе подготовки русского издания оно было дополнено комментариями как фактологического, так и общеисторического характера. При этом особое внимание уделялось античному и средневековому периодам, как наиболее слабо освещенным в книгах нашей серии. Общие комментарии и справочные приложения помещены в конце соответствующих частей, там же приведены библиографические указатели по соответствующему периоду. В конце книги дан сводный биографический справочник.
Роберт Коули
От составителя
Поговаривают, будто втайне все историки любят задаваться вопросом «А что, если бы?...» или, пользуясь академическим жаргоном, рассматривать альтернативные вероятностные сценарии. Ценность такого рода предположений выходит за рамки того, что историк Э.Х. Карр назвал «пустой словесной игрой», ибо с их помощью можно оживить историю и сделать ее понятнее. Они позволяют с изумительной детальностью прояснить саму сущность военных конфликтов и увидеть весь спектр их потенциально возможных последствий. Что, если бы в 480 г. до н.э. в битве при Саламине, ставшей едва ли не важнейшим днем в истории Запада, персы победили бы афинян? Или Испанская Армада достигла бы своей цели и армия герцога Пармы вступила в Лондон? Ведь в ночь с 7 на 8 августа 1588 г. лишь случайно поднявшийся ветер определил исход второго знаменитейшего в истории противоборства флотов. Что, если бы терзавшая Европу буря не прекратилась неожиданно 4 июня 1944 года, за сутки до намеченного «Дня Д», и высадка в Нормандии оказалась бы сорванной? В который раз погода сыграла решающую роль. Стивен Эмброуз рассматривает различные варианты последствий такого поворота событий, как просто неприятные, так и устрашающие — включая атомную бомбардировку Германии.
Историческая наука представляет собой описание событий, имевших место в действительности, но это ничуть не умаляет значения контрафактов. Рассмотрение альтернативных возможностей позволяет нам не только сделать множество далеко ведущих предположений, но и точнее определить стержневые моменты истории. Мы можем увидеть, что порой, казалось бы, незначительное происшествие или случайное решение могут повлечь за собой последствия не менее значительные, чем крупномасштабные деяния (это принято именовать «контрафактом первого порядка»). Как пишет в своей статье Дэвид Маккаллоу, не сгустись летом 1776 г. над Ист-Ривер нежданный туман, Вашингтон не смог бы увести с Лонг-Айленда свое потрепанное войско и, скорее всего, был бы принужден сдаться. Случись это — и кто знает, существовали бы ли ныне Соединенные Штаты? А что, если бы британский капитан, державший Вашингтона на прицеле год спустя (во время сражения при Брендивайне), спустил бы курок? Результат мог бы быть таким же, как и в предыдущем случае. В истории не так уж много событий, до такой степени определявшихся случайностями, как американская революция. Мы живем в будущем, которое могло и не наступить.
Но у альтернативных сценариев имеется и другая важная функция — они помогают избежать того, что принято называть «ретроспективным смещением». Мог ли Гитлер каким-либо образом победить во Второй Мировой войне после того, как проиграл Битву за Британию? На протяжении пятидесяти с хвостиком лет историки рассматривали лето 1940 как высшую точку его успехов. Однако один из наших виднейших военных историков Джон Киган указывает в приведенной ниже работе, что если бы Гитлер не вторгся в Россию, все могло обернуться совсем по-другому. Если бы после одержанной весной 1941 г. победы в Греции он решил вторгнуться в Турцию или на Ближний Восток, ему удалось бы получить доступ к столь необходимым Германии нефтяным промыслам, что могло сделать будущую его победу над Советским Союзом куда более вероятной. Можно сказать, что неизбежное и определенное заранее встречается в истории не чаще, чем в обыденной жизни, и в любом случае ведущие в разных направлениях воображаемые тропы, протоптанные в подлеске истории, свидетельствуют о бесконечном многообразии человеческого выбора. Не выбранная дорога остается на карте.
В данной книге ключевые моменты военной истории предстают в новом свете: такими, какими они могли бы быть при ином, чем в действительности, повороте событий. В юбилейном (нашему изданию исполнилось 10 лет) выпуске ежеквартального «Военно-исторического журнала» мы обратились к ряду историков со следующим вопросом: «Какие "Что если?" вы считаете самыми важными в военной истории?» Ответы поступили самые разнообразные: неожиданные, порой забавные, порой пугающие. Но во всех случаях были предложены вполне правдоподобные варианты развития событий, некоторые из которых напечатаны в настоящем сборнике. Вы не найдете здесь слишком вольных, фантастических допущений (к примеру, что могло бы случиться, будь у Ганнибала водородная бомба или у Наполеона бомбардировщики-невидимки). Правдоподобие — вот ключевое слово ко всему, что вам предстоит прочесть.
Как писал Джордж Уилли «Опыты "Военно-исторического журнала" по части альтернативной истории следует приветствовать, ибо они позволяют острее почувствовать, какое огромное влияние могут оказывать на судьбы народов такие факторы, как случайность и выбор».
Настоящая книга представляет собой результат дальнейшего развития первоначальной идеи, и помещенные в ней статьи большинства авторов являются не чем иным, как развернутым ответом на наш вопрос. Публикации расположены в хронологическом порядке и в совокупности объемлют более 2700 лет человеческой истории.
Что, если бы невесть откуда взявшийся мор не поразил ассирийское войско, осаждавшее Иерусалим в 701 г. до н.э.? Сформировалась ли бы в таком случае религия иудаизма? А соответственно и христианство? Или, говоря о случаях, когда все решает мгновение, — что, если бы второй удар персидской секиры достиг цели и Александр Македонский погиб в возрасте 21 года, так и не успев стать «Великим»? Что если бы Кортес во время осады Теночтитлана (современного Мехико) попал в плен — от чего и в действительности был на волоске? Вполне возможно, что тогда в наши дни Соединенным Штатам пришлось бы иметь дело с расположенной у их южных рубежей обширной империей воистину коренных американцев. Размышляя о роли случая, мы, вместе с Джеймсом Макферсоном, вправе предположить, что, не потеряйся знаменитый «потерянный приказ», Гражданская война могла бы закончиться обретением Конфедерации независимости. Но ведь весьма схожий случай в самом деле Определил исход битвы при Марне в сентябре 1914 года — а как следствие, и всей Первой Мировой войны.
Существует устойчивое мнение, будто история не терпит сослагательного наклонения. Но мы в настоящем сборнике попытались показать, что это не совсем так.
Часть I
АНТИЧНОСТЬ
Уильям Г. Макнил
Эпидемическая альтернатива
Моровое поветрие, спасшее Иерусалим в 701 г. до Рождества Христова
Некоторые эпизоды военных действий, в том числе и, казалось бы, не слишком значительные, порой влекут за собой совершенно непредсказуемые последствия, отнюдь не очевидные не только тогда, когда эти события происходят, но и спустя столетия. Примером такого рода может служить открываются эту книгу история предпринятой в 701 г. до нашей эры ассирийцами осады Иерусалима, являвшегося в то время столицей крошечного Иудейского царства. Синнахериб, царь Ассирии, снял осаду после того, как значительная часть его армии оказалась выведенной из строя в результате поразившей ее таинственной эпидемии. Ассирийцы просто двинулись дальше: для могущественнейшей военной державы своего времени один, ничем не выделявшийся укрепленный город особой ценности не представлял, и неудавшаяся попытка его захвата никоим образом не расценивалась как поражение. Однако с точки зрения спасавшихся за городскими стенами все выглядело иначе и избавление от вражьей напасти (вызванное, надо полагать, вполне естественными причинами) было воспринято как небесное знамение. И мы не можем не признать, что это событие имело далеко идущие последствия. Что, если бы болезнь не вмешалась? Что, если бы стены пали, город подвергся разграблению, а уцелевшее после штурма население было угнано в рабство? На чем базировалась бы духовная жизнь нашего общества ныне, через две тысячи семьсот лет?
Неизвестная болезнь уравняла силы осаждающих и осажденных, и в этом аспекте мы можем рассматривать ее как одну из случайных карт, порой выпадающих в истории и меняющих весь расклад. Как непредвиденный фактор, способный за несколько недель или даже дней свести на нет завоевательный импульс и позволить избежать того, что казалось неизбежным. История полна такого рода примеров. Мор, опустошивший Афины[1], привел к тому, что в 404 г. до н. э. город был захвачен и его гегемонии пришел конец. Вспышка дизентерии ослабила вторгшуюся в 1792 г. во Францию прусскую армию, и это немало способствовало принятому ее командованием после поражения при Вальми[2] спасительному для Французской революции решению повернуть назад. Среди тайных причин катастрофы, постигшей в России армию Наполеона, следует назвать вспышки тифа и дизентерии. Разразившаяся в 1918 г. эпидемия гриппа, возможно, и не оказала прямого воздействия на итоги Первой Мировой войны, но унесла жизни многих людей, которые могли бы направить послевоенную Европу по совсем иному пути. Таким образом, представляется очевидным, что бактерии и вирусы способны изменять соотношение противоборствующих на исторической арене могущественных сил и, таким образом, оказывать влияние на ход развития общества.
Уильям Г. Макнил — заслуженный профессор Чикагского университета, в настоящее время находится на пенсии. Автор труда «Возвышение Запада», принесшего ему Национальную книжную премию, и еще двадцати шести книг, в том числе исследований «Добиваясь власти», «Эпидемии и Народы», затрагивающих проблемы военной истории, а также сборника эссе о танцах и физических упражнениях в истории человечества «Вместе во Времени». В 1997 году за жизнь, посвященную науке, был удостоен премии Эразма — одной из самых престижных международных наград.
Чем могла бы обернуться победа Синнахериба, царя Ассирии, если бы в ходе войны против коалиции в составе египтян, финикийцев, филистимлян и евреев он сумел захватить в 701 году Иерусалим и разгромить всех своих врагов? С моей точки зрения, в данном случае речь идет об одной из величайших неосуществленных возможностей в военной истории. Возможно, данный эпитет звучит странно по отношению к так и не осуществившейся военной операции, однако тот факт, что поход Синнахериба не привел к падению Иерусалима, имел, пожалуй, большее историческое значение, нежели результаты какого-либо из известных мне сражений.
При этом с точки зрения Синнахериба снятие осады Иерусалима не являлось решением стратегического порядка. Иудейское царство, будучи слабее и беднее прочих его противников, играло второстепенную роль в раскладе военно-политических сил на Ближнем Востоке и было уже достаточно серьезно наказано за дерзкую попытку противостоять мощи Ассирии. Повествующие о ходе всей кампании Синнахериба надписи на стенах царского дворца в Ниневии сообщают, что ассирийское войско захватило в Иудее не менее сорока шести укрепленных городов и заперло иудейского царя Иезекию в Иерусалиме, «как птицу в клетке»[3].
Правда, в отличие от других взбунтовавшихся правителей этого региона Иезекия вернул себе власть, а в Храме Соломона не прерывалось поклонение Яхве. Таким образом, победа Синнахериба над Иудейским царством оказалась неполной — факт, имевший последствия куда более значительные, нежели и сам победитель и кто-либо иной мог себе представить.
Иезекия (годы правления 715 — 687 до н.э.) пришел к власти в весьма непростое время. За семь лето до того, как, взойдя на трон, он стал тринадцатым правителем из дома Давида, соседнее, представлявшее собой более обширную и богатую часть Давидова наследия царство Израильское претерпело страшное бедствие: ассирийское войско под водительством Саргона II захватило столицу Израиля Самарию. Тысячи израильтян были насильственно выведены в далекую Месопотамию. Переселенные на их землю по велению ассирийского царя чужаки стали возделывать заброшенные нивы, но город Самария так и остался лежать в руинах
Следовало ли из этого, что Бог Моисея и Давида, тот самый Бог, которого все еще почитали в Храме, выстроенным в Иерусалиме Соломоном, не мог более защитить свой народ? Или же Он покарал израильтян и их правителей за неповиновение своей воле и упорное нежелание внять неоднократным предостережениям вдохновляемых свыше пророков?
Вопрос этот представлялся тогда отнюдь не праздным и тем более зловещим, что, если согласиться с версией кары, получалось, что Бог Моисея и Давида наказал народ избранный руками могущественнейшего государя того времени, хотя ассирийцы поклонялись иным богам и даже не притворялись, будто почитают заповеди Всевышнего. Подобное предположение представлялось идущим вразрез со здравым смыслом, ибо в соответствии с представлениями эпохи боги всегда поддерживали своих приверженцев, и всякая победа, точно так же как и всякое поражение, являлись итогом противоборства не только враждебных человеческих ратей, но и соперничающих богов[4]. Успех ассирийской военной экспансии имел своим следствием ослабление веры покоренных народов в своих исконных богов. Отмеченная тенденция привела к возникновению на Ближнем Востоке своего рода религиозного вакуума, итоговое заполнение какового явилось результатом уникальной духовной реакции народа Иудеи.
Эта реакция стала обретать конкретные черты, когда царь Иезекия встал на сторону религиозных реформаторов, призывавших очистить культ Яхве, сделав единственным местом поклонения ему Иерусалимский храм. Эта программа предусматривала уничтожение «высоких мест» — сохранявшихся в сельской местности капищ, связанных с языческой традицией. Принимая решения, государь почтительно внимал советам получавших божественные откровения пророков, величайшим из которых в те дни слыл Исайя, сын Амоса
Однако нельзя сказать, что царь Иезекия полагался лишь на помощь сверхъестественных сил — перед тем, как присоединиться к антиассирийскому союзу, он укрепил стены Иерусалима и несколько расширил границы своего государства. Когда же вторгшиеся ассирийцы разбили египтян, этот правитель поспешил прийти к соглашению с победителями. Возможность сохранить престол обошлась недешево: ему пришлось выплатить триста талантов серебра и тридцать золота, причем часть драгоценного металла (вполне возможно, что большая) была позаимствована из Иерусалимского храма. Однако царь не утратил власти, и его наследники, уплачивая Ассирии дань и не помышляя больше о мятежах, продолжали править в своем маленьком царстве более столетия. Довольно долго им удавалось лавировать между могущественными соперниками — Египтом и державами Месопотамии, но такое положение не могло продлиться вечно. В 586 г. до н. э. самостоятельности царства пришел конец. Навуходоносор, царь Вавилона, сделал то, что не удалось Синнахерибу: после долгой осады захватил Иерусалим, низложил династию Давида, разрушил храм и переселил большую часть населения в Вавилон.
Но, как все мы знаем, это событие не стало концом еврейской истории. Пребывая в «Вавилонском пленении», иудеи достигли процветания, причем не только материального. Проведенная в указанный период работа над священными книгами позволила реформировать культ Яхве, превратив его в однозначно монотеистическую религию, не привязанную к определенному месту и не ограничивающую возможность почитания Единого Бога разрушенным Храмом Соломона в Иерусалиме. Именно на основе этой, укрепившейся в изгнании реформированной религии евреев смогли в будущем возникнуть христианство и ислам, два наиболее влиятельных религиозных направления нашего времени. Да и сама она по сей день сохраняет приверженцев во всем мире, и особенно в современном государстве Израиль
Но доведись Иудейскому царству рухнуть в 701 году, как в 722-м, всего на 21 год раньше, рухнуло Израильское царство, скорее всего, дело обернулось бы совсем иначе. Жители, выведенные ассирийцами из Израиля, вскоре утратили бы свою этническую и религиозную самобытность. Разделяя диктовавшиеся здравым смыслом представления об ограниченности божественной силы[5], они отреклись бы от почитания не сумевшего защитить их Яхве и вошли бы в библейскую историю под именем «десяти отпавших колен». Если бы в 701 году до н. э. ассирийцы смогли захватить Иерусалим, как прежде захватили Самарию, и поступили бы с населением так же, то народ Иудеи, по всей вероятности, разделил бы судьбу народа Израиля. В этом случае, иудаизм исчез бы с лица земли, сделав невозможным возникновение дочерних религий — христианства и ислама. Ну а без них наш мир был бы совсем иным, таким, каким мы просто не можем его себе представить.
Впрочем, мы точно так же не можем представить себе, что в действительности произошло в те давние дни под стенами Иерусалима. Надпись на стене дворца в Ниневии, восхваляющая блистательные победы Синнахериба, являет собой не объективное историческое свидетельство, а образец имперской пропаганды. Что же касается трех библейских повествований, рассказывающих о том, как ассирийцам пришлось отступить от священного города, то все они основаны на допущении прямого вмешательства Всевышнего в земные дела — концепции, которую в наше время готовы принять лишь немногие историки.
Но сколь бы ни были неточны, какие бы преувеличения не содержали в себе библейские тексты, сами по себе они имели немалое значение, ибо именно на их основе у следующих поколений евреев сформировалось представление о том, что же случилось в тот грозный год. Представление, позволявшее уверовать во всемогущество Бога Моисея и Давида, ибо Бог этот смог защитить своих почитателей от сильнейшего из земных владык. Этот эпизод, преподнесенный в интерпретации Иерусалимских религиозных ортодоксов, как никакой другой способствовал укреплению доверия к монотеизму, а эмфатический, бескомпромиссный монотеизм явился фактором, позволившим еврейской религии сохраниться и упрочить свои позиции на фоне порожденных ассирийскими завоеваниями космополитических тенденций. По мере того как ход событий в различных регионах древнего Ближнего Востока все больше зависел от того, что удавалось (или, напротив, не удавалось) правителям отдаленных областей, враждующим армиям и прочим группам чужаков, местные божества внушали все меньшее почтение. Лишь вера в Единого, общего для всех Бога давала происходящим социальным процессам удовлетворительное объяснение.
Это стало залогом процветания еврейского монотеизма, оказавшегося способным расширить свое влияние и особенно через дочерние мировые религии сохранить его вплоть до нашего времени.
Культ, строго привязанный к единственному священному месту, уже не отвечал потребностям эпохи, и отказ от местной, племенной традиции в пользу чужеземных богов, чье могущество подтверждалось военными успехами их поклонников, представлялся выбором естественным, хотя и малодушным. Но, как это ни удивительно, жителям маленького, слабого, зависимого царства Иуды достало безрассудства поверить, что их Бог Яхве есть Бог Единый и Единственно Истинный, властвующий надо всей землей, так что все происходящее согласуется с Его волей. В глазах верующих отступление ассирийцев от стен Иерусалима в 701 г. явилось более чем убедительным подтверждением универсального могущества их Бога, нежели могло быть какое-либо иное. Таким образом, по своим последствиям неудавшаяся осада Иерусалима занимает место среди важнейших неосуществленных возможностей, известия о которых сохранились в письменной истории
В Библии рассказ об этом событии повторяется трижды (Вторая книга Царств 18—19, Вторая книга Паралипоменон 32 и Книга Исайи 36 — 37), причем во всех трех версиях не только согласуются наиболее существенные факты, но в некоторых случаях используются одни и те же слова и даже фразы. Позвольте процитировать Исайю по версии царя Иакова.
...И встал Рабсак (начальник ассирийского войска, посланного против Иерусалима), и возгласил громким голосом по-иудейски, и сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!.. Пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может спасти вас; И пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря: Спасет нас Господь; Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где Емафа и Арпада?.. Спасли ли они Самарию от руки моей?
(Исайя 36:18-19)
На это прямое отрицание могущества Бога Иудеи царь Иезекия ответил следующей молитвой:
Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах! Ты один — Бог всех царств земли; Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое... и услышь слова Синнахериба, который послал поносить Тебя, Бога живого. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земные, что Ты, Господи, Бог один. И послал Исайя, сын Амосов к Иезекии сказать о царе Ассирийском: «Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала... Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего».
И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые. И отступил, и пошел, — и возвратился Синнахериб, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся... сыновья убили его мечом... И воцарился Асардан, сын его, вместо него.
(Исайя 37:16- 17, 20-21, 35-38)
Таким образом, в соответствии с Библией, Бог спас свой народ, и покарал нечестивых ассирийцев, наслав на них мор. Чудесное избавление подтвердило правоту царя Иезекии и пророка Исайи, полагавшихся на мощь и заступничество Всевышнего, и, более того, оно показало, что еврейский Бог превосходит могуществом сильнейшего из земных царей. Кто после этого мог усомниться в том, что вещающие о всемогуществе своего Бога иудейские священники и пророки говорят правду?
Однако, как свидетельствует библейское повествование о Манассии, сыне и преемнике Иезекии, восседавшем на троне с 686 по 642 г., сомневающиеся все же оставались. На протяжении всего своего правления царь Манассия платил дань Ассирии, а в отношении чужих богов считал благоразумным проявлять терпимость, ибо установил «...резного идола, которого сделал, в доме Божием», и дозволял иные формы языческого культа, что было «неугодно в очах Господа» (Вторая книга Паралипоменон, 33:2,7)
Более того, те из нас, кто не склонен верить в чудеса, в состоянии усмотреть в библейском рассказе о подготовке Иезекии к отражению вражеского нашествия ясные намеки на то, что эпидемия в стане осаждавших совсем не обязательно явилась результатом вмешательства сверхъестественных сил. Кроме того, Синнахериб мог снять осаду хорошо укрепленного города по причинам, никак не связанным с уроном, нанесенным его войску эпидемией. Заметим, что цифру в 185 000 умерших следует признать несомненным преувеличением. Подобная численность просто невероятна для любой армии древности, не говоря уже о действовавшей в бесплодных окрестностях Иерусалима.[6]
Иными словами, мы не располагаем бесспорными данными о действительных обстоятельствах осады, а размышляя о том, как их истолкование повлияло на ход мировой истории, вправе задаться некоторыми вопросами. Например, не спас ли Иезекия свой трон, предусмотрительно позаботившись о том, чтобы сделать невозможной длительную осаду Иерусалима, затруднив снабжение ассирийского войска водой. Вот что сообщает об этом Вторая книга Паралипоменон (32:2 — 4):
...Когда Иезекия увидел, что пришел Синнахериб с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: да не найдут цари Ассирийские, пришедши сюда, много воды.
Некоторые современные археологи полагают, что Иезекия приказал соорудить шестисотфутовый тоннель, и по сей день отводящий воду из находящегося поблизости от древних стен Иерусалима источника Тихон к озеру Силоам. Правда, в книге Паралипоменон говорится о срочных мерах, тогда как на осуществление столь масштабного проекта ушло бы немало времени. Вполне возможно, что прорытие тоннеля явилось частью мер по укреплению обороны города, предпринятых или до или после осады 701 г.
В любом случае стоит поразмыслить, а не явилось ли распространение инфекции в ассирийском лагере следствием того, что солдатам пришлось пить зараженную воду? Это произошло в результате решения Иезекии «засыпать источники» вокруг Иерусалима. Ведь если так, то прозорливость царя с его «князьями и военными людьми», смекнувшими, насколько трудно обеспечить многочисленное, вставшее лагерем в засушливой местности войско достаточным количеством питьевой воды, могла иметь большее отношение к отступлению ассирийцев, нежели описанное в Библии чудо.
До воцарения Иосии (правил в 640 — 612 гг. до н.э.) представление о том, что спасение Иерусалима от Синнахериба явилось результатом прямого божественного вмешательства сосуществовало с более реалистичными воззрениями, сторонники которых допускали отправление в Иерусалиме языческих обрядов, стремясь снискать благоволение не только Яхве, но и других, более могущественных богов. Иллюстрацией такого рода подхода служит политика Манассии
Подобная политика подвергалась яростному осуждению еврейских пророков, в откровениях которых Яхве представал богом, весьма ревниво требовавшим поклонения исключительно себе и полного повиновения своей воле. По мере распространения грамотности поучения пророков и священнослужителей, стремившихся руководить поведением верующих не только в религиозной, но также в личной и общественной сфере, все чаще фиксировались в письменном виде. Так, примерно с 750 г. до н.э. начинали складываться библейские Книги Пророков. Под руководством священнослужителей храма Соломона, отстаивавших исключительность почитаемого ими Бога, осуществлялись сбор, сохранение и переписка священных текстов, из которых в итоге и составилось еврейское Священное Писание. Даже если порой взгляды священников и пророков не вполне совпадали, и те и другие неизменно требовали поклонения одному лишь Яхве и отвергали терпимый языческий подход, признававший сосуществование многочисленных племенных богов, соперничавших между собой точно так же, как и люди.
Приверженцы Яхве восторжествовали в начале правления Иосии, когда начался развал Ассирийской державы. Партия религиозных ортодоксов убедила царя, тогда еще мальчика, запретить в Иерусалиме допущенное его отцом Манассией поклонение чужеземным богам. Потом, во время обновления Храма, первосвященник «нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея» (Вторая Паралипоменон, 34:14). Эта книга, получившая название Второзаконие, стала основой для энергичных усилий по реформированию религиозной практики и приведению ее в соответствие с новооткрытой и записанной волей Бога.
Тридцать шесть лет спустя главный из преемников могущества Ассирии царь Навуходоносор уничтожил Иудейское царство, разрушил храм и переселил евреев в свою столицу Вавилон. Тогда служителям Яхве пришлось искать ответ на вопрос, как же мог их Бог допустить подобное бедствие. Однако к тому времени представление о том, что они поклоняются единственному,, властвующему надо всем миром Богу, столь глубоко укоренилось в умах верующих, что отступничество от Яхве, подобное совершенному израильтянами в 722 г. до н.э., стало попросту немыслимым. Что же касается постигшей Иудею катастрофы, то ее объяснили грехами еврейского народа, не внимавшего обличениям пророков и нарушавшего заповеди веры. Ибо сколь бы ни были энергичны усилия правителей и священников по укреплению единобожия и искоренению язычества, даже самые набожные евреи едва ли могли следовать всем бесчисленным заповедям, предписаниям и запретам.
Естественно, что, восприняв случившееся как кару, верующие прониклись желанием привести свое поведение в полное соответствие с волей Вседержителя, уяснить каковую представлялось возможным путем скрупулезного изучения Священного Писания. Постепенно еженедельные собрания для совместных молитв, чтения и толкования Писания стали для выселенных в Вавилон евреев обычным ритуалом, что привело к окончательному оформлению иудаизма. Эта религия перешагнула рамки племенного культа, став эффективным руководством для повседневной жизни в космополитической городской среде, и проявила удивительную жизнеспособность, пережив века.
Может показаться парадоксальным, что истолкование отступления Синнахериба в ракурсе пророчеств Исайи и религиозной политики Иезекии стало важнейшим фактором формирования в маленьком Иудейском царстве монотеистической религии, тогда как осуществление Навуходоносором того, чего лишь намеревался добиться Синнахериб, не только не дискредитировало эту веру, но и способствовало ее укреплению, сделав возможным возникновение в будущем дочерних конфессий — христианства и ислама. Но дело обстояло именно так. Во всяком случае так это представляется мне, хотя многие исследователи, чьи взгляды сложились под влиянием позднейшей религиозной истории, попросту не могут или не желают признать судьбоносное значение снятия осады Иерусалима в 701 г. до н.э.
Однако (во всяком случае, для меня) размышления о том, как кучка иерусалимских священников и пророков сумела истолковать случившееся у стен города и как вышло, что их взгляды получили столь широкое распространение и возымели столь далеко идущие последствия, стали прекрасным способом потренировать историческое воображение. Никогда, на мой взгляд, ни раньше, ни позже, столь многое не зависело от убежденности в своей правоте горстки людей, истово веровавших в своего Истинного и Единого Бога, отважно бросая вызов здравому смыслу.
Барбара Н. Портер
Вещий сон способен сотворить чудо
Барбара Н. Портер является признанным специалистом по политической и культурной истории Нового Ассирийского царства.
Что, если бы обеспокоенный приближением киммерийских орд[7] царь Лидии Гигес[8] до утра не сомкнул глаз и соответственно не увидел бы знаменитый сон, в котором бог Ассирии повелел ему стать ассирийским данником, а поутру, усталый и павший духом, не смог бы одолеть киммерийцев и встретил смерть не спустя несколько лет, а именно в этот день?
Случись такое, и вполне возможно, современная западная культура выглядела бы несколько иначе. Не увидев этого сна — а уж паче того погибнув! — Гигес, разумеется, не направил бы в далекую Ассирию посольство и не предал бы ассирийцам в качестве дружественного дара двух плененных киммерийских вождей. А не будь этого первого, состоявшегося около 652 г. контакта между двумя народами, Ассирия могла бы и не откликнуться на обращения уцелевших сыновей Гигеса и не призвать своих союзников в Малой Азии поддержать их в борьбе за отцовское наследие. А не окажись киммерийцы в конечном счете вытесненными из Малой Азии, наследникам Гигеса не удалось бы создать богатейшее Лидийское государство[9], где процветали торговля, музыка и искусство.
Правда, учитывая, что большинство людей нашего времени слыхом не слыхивало ни о каком Лидийском царстве, в этом можно было бы и не усмотреть особую потерю, не будь подобный поворот событий чреват куда более важными последствиями. Разгромив Лидию, киммерийцы, уже не встречая серьезного сопротивления, продолжили бы свое победоносное шествие к морю, завершив его захватом прибрежных греческих колоний. Получив в свое распоряжение флот этих городов, киммерийцы получили бы и возможность вторжения в лежавшую не так уж далеко на западе материковую Грецию. Мы знаем, что Эллада, находившаяся на пути к культурному расцвету V века до н.э., стала колыбелью современной европейской культуры, но вместо того она легко могла превратиться в огромное пастбище[10] для принадлежавших кочевникам табунов. Представьте себе Геродота, ставшего не «отцом истории», а автором наставлений по верховой езде, а Эврипида не драматургом, а табунщиком!
Из истории Гигеса можно извлечь урок — укладывая свое чадо в постель, чья-то матушка вправе сказать: «Ложись пораньше, сынок, да выспись как следует. Сон дело не пустяковое, ведь от него может зависеть судьба западной цивилизации».
Виктор Дэвис Хансон
Звезда Эллады не взошла
Персы одерживают победу при Саламине. 480 г. до н.э.
Моменты, подобные имевшему место в 480 году до н. э. морскому сражению между греками и персами при Соломине, когда столь многое решалось в столь малое время, не так уж часты в человеческой истории. (Наверное, к ним можно было бы причислить и Хиросиму, но, если не считать развернувшейся в наши дни борьбы за ядерное разоружение, исторические последствия этого события пока еще полностью не выявлены.) Соломин представлял собой нечто большее, нежели просто битва. То был кульминационный момент противостояния между Востоком и Западом, во многом определивший магистральные пути дальнейшего развития человечества. Попытка сдержать распространение эллинистического индивидуализма[11] была предпринята под главенством персов, но они несли и насаждали систему представлений и ценностей, общую для всех централизованных деспотий восточного Средиземноморья. Недаром Виктор Дэвис Хансон отмечает, что в языках прочих средиземноморских народов аналогов греческим словам «свобода» и «гражданин» просто-напросто не существовало.
С чисто военной точки зрения кампания, которую замыслил владыка персидской державы Ксеркс, по размаху, длительности подготовки и сложности планирования может быть сопоставлена с такими операциями, как поход «Непобедимой Армады» или высадка союзников в Нормандии. Военное противоборство, высшей точкой которого стал Соломин, представляло собой последнюю историческую возможность в зародыше подавить западную культуру.
Виктор Дэвис Хансон является автором девяти книг, среди которых наиболее известны «Западный способ ведения войны», «Иные греки» и «Кто убил Гомера?» (в соавторстве с Джоном Хитом). Его исследование «Поля без грез», посвященное проблеме отмирания семейного фермерства, названо Ассоциацией книжных обозревателей Сан-Франциско лучшей нехудожественной книгой 1995 года. Хансон преподает античную историю в Университете штата Калифорния.
Когда б склонилось счастье к большинству была б победа нашей...
Но бог какой-то наши погубил войска, тем, что удачу разделил не поровну — говорит матери Ксеркса гонец, действующее лицо трагедии «Персы»[12] автор которой, афинский драматург Эсхил, по некоторым сведениям, сам участвовал в Саламинской битве. Но что, если бы чаша весов и впрямь склонилась в другую сторону? Что, если бы персы взяли верх? Ведь нельзя не признать, что они располагали всем необходимым для победы и едва не одержали ее. Да что там, они должны были победить! А если бы флот, созданный и возглавлявшийся афинским государственным деятелем и военачальником Фемистоклом, потерпел поражение, то не сделало ли бы это невозможным возникновение и развитие западной цивилизации, во всяком случае в том виде, в каком она существует ныне, две с половиной тысячи лет спустя? Или же Фемистокл, случись ему уцелеть при Саламине, сумел бы предоставить свободе и демократии второй шанс, отплыв с остатками афинян в Италию?
«В тот день на дрожащих весах истории балансировала судьба мира. Один другому противостояли не просто два занявших позиции, изготовившихся к бою флота, а вся мощь восточного деспотизма, собранная под властью единого владыки, и разрозненные силы отдельных городов-государств, не обладавших мощными ресурсами, но воодушевленных идеями личной свободы. То был ярчайший и славнейший в истории пример полного торжества духовного начала над материальным».
Приведенный выше отзыв о Саламине и его последствиях принадлежит немецкому мыслителю Георгу Гегелю, нередко становившемуся выразителем апокалиптического взгляда на историю. Но современники битвы — древние эллины — придерживались того же мнения. В трагедии Эсхила «Персы» легшее в ее основу историческое событие, «чудесная победа при Саламине», объясняется тем, что боги покарали мидян (персов) за их высокомерие, вознаградив свободолюбие и отвагу эллинов. Эпиграфические памятники прямо говорят, что эллинские моряки «спасли священную Грецию», не допустив, чтобы она «узрела день рабства». Согласно преданию, Эсхил был участником великой битвы, Софокл танцевал на празднестве в честь одержанной афинянами победы, а Эврипид родился в день сражения. По справедливости все последующие две с половиной тысячи лет Европе следовало бы отмечать годовщину чуда при Саламине, как день спасения, обеспечивший будущий расцвет цивилизации и культуры под эгидой победоносной Афинской демократии. Храмы Акрополя, афинская трагедия и комедия, философия Сократа и сама история как наука — все это явилось миру после греко-персидских войн. Победа при Саламине не просто спасла Элладу: поразительная победа афинян предопределила их последующие культурные достижения
До Саламина Греция представляла собой конгломерат карликовых городов-государств, разобщенных, бедных, слабых и трепетавших пред неодолимой мощью царей Персии, властвовавших над семьюдесятью миллионами подданных. После Саламина эллины не вспоминали о страхе перед иноземным вторжением[13], пока не столкнулись с римлянами. Ни персидские цари, ни иные восточные завоеватели не ступали на землю Греции на протяжении двух тысячелетий, до Османского завоевания, случившегося уже в XV веке н. э. Завоевания, которое, кстати, наглядно показало, что не будь в свое время остановлена персидская экспансия, побежденная Греция оказалась бы под многовековым игом.
До Саламина Афины представляли собой полис с довольно эксцентричной по тем временам системой управления: шел всего-навсего двадцать седьмой год существования радикальной демократии[14] и итоги этого политического эксперимента были еще далеко не очевидны. После сражения Афины встали во главе стабильного и мощного политического союза, а ставшая преобладающей в Эгейском бассейне демократическая культура подарила нам Эсхила, Софокла, Парфенон, Перикла и Фукидида. До морского сражения эллинское единство представлялось эфемерным, а о том, что греки не только отстоят свободу, но и станут вмешиваться в дела соседних держав, никто даже не помышлял. После Саламина на протяжении трех с половиной столетий эллинские войска, имевшие несомненное преимущество и в вооружении, и в тактике, не знали себе равных от южной Италии до берегов Инда.[15]
Персидское царство завоевывает Грецию. Вторжение Ксеркса 479-480 г. до н.э. и Саламинская битва, 480 г. до н.э.
Если греко-персидские войны являли собой один из определяющих этапов мировой истории, то Саламин стал поворотным пунктом греко-персидских войн. И если Саламин представлял собой кардинальный прорыв в судьбах греческого сопротивления персидскому натиску, то в преодолении разногласий и достижении эллинского единства невозможно переоценить роль не столь уж многих людей — горсти афинян и их вождя Фемистокла. Содеянное ими в конце сентября 480 года до н.э.[16] в водах у афинского побережья определило многое из того, что мы на Западе ныне воспринимаем как должное.
Во-первых, следует помнить, что десятилетие греко-персидских войн, ознаменованное такими вехами, как битвы при Марафоне (490 г.), Фермопилах и Артемисии (480 г.), Саламине (480 г.), Платеях (479 г.) и Микале (479 г.), являлось для Востока последней исторической возможностью подавить в эмбриональном состоянии основополагающие элементы будущей общеевропейской цивилизации. Созданное эллинами радикально-динамичное политическое «меню» включало в себя конституционную форму правления, уважение к частной собственности, милиционную систему организации обороны, гражданский контроль над военными силами, свободу научной мысли, рационализм, а также разделение полномочий между духовной и светской властью. Те самые элементы, которые, будучи занесенными эллинами в Италию, распространились впоследствии по всем землям, попавшим под влияние Римской империи. Ведь нельзя не отметить, что в языках прочих средиземноморских народов аналогов таким греческим словам, как «свобода» или «гражданин», попросту не существовало, а в их политической жизни господствовали деспотичные, либо племенные, либо теократические монархии[17]. В наш век сосуществования многих культур будет не лишним отметить, что древняя Греция являлась средиземноморской страной лишь по природным условиям, тогда как духовные ценности ее жителей совершенно не совпадали с таковыми их соседей.
Гегель помнил о том, что, возможно, забыли мы: случись Греции стать западной провинцией Персидской державы — и земли свободных граждан перешли бы со временем во владение Царя Царей[18] общественные строения на агоре превратились бы в лавки восточного базара, а гоплиты, наряду с «бессмертными» Ксеркса[19] составили бы ударные отряды персидского войска. Вместо эллинской науки и философии, культивировавших дух рационализма и свободного познания, под крылом персидской чиновничьей и жреческой бюрократий расцвели бы разве что суеверия вроде астрологии или ворожбы. Персидские цари свели бы роль выборных органов самоуправления к облегчению задачи выколачивания из народа податей, историю — к восхвалению деяний Царя Царей, а все должности стали бы раздаваться по прихоти сатрапа, считавшегося разве что с советами магов.
Впоследствии афиняне приговорили своего стратега Фемистокла к штрафу и изгнанию[20], но представьте себе, чтобы кто-то из подданных персидской державы высказал хотя бы намек на нечто подобное в отношении Ксеркса.
Участь его, надо полагать, оказалась бы горше судьбы Пифия Лидийца. Его разрубили надвое, бросив обрубки тела по обе стороны дороги, по которой маршировало царское войско всего лишь за то, что этот человек дерзнул попросить Ксеркса освободить от военной службы одного из пятерых его сыновей. Несмотря на утверждения некоторых историков, города, подвластные Персии, ни в коей мере не являлись городами-государствами.[21] Не сумей Фемистокл и его моряки справиться со своей задачей, мы, возможно, жили бы сейчас в обществе, где нет места свободе слова, где писателю может угрожать смерть, где женщина угнетена и вынуждена скрывать лицо под паранджой, власть неподотчетна народу, университеты являются не более, чем центрами религиозного фанатизма, а контроль над мыслями проникает в наши жилища.
Примерно тысяча возникших приблизительно в VIII веке до н.э. греческих полисов с самого начала развивались в бесспорно парадоксальных условиях: их успех определялся факторами, грозившими им гибелью, их сила и слабость питались из одного источника. Изолированное положение Греции, ее несхожесть с иными средиземноморскими землями, крайняя степень децентрализации, когда роль государства исполняли крохотные общины, — все это способствовало созданию слоя свободных собственников, опоры гражданского общества. Однако в силу тех же причин Греция отвергала принципы федерализма и даже общей организации обороны. Любые идеи, содержавшие хотя бы намек на централизацию власти, вступали в противоречие с почти фанатической приверженностью эллинов принципам индивидуализма и политической свободы. В древней Греции предложение создать что-либо вроде нынешней Организации Объединенных Наций едва ли могло бы рассчитывать на поддержку, ибо независимым землевладельцам сама мысль об уплате федеральных налогов показалась бы кощунственной. Самых ярых из нынешних приверженцев суверенизации и сепаратизма эллины той поры обвинили бы в робости и непоследовательности. Исходя из представлений греков о региональном суверенитете, истинным эллином вправе назваться Джон Кэлхаун[22], а не Авраам Линкольн и не Вудро Вильсон.
Вышло так, что, несмотря на разобщенность и изоляцию, экономическая предприимчивость, политическая гибкость и воинская отвага позволили грекам к VI веку до н.э. колонизовать прибрежные районы Малой Азии, Причерноморье, южную Италию, Сицилию и часть Северной Африки. Около миллиона греков расселились за пределами исторической родины, и всюду, где они появлялись, возникали свободные полисы. Поразительно, что экспансия такого размаха никоим образом не организовывалась и не направлялась из единого центра. Эллинский мир представлял собой около тысячи совершенно самостоятельных городов-государств, не объединенных, по словам Геродота, ничем, кроме языка, религии и приверженности общим ценностям.
Греческая колонизация не осталась незамеченной соседями: несравненно более централизованными деспотиями Азии и теократиями Северной Африки. По правде сказать, к началу V века персы, египтяне, финикийцы и карфагеняне были сыты по горло назойливыми и вездесущими греческими моряками, торговцами, наемниками и колонистами. Представляется естественным, что обладавший несравненно большими материальными и людскими ресурсами Восток должен был попытаться пресечь распространение этой на удивление жизнеспособной и совершенно чуждой большинству средиземноморских народов культуры.
Исторический вызов был принят, но после того, как в течение первых двух десятилетий V века цари Дарий и его сын Ксеркс потерпели поражение, вопроса о примате западной парадигмы в древнем мире более не возникало.
После Саламина греки — будь то афиняне в Египте, собранные со всего эллинского мира наемники в Персии или головорезы Александра Македонского[23] — сражались в Азии и Северной Африке ради завоеваний или добычи, но им уже не приходилось встречать врага на родной земле, отстаивая ее независимость. После неудачи Ксеркса ни одна восточная держава ни осмеливалась посягать на эллинские владения, которые, напротив, продолжали расширяться. В завоеванных землях греки переустраивали все на свое манер: местную культуру вытесняла эллинистическая, а новые колонии снабжали Элладу рабами и деньгами. Саламин обозначил собой рубеж, за которым эллины лишь наступали, тогда как прочие народы лишь отступали как в материальном, так и в духовном смысле.
Историки посвятили множество трудов более позднему противостоянию Рима и Карфагена, однако, невзирая на кровопролитный характер трех Пунических войн (264 — 146 гг. до н.э.) и даже на ужасающее вторжение в Италию, явно отмеченного манией величия Ганнибала, конечный исход борьбы никогда не подвергался сомнению.[24] К третьему веку до н.э. римский способ комплектования и снабжения войск, римская стратегия и гибкость республиканской системы управления в сочетании с успехами сельского хозяйства, ремесла, строительства и торговли, принципы которых римляне переняли у греков, позволяли определить результат Пунических войн заранее. Учитывая мощь римской армии, единство республиканской Италии и относительную слабость финикийской цивилизации, следует удивляться не тому, что Карфаген пал, а тому, что он смог оказать Риму столь длительное и упорное сопротивление.
В отличие от римлян грекам приходилось обороняться от противника, обладавшего огромным перевесом сил. При Саламине флот персов превосходил греческий в три-четыре раза.[25] На суше численное преимущество варваров над соединенными греческими силами достигало пяти, а то и десяти раз. Людские ресурсы, на которые могла опереться Персия, соотносились со всем населением Греции и греческих колоний как семьдесят к одному, а в сравнении с несметными богатствами царской казны сокровища славнейших эллинских храмов показались бы смехотворно малыми.
Вдобавок не создавшие никакой общей оборонительной структуры города-государства продолжали ссориться между собой даже перед лицом угрозы персидского вторжения в материковую Грецию. В конце лета 480 г. до н.э., когда Ксеркс высадился в северной Греции, эллинских полисов, подчинявшихся персам или сохранявших нейтралитет, насчитывалось больше, нежели приверженных идее общей обороны. В отличие от Рима периода вторжения Ганнибала, Афины в сентябре 480 г. не просто подвергались угрозе, а были захвачены и разрушены, и население Аттики рассеялось, спасаясь бегством. Сложилась гораздо худшая ситуации, нежели даже та, что имела место в Западной Европе 40-х годов после побед, одержанных нацистами над европейскими демократиями.
Представьте себе оставшуюся без союзников, побежденную и разоренную Францию. Париж разрушен, Триумфальная арка и Эйфелева башня лежат в руинах. Опустели даже деревни: перепуганные жители на крохотных суденышках переправляются в Англию или в североафриканские колонии. И вот, когда кажется, будто страна погибла безвозвратно, горстка патриотически настроенных моряков, собрав в Тулоне малочисленный флот, дает бой несравненно более сильной немецкой морской армаде — и одерживает победу! Более половины нацистских судов потоплены, Гитлер с позором бежит в Берлин, а спустя всего несколько месяцев сухопутные силы Сопротивления уже на территории материковой Франции наносят превосходящей их численно армии оккупантов столь мощный удар, что враг вынужден в беспорядке отступить за Рейн. Но если даже мы признаем, что греко-персидские войны представляли собой последний исторический шанс Востока пресечь развитие юной, но динамичной и экспансивной западной культуры, следует ли считать, что решающим моментом десятилетнего противостояния эллинов сначала Дарию, а потом Ксерксу явился именно Саламин? Да, ибо одержанная афинянами десятью годами ранее победа при Марафоне[26] хотя и была блистательной, но смогла всего лишь отсрочить сожжение их города. К тому же предпринятый Дарием в 490 г. поход в Аттику — небольшую равнинную область к северо-востоку от Афин[27] — не представлял собой масштабного вторжения. Перед высадкой на материке персы захватили всего-навсего несколько греческих островов, и все их войско насчитывало не более тридцати тысяч человек. Очевидно, что Дарий вовсе не ставил перед собой задачу порабощения Греции — скорее персидский царь желал покарать Афины за оказанную ими поддержку взбунтовавшимся против него ионийским (расположенным в Малой Азии) полисам. Поражение Афин при Марафоне могло иметь результатом приход к власти в городе проперсидски настроенного отпрыска бывшего тирана Писистрата. Таким образом, в силу ограниченности целей и масштабов этой кампании (практически не затронувшей прочие города-государства материковой Греции) иной исход битвы при Марафоне мог несколько изменить внутриэллинский расклад политических сил, но никоим образом не прервать поступательное развитие эллинской цивилизации.
В 486 г. Дарий умер, и задача отмщения за позор Марафона оказалась возложенной на его сына Ксеркса. Он вознамерился не ограничиться обычной карательной экспедицией, а провести массовое вторжение, превосходящее по масштабам все военные операции, когда-либо имевшие место в восточном Средиземноморье. После четырех лет приготовлений, мобилизовав огромную армию, Ксеркс переправился на европейский берег Геллеспонта и двинулся на юг по территории северной Греции, поглощая по пути эллинские полисы, которым приходилось выбирать между покорностью и полным уничтожением. Разумеется, указанная в древних источниках численность более чем в миллион воинов вызывает серьезные сомнения, однако и половины, и даже четверти этой цифры достаточно, чтобы сделать эту военную акцию крупнейшей из известных Европе до высадки объединенных сил союзников в июне 1944 года.[28] Мы можем не доверять и сведениям, согласно которым персы имели восьмидесятитысячную конницу, но, если даже Ксеркс располагал вдвое меньшим числом всадников, они все равно почти впятеро превосходили конные силы, участвовавшие в предпринятом более полутора столетий спустя завоевании Азии Александром. Что же касается флота, то известия о тысяче двухстах греческих, финикийских и персидских судах представляются вполне достоверными.
Греки предприняли попытку остановить вражеское вторжение в тесном Фермопильском ущелье, где использование характера местности позволяло в известной степени скомпенсировать нехватку сил: ведь в северной, самой узкой части теснины расстояние между утесами и морем составляло менее пятидесяти футов. В августе 480 г. объединенный эллинский флот под верховенством афинян двинулся к мысу Артемисий, а спартанский царь Леонид выступил во главе почти символических сухопутных сил в семь тысяч гоплитов. Расчет делался на то, что моряки смогут отвлечь персидский флот, а перекрывшие горный проход пехотинцы задержат врага. Это дало бы возможность лежащим южнее перешейка полисам сплотиться, послать Леониду серьезное подкрепление и остановить наступление, не допустив неприятеля в процветающие внутренние области центральной и южной Греции.
Однако этому отважному замыслу не суждено было осуществиться. Невзирая ни на отвагу, явленную эллинами при Фермопилах, ни на то, что значительную часть персидского флота у Артемисия разметало бурей, совокупным итогом этой кампании, стало самое крупное поражение греков за всю историю греко-персидских войн. Спартанский царь сложил голову вместе с более чем четырьмя тысячами превосходных гоплитов, многие эллинские суда были повреждены и вышли из строя и теперь вся Эллада севернее Коринфского перешейка была беззащитна перед завоевателями. Афиняне покинули свой город, которому предстояло быть сожженным. Вполне возможно, что в будущем Афинам, подобно Сузам или Вавилону, предстояло стать столицей сатрапии, центром по выколачиванию из населения провинции податей в казну Персеполя.
Таким образом, битва при Саламине представляла собой последнюю возможность остановить победоносное персидское наступление. Легко представить себе, что, если бы греки не дали сражения при Саламине (или проиграли его), они отвели бы все уцелевшие суда к Коринфскому перешейку, чтобы совместно с остатками пехоты Пелопоннеса предпринять отчаянную попытку, сражаясь до последней капли крови, добиться того, что не удалось при Артемисий и Фермопилах. Но в ситуации, когда вся северная и центральная Греция была завоевана, Афины разорены, большая часть эллинского флота выведена из строя, а войска завоевателей воодушевлены одержанными весной и летом победами, попытка удержать перешеек была бы обречена. Персы, подкрепленные ресурсами захваченных греческих городов, наверняка смогли бы прорваться за преграждавшую перешеек стену, тем паче что наличие большого флота позволяло им высадить свои хорошо снаряженные отряды в тылу у ее защитников, в Арголиде и на северном побережье Пелопоннеса. В более поздней военной истории Греции не известно ни одного случая успешной обороны перешейка против значительных сил. В 360-е гг. до н.э., на протяжении одного лишь десятилетия, Эпаминонд, даже не имевший поддержки с моря[29], одолевал эту преграду четырежды.
Великая битва при Платеях, разыгравшаяся весной[30] после Саламинской победы, завершилась разгромом сухопутных сил персов и привела к их окончательному изгнанию из Греции. Однако как знаковая веха эта битва может быть воспринята лишь в контексте сентябрьского триумфа при Саламине — триумфа тактического, стратегического и духовного. При Платеях персы сражались без своего царя — после поражения на море Ксеркс покинул Грецию и увел с собой лучшую часть войска. У побережья восточной Беотии не курсировал мощный персидский флот. К тому же разобщенные полисы, ожесточенно соперничавшие вплоть до самого Саламинского сражения, воодушевились успехом и при Платеях выступили наконец единым фронтом. Эллины вывели в поле 70 тысяч одних только гоплитов[31], не говоря о вспомогательных легковооруженных отрядах — гораздо больше, чем им удавалось собрать когда-либо прежде. Таким образом, деморализованным недавним поражением персам пришлось сражаться без царя, без флота и без привычного для них подавляющего численного превосходства. Подкрепления с моря им ожидать не приходилось. Эллины же рвались в бой, полагая, что отступающие из Аттики персы деморализованы недавним разгромом своего флота и тем, что царь и высшие сановники бросили их во враждебной стране.
Победы при Марафоне и Платеях — так же как неудачи при Артемисии и Фермопилах — не являлись решающими моментами десятилетнего греко-персидского противостояния. Марафон отсрочил завоевание Греции, Платеи покончили с надеждой Персии на такое завоевание, но невозможным его сделал именно Саламин.
Но если согласиться с тем, что победитель в греко-персидских войнах определился при Саламине, следует задаться вопросом — благодаря чему удалось эллинам одержать столь значимую победу?
Источники пятого века до н.э. — «История» Геродота и «Персы» Эсхила, наряду с более поздними, наиболее примечательными из коих являются писания Диодора и Плутарха, а также топографическая реконструкция местности, позволяют восстановить картину сражения с известной степенью достоверности. После долгих споров вожди панэллинского флота согласились принять план афинского стратега Фемистокла, согласно которому греческие суда, числом около трехсот пятидесяти[32], должны были сразиться с несравненно более сильной (насчитывавшей по разным сведениям от шестисот до тысячи кораблей) персидской армадой в узком проливе между островом Саламин и побережьем материковой Греции к западу от Афин. Персы к тому времени заняли почти всю Аттику и на юге патрулировали территорию вплоть до города Мегары, что лежит всего в нескольких сотнях ярдов напротив северной оконечности Саламина. Афиняне рассеялись: мужчины, способные держать оружие, сосредоточились на Саламине, тогда как женщин, стариков и детей отправили на более отдаленный остров Эгина и лежавшее на юго-западе побережье Арголиды.
Помимо очевидной — отбить захваченный врагами город[33] — Фемистокл ставил перед собой и несколько иную задачу — навязать врагу бой немедленно. Это надо было сделать, пока эллины еще не успели свыкнуться с мыслью о потере оккупированной всего несколько недель назад Аттики и антиперсидская коалиция не распалась. При этом он утверждал, что в тесном проливе, при явной нехватке пространства для маневра, персы не смогут ввести в сражение весь флот одновременно и реализовать таким образом численное преимущество. Оно будет сведено к нулю, в то время как эллинам представится возможность использовать качественное превосходство своих более тяжелых кораблей. Не опасаясь захода с тыла или охвата с флангов, греки могли беспрепятственно наносить таранные удары в борта более легких персидских, ионийских и финикийских судов передней линии, тогда как остальной вражеский флот оставался незадействованным. Экипажи поврежденных эллинских судов могли найти спасение на Саламине, тогда как моряков и воинов, спасавшихся с идущих ко дну кораблей персов, ждала неминуемая гибель от копий засевших на множестве мелких островков афинских гоплитов.
Морское сражение, состоявшееся между двадцатым и тридцатым сентября 480 года до н.э., продолжалось целый день, и к ночи потерявший половину судов персидский флот был рассеян. Успех греков определился тем, что им удалось свести на нет превосходство противника как в численности, так и в мореходном искусстве, причем если достигнут успех был в ходе боя, то его предпосылки созданы еще раньше. Эллины ввели врагов в заблуждение, создав у тех впечатление, будто они отступают на северо-запад по проливу между Мегарой и Саламином, и это заставило персов совершить сразу две роковые ошибки. Во-первых, они отделили часть армады чтобы перекрыть выход из пролива и, таким образом, вывели значительные силы из боя. Во-вторых, оставшимся кораблям Ксеркс приказал войти в пролив между Саламином и побережьем Аттики и плыть всю ночь, в результате чего к утру экипажи его кораблей были измотаны, а сам флот заперт на ограниченном пространстве. В описании деталей сражения древние источники расходятся, но представляется весьма вероятным, что 350 эллинских трирем атаковали, выстроившись в две линии, причем каждая растянулась на ширину пролива, составлявшую около двух миль. Персы, даже если бы они сумели выстроить свой зажатый между островом и материком флот в боевой порядок, не могли одновременно ввести в сражение намного больше кораблей, чем греки. У Геродота и Эсхила, не говоря уж о позднейших источниках, ход самой битвы освещается довольно скудно, однако несомненно, что основой эллинской тактики было использование тяжелых судов для нанесения таранных ударов. Греки, чьи семьи укрылись на Саламине и побережье Пелопоннеса, сражались с мужеством отчаяния и сумели обратить в бегство многоплеменную вражескую армаду, хотя даже после завершения битвы численное превосходство оставалось за персами. Однако завоеватели пали духом, и спустя несколько дней Ксеркс в сопровождении шестидесятитысячной личной гвардии отплыл на родину, поручив ведение войны своему наместнику Мардонию, оставшемуся в Греции с немалыми сухопутными силами. Таким, в основных чертах, представляется нам ход Саламинской битвы.
Два чрезвычайно важных достижения — то, что битва состоялась именно в Саламинском проливе, и то, что она оказалась победоносной, — следует признать личной заслугой Фемистокла. Именно он и разработал план сражения, и убедил прочих эллинских вождей принять его. Не случись этого, греки или отказались бы от сражения, или проиграли его, что в долгосрочном историческом плане означало одно и то же — окончательную победу персов и гибель во младенчестве зарождавшейся западной культуры. Никто, кроме Фемистокла, не сумел бы возглавить объединенный греческий флот и направить его на защиту Афин.
Нам представляется, что ему принадлежала сама идея морского сражения. Недаром ранее он настойчиво убеждал соотечественников в том, что упомянутые в пророчестве Дельфийского оракула спасительные для Афин «деревянные стены» есть не что иное, как корабли[34], и нажимал на последние две строки Аполлона, где говорилось о «божественном Саламине». Только по настоянию Фемистокла афиняне эвакуировались морем, оставив врагу и Аттику, и свою столицу. То был мудрый, но нелегкий шаг, ибо традиция предписывала защищать родные очаги до последней капли крови и афинские гоплиты готовы были сложить головы на равнинах Аттики. Нельзя не вспомнить и о том, что многочисленный (около 250 судов)[35] и хорошо оснащенный флот[36] Афины также имели лишь благодаря упорству, проявленному Фемистоклом двумя годами ранее. В бытность свою архонтом он в жарком споре добился решения не делить доходы от недавно открытых серебряных рудников между гражданами, но употребить на строительство кораблей и обучение моряков, призванных защитить афинскую демократию от угрозы, исходит ли она от персов или других полисов. Благодаря его прозорливости в 482 г. Афины обзавелись новопостроенным, сильнейшим в Греции флотом.
Согласно Геродоту, после битвы у Артемисия командующий объединенным греческим флотом спартанец Эврибиад предоставил определить место следующего сражения совету эллинских вождей. По-видимому, Геродот прав, сообщая, что все, кроме афинян, были настроены плыть к Арголиде и сделать ставку на оборону Коринфского перешейка. Поскольку Аттику враг уже захватил, представлялось разумным попытаться защитить хотя бы Пелопоннес, в городах и гаванях которого укрывались семьи большинства воинов и моряков. В этом месте повествования Геродот вкладывает в уста афинянина Мнесифила следующие слова: «Случись это, все отправятся по домам в свои города. Ни Эврибиад, ни кто-либо другой не сможет удержать их вместе. Флот рассеется, Эллада погибнет по собственной глупости!» Мнесифил знал, что, подобно тому, как случилось это десятилетием раньше в Ионии, после поражения каждый полис станет отстаивать не общие, а собственные интересы, скрывая за хвастливыми речами о дальнейшей борьбе готовность вступить в переговоры с персами и выразить покорность их царю.
Не добившись своего с первого раза, Фемистокл созывает второй совет и убеждает Эврибиада дать морское сражение в Саламинском проливе, малая ширина которого будет на руку грекам. Он утверждал, что это позволит защитить не только афинских беженцев, но и жителей Пелопоннеса, причем они встретят врага, пока тот еще далеко от их рубежей. По его мнению, отступать, оставляя без прикрытия Мегариду и острова Сароничского залива, было бы губительной оплошностью. И впрямь, персы намеревались перекрыть пролив дамбой и направить войска на остров, где укрывались семьи афинян. Со слов Фемистокла выходило, что пытаться сразиться с персами в открытом море у Коринфа — сущее безумие, ибо уступавшие персидским и в числе, и в скорости суда эллинов неизбежно окажутся в окружении. Наконец, он пригрозил, что если его план не будет принят, афинский флот откажется от дальнейшего участия в войне и будет использован для переправки афинян в Италию, где будет основан новый город. Все эти аргументы и особенно последняя угроза привели к тому, что эллинские флотоводцы пусть неохотно, но уступили. Принятое в середине сентября решение заключалось в том, чтобы, находясь в постоянной готовности, ждать врага. Однако уверенности в том, что персы войдут в узкий пролив, ни у кого не было: их флот мог остаться у побережья захваченной Аттики и выдержать время, необходимое для того, чтобы споры между вождями привели к распаду объединенной греческой эскадры.
Итак, справившись с одной задачей — убедив в своей правоте союзников, — Фемистокл столкнулся со второй, куда более трудной. Она состояла в том, чтобы заманить корабли персов в узкий пролив. Согласно Геродоту, для достижения этой цели Фемистокл повелел своему рабу Сикинну переправиться ночью на материк и рассказать во вражеском стане, что Фемистокл и афиняне желают персам победы, что вожди эллинов погрязли раздорах и собираются бросить Саламин на произвол судьбы, и союзные корабли вот-вот отплывут к перешейку. Таким образом, Ксерксу представлялась уникальная возможность застать врасплох и уничтожить эллинский флот, но для этого следовало как можно скорее провести персидские суда между островом и побережьем. Причем со слов раба выходило, что само появление персов в проливе станет сигналом для присоединения к ним Фемистокла и его приверженцев.
Специалисты по античной истории и по сей день ведут споры по поводу достоверности этого рассказа. Все это, вправду, походит на сказку: кому может прийти в голову снять с якоря более тысячи судов на основании россказней единственного раба? Однако можно найти доводы и в поддержку выдвинутой версии, ведь Фемистокл и впрямь был весьма хитер, персы могли оказаться легковерными хотя бы потому, что недавнюю победу у Фермопил они одержали благодаря измене всего лишь одного человека — грека Эфиальта, показавшего им обходной путь через перевал. Так или иначе, на следующее утро персидский флот снялся с якоря, вошел в пролив и оказался в ловушке. И Геродот, и Эсхил сходятся в том, что сгрудившиеся на узком пространстве корабли не могли использовать превосходство в числе и быстроходности, тогда как тяжелые греческие суда методично наносили таранные удары. Фемистокл лично принимал участие в битве, находясь на борту своего корабля, тогда как Ксеркс наблюдал за ее ходом с берега, с трона, установленного на высоком холме Эгалеос.
Но даже если история с ложной изменой не соответствует действительности, своей победой греки все равно обязаны Фемистоклу. Он создал афинский флот — цементирующее ядро эллинских морских сил. Он предложил дать бой в Саламинском проливе — единственном месте между Афинами и Пелопоннесом, где у небольшого и не слишком маневренного греческого флота имелись шансы на успех. Он заставил соотечественников поверить, что их защитят не гоплиты, а моряки, убедил афинских политиков в необходимости эвакуировать население, а союзных флотоводцев — встретить врага в афинских водах, в чем заключался единственный шанс эллинов на победу. Какова бы ни была истинная причина, побудившая персов принять дорого обошедшееся им решение войти в пролив, современники верили, что Фемистокл завлек их туда, попросту одурачив Ксеркса. И наконец, в решающий момент битвы Фемистокл лично повел в бой афинскую эскадру и, умело используя прилив, врезался во вражеский фланг, обратив персов в бегство. Короче говоря, спасение Запада было бы невозможно без Саламинской победы, которая, в свою очередь, не была бы возможна без отваги и упорства одного-единственного афинского государственного деятеля, без устали преодолевавшего сопротивление несчетного множества противников. Случись ему погибнуть, дрогнуть или не настоять на своем — и скорее всего Эллада стала бы сатрапией Персии.
Существует также и некий постскриптум к Саламину, о котором нередко забывают. Победа греков и впрямь спасла Запад в том смысле, что культура античного полиса не погибла всего через два с половиной века после своего зарождения, но не менее важной эта победа оказалась для афинской демократии и будущего демократической идеи в целом. Полтора века спустя Аристотель в труде, именуемом «Политика», указал, что ничем не выделявшийся среди прочих полис неожиданно сделался виднейшим культурным центром Эллады после того, как в нем осуществился политический эксперимент с предоставлением права голоса неимущим местным уроженцам.
Саламин был объявлен победой «морского простонародья», и на протяжении всего последующего столетия общественная значимость безземельных гребцов возрастала по мере того, как не обладавшие собственностью граждане добивались соответствия их политических прав той роли, которую они играли в обеспечении морского могущества родины. Лишь недавно допущенные к делам управления рядовые граждане сумели реорганизовать политическую систему, и вскоре их город воздвигнет Парфенон, станет финансировать авторов трагедий, и посылать триремы во все уголки Эгейского моря, и казнит Сократа. Марафон создал миф о непобедимой афинской пехоте[37], а еще более блистательная победа при Саламине превознесла роль флота. Ключевыми политическим фигурами стали такие, отнюдь не являвшиеся потомками ветеранов Марафона империалисты, как Перикл, Клеон или Алкивиад.
Неудивительно, что согласно «Законам» Платона, своенравного сторонника аристократической системы, успехи эллинов начались с Марафона и закончились Платеями, тогда как Саламин испортил их как народ. Спустя более чем столетие после этого сражения, Платон сумел разглядеть в нем поворотный пункт в развитии ранней культуры Запада. До Саламина политическая система греческих городов-государств основывалась на имущественной иерархии, и политические права были различны для разных категорий граждан. Свобода и равенство существовали отнюдь не для всех, но лишь для полноправного меньшинства, имевшего землю, образование и денежные средства. Равноправие понималось лишь как равное для всех стремление к нравственной добродетели в рамках общества, руководимого лучшими и наиболее подготовленными из граждан.
Платон, Аристотель и большинство иных выдающихся греческих мыслителей от Фукидида до Ксенофонта не случайно являлись поборниками аристократизма[38]. Скорее всего это объяснялось их способностью разглядеть опасности, внутренне присущие обществу, в котором свобода может выродиться во вседозволенность, радикальная демократия обернуться анархией, а экономический либерализм — неприкрытым грабежом. Согласно их воззрениям, без соответствующей системы ограничений и противовесов полис рисковал превратиться в сборище крайних индивидуалистов, не обладающих нравственными добродетелями и равнодушных к общественным интересам. С точки зрения консерваторов более образованные и платежеспособные граждане являлись более ответственными, а стало быть, имели преимущественное право на участие в управлении. Гоплиты, сражавшиеся под Марафоном или Платеями, защищали не только абстрактную родину, но и реальную собственность. Предполагалось, что лишь имущий гражданин, способный приобрести тяжелое вооружение, может проявить доблесть, необходимую для достижения победы.
Соответственно и полнота политических прав является естественным достоянием экономически самостоятельного субъекта, а не того, кто работает по найму или получает пособие от государства. Такие представления являлись господствующими, но гребцы Саламина изменили все за один день.
После ухода персидского флота в Эгейском море господствовали афинские триремы, авангардная роль Афин в общегреческом сопротивлении не подвергалась сомнению и афинская радикальная демократия торжествовала над идеологией старого полиса. Философы могли ненавидеть Саламин, но, так или иначе, Саламин спас Грецию, а стало быть, руководимые Фемистоклом бедняки не «испортили» дух Эллады, а открыли новые возможности.
Новый, более динамичный, интригующий и в каком-то смысле беспечный дух Запада был порожден шумным и неуправляемым афинским демосом. То, что порицали в позднейшей европейской культуре такие более поздние философы, как Гегель, Ницше или Шопенгауэр, — безоглядное стремление к равенству, приводящее к нивелировке индивидуальных особенностей, а также примитивный материализм — в определенном смысле тоже результат Саламина. Этот, по мысли Аристотеля, «несчастный случай» навсегда сделал европейскую цивилизацию тяготеющей к политической свободе и экономическому либерализму. И что бы ни говорилось о достоинствах и недостатках современной цивилизации Запада, но тенденции к укреплению демократии, всемерному расширению прав и в то же время к дальнейшему ослаблению гражданской ответственности реализуются в рамках мобильной, динамичной традиции, обязанной своим существованием давней сентябрьской победе Фемистокла.
В конце сентября 480 г. Фемистокл и афинские бедняки не только спасли от персов Грецию и нарождавшуюся западную цивилизацию, но и определили будущее того свободолюбивого, изменчивого и беспокойного общества, основные черты которого узнаваемы и по сей день.
Джосия Обер
Неудавшееся завоевание
Преждевременная кончина Александра Великого
Как-то раз историк Арнольд Тойнби выступил с рассуждением, которое приобрело определенную известность: а что, если бы Александр Великий не умер в тридцать два года, а прожил долгую жизнь[39]? Тойнби предложил представить Александра завоевывающим Китай и снаряжающим военно-морскую экспедицию, которой предстояло совершить плавание вокруг Африки. В этом случае роль лингва-франка досталась бы греческому или арамейскому языку, а буддизм сделался бы универсальной мировой религией. Дарованные судьбой дополнительные четверть века жизни предоставили бы Александру возможность создать нечто вроде Организации Объединенных Наций на античный лад и, воплотив в жизнь эту передовую идею, увидеть воочию осуществление своей мечты о Едином Мире.
Джосия Обер, руководитель отделения античной истории Принстонского университета предлагает рассмотреть прямо противоположный и куда более мрачный, чем у Тойнби, сценарий: а что, если бы жизнь Александра оборвалась гораздо раньше, когда его имени еще не сопутствовал эпитет Великий? В битве при Гранике (334 г. до н.э.) будущий покоритель половины мира оказался на волосок от гибели, и это явилось лишним подтверждением того факта, что порой ничтожная доля секунды определяет дальнейший ход истории. Гибель молодого царя спасла бы Персидское царство, а породившая будущею западную культуру блистательная эпоха эллинизма так бы никогда и не наступила. С другой стороны, представьте себе, что случившийся в 323 г. до н.э. приступ лихорадки не свел Александра в могилу. Джосия Обер считает, что страсть Александра к завоеваниям и склонность к использованию террора как политического средства, возможно, вылились бы в два десятилетия «оппортунистического хищничества», способные нанести ущерб всем культурам известного мира, включая и эллинистическую.
Перу Обера принадлежат такие труды, как «Анатомия ошибки: современная стратегия и уроки военных бедствий древности» (в соавторстве с Бари С. Страуссом) и совсем недавняя публикация «Афинская революция и политический раскол в демократических Афинах».
Входе состоявшейся в северо-западной Анатолии битвы при Гранике, первого крупного столкновения Александра Македонского с персами, молодой царь едва не расстался с жизнью. Греко-македонские войска Александра вступили в сражение с персидской армией, находившейся под совместным командованием нескольких сатрапов и включавшей в себя, помимо местной анатолийской кавалерии, отряды пеших греческих наемников. Вражеская рать заняла позиции за неглубокой, что позволяло перейти ее вброд, но имевшей крутые, обрывистые берега рекой Граник. Полководцы Александра рекомендовали проявить осторожность. В конце концов, царю было всего двадцать два года, ему еще многому предстояло учиться; а серьезная неудача в начале похода могла погубить всю кампанию прежде, чем она успела по-настоящему развернуться. Однако Александр не внял голосу благоразумия и, оседлав своего знаменитого коня по имени Буцефал (Бычья Голова), лично повел ударный отряд тяжелой кавалерии в лобовую атаку через реку и вверх по обрыву. Среди прочих воинов царь выделялся весьма приметным белым плюмажем на шлеме. Под яростным натиском персы отступили, позволив македонцам глубоко вклиниться в их ряды, что, возможно, являлось частью тактического замысла. В результате вышло так, что увлекшийся стремительным наступлением Александр с немногочисленными соратниками оказался отрезанным от основного македонского войска.
В этот критический момент битвы попавшему в окружение царю пришлось вступить в рукопашную, и некий знатный перс по имени Спифридат нанес ему тяжкий удар секирой по голове. Шлем выдержал, но наполовину оглушенный царь уже не мог сопротивляться. Второй удар наверняка оказался бы роковым и для Александра, и для затеянной им военной кампании. В эти мгновения решалась судьба Персидского царства и определялся ход истории Запада. Хотелось бы знать, промелькнула ли перед Александром в страшный миг ожидания неминуемой гибели вся его недолгая жизнь? И как могло случиться, что столь многое в судьбах мира оказалось в зависимости от одного-единственного удара?
Родившийся в 356 г. до н.э. в Македонии[40], Александр был сыном царя Филиппа II Македонского и Олимпиады из Эпира (нынешняя Албания). Впрочем, царем Филипп сделался всего за три года до рождения сына, после того как его брат царь Аминта III погиб в сражении[41]. До воцарения Филиппа Македония представляла собой небольшую, частично эллинизированную[42] страну, зажатую между могущественным Персидским царством на востоке и воинственными дунайскими племенами на севере и западе. И с той и с другой стороны исходила угроза самому существованию захолустного государства, проигрывавшего и в сравнении с южными соседями — высокоразвитыми эллинскими полисами. Во внутренней жизни господствовали полунезависимые военные вожди, признававшие слабую центральную власть лишь настолько, насколько считали это выгодным. Однако благодаря экономическим преобразованиям, дальновидной дипломатии и военно-техническим нововведениям, таким, как длинное копье-сарисса, и метательные машины, Филипп изменил положение коренным образом и в кратчайшие сроки. К тому времени, когда Александру исполнилось десять лет, Македония являлась сильнейшим государством на Балканском полуострове. Первый удар был нанесен по дунайским племенам, а затем очередь дошла и до граничивших с Македонией греческих полисов: разграбление Олинфа в 348 г. потрясло весь эллинский мир. Многие города оказались вынужденными заключить с Македонией неравноправные союзы. Даже гордые и могущественные Афины после нескольких унизительных поражений, как военного, так и дипломатического характера, согласились принять мир на македонских условиях.
Тем временем, в лице Александра царь готовил себе помощника в делах управления, а затем и преемника. Царский сын получил отменное и разностороннее воспитание: в интеллектуальной и культурной сфере его наставником был великий философ Аристотель, а в военной и политической — собственный отец, возможно виднейший полководец и государственный деятель своего времени. Необходимое правителю мрачное искусство интриг юноша осваивал в коридорах царского дворца в Пелле, благо при македонском дворе не было недостатка в кознях и заговорах, неизбежно сопутствующих соперничеству борющихся за влияние клик. Правда, в наполовину варварской стране тайное зачастую становилось явным: во время затяжных пиров, подогретые обильными возлияниями представители македонской знати вступали в открытые перебранки, а порой дело доходило и до драк. По некоторым сведениям, на одной из таких пирушек Александр повздорил и едва не сцепился с отцом.
Прерванный поход Александра
На двадцатом году жизни Александра царь Филипп пал от руки убийцы, некоего македонца по имени Павсаний, который попытался бежать, но был растерзан на месте царскими телохранителями. Разумеется, Павсаний вполне мог ненавидеть царя по каким-то личным причинам, однако современники подозревали, что он был лишь исполнителем чужой воли. Первым, самым очевидным кандидатом на роль вдохновителя этого убийства являлся Дарий III, Царь Царей Персии, властелин могущественнейшей державы, в середине четвертого века до н.э. простиравшейся от Эгейского побережья нынешней Турции до Египта на юге и современного Пакистана на востоке. К моменту убийства Филипп уже несколько лет вел приготовления ко вторжению в Персию[43], а всего за несколько месяцев до гибели царя македонцы захватили плацдарм на побережье подвластной Персии северо-западной Анатолии. Политическое убийство вполне соответствовало традициям персидской политики, и, во всяком случае, по свидетельству позднейших греческих историков, сам Александр публично обвинял в смерти отца Дария. Однако персидским царем круг подозреваемых отнюдь не исчерпывался: среди них называли и ревнивую царскую жену Олимпиаду, и даже самого честолюбивого царевича.
В любом случае сразу после смерти отца Александру пришлось действовать жестко и энергично — он должен был захватить власть и отбить у кого бы то ни было желание сомневаться в законности его воцарения. Проблема заключалось в том, что четко определенного порядка наследования престола в Македонии не существовало, и любой член правящего дома, имевший достаточно приверженцев, мог рассчитывать на успех. При воцарении Александр проявил решительность и безжалостность, характерные для всего его дальнейшего правления. Он стремительно устранил потенциальных конкурентов внутри страны, усмирил беспокойные дунайские племена, вторгнувшись на их территорию и предприняв молниеносный бросок на юг, разбил наскоро склоченную антимакедонскую коалицию греческих полисов, разрушив в назидание непокорным древний и прославленный город Фивы[44].
С первых дней владычества Александр показал себя истинным, достойным своего отца государем, однако казна Македонии оказалась пустой. Ему не оставалось ничего другого, как попытаться поправить дела, осуществив задуманное еще Филиппом вторжение в западные провинции Персии. Македонских воинов манила богатая добыча, а союзные Александру эллины были рады возможности посчитаться за давние, но не забытые обиды, нанесенные их родине во время греко-персидских войн. Переправившись через Геллеспонт, Александр принес в Трое жертвы теням гомеровских героев и продолжил путь к Гранику, где и произошло первое значительное столкновение. Которое, опустись топор Спифридата на покореженный царский шлем во второй раз, вполне могло стать и последним.
Однако смертельный удар так и не достиг цели. Перс уже занес секиру, когда воин из привилегированного отряда телохранителей, именовавшихся «товарищами» царя, некий Клит по прозвищу Черный, пронзил его копьем. Мгновенно оправившись, Александр развил стремительное наступление, которое могло закончиться его гибелью, но обернулась триумфом. Не выдержав натиска, персы бежали с поля боя, а проявившие стойкость греческие наемники в большинстве своем сложили головы. Блистательная победа (сообщалось, что потери персов составили около двадцати тысяч человек, тогда как Александр лишился всего лишь тридцати человек)[45] прославила молодого царя во всем эллинском мире. На площадях греческих городов демонстрировались захваченные в персидском стане и отосланные царем в Элладу трофеи. Александр ступил на путь, свернуть с которого его уже не могло заставить ничто. На протяжении следующего десятилетия и он сам, и его македонцы не раз продемонстрировали способность преодолевать любые препятствия, не ограничившись в своих завоеваниях пределами обширнейшего Персидского царства. Бесспорно, Персидская кампания Александра относится к числу самых впечатляющих и эффективных военных операций всех времен. К 324 г. до н. э. под властью Александра оказалась огромная территория, включавшая в себя бывшие владения Персии, Македонию, материковую Грецию и иные отдаленные земли. Сделав своей столицей Вавилон, Александр занялся внутренним устройством созданной им империи, не прекращая при этом планировать дальнейшие завоевательные походы. Однако этим планам не суждено было сбыться: в июне 323 г., спустя десять лет после победы при Гранике, великий воитель скончался от недуга, предположительно малярии, осложненного последствиями сурового образа жизни, многочисленных ранений и беспробудного пьянства[46].
Вместе с ним умерла и мечта о великой мировой державе: полководцы Александра начали кровавый дележ его наследия, завершившийся лишь при их сыновьях. Самые отдаленные северные и восточные окраины полностью выпали из сферы греко-македонского влияния; например, северо-западная Индия была официально уступлена честолюбивому радже Чандрагупта, ставшему основателем великой империи Маурья в обмен на триста боевых слонов), но многие провинции — Сирия, Палестина, большая часть Анатолии и западной Азии, на говоря уж о самой Македонии и прилегавших к ней европейских землях, хотя и превратились в независимые государства, но надолго остались под властью относительно стабильных македонских династий. А поскольку македонская правящая элита с энтузиазмом восприняла греческую культуру, весь этот обширнейший регион оказался вовлеченным в орбиту политического и культурного влияния Эллады. Александр и его преемники основали десятки городов, ставших форпостами греческой цивилизации — Александрия в Египте, Фессалоники в Македонии, Пергам в Анатолии и Антиохия в Сирии — лишь некоторые из числа самых известных. Для большей части тогдашнего цивилизованного мира греческий язык сделался международным, общепринятым языком торговли, дипломатии и науки.
Возникшая на обломках империи Александра блистательная эллинистическая цивилизация не только расширила область распространения греческого влияния, но и позволила перебросить мостик между классической Элладой и ставшим в известном смысле ее наследником императорским Римом. Эллинистические ученые собрали и систематизировали в хранилищах знаменитой Александрийской библиотеки шедевры ранней греческой словесности, а эллинистические историки сберегли память о военной и политической славе древней Эллады. Среди культурных элит всех народов получили распространение греческие философские учения, прежде всего сосредоточенные на индивидууме эпикурейство и стоицизм. Наличие общего языка в сочетании с веротерпимостью правящих классов предоставили некоторым религиозным учениям перерасти местные рамки и получить международное признание.
Открывались новые возможности, что влекло за собой примечательные демографические сдвиги. Народы перемешивались: в раскрывавшихся повсюду, словно бутоны, эллинистических городах наряду с греками и македонцами, традиционно составлявшими военный и чиновничий слой, во множестве селились евреи, финикийцы и прочие уроженцы Ближнего Востока, тогда как их древние города, включая Иерусалим, приобретали все больше космополитических и эллинистических черт. Этот мир походил на мир классической Греции наличием многих позаимствованных у полисов политических институтов и высокоразвитой урбанистической культурой, а отличался высокой степенью этнической неоднородности. Многие сирийцы, египтяне, бактрийцы из Средней Азии и прочее многоплеменное население территорий, оказавшихся под властью потомков военачальников Александра, становились все больше и больше греками по языку, образованию, литературным и эстетическим пристрастиям, даже если продолжали исповедовать религии, не имевшие с верованиями Эллады ничего общего. Эллинистический мир оказался именно той средой, в которой иудаизм смог обратить на себя внимание греческих мыслителей и приобрел некоторые из своих отчетливо «современных» особенностей. Именно этому духовному миру была адресована проповедь Иисуса из Назарета, и именно в нем сформировалось как религия христианство. Именно в эллинистическом прочтении греческая культура была унаследована римлянами и сохранена для нового открытия европейцами в эпохи Возрождения и Просвещения. Таким образом, нельзя не признать, что в той мере, в какой современная западная культура определяется «греко-римско-иудейско-христианским» наследием, она порождена миром, возникшим в итоге завоеваний Александра.
Преждевременная смерть Александра в возрасте 32-х лет вдохновила одного из лучших историков 20-го столетия Арнольда Тойнби разработать изысканную и романтическую «альтернативную историю», ставшую классическим образцом этого жанра. Постулировав неожиданное исцеление Александра от изнуряющей лихорадки, Тойнби представил его прожившим долгую и продуктивную жизнь. В течение нее разведывательным и завоевательным походам сопутствовала внедряемая повсюду продуманная система управления и великодушная социальная политика, направленная на поддержание достоинства каждого из подданных великой империи. Согласно оптимистическому сценарию Тойнби, покровительство, оказывавшееся Александром и не прерывавшееся в дальнейшем династией его потомков, культуре и научным исследованиям повлекло за собой невиданный технологический прогресс, в частности раннее изобретение паровой машины. Естественно, что военно-техническое превосходство сделало великую империю непобедимой, а Рим так и не стал для нее серьезной угрозой. С открытием исследовательской экспедицией Александра западного полушария держава превращается в воистину всемирное, государство, процветающее и благоденствующее под властью доброжелательной и просвещенной монархии. В альтернативном настоящем Тойнби на всемирном троне по сей день восседает прямой потомок Александра, подданные которого наслаждаются миром и изобилием.
Эту идиллическую картину Тойнби создал под сильным влиянием своего современника, весьма красноречивого и талантливого историка В.В. Тарна, в чьем описании Александр представал дальновидным, вдумчивым философом-протостоиком и убежденным космополитом. По мнению Тарна, завоевания являлись для Александра не самоцелью, но лишь средством достижения высокой цели — «общечеловеческого братства»[47], возникновению которого должны были способствовать всячески поощрявшиеся смешанные браки выходцев из Греции и Македонии с бывшими подданными Персидского царя. Однако позднейшие исследователи, например Э. Бадиан и А.Б. Босуорт, оспаривают подобный идеализированный взгляд, подчеркивая жестокость и неразборчивость в средствах, проявленные Александром в ходе завоеваний и сколачивания империи. С их точки зрения Александра нимало не заботило благоденствие подданных, а его путь к величию и мировому господству сопровождался зверскими убийствами. Под его умелым руководством македонцы поднаторели в массовом истреблении не столь преуспевших в военном деле народов, но никоим образом не способствовали распространению и, уж паче того, расцвету какой бы то ни было культуры. Встав на подобную точку зрения, мы можем смоделировать куда более мрачное будущее, чем Тойнби: проживи Александр еще лет тридцать, он наверняка загубил бы в ходе завоеваний еще не одну высокоразвитую азиатскую культуру. К культурному упадку следует добавить экономический, ибо бесконечные дальние походы способны истощить любые ресурсы. Таким образом, представляется вполне возможным, что, хотя эллинистический мир обязан Александру своим возникновением, он (как и его современное наследие) мог бы, сколь это ни парадоксально, и не возникнуть, окажись жизнь Александра не столь короткой. Впрочем, мы должны иметь в виду, что Александр умер молодым лишь в соответствии с представлениями нашего времени. В древности продолжительность жизни была иной, нежели в современных развитых странах: болезни и военные невзгоды сводили большинство людей в могилу куда раньше того, что теперь считается «естественным порогом старения». Исходя из сказанного, нет ничего удивительного в том, что Александр покинул этот мир, не успев поседеть. Учитывая, что он постоянно рисковал жизнью на поле боя и перенес несколько тяжелейших ранений, имел несчетное множество личных врагов, предавался пьянству и, вдобавок, провел большую часть жизни, преодолевая тысячи миль в дальних походах, удивляться следует скорее тому, как непривычный климат, антисанитария и незнакомые болезни не сгубили его до достижения вполне зрелого возраста тридцати двух лет. Пожалуй, это удалось ему лишь благодаря сочетанию потрясающей личной энергии и столь же потрясающего везения. А потому представляется более разумным задаться вопросом не «Что было бы, доведись Александру прожить лет до шестидесяти пяти?», а, скорее, «Что было бы, умри Александр в двадцать с небольшим?» Или еще конкретнее — «Что, если бы Клит не поспел на помощь и Александр сложил голову при Гранике?»
Есть основания полагать, что если Александра и вправду спасла удача, то Спифридат приблизился к нему на расстояние удара секирой отнюдь не случайно. Персы знали, что царь находится в рядах тяжелой кавалерии, а шлем с белым плюмажем резко выделял его среди прочих всадников. Персидские командиры не сомневались в том, что Александр лично возглавит наступление: греческим и македонским военачальникам обычай предписывал сражаться в первых рядах, а не прятаться за спины солдат. Кроме того, Александр был молод, затеял дерзкий поход и должен был стяжать в глазах своих воинов славу героя. Ему надлежало возглавлять атаку, и он ее возглавлял.
Благодаря урокам, извлеченным из не столь уж давнего пошлого, персы знали и то, какова мощь дисциплинированных греческих войск, и то, что смерть командира немедленно положит конец македонскому вторжению. В 401 г. до н.э. Кир, весьма даровитый и соответственно честолюбивый младший брат тогдашнего царя Персии, выступил против своего старшего брата во главе армии, костяк которой составляли 13 000 греческих наемников. В битве при Кунаксе близ Вавилона (современный Ирак) превосходно обученные эллинские гоплиты разгромили противника. Но в тот момент, когда казалось, что победа уже за ним, Кир возглавил конную атаку и глубоко вклинился во вражеские ряды. Как оказалось, слишком глубоко. В отличие от Александра ему не повезло: отрезанный от основных сил, Кир погиб, а без него, военачальника и претендента на престол, поход потерял какой-либо смысл. Около десяти тысяч уцелевших греков оказались в самом сердце враждебной страны, откуда вышли с боями, совершив воистину эпическое отступление, воспетое участником этих событий Ксенофонтом в труде, названном «Анабазис» (Восхождение). Успех гоплитов при Кунаксе, равно как и героическое отступление десяти тысяч, явились столь убедительными свидетельствами высоких боевых качеств эллинских воинов и их превосходства над азиатскими ратями, что все последующие персидские цари непременно имели в составе войска наемные греческие отряды. Но персы усвоили и другой урок: со смертью Кира угроза их государству отпала сама собой. Мы не знаем, заманили Кира в ловушку или он пал жертвой собственной бесшабашной отваги, но его история служила прекрасным примером того, как можно избавиться от молодого, честолюбивого врага, возглавляющего воистину грозное войско. Всего-то и надо выманить его подальше от основных сил, а потом спокойно прикончить. Когда голова отсечена (метафора кажется тем более уместной, учитывая выбранное Спифридатом оружие), змея более не опасна. Представим себе, что такой простой и разумный план «изоляции и устранения командира» увенчался успехом, что едва было не случилось при Гранике. Погибни Александр тогда, а не спустя целое десятилетие, история человечества выглядела бы совсем по-иному...
Второй удар секиры оказался роковым: Александр пал мертвым, с рассеченным черепом. Подоспевший Клит смог лишь отомстить убийце за своего царя, над телом которого разразилась ожесточенная схватка. В конце концов македонцам удалось отбросить врага, но они понесли большие потери, тогда как основные силы персов остались практически нетронутыми. Кроме того, молодой и энергичный царь Дарий, стяжавший теперь славу победителя, собирал под свои знамена огромную армию. С прибытием его в западную Анатолию все победы, одержанные ранее македонцами над местными правителями, оказались бы напрасными. Флотоводцы Дария уже готовились перенести войну в Грецию. Македонские военачальники не могли скрывать факт гибели царя бесконечно, а едва достигнув Эллады и Македонии, это известие неизбежно породило бы смуты. Все обещало, что македонская знать надолго втянется в борьбу за освободившийся престол, а греческие полисы поведут сложную и привычную дипломатическую игру, поддерживая тех или иных претендентов. В этих условиях собравшийся после битвы при Гранике совет македонских полководцев мог принять только одно решение: поход, в силу его полной бесперспективности, прекратить и отступить как можно скорее, пока есть возможность унести не только ноги, но и добычу. Схватка вокруг престола означала конец краткого, порожденного политическим гением Филиппа «Золотого века» Македонии и возвращение страны к прежнему состоянию, когда слабые, обладавшие лишь тенью власти цари оказывались в зависимости попеременно то у персов, то у греков, то у дунайских племен, то у собственной знати.
Зато для Персии начался длительный период относительного процветания: проявив дипломатический талант, Дарий предоставил улаживать дела с греками эллинизированным западным сатрапам, в чем они и преуспели.
По мере оживления выгодной торговли между Грецией, Анатолией, Ближним Востоком и даже отдаленными окраинами Персидской державы у кого бы то ни было в материковой Греции оставалось все меньше оснований полагать, будто греческие города западной Анатолии ждут не дождутся «избавления от персидского ига», и западным персидским сатрапиям больше не приходилось опасаться военных авантюр с участием закованных в бронзу гоплитов. Персидские цари придерживались традиционной и успешной (поскольку она помогала обходиться без дорогостоящих карательных экспедиций против племен, отличавшихся особой щепетильностью по части чистоты веры) политики религиозной терпимости, но культ Ахура-Мазды, Бога Света и Истины, и представление о мире как арене вечной борьбы последнего с силами Мрака и Лжи приобретал все больше приверженцев среди представителей правящих слоев многонационального государства. Он создал культурное пространство, помогавшее цементировать страну наряду с консервативной военной политикой и эффективной системой налогообложения.
В материковой Греции сложившаяся политическая ситуация более всего благоприятствовала Афинам, ибо оба ее традиционных соперника оказались выведенными из игры: Фивы разрушил Александр, а Спарта еще не оправилась от сокрушительного поражения, нанесенного ей фиванцами в 371 г., и последовавшего за этим освобождения спартанских илотов в Мессинии. Поскольку погрязшая в распрях Македония пребывала в состоянии, близком к коллапсу, Афины восстановили статус сильнейшей военной державы материковой Эллады, а афинский флот стал мощнее, чем даже в середине V века до н.э., в «Золотой век» Перикла. Правда, в новых обстоятельствах афиняне не видели особого смысла в военных авантюрах, направленных на сколачивание империи. Демократический полис оказался способным процветать в роли крупнейшего международного порта и торгового центра, не навязывая соседям своего господства. Поскольку афинские корабли патрулировали Эгейское море, пиратство было сведено к минимуму. Неплохие взаимоотношения между Афинами и западными сатрапиями Персии создали идеальные условия для роста взаимовыгодной торговли. Вовлечение все более широких кругов населения в коммерческую деятельность сопровождалось усилением демократических тенденций: с одной стороны, иностранцы в Афинах получали больше прав, а с другой, самые преуспевающие из них все чаще становились афинскими гражданами. Афины, и без того бывшие культурной Меккой, упрочили свое значение как неоспоримого центра интеллектуальной и культурной жизни, именно туда стекались со всей Эллады философы, ученые, художники и поэты.
Одновременный рост налоговых поступлений и числа полноправных граждан повлек за собой стремление расширить сферу политического влияния полиса в хорошо знакомом грекам западном Средиземноморье: в Италии, на Сицилии, в южной Галлии и Северной Африке. Однако, предприняв в конце V века попытку вернуть контроль над Сицилией, афиняне столкнулись с серьезным противодействием. Находившийся в северной Африке (близ современного Туниса) богатый и могущественный финикийский город Карфаген, являвшийся по существу центром торговой империи, давно и прочно монополизировал морскую торговлю в западном Средиземноморье. Свои притязания он подкреплял внушительным военно-морским присутствием. Напряженность между афинскими и карфагенскими купцами в конечном итоге вылилась в открытое столкновение между двумя великими морскими державами. Разразилась долгая, разорительная война, в которой ни одной из сторон не удавалось добиться решающего преимущества. В обоих государствах имелось достаточно патриотически настроенных, заинтересованных в победе граждан, из которых вербовались моряки и солдаты, оба. располагали внушительными финансовыми средствами, а стало быть, возможностью пополнить свои силы за счет наемников. В морских операциях погибли десятки тысяч человек, причем внезапные средиземноморские шторма, заставая гребные суда вдалеке от гаваней, уносили больше жизней, чем вооруженные столкновения.
Театр боевых действий расширялся: постепенно в войну на той или другой стороне втягивались другие полисы, прежде всего располагавшиеся на Сицилии и в южной Италии. По мере того как Афины и Карфаген все больше истощали свои ресурсы в этой ожесточенной и бесполезной схватке, торговлю постепенно перехватывали в свои руки негреческие, финикийские и латинские, города. С расширением конфликта ширилась и сфера альтернативной торговли: новые, поступавшие из внутренней Азии, Египта и Европы товары оказывали влияние на вкусы, и со временем в архитектуре, словесности и декоративно-прикладном искусстве перестали доминировать эллинистические мотивы. А на большей части Запада греческая культура так по-настоящему и не привилась.
Взаимное ослабление Карфагена и западных греческих полисов способствовало возвышению Рима. Являвшийся в момент гибели Александра при Гранике политическим центром не более чем регионального значения, он расширил свое влияние путем создания центрально-итальянского оборонительного союза и, обретя достаточный военный и экономический вес, принял участие в конфликте, выступив якобы на стороне Карфагена. Результатом стало быстрое поглощение сначала материковой Италии, затем Сицилии, а там и самого Карфагена стремительно расширявшейся и превращавшейся в подлинную империю Римской Конфедерацией. Временный союз с Афинами и материковой Грецией оказался эфемерным: вскоре римляне нашли предлог для вторжения в Грецию, а ослабление Афин в ходе продолжавшегося на протяжении жизни двух поколений военного противостояния гарантировало им победу. Правда, упорство афинян, не желавших сдаваться даже после длительной осады, вывело римлян из себя. Когда в городской стене удалось проломить брешь, учинили страшную резню и сожгли город. Вместе с Афинами погибла великая греческая культура: от эллинской философии и науки, поэзии и драматургии сохранились лишь случайные, жалкие обрывки. Эллинскому миру уже не суждено было вернуть себе ни экономическое, ни культурное главенство: уцелевшие полисы находились под политическим контролем Рима, а римляне, в подавляющем своем большинстве, не испытывали к эллинскому культурному наследию ни малейшего почтения. «Греческие штудии» представляли собой не более чем периферийный раздел римской исторической науки, привлекавший исследователей, склонных к экзотике и мистицизму. Завоевав Грецию, римляне вышли к рубежам Персидского царства, однако продолжавшийся на протяжении жизни поколения конфликт между великими державами не привел к радикальному переделу мира. Хотя Риму удалось захватить Египет и тем самым окончательно утвердить свое господство с северной Африке, они поняли, что не располагают достаточными людскими ресурсами для того, чтобы одновременно держать под контролем обширные владения на западе и вести эффективную крупномасштабную войну на востоке[48]. Персы, со своей стороны, от активной экспансии на запад отказались уже давно, ибо их продвижение в центральную Азию само по себе являлось нелегкой задачей. Кроме того, в ходе затянувшихся дипломатических переговорах правящие элиты обеих стран обнаружили, что между римской и персидской аристократией немало общего. Обе культуры сходились в огромном уважении к традиции и к власти, обе были весьма патриархальны, ориентированы на долг и предков. Римлянам пришелся по вкусу культ Ахура-Мазды: дуалистическое восприятие мироздания как арены борьбы сил добра и зла вполне соответствовало их воззрениям, а потому для них не составило труда интегрировать Ахура-Мазду в эклектический пантеон, унаследованный от этрусков. Персы, со своей стороны, нашли, что принятие некоторых аспектов римской военной организации помогает упрочить влияние на восточные провинции. Смешанные браки между представителями персидской и римской знати стали обычным делом, что способствовало не просто сближению культур, но и постепенному стиранию различий между ними.
Итак, мы видим относительно стабильный, биполярный мир, в рамках которого при всем почти бесконечном многообразии верований и культур не было (к лучшему или к худшему, это другой вопрос) места гегемонии какой-либо «доминирующей» или «канонической» культуры. А стало быть, не могло возникнуть ни Ренессанса, ни Просвещения, ни «современности». Сама концепция «Западного Мира» как совокупность четко определяемых, хотя всегда оспариваемых и часто неверно трактуемых, культурных, политических и этических идеалов никогда бы не зародилась.
Возможные вспышки религиозного энтузиазма не имели шансов перерасти региональные рамки хотя бы потому, что латынь на западе и арамейский на востоке являлись лишь языками администрации, и ни одно наречие не стало универсальным средством межкультурного общения. Купцам неизбежно приходилось выучивать по несколько языков, но в большинстве своем люди обходились местными языками, жили по местным обычаям, чтили местные божества, пересказывали местные предания и мыслили местными категориями. Связь с одной из великих империй, подданными которой они являлись, ограничивалась уплатой податей да нерегулярной военной службой. Особенности различных культур могли представлять интерес для поддерживаемых государством ученых, ставивших своей целью собирание и систематизацию знаний о мире, но таких было немного, и оба правительства финансировали их исследования лишь постольку, поскольку результаты оных могли порой способствовать решению проблем сбора налогов и поддержания порядка.
* * *
Таким образом, случись спешившему на выручку своему царю Клиту споткнуться или поскользнуться, мы жили бы в мире, весьма отличном от нынешнего в геополитическом, культурном и религиозном аспектах. Мне представляется, что в этом мире ценности, выработанные эллинскими полисами, уступили бы место некоему смешению римских и персидских идей. Основной религиозной концепцией стал бы отчетливый дуализм, почерпнутый из культа Ахура-Мазды, а этика космополитической элиты, правившей в условиях многообразной мозаики культур, вместо греческого уважения к свободе, политическому равенству и достоинству личности базировалась бы на почтении к ритуалу, традициям, предкам и социальной иерархии. И все это потому, что в истории не было блистательного и длительного эллинистического периода и широкий мир не оказался интегрированным в греческую культурную и языковую сферу.
Без сильного влияния греческой философии, с одной стороны, и издержек дурного римского управления Иудеей—с другой, иудаизм так и остался бы локальным явлением. При продолжавшемся персидском правлении не было бы ни великого восстания Маккавеев, ни Греческой Библии, ни яростного разрушения римлянами Второго Храма, ни соответственно великой еврейской диаспоры. Иисус из Назарета, даже не предпочти он проповедям плотницкое ремесло, остался бы религиозным деятелем местного масштаба. Новый Завет, вне зависимости от его содержания, не будучи написан на международном греческом языке, не смог бы получить международную известность. В свою очередь без широкого распространения библейских текстов культурная среда, взрастившая Мохаммеда, была бы совершено иной, а стало быть, даже в случае возникновения на Аравийском полуострове новой религии, она ничуть не походила бы на классический ислам и едва ли оказалась бы способной генерировать ту примечательную культурную и военную энергию, что ассоциируется у нас с понятием «джихад». Да и само понятие «культура», оставаясь преимущественно местным и не тяготея к универсальности, имело бы совершенно иное значение.
По иронии истории ценности, ставшие основополагающими в нашем мире, как мне представляется, благодаря удаче, сопутствовавшей Александру при Гранике, едва ли восхитили бы Клита Черного. Как закоренелый македонский консерватор, презирающий нововведения, он, пожалуй, с большим одобрением воспринял бы описанный выше альтернативный римско-персидский мир. Но и мир, обязанный своим возникновением удару его копья, Клиту увидеть не довелось: спустя семь лет после того, как он спас своего царя, этот самый царь в пьяной ссоре пронзил его своим копьем. Еще большую иронию можно усмотреть в том, что спор их разгорелся как раз вокруг альтернативных сценариев будущего. Клит полагал, что македонцам должно держаться исконных обычаев и не перенимать ничего у побежденных народов, тогда как стремившийся объединить всех своих подданных и увеличить необходимые для дальнейших завоеваний людские ресурсы Александр был не прочь перенять персидский придворный ритуал и приучить недавних врагов, персов и своих македонских ветеранов, сражаться бок о бок. Но ни македонский традиционализм Клита, ни стремление создать унитарную мировую державу и безудержный имперский империализм Александра не имеют прямого отношения к реальному новому миру, возникшему после весьма своевременной кончины Александра, последовавшей в возрасте тридцати двух лет, в Вавилоне, в июне 323 г. до н.э.
Льюис X. Лэпхэм
Furor Teutonicus.
Тевтобургский лес, 9 г. н. э.
В начале первого века нашей эры Римская империя пребывала в цветущем состоянии, а сам город Рим являлся не только средоточием мощи, но и предметом завистливого восхищения всего известного мира. По словам видной исследовательницы античности Эдит Гамильтон, «император Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) получил Рим кирпичным и оставил его мраморным»[49]. В тот период очередным объектом Римской экспансии была обширная, дикая земля за Рейном, именовавшаяся Германией. В 9 году н. э., после двадцати двух лет[50] традиционных по отношению к варварским народам действий по умиротворению, сближению и приобщению к цивилизации, Рим потерпел поражение, от которого так и не смог оправитъся. В Тевтобургском лесу племена во главе с вождем по имени Арминий захватили врасплох и уничтожили три римских легиона — 15 000 воинов, не считая тех, кто следовал за лагерем. Арминий приказал пригвоздить головы убитых к деревьям, известие о чем произвело в Риме должное впечатление. Силе противопоставили силу. Империя отступила за Рейн и, за исключением незначительных вылазок, оставила Германию в покое.
Теперь, спустя почти два тысячелетия, нам остается только гадать, какой могла бы стать романизированная Германия. Что, если бы она не превратилась на столетия в одну из последних в Европе зону не только политического, но и духовного отчуждения от Римского мира, от чего потомки Арминия (названного впоследствии Германом) так до конца и не отступились? Что, если бы Арминий вошел в историю не легендарным героем, а всего лишь одним из местных правителей? Что,если бы Римская империя с ее храмами, амфитеатрами и системой права расширилась до Вислы?[51] Неужели в этом случае Европе не пришлось бы столкнуться с болезненным и тяжелым «германским вопросом»?
В приведенной ниже работе подобные возможности рассматриваются Льюисом X. Лэпхэмом, издателем журнала «Харпер», лауреата Национальной премии за эссе, которые сравнивают с трудами X.А. Менкена и Монтеня. Он является автором восьми книг, включая недавно опубликованные «Лгония Маммоны» и «Правила влияния», а также известным лектором и телевизионный ведущим.
Вы можете не интересоваться войной, зато война интересуется вами.
Лев Троцкий
В первое десятилетие новой эры, еще не получившей название христианской, Цезаря Августа больше интересовали военные донесения из Майнца, чем сообщения о чудесах в Вифлееме. На протяжении почти тридцати лет его правления в качестве принцепса[52], подведшего итог существования Римской республики и столетия гражданских войн, авгуры со всех четырех сторон света видели лишь благополучные предзнаменования. Спокойствие в Египте, мир в Африке и Испании, умиротворение Парфии, цветение виноградников в Аквитании — и ни тени возмущения на безоблачном горизонте Средиземноморского мира.
Разумеется, помимо Германии. Август не был знаком с «Песнью о Нибелунгах» или со знаками отличия Тысячелетнего Рейха — но, командуя войсками в диком краю к востоку от Рейна, он столкнулся с германскими племенами, известными его легионерам под собирательным названием Furor Teutonicus[53] — ордой непременно враждебных и преимущественно пьяных суеверных варваров, поклонявшихся лошадям и лунному свету, учитывавших в своих примитивных календарях не дни, а ночи и рыскавших в снегу и тумане, подобно волкам.
Резонно предположив, что рано или поздно одному из предводителей придет в голову повернуть свои подводы на юг, Август решил предотвратить подобный поворот событий путем расширения границ империи на север до Эльбы, а на восток до Вислы и Балтийского моря[54]. Это предполагалось осуществить силой оружия, подкрепленной демонстрацией превосходства римского образа жизни путем строительства акведуков и разведения яблоневых садов. Готов и иже с ними ждала судьба покоренных Цезарем галлов: им предстояло стать усмиренной чернью подвластных Риму земель, «живущей в изобилии и привычной к поражениям».
Эти надежды отнюдь не следует считать чрезмерно оптимистичными. В I веке н. э. власть Рима не имела соперников. Никто не дерзал противиться воле государства, включавшего в себя, по выражению Эдуарда Гиббона, «самую прекрасную часть земли и самую цивилизованную часть человечества» — покорные провинции, «объединенные законами и украшенные искусствами», дороги, прямыми линиями сбегавшие от Атлантического океана к Евфрату, границы, защищаемые «духом народа, не ведающего страха и не терпящего покоя». Сумей Август добиться успеха в осуществлении своего Германского проекта, последующие два тысячелетия Европейской истории выглядели бы совсем по-иному. Римская империя не пришла к падению, распятие Христа осталось никем не замеченным, английский язык, равно как условия для протестантской реформации, так и не сформировался, Фридрих Великий стал бы циркачом, а кайзер Вильгельм не страстным поклонником всего военного, а коллекционером марок или любителем водяных жуков.
К умиротворению Германии римляне приступили в 13 г. до н.э., и началось оно с того, что Тиберий, приемный сын и наследник императора, перешел со своими легионами через Альпы, вступив в Австрию, нижний Вюртемберг и Тироль[55]. В Кельне появился храм Юпитера[56], в устьях рек появились оборонительные сооружения, запиравшие германские земли со стороны Северного Моря.
Виднейшие варварские вожди получали римское гражданство, их воинственный нрав смягчался музыкой флейт, их подозрительность смягчалась дарами в виде шелков и золота, их сыновья учились говорить на латыни и скреплять плащи вместо колючек драгоценными брошами. На протяжении двадцати лет все дальше на востоке, вплоть до лесов Вестфалии, возникали новые римские поселения.
Но в 6 г. в провинции Иллирия (на нынешних Балканах) вспыхнул кровопролитный мятеж, и Тиберий выступил из Трира, дабы покарать самонадеянных варваров. Жестокий урок продолжался целых три года, а продолжать в это время дело приручения германцев Август поручил Публию Квинтилию Вару. План действий был вполне разумным, но его реализацию император доверил не тому человеку. Пятидесятипятилетний Вар добился высокого положения исключительно благодаря браку с племянницей императора. Ему довелось послужить проконсулом в Африке и легатом в Сирии, но, будучи типичным придворным карьеристом — лицемерным, алчным, праздным и тщеславным, — он ничего не смыслил в военном деле, всецело полагаясь на подчиненных.
Вар, в качестве наместника Германии к востоку от Рейна получивший под свое начало три отборных легиона, прибыл из Италии и приступил к своим обязанностям, пребывая в уверенности, что его войско непобедимо, а варвары сломлены и покорны воле Рима. Увы, оба эти предположения не соответствовали действительности. Вар, о котором впоследствии скажут, что «его умственный взор ослепил рок», предпочитал закрывать глаза на факты, казавшиеся ему неприятными или неудобными. Свою задачу он рассматривал как сугубо административную, пребывая в уверенности, что Август, любимый и заботливый дядя его жены, не стал бы возлагать на него сложное, а уж паче того опасное поручение. Рассматривая германские племена в качестве с легкостью добываемых рабов, а не с трудом приобретаемых союзников, он взвалил на них тяжкое бремя налогов[57], нимало не сомневаясь, что они будут любить его, как мудрого и строгого отца.
Среди служивших под его началом знатных германцев Вар особенно доверял вождю херусков Арминию, участнику Иллирийской кампании Тиберия и ценителю поэзии Горация. И завзятому лицемеру, в преданности которого недальновидный Вар не испытывал ни малейших сомнений. Всячески выпячивая свою приверженность всему римскому, Арминий втайне готовил постановку своего, отнюдь не оперного варианта «Гибели богов».
Германия во времена Римской империи
Битва в Тевтобургском лесу, 9 г. н.э.
Удобный случай представился осенью 9 года. В это время Вар повел свои три легиона (15 000 солдат, сопровождаемых десятью тысячами рабов, женщин, детей и тому подобного народа, не представлявшего собой вооруженной силы) из летних лагерей близ Миндена на зимние квартиры, находившиеся где-то западнее, видимо неподалеку от современного города Хальтерн. Арминий выдал маршрут движения римлян разделявшим его тайную ненависть к империи херускам, которых поддержали придерживавшиеся того же образа мыслей племена хатты и бруктеры. Орда вопящих варваров обрушилась на растянувшуюся римскую колонну на полпути меж двумя опорными пунктами, в холмистом, изрезанном оврагами Тевтобургском лесу.
Историки и по сей день спорят относительно точного места этой кровавой расправы, ссылаясь на скудные письменные, археологические и топонимические свидетельства (старые рукописи, найденные во мху римские монеты и фрагменты военного снаряжения, а также географические названия «Кнокенбан» — Улица Костей или «Мордкассель» — Котел Смерти). Одни историки считают, что нападение произошло в верховьях реки Эмс, другие называют реки Липпе и Везер, но все сходятся в одном: римляне гибли, как загнанный на бойню скот. Сложный рельеф — путь пролегал по узким лощинам между крутыми склонами — грязь под ногами и густые заросли не позволили легионерам использовать свое преимущество в тактике и вооружении. Носившие тяжелые метательные копья и короткие испанские мечи, позволявшие в рукопашной косить врагов как пшеницу, римляне были обучены сражаться строем, в открытом поле, а в густых зарослях растянувшаяся на девять миль, отягощенная огромным обозом колонна так и не смогла сформировать боевые порядки. Варвары напали на римлян в сумерках, принявшись метать копья с холмов и скал. Под непрекращавшимся холодным дождем они три дня и три ночи методично истребляли римское войско, пока не уничтожили его полностью. Вар покончил с собой. Так же поступили и другие римские командиры, знавшие об обычае херусков живьем прибивать пленных врагов к стволам священных дубов.
Голову Вара Арминий послал богемскому варварскому царьку Марободу[58], а тот, из собственных дипломатических соображений, переслал ее в Рим, Августу, на которого это произвело сильное впечатление. Как пишет Дион Кассий, император «в великой горести разорвал свои одежды», а Гиббон со свойственной ему иронией добавляет, что «...Август отнюдь не проявил избытка твердости и самообладания, каких можно ждать, зная его нрав».
Охвативший город страх перед варварским нашествием породил множество странных, пугающих слухов — толковали, будто одна из Альпийских вершин упала в огненное озеро, в храм Марса ударила молния. На северном небосклоне видели множество зловещих комет и метеоров, стоявшая на перекрестке, указывая в сторону Германии, статуя Победы непостижимым образом развернулась в противоположном направлении, к Италии. По свидетельству Светония, император устроил великолепные игры в знак благодарности Юпитеру Лучшему и Величайшему за то, что германцы не появились на Палатине и Капитолийском холме[59]. Объявив день смерти Вара днем национального траура, Август долгие месяцы не стриг волос и бороды, и историки сообщают, что до самой его смерти, последовавшей в 14 г. н. э., люди порой видели, как он мечется по дворцу, бьется головой о стены и тонким, старческим голосом восклицает «Квинтилий Вар, верни мне мои легионы!»
Сделавшись из-за поражения в Тевтобургском лесу объектом насмешек, Август отказался от намерения цивилизовать дикую Германию, а своему преемнику Тиберию завещал проводить благоразумную и осторожную политику: «Довольствуйся существующим положением и, не колеблясь, подавляй всякое желание расширить пределы империи».
В целом Тиберий следовал этому наставлению, однако в 15 году позволил своему племяннику Германику предпринять карательную экспедицию против херусков. Германик сжег немало полей и языческих капищ, перебил множество варваров, правда не столько воинов, сколько застигнутых врасплох женщин и детей, и в мрачном лесу, где-то между реками Липпе и Эмс, наткнулся на так и оставшиеся не погребенными останки товарищей по оружию. Тацит в своих «Анналах» пишет о людских и конских скелетах, громоздившихся там, где легионеры полегли, пытаясь организовать отпор, и о черепах, прибитых к деревьям. В результате римляне вернули двух или трех золотых орлов, принадлежавших легионам Вара[60], но навязать Арминию решающее сражение и разгромить его так и не смогли. По возвращению войска из похода в 16 г. н. э. Тиберий принял решение установить северную границу империи по углу, образуемому Дунаем и верхним Рейном.
С уходом римлян Furor Teutonicus остались без амфитеатров, но копий, чтобы драться, и песен, чтобы распевать, напившись допьяна, им хватало. Арминий, более известный среди своих под именем Герман, стал для германцев героем, а затем и легендой. В этом отношении с ними солидарен Тацит, считающий, что Арминий «...был, бесспорно, освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари или вожди, но в пору высшего расцвета его могущества <...> у варварских племен его воспевают и посейчас»[61]. При этом то, что Арминию так и не удалось объединить в деле освобождения Германии все северные племена, и даже то, что в 21 г. в возрасте тридцати восьми лет он, из-за стремления к единоличной власти, был убит соплеменниками, не имело значения. Потомки простили ему все ошибки и неудачи за смелый вызов, брошенный могуществу и властолюбию Рима, причем не только в Тевтобургском лесу, но и в боях с легионами Тиберия и Германика. Память о нем была освящена пролитой вражьей кровью.
Тацит, писавший свои исторические труды в правление Траяна, придерживался весьма невысокого мнения о многих преемниках Августа, а потому несколько идеализировал варварского вождя, приписывая ему те положительные качества (простоту, верность, свободолюбие), которые хотел противопоставить порочности и моральному упадку времен Калигулы, Нерона и Домициана. «Никто в Германии,— писал он,— не находит порок привлекательным и не называет его "современным", дабы искушать или поддаваться искушению. В своей "Германии" историк развивает эту тему, одобрительно высказываясь о присущих саксонским племенам[62] самодостаточности, умению преодолевать трудности и довольствоваться малым и, признавая их силу и мужество, высказывает надежду, что они «сохранят если не любовь к нам, то хотя бы ненависть друг к другу, ибо пока судьба империи увлекает нас дальше, фортуна не может преподнести нам лучшего подарка, чем разногласия среди наших врагов».
Что же до последующих поколений германцев, то они разукрасили эту историю тяжеловесным орнаментом тевтонского мифа. На протяжении третьего и четвертого веков нашей эры имя и торжество Арминия символизировали доблесть варваров, хлынувших на юг после упадка Рима. В восьмом веке Тевтобургская победа ассоциировалась со славой Карла Великого, в двенадцатом с завоеваниями Фридриха Барбароссы, хронисты зрелого и позднего Средневековья расширили этот комплиментарный список, включив в него династии Габсбургов, Виттельсбахов и Гогенцоллернов. В представлении немцев конца XVIII века Герман пировал с Зигфридом в чертогах Валхаллы, а в начале XIX века, на яростной волне немецкого романтизма, жители ничем не примечательного городка Детмольда проголосовали за водружение на вершине самого высокого в Тевтобургском лесу холма колоссальной статуи Германа. Никто не ведал, в каком именно месте встретил свою кончину Вар, но поскольку это вполне вероятно случилось неподалеку от Детмольда, городской совет задумал воистину циклопическое, общей высотой в 2000 футов, сооружение — изваяние героя с воздетым мечом на постаменте с вырезанными из живых дубов готическими колоннами. Предполагалось, что его будет видно с расстояния в 60 миль.
Грандиозная затея провалилась из-за нехватки средств, но идея, не нашедшая воплощения в бронзе, осуществилась в трудах ряда историков конца XIX века, представлявших различные течения европейского национализма, причем не только немецких, но также английских и даже французских. Леопольд фон Ранке видел в доблести Германа одно из первейших доказательств превосходства истинных арийцев (крепких голубоглазых блондинов с отличной кожей), противостоявших натиску представителей неполноценных рас, которых свела вместе под римскими орлами алчность и тяга к постыдной роскоши. Некоторые французские интеллектуалы ухитрились отыскать в лесах древней Германии корни Ньютоновой теории, а известный в Викторианскую эпоху историк-оратор сэр Эдвард Кризи считал Арминия достойным воздвижения ему памятника на Трафальгарской площади. В своем труде «Пятнадцать решающих битв мировой истории» он писал: «Окажись Арминий бездеятельным или неудачливым, наш остров никогда не носил бы имя Англия».
Эта, увидевшая свет в 1852 г., книга получила весьма благоприятные отзывы, и два последующих поколения британских и американских историков (включая Тедди Рузвельта) разделяли представление Кризи о Римской империи как упадочническом государстве «коррумпированных итальянцев», вполне заслужившем поражение от рук чистокровных англо-саксов, примечательных своей «отвагой, верностью слову, мужественной гордостью духа, исконно германским свободолюбием и полнейшим презрением ко всякого рода скверне». Рихард Вагнер воплотил эти мысли в музыке, американские пионеры имели их в виду, наступая на запад и изгоняя из прерий сиу, а правители нацистской Германии, основываясь на них, создали Освенцим.
* * *
А ведь если представить себе, что осенью девятого года обстоятельства сложились бы по-иному (не шел дождь, Вар оказался превосходным военачальником или Арминий отказался от своих воинственных планов, перечитав «Георгики» Вергилия), то может быть Гитлер не отплясывал бы победную джигу весной 1940. Возможно, мы лишились бы лютеранской Библии, но зато не познакомились бы и с гестаповской униформой. Во времена Августа Furor Teutonicus еще не освоили премудрость письма, но случись императору увидеть готические знаки на колонне романского перистиля, он наверное догадался бы об их возможном значении. Германию за Рейном Август рассматривал как некую антитезу цивилизации, пустыню, «не пригодную для возделывания и унылую для созерцания», и хотя ни в коей мере не имел склонности к республиканским идеям и демократическим сантиментам, он понимал, в чем польза поэтов, фиктивность власти и слава пчел. «Завоевывая землю, — писал Сенека, — римлянин на ней поселяется». Если бы Августу удалось насадить сады вплоть до Берлина, расширившаяся и усилившаяся таким образом империя в будущем, возможно, дала бы отпор монголам, Москва стала бы столь же свободной, как Рим, а эквивалент ЕВРО появился на несколько веков раньше.
Спустя девять столетий после крушения империи Западная Европа вступила на путь Возрождения, заново открыв для себя латинскую литературу — речи Цицерона, стихи Вергилия, исторические труды Тацита и Тита Ливия, «Метаморфозы» Овидия, эпиграммы Марциала. Первые переводы появляются в Италии, Франции и Англии, еще хранивших память о империи, но никак не в Германии или землях к востоку от Вислы. Лишь спустя триста лет классическая ученость получает распространение при просвещенных дворах Саксонии и Бранденбурга. Возможно, в этой задержке коренится германское непонимание имперской идеи (ее природы и цели, различия между дипломатией и блицкригом), предоставившее двадцатому веку casus belli для двух мировых войн.
Предположительное завоевание Германии Римом в I — II веках, конечно же, может на целый семестр обеспечить множество историков материалом для построения всяческих умозрительных моделей возможного будущего. Это допущение предоставляет профессорам возможность вести дискуссии о предпочтительности, где в качестве фигур на игровой доске против Бисмарка и нацистов выдвигаются рисунки Дюрера или кантаты Иоганна Себастьяна Баха. Правда, я склонен предположить, что, хотя сопоставить относительную ценность лирики Шиллера и артиллерии Гинденбурга весьма затруднительно, большинство участников такого спора должно предпочесть торжественное спокойствие империй буйству непокорных провинций. Гиббон опубликовал свою историю упадка и крушения Рима в 1776 г., как раз в то время, когда американские колонии объявили себя не зависимыми от британской короны. Эпоха Просвещения близилась к концу, и в следующие полвека всплеск революционного романтизма дал о себе знать повсюду — от Франции и Германии до Бразилии и Мексики. Новое представление о свободе породило убеждение в том, что самосознание дает самому маленькому народу право на самоопределение. Версальский договор по сути вверил управление Иллирией некомпетентным вождям балканских племен, и мне нетрудно представить Гиббона и Августа, сравнивающими недальновидность Вудро Вильсона с близорукостью Публия Квинтилия Вара. Во всяком случае, нечто сходное сквозит в писаниях современных авторов, которые при анализе международных отношений сетуют на отсутствие «транснациональных институтов», способных разрешать мировые проблемы с невозмутимостью старой Римской империи. Столкнувшиеся с хаосом нерегулируемых рынков капитала (или, положим, с преступными режимами и ренегатскими идеологиями, войной в Африке, мятежами в Иудее, тиранией в Парфии, контрабандой кокаина через границу близ Халкидона и тотальным загрязнением Средиземного моря), они модернизируют мечты о Гиббоновом «верховном магистрате, который благодаря прогрессу знания и лести постепенно обрел утонченные совершенства Извечного Прародителя и Всемогущего Монарха». Август с удовольствием предоставил бы им аудиторию.
Комментарии к первой части
Стремление авторов везде отыскивать зародыши современной западной цивилизации, культуры и демократии поначалу просто вызывает усмешку. В конце концов, на массу сражений, в которых культурный и прогрессивный полководец победил деспотичного царька, можно отыскать массу других битв, в которых деспот одержал победу, а «носитель культуры» благополучно почил в бозе. Но непреложный исторический закон гласит: победитель всегда разумнее, культурнее, благороднее и прогрессивнее побежденного — как-никак, историю пишет именно он.
Впрочем, нельзя не отметить, что понимание культуры и демократии у современных американских историков носит очень своеобразный характер. Затем, становясь все более навязчивым, оно начинает раздражать. «Древняя Греция являлась средиземноморской страной лишь по природным условиям, тогда как духовные ценности ее жителей совершенно не совпадали с таковыми их соседей»,— пишет Виктор Хансон. Странное утверждение, однако попытаемся принять его на веру. Но не тут-то было: через несколько абзацев автор той же статьи начинает рассказывать о том, как эллинистическая культура всюду, где проникали греческие торговцы или колонисты, начинала вытеснять местную.
Но ведь так не бывает! Либо культура одного народа изначально чужда другому — и тогда непонимание переходит в отторжение или даже враждебность. Либо перенимание этой культуры осуществляется в огромных масштабах — но это свидетельствует о том, что она не была настолько уж чужда изначально.
Дальше — больше. И вот уже мы сталкиваемся с фразой, которая сразу же многое объясняет. «Новые колонии снабжали Элладу рабами и деньгами».
Конечно же, ужасаться этому бессмысленно — рабовладение и работорговля были нормальными, обыденными и легитимизированными институтами античного общества. И не только античного — к примеру, в самих Соединенных Штатах рабовладение законодательно отменили только в 1863 году. Но ведь нам-то твердят не об античности, а о сохранении непреходящих ценностей западной цивилизации!
Поневоле возникает подозрение, что настоящим идеалам современного Запада является тот самый мир, описанный в путешествии Саши Привалова, где «устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи... все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов...»
Приложение 1.
Армии Античности
Краткий обзор
В этом обзоре освещается развитие организационной структуры, системы комплектования и положения в социальной структуре общества армий классической древности — от архаического периода в Древней Греции до падения Западной Римской империи. Обзор отнюдь не претендует на статус самостоятельного научного исследования, являясь скорее развернутой энциклопедической статьей. Для лучшей ориентации читателя в конце дан список опубликованных в России источников (по счастью, в последние годы ситуация с их доступностью значительно улучшилась) и наиболее доступной отечественной и зарубежной литературы с краткой характеристикой.
1. Гоплитская революция.
Армии архаической и классической Греции.
Начало архаического периода ознаменовано переворотом в греческом военном деле, который многие историки считают одним из определяющих факторов в развитии полисной цивилизации — т.н. «гоплитской революцией», т.е. появлением тяжелой пехоты. Технической основой для подобных изменений стало появление на рубеже VIII и VII вв. до н.э. (по сообщению Геродота (Her., I, 171), они были заимствованы у карийцев[63]) тяжелого шлема с султаном и ставшего впоследствии классическим круглого щита с двумя рукоятями — одной в центре, под локоть, и другой, сжимаемой в кулаке, с краю. До этого греки использовали легкие щиты с одной рукоятью, значительно меньшего размера, в силу чего пехота вынуждена была действовать рассыпным строем и могла играть лишь вспомогательную роль в столкновениях аристократических родов войск — колесничных бойцов и конницы возможность купить верховую лошадь до самого конца античности оставалась признаком богатства). Вершиной подобного рода войн, блестяще описанных в «Илиаде»[64], стала война Халкиды и Эретрии (Левантинская), окончившаяся около 700 г.[65]
Уже в самом скором времени после этого на арене появляются гоплитские ополчения — самое раннее их изображение сохранилось на вазе первой половины VII в. из Коринфа, т.н. «арибалле Макмиллана». Древняя традиция приписывала первенство в использовании гоплитов на поле боя аргосскому тирану Фидону, захватившему при их помощи господство над большей частью Пелопоннеса. Классический гоплит носил из защитного снаряжения уже описанные щит (от которого — греч. hoplon — и происходит название этого рода войск) и шлем, а также панцирь и поножи, прикрывавшие ногу до колена, а из наступательного — копье длиной чуть более 2 м, прямой или слегка изогнутый короткий меч, а иногда также серповидный нож. Вес этого снаряжения составлял, по данным археологии, до 33 кг, но гоплит нес его только в бою — в походе большую часть везли на вьючных животных или давали нести рабам.
Сражение гоплитских армий между собой развивалось в течение архаического и большей части классического периода примерно по одному сценарию — гоплиты разворачивались в фалангу глубиной обычно в 8—12 рядов (встречаются упоминания и о более глубокой фаланге, но обычно как об ошибке; так, Ксенофонт (Xen., Hell., IV, 8, 18) пишет о беотийцах в сражении при Немее в 394 г., что они допустили ошибку — «выстроили фалангу чрезмерно глубокой, не считаясь с решением строиться в одиннадцать рядов») и атаковали друг друга лоб в лоб. Для сражения, прямо по детским представлениям, требовалось подобрать относительно ровное место. Правый фланг обычно занимали отборные бойцы, поэтому зачастую правые фланги двух армий одерживали верх над своим противником, а затем разворачивались друг против друга (довольно живо все это описано Ксенофонтом в рассказе о сражении под Коронеей в 394 г. (Xen., Ages., II, 9—14)). Преимущество имел тот, чья фаланга была длиннее неприятельской и могла, тем самым, нанести удар во фланг (впрочем, только спартанцы и фиванцы времен Эпаминонда и Пелопида обладали достаточной боевой выучкой для какого-либо маневрирования фалангой)[66]. Побежденным признавался тот, кто был вынужден просить о перемирии для погребения павших (если это делали оба, устанавливалась ничья). Победитель воздвигал на поле боя трофей — памятник, украшенный отнятым у врага оружием.
Разумеется, действительная картина была сложнее, так как правильные столкновения гоплитских армий были далеко не так часты в греческом военном деле.
Социальное значение «гоплитской революции» трудно переоценить. С отступлением на второй план конницы и игравшей при ней вспомогательную роль легковооруженной пехоты с полей сражений исчезают аристократические дружины и сокращается роль аристократии в полисном обществе. Для войны нового образца требуются многочисленные армии, и в условиях слаборазвитого денежного оборота эту проблему можно было решить лишь путем созыва гражданского ополчения. Значительное влияние приобретают средние землевладельцы, «крепкие хозяева», достаточно зажиточные для того, чтобы приобрести себе гоплитское вооружение, но не настолько, чтобы стать всадниками (класс зев-гитов по цензовому делению Солона). Многие греческие полисы проходят в своем развитии через стадию «гоплитской демократии» — предоставления права участия в Народном Собрании (уже полновластном и вполне демократическом органе) лишь тем, кто участвует в ополчении в качестве гоплитов.
Однако наибольших успехов в создании гоплитской военной организации достиг полис отнюдь не демократический, да и вообще не вполне типичный для греческого мира — Спарта. В течение нескольких веков спартанцы пользовались репутацией непобедимых в регулярном сражении. Именно о «300 спартанцах» царя Леонида всякий думает прежде всего, когда слышит о гоплитах. Именно в Спарте творил поэт Тиртей, в элегиях которого, написанных в годы второй Мессенской войны, впервые ярко сформулирована новая, гоплитская воинская этика, сменившая гомеровскую этику индивидуального противоборства героев. Теперь идеал иной:
Воины те, что дерзают, смыкаясь плотно рядами,
В бой рукопашный вступить между передних бойцов.
(Тиртей, фр. 7, пер. В.В. Латышева)
Спартанская армия, как и армии прочих греческих полисов, являлась гражданским ополчением. Однако если в большинстве полисов (например, в Афинах) гражданин проходил военную подготовку с 18 до 20 лет, проводя 2 года в отрядах пограничной стражи, в дальнейшем же лишь участвовал в ополчении во время походов, которые никогда, разумеется, не задействовали весь гражданский коллектив, большую же часть своего времени посвящал какой-либо мирной профессии, и в силу этого его боевая выучка была далеко не совершенна, то в Спарте граждане были освобождены от всех занятий, кроме войны, начиная с 7 лет получали военную подготовку и в течение всей жизни находились под оружием и были подчинены жесточайшей военной дисциплине. Подобная система была продиктована особенностями положения лакедемонян — небольшой группы дорийцев в окружении покоренных и превращенных в государственных крепостных — илотов — ахейцев, многократно превосходящих их численностью. Илотские восстания были постоянной угрозой для спартанцев, и в силу этого они жили в условиях постоянного военного напряжения. Каждый год спартанское правительство объявляло илотам войну, чтобы оправдать таким образом проведение карательных рейдов против илотов — криптий, в которых получала военную подготовку спартанская молодежь. Были предприняты значительные социальные реформы (которые древняя традиция связывала с полулегендарным Ликургом), направленные на уравнение и последующее сохранение в неизменности земельных участков — экономической базы гоплитского ополчения. Впрочем, особенно в силу сочетания с жестким ограничением доступа в спартанское гражданство, эти реформы не вполне достигли своего результата: если в ликурговой ретре число граждан определялось в 9000, то в 480 г. Спарта, по сообщению Геродота, могла выставить лишь около 8000 гоплитов, а в годы Пелопоннесской войны спартанское ополчение состояло из б мор, т.е. около 6000 бойцов. Начиная же с отмены ок. 400 г. запрета дарить и отказывать по завещанию земельные участки сокращение числа гоплитов приобрело катастрофический характер.
Спартанская армия выделялась среди древнегреческих армий также наличием четкой структуры и командной цепочки.
Структура, очевидно, в разное время несколько варьировалась. Согласно Фукидиду (Thuc, V, 68), в 418 г. низшей единицей спартанского пешего войска была эномотия (во главе с эномотархом), состоявшая из 32 человек. Четыре эномотии составляли пентекостию во главе с пентеконтархом (впрочем, название указывает на существовавшую какое-то время численность этого соединения в 50 человек), 4 пентекостии — лох во главе с лохагом, а 2 лоха — мору, которой командовал полемарх[67]. Всей армией обычно командовал царь (в Спарте их было 2, но с конца VI в. в поход выступал только один из них), которого сопровождал специально отбираемый «гвардейский» отряд из 300 человек (видимо, именно этот отряд и был с Леонидом при Фермопилах). В период начиная с Пелопоннесской войны царя сопровождала также группа военных советников (в норме 30), с которыми он должен был согласовывать стратегические решения. От царя вниз выстраивалась четкая цепочка передачи приказов, которую Фукидид (Thuc, V, 66) характеризует так: «...приказы царей идут в одном и том же порядке и последовательности и быстро достигают своего назначения. Ведь лакедемонское войско почти целиком состоит из начальников над начальниками и ответственность за точное выполнение приказов лежит на целом ряде лиц». Спартанская конница, напротив, всегда была слаба и плохо организована.
Высшее военное руководство в Спарте, как в олигархическом полисе, принадлежало знати. Помимо подкрепленной сакрально принадлежности царям высшего командования, их родственникам, Геракл идам, принадлежала и большая часть постов полемархов. Геродот даже сообщает про некоего спартанца Евенета, что он был «один из полемархов, однако не царского рода» (Her., VII, 173).
Помимо войска из граждан спартанцы всегда вели в бой многочисленные вспомогательные войска из собственных подданных и пелопоннесских союзников. Так, довольно значительные отряды выставляли т.н. периэки (зависимые от Спарты, но сохранившие личную свободу общины Лаконии), илоты-вольноотпущенники (неодамоды). Левый фланг спартанской армии по традиции предоставлялся скиритам, жителям области на границе Лаконии с Аркадией. В IV в., когда Спарта держала гарнизоны в ключевых пунктах Греции и воевала одновременно во многих местах, спартанцы почти совершенно перестали посылать на войну полноправных граждан, исключая случаи угрозы для самой Спарты. Так, к примеру, Агесилай Великий отправился в поход на Персию с 30 спартиатами (т.е. группой советников), 2000 неодамодов и 6000 союзников (Xen., Ages., I, 8).
Хотя из политических соображений прочие греки и предоставили Спарте верховное командование на море в годы основных сражений греко-персидских войн (480 — 479 гг.), спартанский флот вплоть до завершающего этапа Пелопоннесской войны оставался очень слабым. Причины этого достаточно очевидны: во-первых, Спарта и ее основные союзники были земледельческими полисами и не слишком нуждались в морской торговле, а во-вторых, развитие морского дела противоречило бы установке классической Спарты на самоизоляцию. Спартанским флотом командовал наварх, который вплоть до конца Пелопоннесской войны должен был обязательно ежегодно сменяться.
В вооруженных силах главного соперника Спарты — Афин — главную роль в классическую эпоху играла, напротив, не армия, а флот. Так, впрочем, было не всегда — для современников сражения при Марафоне (490 г.) Афины были сильны прежде всего своим гоплитским войском, первым одолевшим персов в открытом бою. Но уже спустя несколько лет, во время войны с Эгиной, доходы от Лаврийских серебряных рудников были по предложению Фемистокла направлены на сооружение флота, а при Саламине этот флот, под его же командованием, завоевал себе славу.
Новый афинский флот состоял из кораблей нового типа — триер, использование которых сразу обесценило все прежние флоты. Ранее флоты греческих государств состояли из т.н. «библосских», или «длинных», кораблей (сами греки называли их пентеконтерами, т.е. пятидесятивесельными), изобретения финикийцев. Само изобретение нового, более крупного корабля было сделано не афинянами, а коринфянами (а честь изобретения якоря с двумя лапами, значительно увеличившего свободу операций флота, традиция и вовсе приписывала скифу Анахарсису — Strab., VII, 3, 9), но афиняне сумели опередить своих основных соперников (Коринф и Эгину) в гонке новых морских вооружений и таким образом завоевать господство на море.
Опора на флот оказала немалое влияние на социальное устройство Афин и на их отношения с союзниками. В Псевдо-Ксенофонтовой «Афинской политии», в которой вообще дан неплохой обзор афинской стратегии, по этому поводу сказано следующее: «...справедливо в Афинах бедным пользоваться преимуществом перед благородными и богатыми по той причине, что народ-то как раз и приводит в движение корабли и дает силу государству — именно кормчие, начальники гребцов, пятидесятники, командиры носа, корабельные мастера — вот эти-то люди и сообщают государству силу в гораздо большей степени, чем гоплиты и знатные и благородные» (Ps.-Xen., Ath. pol., I, 2). В своем морском союзе афиняне вынуждены были для содержания флота ввести дань (форос), которая в годы наивысшего могущества Афин достигала 1200 талантов (спартанцы лишь очень поздно, уже в эпоху расцвета наемничества, о которой речь впереди, разрешили союзникам заменять воинские контингенты денежными взносами).
Численность афинского флота в 431 г. составляла (вероятно, округленно) 300 кораблей, а впоследствии достигала и больших цифр (для сравнения, Керкира, один из сильнейших на море полисов после Афин, в то же время могла выставить 120 кораблей). Гоплитское войско Афин, напротив, в классическую эпоху становится довольно слабым — все основные сражения, в которых оно участвовало, были проиграны. Впрочем, численность его была отнюдь не мала: по сообщению Фукидида, в том же 431 г. в сухопутных войсках Афин было 13 000 гоплитов, не считая гарнизонов пограничных крепостей, 1200 всадников, включая конных лучников, и 1800 пеших лучников (Thuc, II, 13, 6—7).
Изначально верховное командование афинской армией принадлежало одному из членов коллегии архонтов — полемарху, но с общей утратой архонтами реальной власти теряет власть и он. Со времени реформ Клисфена (508 г.) в помощь ему появляется коллегия из 10 стратегов от 10 афинских фил[68] и уже в сражении при Марафоне полемарх Каллимах передает им реальное командование, хотя еще и участвует в военном совете и командует правым крылом (Her., VI, 109— 111). В классическое же время, как сообщает Аристотель (Arist., Ath. pol., 58, 1), в ведении полемарха остались лишь жертвоприношения Артемиде-Охотнице и Эниалию, надгробные состязания в честь павших на войне и поминки по Гармодию и Аристогитону. Реальная власть переходит к стратегам и ряду иных, также выборных магистратов. Все они, даже в то время, когда большинство должностей в Афинах заполнялось по жребию, избирались поднятием рук, и хотя и избирались ежегодно, но, в отличие от всех прочих, постоянно переизбирались — например, Перикл занимал должность стратега 15 лет подряд, а известный полководец IV в. Фокион — даже 45 лет. Серьезной угрозой для стабильности военного руководства было, однако, проведение каждую пританию (10 раз в год) голосования о доверии стратегам, грозившего им отставкой и штрафом (самый знаменитый случай бессмысленного вмешательства Народного Собрания в военное руководство произошел после битвы при Аргинусских островах в 406 г. и, возможно, стоил афинянам поражения в Пелопонесской войне — победоносные стратеги были казнены за то, что в шторм не подобрали убитых). Из выборных военных должностей упоминаются 10 стратегов (с 441 г. избираемые не от фил, а от всего гражданского коллектива), из которых один командовал гоплитами, второй заведовал охраной границ Аттики, еще двое — обороной Пирея (афинской гавани), пятый — снабжением флота, а остальные получали от Совета и Народного Собрания поручения сообразно ситуации; два гиппарха, каждый из которых командовал конницей от 5 фил; еще один гиппарх для афинской колонии на Лемносе; из более низких чинов — по одному таксиарху (для командования пехотой) и филарху (командиру конницы) от каждой из 10 фил. Еще более низкие командиры — лохаги — назначались филархами и таксиархами (см. обо всем этом: Arist., Ath. pol., 61).
От Афин до нас дошли интересные сведения об организации финансирования флота. Собственно корабли строились за счет государства — на средства, полученные от сдачи в аренду Лаврийских серебряных рудников. Однако государство финансировало содержание лишь двух кораблей, предназначенных для перевозки посольств, срочных сообщений и т.п. — «Паралии» и «Саламинии» (позднее «Аммониады»). Содержание (т.е. починка, закупка снастей, набор команды и т.д.) прочих кораблей являлось одной из возлагавшихся на богатых граждан повинностей (литургий) — триерархией. Подробная картина этой повинности дана в XIV речи Демосфена («О симмориях»), произнесенной в 354 г., в которой он предложил ее реформу. Не вдаваясь в частности, скажем, что первоначально эта повинность исполнялась единолично, но, в свете оскудения Афин после Пелопоннесской войны, начиная с архонтства Навсиника (378/77 г.) она стала поручаться товариществам — симмориям. К участию в симмориях привлекалось примерно 1200 богатейших граждан, но их них примерно 800 под различными предлогами уклонялось от этой повинности (собственно, реформа Демосфена была направлена на более справедливое распределение этого бремени). Ежегодный расход на одну триеру Демосфен оценивал в 20 талантов[69] (Dem., XIV, 20). Из этой цифры ясна неизбежность высоких взносов с союзников.
Новый переворот в древнегреческом военном деле случился в годы после Пелопоннесской войны, в начале IV в. до н.э. В обстановке затяжных войн ведущих греческих полисов за гегемонию (в которых ни одна из сторон не имела шансов на долгосрочный выигрыш), охвативших всю Элладу, становилось все более утомительно для граждан участвовать в ополчении[70]. К тому же социальные потрясения во многих полисах привели к появлению в Греции массы «лиц без гражданства», изгнанных из собственного полиса без реальной надежды на возвращение. В этих обстоятельствах естественным было массовое обращение к услугам наемников. Наемничество существовало в Греции и ранее, особенно в период социальных потрясений, связанных с переходом к демократии в VII —VI вв., но не играло решающей роли в военном деле, а наемники происходили большей частью из нескольких отсталых регионов, каждый из которых имел свою «военную специализацию»: Аркадия поставляла гоплитов, Крит — лучников, Родос — пращников и т.д. Теперь же войны зачастую идут без участия гражданского ополчения, которое обычно созывается лишь при вторжении неприятеля на территорию полиса, только между наемными отрядами (то, что в финальном сражении эпохи, битве при Херонее, сражались гражданские ополчения, было вызвано гибелью афинского наемного войска в сражении с Филиппом при Амфиссе незадолго до того). Впервые решение о ведении подобной войны было принято, по сообщению Ксенофонта (Xen., Hell., IV, 4, 14), в 392 г., когда стало очевидно, что война между Спартой и Коринфской лигой переходит в позиционную фазу. Даже Спарта, которая в силу того, что все ее полноправные граждане сами были профессиональными солдатами, менее всего использовала наемников, периодически обращалась к их услугам. Агесилай использовал в своих войнах остатки знаменитых «10 тысяч», совершивших с царевичем Киром поход в глубь Персии, а в 382 г. перед походом на Олинф спартанцы разрешили союзникам платить вместо одного гоплита 3 обола в день, а вместо всадника — 12 оболов (Xen., Hell., V, 2, 21), что дает нам сведения о жаловании наемников.
В ходе Коринфской войны впервые показал себя и новый род войск — пельтасты, т.е. легковооруженные копейщики. От них, с одной стороны, не требовались значительные расхода на вооружение, которых не могли себе позволить наемники, а с другой — требовалась значительная профессиональная подготовка, которую нельзя было обеспечить в гражданском ополчении. Честь внедрения этого рода войск, ранее существовавшего практически исключительно во Фракии, принадлежит незаслуженно забытому последующими поколениями афинскому полководцу Ификрату. Он произвел ряд изменений в вооружении пельтастов (в частности — удлинил их копье вдвое, после чего они смогли противостоять гоплитам в ближнем бою), а вскорости продемонстрировал возможности нового войска, окружив и разгромив в 390 г. неподалеку от Коринфа мору спартанцев, что произвело ошеломительное впечатление (см. об этом: Xen., Hell., IV, 5, 11 —18).
Пельтасты после ификратовой реформы носили холщовый панцирь, кожаный щит (греч. pelte), легкое копье, меч и дротики. От них требовалось умение действовать как сомкнутым, так и рассыпным строем и умение маневрировать.
В IV в. Греция налаживает своеобразный экспорт наемников на восток. После того как упомянутым выше 10 тысячам греческих наемников удалось в 401 —400 гг. прорваться от самого Вавилона сквозь силы персидского царя к морю (это описано в «Анабасисе» Ксенофонта, одного из вождей этого отряда, и вообще являющемся прекрасным источником по жизни наемного отряда того времени), престиж греческого оружия в Персии необычайно, вырос. В годы Великого восстания сатрапов в 360-е гг. крупнейшие афинские полководцы (Ификрат, Хабрий, Тимофей) и сам спартанский царь Агесилай служили в качестве наемников восставшим сатрапам и египетским фараонам XXX династии. Использовал наемников и царь. Диодор даже пишет о вмешательстве персидского царя в греческие дела: «Стараясь составить значительную наемную силу, он решил уладить войны в Греции»[71] (Diod., XV, 38, 1). Превосходство греческих наемников над собственно персидскими армиями было столь очевидно, что в 343 г. при повторном покорении Египта персами исход войны решился в сражении при Нильском канале, в котором с обеих сторон сражались греческие наемники, а армии персов и египтян лишь наблюдали за ходом боя. На первом этапе походов Александра Македонского наибольшие проблемы ему доставили греческие наемники под командой родосца Мемнона, внука Ментора, победителя при Нильском канале.
2. Армии Македонии и эллинистических царств.
В середине IV в. на политическую сцену Греции вступает в качестве равноправного, а вскоре и ведущего участника соседнее с Грецией и сильно эллинизированное Македонское царство.
Творец могущества Македонии, царь Филипп II, вместе со своим ближайшим соратником — полководцем Парменионом — проводит, учитывая греческий опыт (в молодости он был заложником в Фивах и сопровождал знаменитого Эпаминонда в его походах), военную реформу, которая на долгое время сделала македонскую армию, до того мало чем отличавшуюся от армий иных народов Балканских гор, сильнейшей в Элладе и одной из сильнейших в средиземноморском мире. Ключом к его успеху была не только и не столько знаменитая македонская фаланга, сколько создание, в отличие от греков, сильной кавалерии и налаживание ее взаимодействия с пехотой.
Как справедливо отмечает Ганс Дельбрюк в своей «Истории военного искусства»[72] «Понятия "конница" и "кавалерия" надо различать так, что в первом случае речь идет о массе отдельных всадников, тогда как во втором случае всадники сведены в дисциплинированные эскадроны. В таком случае можно сказать, что первая кавалерия была создана македонянами». На основе дружины царских «друзей» (гетайров) была создана новая хорошо организованная тяжелая конница, поделенная на тактические единицы — илы. Ил известно восемь, из которых семь носили наименование областей, в которых набирались, а последняя, очевидно привилегированная, называлась «царской». Численность илы предполагается в 200 человек. Общий командир конницы гетайров носил название гиппарха. Александру в ходе своих походов пришлось реорганизовать кавалерию, в связи с принятием в нее представителей иных народов. Территориальное деление было упразднено и введена двухступенчатая организация — гиппархии, подразделявшиеся на илы. Гетайры были вооружены мечом и двумя короткими копьями, носили короткую кирасу, шлем без гребня и щит. Второй род македонской конницы — сариссофоры — набирался, вероятно, из людей менее знатных и вооружался длинными копьями — сариссами. Арриан упоминает также некие кавалерийские отряды, носившие название «продромой», т.е. «бегунов» (Агг., 1,12, 7), представлявших из себя конную разведку.
Одновременно Филипп создает пехоту, в которой Македония прежде была слаба. Гоплитской фаланге придается наименование педзетайров (пешей свиты), и она организуется по принципу, несколько отличному от классического принципа греческой фаланги (впрочем, вероятно, определенную эволюцию в этом направлении мы наблюдаем уже в действиях Эпаминонда). Македонские пехотинцы вооружаются не обычным гоплитским копьем, а сариссой длиной от 5,32 до 7,10 м, строятся с куда меньшими промежутками между шеренгами, что позволяло задним рядам принимать участие в сражении и гораздо более глубоко: нормальная глубина македонской фаланги — 24 ряда. При всей внешней страшности подобного построения (есть прекрасное описание производимого им эффекта в плутарховой биографии Эмилия Павла; см.: Plut, Aem., XIX) оно гораздо более неповоротливо, чем фаланга классической эпохи, и именно к нему относится большая часть вполне справедливой критики данного боевого порядка. Впрочем, развитие македонской фаланги было далеко не единовременным, и полностью данные принципы были воплощены лишь в правление Антигона Гоната (276 — 239). Тяжелая пехота времен Филиппа носила кирасу, поножи, шлем с небольшим гребнем, бронзовый щит, кинжал, короткий и широкий меч и сариссу. Со времени Александра воины с бронзовыми щитами получили наименование халкоспидов, а воины элитных частей были названы аргираспидами (серебряными щитами). Подразделениями педзетайров были лохи (по 16 человек), синтагмы (по 16 лохов) и таксисы, часто также переводимые как «полки». Точный размер таксиса едва ли был фиксирован — это соединение войск, набранных в одной области, подобно иле у гетайров — но обычно составлял около 1500 человек. Во времена Филиппа Македония выставляла 12 таксисов.
Средневооруженная пехота носила название гипаспистов (первоначально это были слуги дружинников). В отличие от пельтастов они не были вооружены для дальнего боя. Их конкретное вооружение остается предметом споров военных историков, но очевидно, они были. вооружены легче гоплитов. Гипасписты подразделялись на агемы. Отборная часть гипаспистов составляла так называемую «царскую агему» — очевидно, аналог «царской илы» в коннице гетайров.
Наконец, имелись легковооруженные — метатели дротиков, стрелки, пращники, носившие общее наименование псилетов. Легкая пехота разделялась на хилиархии — тысячи.
Имелись в македонской армии также и национальные части, каждая со своим особенным оружием. Так, например, историки походов Александра часто упоминают среди метателей дротиков отряды агриан — союзного Македонии балканского племени.
С этой-то армией, дополненной контингентами греческих полисов, Александр и выступил в 334 г. на покорение Азии. По наиболее подробным данным Диодора, совпадающим в общей сумме со сведениями прочих источников, Александр имел 12 тысяч македонской пехоты, 7 тысяч союзной греческой, 5 тысяч наемной, 5 тысяч союзной от племен Балканских гор и 1000 стрелков из лука — всего 30 тысяч. Кавалерии у него было 4,5 тысячи — 1500 македонян-гетайров, 1500 фессалийцев-сариссофоров, 600 греков и 900 фракийцев и пэонов в качестве продромой (Diod., XVII, 17, 3—4)[73]. Неясно, включены ли в это число 10 тысяч, высадившихся в Малой Азии под командой Аттала и Пармениона в 337 г.
К концу похода армия изменилась довольно значительно. По подсчетам, которые произвел в своей биографии Александра австрийский историк Фриц Шахермайр[74], в 324 г., после увольнения ветеранов в Опиде, из армии в 70 тысяч человек старые части составляли лишь 13 тысяч пехоты и 2 тысячи кавалерии, в том числе около 5 — 6 тысяч македонян. Создаются смешанные национальные части. В конницу, разделенную теперь на 5 гиппархий, начинают приниматься представители иранской и туранской аристократии и привилегированное положение македонских гетайров ликвидируется. Арриан сообщает и о планах реорганизации пехоты, для которых полководцем Александра Певкестом были подготовлены персидские части — предполагалось зачислить вновь прибывших в македонские части, сделать начальниками над ними македонян и создать новые декады (аналогично лохам) в составе 4 македонян и 12 персов, причем персы якобы должны были сохранить свое национальное оружие, что в случае доведения плана до конца означало бы совершенно новую тактику (Arr.,VII,23,3-4).
После распада империи Александра армии самой Македонии (царства Антигонидов), Эпира и царств Ближнего Востока (Пергамского царства, Птолемеев и Селевкидов) сохраняют в целом тот вид, который придали македонской армии Филипп и Александр. Они продолжают набираться прежде всего из греков и македонян, а не из покоренных народов, по крайней мере в части фаланги (задуманный Александром синтез не осуществился)[75]. Армии более восточных царств со временем приобретают все более азиатский вид. Значительную роль в армиях продолжали играть наемники, войны часто начинались с направления эмиссаров в Эфес или на иные рынки наемников.
Развитие военного дела в эллинистическую эпоху шло в основном по линии увеличения роли кавалерии и введения нового оружия — распространяются более крупные корабли, приобретает значительное развитие полиоркетика (наука об осадных машинах).
Более всего поразили воображение современников слоны. Основным полем их использования была борьба с вражеской конницей: слоны одним своим видом наводили страх на лошадей и вполне могли сами развивать хорошую скорость. Так, в битве при Ипсе (301 г.) противоантигоновская коалиция, имея 400 слонов против 75 у Антигона смогла при их помощи отсечь от основных сил конницу сына Антигона Деметрия, что и решило исход боя (Plut., Dem., XXVIII —XXIX), в 275 г. Антиох I одержал т.н. «слоновую победу» над великолепной конницей галатов и т.д. Возможность успешных действий слонов против пехоты или, тем паче, укреплений сильно преувеличена. Нам известно сравнительно мало сражений, в которых слоны смогли нанести серьезный урон пехоте, и во всех них решающую роль сыграл эффект внезапности. Так, например, в битве при Гераклее (280 г.) Пирр разбил римского консула Левина отчасти из-за страха римлян перед не виденными ими ранее слонами (Plut., Pirr., XVII), но второй раз у него это уже не получилось. Гораздо чаще слоны причиняли ущерб собственной армии, побежав от вражеской пехоты вспять. К концу периода применение слонов теряет былое значение. Последний раз они использовались помпеянцами против Цезаря в битве при Тапсе (46 г. до н.э.)
Распространяются метательные машины торсионного типа (впервые они были употреблены в 400 г. в Сиракузах), одно из высших достижений военно-технической мысли древности. Их мощность была так велика, что еще в XVIII в. рассматривалась возможность отказаться от пушек и вернуться к ним[76], а по точности стрельбы они превосходили мушкеты даже времен наполеоновских войн. Широкое распространение приобретает и ряд других изобретений, связанных с деятельностью сиракузского тирана Дионисия Старшего — осадные башни-гелеполы, корабли, большие, чем триера (в основном тетреры и пентеры).
Начиная с 30-х гг. в исторической науке распространилась теория английского исследователя У. Тарна об устройстве древних военных кораблей[77]. По его предположению, на триерах гребцы были организованы в звенья по 3 весла в каждом, а на тетрерах соответственно по четыре. Начиная с пентеры в звено входило по одному веслу, но его держало 5 и более гребцов (вплоть до 10 на декере). На сверхбольших кораблях III в. до н.э. сочетались оба метода — увеличение числа весел в звене и гребцов на одном весле. Вершиной подобного развития стала построенная при египетском царе Птолемее Филопаторе (221—204) тессароконтера (звенья из 4 весел с 10 гребцами), обслуживавшаяся, по Плутарху, 4000 гребцами и перевозившая до 3000 гоплитов (Plut., Dem., XLIII), но она так и осталась в основном декоративной.
При македонском царе Филиппе V (221 — 179) военная организация, созданная его великим тезкой, наконец-то встретилась с соперником, который смог ее решительно превзойти. Этим соперником оказался Рим, к истории войска которого мы и перейдем.
3. Армия архаического Рима (VIII — IV вв. до н.э.)
Военная организация Древнего Рима послужила одним из наиболее ярких проявлений римского гения. Римский историк времен Тиберия Валерий Максим написал об этом так: «Военное искусство, энергично упражняемое, стяжало римскому владычеству верховенство в Италии, даровало управление над множеством городов, великими державами, могущественнейшими народами, распахнуло проход в Понтийский залив, вручило взломанные преграды Альп и гор Тавра и превратило исток из крохотной хижины Ромула в столп над всем кругом земель»[78] (Val. Max., II, 8). Однако путь к этому могуществу был долгим. Рассмотрим его, как сказали бы римляне, ab ovo.
В начале царского периода (VIII —VI вв., до реформы Сервия Туллия) основой римской военной организации были так называемые курии. В настоящий момент в романистике считается общепризнанным, что курии — это союзы мужчин-воинов, основанные на патрицианской родовой организации. Большинство историков считает, что до сервианской военной реформы в курии были допущены только патриции и они-то и составляли populus, т.е., в изначальном значении этого термина, «народ-войско».
Шестой римский царь Сервий Туллий (традиционные даты правления — 578 — 534 гг.) провел т.н. центуриатную реформу социального и военного устройства, которая, без преувеличения, явилась одним из основных моментов в ранней истории Рима. К сожалению, хотя об этой реформе сохранились подробные сведения в древнеримской исторической традиции (см., напр., Liv., I, 43 — 44), достоверность этих сведений находится под серьезным вопросом. Несомненным, однако, является то, что новая военная организация была основана не на родовом принципе, как куриатная, а на имущественном, причем в военную организацию, и следственно в состав Populus Romanus, были приняты плебеи. Ливии и прочие древние авторы сообщают нам о денежном исчислении ценза, однако этот аспект традиции подвергается современной исторической наукой большому сомнению относительно времен Сервия Туллия и выдвигаются различные более поздние даты перевода ценза на деньги, вплоть до цензуры Ann. Клавдия Цека (312 г.) или хотя бы введения платы в войске (406 г.).
Ливий пишет о том, что лица высшего сословия составили 18 всаднических центурий, первый имущественный разряд (свыше 100 тыс. ассов[79]) выставлял 80 центурий тяжеловооруженных воинов, имевших примерно стандартное гоплитскоё вооружение (по круглому щиту — лат. clipeus, их иногда называли clipeati), второй имущественный разряд (от 75 тыс. ассов) выставлял 20 центурий воинов, уже не имевших панцирей и носивших вытянутый щит — лат. scutum, третий (от 50 тыс. ассов) — 20 центурий с подобным вооружением, но без поножей, четвертый (более 25 тыс.) — 20 центурий, вооруженных лишь копьем и дротиком, и пятый разряд (свыше 11 тыс.) — 30 центурий пращников. К первому разряду было приписано две центурии мастеров по осадным машинам, а к третьему — три центурии запасных, трубачей и горнистов. Люди с цензом ниже первого класса (пролетарии) составляли 1 центурию, свободную от военной службы. Сообразно этому делению проводились народные собрания (таким образом, всадническое сословие и первый имущественный разряд имели 98 центурий из 193 и большинство в народном собрании) и раскладывались налоги (пролетарии налогов не платили). Из патрициев было составлено б всаднических центурий — старшие и младшие Тиции, Рамны и Луцеры, носившие общее название Sex suffragia («Шесть голосов»).
Разумеется, при этом второй — пятый разряды были значительно многочисленнее первого. Однако его преимущественное положение во многом исходило из самого устройства войска — численность гоплитской фаланги (classis), выставлявшейся первым разрядом, не могла быть меньше, чем численность средневооруженных и легковооруженных воинов.
Все центурии вообще делились на две категории — младших (до 45 лет включительно) и старших (от 46), причем в заграничных походах должны были участвовать только младшие. Численное соотношение старших и младших центурий в этот период остается спорным.
Другим предметом дискуссий является численность воинов, выставляемых от каждой центурии. Представляется довольно сомнительной версия, согласно которой выставлялась именно сотня, поскольку подобные «количественные» названия редко исходят из действительного соответствия, но ее тем не менее поддерживают некоторые романисты. Исходя из нее, мы получаем армию численностью порядка 15 тысяч человек, что примерно соответствовало бы данным о результатах сервиевой переписи — 80 000 мужского населения по Ливию, 84 700 по Дионисию Галикарнасскому. Впрочем, надо учитывать, что данные этой переписи подвергали сомнению по археологическим данным, дающим не свыше 50 тысяч жителей для Рима VI в., и достижение центуриями полного числа в 193 также понимается многими исследователями как протяженный во времени процесс (вплоть до 2-й Латинской войны 340 — 338 гг.). Организация этого войска также не до конца нам ясна. Представляется обоснованным мнение, что в этот период еще нет четкого деления войска в походе на структурные единицы, а под легионом до начала IV века понимается войско в целом.
Войско набиралось каждый год новое, по особому постановлению сената. Призыв осуществляли консулы, после набора воинам централизованно раздавалось оружие из государственных арсеналов в соответствии с выплачиваемым ими по их цензу налогом — трибутом, и они собирались на Марсовом поле, где избирались центурионы (это звание не передавалось от похода к походу), выдавались знамена и приносилась очистительная жертва (люстрация). Там их приводили к присяге, после чего они оказывались в полном подчинении консула, без права апелляции на его приговоры к народу.
Важнейшим отличием римской цензовой системы от греческой (скажем, тимократической конституции Солона в Афинах и иных подобных) было то, что до появления военных трибунов с консульской властью в 445 г. высшие государственные посты оставались полностью за патрициями и плебеи, даже первого имущественного разряда, не имели возможности возглавить государство и войско. Это создавало возможность, с одной стороны, для некоторых откатов к куриатной организации (в частности, на основании рассказа Тита Ливия (Liv., II, 48 — 49) о походе Фабиев против Вей, ряд исследователей предполагает подобный возврат в первые годы Республики), а с другой — служило причиной борьбы плебеев против своего ущемленного положения в центуриатной системе, побуждавшей, в свою очередь, ее эволюцию.
Верховное командование у римлян часто сменялось и было коллегиальным (оно принадлежало двум ежегодно сменяемым консулам), что уже к концу Ранней республики начало вызывать затруднения. Поэтому в экстраординарных случаях для руководства войском консул назначал диктатора или командование армиями временно оставлялось в руках бывших консулов (проконсулов). У римлян сложилось чрезвычайное почтение к высшей военной власти (imperium), подобное которому в Греции существовало лишь в Спарте. Своего рода высшим примером могущества военной власти служит знаменитый рассказ про «Манлиев правеж» — казнь консулом Титом Манлием своего сына, выигравшего запрещенный им поединок с врагом (Liv., VIII, 6). Именно оно послужило основой знаменитой римской дисциплины.
Победоносный полководец мог получить от сената торжественное вступление в город — триумф. Условиями этой высшей военной почести были законное самостоятельное командование войсками, победа в сражении, в котором погибло не менее пяти тысяч врагов, и присутствие победоносного войска. В случае малой, по мнению сенаторов, значительности или почетности победы полководец мог получить малый триумф — овацию, носивший такое название потому, что при завершении этого шествия в жертву приносился не бык, как при триумфе, а овца (так, овацию получил Красc за победу над гладиаторами, противником, недостойным римского народа).
Процесс эволюции центуриатного войска в V—III вв. описан в источниках скорее отрывочно. Как важные вехи на этом пути следует отметить появление должности военных трибунов с консульской властью, доступной плебеям, в 445 г.; введение платы для воинов (stipendium) после взятия города вольсков Анксура в 406 г.; начало круглогодичной службы войска во время десятилетней осады Вей с 403 г. (очевидные шаги к переходу от ополчения к отчасти профессиональной армии); доступность консулата плебеям по Лициниеву — Секстиеву закону 367 г.; переход на набор по трибам (территориальным округам). И наконец, во второй половине III в. проводится реформа центуриатной организации, по которой она становится чисто политической, устраняются ее диспропорции и она соединяется с системой триб — центурий теперь 373, но для организации войска это уже не важно. К этому времени, согласно античной традиции, складывается классическая римская военная организация — манипулярный легион.
4. Римская армия в период средней и поздней Республики (III—I вв. до н.э.)
Точное время появления манипулярного легиона, к сожалению, пока не вполне установлено. Начало появления манипулярной тактики согласно относят ко времени Самнитских войн, завершение же этого процесса, в зависимости от степени доверия к источникам, ко времени от 280 г. до битвы при Заме (202 г.). Некоторые (как Г. Дельбрюк) разделяют введение манипулярной системы на два этапа — собственно манипулярной тактики (после Самнитских войн) и эшелонной тактики (после Сципиона Старшего), полагая, что в полном объеме манипулярная система могла появиться лишь тогда, когда римская армия приобрела должную выучку в многолетней войне.
Однако, по крайней мере, до нас дошли подробные описания манипулярного легиона в его классическом виде. Традиционно лучшим и наиболее подробным признается описание, данное Полибием в его «Всеобщей истории» (Polyb., VI, 19—42), хотя следует понимать, что Полибий описывал идеальный вариант римской военной организации и что его описание относится уже к середине II в.
Новый легион (Полибий определяет их штатное число в 4, но начиная со Второй Пунической войны Рим, видимо, редко возвращался к столь малому числу) состоял из 4200 пехотинцев и 300 всадников. Набору подлежали все граждане с цензом более 4000 ассов (пролетарии оставлялись для службы на флоте) в возрасте от 17 до 46 лет. Гражданин обязан был совершить 20 годовых походов. Вид вооружения теперь определялся не имущественным цензом, а возрастом призывника. Лица младшего возраста зачислялись в легковооруженные (rorarii или, позднее, veliti). Следующих за ними записывали в число hastati — копьеносцев (они носили уже полное вооружение и составляли первый эшелон строя). Далее, в возрастной последовательности, набирались второй (principes) и третий (triarii) эшелоны. Рорариев, гастатов и принципов в легионе было по 1200, а триариев — 600. Механизм набора легионной конницы у Полибия не прояснен, по всей видимости в его время она все еще набиралась из римских всадников.
Высшие сословия (сенаторы и всадники) выставляли старший командный состав[80], что и составляло их основную службу Республике. Верховное командование войском по-прежнему принадлежало высшим магистратам или бывшим магистратам, а в помощь им ежегодно избирались военные трибуны (по 6 на каждый легион) из числа людей, совершивших не менее 5 ежегодных походов. Тем самым звание военного трибуна было одной из начальных ступеней «дороги почестей» — уже для самых младших магистратур требовалось 10 походов.
Пехота легиона подразделялась на 30 манипулов, по 10 в каждом эшелоне, легковооруженные распределялись по манипулам поровну. Командовали манипулом два центуриона, один на правом крыле, второй на левом. Звания центурионов выстраивались в иерархию от командира левого крыла последнего манипула гастатов (hastatus posterior) до командира правого крыла первого манипула триариев (primus pilus, «первое копье»), функцией которого было помогать в командовании легионом зачастую еще неопытным аристократическим командирам. Хотя формально центурионы при каждом новом наборе все еще получали новое назначение, на практике сложилась система последовательною повышения от hastatus posterior до primus pilus и ее нарушения приводили к серьезному недовольству (см. историю Спурия Лигустина у Ливия — XLII, 32—35). Именно на мужестве и выучке центурионов, постепенно становившихся своего рода профессиональными военными, основывалась мощь римских легионов. Образ центурионов Республики ярко обрисован в научно-популярной книге известной исследовательницы Древнего Рима М.Е. Сергеенко «Простые люди древней Италии»[81]. В художественной литературе можно рекомендовать образ Гая Филиппа в фантастической тетралогии Г. Тертлдава «Пропавший легион». Легионная конница подразделялась на 10 турм, каждой из которых придавалось 3 декуриона. Из них выбранный первым командовал турмой, а остальные являлись его заместителями и командирами половин турмы.
К этому времени относится появление устойчивой системы жалования воинам. Простые легионеры получали 60 денариев[82], центурионы — 120. Значительную часть доходов легионеров составляли награды по случаю триумфов. По некоторым подсчетам[83], за 20 годовых походов простой легионер мог получить 2134 асса, а центурион соответственно вдвое больше. Зачастую бывшие легионеры получали от сената землю в колониях римских граждан.
Помимо собственно римского войска, набирались также и войска италийских союзников Рима. Римское гражданство распространилось на всю Италию только в результате Союзнической войны 90 — 88 гг. до н.э., но это не освобождало покоренные Римом племена от необходимости помогать Риму на войне. Союзники выставляли пехоту, равную по численности римской, и втрое больше конницы.
Если следовать достаточно убедительным построениям Г. Дельбрюка, то первоначально манипулярный строй сводился к тому, что строй фаланги был разделен небольшими интервалами, проходившими между разными манипулами. Это позволяло строю фаланги не нарушаться в бою и при движении по пересеченной местности, а также давало возможность принципам, а затем триариям (в исключительных случаях, отсюда поговорка «Дело дошло до триариев») вдвигаться в бреши в строю гастатов. Интервалы позволили также найти применение легковооруженным не только на флангах (именно поэтому их придали манипулам). При этом три шеренги легиона двигались без разрывов, ощущая следующую за спиной. Только в битве при Заме Сципион Африканский Старший разделил легион на три эшелона, что дало ему возможность противодействовать маневрам Ганнибала.
К эпохе манипулярного легиона относится и появление римского военного лагеря в его классическом виде. Значение этого события трудно переоценить. Не зря классическая формулировка гласила, что Рим побеждает врагов при помощи «virtus, opus, arma» («доблести, трудов, оружия»). «Труды» — это прежде всего работы по возведению лагеря. В отличие от греков римляне, во-первых, возводили лагерь после каждого дня похода и, во-вторых, возводили его по всегда неизменному плану. Поскольку многие европейские города выросли из зимних стоянок римских легионов, этот план оказался увековечен (его можно увидеть во многих изданиях — например, наиболее подробно, на вклейке во втором томе последнего русского издания Полибия). Преимущество такого способа состояло в том, что при размещении на стоянку все части заранее знали свое место и не возникало никакой суматохи. К тому же лагерь всегда предоставлял римлянам укрепленное убежище на случай поражения или превосходства противника. Вследствие неизменности плана лагеря римляне не стремились размещать его в укрепленных самой природой местах и больше полагались на валы и рвы.
В период Первой Пунической войны (264 — 241 гг. до н.э.) впервые начинает играть серьезную роль римский флот. Он существовал и раньше, но мог использоваться только против эскадр небольших италийских городов (так, знаменитые Ростры были возведены на Форуме после победы консула Гая Мения в морском бою над жителями Анция в 338 г.). Теперь же римляне всего лишь за год построили флот, способный состязаться на море с Карфагеном, исконно морской державой. Именно в ходе этой войны римляне, с тем чтобы превратить морское сражение в знакомое им сухопутное, изобрели абордаж и впервые в истории морских войн создали сильную морскую пехоту. Римские граждане шли во флот только в командный состав и в морскую пехоту. Экипаж кораблей набирался из вольноотпущенников, приезжих с греческого Востока и т.п. Это способствовало тому, что Рим так и не стал морской державой (после Пунических войн Рим не держал большого флота вплоть до действий Помпея против пиратов в 67 г. до н.э.) и сохранил зависимость в морском деле от греков (именно это было не последней причиной тому, что помпеянцы, опиравшиеся на восточные провинции, всегда имели на море серьезное превосходство над партией Цезаря во время Гражданских войн).
Важным водоразделом в римской военной истории явилась Вторая Пуническая война. Основными последствиями с точки зрения военной организации стали значительный рост численности армии (в 218 г., в начале войны, Рим считал достаточным набрать шесть легионов и усиленные союзнические контингента — 24 000 римских пехотинцев, 1800 римских всадников, 40 000 союзнической пехоты, 4400 союзнической конницы; в 202 г., к ее концу, Рим выставлял 16 легионов, и это не было предельным напряжением его военных усилий, хотя и было огромным усилием для государства, насчитывавшего к концу войны 214 000 граждан призывного возраста), начало постоянных войн за пределами Италии (в итоге войны Рим получил владения в Испании, требовавшие постоянной военной защиты, и был втянут в греческие дела), определенная профессионализация армии в результате долгой службы во время продолжавшейся 16 лет войны. Выше уже говорилось, что именно к этому времени относят появление эшелонной тактики.
Однако уже ко времени Второй Пунической войны относятся первые признаки разложения вышеописанной системы набора. Дело прежде всего в исчезновении фактического значения набора возрастных контингентов в легионы. Если в «старослужащих легионах» даже гастаты были уже ветеранами многих походов, то в т.н. городских легионах, набиравшихся для защиты самого Рима, служили, вне зависимости от возраста, новобранцы, неспособные к участию в реальном сражении. Подвергается серьезному испытанию и система годичного командования. В ходе Второй Пунической и более поздних войн римлянам зачастую приходится или переизбирать одних и тех же людей консулами несколько лет подряд, или даже создавать экстраординарные командования.
Знаком большей роли полководцев и большей их связи с войском стало присвоение им войсками в случае победы почетного титула «император», обозначавшего претензию на триумф. Впервые этот титул принял Сципион Старший после взятия Нового Карфагена.
Новая система появилась в итоге реформ, которые провел веком позже знаменитый полководец Гай Марий, став в 107 г. консулом и командующим в Югуртинской войне. Позднее он получил возможность утвердить их благодаря тому, что избирался консулом в течение пяти лет подряд (104 — 100 гг. до н.э.). Ко времени Мария система набора, лежавшая в основе римского легиона, вовсе пришла в упадок. Второй век был временем тяжелого кризиса крестьянского землевладения в Риме и, несмотря на принимавшиеся меры по наделению землей (наиболее заметной попыткой исправить положение были реформы Гракхов), социальная база гражданского ополчения стремительно сокращалась. К тому же, по мнению некоторых исследователей[84], после походов против Карфагена и Коринфа Рим довольно долго вел войны, приносившие мало добычи, так что крестьян больше не привлекало в армию стремление поправить свое финансовое положение.
Марий стал производить не на основе возрастного или имущественного деления (силу сохранило лишь правило о комплектовании старшего офицерского состава из высшего сословия), «а зачисляя каждого желающего и, главным образом, из среды неимущих» (Sallust., Bell. Jug., 86, 2), т.е., по сути, перешел от набора к вербовке. Хотя комплектование армии еще и в императорский период оформлялось как набор, что позволяло прибегать к решительным мерам в случае серьезной угрозы, на практике подобное предприятие становится крайне редким. Социальное значение допуска в армию пролетариата огромно. Новый солдат в очень существенной мере зависел от полководца: только благодаря его политическим успехам он мог рассчитывать получить награды при триумфах и, в конце концов, земельный надел — вершину стремлений римского солдата Поздней Республики. Долгая служба в армиях одного и того же полководца способствовала формированию между военачальником и солдатами патронатно-клиентельных отношений, лежавших в основе римского общества. Еще более разовьется связь полководцев со своими солдатами после Союзнической войны, когда римское гражданство распространится на всю Италию и полководцы получат возможность набирать легионы в районе своих имений[85].
С именем Мария традиционно связывают также реформу структуры легиона. Неясно, впрочем, что в новой системе связано именно с его преобразованиями. Так, термин «когорта» употребляется уже и по отношению к более раннему периоду. По всей видимости, первоначально когорта была подразделением союзнических войск, из которых не составлялись целые легионы. Новый легион, согласно традиционному мнению, по штатному расписанию насчитывал 6000 человек, хотя комплектные легионы были редки (например, в легионах Цезаря обычно было по 3 — 4 тыс. чел.). Легион разделялся на 10 когорт равной численности. Из его состава были выведены легковооруженные и, тем паче, невооруженные, и он окончательно превратился в соединение тяжелой пехоты. Учреждение когорт позволило отдельным частям легионов оперировать самостоятельно в тактическом отношении. Манипулы были для этого слишком малы.
Руководство когортой обычно осуществлял старший центурион первого манипула когорты, самостоятельного командира когорта не получила. Иногда, по специальному приказу командующего, начальство над когортой поручалось одному из военных трибунов легиона, но поскольку их было шесть, всеми когортами командовать они не могли.
Для улучшения управляемости легионов в бою Марий провел и еще одну важную реформу — учредил значки легионов, когорт, манипулов и центурий. Знаками легионов стали знаменитые орлы (первоначально серебряные). В обычной манере древности, значки были сакрализованы: в легионах устанавливался специальный культ своего орла, легион, утративший орла, расформировывался и это название никогда более не появлялось в списке римских легионов.
Содействие легиону, как и прежде, оказывали выставляемые зависимыми общинами вспомогательные войска (auxilia). После Второй Пунической войны в составе римской армии появляются контингенты подвластных племен неиталийского строя (балеарские пращники, ну индийские всадники, галлы, испанцы), а после Союзнической войны только они и имеются в виду под вспомогательными войсками, так как контингенты италийцев вливаются в состав легионов. Именно вспомогательные войска должны были содействовать легионам легковооруженными и конницей.
Период Гражданских войн, которым закончилась эпоха Республики, много дал с точки зрения полководческого искусства (чего стоит одно имя Цезаря), но с точки зрения военной организации не принес существенных новаций.
В качестве тенденций данного периода можно отметить рекордный рост численности армий (возможно, отчасти объясняемый тем, что контингенты италиков перешли в разряд легионов) — например, на стороне Суллы сражалось 23 легиона, а в год битвы при Акции число легионов обеих сторон вместе взятых равнялось 75, а также продолжающуюся профессионализацию армии. Профессионализация коснулась и высшего командного состава. Все наиболее знаменитые полководцы конца Республики командуют своими армиями по много лет и повсеместно утверждаются практика брать в легаты (помощники) уже опытных военных и передавать им командование легионами, не доверяя его военным трибунам. Растет и значение центурионов — так, Цезарь многократно упоминает о роли рекомендаций центурионов на военном совете в своих «Записках о Галльской войне». Один из центурионов Цезаря, Гай Фуфиций Фангон, даже стал сенатором — явление, совершенно немыслимое в предшествующую эпоху. Растет жалование войскам — Цезарь устанавливает в своей армии жалование в 150 денариев для простого легионера и 300 для центуриона (вместо обычных в предшествующий ему период 75 денариев).
Однако если римская тактическая организация имела явное преимущество над всеми соседями (кроме, разве что, парфян) и римские полководцы не испытывали серьезной потребности что-либо в ней менять, то военная система в целом оказалось чрезвычайно тесно связана с социально-политической организацией Республики, и, как и она, оказалась не приспособлена к превращению полиса в мировую империю, будучи подвержена тем же кризисам. «Марианские» солдаты, набиравшиеся из пролетариата, были вовлечены во все социально-экономические беды государства и надеялись получить от военной службы удовлетворение своих чаяний. При этом мало что связывало их с традиционным устройством Республики. Солдаты все более становились преданы своим полководцам, а не Республике, и римляне все больше сражались друг с другом, а не с внешним врагом. И хотя все угрозы извне и отражались даже в годы Гражданских войн, несостоятельность этой организации стала ко времени битвы при Акции всем очевидной.
5. Римская армия периода принципата (I в. до н.э. — II в. н.э.).
После завершения Гражданских войн в Риме установился новый политический строй — принципат, органически соединивший личную власть, основанную в значительной мере именно на военной силе, и республиканские учреждения. Из сказанного в конце предыдущего раздела ясно, что создатель принципата, Октавиан Август, не мог в своем всестороннем преобразовании римского общества обойти стороной армию. И действительно, именно в его долгое правление создается военная система, просуществовавшая в основных чертах до конца II в. н.э. Именно она обычно имеется в виду, когда говорится о римском легионе.
Для ее исследования мы обладаем поистине уникальным для истории античности богатством источников — нарративных, юридических, эпиграфических, папирусных и археологических, в результате чего этой теме посвящено практически необъятное количество научной литературы.
Можно предполагать, что Август поставил перед своей военной реформой ряд задач (или, по крайней мере, что реформа привела к решению этих задач), а именно — обеспечение политической стабильности и ликвидацию угрозы военного переворота; отсутствие угрозы социальной структуре империи при сохранении военной эффективности; соответствие финансовым возможностям; надежная охрана границ империи от вторжений извне и защита провинций от попыток восстания. При самом Августе армия еще должна была вести завоевательные войны (в действительности он был крупнейшим завоевателем в истории Рима), но преемникам он завещал не расширять границ Империи, и чем далее, тем более наступательная война становится для римской армии экстраординарной задачей, хотя вплоть до начала III в. н.э. ее удавалось, при необходимости, успешно решать.
Армия подверглась решительному сокращению: от 75 легионов в год битвы при Акции до восемнадцати. Правда, уже к моменту смерти Августа их число возросло до 25, а ко времени Септимия Севера до 30, а численность нового легиона была несколько выше, но все равно сокращение было значительным. Даже с учетом гвардии, вспомогательных войск и флота империя имела во II в. вооруженные силы всего в 350 — 400 тыс. чел. на 60 млн. чел. населения (т.е. всего ок. 0,67% от населения). По отношению к числу собственно римских граждан призывного возраста число легионеров колебалось, по таблице, приводимой французским историком Ф. Жаком[86], от 10,5—15,5% при Августе до 11 — 16% при Клавдии. Это позволяет предположить, что распространение римского гражданства было обусловлено в значительной мере именно военными нуждами, т.к. процент оставался примерно одинаков для 18 легионов при Августе и 27 при Клавдии.
С целью нейтрализации политического влияния армии легионы, вопреки республиканской практике, были полностью выведены из Италии и размещены на границах империи (в Италии остались лишь части преторианской гвардии — см. ниже).
Согласно первому же «конституционному соглашению» Принципата (27 г. до н.э.), провинции были разделены между принцепсом и сенатом. Уже сразу в числе провинций принцепса оказались те, в которых находились основные военные силы (Галлия, Испания, Сирия), но все же поначалу сохранялись самостоятельные командования в Македонии и Африке. Македония лишилась собственных войск после завоевания дунайских провинций, а Африка продержалась дольше, до времен Калигулы, который вывел командира III Августова легиона из подчинения проконсулу Африки. В провинциях принцепса наместники (они же и командующие войсками, т.к. Рим и после Августа не знал разделения гражданской и военной власти) были лишь заместителями императора — легатами (legati Augusti pro praetore). Во избежание угрозы мятежей под командованием одного наместника не соединялось, со времен Клавдия, больше трех легионов. В результате принцепс концентрирует в своих руках как реальную военную власть (все назначения на офицерские должности, награды и т.д.) в подчиненных ему войсках, так и все почести, установленные римским обычаем для победоносных полководцев, — только принцепс справляет триумфы и только он носит титул императора, который становится одним из атрибутов верховной власти[87]. Принцепс сам являлся патроном всех отставных солдат. Принцепсу были подчинены и воинские части, оставшиеся в Италии. Во главе их были поставлены префекты из числа всадников, которых римская традиция не допускала к военной власти и которые в силу этого были полностью зависимы от него в своем положении.
Ядром армии Принципата остаются легионы[88]. Легион сохранил когортную структуру, введенную Марием, с небольшими изменениями. По сообщению Вегеция (Veget., II, 6), автора IV в., написавшего трактат о классической римской армии, в легионе насчитывалось 6145 пехотинцев (1150 в первой когорте, по 555 в остальных) и 718 всадников (132 в первой когорте, 66 в когортах со второй по восьмую и 62 в девятой и десятой когортах). Первая когорта, двойной численности, носила название тысячной (milliaria), остальные назывались пятисотенными (quingenariae). Имел каждый легион и свой собственный парк метательных машин — 55 карробаллист (по 1 на центурию) и 10 онагров (по 1 на когорту). Впрочем, как и в более ранний период, легионы далеко не всегда были комплектными. Исследователи считают более надежным принимать реальную среднюю численность легионов за 5500—6000 чел. Легион представлял собой соединение вполне самостоятельное — он имел собственный лазарет, казну, канцелярию и даже собственные алтари.
Были созданы также набиравшиеся из римских граждан войска, не входившие в структуру легионов и находившиеся на привилегированном положении. Прежде всего это преторианские когорты (cohortes praetoriae), более известные как преторианская гвардия — личные войска императора. Уже со времен Сципиона Старшего у республиканских полководцев была для нужд охраны и т.п. своя преторианская когорта (от претория — места палатки полководца в римском лагере). У принцепса их было уже девять (предположительно, до 10 их число сначала не доводилось для того, чтобы не возник преторианский легион). Преторианские когорты размещались в Италии. Первоначально в Риме находились только три, а остальные были разбросаны по италийским городам, но Луций Элий Сеян, командовавший преторианцами при Тиберии, построил для них единый лагерь около Рима. С этого момента преторианцы стали серьезной политической силой как основной инструмент дворцовых переворотов. Помимо преторианцев существовали несколько менее привилегированные городские когорты (cohortes urbanae)Э подчиненные префекту города Рима. Их нумерация начиналась с десятой, как продолжение нумерации преторианских. Когорты с X по XII находились в Риме, а XIII располагалась в главном городе Галлии — Лугдуне (Лионе). Калигула создал три дополнительные преторианские когорты, распущенные Клавдием, а позднее Домициан вновь довел число преторианских когорт до десяти, каким оно и осталось до Септимия Севера. Веспасиан перевел XIII городскую когорту в Карфаген, а в Лугдуне создал I Флавиеву. Помимо этого военизированный характер имели 7 когорт вигилов (пожарных), размещенных в Риме. Вигилы не считались в полном смысле слова солдатами, и центурионская карьера для них была закрыта[89]. Ранее полагали (и это все еще можно прочесть в большинстве отечественных комментариев), что преторианские, городские и пожарные когорты были тысячными, но в настоящее время господствует точка зрения Марселя Дюрри, согласно которой они были нормальными пятисотенными[90].
Помимо войск, состоявших из римских граждан, император имел в Италии и некоторые гвардейские части, набранные среди варваров. Самым значимым из таких подразделений была германская конная стража (equites singulares Augusti), набиравшаяся в основном среди прирейнского племени батавов. После битвы в Тевтобургском лесу (9 г. н.э.) она была распущена, но позднее восстановлена и даже увеличена: если при Августе она насчитывала 400 чел., то Траян довел ее до 1000 чел. и построил для них специальный лагерь в Риме на Целии[91].
Кроме этих привилегированных варварских частей в состав армии по-прежнему входили вспомогательные войска (auxilia), набираемые среди подданных империи, не являвшихся римскими гражданами. По некоторым оценкам, в 150 г. их численность составляла ок. 220 тыс. чел. против 140—168 тыс. легионеров. Конкретное соотношение по провинциям могло быть разным. Если в Дакии при Адриане на один легион приходилось 34 000 солдат вспомогательных войск, то в Испании — 2500. Командование вспомогательными войсками принадлежало римским командирам, и они были организованы по римскому образцу в когорты и алы, хотя и не сводились в легионы, т.к. это считалось опасным. Части вспомогательных войск были трех типов: кавалерийские алы (alae), пехотные когорты (cohortes peditatae) и смешанные когорты (cohortes equitatae), и подразделения каждого из этих типов могли быть тысячными и пятисотенными. Вспомогательные части придавались легионам и со времени Веспасиана почти полностью уподобились войскам римского строя. Хотя они продолжали носить этнические наименования, но из-за региональных диспропорций набора комплектование по этническому признаку постепенно было оставлено. Например, в 88 г. фракиец Бит служил в Сирии в когорте мусуламиев[92] (CIL, XVI, 35).
Зависимые царства и племена, не входившие в провинциальную структуру, также зачастую должны были выставлять свои контингента в римскую армию. Эти части, называвшиеся numeri, nationes и symmachiarii, не организовывались по римскому образцу и вообще вплоть до времен Траяна не имели ни определенной численности (она колебалась от 100 до 1000 человек), ни сколь-либо единой структуры.
Система комплектации армии при Принципате была ориентирована в основном на добровольную вербовку. В случаях тяжелых кризисов могли производиться полноценные наборы (как во время Паннонского восстания 6 — 9 гг. н.э. или Маркоманнских войн при Марке Аврелии), но это было скорее исключение. Даже при наборе призванные могли выставить за себя заместителей. Пока служба в легионах оставалась привлекательной, с обычными потребностями набора (по имеющимся подсчетам, 9—14 тыс. ежегодно в легионы, 10—18 тыс. во вспомогательные войска) удавалось справляться без проблем. В легионы набирались только свободнорожденные римские граждане, вольноотпущенники (т.н. латинские граждане) шли в ряды вигилов и на флот, а провинциалы — во вспомогательные войска. Вспомогательные войска служили инструментом романизации, так как от их солдат требовалось знание латыни, а по завершении службы они получали римское гражданство. Латинские граждане получали римское гражданство после 3 лет службы.
Со временем (особенно начиная с Веспасиана) легионы все в большей мере набирались из римских граждан, живших в провинциях и транспаданском регионе Италии, а обитатели Средней и Южной Италии в основном шли лишь в преторианские и городские когорты (предполагают, что императоры считали более надежным набирать в армию провинциалов, т.к. они не были заинтересованы в римской политической борьбе). Со времени Адриана утверждается практика, пагубные последствия которой сказались в годы кризиса III века, — набирать войска каждой провинции на ее территории. Существование определенной политики по социальному составу новобранцев остается предметом споров[93].
Август приложил значительные усилия к изоляции солдат от гражданской общины, не свойственной прежде античному миру. Сроки службы были установлены весьма длительными — 16 лет для преторианцев, 20 лет для легионеров, 25 лет для вигилов (и отставка зачастую затягивалась). Бракам солдат было отказано в юридическом признании (зато на солдат не распространялись ограничения законов против холостяков). Имущество солдат (реculium castrense) выводилось из-под власти отца семейства. Даже в театре солдаты были отделены от граждан (Suet., Aug., 44, 1). Принципом Ранней Империи (нарушавшимся лишь в некоторых восточных провинциях, где этого требовали стратегические соображения) было не размещать солдат в городах, во избежание их вовлечения в городские беспорядки.
Императоры сосредоточили в своих руках дело жалования и награждения солдат. Для выплаты им выходных пособий (praemia) Август создал специальную военную казну (aerarium militare), обычное же жалование и подарки по случаю восшествия на престол, триумфов и других торжеств (donativa) платились из императорского фиска. Жалование было существенно увеличено в сравнении с республиканскими временами. Август установил жалование простого легионера и вигила в 900 сестерциев (225 денариев), солдата городских когорт в 1500 сестерциев, преторианца в 3000 сестерциев. Размеры жалования во вспомогательных войсках остаются предметом споров, оно могло составлять от 2/3 до 5/6 жалования в легионах[94]. Солдатское жалование было достаточно велико — это видно из того, что по данным египетских папирусов солдаты откладывали 20 — 30% жалования. Домициан увеличил жалование легионеров до 1200 сестерциев (и прочие размеры жалования соответственно), что, впрочем, ненамного опередило снижение веса денария за время между Августом и Домицианом с 3,9 до 3,27 г. Во II в. солдатское жалование не повышалось до правления Коммода, инфляцию же компенсировали увеличением донативов. Так, при восшествии на престол Марка Аврелия и Луция Вера в 161 г. преторианцы получили по 20 000 сестерциев. По окончании полного срока службы (почетная отставка, honesta missio) солдаты получали выходное пособие в размере 12 000 сестерциев (у преторианцев — 20 000), привилегии ветеранов (освобождение от действия некоторых законов) и зачастую земельный участок в колонии.
Римская армия времен Ранней Империи была первой армией, в которой утвердилась развитая табель о рангах (и единственным римским общественным институтом, в котором о ней можно с какой-то уверенностью говорить — существование в Риме бюрократии современными исследователями поставлено под сомнение), хотя и в ней она все-таки не коснулась самой верхушки.
«Нижние чины» римской армии со времен Антонинов делились на три категории: milites gregarii (простые солдаты), immunes (термин впервые засвидетельствован в 113 г.) и principales (термин встречается с 134 г.). Immunes — это простые солдаты, освобожденные по роду своей деятельности от лагерных повинностей, как то: медики, оружейники, горнисты, ремесленники, писари, счетоводы и стенографы. Princi pales — это младший командный состав центурии и ординарцы старших офицеров, получавший двойное (duplicarii) или полуторное (sesquiplicarii) жалование. Главные посты этого рода — это опцион (optio, заместитель центуриона), знаменосец (signifer, являлся также хранителем солдатских сбережений) и передающий пароль (tesserarius). Всего в штатном расписании легиона, по подсчетам английского историка Д. Бриза[95], насчитывалось ок. 620 иммунов и 480 принципалов (в т.ч. ок. 180 optiones, signiferes и tesserarii).
Становым хребтом римской армии и при Принципате оставались центурионы и примипилы. Их численность была невелика — одновременно в римской армии насчитывалось всего лишь около 1800 центурионов, а одновременно живых примипиляров (primipilares, звание, со времен Августа присваивавшееся примипилам после года службы) было предположительно около 600. Звание центуриона можно было получить двумя путями: или получить непосредственное назначение от императора при вступлении в армию (это было возможно для римских всадников, начинавших военную карьеру и не желавших сразу начинать с поста трибуна), или выслужиться, начиная с рядового. Предполагалось, что будущий центурион должен получить равно командный и административный опыт, занимая поочередно младшие командные посты в центурии и должности в легионной канцелярии или канцелярии наместника. Обычно назначение центурионом следовало не менее, чем через 13 лет службы. Дальнейшая карьера вплоть до примипила соответствовала градации центурионских рангов, установленной еще при Республике. Далее открывались новые возможности: трибунат пожарных, городских или, в особых случаях, преторианских когорт в Риме, пост препозита (praepositus) — командира когорты — и, наконец, высший пост в центу рионской иерархии — префект лагерей (praefectus castrorum), третье лицо в командной иерархии легиона, отвечавший за разбивку лагеря, снабжение и т.п. По установлениям Августа центурионы могли становиться трибунами и префектами конницы, но после Клавдия это становится исключением. Карьера могла занимать много времени — в надписях встречаются примипилы, получившие этот пост на сороковом году службы и позднее. Центурионы получали весьма значительное жалование — 20 000 сестерциев в легионах и 25 000 в преторианских когортах, а примипилы — 100 000. После трибуната в Риме центурион мог получить в высшей степени почетное звание примипила повторно (primus pilus bisiterum или princeps) с жалованием в 120 000 сестерциев, фактически советника командующего. После отставки центурионы зачастую входили в муниципальные советы, а примипилы получали звание римских всадников и в случае особых заслуг могли начать прокураторскую карьеру. Круг обязанностей центурионов был весьма широк — помимо собственно командования центурией им могли поручаться дипломатические и разведывательные миссии, пост начальника канцелярии наместника (princeps praetorii), начальство над отдельными военными постами для борьбы с разбоями и вообще над выделенными из легиона соединениями (vexillationes), доставка смертных приговоров сенаторам и т.д.
Предполагают, что в императорской армии каждая когорта получила отдельного начальника. Первыми шестью когортами командовали трибуны, а остальными четырьмя — препозиты. Из числа шести легионных трибунов пять были всаднического ранга (т.н. tribuni angusticlavii), а один — сенаторского (tribunus laticlavius), за исключением Египта, в который запрещалось въезжать сенаторам, и в силу этого в стоявшем в Египте легионе все шесть трибунов были всаднического ранга. Из числа всадников набирались и префекты когорт и ал вспомогательных войск. В период от Веспасиана до Траяна сложилась система всаднической военной карьеры (т.н. система tres militiae). Римские всадники последовательно занимали ряд постов (каждый от 2 до 4 лет), первым из которых был пост префекта пятисотенной когорты вспомогательных войск (их было ок. 150), затем пост tribunus angusticlavius (также ок. 150) или префекта тысячной когорты (ок. 30) и, наконец, пост префекта алы (ок. 70). В исключительных случаях за ним следовал пост префекта тысячной алы (ок. 30). Пост трибуна-латиклава занимали сыновья сенаторов, начинавшие свою карьеру, на время от б месяцев до 2 — 3 лет. В редких случаях сенаторский сын получал два трибуната, и нам известны всего лишь два примера, когда кто-либо был трибуном-латиклавом трижды (один из этих случаев — император Адриан).
Легионом в целом командовал, вновь за исключением Египта, где это делал префект всаднического ранга, легат легиона (legatus legionis), сенатор, ранее занимавший должность претора, вторую сверху в ряду традиционных римских магистратур. Должность эта занималась в течение 2—3 лет. Мы можем видеть из системы назначения легатов и трибунов, что профессионализация высшего командного состава не была достигнута и при Империи — трибуны были еще слишком неопытны, а сенаторская карьера была связана далеко не только с военными достижениями. На основании источников можно полагать, впрочем, что командирами легионов и наместниками провинций, в которых ожидались значительные боевые действия, назначались опытные военные, неопытным же могли помогать профессиональные военные — центурионы, и в целом система была достаточно эффективна и обладала тем преимуществом, что важнейшие военные решения принимали люди, находившиеся в курсе высшей политики.
Помимо этого, система комплектации армии и командного состава выполняла важную функцию поддержания социальной стабильности, напрямую связывая роль каждого социального слоя в армии с его ролью в социальной структуре Римской империи в целом.
Римляне придавали большое значение поддержанию дисциплины, традиционно высокой, и боеготовности войск. Регулярно проводились легионные учения. Особенное внимание этому вопросу уделяли Траян и Адриан. Они дополнили «постановления Августа» («constitutiones Augusti»), которыми регулировались эти вопросы, а Адриан лично проинспектировал войска во всех провинциях. До нас дошла чрезвычайно интересная надпись, рассказывающая об учениях, которые перед лицом Адриана провел III Августов легион в Тимгаде (Африка). Несколько осовремененный перевод этой надписи дан в книге Дельбрюка[96].
Спектр задач римской императорской армии был чрезвычайно широк. Помимо собственно задач борьбы с врагами Империи и подготовки к этому, на плечи армии ложились задачи собственного снабжения, ремонта и производства вооружения, охрана дорог и пресечение разбоев, зачастую — сбор налогов и особенно пошлин. Из состава армии привлекались солдаты для службы в канцелярии наместника. Солдаты занимались также и доставкой официальных сообщений — как внутри провинции, так и в Рим (в Риме был даже построен специальный лагерь для временно находящихся там легионеров — Castra peregrinorum). Из числа легионов привлекались солдаты в почетную стражу наместника и именитых гостей. Вообще, поскольку римская власть не располагала сколько-нибудь заметным бюрократическим аппаратом, в случае возникновения экстренных административных задач к ним привлекались именно солдаты. Все это существенно ослабляло легионы. Императоры с военным опытом (например, как видно из его переписки с Плинием Младшим, Траян) старались противодействовать дроблению боевых соединений, но в целом тенденция была ко все большему отвлечению солдат от непосредственных военных задач, и уже в войнах II века редко участвуют полные легионы.
Рассредоточению легионов способствовало и изменение общей римской стратегии, приобретшее необратимый характер со времен Адриана. На место воспевавшейся поэтами Августова века imperium sine fine («безграничной империи») приходит концепция защиты имеющихся границ "Империи. Соответственно этому меняется и диспозиция войск. Если в I в. войска концентрировались в лагерях, откуда были готовы выступить для крупных действий против варварских племен, то Адриан возводит вдоль границ оборонительные линии, т.н. лимесы (limites, отсюда наше «лимит»), наиболее известным из которых является Адрианов Вал в Британии, и по крайней мере вспомогательные войска рассредотачиваются по фортам вдоль линий.
В настоящее время приобрела популярность[97] теория, согласно которой лимесы не имели и даже не могли иметь военного значения (так как не могли бы воспрепятствовать крупному вторжению), а предназначались исключительно для контроля за перемещениями через границу. Представляется, что для столь радикальных выводов нет серьезных оснований — система фортов была эффективна против варварских дружин в несколько сот бойцов еще в IV в., а буйные набеги угрожали римским границам не так уж часто. Характерно, что лимесы возводились не на парфянской границе, со стороны которой можно было бы ждать значительной армии, а там, где Рим имел дело с разрозненными племенами — в Аравии, Мавретании, Британии, на Рейне и Дунае. Однако, безусловно, способность армии к крупномасштабным действиям Адрианова диспозиция снижала.
Римский флот эпохи Принципата не участвовал в крупных боевых действиях. После завоевания Египта Средиземное море превратилось в «римское озеро» и между битвой при Акции и столкновением Лициния и Константина в 324 г. больших сражений не было. Однако, в отличие от времени после Пунических войн, флот не был распущен, а остался для нужд охраны судоходства от возрождения пиратства (от Августа до Септимия Севера нет ни упоминания пиратов в исторических источников, ни рассмотрения соответствующих положений законов юристами), доставки сообщений и переправки войск. В отличие от армии флот базировался главным образом в Италии — два основных флота империи располагались в Мизене (classis Misenensis) на Тирренском море и в Равенне (classis Ravennas) на Адриатике. Август создал из захваченных у Антония кораблей еще один флот в Форуме Юлия (ныне Фрежюс) в Галлии, но с гниением этих кораблей он был ликвидирован. Главной базой стал Мизен, в пользу которого говорили близость к Риму, малая использованность этой гавани торговыми судами и ее расположение на основном пути доставки зерна в столицу. Зона действий Равеннского флота в основном ограничивалась Адриатикой. Помимо этого существовали провинциальные морские и речные флоты — мавританский флот, александрийский флот (который при Траяне, пройдя Нильским каналом, вышел в Индийский океан), сирийский флот в Селевкии, понтийский флот в Трапезуйте, мезийский и паннонский флоты на Дунае, германский флот на Рейне, британский флот в Гезориаке (Булонь). Численность флота нам неясна — мы знаем названия примерно 80 кораблей Равеннского и Мизенского флотов, но не все упоминания относятся к одному времени. Исходя из того, что из каждого флота Нерон смог набрать по легиону, предполагают численность каждого из флотов не менее чем в 50 крупных кораблей. Основными кораблями были триеры и, в меньшей степени, тетреры и пентеры (лат. аналоги названий — триремы, квадриремы и квинкверемы).
Во главе основных флотов стояли всаднические префекты (одним из префектов Мизенского флота был автор «Естественной истории» Плиний Старший) с жалованием в 200 000 сестерциев. Обозначения более низких морских должностей были греческими, что показывает влияние эллинистических флотов. Судя по единственной, дошедшей до нас надписи с полной морской карьерой (CIL, XI, 86), командир корабля назывался, как и в Греции, триерархом, командир эскадры — навархом, а профессиональный помощник командующего — первым навархом (navarchus princeps). Рядовой состав флота набирался из провинциалов и вольноотпущенников и организовывался по военному образцу — команда каждого корабля представляла собой центурию.
6. Римская армия времен поздней Империи (III—V вв. н.э.)
Внутренние проблемы римской армии впервые ярко проявились в правление знаменитого Марка Аврелия (161 — 180) под бременем многочисленных трудностей. Большую часть этого период Рим вел тяжелую войну с племенами маркоманнов и квадов на верхнем Дунае, и с этим совпали чума, война с Парфией и первая более чем за сто лет попытка узурпации. Для решения военных проблем Риму пришлось концентрировать на угрожаемых направлениях на длительный срок силы, превышающие обычный гарнизон провинций под началом более или менее постоянных командующих. Это показало, во-первых, невозможность переброски целых легионов, вовлеченных в сеть административных обязательств в районе дислокации, и необходимость создания сборных отрядов из выделенных из состава разных легионов частей, а во-вторых, нужду в дальнейшей профессионализации высшего командного состава. Многие полководцы Марка Аврелия (например, Гельвий Пертинакс, в 193 г. ставший императором) отнюдь не блистали знатным происхождением.
Но решительные перемены в римской армии начались несколько позднее, когда в результате гражданской войны 193— 197 гг. к власти пришел Септимий Север. Прежде всего, произошли значительные изменения в статусе солдат. Жалование рядового легионера было увеличено до 500 денариев (2000 сестерциев) с 375 денариев (1500 сестерциев), установленных Коммодом, а сын Севера, Каракалла, довел его до 750 денариев. При этом было увеличено продуктовое довольствие и сняты многие ограничения на занятие легионеров ремеслами и особенно сельским хозяйством. Римское право признало законными браки солдат. Север отказался от принципа не размещать солдат в городах, и многие легионы были переведены из лагерей в города. Солдаты в значительно большей мере, чем раньше, стали привлекаться к административной работе — именно с Севера начался процесс замены административного аппарата, состоявшего из вольноотпущенников принцепса, на милитаризованный[98]. Ключевое значение в администрации империи приобретает командующий гвардией — префект претория (этот пост при Северах занимают знаменитые юристы Папиниан и Ульпиан), который становится практически заместителем императора. Можно найти две основные причины тому, почему Север, способный полководец, имевший в своем окружении множество специалистов по военному делу, пошел на меры, очевидно влекущие за собой падение дисциплины и боеспособности войск. Во-первых, придя к власти в результате первой за более чем сто лет гражданской войны и не пользуясь поддержкой в сенате, он вынужден был в очень значительной мере опираться на солдат (известен его предсмертный завет сыновьями: «Оставайтесь в мире друг с другом, обогащайте солдат и не обращайте внимания на всех остальных»). Во-вторых, даже такое значительное повышение жалования, как предпринятое Севером, не могло угнаться за обесцениванием монеты — ко времени его правления вес денария снизился до 3,14 г, а доля серебра в нем составляла 40 —50%.[99] Естественно, популярность набора падала, и требовалось принимать срочные меры для привлечения людей в армию (наборы не годились из-за слишком долгого срока службы). Естественно, экономические трудности заставляли Севера и в еще гораздо большей степени его преемников рассчитывать на достижение армией автаркии. (Масштаб обязательств, налагаемых содержанием армии на финансы Римской империи, хорошо виден из вычисленных специалистами объемов снабжения продовольствием и фуражом: на легион в год должно было уходить 2032 т зерна, а на прокорм коней кавалерийской алы — 635 т овса).
Север, побуждаемый, очевидно, как военными соображениями, так и конфликтом с сенатом, повысил роль римских всадников в высшем командном составе. При нем впервые появляются всаднические командиры легионов за пределами Египта — префекты легиона, действующие вместо легата (praefectus legionis agens vice legati), и всаднические наместники провинций с войсками. Осознав угрозу одновременных крупных конфликтов на многих границах, на которую августова военная организация рассчитана не была, Север увеличил армию на три легиона (I, II и III Парфянские — во главе их-то и были поставлены всадники) и реорганизовал армию в Италии, создав тем самым первые предпосылки к возникновению в римской армии мобильного резерва. Численность войск в Италии, по подсчетам М. Дюрри, возросла с 11 500 до 30 000 чел., благодаря превращению преторианских и городских когорт в тысячные и размещению, в нарушение августовой традиции, II Парфянского легиона рядом с Римом, в городе Альба, откуда он сопровождал императора в крупные походы. Во пресечение дворцовых переворотов Север распустил старую преторианскую гвардию и стал набирать ее заново не из италиков, а из отличившихся солдат провинциальных легионов. С этим событием Италия окончательно теряет свое значение в качестве района набора в армию.
После падения династии Северов в истории Римской империи начался период, известный прежде всего под названием «кризиса III века». Повсеместно возникают узурпаторы, многие части империи отпадают от нее на долгие годы, на этом фоне нарастает угроза со стороны соседей Рима. По всей вероятности, в нем сыграли роль и военные факторы: набор легионов внутри провинции и перевод их на автаркическое хозяйство должны были способствовать сепаратистским тенденциям.
Наиболее тяжелым положение империи стало в правление императора Галлиена (253 — 268, до 259 совместно с отцом). Аламанны занимают территорию современной Швейцарии и делают набеги на Италию, готы опустошают Балканы, персы в 259 г. берут в плен его отца, императора Валериана, от Рима отпадают Галльская империя и Пальмирское царство на востоке. Количество узурпаторов времен Галлиена было так велико, что позднейший автор не считал их, а просто писал «сорок тиранов».
В попытке противостоять кризису Галлиен проводит новые преобразования в армии. Где-то между 255 и 259 гг. он собрал в Медиолане (Милане) значительные кавалерийские силы, выведенные из состава легионов и вспомогательных войск. Можно предполагать, что главное походное войско Галлиена насчитывало около 50 000 чел., в т.ч. около 20 000 чел. ударной кавалерии. Милан — очень удобное место для размещения мобильного резерва с задачей противодействовать набегам через Альпы и угрозе со стороны мятежных галльских и иллирийских легионов. Не зря в более поздний период этот город часто был резиденцией императоров. Реформа Галлиена — первый шаг в сторону превращения кавалерии в главную силу римской армии вместо легионов.
Ко времени Галлиена относится окончательная замена сенаторов на постах командиров легионов всадническими префектами и начало серьезных изменений в командной структуре легиона (так, значительно снижается роль центурионов и исчезают примипилы — видимо, из-за профессионализации командира легиона).
Нарастает в годы кризиса III века проблема выплаты жалования солдатам. В попытке соответствовать требованиям солдат и не допускать задержек жалования императоры все более обесценивают монету. К концу правления Галлиена содержание серебра в денарии составляло всего 5%, а под видом золотых чеканились позолоченные медные монеты. Усугубляло положение то, что люди, естественно, припрятывали старую монету — наибольшее число монетных кладов до нас дошло именно от этих лет.
Императоры Аврелиан (270 — 275) и Диоклетиан (284 — 305) вновь собирают Римскую империю воедино. С именем Диоклетиана, а затем Константина (306 — 337) связаны обширные реформы, послужившие началом нового устройства Римской империи, последнего в античный период, известного под названием «доминат». Как и при основании принципата Августом, общая реформа государственного устройства не могла обойти стороной военную организацию. К сожалению, мы много хуже осведомлены о времени Диоклетиана и Константина, чем о времени Ранней империи, и обладаем в основном источниками либо более поздними, либо церковными. Поэтому многие вопросы военной реформы остаются предметом споров в историографии, а многие преобразования нельзя точно приписать Диоклетиану либо Константину.
Диоклетиан оказался вынужден, под напором военных угроз с самых разных сторон, разделить императорскую власть.
Хотя сама Диоклетианова схема, известная под названием тетрархии (имелось два старших императора — Августы, и два младших — Цезари, которым через 20 лет должна была перейти власть от Августов), ненадолго пережила своего создателя, с этого времени власть в империи практически постоянно принадлежала не одному императору, а коллегии императоров, находящихся в разных резиденциях, что и нашло свое логическое завершение в разделе империи на Восточную и Западную в 395 г. Это была в значительной мере именно военная необходимость, а также необходимость иметь во главе удаленных легионов надежного человека.
В собственно военных мероприятиях Диоклетиана можно в качестве основных выделить увеличение численности армии, новые меры по созданию мобильного резерва (походное войско Галлиена к тому времени постепенно рассредоточилось по провинциям), меры по новому укреплению границ и реформу системы набора.
Точные размеры армии Диоклетиана нам неизвестны. Христианский апологет Лактанций в сочинении «О смерти гонителей» упрекает его в том, что каждый из четырех соправителей имел больше войск, чем во всей Империи до начала правления Диоклетиана (Lact., De mort. pers., 7, 2), но это очевидное художественное преувеличение. Список должностей начала V в. («Notitia dignitatum») и византийский историк Агафий Миринейский дают официальную численность армии Поздней Империи в 645 000 чел., но эти данные, во-первых, относятся к периоду на сто лет более позднему, а во-вторых, реальная численность армии скорее всего никогда не достигала этой бумажной цифры. Историк VI в. Иоанн Лидийский, пользовавшийся официальными документами эпохи тетрархии, дает численность армии в 389 704 чел., а флота в 45 562 чел. (Ioh. Lyd., De mens., I, 27), что совсем не является значительным увеличением в сравнении с армией принципата, но эти данные могут относиться к раннему периоду правления Диоклетиана. По подсчетам А.Х.М. Джонса[100], к началу правления Диоклетиана сохранялись все 33 северовских легиона (возможно, за одним или двумя исключениями) и к ним добавилось по меньшей мере 35 новых.
Неизвестно, однако, каков был размер новых Диоклетиановых легионов. Очевидно, что в IV в. размеры легиона значительно сокращаются (это видно, в частности, из размеров новых легионных крепостей), но не известно в точности, Диоклетиан ли начал этот процесс. В настоящий момент наиболее принята точка зрения, по которой старые легионы при Диоклетиане сохраняли традиционный размер в примерно 6000 чел., а новые были меньше и насчитывали где-то 1000—1500 чел.
Не менее спорным, чем вопрос о численности, остается и вопрос о наличии при Диоклетиане мобильного резерва. С уверенностью можно сказать лишь то, что при Диоклетиане существовало некое войско, носившее название «свиты» (comitatus). Уже в отношении существования аналогичных частей у его соправителей уверенными быть нельзя. Нет уверенности и в вопросе о численности этого войска. Из того что Константина впоследствии обвиняли в отводе слишком большого числа войск в глубь страны и из масштаба работ по восстановлению пограничной линии при Диоклетиане, можно заключить, что оно было скорее всего не слишком велико.
При Диоклетиане начался также процесс разделения гражданской и военной администрации. Собственно, административная реформа Диоклетиана, по итогам которой империя была разделена более чем на 100 провинций, сделала подобное деление неизбежным, но при нем независимые командующие на местах, носившие наименования дуксов (duces) и комитов (comites rei militaris), появились еще далеко не всюду, и вся администрация, как гражданская, так и военная, по-прежнему сходилась к префектам претория, которых теперь становится несколько (по одному на правителя).
Наиболее радикальной реформой Диоклетиана было изменение системы комплектации армии. В качестве основного источника пополнения легионов вводится принудительный набор, социальная база для которого была создана эдиктом Каракаллы 212 г., превратившим всех свободных жителей Империи в римских граждан. Дети ветеранов были обязаны идти в армию (это должно было, по всей видимости, обеспечить профессионализм), остальное население должно было выставлять рекрутов. В армию не брали, с одной стороны, рабов и представителей «презренных профессий» (кабатчиков, поваров и т.п.), а с другой — представителей высшего сословия (honorati), которые шли в нее добровольно и с офицерским чином. Набор сталкивался с весьма серьезными трудностями, едва ли меньшими, чем добровольная комплектация. Появляются случаи нанесения себе телесных повреждений для уклонения от воинской повинности, и в 368 г. император Валентиниан в условиях тяжелых боев на Рейне даже постановил (C.Th., 7, 13, 5), что сыновья ветеранов за такое преступление караются сожжением заживо.
Едва ли не основной причиной трудностей набора были, как и прежде, трудности с финансированием армии. После обесценивания монеты в III в. размеры жалования так и не вернулись на прежний уровень даже после введения новой полновесной золотой монеты (солида) Константином и с учетом дополнительных выдач продуктов и фуража. Даже чиновник столь высокого ранга, как префект Египта, получал в IV в. всего лишь примерно 6000 «доинфляционных» денариев[101]. Значительная часть жалования выдавалась не деньгами, а натурой. В этих условиях Диоклетиан и его преемники пошли путем, во-первых, дальнейшего усиления экономической независимости армии (что влекло за собой все большее оседание на земле солдат провинциальных легионов) и, во-вторых, путем расширения ветеранских привилегий. Все ветераны освобождались от тяжелой подушной подати, те из них, кто отслужил 20 лет, получали освобождение от подати также для своей жены, те же, кто прослужил 24 года, долу чал и освобождение для четырех человек.
Завершение формирования позднеримской военной организации связано, бесспорно, с именем Константина Великого, который провел несколько чрезвычайно важных реформ.
Прежде всего Константин последовательно провел принцип разделения военной и гражданской власти (были некоторые исключения, например в момент персидской войны в руках комита Востока объединялась гражданская и военная власть, но они были редки). На уровне провинций или групп провинций назначались дуксы или комиты, на высшем уровне префекты претория к концу правления Константина были лишены военной власти, перешедшей к командующим, за которыми обычно сохраняют латинское название — magistri militum. Бывали магистры конницы (magistri equitum), пехоты (magistri peditum) и, в редких случаях, обоих родов войск (magistri utriusque militiae). Из наименований магистерских рангов видна тенденция к созданию крупных соединений конницы, не зависимых от пехоты, несвойственных периоду Ранней империи. В коннице большую роль начинают играть соединения тяжеловооруженных всадников, созданные по персидскому образцу — катафракты.
Константин и его ближайшие преемники старались соблюдать принцип, согласно которому в одном регионе военный чиновник должен был быть по табели о рангах ниже гражданского, но позднее от этого принципа отступают (первым императором, которого обвиняли в этом, был правивший в 364 — 375 гг. Валентиниан), и все ведущие деятели конца IV —V вв. носят титул magister militum: Арбогаст, Стилихон, Аэций, Бонифаций, Рицимер и другие.
На легионном уровне в IV в. также изменяется большая часть названий должностей. Командиры легионов носят наименование препозитов, трибунов или префектов. Высшим чином среди младших офицеров был примикерий (primicerius). Двумя сотнями командовал дуценарий (ducenarius). Звание центуриона исчезает из военной терминологии, и командир сотни получает название цен-тенарий (centenarius). Известны наименования еще ряда младших офицеров, но их функции неясны.
Не менее далеко идущей реформой было окончательное разделение пограничных частей и мобильных войск. При Константине окончательно выделяются свитские войска (comitatenses), представлявшие из себя центральный мобильный резерв Империи, и либо при нем, либо при его сыновьях на местах создаются ложно-свитские (pseudo-comitatenses) войска, составлявшие мобильный резерв конкретной границы. Войска, оставшиеся на границе, получают название «береговых» (ripenses),а позднее — более простое название пограничников (limitanei). Co свитскими войсками не следует путать личную гвардию императора (scholae palatinae), созданную Константином на месте распущенной им преторианской гвардии (эта последняя поддержала в борьбе за трон соперника Константина Максенция). Гвардия находилась всегда под личным командованием императора, что служило своего рода гарантией его безопасности.
Римский флот сохраняет свое господство на морях даже некоторое время после появления варваров на берегах Средиземного моря. Еще в 419 г. восточный император Феодосии II издавал закон, каравший смертью за обучение варваров морскому делу. Первыми бросили римлянам вызов на море вандалы примерно через десять лет после этого.
В течение некоторого времени военная организация Диоклетиана и Константина была достаточно эффективна в защите римских рубежей. Римлянам удавалось одерживать серьезные победы над северными варварами на Рейне, на Дунае и в Британии, а в 363 г. Юлиан Отступник даже смог нанести персидскому царю Шапуру II поражение под стенами персидской столицы Ктесифона. В ней, однако, с самого начала заключались семена разложения.
Первой проблемой было то, что из-за нежелания римских граждан идти в армию в нее набиралось все больше варваров, как в регулярную армию (это хорошо видно по именам римских офицеров в «Римской истории» Аммиана Марцеллина), так и в качестве племенных соединений — федератов (foederati). Складывается единая римско-варварская военная аристократия[102], к варварскому крылу которой и принадлежали правители позднейших варварских королевств. Надо заметить, что многие современники положительно относились к превращению вчерашних врагов в римских солдат, и выступления вроде речи оратора Синесия «О царстве», в которой он говорил о федератах, что «мы наняли волков вместо сторожевых псов» (Synesius, De regno, 19), были достаточно редки. Отрицательные последствия этой системы сказались далеко не сразу.
Второй проблемой была все большая связь пограничных войск с ведением мирного хозяйства и все большая нужда в вооружении местного населения при набегах варваров в силу падения боеспособности пограничников. По меткому замечанию Рэмзи МакМаллена, «обыватели стали солдатами, а солдаты — обывателями»[103]. Способствовало этому и то, что для лучшего обеспечения комплектации пытаются сделать службу в пограничных легионах пожизненной.
Крах римской армии традиционно связывают с двумя сражениями: гибелью армии восточного императора Валента в битве с принятыми им в пределы империи готами при Адрианополе в 378 г. и поражением, которое Феодосии Великий нанес армии западного императора Евгения в 394 г. при Фригидусе. Конечно, такая связь чересчур прямолинейна, но эти поражения, безусловно, радикально ускорили процесс варваризации армии. Крупные массы федератов с семьями переходят в пределы Империи, и это становится началом конца. «Последним римлянином» во главе всей армии в западной части Империи был Аэций, победитель Аттилы на Каталаунеких полях (451 г.), и армия, которую он вел в бой, была уже выставлена коалицией расселившихся в Империи варварских племен. Многие обращаются к иным методам сохранения римского влияния. Так, magister militum Северин, восстановивший римскую власть в провинции Норик при помощи военной силы по поручению императора Майориана (457 — 461), в конце 460-х гг. возвращается в Норик уже в качестве христианского проповедника и добивается славы именно как таковой[104].
Как известно, Западная Римская империя не смогла устоять перед военными и иными проблемами и к концу V века рассыпалась, и с этого начинается история варварских королевств; Восточная же смогла разрешить свои проблемы и уцелеть, и с этого начинается история Византии[105]. Обе эти темы будут рассмотрены нами далее.
Г. Кантор
Часть II
СРЕДНИЕ ВЕКА
Барри С. Страусc
Темные века, ставшие светлее.
Последствия двух поражений
Данная статья представляет собой попытку порассуждать о двух сражениях. О том, что могло бы случиться, завершись они иначе, не так, как в реальной истории.
Оба раза одна из противоборствовавших сторон находилась на пределе своих возможностей, отступая или наступая. В первом случае (Адрианополь, 378 г. н. э.) Римская империя потерпела сокрушительное, еще более тяжкое, чем в Тевтобургском лесу, поражение, повлекшее за собой окончательный упадок мировой державы. Во втором — (Пуатье, вероятно 732 г. н. э.) войска франков остановили мусульман в тот момент, когда воители ислама вознамерились распространить свою власть на всю Европу — ВЕЛИКУЮ ЗЕМЛЮ, как называли ее в арабском мире.
Но была ли Римская империя (во всяком случае, та ее часть, что господствовала над Западной Европой) действительно обречена умереть, сделав возможным наступление Темных веков? И являлось ли наступление этих веков, быть может не таких уж темных, исторически неизбежным? По мнению Барри С. Страусса, вину за случившееся следует возлагать не столько на «шпенглеровскую» усталость римского государства, сколько на одного человека — императора Валента. Историк утверждает, что Валент погубил армию в бою, который следовало оттянуть или не давать вовсе. (Заметим, что у стен Адрианополя — нынешнего города Эдирне в Турции — происходило едва ли не больше битв, нежели в каком-либо ином месте в мире. Злосчастное столкновение Валента с варварами явилось всего лишь одной из пятнадцати крупных военных операций, случившихся там за последние 1700 лет.) Вестготы, разгромившие римское войско и убившие императора, двинулись дальше и в конечном счете разграбили сам город Рим. Империю было уже не спасти, но Страусе утверждает, что все могло обернуться иначе. Каким же должен был стать мир, который продолжал бы возглавлять Рим?
Динамический импульс, принадлежавший некогда Римской империи, перешел к новому средоточию силы — Арабскому халифату. Со дня смерти основателя ислама пророка Мухаммеда не прошло и столетия, а мусульманские воители уже расширили пределы своей державы далеко на запад, покорив землю Аль-Андалус (как они называли нынешнюю Испанию). В какой же степени битва при Пуатье определила дальнейший ход истории? Страусе склоняется к мнению тех исследователей, которые считают это событие поворотным пунктом. Несомненным его последствием явилось воцарение династии Каролингов, сыгравшей выдающуюся роль в истории Европы раннего средневековья. (Карл Великий был внуком победившего при Пуатье Карла Мартелла.) Но при ином исходе сражения иным оказалось бы и грядущее. Некий анонимный средневековый хронист писал: «На равнине Тур, — иногда место сражения называют так, — арабы были близки к созданию мировой империи, но упустили эту возможность». Следует признать, что так и не возникшая империя могла стать воистину великой, ведь арабы немало способствовали распространению просвещения.
Сражение у Адрианополя и битва при Пуатье рассматриваются в статье в русле так называемой теории контрафакта первого порядка. В соответствии с этой теорией, незначительные события могли бы повлечь за собой коренные изменения в ходе истории. Подумаем, как переменился бы наш мир, если бы Валент проявил больше терпения, а Абд-ар-Рахман, командовавший мусульманами при Пуатье, остался бы в живых.
Барри С. Страусс — профессор истории и классической филологии в университете Корнуолла. Также он является директором программы изучения проблем поддержания мира. Автор таких трудов, как: «Отцы и дети в Афинах», «Анатомия ошибки: современная стратегия и уроки военных бедствий древности» (в соавторстве с Джосией Обером), «Против течения: об изучении искусства править кормовым веслом в сорок».
Раннее средневековье в Европе отмечено двумя событиями, которые существенно изменили бы мир, обернись каждое из них по-иному. Речь идет о падении Западной Римской Империи и волне мусульманских завоеваний. Если бы Рим сохранил господство над Европой или же эта власть перешла бы к победоносной мусульманской империи, Европа не оказалась бы ввергнутой в хаос Темных веков (500—1000 гг. н. э.). Безусловно, в конечном итоге даже хаос способен принести дивиденды. Некоторые утверждают, что Темные века посеяли семена грядущей западной свободы, а иные и вовсе отрицают наличие в них чего-либо темного. Но, как бы то ни было, порядок и стабильность, какие всегда утверждает империя, в эту эпоху отсутствовали. А судьбы империй — будь то римская или мусульманская — определили результаты сражений, которые могли бы быть и иными.
Вне всякого сомнения, возвышение и падение империй — процесс длительный. Но самые тяжелые двери висят на маленьких дверных петлях, и в обоих рассматриваемых случаях (Адрианополь, 9 авг. 378 г. и Пуатье, октябрь 732 г.[106]) эти петли повернулись. Разгромив под Адрианополем римскую армию и убив императора, германский народ вестготов положил начало столетию агонии империи, завершившемуся ее гибелью. Но для того, чтобы все сложилось иначе, было бы достаточно самой малости. Прояви командующий чуть больше терпения, появись у солдат возможность как следует отдохнуть перед боем, переменись погода... Любой из этих факторов мог оказаться для империи спасительным.
При Пуатье франки разбили мусульманское войско. Сама битва уступала по размаху Адрианопольскому сражению, но ее психологические и политические последствия оказались не менее весомыми. Во-первых, был положен конец доселе беспрепятственному расширению исламских владений. Во-вторых, победа Карла Мартелла стала оправданием для смены династии и перехода верховной власти в руки его потомков. Внук Мартелла, вошедший в историю как Карл Великий (758—814 гг.), управлял огромным государством. В рамках этого государства определились основные черты будущей Европы в широчайшем диапазоне. Были очерчены границы будущих Франции и Германии, возникла система вассалитета, появились епархиальные школы, ставшие предтечами университетов. Однако, если бы арабский военачальник не сложил голову при Пуатье, франки, возможно, потерпели бы поражение. В этом случае новая династия, создавшая великую франкскую державу, не пришла бы к власти, а место империи Карла Великого заняла бы мусульманская Франция, или даже мусульманская Европа.
Средиземное море, ставшее исламским озером
Современные историки уже не считают, что в раннем средневековье вся Европа севернее Испании прозябала во тьме невежества. Там, где исследователи прошлого видели лишь гибель римской цивилизации под натиском варваров, нынешняя медиевистика склонна видеть политическую и культурную преемственность романо-германских королевств по отношению к империи. Там, где не видели ничего, кроме горя и бедности, отмечают укрепление слоя свободных земледельцев и сохранение торговых связей. А вместо сетований по поводу упадка культуры говорят о новом взлете, проявившем себя в разных областях. В это время были созданы кельтские манускрипты и образец германской эпической поэзии «Беовульф», появился новаторский по своей сути монашеский орден Св. Бенедикта. Иными словами, многие ученые уже не задаются вопросом, можно ли было избежать Темных веков, поскольку полагают, что избегать их не следовало. Правда, даже самая оптимистичная интерпретация периода V —X вв. не может полностью отрицать, что Западная Европа все же переживала нечто вроде затмения.
В 350 г. единственная держава — Римская империя — властвовала над большей частью Ближнего Востока и северной Африки, а также над землями, где ныне располагаются Англия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Швейцария и Западная Германия. Но уже вскоре империя затрещала по швам под яростными ударами варваров. Восточная ее часть, Византия, просуществовала еще около тысячи лет и пала лишь в 1453 г. с захватом турками Константинополя. Но что касается запада, то к 476 г., когда был низложен последний император, Римская держава уже на протяжении жизни целого поколения являлась немногим более, чем юридической фикцией. Она разлагалась и неуклонно шла к гибели. Римские владения опустошались нескончаемыми вторжениями, города подвергались разграблению. Дважды, в 410 и 455 гг., был захвачен и разорен сам Рим. Римские воины гибли в сражениях, женщины становились добычей завоевателей. Центральная власть, формально еще продолжавшая существовать, не могла помешать варварским племенам селиться на римских землях и основывать фактически независимые королевства. Население уменьшилось настолько, что, согласно словам папы Геласия (492 — 496 гг.): «Эмилия, Тоскана и другие провинции Италии почти обезлюдели». Если здесь и наличествует некоторое преувеличение, то действительный масштаб упадка можно проследить на примере города Рима. Во времена Христа в Риме проживал миллион человек[107], а к X в. н. э. осталось лишь двадцать пять тысяч. Для сравнения: в том же X в. население Кордовы, столицы мусульманской Испании, составляло около ста тысяч человек, а Севильи — около шестидесяти. Иными словами, распад империи на мелкие государства повлек за собой бесчисленные войны и несомненный упадок городов.
Если бы Римская империя устояла или смогла бы объединиться и возродиться после распада, это избавило бы Европу от анархии, насилия и несчетных невзгод. Вот почему битвы при Адрианополе и Пуатье имели такое значение для будущего. А ведь обе они, при условии лишь некоторого изменения обстоятельств, могли завершиться по-иному. Давайте поочередно рассмотрим эти возможности.
На протяжении долгих веков своего существования Римскому государству не раз приходилось сталкиваться с опасностью, исходившей от воинственных соседей. В IV веке Рим испытал двойной натиск — с востока, со стороны находившейся на подъеме Персии, и с севера, откуда наступали различные германские племена. Дабы сделать управление громоздкой империей более оперативным, ее поделили надвое. Один император имел резиденцию в Константинополе, столицей другой части государства продолжал считаться Рим, хотя фактически ею стал Милан[108], находившийся ближе к зоне боевых действий.
В начале IV в. севернее Дуная, на территории бывшей римской провинции Дакия (нынешняя Румыния), обосновался германский народ вестготы. Спустя полвека на них обрушились другие германские племена, бежавшие от свирепых кочевников гуннов, вышедших из центральной Азии. В 376 г. н. э. доведенные до отчаяния вестготы обратились к властям Константинополя с просьбой позволить им переправиться через Дунай и поселиться на территории римской Фракии. Если придерживаться реалистичных оценок, гутов, вместе с женщинами и детьми, насчитывалось около двухсот тысяч. Таким образом, предстояло массовое переселение на римскую территорию народа, повергавшего римлян в трепет. Однако восточный император Валент (364 — 378 гг.) согласился на это, причем, разумеется, вовсе не из гуманистических побуждений.
Высоко ценивший достоинства готских воинов (в его армии имелись наемные готские отряды), император рассчитывал использовать их для защиты своей державы. Задача борьбы с Персией требовала от Рима существенного увеличения воинского контингента. Кроме того, Валент знал, что готские переселенцы доставят в империю немалые богатства, за счет которых смогут основательно поживиться (если и вовсе не приберут к рукам) римские чиновники. Массовая коррупция представляла собой печальную повседневную реальность поздней империи.
Император потребовал, чтобы переселенцы, перейдя Дунай, разоружились, и получил на то согласие их вождей. Ему следовало проявить большую осторожность. Едва переправившись на римский берег, вестготы вступили в конфликт с имперскими чиновниками, состязавшимися друг с другом в изобретении более изощренных -способов обобрать беженцев. Но, к их несчастью, готы сумели дать отпор.
В начале 377 г. они подняли восстание, поддержанное самыми обездоленными группами местного населения — рабами и рабочими с каменоломен. Из-за Дуная к ним на помощь пришло большое конное войско, и римлян принудили к отступлению. «Варвары хлынули на широкие равнины Фракии, подобно диким зверям, бежавшим из клетки», — писал римский историк Аммиан Марцеллин.
Весной 378 г. император Валент собрал войско, насчитывавшее от тридцати до сорока тысяч человек[109], и подготовился к контрнаступлению. Правивший на Западе племянник Валента, Грациан (376 — 383 гг. н. э.), выступил на подмогу родичу из Ректии (в нынешней Швейцарии). Там годом раньше он одержал победу над вторгшимися в его владения другими германскими племенами. К сожалению, Валент, как сказали бы в наше время, «не смог подняться выше уровня своей посредственности». Имея возможность сокрушить загнанного в угол, но никоим образом не побежденного врага, он не воспользовался ею, на свою же беду. Вместо того чтобы дожидаться подхода Грациана, Валент принял решение дать бой немедленно, ибо, как утверждали, не желал ни с кем делить славу победителя. К тому же он легкомысленно положился на донесения разведчиков, оценивших численность вестготов не более чем в десять тысяч. (Истинное число готских воинов нам неведомо, но очевидно, что их было гораздо больше.) 9 августа 378 г. армия Валента подошла к городу Адрианополю и прямо с марша ударила по лагерю готов[110].
Пусть те и являлись варварами, однако их предводитель, Фритигерн, обладал чутьем, позволившим ему выявить слабые места противника ничуть не хуже, чем это удавалось Валенту. Император бросил своих воинов в бой голодными и усталыми, не дав отдохнуть после нелегкого восьмимильного броска по пересеченной местности (в условиях обычной для того времени года жары в 100 градусов по Фаренгейту[111]). Для вестготов, укрывавшихся в своем стане за кольцом повозок, нападение оказалось неожиданным, но хорошо отдохнувшие готские воины сумели организовать оборону. Ловкий кавалерийский маневр привел к тому, что легионеры оказались прижатыми к готским повозкам, после чего начался разгром. «Готские всадники мчались со скоростью ударяющей с небес молнии, сокрушая все на пути своей бешеной скачки», — писал о готской конной атаке Аммиан Марцеллин.
Римляне, подвергшиеся последовательным конным ударам по обоим флангам, сгрудились плотной массой, и тут на них обрушилась готская пехота. По оценкам современников, в бою полегло две трети римского войска, в том числе тридцать пять высших военачальников и, самое страшное, сам император. Адрианопольская катастрофа кажется еще более горестной оттого, что ее вполне можно было избежать. Если бы Валент дождался подкрепления или просто дал своим солдатам отдохнуть перед боем, все могло закончиться по-иному. К тому же не стоит недооценивать и роль простых случайностей. Вестготская конница прибыла на поле боя в последнюю минуту, и задержись всадники в пути подольше, победа варваров стала бы невозможной. Прекрасно понимавший это Фритигерн старался потянуть время, посылая к римлянам парламентеров. Теоретически, римское командование могло согласиться на переговоры, и при благоприятном их исходе вовсе избежать сражения. Но, по некоторым сведениям, войска завязали битву, не дожидаясь приказа. Если так, то судьбу Римской империи, возможно, определила недисциплинированность и несдержанность простых солдат.
Воодушевленные победой, вестготы стали хозяевами положения на Балканах, в то время как Рим, потери которого составили от двадцати до двадцати пяти тысяч человек, испытывал нехватку людских ресурсов. Недаром, по словам Амбросия Миланского, известие об адрианопольской бойне было воспринято как сообщение о «гибели мира». Правда, ни мир, ни даже Рим еще не погибли, но будущее показало, что империя утратила присущую ей ранее способность переживать поражения и восстанавливать былую мощь. Не имея сил для уничтожения готов, Рим был вынужден позволить им обосноваться в пределах империи, отдав земли южнее Дуная (на территории современной Болгарии). На сей раз не шло и речи о разоружении. Формально вестготы находились на службе у империи. В действительности они создали собственное государство, независимое от Рима и нередко соперничавшее с ним. Так, в 390-х гг. вестготы разграбили Балканы и Грецию, а в начале V в. проделали то же самое и с Италией. Апогей несчастий пришелся на 410 г., когда вестготы, ведомые агрессивным и своевольным вождем Аларихом, захватили Рим и подвергли город трехдневному разграблению. Судьба «столицы мира» наглядно продемонстрировала, что ждет распадающуюся на глазах империю.
Но почему же в самом начале, когда Рим еще обладал немалыми военными возможностями, готы были беспрепятственно допущены во владения империи? Во-первых, Рим нуждался в солдатах и римские политики верили, что сумеют приручить варваров. Во-вторых, во всяком случае по мнению Роджера Коллинза, тут сыграли роль и пораженческие настроения. Для многих римлян Адрианополь явился неопровержимым доказательством неспособности империи решить проблему варварского натиска. На протяжении десятилетия с 395 по 405 г. римские войска четырежды вступали в бой с вестготами, четырежды побеждали и каждый раз позволяли врагам и их предводителю Алариху спастись бегством. Варвары собирались с силами и возобновляли боевые действия. Естественно, возникает вопрос, не стал ли Адрианополь для римлян тем же, что и Верден 1916 г. для французов? Не в военном аспекте, ибо битву под Верденом Франция выиграла, но прежде всего в психологическом. Кровопролитное сражение отрицательно сказалось на людских ресурсах и привело к ослаблению боевого духа французов на целое поколение.
Через тридцать лет после Адрианополя вестготы Алариха вторглись в Италию, разграбили Рим и осели в Галлии и Испании. Между тем именно ради защиты Италии Рим отозвал легионы из Британии, практически отдав эту провинцию во власть других варварских племен. К 407 г. Британия отпала от Рима, а на протяжении жизни всего одного поколения независимость обрели и многие земли в Галлии, Испании и Северной Африке. Положение наемных варварских отрядов в империи столь упрочилось, что в 476 г. вождь наемников Одоакр практически беспрепятственно низложил последнего императора Запада Ромула Августула (475 — 476 гг.), чья власть была не более чем фикцией.
Могло ли все сложиться иначе? По мнению Артура Фертилла — да, если бы битва при Адрианополе закончилась с прямо противоположным результатом. Если бы готы были разгромлены, а две трети их войска во главе с Фритигерном погибли. Разумеется, это не. устранило бы опасность, ибо близ рубежей империи хватало варваров, желавших поживиться за счет богатого соседа. Но, во всяком случае, Рим получил бы возможность собраться с силами. Более того, такой исход мог бы придать правящей элите импульс для проведения военных и политических реформ, необходимых для спасения империи. Победный исход сделал бы битву при Адрианополе не римским Верденом, а толчком к обретению уверенности в себе, каким явилось для Англии поражение «Непобедимой Армады».
Но что, если бы Римская империя уцелела[112]? Что если бы она оправилась от кризиса 376 — 476 гг., как оправилась ранее от кризиса 188 — 284 гг.? Подобно Китаю, Рим продолжал бы быть могущественной державой, властвующей над огромной территорией. Объединив ресурсы, Византия и Западная Европа, возможно, смогли бы победить в VII в. мусульман и превратить Средиземное море во внутреннее христианское озеро. Славянам и германцам пришлось бы довольствоваться своими исконными владениями за Дунаем и Рейном, хотя не исключено, что власть Рима распространилась бы и туда. Вне всякого сомнения, не обошлось бы без периодов упадка и опустошительных вторжений, какие испытывал, например, Китай. Но каждый раз империя восставала бы из пепла, а быть может, смогла бы и расширить свои пределы, раскинувшись от Месопотамии до Марокко, от Британии до Эльбы, Вислы и — кто знает? — даже до Днепра.
Европа, говорящая на латыни[113], управляемая из единого центра в Италии, безусловно, являлась бы более стабильным и упорядоченным сообществом по сравнению с королевствами необразованных и драчливых варваров, возникшими на развалинах Западной Империи. Стоявший во главе этой державы император обладал бы безграничной властью и был бы окружен не меньшим почитанием, нежели «Сын Неба» в Китае. Зато в таком государстве не нашлось бы места ни феодализму, ни рыцарству, ни Великой Хартии Вольностей, ни представлению о праве народа на восстание и, само собой, никаким парламентам.
Римский мир был бы христианским, но само христианство, вполне возможно, отличалось бы от такового в нашем нынешнем понимании. Рим остался бы центром католической, то есть всемирной, церкви. Но папа (будь в этом случае у римского епископа столь высокий титул) пребывал бы в такой же зависимости от «Защитника Веры», то есть императора, в какой находился от государя Византии патриарх Константинопольский. Никакой папа не смог бы заставить римского императора стоять на коленях в снегу у его ворот, к чему в 1078 г. в Каноссе папа Григорий VII принудил германского монарха Генриха IV. История обошлась бы без борьбы духовной и светской власти, без возникновения папского государства и без протестантской Реформации. Даже доведись Мартину Лютеру все же написать свои «Девяносто пять тезисов», он написал бы их на родном латинском языке и произнес бы на исполнительном заседании церковного совета. И если бы это событие не позабавило императора, проповедник был бы брошен на съедение львам. Властители Рима не отличались терпимостью к инакомыслию.
Разумеется, эпоха Возрождения не настала бы никогда, ибо необходимость в возрождении классической культуры возникла в результате гибели последней в период раннего средневековья. Остается вопросом, что побудило бы Колумба отплыть из Испании через Атлантику (ведь тогда отсутствовал бы исследовательский и коммерческий дух Возрождения). В любом случае ясно: в новой Римской империи принцип личной свободы за океаном был бы отнюдь не в такой чести, как в колониях Англии. Управляемые проконсулом Нового Рима (возможно, нынешнего Нью-Орлеана), Соединенные Провинции Америки являли бы собой воплощение провозглашенного Цицероном идеала Otium cum dignitate, то есть «мир с почтением к иерархии»[114]. Безжалостные к врагам, но никогда не бывшие расистами, римляне, возможно, отнеслись бы к индейцам так же, как и испанцы, жестокость и миссионерский пыл которых соседствовали с поразительной терпимостью к смешанным бракам.
Подобно своей метрополии, СПА стали бы не демократическим, а олигархическим государством. По правде сказать, действительные американские «отцы-основатели» питали немалое уважение к Риму, но находили чистую демократию опасной. Разрабатывая принципы государственного управления, они в известной степени следовали римскому образцу. Но это был скорее образец Римской республики, нежели централизованной монархии имперского периода. Американская конституция содержит Билль о Правах, культура базируется на идее революции во имя свободы, а американское общество ценит равенство, хотя на практике может обеспечить его далеко не всегда. Будь Америка Новым Римом, неравенство, существующее в ней и сейчас, принималось бы как нечто само собой разумеющееся, не требующее изменений. Судебная система не знала бы таких понятий, как гарантии против самооговора или habeas corpus, и у нее не было бы причин отменять процветавшую в Новом Свете прибыльную рабовладельческую систему. В Новом Риме хватило бы и хлеба, и зрелищ, но его жители не стали бы свободными гражданами, выражающими свою волю на форуме.
* * *
Изложенное выше дает основание предположить, что Рим смог бы устоять и против мусульманской экспансии, потрясшей Старый Свет в раннем Средневековье. Первый удар воителей ислама пришелся по уцелевшему Византийскому, то есть Восточно-Римскому, государству. Хотя арабы изгнали византийцев из Леванта и других восточных провинций, на Балканах те сумели перегруппироваться и местами даже перейти в наступление. Возможно, это не так уж удивительно, ведь византийцы называли себя римлянами и в известном смысле оставались ими. Унаследовав тысячелетний военно-политический опыт, они сумели в критический момент пустить его в ход. Сохранись империя и на Западе, существовала бы возможность совместными усилиями отбросить мусульман, оставив Средиземноморье и всю Европу Риму. Но на деле все произошло иначе.
В военной истории не так уж много примеров столь стремительной и успешной экспансии, как расширение исламских владений. После смерти Мухаммеда (632 г.) армии ислама в течение жизни одного поколения выбили византийцев с Ближнего Востока и угрожали самому Константинополю. В 711 г., после завоевания Египта и Северной Африки, мусульмане переправились через Гибралтарский пролив в Испанию. Там они обрушились на христианское королевство, основанное потомками тех самых вестготов, которые разгромили римлян при Адрианополе. Вестготы были разбиты, их король Родерих погиб. Менее чем за десятилетие под власть завоевателей попала большая часть Иберийского полуострова, получившего арабское имя Аль-Андалус. В 720 г. арабы перевалили через Пиренеи и вторглись в так называемую Септиманию, которая находилась на территории нынешнего Лангедока и являлась частью еще существовавшего в Галлии вестготского государства. Перед завоевателями открывался путь в «Великую Землю» (этим не вполне конкретным географическим названием арабы обозначали не только Галлию, но и всю Европу). Иные апологеты ислама уже представляли себе победный марш к Константинополю и нападение на столицу Восточной империи с запада[115].
В руках мусульман оказался важный в стратегическом отношении, основанный римлянами, город Нарбонн. Но в 721 г. под Тулузой арабы потерпели поражение. Они лишились своего вождя, правителя Аль-Андалус, Ас-Шаха-ибн-Малика, и не обратились в беспорядочное бегство лишь благодаря полководцу Абд-ар-Рахману. Он сумел прекратить панику, восстановить дисциплину и отвел остатки разбитой армии в Нарбонн. Вскоре арабы возобновили военные действия, постепенно прибирая к рукам земли к востоку от Роны и нападая на города от Бордо до Лиона. К началу 30-х гг. во всех важнейших городах Французского Средиземноморского побережья между Пиренеями и Роной стояли мусульманские гарнизоны. А около 730 г. к власти пришел Абд-ар-Рахман, спасший положение при Тулузе. Щедрость, самообладание и воинская отвага снискали ему популярность, но и враги у него нашлись по обе стороны Пиренеев.
Для раннего Средневековья сильная центральная власть являлась не правилом, а исключением. Это относилось и к Аль-Андалус, где арабская знать соперничала с недавно обращенными в ислам берберами, уроженцами Северной Африки. Берберы составляли основу войск, осуществивших вторжение 711 г. и позднейшие завоевания. Новообращенные полагали себя обделенными наградами и добычей, львиная доля которых досталась арабам, присвоившим плоды их побед. В 732 г. берберский вождь Мунуза сумел выкроить для себя крошечное, но занимавшее стратегически важное положение на границе с Галлией, государство. Согласно одному источнику, Мунуза вступил в союз со своим соседом, герцогом Одо Аквитанским. Герцог, хоть и числился христианином, но был как заноза для своего номинального государя, короля франков. Как и Мунуза, Одо добивался полной независимости своих владений. Осуществлению честолюбивых планов того и другого помешал Абд-ар-Рахман. Возглавив поход против Мунузы, закончившийся пленением и казнью последнего, полководец не остановился на достигнутом, а перевалил через горы и вторгся через Гасконь в Аквитанию. Точные размеры его войска нам неизвестны, но оно оказалось достаточно сильным, чтобы разбить Одо близ Бордо, разграбить и сжечь немало христианских крепостей и пленить множество мирных жителей. Некоторые историки исчисляют силы Абд-ар-Рахмана в пятнадцать тысяч воинов, что, вероятно, не так уж далеко от истины.
Развивая успех, мусульмане двинулись от Пуатье на север. Видимо, их привлекли находившиеся неподалеку храм и усыпальница Св. Мартина Турского, национальное святилище франков. Там хранилось немалое богатство, скопившееся из щедрых подношений благочестивых верующих. Тур находился на расстоянии чуть больше двухсот миль от Парижа.
Но дальше мусульмане не прошли. Где-то между Туром и Пуатье, возможно на старой римской дороге близ Муссе, их путь преградило франкское войско под командованием Карла Пипина. Формально этот государственный и военный деятель назывался лишь майордомом, что примерно соответствовало первому министру. Но в действительности именно он, а не король, являлся подлинным правителем государства франков, располагавшегося на территории современной северной Франции и западной Германии. Герцог Одо, не так давно сам воевавший с франками, в отчаянии взывал к Карлу о помощи.
В ту пору франки представляли собой отнюдь не ту грозную силу, какой они слыли при своем первом великом короле Хлодвиге (481—511 гг.), однако правление майордомов Пипинов существенно укрепило пришедшее в упадок государство. Будучи незаконнорожденным, Карл, после смерти своего отца Пипина II (ум. в 714 г.), вынужден был вступить в ожесточенную борьбу за власть. Он изрядно поднаторел в этом и вполне преуспел. Когда Карл привел свое войско к Пуатье, он уже был популярным и опытным полководцем, одержавшим немало побед. А поскольку Абд-ар-Рахман имел такую же репутацию, встреча двух вождей обещала обернуться нешуточным столкновением.
Так оно и вышло, хотя, к сожалению, о деталях нам известно немного. Источники сходятся на том, что сражение состоялось в субботу и в октябре, но называют разные годы — в основном, 732-й, но иногда и 733-й. Подготовка длилась около семи дней: оба войска вели наблюдение за противником, устраивали засады и вылазки, а также маневрировали, стремясь занять более выгодную позицию. Все это наводит на мысль, что силы противоборствующих сторон были приблизительно равны, то есть каждый из полководцев имел под началом приблизительно 15 тысяч бойцов. В обеих армиях имелись как конные, так и пешие отряды. Основную ударную силу франков составляла сражавшаяся плотным строем тяжелая пехота, защищенная стальными доспехами и большими деревянными щитами. Оружием ей служили секиры, копья и мечи. Мусульмане, напротив, славились своей превосходной конницей, а оснащенная на европейский лад тяжелая пехота играла лишь вспомогательную роль. Сохранившееся бедуинское проклятие «будь ты проклят как франк, что надевает броню, ибо боится смерти» подтверждает распространенное представление об арабском воине как прежде всего легковооруженном всаднике.
Наконец разразилась битва. Составитель «Исидоровой Хроники», для которого описываемые события были лишь недавним прошлым, подчеркивает, что первыми в атаку устремились мусульмане, но франки «стояли несокрушимо, подобно каменной стене или массе льда». (По-видимому, подобная стойкость представлялась несвойственной христианским армиям того времени.) Автор «Хроники Фредегара» утверждает, напротив, что первым атаковал Карл, а мусульмане «...падали как скошенные, под его яростным натиском». К счастью, оба источника сходятся в одном: в факте гибели Абд-ар-Рахмана. Вполне возможно, именно это и определило судьбу сражения. «Хроника Фредегара» сообщает, что франки обратили врагов в паническое бегство. Следует учесть, однако, что ее составитель работал под покровительством Хильдебрандта, доводившегося Карлу братом, и вполне мог приукрасить победу. Согласно «Исидоровой Хронике» дело обстояло несколько сложнее. Битва продолжалась до темноты, прервалась на ночь, а когда поутру франки в боевом порядке подошли к мусульманскому стану, оказалось, что противник уже отступил. Если этот рассказ верен, то сами франки вовсе не думали, будто разбили врагов наголову, и полагали тех способными принять бой. Что арабы, возможно, и сделали бы, будь у них предводитель. Но, так или иначе, мусульманское воинство отступило, и Тур был спасен.
Известие о победе при Пуатье (или, как иногда называют это сражение, при Туре) разнеслось столь широко, что о нем упоминает живший на севере Англии англосаксонский книжник Беда Достопочтенный. Позднее, одержавший победу Карл получил прозвание «Мартелл», что значит «Молот». Что касается мусульман, их рати в будущем уже не заходили так далеко на север. Великий историк Эдуард Гиббон видел в битве при Пуатье «событие, изменившее историю всего мира». В своей магистерской диссертации «Упадок и крушение Римской империи» он описывает возможные последствия победы арабов в следующих словах:
...Чтобы пройти победным маршем от Гибралтарской скалы до долины Луары, потребовалось преодолеть немногим более тысячи миль. Еще один бросок на такое же расстояние вывел бы сарацин к границам Польши и горной Шотландии. Рейн так же судоходен, как Нил или Евфрат, и арабский флот мог бы, даже не вступив в морской бой, войти в устье Темзы. Возможно, теперь в Оксфорде штудировали бы Коран, и его знатоки вещали бы обрезанным англичанам об истинности и святости откровений Магомета...
Правда, некоторые современные исследователи уже не столь уверены в судьбоносном значении этой битвы. Бытует мнение, что, поскольку Абд-ар-Рахман возглавлял не завоевательный поход, а всего лишь грабительский набег, его победа все равно не привела бы к покорению Европы. В любом случае, развить успех не позволили бы распри между арабами и берберами, обострившиеся в тридцатых—сороковых годах VIII века.
Но если одна трактовка событий 732 г. может быть расценена как преувеличение значимости произошедшего, другую мы вправе счесть его недооценкой. Подобно «Битве за Англию» 1940 г., победа при Пуатье, хоть и не нанесла завоевателю смертельный удар, но охладила его наступательный пыл. Мусульмане провозгласили Абд-ар-Рахмана мучеником за веру, но сами терзались жгучим стыдом от того, что им пришлось оставить врагу награбленную добычу. Набег не удался, и теперь казалось предпочтительным оставаться в надежных крепостях южной Галлии. Но что, если бы на восьмой день маневрирования мусульмане переиграли бы франков и одержали при Пуатье победу? Что если бы в этой схватке вместе со многими своими бойцами пал и сам Карл? Победа вполне могла позволить мусульманам почувствовать себя браконьерами, сунувшимися в заповедник и вдруг выяснившими, что улов там хорош, а охрана пустяшная.
Даже если в начале похода 732 г. мусульмане не замышляли масштабных завоеваний, они едва ли повернули бы домой после разгрома крупного христианского отряда и гибели его предводителя. В конце концов, вторжение в Испанию 711 г. тоже начиналось как набег, но, оказавшись успешным, переросло в завоевательный поход. Нет, став победителями, воины ар-Рахмана наверняка разграбили бы Тур, как они уже это сделали с Пуатье, а быть может, у них возникло бы искушение пойти и дальше, на Орлеан и Париж.
Между тем гибель Карла, так и не удостоившегося прозвания «Мартелл», заставила бы его сыновей вступить в борьбу за право унаследовать власть. Победителю, окажись им хоть Карломан, хоть Пипин Короткий, неизбежно пришлось бы заняться тем же, чем занялся после Пуатье Карл Мартелл, — повести войну с фризами, бургундами, провансальцами и мусульманами. Но решить эту задачу, не будучи осененным славой победителя и не имея в своем распоряжении армии, окрыленной победой, было бы куда труднее. А коли так, то в отличие от Карла его гипотетическому преемнику скорее всего не удалось бы ни отбить у мусульман Авиньон (737 г.), ни нанести им еще одно поражение в болотистой пойме реки Берр (738 г.). Не одержав этих побед, новый правитель едва ли сумел бы вытеснить мусульман из Септимании за Пиренеи, что сделал Пипин в период между 752 и 759 г. Наличие в тылу, в южной Галлии, мусульманских владений не позволило бы наследнику Пипина Карлу Великому совершить походы в Германию и Италию, собственно и сделавшие его великим. (Впрочем, вполне возможно, эта неудачливая династия попросту не продержалась бы у власти так долго.)
Что касается мусульман, то, сохранив владения за Пиренеями, они рано или поздно поддались бы искушению их расширить. Ведь даже после потери в 759 г. Септимании и разорительных вторжений в мусульманскую Испанию Карла Великого и его полководцев (778 и 801 гг.) мусульмане совершали набеги на южную Францию вплоть до 915 г. Логично предположить, что, располагая такими опорными пунктами, как Авиньон и Нарбонн, они не ограничились бы набегами. Мусульманские правители Испании, как это было до Пуатье, повели бы свои армии на завоевание новых земель. Надежда стяжать добычу и славу в «Великой Земле» смогла бы смягчить разногласия между арабами и берберами. Не испытывая страха перед ослабленным королевством франков, захватывая твердыню за твердыней, завоеватели вполне возможно переправились бы через Ла-Манш и, как представлял это Гиббон, водрузили бы знак полумесяца над Оксфордом. В таком случае в IX и X вв. с угрозой вторжений викингов столкнулись бы не герцоги и епископы, а эмиры и имамы, которым, в случае успеха, удалось бы создать на месте Римской империи что-то вроде Европейского халифата.
Какой же могла бы стать мусульманская Западная Европа — Аль-Андалус, государство, простершееся от Гибралтара до Скандинавии и от Ирландии до Вислы, если не дальше? Потеряв статус господствующей религии, христианство сохранилось бы лишь как вера угнетенного меньшинства, с неуклонно уменьшающимся числом приверженцев[116]. Да и те, как это имело место в мусульманской Испании, усвоили бы арабский язык и обычаи. В той же мусульманской Испании лишь успех реконкисты предотвратил массовое обращение населения в ислам[117]. Поэтому нет сомнений, что в условиях политического господства последователей Мухаммеда их религия скоро была бы принята большинством европейцев, как это случилось в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Более того, христианство не распространилось бы за океаном. Если бы в 1492 г. европейские корабли отплыли за Атлантику, то их осенял бы не крест, а полумесяц. Мусульмане в правление Омейядов (632 —750 гг.) держали в руках средиземноморскую морскую торговлю и контролировали Индийский океан до прихода португальцев. В описанных нами условиях они наверняка с энтузиазмом принялись бы осваивать Новый Свет. Коренные жители обеих Америк превратились бы в настоящих европейцев — то есть мусульман! — и ислам сегодня являлся бы единственной мировой религией.
Нельзя забывать и о том, что мусульманская Испания явилась едва ли не самым развитым в культурном отношении государством, возникшим в Европе со времен расцвета Римской империи. X век в Аль-Андалус вошел в историю как период мира и изобилия, роста городов, создания шедевров зодчества, высочайшего взлета искусства, науки и просвещения. В сравнении с испанскими, города северной Европы казались убогими деревеньками, испанские торговцы проникали повсюду, а испанские мусульманские философы знали о наследии классической Греции несравненно больше книжников запада.
Расширение Аль-Андалус на север от Пиренеев могло бы сделать средневековую Европу совсем иной. Ведь куда бы ни ступали мусульманские правители — будь то Северная Африка, Испания или Ближний Восток, — они, подобно Мидасу, обращали в золото все, к чему прикасались. Под их покровительством ширилась торговля, возделывались поля, велись масштабные ирригационные и строительные работы. Правда, в этом изобилии далеко не всем принадлежала равная доля. Мавританское общество являлось не только строго иерархическим, но и рабовладельческим. В том же X в. не только в воинских дружинах мусульманской Испании, но и в среде чиновничества имелось множество рабов, главным образом славянского происхождения. Английское «slave» — раб — происходит от «Slav» — славянин[118]. Город Верден в северной Франции являлся крупнейшим в Европе центром работорговли. Вне всякого сомнения, с покорением Западной Европы арабами этот центр сместился бы на восток, за Эльбу, возможно, к будущему Берлину. Во всяком случае, рабовладение распространилось бы по всей Европе. И со временем, быть может, рабы, как это случилось на Ближнем Востоке, превратились бы там в господ[119].
Но будучи рабовладельческой, исламская Европа отнюдь не была бы отсталой. Едва столкнувшись с утонченной культурой Византии и Ирана, первые арабские завоеватели почувствовали любовь с первого взгляда, и в дальнейшем, куда бы ни ступали победоносные мусульманские войска, они приносили с собой высшие достижения тогдашней цивилизации. Исламская Англия, Франция и Германия покрылись бы не только мечетями и крепостями, но также дворцами, банями, фонтанами и садами. Париж X века, возможно, стал бы второй Кордовой с ремесленными и торговыми кварталами, где звучали бы все языки Старого Света. Его украшали бы великолепные, крытые золотом, дворцы с мраморными колоннами и яркими орнаментальными росписями, выполненными индийскими красками. Будь Аахен столицей не Карла Великого, а резиденцией халифа, в нем появились бы не тяжеловесные толстостенные протороманские церкви, а мечети с воздушными минаретами. Соответствующие изменения коснулись бы и духовной сферы, ибо арабы прославились как покровители просвещения, особенно философии и поэзии. Ученые северной Европы познакомились бы с трудами Платона и Аристотеля еще в десятом веке, а не в двенадцатом, как случилось в действительности. Вместо грубых варварских саг поэты слагали бы изысканные стихи, достойные звучать при Багдадском дворе. Неудивительно, что такой эстет, как Анатоль Франс, оплакивал результат битвы при Пуатье, повлекший за собой упадок культуры и торжество варварства.
На это можно возразить, что варварство восторжествовало лишь на короткий срок. Действительно, в отличие от созданных полудикими германскими завоевателями государств Западной Европы, мусульманский мир усвоил и сохранил многое из наследия великих цивилизаций Ближнего Востока и Средиземноморья. Но в конечном счете Запад оказался продуктивнее в экономическом отношении и сильнее в военном. Историкам не так-то легко понять, почему невежественная христианская Европа поднялась до мирового лидерства, совершив научную и промышленную революции и создав попутно капиталистическую систему, в то время как цивилизованный исламский мир не устоял против западного оружия. Однозначно на этот вопрос ответить трудно, но, скорее всего, успех Европы объясняется западным плюрализмом[120].
Именно потому, что Западная Европа была варварской, она на протяжении всех Средних веков сопротивлялась любым попыткам правящих институтов сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Феодальная система (хотя само понятие «феодальный» не очень то вяжется со словом «система») никогда не добивалась полного подчинения отдельно взятого рыцаря его сеньору. Это способствовало становлению индивидуализма как одной из фундаментальных западных ценностей. Баронам так и не удалось подчинить города. Находившееся там у власти олигархическое купечество в погоне за прибылями проявляло не меньше отваги, чем рыцарство на войне. Христианская церковь не преуспела в утверждении своего превосходства над мирскими правителями, и распри между светской и духовной властью были в Средневековье обычным делом. В эпоху Реформации это привело к разрыву между отдельными государствами и церковью, претендовавшей на господство. Культура, развившаяся в Европе, по сравнению с исламской, оказалась более светской, децентрализованной, индивидуалистической и ориентированной на материальную выгоду. Неудивительно, что именно Европа оказалась родиной Ренессанса, Реформации, индустриализации и современной науки, что на столетия обеспечило ей роль мирового лидера.
Ирония истории заключается в том, что это блестящее будущее стало возможным благодаря Темным векам. Европейский халифат после 732 г. или обновленная Западно-Римская империя после 476 г., гарантируя континенту стабильность и процветание, подавляли бы попытки демократизации и каких-либо изменений еще в зародыше. Ни халифат, ни империя не допустили бы разгула неуемной свободы, приведшего в конечном счете Европу к ее возвышению. Темные века стали для Европы подобием болезненной операции, едва не убившей больного, но в конце концов сделавшей его крепче.
К тому же (и возможно, это самое главное) Европе крупно повезло. Обе даты (476 и 732 гг.), быть может, не значили бы для нас ничего, обернись дела по-другому в 1242 году. В том году волна самого страшного нашествия, какое когда-либо знал континент, уже прокатившись по восточной Европе, отхлынула назад. Но если бы не смерть их владыки, завоеватели продолжили бы поход к Атлантике, и весьма сомнительно, чтобы обновленная Римская империя смогла остановить их на этом пути. То же самое относится и к мусульманской Европе, ибо десятилетием позже под ударами тех самых завоевателей пал арабский халифат на Ближнем Востоке. В 1258 г. столица тогдашнего исламского мира Багдад была разрушена, возможно, величайшими воителями, каких когда-либо знал мир. То были монголы.
Сесилия Холланд
Смерть, спасшая Европу.
Монголы поворачивают назад, 1242 г.
Века, которые мы называем Темными, были более чем светлы в сравнении с тем, что могло случиться с Западной Европой, окажись она в XIII веке во власти монгольских завоевателей. В 1242 г. их орды уже прокатились огненным валом по восточной Европе и, разбив две христианских армии (одну в Польше и одну в Венгрии), уже высылали передовые отряды к Вене и побережью Адриатики. Все шло к созданию величайшей империи, равной которой не знала история. Нагрянувшие из азиатских степей конные кочевники, чьи составные луки значительно превосходили по боевым качествам европейские арбалеты, представляли собой самое мобильное и дисциплинированное войско того времени, которое, по словам Сесилии Холланд, «поразительно походило на современную армию, оказавшуюся в средневековом мире». Устоять против степных завоевателей не мог никто. Презрение к городам, культуре и всем благам цивилизации позволяет сравнить их с красными кхмерами. Но если те опустошили только Камбоджу, то монголы неистово пронеслись по всей Азии и собирались поглотить весь континент, оставляя позади дымящиеся руины и горы трупов. Пожалуй, никогда прежде Западу (и как географическому понятию, и как историческому феномену) не угрожала столь страшная опасность. Европу спасла слепая случайность, заставляющая лишний раз вспомнить о том, что, хотя ход истории, как правило, определяется совокупностью многих факторов, даже такая частность, как жизнь (или смерть) одного человека, может иметь огромное значение.
Сесилия Холланд относится к числу наиболее признанных и авторитетных авторов, пишущих на исторические темы. Ее перу принадлежит более двадцати книг.
Летом 1241 г. караульные на стенах Вены могли заметить рыскавших по равнине к востоку от города необычного вида всадников. Караульные, будь они лучше осведомлены, могли бы догадаться, что эти странные и зловещие наездники на низкорослых мохнатых лошаденках представляют собой передовой разъезд огромного монгольского войска, раскинувшего свой стан в нескольких сотнях миль ниже по Дунаю.
Эта догадка заставила бы жителей Вены похолодеть от ужаса, ибо город был практически беззащитен. Монголы уже успели расправиться с двумя самыми сильными армиями восточной Европы — два сражения разыгрались в один день, хотя и далеко одно от другого.
Девятого апреля 1241 г. внушительное войско, набранное из немцев, поляков, храмовников и рыцарей Тевтонского ордена, выступило из Лигница навстречу несколько меньшей по численности монгольской армии, двигавшейся на запад через северную Польшу. Противники сошлись на плоской равнине Вальштадта. Битва началась с лобовой атаки, предпринятой тяжело вооруженными рыцарями. Монголы обратились в бегство. Воины герцога Генриха, не придерживаясь строя, устремились в погоню и, угодив в идеально устроенную засаду, полегли почти до последнего человека.
Но вторжение в Польшу представляло собой лишь отвлекающий маневр. Тем временем основные силы монголов под началом великого полководца Субудая одолели заснеженные перевалы Карпат и хлынули на Венгерскую равнину. Третья, самая меньшая по численности часть монгольского войска, обошла горы с юга через Молдавию и Трансильванию, прикрыв главную орду с фланга.
Таким образом Субудай ухитрялся координировать действия трех воинских группировок, разделенных сотнями миль и двумя горными массивами. Субудай, один из четырех главных военачальников Чингис-хана, прозванных «четырьмя псами», военный гений, еще не оцененный в полной мере историками, к тому времени был уже далеко не молод и прошел с победоносными боями полмира, от северного Китая до Карпат. В Европе, незнакомой ему местности с непривычным рельефом, он, как и везде, действовал безупречно.
Орда Субудая оказалась на Венгерской равнине, преодолев по снегам путь в 270 миль всего за три дня. Узнав о появлении врага, король Венгрии Бела выступил из Буды во главе сильной армии. Встретившись с ним, Субудай стал отходить, пока не занял позиции за рекой Саджо, удерживая переброшенный через нее мост.
Десятого апреля, на следующий день после Лигница, Бела пошел в атаку и отбил мост у монголов, после чего перегородил его с обоих концов скрепленными между собой тяжелыми подводами. В своем укрепленном лагере венгры чувствовали себя неуязвимыми и готовились развить успех.
Но тем временем лазутчики Субудая обнаружили ниже по течению брод. Ночью полководец во главе половины войска спустился вниз по течению и переправился на другой берег. На рассвете Бату-хан бросил оставшихся монголов в лобовую атаку на укрепленный венгерский стан. Бела ответил контрударом, и в этот миг Субудай обрушился на него с тыла.
Потрепанным венгерским отрядам пришлось спешно отступить за подводы. Окружившие их монголы на сей раз не стали штурмовать укрепления, а вместо того весь день вели беспрерывный обстрел из луков и метательных машин, пуская в ход не только стрелы и камни, но и горшки с горящей смолой и даже китайские пороховые фейерверки. Ближе к вечеру, когда изнуренные христиане уже едва удерживали боевые порядки, в окружавшей их сплошной вражеской стене неожиданно открылась брешь. Некоторые из вымотанных и павших духом воинов Белы устремились туда и вырвались из монгольского кольца! Их пример воодушевил многих других: не придерживаясь более строя, венгры бросились в беспорядочное бегство — и стали легкой добычей атаковавших их с обеих сторон монголов. Лишь немногим из той деморализованной толпы, в которую превратилась армия Белы, удалось спастись и укрыться в Буде. Уцелел и сам король — он улепетывал без остановки, пока не оказался на острове посреди Адриатического моря.
Монгольское вторжение в Европу. 1241-1242 гг. В нижнем правом углу: величайшая империя в истории человечества. Монгольские владения в XIII веке
Когда весна окрасила зеленью широкие равнины завоеванной Венгрии, орда остановилась на отдых. Поставив юрты, монголы пустили своих коней пастись на сочной, как в бескрайних степях их родины, траве. Завоеватели набирались сил и готовились к продолжению похода.
Западная Европа пребывала в ужасе и растерянности. Для того чтобы организовать эффективный отпор, христианскому миру требовалось единство, но именно в это время два самых могущественных европейских правителя вели ожесточенный спор о верховенстве. Император Священной Римской империи, блистательный и жестокий Фридрих Второй, устроил распрю последовательно с несколькими занимавшими Святой престол папами. Сосредоточившись на Италии, он фактически не вмешивался в германские дела, отдав их на откуп князьям, враждовавшим между собой и не способным объединиться даже перед лицом стоявшей на равнинах Венгрии огромной армии завоевателей. Молодой энергичный король Франции Людовик IX созвал своих вассалов, но его войско насчитывало лишь несколько тысяч рыцарей. До последнего момента ни одной христианской армии не удавалось не только остановить монголов, но и хотя бы замедлить их продвижение.
Да, жители Вены имели все основания трепетать за свои жизни, ибо на них обрушилась Господня кара.
* * *
Влияние монгольских завоеваний на мировую историю трудно переоценить, хотя стремительное возвышение их империи оказалось недолговечным. До появления выдающегося вождя по имени Темучжин, названного впоследствии Чингис-ханом, «монголами» называло себя всего-навсего одно из множества кочевых племен, промышлявших охотой, скотоводством и грабежом в степях Центральной Азии и в пустыне Гоби. Темучжин изменил все. Сумев вселить в сердца соплеменников уверенность в том, что им предначертано господствовать над миром, он начал череду завоевательных походов, заставив монгольских всадников пройти огнем и мечом от Восточно-Китайского до Средиземного моря. Первые его удары обрушились на северный Китай, мусульманский Хорезм и русские города за Волгой[121], а содеянное им навеки изменило мир.
Замечательное летописное повествование «Тайная история монголов»[122] освещает эту завоевательную эпопею изнутри, раскрывая характер степного воинства, обеспечившего успех Чингису. Связанные воедино принесенной клятвой и могучей волей своего вождя, они, к каким бы племенам ни принадлежали ранее, стали называться «монголами» — в знак принадлежности к общему воинскому братству безоглядно следующих за Темучжином. Его целеустремленность и сила духа были таковы, что не повиноваться ему означало не повиноваться судьбе. Казалось, что высшая, необоримая власть принадлежит этому человеку по праву божественного предопределения. В то же время — и примеров тому в «Тайной истории» приводится множество — он всего себя отдавал своему народу. Чингис-хан являл собой воплощение монгольского духа, живую душу нации.
Но к тем, кто не был монголами, он обращал иной лик. «Они приходили, убивали, жгли, грабили и уходили».
В 1209 году орды Чингиса вторглись в северный Китай и, обучившись там искусству осады и штурма городов, начали долгое завоевание этой цитадели величайшей и древней цивилизации. Захватывая и разрушая, они перемалывали город за городом. Одно время великий хан подумывал о том, чтобы истребить все население северного Китая и превратить страну в пастбище для монгольских табунов, но отказался от этого намерения, приняв во внимание слова одного советника, заметившего, что живые китайцы заплатят больше податей, чем мертвые.
Неуклонное продвижение монголов на запад, где обитали тюркские народы, привело их к столкновению с процветающими мусульманскими государствами. На пути завоевателей оказались прежде всего Бухара, Самарканд, Герат, Ниджпур и Хорезм — города, славившиеся плодородными землями и сказочным богатством. В 1218 году Чингис-хан вторгся в Хорезм и опустошил его.
Частью наводящей ужас стратегии Чингиса было массовое уничтожение: когда монголы захватывали оказывавший сопротивление город (а из осажденных ими не устоял ни один), великий завоеватель приказывал перебить всех уцелевших жителей. Сообщения летописцев о числе погибших разнятся, но эти цифры всегда ошеломляют. В 1220 году, когда при захвате Герата погиб 1 600 000 человек[123], до сына Чингиса Тулуя дошел слух, что кому-то удалось спастись среди развалин. Поэтому взяв Ниджпур,
Тулуй повелел для верности отрубать головы трупам. По свидетельству современников, в Нишапуре монголы довели число своих жертв до 1 747 000 человек.
Цифры эти ошеломляют, в них трудно поверить, но то, что геноцид и разрушения достигали чудовищных размеров, не вызывает сомнения. Грабили и уничтожали даже города, сдававшиеся без боя. Так, из покорившейся Бухары монголы вывели все население, молодых мужчин и женщин обратили в рабство, имущество разграбили и сам город сравняли с землей.
Всего несколько лет спустя настал черед России. Первый поход на Волгу состоялся еще при Чингисе, однако широкое наступление на русские земли началось уже после его смерти. По монгольскому обычаю, старшему сыну хана подобало наследовать самую обширную, но окраинную часть отцовских владений. Ко времени кончины Темучжина его старший сын Джучи был уже мертв, и западную окраину унаследовал внук Чингиса, будущий основатель Золотой Орды, Бату-хан.
В 1237 году Субудай возглавил вторжение войск Бату в русские земли, обернувшееся систематическим разрушением городов и гибелью сотен тысяч людей. А в 1241 году, откормив летом коней на бескрайних русских просторах, монголы двинулись в Европу.
* * *
Но почему они не знали преград? Дело в том, что по существу войско монголов походило на современную армию, оказавшуюся в средневековом мире. Оно превосходила все прочие скоростью, маневренностью, мощью стрелкового оружия, дисциплинированностью и превосходными командными кадрами.
Армия великого хана делилась на десятки, сотни, тысячи и ту мены (десятки тысяч). Во главе всех этих отрядов стояли боевые командиры, получавшие свои должности не по протекции или в силу знатного происхождения, а исключительно благодаря воинским дарованиям. Так, во время русской кампании в войске Бату воевали потомки Чингиса, но на войне даже члены правящего дома повиновались Субудаю, человеку относительно незнатному.
Личные достоинства могли быть предпочтены старшинству даже в таком вопросе, как престолонаследие. Еще при жизни великого хана его враждовавшие старшие сыновья Джучи и Чагатай признавали, что при предпочтении одного из них другому неизбежна междоусобица.
«Но Угэдэй [третий брат] человек благоразумный, — сказал Чагатай, — давайте выберем Угэдэя».
Так и поступили. Передача власти третьему сыну Чингиса прошла гладко и братья никогда не оспаривали его верховенство.
Монгол рождался для войны и с самого детства приучался к лишениям и суровой дисциплине. Если он не сражался, то охотился, совершенствуя свои боевые навыки. Прирожденный наездник, он мог преодолевать за день верхом десятки миль, спать на голой земле, есть размягченное под седлом сырое мясо, пускаться в путь на рассвете и не останавливаться до заката, день за днем одолевая снега или жаркие пески пустынь, в холод и в зной, в ветер и в дождь, да еще и меняя коней в пути. Имея трех-четырех запасных коней, такой всадник мог пересаживаться с одного на другого на полном скаку, даже не замедляя аллюра. Именно потому, что на каждого воина приходилось несколько лошадей, враги постоянно преувеличивали численность монгольского войска. Впрочем, порой степняки сознательно вводили противников в заблуждение, сажая верхом на коней чучела.
Монгольский воин имел составной изогнутый лук из расщепленного рога, с силой натяжения в 160 фунтов (64 кг), позволявший разить без промаха на триста метров[124] с той быстротой, с какой стрелок успевал доставать стрелы из колчана. Вместо тяжелой и неуклюжей брони он носил гибкий доспех из кожаных пластин и шелковое белье, которое препятствовало загрязнению ран. Монгол редко сходился с врагом в рукопашной, а потому и погибал гораздо реже, чем его противник.
Но самое главное заключалось в том, что он выполнял приказы. Битвы средневековой Европы представляли собой по большей части неорганизованные, беспорядочные свалки.
Едва начавшись, сражение распадалось на множество поединков, и лишь лучшим полководцам удавалось удерживать до конца боя в строю хотя бы часть своих сил. Субудай координировал передвижение по совершенно незнакомой местности десятков тысяч воинов, отделенных от него горными хребтами и удаленных на огромное расстояние, с такой легкостью, словно двигал фигуры на шахматной доске. В ходе битвы, подавая сигналы цветными флажками, он мог бросать тысячи всадников в атаку, посылать их в обход или отводить, и любой его приказ выполнялся немедленно. Пройдут века, прежде чем и другие народы достигнут той же степени совершенства в умении истреблять ближних.
А в деле истребления монголы воистину поднаторели. В ходе их завоевания население Китая уменьшилось более чем на треть, а в Хорезме и Иране была уничтожена существовавшая с античных времен и обеспечивавшая плодородие почвы ирригационная система. Цветущие сады и поля превратились в пустыни, существующие и по сей день. Некоторые ученые считают, что экономика региона до сих пор не оправилась от этого страшного удара.
Ирак и Сирию, земли древних цивилизаций, свирепствовавшие там монголы обратили в руины. Багдадский халиф, верховный владыка всех мусульман, не выказал повиновения хану и обрек себя на смерть. По приказу монгольского полководца главу ислама зашили в кожаный мешок, и наездники затоптали его копытами своих лошадей. Таким образом завоеватели проявили уважение к сану казненного, ибо убили его без пролития крови. Возродиться халифату было не суждено.
Духовные потери поддаются подсчету не так легко, как материальные. До прихода монголов исламский мир, центром которого являлся Багдад, представлял собой процветающее сообщество, в котором энергия, предприимчивость и отвага соседствовали с изысканностью, утонченностью и интеллектуальным блеском. Мусульмане сумели выдержать натиск всего христианского мира в ходе Крестовых походов, но после монгольского вторжения их великолепная культура приходит в упадок, уступая место суровому консерватизму.
Не лучше оказалась и судьба России. До прихода степняков такие русские города, как Великий Новгород, Киев или Рязань, богатели за счет оживленной речной торговли. После монгольского разорения путники увидели славившийся великолепием Киев превратившимся в деревушку, с населением в сотню ютившихся среди обгорелых развалин жителей. Многие считают, что знаменитая русская ксенофобия является прямым следствием монгольского ига.
В завоеванные земли монголы прежде всего направляли сборщиков податей, которыми облагались уцелевшие жители. Почти четыреста лет спустя исконные жители Сибири продолжали платить дань мехами — «ясак», от монгольского «Яса», как именовался свод законов Чингиса. После прихода монгольских орд ни одна страна больше не оставалась такой, какой была прежде.
Возможно, глядя на рыскавших по равнине всадников, гипотетический наблюдатель со стены Вены вспоминал перечисленные бедствия и гадал, какая судьба ждет Европу. В большие походы монголы выступали зимой, как следует откормив коней на летних пастбищах. Их наступления следовало ждать в январе или в феврале, и Вена лежала как раз на их пути вверх по Дунаю из Венгрии.
Жители Вены могли спасти свои жизни, сдав город без боя, но и в этом случае их ждала незавидная участь. Скорее всего, им, как и горожанам из покорившейся Бухары, было бы позволено покинуть город, оставив его на разграбление. После этого многих детей, юношей и девушек ждал угон в рабство, а прочих — расселение по сельской местности: победители ненавидели города и Вену наверняка сравняли бы с землей.
Разумеется, к тому времени государи Европы успели бы собрать еще одну армию, но нет никаких оснований полагать, что кому-то из них могло повезти больше, чем Генриху Силезскому или Беле Венгерскому. А после разгрома этой армии Европа осталась бы беззащитной[125].
Разведка у монголов была поставлена превосходно, в связи с чем их наверняка привлекли бы богатые Нидерланды с такими городами, как Гент, Антверпен и Брюгге. Затем, в поисках пастбищ они должны были бы отклониться к югу и двинуться в центральную Францию, разрушив по пути Париж. Возможно, часть войска, перевалив через Альпы, оказалась бы в Италии, где в долине реки По было достаточно и травы для фуража, и городов для грабежа. Как и повсюду, сопротивлявшихся в Италии ждала смерть, сдавшихся — разграбление, а города — разрушение. Назначив управителя и сборщика податей для выколачивания оных из без того впавшего в нищету населения, ютящегося по уцелевшим деревням, откормив коней сочной травой северной Италии, монголы, милостию Божией, наконец ушли бы восвояси.
Но что бы осталось?
Разорение торговых городов в Нидерландах могло подавить в зародыше формирование финансового центра Европы. В тринадцатом веке Антверпен и Гент вели энергичную торговлю шерстью, что заложило основы устойчивого экономического роста Западной Европы на протяжении нескольких следующих столетий. Недаром первая в мире биржа возникла позднее именно в Антверпене. Вторжение монголов означало пресечение тенденции к динамическому развитию в корне, быстрое скатывание всего региона к дикости. Неизбежное сокращение населения делало невозможным поддержание в порядке голландских гидротехнических сооружений, следствием чего должно было стать вторичное наступление моря на отвоеванную у него человеком сушу. Обширная долина Рейна, Мааса и Шельды превратилась бы в болото. А наша история лишилась бы развития капитализма, укрепления буржуазии, изобретения печатного станка и распространения гуманизма, восстания гезов, великих демократических революций в Англии, Америке и Франции, а заодно и Промышленной революции.
Но еще большей катастрофой для будущего человечества могло стать разрушение Парижа, являвшегося в ту пору интеллектуальным центром Европы. Штудируя логику Аристотеля, ученые Парижского университета закладывали основы принципиально нового взгляда на мир. Номиналисты уже настаивали на неоспоримой реальности материального мира. Через сто лет после монгольского нашествия именно ректор Сорбонны впервые разработал теорию инерции, введя в научный обиход идеи, легшие в основу великих теорий Галилея, Кеплера и Ньютона. Приход монголов стал бы губительным для прогресса мысли.
Представляется уместным задаться и другим вопросом: сумей никем не остановленные монголы захватить Италию, что стало бы с папой? Удостоился ли бы он высокой чести в знак почтения к духовному сану быть затоптанным в кожаном мешке? Монголы уничтожили халифат, значивший для ислама никак не меньше, чем папство для христианства. Правда, у папства имелось несколько больше возможностей для маневра, хотя бы потому, что папе не требовалось вести свой род от святого Петра. Однако падение папы как главы единой Христовой Церкви повлекло бы за собой скорый распад западного христианства на множество соперничающих сект. При отсутствии господствующей доктрины не возникло бы надобности в сильной оппозиции, а значит, и в Реформации с ее радикальной новизной представлений о человеческой природе.
Помимо того, уничтожив Рим, монголы уничтожили бы средоточие связи Европы с ее античным прошлым, иссушив источник вдохновения и сделав невозможным будущее творчество Данте, Микеланджело или Леонардо. Даже случись предкам перечисленных гениев уцелеть во время монгольского лихолетья, необходимость суровой борьбы за выживание едва ли предоставила бы их потомкам возможность посвятить себя поэзии или искусству[126].
Впрочем, если Данте с его политическим темпераментом и склонностью открыто высказывать свои взгляды при монгольской власти скорее всего пришлось бы туго, военно-инженерному гению Леонардо могло бы найтись применение.
Конечно, венский наблюдатель ничего не знал о Леонардо, но понимал, что на равнинах Венгрии затаился ужас, способный уничтожить и оставить без надежды на будущее весь его мир. Он всматривался вдаль, держась за рукоять меча и ожидая рокового удара.
Которого не последовало. В начале 1242 года монгольская орда неожиданно ушла. Одна-единственная смерть, случившаяся в тысячах миль от Вены, спасла христианство. Одна-единственная смерть и сама структура монгольского общества заставили непобедимое войско отступить.
Умер Угэдэй. Гуманный и, невзирая на приверженность к пьянству, незаурядный правитель, третий сын Чингиса не только не растерял отцовское наследие, но и приумножил его. Однако превосходя всех по уровню военной организации, в политическом отношении монголы оставались архаическим союзом кочевых племен, связанных личной преданностью своим вождям. Великий хан умер, и обычай требовал возвращения на родину для выборов нового. На пороге западной Европы грозный Субудай остановил наступление и повернул домой.
В Европу монголы больше не вернулись, занявшись на востоке завершением захвата Китая, а на западе — Ирана и арабских земель. В 1284 г. египетские мамелюки столкнулись с монголами в Святой Земле. Монголы потерпели поражение, что стало началом их конца. Продвижение потомков Чингиса на восток остановили японцы[127] и вьетнамцы. Наступал отлив, страшное испытание для всего человечества закончилось.
В Польше и поныне празднуют день 9 апреля как свою победу, объясняя, что сколь бы страшным ни был разгром при Лигнице, именно эта битва истощила силы завоевателей и охладила их наступательный пыл. Потомки павших в Силезии цепляются за иллюзию, убеждая себя, что жертвы не были напрасны и они заслужили торжество. Но доблесть рыцарей не имела никакого отношения к уходу кочевников. По существу, именно монгольское видение мира, та самая сила, что столь неистово гнала степных воинов вперед, заставила их вернуться на родину и спасла Европу. Но произошло это благодаря всего лишь слепому случаю.
Теодор К. Рабб
Когда бы не столь дождливое лето...
Критическое десятилетие: 1520-е годы
Словно по сговору, именно в 20-е годы XVI века в Европе, как и во всем мире, произошло множество событий, определивших историческое значение этого десятилетия. Эти события и по сей день продолжают оказывать влияние на нашу жизнь. Тогда, отнюдь не в первый и, как мы убедимся, не в последний раз важнейшим участником исторического процесса стала погода. Что, если бы беспрерывные проливные дожди летом 1529 года не смогли замедлить продвижение к Вене огромной армии Оттоманского султана Сулеймана Великолепного? Как повернулись события, если бы задуманная султаном осада началась не так поздно или ему не пришлось бы оставить позади увязшую в грязи тяжелую артиллерию, без которой нельзя было надеяться сокрушить городские стены? И наконец, что если бы ему действительно удалось взять Вену, оплот династии Габсбургов? Конечно, в силу того, что христианский мир располагал немалыми силами, это событие едва ли могло привести к возникновению Оттоманской Европы. Но оно повлекло бы за собой ряд далеко идущих последствий, включая усиление позиций политических группировок, стремившихся ослабить влияние Габсбургской династии. В безусловном проигрыше оказался бы Мартин Лютер со своей едва зародившейся и еще не успевшей укорениться в умах ересью. Генрих VIII Английский, добившись согласия папы на развод с происходившей из дома Габсбургов женой, не реформировал бы церковь, страна не отпала бы от католицизма, и полвека спустя испанцам не было бы нужды снаряжать против нее Великую Армаду.
Теодор К. Рабб, профессор истории Принстонского университета, является автором или редактором таких известных трудов, как «Новая история», «Борьба за стабильность в старой и современной Европе», «Климат и история», «Жизнь в эпоху Возрождения» и «Джентльмен-якобинец». Был главным консультантом получившего популярность и номинированного на премию «Эмми» телевизионного сериала «Ренессанс».
В истории Европы найдется не много десятилетий, столь богатых судьбоносными событиями, как 1520-е годы. В самом начале этого периода Магеллан впервые прошел проливом, получившим впоследствии его имя, а произошедшие тогда же «Стокгольмская кровавая баня» и восстание в Испании определили политическое будущее Скандинавии и Иберийского полуострова. Всего несколько месяцев спустя, в 1521 году, Лютер на Вормсском рейхстаге выказал открытое неповиновение императору Священной Римской империи Карлу V Габсбургу, подготовив почву для окончательного раскола в западном христианстве. За оставшиеся до конца десятилетия годы в Германии разразилась кровопролитная Великая Крестьянская война, Швеция стала независимым королевством, Кортес завоевал Мексику, турки наводнили Венгрию и достигли стен Вены, Генрих VIII, добиваясь развода, проявил упорство, приведшее в итоге к коренным переменам в политической и духовной жизни Англии, а войска Карла V нанесли тяжкий урон европейской культуре, пройдя огнем и мечом по Италии и разграбив Рим.
Многие историки определяют это десятилетие, как поворотное. В зависимости от круга интересов или принадлежности к той или иной школе, исследователи акцентируют внимание на различных тенденциях, обнаружившихся в этот период и получивших развитие в грядущем. Выделяются такие аспекты, как начало Реформации, начало европейских колониальных захватов, новый этап в противостоянии христианства и ислама, в отношениях между государством и церковью, а также окончание эпохи Итальянского Возрождения. Важность всего перечисленного для последующего хода истории не вызывает сомнения. Однако, следует отметить, что вмешательство одного-двух непредвиденных факторов во многих случаях могло повлечь за собой реализацию существенно иных сценариев будущего. Слишком хрупки были в ту пору ростки нового.
Так, например, когда Лютер явился в Вормс, его учение, зародившееся чуть более трех лет назад, еще не получило широкого распространения. За год до того Лютер издал три коротких трактата с изложением своих убеждений. Однако для дальнейшей их популяризации требовались как новые писания, так и завоевание реформатором личного авторитета. В противном случае поддержка религиозных новаций, носившая спорадический характер, могла бы сойти на нет. Среда германских князей, принявших к 1521 году сторону Лютера, далеко не всех захватывала идея религиозных преобразований. Многие использовали религию лишь в качестве прикрытия истинных экономических или политических причин, побуждавших к конфронтации с сюзереном — императором Карлом. Карл, со своей стороны, хотел лишить их религиозного знамени, использовав Вормсский рейхстаг для подавления ереси. Недаром когда Лютер неожиданно исчез через несколько дней после того, как он предстал перед императором, многие решили, что его не укрыли друзья (как это было в действительности), но похитили враги.
Художник Альбрехт Дюрер (заметим, никогда не порывавший с Римской церковью) откликнулся на исчезновение Лютера следующими строками, вторившими опасениям многих:
«Жив ли он, либо уже убит? Коль скоро мы лишились человека, писавшего яснее, нежели кто бы то ни было, где взять другого наставника, способного научить нас жить по-христиански? О Господи, если Лютер мертв, кто же объяснит нам Евангелие?»
Есть все основания полагать, что, окажись опасения Дюрера не напрасными, Реформация была бы подавлена, как столетием раньше случилось со схожим учением Яна Гуса в Богемии. Дело в том, что именно в эти годы в южной и западной Германии разгорелось крестьянское восстание, вдохновители которого использовали идеи Лютера. Погибни реформатор раньше, некому было бы осудить взбунтовавшихся крестьян и успокоить власть имущих, объяснив им, что реформа церкви не означает изменения общественного устройства. И тогда испуганные германские князья почти наверняка предпочли бы примириться с Карлом, оставив дело преобразования церкви без той поддержки, которая во многом определила его успех.
Едва ли можно поспорить с утверждением, что и беспрецедентно рискованное кругосветное плавание Магеллана, и вторжение Кортеса в Мексику тоже могли закончиться плачевно. Конечно, Испания все равно стремилась бы к присоединению заморских земель. Но кто знает, каковы были бы предпочтения Карла, окажись этот процесс не столь быстрым или требующим значительных расходов. Вполне возможно, он счел бы более подходящим объектом для испанской экспансии не далекий и еще не обжитый континент, а Алжир, овладение которым помогло бы подорвать могущество мусульман в Средиземноморском бассейне. Не исключено также, что в этом случае Писарро и ему подобные авантюристы искали бы удачу и славу не в Перу, а в Северной Африке.
И разве другое важное событие рассматриваемого десятилетия — разграбление Рима — не явилось результатом случайного стечения обстоятельств? Когда войска Карла, одолевшие такого опасного противника, как Франция, маршировали по казавшейся совсем беззащитной Италии, никто из имперских военачальников не вынашивал планов в отношении Рима. По правде говоря, узнав о нападении на священный город, император должен был прийти в ярость. Более полувека назад исследователь биографии Карла V Карл Бранди рассматривал это страшное событие как результат трагического стечения обстоятельств:
«В истории нередки случаи, когда давно забытые решения и долго сдерживаемые эмоции становятся невидимым импульсом, пробуждающим стихийные разрушительные силы, подобные медленно катящимся игральным костям, чей страшный путь определяет лишь случай».
Так случилось и с Римом, на который обрушились вышедшие из-под контроля солдаты Карла, обозленные голодом и невыплатой жалования, к чему добавлялась ненависть к папству и проводимой им политике. Итогом стали чудовищная резня и гибель множества сокровищ культуры, не говоря уже об опустошившем Рим более чем на поколение бегстве многих людей искусства и перемещении культурного центра Италии в более безопасную Венецию. Но эти бедствия, которых можно было избежать, явились следствием не только скверного снабжения и командования войсками, но также и целой цепи случайных событий предыдущего года.
Армия Карла V под командованием Георга Франдсберга перешла Альпы в 1526 году. Условием успешных боевых действий было наличие тяжелой артиллерии. Имперское командование не имело возможности перетащить пушки через горы и рассчитывало получить их у герцога Феррарского Эрколе д'Эсте. Семейство д'Эсте издавна враждовало с Римом. Когда же на папский престол взошел Климент VII, представитель дома Медичи, правившего соперничавшей с Феррарой Флоренции, эти отношения обострились еще больше. Понимая, сколь опасно для него сближение между Феррарой и империей, папа решил подкупить Эрколе д'Эсте, однако замешкался, и папские послы прибыли к герцогу, когда тот уже столковался с Карлом. А ведь поторопись Климент с деньгами — и имперская армия могла бы так и не получить орудий.
Вторая случайность в этой роковой цепи произошла в ноябре 1526 года. Тогда, в мелкой стычке с отрядом Франдсберга, был случайно ранен единственный по настоящему одаренный военачальник в семействе Медичи, молодой человек по имени Джованни делла Банде Нере (к слову, невероятно похожий на будущего покорителя Италии — Наполеона). Его настигло ядро одной из тех самых феррарских пушек. Рана оказалась смертельной, в результате чего не стало последнего полководца, способного преградить имперским войскам путь к Риму.
Но не только это сочетание военных и политических обстоятельств имело серьезные последствия для Вечного Города со всеми его средневековыми святынями и шедеврами Ренессанса.
В мае 1527 года, как раз в то время, когда в Риме хозяйничала имперская солдатня, за тысячу миль от Италии, Генрих VIII заявил своей жене Екатерине Арагонской, что желает развода. Так началось «великое дело короля», в основе которого лежало, на первый взгляд, вполне естественное желание получить жену, способную принести наследника. В конце концов, Генрих был женат на вдове своего брата, так что канонические основания для расторжения брака имелись, и обычно в таких случаях Святой престол шел навстречу венценосцам Европы. Однако нынешний папа находился в зависимости от племянника Екатерины, Карла V, так что рассчитывать на согласие Генриху не приходилось. В результате всего за несколько лет Генрих радикально решил эту проблему, разведясь не только с женой, но и с Римом, Он объявил себя главой независимой англиканской церкви, что повлекло за собой необратимые перемены в духовной и общественной жизни Англии, а также упрочение позиций протестантизма, обретшего сильного союзника.
Однако ни одно из упомянутых выше событий, повлекших за собой существенные перемены в развитии европейских государств, не может сравниться с битвой при Мохаче, произошедшей в Венгрии в 1526 году. Последствия этой битвы грозили затронуть не только итальянский Ренессанс или англиканскую и лютеранскую реформации, но и судьбу взаимоотношений христианства и ислама. И это не говоря уже о будущем Германии и Испании, представлявших собой наследие Карла V — крупнейшей политической фигуры того столетия.
Победа, одержанная оттоманским султаном Сулейманом Великолепным при Мохаче 29 августа 1526 года, безусловно являлась одной из наиболее значимых в мировой военной истории. Спустя почти три четверти века после падения Константинополя турки пришли в движение. Грозным валом прокатившись по Балканам, войска Сулеймана в 1521 году захватили мощную крепость Белград.
Пятью годами спустя они выбили крестоносных рыцарей ордена Святого Иоанна (госпитальеров) с острова Родос и были вполне готовы к дальнейшему наступлению на Европу. При Мохаче они истребили цвет венгерского воинства — последнюю силу на Балканах, способную оказать сопротивление мусульманскому натиску. Вместе с королем, двумя архиепископами и большей частью венгерской аристократии погибло тридцать тысяч воинов, павших в бою или убитых после него, ибо победители не брали пленных. Послание Сулеймана, возвещающее о победе, буквально брызжет восторгом:
«Благодарение Всевышнему! Знамена ислама одержали победу, тогда как враги учения Властелина Людей изгнаны из их страны и подавлены. Аллах Всемилостивейший даровал моим славным армиям торжество, равного которому среди правоверных не дано было знать ни одному великому султану или всемогущему хану и даже сподвижникам Пророка. Никто из нечестивцев не спасся, но все подверглись истреблению. Хвала Аллаху, Владыке Мира!»
Теперь, когда турки хозяйничали на Балканах, неминуемо вставал вопрос — что же дальше?
Впрочем, в 1526 году Сулейман, как и после захвата Белграда в 1521-м, вновь отвел своих грозных янычар в Константинополь для перегруппировки. На протяжении трех лет он, казалось, даже не помышлял о том, чтобы двинуться вверх по Дунаю, вторгнуться в Австрию и осадить Вену. Тем временем Фердинанд Габсбург, воцарившийся в Австрии и Богемии после отречения своего брата Карла, предъявил претензии на остатки венгерских владений[128] и вступил в борьбу с князем Трансильвании Яношем Запольи. Последний обратился за помощью к Сулейману. Понимая, что в центральной Европе у него нет соперников опаснее Габсбургов, Сулейман согласился поддержать трансильванца с тем, чтобы тот признал себя вассалом Оттоманской Порты и обязался платить ей дань. Достигнув соглашения с Запольи, 10 мая 1529 года Сулейман выступил из Константинополя во главе огромной, семидесятипятитысячной армии.
И тут вмешались непредвиденные обстоятельства. Лето 1529 года выдалось одним из самых дождливых за истекшее десятилетие. По лаконичному утверждению биографа Сулеймана Роджера Бигелоу, «дожди в тот год были столь сильны и продолжительны, что серьезно повлияли на ход кампании». Мы не сильно погрешим против истины, если заменим слова «повлияли на ход» на «определили исход». Из-за дождей Сулейману пришлось бросить по дороге всю тяжелую артиллерию, служившую серьезным подспорьем в его предыдущих походах. Кроме того, неблагополучные погодные условия помешали его войскам двигаться с обычной скоростью: они преодолевали раскисшую местность настолько медленно, что достигли своей цели — ворот Вены — лишь через пять месяцев. Только к тридцатому сентября Сулейман был готов бросить своих перепачканных и усталых воинов на штурм, однако ему приходилось мириться с тем, что упущенное время позволило австрийцам подготовиться к обороне. За лето им удалось почти вдвое увеличить численность гарнизона — теперь он насчитывал 23 000 солдат, из которых 8000 добрались до города всего на три дня раньше турок. Ни один приступ не увенчался успехом, и к середине октября Сулейман решил снять осаду и уйти. Впоследствии он объяснял это тем, что Фердинанд бежал, а в захвате города без правителя мало славы.
Но давайте представим себе, что лето 1529 года оказалось бы не столь дождливым. Или (решив предпочесть метеорологическим случайностям случайность человеческих решений), что Сулейман выступил к Вене другим, более сухим летом 1527 года — сразу после победы при Мохаче. В 1532 году (который, кстати, тоже выдался дождливым) султан доказал, что способен наносить страшные удары по сердцу габсбургских владений, опустошив австрийскую провинцию Штирию. Правда, тогда он уже не рискнул напасть на Вену, защищенную, по словам Бигелоу, «вероятно, самой большой армией, какую когда-либо удавалось собрать Западной Европе». Каковы же были бы результаты турецкого вторжения, случись оно не в 1529 и 1532, а в 1527 году — когда у Габсбургов не было времени организовать отпор?
Во-первых, следует предположить, что Сулейман почти наверняка захватил бы Вену. Во-вторых, он нашел бы себе союзников на западе. Габсбургов, имевших императорский титул и являвшихся наследственными государями не только Австрии, Богемии и Нидерландов, но и многих владений в Италии, и а также всей Испании, боялись и ненавидели почти все европейские монархи. И даже то, что Габсбурги оказались на передней линии борьбы с мусульманской экспансией, вовсе не обеспечивало им поддержку всех христианских королей — многие относились к ним хуже, чем к туркам. Франция и некоторые итальянские княжества создали Коньякскую лигу, дабы попытаться выдавить Габсбургов из Италии. Ответные действия Карла привели к разграблению Рима, но он никогда не рискнул бы начать эту кампанию, оставив в тылу угрожавшего ему из Вены Сулеймана. Представляется весьма вероятным, что Коньякская лига, договорившись с султаном, пресекла бы в зародыше попытки Габсбургов закрепиться в Италии и не допустила бы установления там полуторавекового австрийского владычества. Ведь пошла же Венеция на торговое соглашение с Портой в 1521 году, а Франция вступила в союзнические отношения с турками в 1530-х. Папе, как главе христианства, пришлось бы держаться в стороне, но прочих государей Италии союз с неверными против ненавистных Габсбургов смутил бы не больше, чем венецианцев или французов.
Но коль скоро силы Карла были бы отвлечены на Сулеймана, его итальянские союзники скорее всего перебежали бы на сторону Лиги, что, в свою очередь, имело бы существенные последствия для европейской культуры. Рим не подвергся бы материальному, а главное, духовному опустошению. Десятилетия спустя, анализируя случившееся в 1527 году, историк искусства и художник Джорджо Вазари описал бедствия, выпавшие на долю римских художников. Некоторые погибли, многие получили увечья, потеряли имущество, впали в нищету. Им пришлось добывать себе пропитание черной работой или бежать из города. Вазари отмечал, что «подвергаясь насилию, тонкие натуры теряют перед собой цель и деградируют». Словно в подтверждение этой мысли переживший эти события Себастьян дель Пьомбо писал: «Похоже, я уже не тот Себастьян, каким был до разграбления. Мне больше никогда не вернуться к прежнему состоянию ума».
Другая история, рассказанная Вазари, тоже на имеет счастливого конца. По его словам, великий художник-маньерист Пармиджано не смог закончить своего Святого Иеронима «...из-за катастрофического разграбления Рима, во время которого не только пострадали искусства, но и многие художники лишились жизни. Франческо [Пармиджано] тоже был недалек от того, чтобы распроститься со своей, ибо когда началось вторжение, был так погружен в работу, что заметил германцев, лишь когда те ворвались в его дом. Они уже собрались напасть на него, но, увидев художника за работой, были настолько поражены картиной, что, будучи, видимо, людьми воспитанными, позволили ему продолжать... Но в тот момент Франческо был на волосок от гибели».
В конце концов Пармиджано бежал из Рима и вернулся в родную Парму. Возможно, история Вазари представляет собой лишь пересказ античной легенды об осаде Родоса, в которой художник говорит ворвавшимся в его мастерскую солдатам, будто «думал, что они пришли воевать с Родосом, а не с искусством», — но суть происходившего у Вазари передана верно.
Подобные истории, поведанные испуганными современниками событий, не были преувеличением. Крупнейший исследователь этого вопроса Андре Кастель утверждает, что искусство в Риме пришло в упадок как минимум на целое поколение, — хотя и признает, что приток беженцев из Рима обогатил культуру других городов, прежде всего, приютившей большинство изгнанников Венеции.
Представляется также очевидным, что, если бы войска Карла не хозяйничали в Италии, поставив папу в полную зависимость от императора, Климент несомненно разрешил бы Генриху VIII развод с Екатериной. Что означало бы сохранение Англии в лоне католицизма — надолго, а возможно, и навсегда.
И этим не исчерпывается возможное влияние захвата Сулейманом Вены на судьбы Германии и Европы. Достаточно бросить беглый взгляд на карту, чтобы представить себе, как разворачивались бы события в центральной Европе в случае продолжения турецкого наступления на запад по Дунаю. Опустошению и захвату подверглись бы герцогство Баварское, такие богатые города, как Пассау, Ревенсбург и Аусбург. Правда, были возможны разные исходы: князья могли сговориться с султаном, как Янош Запольи, и сохранить свои владения в обмен на признание зависимости от Константинополя и уплату дани. Или, позабыв распри, сплотиться вокруг Карла V. Заметим, что последний вариант вовсе не являлся неизбежным, даже перед лицом турецкого вторжения. Германия 1520-х годов погрязла в усобицах, прекратить которые не могли ни охватившее страну крестьянское восстание, ни турецкая опасность. Призывы императора к объединению не имели особого успеха. Так, в 1527 году собравшиеся в связи с нашествием турок на Балканы князья обсуждали вопрос о возможной помощи Венгрии до самой битвы при Мохаче, после чего он потерял свою актуальность.
Но вне зависимости от того, сплотились бы германские князья вокруг Карла для защиты своих владений или предпочли бы покориться Сулейману, к концу 1520-х годов они почти наверняка должны были бы осознать, что дальнейший религиозный раскол им не на руку. Это означало прекращение большинством из них поддержки Лютера. Что повлекло бы, в свою очередь, сужение социальной базы и, в конечном итоге, поражение Реформации в Германии. Лютер, по-видимому, нашел бы себе покровителя где-нибудь на севере, далеко от Дуная.
Разумеется, со временем возникли бы новые протестантские учения, да и распространение лютеранства, возможно, было бы лишь отсрочено. Но принципиально иная религиозная обстановка в Европе в середине XVI столетия не могла не оказать огромного влияния на будущее практически всех европейских государств.
Достаточно отметить, что сохранение католицизма в Англии и Нидерландах, вкупе с отказом Габсбургов (полностью сосредоточившихся на делах Германии и Испании) от притязаний на Италию, могло устранить с европейской сцены второй половины XVI века религиозно-политический антагонизм. Испания, не ставшая оплотом католической реакции, а значит и объектом ненависти со стороны протестантских государств, смогла бы колонизировать Новый Свет еще более успешно, не преодолевая препон и не сталкиваясь с конкурентами. И тогда в наши дни все американцы, как на юге, так и на севере материка, говорили бы по-испански. Когда бы не столь дождливое лето...
Питер Пирсон
Успех Священной Лиги
Питер Пирсон является профессором истории в университете Санта-Клара.
Что произошло, если бы двадцатилетний король Франции Карл IX, следуя зову сердца, внял призыву папы Пия и присоединился к Священной лиге[129] — вместо того, чтобы по наущению своей матери Марии Медичи и вопреки настойчивым советам адмирала Колиньи использовать затруднительное положение Испании во благо Франции (и, как рассчитывал Колиньи, на пользу протестантизму)?
Ведь только опасаясь Франции, Филипп II Испанский до 1572 года держал в резерве силы Лиги и не смог развить успех своего флота — блестящую победу над турками при Лепанто. Турки сумели восстановить флот и подавить освободительное движение греческих христиан. Тем временем гугеноты Колиньи вторглись в Испанские Нидерланды, и необходимость вести дорогостоящую войну на два фронта не позволила Филиппу установить господство на Средиземном море.
В 1572 году, когда командовавший войсками Лиги дон Хуан Австрийский (сводный брат Филиппа) смог наконец мобилизовать все имевшиеся у него военные ресурсы, время было упущено. К тому же Франция не отступила от своей антииспанской политики даже после того, как в Варфоломеевскую ночь (24 августа 1572 года) был убит вождь гугенотов Колиньи.
А ведь если бы, как то замышлялось доном Хуаном, усиленная французским рыцарством армия Лиги нанесла удар по мусульманам раньше, это могло бы вернуть Грецию и все Балканы в лоно европейской цивилизации. Таким образом, отказ Карла от вступления в Священную Лигу привел к тому, что балканские христиане оставались под властью Оттоманской Порты еще в XIX веке. Их частые восстания жестоко подавлялись турками и принявшими ислам представителями местных народов. Это превратило Балканы в узел сложнейших противоречий, не разрешенных по сей день и угрожающих спокойствию всего мира.
Росс Хассиг
Эрнана Кортеса приносят в жертву.
Теночтитлан, 30 июня 1521 г.
Одним из важнейших событий 20-х гг. XVI в., безусловно, явился захват испанским конкистадором Эрнаном Кортесом столицы ацтеков Теночтитлана (нынешнего Мехико). Очень часто возникает вопрос: как столь небольшой отряд мог уничтожить целое государство? Ответ заключается в том, что к испанцам, которых, по-видимому, насчитывалось около девятисот человек, присоединилось почти сто тысяч индейцев, желавших покончить с ненавистными ацтекскими угнетателями. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и эпидемию: занесенная испанцами оспа за год истребила около трети населения Мексики, включая верховного вождя ацтеков. И наконец, Кортес, несомненно выдающийся солдат и человек, умел извлекать выгоду из любых обстоятельств. Ему неизменно сопутствовала удача. Ведь, как отмечает Росс Хасиг, «в ходе конкисты не было недостатка моментов, которые могли стать поворотными». Подобно Александру Великому, Кортес едва избежал гибели в бою, причем спасший его воин сам сложил голову. Попади Кортес в плен, ацтеки почти наверняка принесли бы его в жертву, а попытка испанского завоевания Мексики закончилась бы провалом. Это в очередной раз заставляет вспомнить о том, как много может значить один момент в истории и какую важную роль может сыграть случай.
Другие вопросы не задают почти никогда: что, если бы Кортес погиб и его экспедиция не увенчалась бы успехом? Последовала бы за этим (как предположил в предыдущей статье Теодор К. Рабб) переориентация испанских экспансионистских устремлений на какой-нибудь другой регион, например Северную Америку? Или Испания предприняла бы новое, возможно более успешное вторжение в Мексику? Смогла бы христианская вера совершить то, что не удалось христианскому оружию? Как долго в случае победы ацтеков продолжалась бы практика человеческих жертвоприношений? Какая нация сложилась бы из племен, населявших державу ацтеков? И, наконец, какое влияние оказало бы на политическое развитие Соединенных Штатов соседство с крупным сугубо туземным государством?
Росс Хассиг, профессор антропологии университета штата Оклахома и один из крупнейших специалистов по истории ацтеков, автор многих капитальных трудов, в том числе: «Мексика и испанское завоевание», «Война и общество в древней Месоамерике» и «Ацтекские войны: имперская экспансия и политическое управление».
Перепрыгнув через пролом в дамбе, Кортес и его воины устремились в погоню за бегущими ацтеками, но те неожиданно повернули и напали на преследователей. Путь к отступлению был отрезан, и в завязавшейся кровопролитной схватке ацтекам удалось пленить самого Кортеса и еще шестьдесят восемь конкистадоров. Десятерых пленных убили на месте, а их отрубленные головы перебросили во вражеский стан, дабы посеять среди испанцев страх и уныние. Оставшихся пятьдесят восемь отвели в Великий Храм, который был прекрасно виден с испанских позиций, заставили танцевать перед статуей бога войны, Уицилопочтли, а потом, одного за другим, принесли в жертву. У пленников вырвали сердца, с лица и рук содрали кожу, чтобы выдубить и разослать по непокорным городам в качестве предостережения. Кортес избежал такой же участи лишь благодаря вмешательству Кристобаля де Олеа, сразившего четверых уже схвативших Кортеса ацтеков и спасшего своего командира ценой собственной жизни. В тот миг решалась судьба Мексики.
Последним актом этого великого завоевания стало падение столицы ацтеков 13 августа 1521 г., когда, одолев последние оборонительные сооружения, испанцы ворвались в Теночтитлан. Еще четверо суток союзные конкистадорам индейцы продолжали тысячами истреблять жителей и грабить лежавший в руинах город. Но предыдущий ход событий вовсе не гарантировал того, что все непременно обернется именно таким образом. Не раз и не два неудачное решение, ошибка или просто случайное стечение обстоятельств грозили привести поход к совершенно иному завершению.
Первым европейцем, достигшим побережья Центральной Америки, был Франциско Эрнандес де Кордова, высадившийся в 1517 г. на полуострове Юкатан. Оттуда он был вытеснен племенами майя, в кровавых стычках с которыми понес большие потери. В 1518 г. последовала вторая экспедиция, под руководством Хуана де Грихальва. Де Грихальва, также столкнувшись с индейцами майя, обогнул Юкатан и, обследовав побережье нынешнего штата Веракрус, встретился с ацтеками. Еще до возвращения Грихальвы губернатор Кубы, Диего Веласкес, дал Эрнану Кортесу разрешение организовать третью экспедицию. Когда губернатор передумал и попытался отстранить Кортеса от командования, тот не подчинился. Он самовольно поставил паруса и в начале 1519 г. добрался до Юкатана во главе отряда в 450 человек. А ведь сумей губернатор воспрепятствовать отплытию Кортеса, мексиканский поход оказался бы сорванным, еще не начавшись.
Ускользнув от Веласкеса, Кортес последовал курсом своих предшественников и, в конце концов, достиг места стоянки Грихальвы, в районе центральной части Веракрус. Туда прибыли представители ацтеков с провизией и дарами, но после того, как Кортес отказался переместить лагерь, они удалились. А ведь если бы ацтеки вместо посольства сразу выслали против испанцев сильное войско, те, скорее всего, были бы истреблены.
Но этого не случилось, что позволило Кортесу завязать отношения с местным племенем тотонаков и заключить с ними союз. Держава ацтеков, господствовавшая над многими мексиканскими племенами, сколачивалась военной силой и держалась на страхе. Однако в ней отсутствовали какие-либо имперские учреждения. Местное управление всецело оставалось в руках племенных вождей, среди которых, естественно, были и те, кто не питал любви к угнетателям. Прибытие испанцев предоставило тотонакам возможность свергнуть иго ацтеков, и они не преминули ею воспользоваться.
Исследовав побережье и установив контакт с местными жителями, экспедиция выполнила задачи, изначально ставившиеся перед ней губернатором, и многие ее участники выразили желание вернуться на Кубу. Осуществи они это намерение, у Кортеса просто не осталось бы достаточных сил для продолжения похода. Однако Кортесу удалось избежать такого исхода. Основав город Вилла-Рика-де-ла-Вера-Крус (в нескольких милях к северу от современного порта Вера-Крус), он, именем короля Испании Карла (он же император Карл V), назначил городской совет. Совет, в свою очередь, провозгласил основание новой колонии, на которую не распространяется власть Веласкеса, и выбрал Кортеса королевским капитаном. Чтобы легализовать свои сомнительные полномочия и заручиться королевской поддержкой, Кортес отправил в Испанию корабль, груженный полученным от туземцев золотом. Затем, чтобы удержать ненадежных спутников от дезертирства, он приказал пробить днища оставшихся судов, не оставив людям другого выбора, кроме как следовать за ним. После этого Кортес оставил в форте Вера-Крус гарнизон (по разным сведениям от 60 до 150 человек), а сам с тремястами испанскими солдатами, сорока или пятьюдесятью тотонаками и двумястами носильщиками двинулся в глубь континента.
На пути к Теночтитлану испанцы столкнулись с небольшим отрядом воинов из народа тласкала, устремились в погоню и угодили в засаду. Наличие огнестрельного оружия позволило им отбить натиск тласкалатеков. Но те окружили конкистадоров и непрерывно атаковали их на протяжении нескольких дней. Припасы испанцев подходили к концу, многие воины были ранены, и, таким образом, судьба экспедиции вновь повисла на волоске. Однако Кортес и здесь сумел найти выход: он завязал с тласкалатеками переговоры и из врагов превратил их в союзников. Вожди Тласкалы пошли на этот союз, поскольку уже давно вели с ацтеками, значительно превосходившими их числом, кровавую войну. Неминуемое поражение в этом неравном по силам противостоянии было для тласкалатеков лишь вопросом времени. Однако с появлением конкистадоров у них появилась надежда переломить ход событий. Испанские пушки, кремневые ружья, именуемые аркебузами, арбалеты и всадники в стальных доспехах могли скомпенсировать недостаток численности. Ударная мощь конкистадоров создавала возможность прорыва вражеских линий. Правда, самих испанцев было явно недостаточно, чтобы ринуться в образовавшиеся прорывы, но тласкалатеки обладали необходимыми для того людскими ресурсами. Союз Тласкалы и конкистадоров представлял собой внушительную военную силу.
Завоевание Мексики могло быть остановлено, если бы...
Отдохнув в Тласкалане 17 дней, испанцы двинулись дальше и вступили в область Чолулан. Встретили их неплохо, однако Кортес, будто бы прознав, что чолулатеки собрались напасть на него при поддержке ацтеков, устроил резню, в которой погибло множество представителей чолуланской знати. Скорее всего, заговор был не более чем предлогом. Истинная причина случившегося заключалась в том, что Чолулан лишь недавно переметнулся от Тласкалана к ацтекам, и коварное нападение испанцев представляло собой акт помощи недавно обретенным союзником. Новый вождь Чолулы возобновил союз с Тласкалой, а две недели спустя Кортес вступил в долину Мехико и 18 ноября добрался до Теночтитлана. Верховный вождь, Монтесума, встретил его с почетом и разместил во дворце своего покойного отца Ашайякатля, правившего ацтеками с 1468 по 1481 г.
Огромный, с населением около 200 тысяч человек, город располагался на острове посреди озера. Он соединялся с сушей тремя основными дамбами, которые можно было быстро перерезать. Понимая уязвимость своего положения, Кортес, менее чем через неделю после своего прибытия, захватил Монтесуму и, сделав вождя пленником, в течение восьми месяцев правил Теночтитланом от его имени.
Тем временем прознавший о вероломстве Кортеса губернатор Веласкес направил для захвата форта Вера-Крус эскадру из девятнадцати судов с отрядом из восьмисот солдат, под командованием Памфило де Нарвеза. Едва весть о его прибытии достигла Кортеса, он с отрядом из двухсот шестидесяти шести солдат устремился к побережью и, действуя не столько силой, сколько подкупом и коварством, нанес Нарвезу поражение.
Между тем оставшийся в Тенотчтитлане с восемью десятками испанцев Диего де Альварадо заявил, будто ему стало известно о задуманном ацтеками нападении. Он разместил артиллерию у четырех входов в обнесенный стенами внутренний двор Великого Храма, а затем жестоко расправился с находившимися внутри безоружными ацтеками. Убитых насчитывалось от восьми до десяти тысяч. Весть о резне всколыхнула город: восставшие индейцы убили семерых испанцев, многих ранили, а уцелевших осадили во дворце. Кортес, имевший теперь под началом более 1300 испанцев и 2000 тласкалатеков, срочно повернул к Теночтитлану и вступил в город 24 июня.
Но едва он оказался внутри, как ацтеки подняли навесные мосты, поймав испанцев в западню. Припасы таяли. Кортес попытался воздействовать на осаждающих, заставив Монтесуму подняться на крышу дворца и приказать им разойтись, но эта затея не принесла успеха. Монтесума был убит — то ли брошенным из толпы камнем, то ли кем-то из испанцев.
Кортес приказал изготовить переносные деревянные мостки, чтобы перебрасывать через проломы в дамбах. Ночью 30 июня, под покровом темноты и сильного ливня, он предпринял попытку вывести людей из города. Бегство испанцев не осталось незамеченным. Спастись из города удалось не более чем трети воинов, а к тому времени, когда Кортес добрался до Тласкалана, он потерял 865 испанцев и более 1000 тласкалотеков. Сумей ацтеки организовать непрерывное преследование, они, вполне возможно, смогли бы и вовсе покончить с завоевателями. Но, получив трехнедельную передышку, 440 уцелевших конкистадоров собрались с силами и выступили против соседних с Тласкаланом городов, подвластных ацтекам.
Одновременно на индейцев обрушилась и другая напасть. Оспа, завезенная на кораблях Нарвеза, опустошила центральную Мексику, уничтожив за год около сорока процентов населения, включая пробывшего у власти всего 80 дней преемника Монтесумы Куитлахуака. Разумеется, болезнь не делала различия между противниками и союзниками Кортеса, однако эпидемия усугубила политическую нестабильность в ацтекском государстве, где со смертью Куитлахуака и с воцарением Куаутемока всего за шесть месяцев появился третий правитель.
Памятуя о том, что во время прошлого пребывания в Теночтитлане он угодил в ловушку, Кортес, желая исключить подобную возможность, вознамерился построить тринадцать бригантин. Для этого он использовал оснастку, снятую с кораблей, затопленных им у Вера-Крус. Получив подкрепление с побережья и доведя свои силы до сорока всадников, пятисот пятидесяти испанских пехотинцев и десяти тысяч тласкалатеков, он снова вступил в долину Мехико.
Но прежде Кортес успел одержать важную политическую победу. С 1515 г. в Тексоко, втором по значению городе региона, шла ожесточенная борьба за власть между членам правящего рода. Поддержанный ацтеками вождь Какама захватил трон, но его соперник Итлилхоктил удерживал за собой обширную область к северу от Тексоко. Естественно, что он ухватился за возможность заключить союз с испанцами: они помогли Итлилхоктилу изгнать из Тексоко Какаму, а взамен получили надежный опорный пункт и базу тылового снабжения. Заручившись помощью недовольных ацтеками племен, Кортес одержал несколько побед и подошел к Теночтитлану. Снабжение города осуществлялось с помощью каноэ, и Кортес понимал, что сможет овладеть городом, если установит контроль над озером. В начале февраля заготовленный в Тласкалане строевой лес доставили в Тексоко, где без промедления приступили к строительству бригантин. Двадцать восьмого апреля 1521 г. Кортес спустил на воду свои суда, каждое из которых имело в длину около сорока футов и было снабжено носовым орудием. Помимо капитана и канонира, на борту каждой бригантины находилась дюжина гребцов и столько же стрелков, аркебузиров или арбалетчиков. При поддержке тысяч индейских каноэ эти корабли полностью блокировали Теночтитлан, перерезав пути снабжения города продовольствием.
Теперь испанцев насчитывалось около девятисот. Тех из них, которые не находились на бригантинах, Кортес разделил на три отряда по двести солдат, придав каждому «вспомогательные силы» по 20 — 30 тысяч индейских воинов. Двадцать второго мая Педро де Альворадо повел одну армию на Тлакопан, Кристобаль де Олеа двинулся на Суоиаса, а Гонсало де Сандоваль выступил к Икстапалапану. Перерезав основные пути в Теночтитлан, испанцы повели наступление по узким дамбам, сосредоточив на них свою подавляющую огневую мощь. Ацтеки ответили на это возведением баррикад и атаками на конкистадоров с воды, на каноэ. Кортес приказал перерезать дамбы каналами, что позволило бригантинам, свободно маневрируя по озеру, разгонять и топить лодки ацтеков. Индейцы стали вбивать в дно озера заостренные колья, создавая угрозу днищам испанских судов.
Битва за город шла с переменным успехом, и в ее ходе не было недостатка в критических, способных повлиять на будущий ход событий моментах, однако, как представляется нам, наиболее острый из них имел место 30 июня 1521 г.
Испанцы и их индейские союзники атаковали дамбы более месяца. Ацтеки препятствовали их продвижению, перекрывая дамбы завалами или разрушая их отдельные участки, что могло служить как препятствием, так и тактической уловкой. Бывало, что преодолев такой ров и устремившись в погоню за притворно бегущими врагами, конкистадоры оказывались в ловушке. Пользуясь тем, что противник оказывался отрезанным от своих и не имел возможности быстро отступить, ацтеки обрушивались на испанцев с удвоенной силой. Во избежание подобных ситуаций, Кортес распорядился не переправляться через проломы в дамбе, пока они не будут завалены. Но 30 июня разрушившие ацтекские укрепления испанцы развили стремительное наступление и, увлекшись, перебрались через не засыпанный пролом в дамбе Тлакопан. Хитрость удалась: мгновенно развернувшись, ацтеки смяли преследователей. Немало испанцев погибло, а шестьдесят восемь конкистадоров попали в плен. Всех пленников принесли в жертву. Это произвело столь удручающее впечатление на союзников Кортеса, что многие вожди увели своих воинов. Правда, испанцам удалось оправиться от удара, и колеблющиеся союзники вернулись, но в тот день все висело на волоске.
Если бы Кристобаль де Олеа не отдал жизнь ради спасения Кортеса, тот, скорее всего, тоже попал бы в плен и был бы принесен в жертву. Это повлекло бы за собой повальное бегство всех союзных конкистадорам индейцев без надежды на их возвращение. Кортес имел трех помощников, но первого заместителя, чья власть в случае гибели командира не оспаривалась бы никем, у него не было. По правде сказать, всей полнотой власти не обладал и сам Кортес: он с трудом удерживал в повиновении своих головорезов, используя тактику кнута и пряника, и даже повесил троих заговорщиков, подбивавших солдат на дезертирство.
Поскольку дисциплина среди конкистадоров поддерживалась единолично лидером, оставшись без него, они не смогли бы сохранить единство. Что же последовало бы дальше?
Испанцы не могли рассчитывать разбить ацтеков без помощи союзных индейцев. К тому же, в отсутствие столь решительного и безжалостного вождя, как Кортес, застарелые распри между ними очень скоро вышли бы наружу. В этих обстоятельствах для завоевателей оставалось три варианта дальнейших действий. Во-первых, они могли продолжить штурм, что для подавляющего большинства означало бы смерть в бою, а во-вторых, сдаться, за чем тоже последовала бы смерть, только на жертвенном камне. Наиболее разумным выходом представляется попытка организованного отхода. Однако, если год назад ацтеки позволили конкистадорам уйти из Теночтитлана, представляется весьма сомнительным, чтобы они допустили бы повторение подобной ошибки. К тому же, в отличие от прошлого раза, испанцам не пришлось бы уже рассчитывать на убежище в Тласкалане. Они должны были бы бросить тяжелое снаряжение и предпринять двухсотмильный марш через враждебную территорию к побережью залива. Большинству из них едва ли удалось бы увидеть завершение этого похода. Скорее всего, раздоры в среде испанцев привели бы к раздроблению и без того небольших сил, сделав их легкой добычей для преследующих ацтеков. Даже при самом оптимистичном для испанцев повороте событий, добраться до побережья и отплыть на Кубу или укрыться во владениях бывших союзников смогли бы лишь немногие счастливцы. Таким видится нам конец этого похода.
Теперь постараемся представить себе реакцию на поражение Кортеса со стороны испанцев (не его бывших соратников, чудом уцелевших, а лиц, обладавших влиянием в Испании и Индиях). Учитывая сезонный характер трансатлантических плаваний, известие о крахе предприятия Кортеса могло достичь Испании не раньше лета, а то и к осени 1522 г. Следует отметить, что Испанская корона поощряла колониальные захваты в Новом Свете, но формально они осуществлялись не государством. В связи с этим вероятность организации карательного похода против ацтеков силами королевской армии весьма невелика. Неудачник ни у кого не в чести, и провал экспедиции Кортеса заставил бы правительство вспомнить о том, что поход был предпринят против воли губернатора, а значит, язычники убили просто-напросто бунтовщика. Позиции Веласкеса при дворе усилились бы.
Разумеется, вести о высокой культуре и, главное, богатствах народов Мексики скоро разнеслись бы по колониям и достигли бы Испании. Пренебречь ими было нельзя. Но в изменившихся обстоятельствах упрочивший свое положение Веласкес, скорее всего, попытался бы осуществить свой первоначальный план и завязать с туземцами торговые отношения. Вполне возможно, все ограничилось бы возникновением на побережье одного крупного торгового центра, выполнявшего для Испании в Мексике ту роль, которую для Португалии в Китае и Японии играл в XVI в. Макао. Однако сомнительно, чтобы испанцы смогли сохранить монополию на торговлю с Мексикой намного дольше последовавшей в 1524 г. смерти Веласкеса. Конечно, нельзя исключать возможности повторения попытки покорить Мексику. Но если бы она и была предпринята, то лишь спустя годы. Морские экспедиции и освоение Карибского бассейна поглощали бы большую часть материальных ресурсов испанских колоний, которым было бы не так-то просто оправиться от потери в злосчастной авантюре Кортеса почти двух тысяч воинов. К тому же без успешного завоевания Мексики с ее сказочными богатствами "не было бы и массовой миграции в Новый Свет жаждущих наживы испанцев. Таким образом, при рассматриваемом нами варианте событий испанские колонии были бы ослаблены как в политическом, так и в военном отношении. Возможно, вся энергия испанцев оказалась бы поглощенной завоеванием государства инков, начавшимся в конце 1520-х гг. Его успеху способствовали развязанная самими инками усобица и опустошительная эпидемия оспы, занесенной в Анды из испанских поселений в Панаме. Вместо Мексики испанцы, может быть, потянулись бы в завоеванное Перу, но захваченные там богатства едва ли вдохновили бы их на попытку повторить неудавшийся поход Кортеса.
Установив, таким образом, что гибель Кортеса, по меньшей мере, отсрочила бы следующее испанское вторжение в Мексику, мы вправе задаться вопросом, как повели бы себя победившие ацтеки. Полный возврат к прежнему положению следует признать невозможным. Испанское вторжение при любом исходе не могло не повлечь за собой коренные изменения во многих сферах жизни народов Мексики. Эпидемия оспы 1519 — 1520 гг. имела ужасающие последствия, но двух опустошительных эпидемий тифа (1545—1548 и 1576—1581 гг.) изгнавшая испанцев Мексика могла бы и избежать. Глубокие перемены затронули бы ацтекскую элиту: форма правления могла остаться прежней, но войны и болезни неизбежно внесли бы коррективы в персональный состав правящего слоя. Соответственно, даже сохранив в неприкосновенности организацию власти у соседних народов, ацтеки едва ли оставили бы без мстительного внимания позицию, которую занимали те или иные вожди в ходе войны.
Невозможно предсказать политическое будущее всех правителей, пришедших к власти с помощью испанцев и тласкалатеков. Многих из них наверняка свергли бы соперники, лояльные ацтекам или просто воспользовавшиеся изменившейся политической конъюнктурой. Города, придерживавшиеся союза с Тласкаланом, скорее всего переметнулись бы к ацтекам. Да и в самом Тласкалане борьба группировок вполне могла привести к отстранению от власти испанского ставленника. Можно предположить, что новый правитель постарался бы спасти город от ацтекского нашествия, пойдя на союз с ацтеками на их условиях. После ухода испанцев в регионе не осталось бы силы, способной воспрепятствовать установлению господства ацтеков, хотя бы и ослабленных в военном отношении понесенными потерями.
Как могла новая политическая реальность повлиять на возможность повторения испанского вторжения? Кортес сумел использовать в своих интересах аморфную племенную структуру ацтекского государства и наличие у ацтеков сильного врага — Тласкалана. Естественно задаться вопросом, сумели ли бы ацтеки после умиротворения Тласкалана сцементировать свою рыхлую империю, дабы иной завоеватель не смог бы по примеру Кортеса воспользоваться ее внутренней слабостью? Во владениях ацтеков имелась гораздо лучшая, чем в иных землях, система дорог, по которым доставляла припасы армия носильщиков. Но общенационального рынка, равно как и стойкой общенациональной политической иерархии, там не существовало. Власть на местах оставалась в руках племенной знати, и, следовательно, слабость или некомпетентность центра была чревата усилением сепаратизма. Кроме того, несмотря на относительную культурную близость между собой большинства племен, объединенная идеология или религия в Мексике не сложилась. Скреплению союзов могли способствовать династические браки, но для того, чтобы это способ принес плоды, требовалось время. Не располагая альтернативным методом политической интеграции, ацтеки не могли создать прочного, непроницаемого фронта на случай повторного испанского вторжения.
Но, несмотря на неспособность радикально реформировать государство, у ацтеков имелось два выхода: они могли перейти в наступление или перенять новое оружие и военную тактику. Поскольку, победив Кортеса, они захватили бы участвовавшие в штурме Теночтитлана бригантины (а возможно, и некоторые суда, оставшиеся в порту Вера-Крус), у них появилась бы возможность начать контрнаступление на колонии Вест-Индии. Правда, вероятность высадки ацтекского десанта на Кубу и штурма Гаваны представляется нам незначительной. Хотя на тихоокеанском побережье Южной Америки использовались паруса, в Мексике не имели представления ни о них, ни о морской навигации,, ни о местонахождении испанской Вест-Индии. Трудно предположить также, что войска ацтеков смогли бы достичь испанских колоний и на материке: они находились очень далеко. Чтобы добраться до ближайших, следовало преодолеть безлюдные или бесплодные пустыни, раскинувшиеся на севере, или непроходимые джунгли, лежащие на юге, населенные не входившими в сферу ацтекского влияния племенами. Таким образом, даже при наличии наступательного импульса, ацтеки скорее всего ограничились бы патрулированием побережья залива с целью предупреждения новой испанской высадки. Да и эта дорогостоящая активность наверняка поумерилась бы по прошествии нескольких мирных лет.
Однако для военной тактики ацтеков столкновение с Кортесом не могло бы пройти бесследно. Встретившись с испанцами, индейцы впервые познакомились с кавалерией, артиллерией, аркебузами и арбалетами. Отступая из Теночтитлана вторично, конкистадоры наверняка снова бросили бы пушки, и ацтеки на этот раз, возможно, не стали бы их уничтожать. В руки ацтеков могли попасть также и мечи, доспехи, арбалеты, аркебузы, а возможно, и лошади. Но как повлияли бы эти трофеи на их тактику? Уже в боях с Кортесом индейцы пускали в ход испанские мечи (прикрепляли к шестам и использовали как оружие против конницы) и стреляли из отбитого у врага арбалета. Не умея добывать и обрабатывать железо, ацтеки не имели возможности ни наладить производство оружия по испанским образцам, ни даже чинить трофейные экземпляры. Но пользоваться захваченным вооружением им ничто не мешало. В конце концов ацтеки имели собственные широкие мечи, копья, луки и панцири. Индейцы, вступившие в союз с Кортесом, быстро освоили производство прекрасных стрел с медными наконечниками, сделав неисчерпаемым запас боеприпасов для арбалетов. Для пушек и аркебуз требовался порох, изготовлять который индейцы не умели, хотя и имели в наличии все необходимые компоненты. Зато, вероятно, ацтеки освоились бы с лошадьми и создали бы конницу, подобную той, с которой позднее довелось столкнуться американцам на Великих Равнинах. А случись испанцам и вправду наладить торговлю через Вера-Крус, оружие — и клинковое, и огнестрельное — потекло бы к индейцам, невзирая на все запреты[130]. Правда, чтобы овладеть им как следует, потребовалась бы серьезная подготовка, желательно под руководством уцелевших испанцев. Что вовсе не явилось бы чем-то беспрецедентным. Гонсало Герреро, потерпевший крушение у берегов Юкатана в 1511 г., стал военным вождем у майя. Он возглавил одно из их нападений на де Кордову и отказался вернуться к соотечественникам, несмотря на приглашение Кортеса. Сама Испания как единое государство возникла сравнительно недавно, а ее король, он же германский император Карл V, хотя и происходил от государей Кастилии и Арагона, родился в Нидерландах и в своей стране мог считаться иностранцем. Многие конкистадоры считали себя в первую очередь не испанцами, а, например, андалузцами или каталонцами, а некоторые из них и вовсе являлись португальцами или итальянцами. Таким образом, переход от Кортеса к Куаутемоку был возможен, вероятен, да, пожалуй, и неизбежен для пленных, не желавших оказаться принесенными в жертву ацтекским богам.
Чему же новому, еще не освоенному ацтеками в боях, могли научить испанцы? Разумеется, правильному обращению с новыми видами оружия. Например, обоюдоострые, с острыми концами, стальные мечи испанцев могли и колоть и рубить, тогда как широкие, с обсидиановыми лезвиями, дубовые мечи ацтеков использовались только для нанесения режущих ударов. Возможно, ацтеки даже смогли бы научиться изготовлять порох, благо необходимые для того ингредиенты в долине Мехико имелись. Но главным для ацтеков должно было стать не освоение новых видов вооружения, а усовершенствование стратегии и тактики.
Дальнейшее усовершенствование, ибо основы индейцы уже усвоили. Тактические нововведения, прежде всего, могли повлечь за собой серьезные политические последствия. Тласкалатеки пошли на союз с конкистадорами, поняв, что немногочисленные испанские отряды могут выступать в качестве ударной силы и расстраивать боевые порядки противника с эффективностью, недоступной для тактики и вооружения, принятых в Тласкалане. Наличие немногочисленных испанских солдат давало тласкалатекам серьезное преимущество, но овладевшие трофейным испанским оружием ацтеки вполне могли заменить испанцев.
Таким образом, даже если при начале второго испанского вторжения подвластные ацтекам племена по-прежнему враждовали бы с Теночтитланом, объединение их с конкистадорами не имело бы решающего значения. Несмотря на наличие у испанцев пушек и аркебуз, тласкалатеки, например, не получили бы того превосходства, какое они имели в прошлый раз. Разумеется, испанцы по-прежнему представляли бы собой ударную силу, но точно такой же силой могли являться и вооруженные испанским оружием и соответственно обученные отряды ацтеков. Естественно, в такой ситуации испанцы лишились бы многих союзников. Вожди воюющих племен отчетливо осознали бы элементарный факт: при наличии у обеих сторон ударных отрядов и использовании схожей тактики, победу одержит тот, кто имеет численное превосходство — то есть ацтеки.
К тому времени, когда испанцы, опустошив Анды войной и болезнями и покорив обитавшие там народы, смогли бы снова обратить внимание на Мексику (что могло случиться не ранее конца 1530-х гг.), возможность завоевания была бы упущена. Найти сильных союзников не представлялось бы возможным, а без них самых удачливых конкистадоров сбросили бы в море. (Черепа неудачливых украсили бы храмы Теночтитлана.) Для успеха завоевания требовалось бы такое количество пушек и лошадей, какого в испанских колониях попросту не имелось.
Со временем ситуация менялась бы для обеих сторон. Слухи о несчастьях туземного населения в покоренных испанцами землях достигли бы Теночтитлана. Необходимость противостоять испанской опасности способствовала бы сплочению индейских народов. Возникло бы не существовавшее ранее представление о Мексиканском единстве, что могло стать началом формирования мексиканской нации.
Хотя испанцам в своей центрально-американской политике пришлось бы сместить акцент с войны на торговлю, золото все равно текло бы рекой в испанскую казну. Не только из ограбленного Перу, но и из независимой Мексики, элита которой охотно покупала бы заморские товары. С течением времени испанские новшества, касавшиеся ремесла, земледелия и скотоводства, получали бы все более широкое распространение, переставая быть достоянием одной лишь знати. Можно предвидеть быстрое развитие туземного овцеводства и ткачества, а также обработки металлов. Общий подъем экономики укрепил бы позиции местных вождей, занявших в этом обществе то место, которое в колониях принадлежало испанским поселенцам.
Но если попытки испанской вооруженной экспансии стали бы постепенно ослабевать, это никоим образом не относилось бы к экспансии религиозной. Проповедники из монашеских орденов вели бы свою миссионерскую деятельность и в стране, свободной от испанского господства. Однако им пришлось бы столкнуться с энергичным противодействием местного жречества, пользующегося поддержкой властей и имеющего в своем распоряжении развитую систему школьного образования. Христианизация в этих условиях шла бы медленнее, чем это имело место в действительности. Правда, испанские священники принесли бы в Мексику не только веру, но и письменность с латинским алфавитом. Туземная аристократия постаралась бы монополизировать грамотность, опасаясь того, что ее распространение в низших слоях общества может породить социальное брожение. Так или иначе, христианство укоренилось бы на мексиканской почве, хотя возможно, не в нынешнем католическом варианте, а в смешанной с остатками местных верований форме. Не опираясь на силу и распространяя свое учение лишь с помощью убеждения, миссионеры должны были бы радоваться, если бы им удалось добиться отказа местного населения от человеческих жертвоприношений. Однако рецидивы старых верований долго имели бы место в рамках еще не монотеистических культов, смешивавших Бога христиан с каким-нибудь из туземных божеств..
По мере укрепления экономики и утверждения христианства в более-менее приемлемой форме вероятность завоевания Мексики становилась бы все меньше. Страна вполне могла сохраниться как региональная держава, выдержав столкновение с расширявшимися европейскими колониями Северной и Центральной Америки. В политическом отношении Мексика постепенно эволюционировала бы в направлении конституционной монархии с сильным и развитым местным самоуправлением. Случись это, продвижение Соединенных Штатов на запад могло бы быть остановлено гораздо раньше, возможно, еще на Миссисипи, поскольку при таком ходе событий Франция, продавшая Штатам права на Луизиану, едва ли могла бы ею завладеть. И тогда в наши дни гораздо меньшим по территории Соединенным Штатам выпало бы соседствовать с крупной державой воистину коренных американцев.
Джеффри Паркер
Неудавшаяся атака английских брандеров.
Торжество Непобедимой Армады, 8 августа 1588 г.
Поражение Непобедимой Армады вошло в историю, став хрестоматийным. Плохая координация действий между испанскими судами стала предвестником поражения, отважные атаки английских брандеров повергли флотилию в хаос, а шторм, погнавший суда вокруг Британских островов, довершил разгром. Треть кораблей и половина находившихся на их борту людей никогда уже не вернулись в Испанию.
Однако никто не вспоминает, как близок был в те дни к успеху король Испании Филипп II. Человек, стоявший во главе первой в мире державы, над которой «никогда не заходило солнце», был твердо намерен избавиться от протестантской королевы Елизаветы I и вернуть Англию в лоно католицизма. Дабы покончить с вмешательством Англии в дела принадлежавших испанской короне Нидерландов и не позволить англичанам захватить плацдарм в Новом Свете, он выслал к берегам Альбиона флотилию из 130 судов. Ей надлежало принять на борт армию под началом герцога Пармского, закаленную в боях с мятежниками в Нидерландах, и высадить ее на английскую землю в графстве Кент. Но у Кале Армаду перехватил английский флот, и с этого момента мы вправе задаться вопросом «что, если?»
Что, если бы в ночь с 7 на 8 августа ветер подул в противоположном направлении, не дав возможности английским брандерам и боевым кораблям подойти к Армаде? Что, если бы испанцам удалось продержаться до подхода транспортных кораблей с солдатами Пармы? Что, если бы они знали, что у англичан практически нет боеприпасов? Что, если бы войска Пармы все же высадились в Кенте? Случись все это — и мы вправе предположить, что вымуштрованные испанские ветераны двинулись бы прямиком на Лондон, сметая на своем пути отряды плохо вооруженных и необученных английских ополченцев, которые вряд ли были способны оказать им серьезное сопротивление. Филипп II мог легко достичь поставленной цели — но, как отмечает Джеффри Паркер, самой трудной для этого государя проблемой являлся он сам.
Перу Джеффри Паркера, профессора истории университета штата Огайо, принадлежат такие работы, как «Восстание в Нидерландах», «Филипп II», «Военная революция», «Испанская Армада» (в соавторстве с Колином Мартином), а также недавно увидевшая свет книга «Великая стратегия Филиппа II». Кроме того, Паркер является редактором сборника «Спутник любителя военной истории».
Прояви некоторые британские историки больше настойчивости, и 8 августа вполне могло бы стать в Англии национальным праздником — ибо именно в этот день в 1588 году военно-морской флот Елизаветы Тюдор сорвал предпринятую Филиппом II попытку завоевания Англии. Поражение Непобедимой Армады открыло для стран северной Европы доступ к Американскому континенту и, таким образом, сделало возможным возникновение в будущем Соединенных Штатов.
В то время Филипп II властвовал над Испанией и Португалией, половиной Италии, над большей частью Нидерландов и бесчисленными колониями, разбросанными по всему земному шару — от Мексики, Манилы, Макао и Малакки до Гоа, Мозамбика и Анголы. Иными словами, Филипп владел империей, в пределах которой, по словам его апологетов, «никогда не заходило солнце». Кроме того, его выросший при испанском дворе кузен, Рудольф Габсбург, управлял Австрией и всей Германской империей[131], а вождь французских католиков герцог де Гиз оказывал Филиппу безоговорочную поддержку. Однако и этому могущественнейшему в мире монарху пришлось столкнуться с серьезной проблемой.
В 1572 году в северо-западных провинциях Нидерландов началось восстание. Несмотря на огромные затраты и посылку отборных войск во главе с племянником короля герцогом Пармским Александром Фарнезе, Испании не удавалось восстановить контроль над мятежными провинциями Голландия и Зеландия. Постепенно король уверовал в то, что восстание не выдохлось лишь благодаря английской поддержке, и в 1585 году пришел к выводу, что предпочтительнее будет направить ресурсы не на приведение к покорности Голландии и Зеландии, а на завоевание самой Англии.
Его план низложения королевы Елизаветы и возведения на английский трон приверженца католицизма встретил поддержку как католических государей, так и Римской церкви. Тоскана, Мантуя и Святой престол приняли участие в финансировании войны, а папа, вдобавок, обещал всем его участникам полное отпущение грехов.
Королевский Совет тщательно рассматривал различные варианты вторжения, выбирая наилучший. Летом 1586 года королю была представлена карта с различными вариантами действий, снабженная примечаниями и сравнительными оценками как достоинств, так и недостатков вынашиваемых замыслов. Автор карты, Бернардино де Эскаланте, отмел как слишком рискованные проекты нападения с моря на северо-западную Англию (включавший поход флота на север к Шотландии с последующим переходом в Ирландское море) или на Уэльс. Вместо этого он предложил нанести двойной удар: вышедший из Лиссабона военный флот высаживает десант в южной Ирландии, а герцог Пармский с ветеранами из Испанских Нидерландов в то же самое время совершает внезапное нападение на Кент. Предполагалось, что армия Пармы беспрепятственно переправится в Англию на небольших транспортных судах, ибо военно-морской флот Елизаветы отправится защищать Ирландию. Филипп II принял этот план, внеся в него одно-единственное (но оказавшееся роковым) изменение: он приказал флоту из Лиссабона плыть не в Ирландию, а в Нидерланды, чтобы ускорить и облегчить переправку в Англию ветеранов Пармы. Считая свою Армаду воистину непобедимой, он не сомневался в том, что при попытке преградить ей путь в проливе Ла-Манш или Па-де-Кале флот Елизаветы будет полностью уничтожен. Таким образом, чтобы считать победу обеспеченной, Парме следовало лишь дождаться подхода испанского флота.
Порядок действия войск после высадки также определялся указом Филиппа. Им надлежало следовать через Кент прямо на Лондон, взять город штурмом и желательно захватить в плен королеву Елизавету вместе с ее министрами. Предполагалось, что католики на окраинах королевства и прежде всего в Ирландии поддержат единоверцев, подняв восстание. Если же надежда на католический мятеж не оправдается, а Лондон будет держаться стойко, Парма, используя преимущество своего положения, должен будет добиться от Елизаветы трех следующих уступок: прекращения преследования английских католиков, запрет на плавание английских судов к берегам Америки и сдача Испании всех городов Голландии, где стояли английские войска.
Первая фаза операции в целом прошла согласно плану. 21 июля 1588 года самый большой из появлявшихся когда-либо в водах северной Европы флот из 130 судов под командованием герцога Медина-Сидония отплыл на соединение с дожидавшимися его в Дюнкерке тремястами транспортными судами, на которые собирались грузиться двадцать семь тысяч ветеранов Пармы. 29 июля Армада вошла в Ла-Манш и, несмотря на неоднократные попытки английского флота остановить ее продвижение, 6 августа бросила якорь в порту Кале, всего в двадцати пяти милях от Дюнкерка. Извещенный об этом в тот же день, Парма 7 августа начал погрузку своих войск на транспортные суда — но, как оказалось, опоздал. В ту самую ночь англичане расстроили боевой порядок Армады с помощью успешной атаки брандеров, а Поутру корабли Елизаветы закрепили успех, отогнав еще не успевших прийти в себя испанцев к северу.
Едва испанцы вышли в Северное море, как среди командиров начались ожесточенные споры и обычные в таких случаях поиски виноватых. Дон Франциско де Бобадилья (старший военный советник герцога Медина-Сидония, пишет, что «...на всем флоте не было человека, который не твердил бы "я же предупреждал!" или "а что я говорил!" Сам Бобадилья объяснял неудачу тем, что английские суда превосходили испанские — и по мореходным качествам, и по артиллерийскому вооружению, и по обученности экипажей. Вдобавок на большинстве испанских кораблей ощущалась острая нехватка боеприпасов. Бобадилья указывает также, что «...несмотря на все это, герцог (Медина-Сидония) сумел привести флот в Кале и встать на якорь всего в семи лигах от Дюнкерка, и если бы Парма выступил оттуда в день нашего прибытия, мы смогли бы осуществить вторжение».
Первый серьезно занявшийся этой темой английский историк, автор увидевшей свет в 1614 году «Мировой истории» сэр Уолтер Рэйли полностью разделяет эту точку зрения. «Англичане, — пишет он, — не располагали силами, способными противостоять армии принца Пармского, сумей тот высадиться в Англии». И действительно, испанское войско, с 1572 года почти непрерывно сражавшееся с голландцами во Фландрии, за это время приобрело несравненные боевые качества. Некоторые ветераны находились в строю по тридцать лет, все они служили под командованием опытных, заслуживших свои чины под огнем офицеров. В течение предыдущего десятилетия эта армия покорила мятежные провинции Фландрию и Брабант, а совсем недавно, в августе 1587 года, вырвала порт Слейс из зубов отчаянно сопротивлявшихся повстанцев и их английских союзников. Парма разработал подробнейший план вторжения, определил порядок действий каждого подразделения и дважды провел тренировочные учения. Достаточно отметить, что ему удалось погрузить двадцать семь тысяч солдат на корабли всего за тридцать шесть часов — прекрасный результат для любой армии любого времени!
Испанское вторжение в Англию, 1588 год
Однако в распоряжении герцога Пармского не было достаточного для обеспечения переправы количества боевых судов, а также тяжелой осадной артиллерии. Зная об этом, Филипп включил в состав Армады гребные суда мелкой осадки, способные отогнать голландские корабли, блокировавшие порты Фландрии, и отправил Парме морем двенадцать сорокафунтовых осадных пушек.
Лишь очень немногие замки и города юго-восточной Англии могли бы устоять при осаде, поддержанной такими орудиями. Во всем краю, пожалуй, только замок Эпнор на реке Медуэй, построенный для защиты верфей Чатэма, мог похвастаться выступавшими за линию стен и прикрытыми широкими рвами бастионами, необходимыми для успешной обороны. Крупные города Кента (Кентербери и Рочестер) по-прежнему полагались на давно устаревшие средневековые стены. Между береговым плацдармом Маргейт и Медуэем оборонительных сооружений, судя по всему, не было вовсе, а один Эпнор едва ли мог остановить герцога Пармского и его войско. Слабое место противника Филипп II определил верно.
Не имея на своем пути серьезных препятствий войско герцога Пармского должно было двигаться быстро. Впоследствии, вторгшись в Нормандию в 1592 году, он, несмотря на упорное сопротивление и численное превосходство противника, преодолел 65 миль за шесть дней. Так что есть все основания предполагать, что четырьмя годами раньше, в случае успешной высадки в Англии, путь в 80 миль от Маргейта до Лондона занял бы у него не больше недели. Даже столица страны не могла считаться хорошо укрепленной, ибо ее защищали устаревшие оборонительные сооружения, остававшиеся неизменными как минимум с 1554 года. Тогда сэр Томас Уотт поднял мятеж, протестуя против брака Марии Тюдор, сводной сестры и предшественницы Елизаветы, с принцем Филиппом — будущим Филиппом II. Повстанцы прошли маршем через весь Кент, у Кингстона (к западу от столицы) переправились через Темзу, беспрепятственно вступили в Вестминстер и, лишь спустившись по Флит-стрит, уперлись в крепостные стены. Эти стены и остановили Уотта, поскольку он не располагал артиллерией.
Впрочем, Парма прекрасно знал, что способность города к обороне отнюдь не всегда определяется состоянием его оборонительных сооружений. В Нидерландах некоторые города с ветхими старыми стенами устояли перед испанцами лишь благодаря доблести своих защитников — тогда как иные, куда более сильные крепости, пали, потому что их жители, гарнизон или комендант соблазнились взяткой. Как писал Парме один служивший на стороне голландцев английский офицер, «всем известно, что золото короля Испании проделывает в сердцах изменников бреши побольше, чем осадная артиллерия». В этом отношении войска Елизаветы, воевавшие в Нидерландах, имели не слишком воодушевляющий опыт. В 1584 году английский гарнизон Аальста продал Парме ключи от города за 10 000 фунтов, а в 1587 году сэр Уильям Стэнли и Рональд Йорк с семьюстами английскими и ирландскими солдатами сдали вверенные им опорные пункты (Девентер и форт Зутфен), причем многие из англичан сами перешли к врагу и впоследствии сражались на стороне Испании против бывших товарищей по оружию.
Таким образом, Елизавете и ее советникам приходилось полагаться на не слишком-то надежных людей, ведь основу сил, призванных воспрепятствовать вторжению, тоже должны были составить четыре тысячи солдат из английского экспедиционного корпуса в Голландии. Генерал-квартирмейстер Елизаветы доводился Рональду Йорку родным братом, а сэр Роджер Уильяме в 1570-х годах сам служил в Нидерландах под знаменами Филиппа. Нельзя исключить возможность того, что эти вояки продали бы Парме английские твердыни так же, как их товарищи продавали нидерландские крепости. Однако у Елизаветы попросту не было выбора. Она зависела от ветеранов голландской кампании, поскольку практически не располагала другими обученными войсками. Возможно, городская милиция Лондона, отряды которой муштровались по два раза в неделю, и годилась для настоящего боя (хотя многие сомневались и в этом), но от ополчений графств многого ожидать не приходилось. Огнестрельное оружие имелось далеко не у каждого. На тех, у кого оно было, приходилось всего по четыре заряда, а сами ополченцы, по отзывам их же командиров, представляли собой неорганизованный сброд, способный скорее «перебить друг друга, нежели нанести урон врагу». При этом королеве приходилось держать шесть тысяч солдат на границе с Шотландией, из опасения, что король Яков VI Стюарт (его мать Марию Елизавета казнила в предыдущем году) выступит против нее одновременно с испанцами.
Вдобавок, все приготовления англичан опасно запаздывали. Лишь 27 июля, когда Армада уже приблизилась к Ла-Маншу, Елизавета объявила сбор южного ополчения, тогда же приказав ему выступить в Тилбери (графство Эссекс) — место, отделенное от выбранной Филиппом точки высадки восьмьюдесятью милями пути и рекой Темзой. Плавучее заграждение на реке, предназначавшееся, чтобы помешать проходу неприятельских кораблей, разрушил первый же высокий прилив. Мост из соединенных между собой лодок, по которому войскам следовало пройти из Эссекса в Кент, так и остался незавершенным. Даже в Тилбери, средоточии английской обороны, фортификационные работы начались лишь 3 августа — в тот день, когда Армада прошла мимо острова Уайт. Три дня спустя, когда испанцы бросили якорь в Кале, среди собравшихся в Кенте войск началось повальное дезертирство. А ведь они и без того насчитывали лишь около четырех тысяч человек —смехотворно мало для того, чтобы пытаться остановить закаленных в боях испанцев, да и командование англичан не имело единой стратегии. Местный командир, сэр Томас Скотт, призывал рассредоточить силы вдоль побережья, чтобы «встретить врага на берегу моря», а возглавлявший юго-восточную группировку сэр Джон Норрис настаивал на отводе войск в Кентербери, чтобы закрепиться там и «не пропустить врага в Лондон или в сердце королевства».
Вся эта неорганизованность и сумятица объяснялись, в основном, международной изоляцией и скудостью средств. Елизавета не могла получить денежных займов — ни дома (в силу того, что война с Испанией подорвала английскую торговлю), ни за границей (поскольку банкиры на континенте в большинстве своем не сомневались в победе Испании), и это вынуждало ее в целях экономии средств откладывать все оборонительные мероприятия до последней возможности. Не далее, как 29 июля 1588 года, государственный казначей доложил королеве, что на его столе скопились счета на 40 000 фунтов и «нет ни малейшей возможности раздобыть денег, чтобы их оплатить». «Можно пожелать, — сурово заключил он, — чтобы, коль скоро невозможно заключить мир, враг не медлил и все решилось скорее». Союзников, кроме Голландии, Англия не имела.
В отличие от Елизаветы Филиппу удалось обеспечить надлежащее финансирование своего предприятия — хотя однажды и ему для того, чтобы раздобыть наличные, пришлось заложить фамильные драгоценности. Траты Испании были огромны: только на поддержку Католической Лиги во Франции с 1587 по 1590 год было израсходовано полтора миллиона дукатов, армия во Фландрии за тот же период обошлась в двадцать один миллион. Армада, по утверждению самого короля, стоила ему десять миллионов дукатов. Поскольку один фунт стерлингов того времени равнялся примерно четырем дукатам, можно подсчитать, что общие расходы Филиппа на борьбу с Англией составили около семи миллионов фунтов, тогда как ежегодные расходы Елизаветы колебались возле цифры в двести тысяч. Одновременно дипломатам Филиппа удалось склонить на свою сторону или нейтрализовать все государства Европы. В июле 1588 года, когда Непобедимая Армада вошла в Английский Канал, один из послов при испанском дворе восхищенно писал: «В данный момент католический король (Филипп II) пребывает в полной безопасности. Франция не в силах угрожать ему, равно как и турки, не говоря уже о короле Шотландии, обиженном на Елизавету из-за смерти своей матери. Единственным способным противостоять ему монархом был король Дании, но он недавно умер, а сын его слишком молод, и ему есть чем заняться в своей стране... В то же время Испания может быть уверена, что швейцарские кантоны не выступят против нее сами и не позволят сделать это другим, ибо между ними теперь союз».
* * *
Насколько точна была эта оценка, сделанная современником? В опубликованном в 1968 году романе «Павана» Кейт Робертс[132] красочно живописал последствия возможной победы испанцев:
«В теплый июльский вечер 1588 года во дворе королевского дворца Гринвич в Лондоне умирала женщина. Пули наемного убийцы застряли в брюшной полости и груди. Зубы ее почернели, лицо заострилось. Смерть лишила ее величия, но последний вздох умирающей сотряс целое полушарие, ибо не стало королевы Елизаветы I.
Гнев англичан не знал границ... Английские католики, обескровленные штрафами, все еще оплакивающие королеву Шотландии, все еще помнящие кровопролитное возвышение севера, столкнулись с новым погромом. Нехотя, исключительно в целях самообороны, они стали вооружаться против соотечественников, когда пламя, зажженное Уолсингамской резней, пробежало по земле, смешиваясь со светом сигнальных костров и мрачными отблесками костров аутодафе.
В Париж и Рим... прибывали вести о гигантской Армаде, проходившей мимо мыса Лизард на соединение с ожидавшей ее на побережье Фландрии армией вторжения герцога Пармы... Последовавшее смятение завершилось подчинением Англии Филиппу. Вдохновленные успехом своего союзника за Каналом, сторонники герцога Гиза во Франции наконец-то отстранили от власти ослабевший дом Валуа. «Война трех Генрихов» завершилась торжеством Лиги и восстановлением исконного господства Церкви.
Победитель получает все. Вернувшись в лоно католицизма, Великобритания, направив свои силы на служение папству, сокрушила протестантов в Нидерландах и лютеранские государства Германии, уже ослабленные в религиозных войнах. Северная Америка осталась под властью Испании, а Джеймс Кук водрузил над Австралазией флаг Святого Престола».
* * *
Если вдуматься, то столь благоприятный для Испании итог похода Армады весьма правдоподобен, и описанные в романе Робертса события вполне могли иметь место. Убийство, постоянный кошмар двора бездетной Елизаветы, в Европе эпохи Возрождения было обычным способом решения политических проблем. Во Франции от рук экстремистов и наемных убийц пали не только лидеры гугенотов Антуан Наваррский (1563 год) и Гаспар де Колиньи (1572 год), но также короли Генрих III (1589 год) и его преемник Генрих IV (1610 год). Елизавета пережила по меньшей мере два десятка заговоров и покушений, успех любого из которых покончил бы с династией Тюдоров, возложив задачу обороны от безжалостных захватчиков и поисков нового государя на Регентский совет.
Да и без устранения Елизаветы путем убийства или захвата в плен испанская оккупация одного только Кента обернулась бы весьма далеко идущими последствиями. Герцог Парма мог воспользоваться своим преимуществом для того, чтобы вырвать у правительства Тюдоров, устрашенного нашествием, а также восстаниями в Ирландии и на севере страны, существенные уступки. Прекращение преследования католиков повлекло бы за собой рост числа приверженцев Римской церкви. Заморским экспедициям «морских волков», вроде сэра Фрэнсиса Дрейка, тоже пришел бы конец — что оставило бы северную Америку в сфере влияния Испании (тем паче что католические миссионеры уже начинали проникать из Флориды в Виргинию). Наконец, англичанам пришлось бы уйти из Нидерландов, предоставив голландцев их собственной судьбе.
Меж тем в Нидерландской республике уже громко заявила о себе партия мира. Хотя большинство политических лидеров Голландии и Зеландии решительно противились переговорам с Испанией, в некоторых городах наметился раскол, а соседние провинции, вынесшие на своих плечах главные тяготы войны, все чаще высказывались за заключение договора. По словам одного из послов Елизаветы в Нидерландах, «содружество Соединенных Провинций состоит из представителей множества партий и религий, а именно: протестантов, пуритан, анабаптистов и испанских клевретов, которых совсем немало. Скорее всего, следует ожидать распада на пять частей, причем протестанты и пуритане вместе едва ли составят и одну часть из пяти. При этом, — продолжал посол, — только протестанты и пуритане последовательно стояли за продолжение войны. Если бы нашествие на Англию увенчалось успехом и молодая республика осталась одна противостоять всей мощи Филиппа, давление сторонников компромисса, скорее всего, было бы непреодолимым».
Не имея необходимости содержать дорогостоящую армию в Нидерландах, Испания, в полном соответствии с версией Кейта Робертса, получила бы возможность усилить свое присутствие в других частях Европы и мира. Изгнание гугенотов из Франции и возвращение в лоно Рима многих впавших было в лютеранство земель Германии произошло бы не в XVII веке, а несколькими десятилетиями раньше. Обретя уверенность и опираясь на поддержку Габсбургов, церковь покончила бы с протестантизмом в Европе. Продолжающаяся экспансия Испании и Португалии за морем сопровождалась бы их взаимным сближением и в итоге привело бы к созданию Иберийской империи — воистину мировой державы под скипетром преемников Филиппа II.
* * *
Но вправду ли это справедливо? На всякого, кто пытается сконструировать альтернативную модель истории, накладываются два ограничения: «правило минимального воздействия», сводящееся к тому, что реально имевшую место последовательность событий можно дополнять лишь самыми малыми и наиболее вероятными изменениями, и «контрафакт второго порядка» (подтверждение созданной модели через некоторое время). В рассматриваемом нами случае представляется возможным представить, что пущенные англичанами ночью 7 августа 1588 года брандеры не обязательно должны были расстроить боевой порядок Армады, к примеру, испанцы вполне могли их перехватить и оттащить от своих кораблей. В этом случае Медина-Сидония получил бы возможность дождаться Парму, и уже ничто не помешало бы переправе испанской армии через пролив. Строя такую модель событий, мы допускаем лишь «минимальное переписывание» истории.
Трудно предположить, что Филипп Второй, одержав победу, проявил бы благоразумие и умеренность: он жил в Англии в 1550-х годах (в качестве супруга Марии Тюдор) и во всем, касающемся этой страны, считал себя не просто знатоком, но знатоком, вдохновляемым свыше. «Я могу предоставить лучшие сведения и дать лучший совет относительно этого королевства, его дел и его народа, чем кто-либо иной», — сказал он как-то раз римскому папе. Такая сверхубежденность объясняет то, почему он стремился лично руководить всеми деталями кампании — начиная с разработки генерального плана, в который Филипп неосмотрительно включил соединение флота из Испании с армией из Фландрии, разделенных тысячами миль соленой воды. Он отказывал кому бы то ни было, будь то советник, генерал или адмирал, в праве усомниться в совершенстве и мудрости его Великой Стратегии. Не слушая советов, он твердил: «Положитесь на меня, как на человека, обладающего полной информацией о нынешнем состоянии дел во всех областях». Какие бы препятствия не угрожали его затее, Филипп настаивал на том, что Господь сотворит чудо. Так, когда в июне 1588 года внезапно поднявшийся ветер загнал эскадру назад вскоре после выхода из порта, и Медина-Сидония усмотрел в этом дурное предзнаменование, Филипп укорил герцога, заявив: «Будь эта война несправедливой, мы могли бы счесть бурю за знак, посланный Господом, дабы не творилось противное Его воле. Но коль скоро она справедлива, невозможно поверить, чтобы Он не возжелал ее. Скорее следует думать, что Он отметил нас своим вниманием, даровав более милости, нежели мы могли надеяться. Я посвятил этот поход Всевышнему... Соберись с духом, и выполняй свой долг».
В своей безграничной самонадеянности Филипп настаивал на том, чтобы Армада отправлялась в Кале как можно быстрее, не дожидаясь подтверждения готовности фландрской армии. Похоже, он просто не верил, что корабли голландцев и англичан, курсировавшие в проливе, смогут помешать Медина-Сидонии продвигаться на соединение и координировать с королем все свои действия с помощью депеш. Тех, кто осмеливался рекомендовать ему не торопиться и проявить осторожность, ожидали язвительные королевские упреки.
Нет никаких оснований полагать, что успех вторжения в юго-восточную Англию уменьшил бы желание Филиппа совать нос не в свое дело. Скорее всего, он попытался бы осуществить непосредственное руководство дальнейшей операцией, требуя, чтобы по всем мало-мальским вопросам военачальники обращались к нему. (При том, что сам он оставался в Испании, в двух-трех неделях плавания). Вероятно, Филипп потребовал бы от Пармы не поисков компромисса, а полной победы — точно так же, как после каждой успешной операции он отказывался от переговоров с голландцами, истощая в результате свои ресурсы. А случись испанцам увязнуть в Англии, это повлекло бы за собой, с одной стороны, активизацию голландских повстанцев, с другой — ухудшение положения французских католиков. Расходы Испании продолжали бы возрастать, подталкивая страну к банкротству. Впрочем, в 1596 году королевскому казначейству и в действительности пришлось остановить все выплаты по векселям.
После смерти Филиппа в 1598 году (в возрасте 71 года) власть унаследовал его единственный оставшийся в живых сын — Филипп III. Отсутствие старшего, более зрелого и опытного претендента, возможно, объяснялось тем, что наследственность испанских Габсбургов была испорчена продолжавшимися не одно поколение близкородственными браками. Старший сын Филиппа, дон Карлос, заключенный в темницу из-за психической ненормальности, мог похвастаться лишь шестью прапрадедами (и прапрабабками) вместо шестнадцати! Генофонд его сводного брата, короля Филиппа III, был не намного лучше: его мать, Анна Австрийская, доводилась своему мужу Филиппу II племянницей и кузиной. Эндогамия — или, как могли бы сказать враги династии, инцест — проистекал из желания объединять наследственные владения и не допускать их дробления. Упомянутый выше дон Карлос был потомком браков между представителями трех поколений правящих династий Испании и Португалии. При всей своей внешней успешности (в 1580 году два королевства объединились) такая политика таила в себе семя саморазрушения. Неудивительно, что спустя еще два поколения эндогамных браков испанские Габсбурги попросту вымерли! Покорение Англии не могло улучшить генофонд испанского правящего дома, а значит, преемникам Филиппа Второго просто-напросто досталось бы больше земель, которые все равно пришлось бы вскоре потерять. Контрафакт второго порядка наводит на мысль, что даже при условии полного успеха Армады, мировая гегемония Испании не продлилась бы долго.
Во всяком случае, победа Филиппа в 1588 году вошла бы в историю как пример исключительно скоординированной операции. Исследователи отмечали бы идеальный выбор места для вторжения, тщательное планирование, привлечение огромных ресурсов, прекрасное дипломатическое обеспечение, позволившее нейтрализовать всех возможных противников, — а также блестящее исполнение, результатом которого, невзирая на все препоны, стало соединение прибывшего из Испании непобедимого флота с непобедимой армией из Нидерландов. Если бы, несмотря ни на что, в понедельник 8 августа ветераны герцога Пармского начали поход на Лондон, то в наши дни вторжение в Англию считалось бы шедевром стратегии. Все нынешние американцы говорили бы по-испански, а день 8 августа отмечали бы как национальный праздник во всем мире.
Комментарии ко второй части
Военное счастье изменчиво, и результат сражения зачастую может зависеть лишь от воли случая — что и является любимой темой авторов множества военных альтернатив. Но авторы таких версий, как правило, забывают о том, что для выигрыша войны одной-единственной победы бывает недостаточно. Более того, случаются ситуации, когда сторона, желающая всего лишь сохранить статус-кво, может одержать хоть десять побед — но это ее не спасает. Другой же стороне, желающей изменить ситуацию в свою пользу, достаточно одержать всего одну победу, и по теории вероятности рано или поздно это произойдет...
Увы, если победа готов при Адрианополе и была случайностью, то лишь в плане реализации одного из вариантов большой закономерности. Ведь к тому времени Рим уже одряхлел и просто не мог не пасть под натиском более молодых и энергичных народов. Не сокрушенный готами, он все равно рухнул бы лет через двадцать или пятьдесят под натиском каких-нибудь вандалов или лангобардов.
В то же время за триста-четыреста лет до того подобная проигранная битва оставалась бы всего-навсего проигранной битвой — не победили сейчас, победим в следующий раз, когда сменят командующего и пришлют подкрепление из метрополии...
У народов и империй, как и у людей, существует возраст — от юности до старости. Удар, после которого юноша отделается ушибом, ломает кость старику. Никто ведь не пытается утверждать, что если бы у его восьмидесятилетнего деда не оторвался тромб во время операции, то он прожил бы еще сто лет — однако на национальном уровне столь нелепые прогнозы почему-то воспринимаются всерьез.
Немного логики — и все построения профессора Барри С. Страусса рассыпаются в прах. Двести тысяч готов, включая женщин и детей? Но если во времена Христа в Риме проживало около миллиона человек, то даже через 350 лет во всей Италии должен был набраться этот самый миллион — а ведь в Римской империи имелись и другие провинции. Но при этом готы требовались императору как солдаты! Неужели во всей империи не было своих новобранцев?
Совершенно верно, не было. Римские граждане к помянутому времени воевать решительно не хотели, а желали лишь хлеба и зрелищ. Те же, кого все-таки удавалось поставить в строй, и становились теми самыми недисциплинированными солдатами, чья несдержанность определила судьбу империи — только не в данном конкретном сражении, а в принципе. А если Рим после потери 20 — 25 тысяч человек испытывал нехватку людских ресурсов, это говорит еще об одном: естественная убыль населения не восполнялась за счет прироста. Так какое будущее может быть у страны, мужчины которой не желают ее защищать, а женщины не стремятся заселять ее новыми жителями?
Обычно цивилизации, дошедшие до этой степени дряхлости, падают под ударами энергичных соседей куда раньше. Над Римской же империей мироздание словно поставило эксперимент: а что будет, если дать ей догнить до естественного конца? Результат оказался впечатляющим — каждый раз, когда мы говорим о разложении империи, нам бьет в ноздри запах именно этого гниения...
В картине же дальнейшего анализа особое умиление вызывает Мартин Лютер, брошенный на съедение львам за свои тезисы — раз в Риме когда-то так поступали с несогласными, значит, при любых обстоятельствах будут поступать именно так. Разумеется, уцелей Империя каким-то чудом, ее император-христианин воспринимал бы этих львов как ужасный пережиток язычества. Впрочем, неумение западных авторов отделять суть явления от его атрибутов известно давно и хорошо...
В оценке результатов битвы при Пуатье это неумение проявилось еще ярче. Не очень понятно, зачем вообще мусульманам тащиться в унылую Европу, где и климат похуже, и богатств поменьше, чем в землях халифата. Ладно, решим, что это был великий поход во славу истинной веры. Хотя вообще-то мусульмане, чтящие Ису и Мириам как пророков наравне с Мухаммедом, обычно позволяли христианам исповедовать их веру всего лишь за небольшой дополнительный налог; таким образом, вопрос исповедания переходил в чисто экономический аспект — решающий для ментальности нынешних западноевропейцев. Так что сами обратились бы, без всяких джихадов и газаватов...
Но вот заявление, что Аахен стал бы резиденцией халифа, вгоняет в изумление этим совершенно детским европоцентризмом. Да зачем халифу этот занюханный городишко, где идет дождь и не растут финики, если в его венце есть такие жемчужины, как Багдад и Дамаск[133]! Честное слово, историк, до такой степени пренебрегающий географией в своих выкладках, вряд ли достоин звания профессора.
Оглядываясь на мусульманскую Испанию, автор видит Альгамбру и университет в Кордове, но умудряется не заметить, что за века господства мусульман коренное население почему-то не только не обратилось поголовно в ислам, но потом все-таки устроило Реконкисту. Да и с изысканными касыдами и газеллами все не так просто — почему-то под просвещенным мусульманским влиянием испанцы продолжали сочинять свои простонародные романсеро, обучив им и завоевателей (кто не верит, пусть откроет соответствующий том из советской «Библиотеки всемирной литературы» и найдет там раздел «Мавританские романсеро»). Все-таки тогдашние европейцы кое-чем важным отличались от нынешних, покорно позволяющих американскому влиянию размывать остатки их собственной культуры.
Говоря же об исламе, который стал бы единственной мировой религией, автор как бы забывает не только о восточном православии, но и обо всем Дальнем Востоке с его буддизмом, синтоизмом и прочим конфуцианством. Похоже, что для современного представителя западной цивилизации в ее протестантской разновидности все, что не есть его религия, является варварством, если только вообще существует. «Вне видимости — вне сознания...»
Но оставим Европу и перейдем к монголам. Увы, ссылку на работы Л.Н. Гумилева большинство историков до сих пор воспринимает как некорректную, ибо «это же не серьезное исследование, а фантастический роман» (хотя вряд ли кто из отечественных исследователей столько занимался именно «монгольским вопросом»). Но, правдива или нет «черная легенда о желтом крестовом походе», в одном спорить с Гумилевым невозможно: с XIII века и по сей день западные историки представляют монголов исчадиями ада лишь потому, что никто и никогда так не пугал западную цивилизацию, как армии, пришедшие из долины Керулена. Впервые была явлена сила, перед которой основное оружие западной цивилизации — деньги и интриги — было пустым звуком, а основная западная ценность, то есть примат личности над обществом, едва не обратилась в основную причину гибели европейской цивилизации. Что мог противопоставить Запад с его продажностью и вероломством народу, в чьем законе было предусмотрено наказание за неоказание помощи терпящему бедствие! Яса — единственный дошедший до нас свод древних законов, в котором существует такая статья.
Впрочем, все мы — потомки тех самых русичей, которые в XIII веке отбивались одновременно от Востока и Запада, и с тех пор усвоили одну непреложную истину: незваный гость хуже татарина. А если вспомнить, что «гостями» в ту пору было, принято именовать иноземных купцов...
Удивительно, но «визжащая орда с Востока», на долгие годы ставшая одним из олицетворений сил хаоса, на деле была едва ли не большим воплощением порядка, чем даже легендарные римские легионы. Сесиллия Холланд пишет о необыкновенной дисциплине и потрясающей, почти современной организации монгольской армии, и она абсолютно права, но при этом упускает из виду еще кое-что немаловажное. Это можно было бы назвать «монгольским законом» или «монгольской сутью».
Начнем с того, что монголы в их стремлении дойти «до последнего моря» были достаточно мудры и понимали, что если они желают остаться собой, то по-настоящему могут владеть лишь Великой Степью. Территории с иными географическими условиями (такие, как лесная Русь) имело смысл оставить населяющим их народам, а сами народы всего лишь обложить данью и обязать подтверждать назначение правителей у великого хана — в «цивилизованном мире» такая система называется протекторатом и вовсе не считается чем-то зазорным и варварским. Но если хочешь что-то иметь с покоренных территорий, нет никакого резона чрезмерно разорять эти земли. Именно поэтому одним из непреложных законов для монголов было — стирать с лица земли лишь те города, что не согласились перейти под руку великого хана и оказали ожесточенное сопротивление (сами монголы называли их «злыми»). Закон есть закон, исключений из него не могло быть — и вот «была Рязань, а теперь остались одни головешки». Но не следует забывать, что не менее жестоки монголы были и к нарушению закона в своей собственной среде. Всем известен монгольский принцип, согласно которому за вину одного воина наказание нес весь десяток, а за вину десятка — сотня, что весьма способствовало искоренению разгильдяйства и военных преступлений. Можно сколько угодно осуждать этот принцип коллективной ответственности, но никто и никогда не докажет, что царящая ныне (не только в России) коллективная безответственность хоть в чем-то лучше...
Далее, для любого, кто хоть немного разбирается в вопросе (или хотя бы читал в детстве трилогию В. Яна о монгольском завоевании Руси), не секрет, что монголы были более чем веротерпимы — служители практически всех культов получали от них пайцзу, знак неприкосновенности. Храм мог быть разрушен только если в его стенах укрывались обороняющиеся. А ведь религия, духовное начало — средоточие любой культуры, и если она не тронута, ни о каком искоренении культуры не может быть и речи! Впрочем, европейцы постоянно путают культуру и цивилизацию, с одинаковым пафосом говоря о разграблении библиотек и сокровищниц.
Но так вели себя простые монголы, чья вера обитала «под синим небом, на земле зеленой». С теми же, кто казнил халифа, даровав ему почетную смерть без пролития крови, дело обстояло еще проще и позорнее для европейцев: ведь они были несторианами из Центральной Азии, пришедшие в Палестину, дабы помочь своим христианским братьям освобождать Гроб Господень! Разумеется, Китбуге-нойону и в голову бы не пришло затаптывать папу римского, пусть даже и являвшегося главой несколько иной христианской конфессии. (Кстати, в который раз следует напомнить, что римскому понтифику в мусульманском мире соответствует не халиф — носитель пусть и священной, но светской власти, а шейх-уль-ислам.)
И наконец, возвращаясь к своду монгольских законов: самым страшным, непрощаемым преступлением среди пришедших из степи считался обман доверия, или, проще говоря, предательство. За такое наказание было одно — смерть, зачастую мучительная, хотя вообще монголам не был свойственен садизм при казни пленных. А европейцы, с их манерой на всякий случай убивать чужеземных послов, частенько прямо-таки напрашивались на подобную высшую меру.
К величайшему сожалению, именно это и губило монголов — тот, кто честен сам, часто не в силах измерить глубину чужой подлости...
Да, без сомнения, монголы были жестоки — но и европейцы, и мусульмане жестоки были ничуть не меньше, просто их жестокость всякий раз оказывалась более избирательной, не зная монгольского равенства перед законом. Да, число жертв монгольского нашествия поражает до сих пор — но ведь это была лучшая армия того мира, никто другой просто не имел таких возможностей. Все мы знаем, что произошло, когда несколько сот лет спустя эти возможности получили европейцы...
Жестоки — но вдобавок законопослушны, веротерпимы и не способны на предательство... А то, что монголы вовсе не стремились опустить всех к своему «варварству», подтверждается хотя бы тем, что помимо женщин и детей, в их обычае было щадить искусных мастеров. Даже угнанные в чужие земли, эти мастера возводили дворцы и чеканили украшения своим новым повелителям. Между прочим, Кубла-хан из поэмы Колриджа, творец сказочного дворца в волшебной стране Занаду, — не кто иной, как монгольский хан Хубилай, правивший в Северном Китае и тоже (если верить Марко Поло) симпатизировавший христианам.
Так может быть, если бы Европа легла под копыта монгольских коней — это было бы только к лучшему? Во всяком случае, для православной цивилизации — к лучшему несомненно.
Но этого не произошло — и вовсе не из-за смерти Угэдэя. Просто потому, что у Европы было два щита вернее любых армий — европейские леса и европейское коварство.
Того, о чем пишет Сесиллия Холланд, просто не могло случиться.
Кто-то может порадоваться этому, а кто-то — пожалеть о неслучившемся. Пожалеть, что монголы остались в степях, мусульмане — в оазисах среди пустынь и по берегам Средиземного моря, и лишь одна цивилизация в своей безудержной экспансии не желает знать ни географических, ни культурных ограничений. Деньги — они везде деньги...
Приложение 2
Армии Средневековья
Краткий обзор
В этой работе кратко освещены основные моменты развития армии в Средние века в Западной Европе и в Византии: изменение принципов ее комплектования, организационной структуры, основных принципов тактики и стратегии, социального положения. Обзор построен на тех же принципах, что и предшествующий.
1. Темные века (V—IX вв.)
Как уже говорилось в предыдущей статье, крах армии Западной Римской империи традиционно связывают с двумя сражениями: битвой при Адрианополе 378 года и с битвой при Фригидусе 394 года. Конечно, нельзя утверждать, что после этих двух поражений римская армия прекратила свое существование, но следует признать, что в V веке процесс варваризации римской армии приобрел невиданные ранее масштабы. Угасающая Римская империя выдержала еще одну, последнюю для себя битву, в которой, впрочем, в рядах римской армии уже стояли преимущественно отряды варваров. Речь идет о битве на Каталаунских полях, в которой объединенная армия римлян и варваров под командованием «последнего римлянина» Аэция остановила продвижение гуннов во главе с их ранее непобедимым вождем — Аттилой.
Подробное описание этой битвы дошло до нас в изложении Иордана[134]. Наибольший интерес для нас представляет описание Иорданом боевых порядков войска римлян: войско Аэция имело центр и два крыла, причем на флангах Аэций поставил наиболее опытные и проверенные войска, оставив в центре самых слабых союзников. Иордан мотивирует это решение Аэция заботой о том, чтобы эти союзники не покинули его во время боя.
Вскоре после этой битвы Западная Римская империя, не выдержав военных, социальных и экономических катаклизмов, распалась. С этого момента в Западной Европе начинается период истории варварских королевств, а на Востоке продолжается история Восточной Римской империи, получившей у историков Нового времени название Византии.
а) Западная Европа: от варварских королевств до империи Каролингов
В конце V —начале VI в. на территории Западной Европы складывается ряд варварских королевств: в Италии — королевство остготов, управляемое Теодорихом, на Пиренейском п-ове — королевство вестготов, а на территории римской Галлии — королевство франков.
В военной сфере в это время царит полный хаос, поскольку на одном и том же пространстве одновременно присутствовали три силы: с одной стороны, силы варварских королей, еще представлявшие собой плохо организованные вооруженные формирования, состоявшие практически из всех свободных мужчин племени; с другой — остатки римских легионов, возглавляемых римскими наместниками провинций (классический пример такого рода — римский контингент в Северной Галлии, возглавлявшийся наместником этой провинции Сиагрием и разбитый в 487 г. франками под руководством Хлодвига); наконец, с третьей стороны, присутствовали частные отряды светских и церковных магнатов, состоявшие из вооруженных рабов (антрустионов), либо из воинов, получавших от магната землю и золото за службу (букцелляриев).
В этих условиях начинают формироваться армии нового типа, включавшие в себя три названных выше компонента. Классическим примером европейской армии VI —VII вв. можно считать армию франков. Первоначально армия комплектовалась из всех свободных мужчин племени, способных обращаться с оружием. За службу они получали от короля земельные наделы на вновь завоеванных землях. Каждый год по весне армия собиралась в столице королевства на общий воинский смотр — «мартовские поля». На этом собрании вождь, а затем и король, оглашал новые указы, объявлял походы и их сроки, проверял качество вооружения своих воинов. Сражались франки пешими, используя коней только для того, чтобы добраться до места битвы. Боевые порядки франкской пехоты «...копировали форму древней фаланги, постепенно увеличивая глубину ее построения...»[135]. Вооружение их состояло из коротких копий, боевых топоров (франциска), длинных обоюдоострых мечей (спата) и скрамасаксов (короткий меч с длинной рукоятью и с однолезвииным листовидным клинком 6,5 см в ширину и 45 —80 см в длину)[136]. Оружие (особенно мечи) обычно богато украшалось, и внешний вид оружия часто свидетельствовал о знатности его владельца.
Однако в VIII в. в структуре франкской армии происходят значительные изменения, повлекшие за собой изменения и в других армиях Европы. В 718 году арабы, перед этим захватившие Пиренейский полуостров и покорившие королевство вестготов, перешли Пиренеи и вторглись в пределы Галлии. Фактический правитель Франкского королевства в то время — майордом Карл Мартелл — вынужден был изыскивать способы остановить их. Он столкнулся сразу с двумя проблемами: во-первых, земельный запас королевского фиска был истощен и больше неоткуда было брать землю для награждения воинов, а во-вторых, как показало несколько битв, франкская пехота была неспособна эффективно противостоять арабской коннице. Чтобы решить их, он провел секуляризацию церковных земель, получив, таким образом, достаточный земельный фонд для награждения своих воинов, и объявил, что отныне на войну собирается не ополчение всех свободных франков, а только люди, способные приобрести полный комплект вооружения всадника: боевого коня, копье, щит, меч и доспехи, включавшие в себя поножи, латы и шлем[137]. Такой комплект, по данным «Рыцарской правды», стоил очень и очень недешево: полная его стоимость равнялась стоимости 45 коров[138]. Потратить такую сумму на вооружение могли себе позволить очень и очень немногие, а люди, которые не могли себе позволить таких затрат, были обязаны снарядить одного воина от пяти дворов. Помимо этого на службу призывались бедняки, вооруженные луками, топорами и копьями. Всадникам за службу Карл Мартелл раздавал наделы, но не в полную собственность, как это было раньше, а лишь на срок службы, что создавало у знати стимул служить дальше. Эта реформа Карла Мартелла получила название бенефициальной (бенефиций — т.е. благодеяние, — так назывался участок земли, даруемый за службу). В битве при Пуатье (25.10.732) новое войско франков под руководством Карла Мартелла остановило арабов.
Многие историки считают эту битву переломным моментом в военной истории Средних веков, утверждая, что с этого момента пехота потеряла свое решающее значение, передав его тяжелой коннице. Однако это не совсем так, как в военном, так и в социальном плане. Хотя именно с этого момента начинается выделение слоя всадников не только как элитной боевой единицы, но и как социальной элиты — будущего средневекового рыцарства, — но все же необходимо учитывать, что это был долгий процесс, и еще достаточно большое время конница выполняла лишь поддерживающую роль при пехоте, принимавшей на себя основной удар противника и изматывавшей его. Изменению ситуации в пользу конницы, как в Западной Европе, так и в Византии, способствовало то, что в VII в. европейцы заимствовали у кочевого народа аваров неизвестное им ранее стремя, которое авары, в свою очередь, принесли из Китая.
Свой законченный вид армия Каролингов приняла при Карле Великом. Армия по-прежнему созывалась на весенний смотр, правда, перенесенный с марта на май, когда появляется много травы, служившей кормом лошадям. Вся численность армии по оценкам историков не превышала десяти тысяч воинов[139], а в походы никогда не выходило больше 5 — 6 тысяч воинов, так как уже такая армия «...растягивалась вместе с обозом на расстояние дневного перехода в 3 мили»[140]. В пограничной полосе и в крупных городах размещались скары — постоянные отряды, созданные из воинов-профессионалов, подобные же скары сопровождали императора и графов[141]. Внуком Карла Великого, императором Карлом Лысым, в 847 году был издан эдикт, обязывавший каждого свободного человека избрать себе сеньора и не менять его. Это закрепило уже сложившуюся в обществе вассально-сеньориальную систему отношений, а в сфере комплектования и управления армией привело к тому, что теперь каждый сеньор приводил на поле боя свой отряд, набранный из его вассалов, им обученных и снаряженных. Объединенным войском формально командовал король, фактически же — каждый сеньор сам мог отдавать приказы своим людям, что зачастую приводило к полной неразберихе на поле боя. Своего апогея подобная система достигла позже, в эпоху развитого феодализма.
б) Византия
Как уже говорилось, Восточная Римская империя не только выстояла после падения Западной, но и значительно усилилась. Своего военного и политического расцвета ранняя Византия достигает при императоре Юстиниане I Великом (527 — 565). Основной целью своей внешней политики Юстиниан видел реставрацию Римской империи, которая, — по словам одной его новеллы, — доходила прежде до двух океанов и которую римляне по небрежности потеряли...»[142] и установить в империи единую христианскую веру, как среди схизматиков, так и среди язычников.
Единственным средством для достижения этой цели были практически непрерывные жестокие войны, которые вела Византия при Юстиниане. При этом, надо отметить, что, обладая традиционно сильным флотом, Византия имела довольно слабую кадровую армию на суше. Она включала в себя панцирную пехоту и лучников, а также наемные отряды исавров и кочевых племен, составлявшие собой части легкой пехоты и конных лучников. Эти наемные войска были не очень надежны и при малейшей задержке выплат, положенных им за службу, поднимали мятеж и начинали грабить земли империи, оставляя открытыми внешние границы. Кадровую армию дополняли отряды пограничников (см. предыдущую статью), но они ко времени Юстиниана окончательно перестали быть серьезными боевыми соединениями. Чрезмерно централизованная мобильная армия далеко не всегда, особенно в условиях кампаний в Западной Европе, успевала им на выручку, что пагубно сказалось на византийской обороне в ходе вторжения славян на Балканы.
В условиях непрестанного натиска внешних врагов на Византию (подсчитано, что Византия была наиболее часто воевавшим государством в Средние века) эта система не удовлетворяла своему предназначению. К тому же она служила непосильным бременем для финансов империи. Радикальное ее преобразование провел император Ираклий (610—641), создавший т.н. фемную организацию. Суть ее в том, что империя разделялась на новые крупные округа (фемы), каждый из которых должен был выставлять самостоятельное войско (нормальной численностью было ок. 4000), благодаря чему достигалась необходимая децентрализация армии. Комплектование войска было поставлено в зависимость от землевладения. Земельные наделы воинов (стратиотов) освобождались от налогов и государственных повинностей, но они должны были сами оплачивать себе вооружение. Распределение по родам войск производилось сообразно местоположению и размеру наделов (были участи для кавалерийской, пехотной и морской службы). Несложно заметить здесь определенное сходство с бенефициальной системой на западе (с тем, однако, отличием, что за службу давалась не земля, а налоговые льготы)[143]. Хотя реформа и повысила боеспособность византийской армии, однако в целом вплоть до IX в. военное положение Византии остается тяжелым.
Сильными сторонами военного дела в Византии были умение вести войну на море и осадное мастерство. Богатые традиции, доставшиеся Византии от Рима, сохраненные и приумноженные, делали византийцев одними из самых опытных осадных мастеров того времени, умевших как построить практически неприступную крепость, так и взять ее. Крупным достижением византийской военно-технической мысли стало изобретение сирийским греком Каллиником высокоэффективной горючей смеси — т.н. греческого огня. Его первое применение в 678 г. позволило отбросить арабов от стен Константинополя и остановить арабское вторжение (событие не менее важное, чем битва при Пуатье на западе). В Византии продолжала, в отличие от Западной Европы, развиваться и военная теория — ее наиболее выдающимися памятниками в рассматриваемый период явились «Стратегикон» Псевдо-Маврикия[144], «Тактика» императора Льва Философа (886 — 912) и трактат «De velitatione bellici» («О военном столкновении»), приписываемый императору Никифору Фоке (963 — 969)[145].
Высокого искусства византийцы достигли в дипломатии. В отличие от народов Западной Европы они отнюдь не считали постыдным достичь успеха посредством дипломатической хитрости или подкупа противника[146].
2. Армии периода высокого Средневековья (X—XIII вв.)
а) Западная Европа в X—XI вв.
После раздела Франкской империи по условиям Верденского договора 843 года, подписанного между внуками Карла Великого, политическое развитие французских земель определялось двумя основными факторами: постоянно нарастающей внешней угрозой со стороны норманнских пиратов и падением значения королевской власти, не способной организовать оборону страны, что непосредственно влекло за собой возрастание влияния местных властей — графов и герцогов и их отделение от центральной власти. Превращение графов и герцогов — в суверенных наследственных правителей имело своим следствием прогрессирующую феодальную раздробленность французских земель, увеличение числа пожалованных земельных владений, пропорциональное уменьшению площади каждого конкретного надела и превращение бенефиция, жалуемого за службу, в наследственную земельную собственность. В условиях крайнего ослабления королевской власти воскресает старый обычай избрания короля на совете знати. Королями становятся графы из рода Робертинов Парижских, прославившиеся своей борьбой с норманнами.
Эти политические изменения теснейшим образом связаны с изменениями в военном деле той эпохи. Уменьшение значения простонародной пехоты и выход на первый план тяжеловооруженной рыцарской конницы обусловили резкое социальное расслоение франкского общества; именно в этот период окончательно формируется и приобретает особую популярность идея о разделении общества на три сословия: «молящихся» (oratores), «воюющих» (bellatores) и «трудящихся» (laboratores). В свою очередь, прогрессирующая феодальная раздробленность не могла не повлиять на уменьшение размеров армии, которые теперь редко превышали две тысячи человек. Отряд в полторы тысячи человек уже считался большой армией: «Таким образом, набралось девятьсот рыцарей. И набрал [Сид] пятьсот пеших оруженосцев идальго, не считая прочих воспитанников его дома. <...> Приказал Сид оставить свои шатры и отправился располагаться в Сан-Серване и вокруг него в холмах; и каждый человек, который видел лагерь, который устроил Сид, говорил потом, что это было большое войско...»[147]
Изменилась и тактика боя. Теперь бой начинался со слаженного удара копьями тяжелой конницы, раскалывавшего строй противника. После этой первой атаки битва рассыпалась на одиночные поединки рыцаря с рыцарем. Помимо копья обязательным оружием каждого рыцаря становится длинный обоюдоострый меч. Оборонительное снаряжение франкского рыцаря состояло из длинного щита, тяжелого панциря и шлема, надевавшегося поверх шейного прикрытия. Пехота, игравшая в бою вспомогательную роль, обыкновенно была вооружена палицами, топорами, короткими копьями. Стрелки из лука в западно-франкских землях были по большей части свои, а в восточно-франкских — наемные[148]. В Испании зачастую вместо панциря использовалась заимствованная у мавров кольчуга с длинными рукавами и кольчужным капюшоном, поверх которого одевался шлем: «...Диего Ордоньес также, когда почувствовал, что серьезно ранен, встал против Родриго Ариаса и ударил того мечом в темя так, что разрубил шлем, и кольчужный капюшон, и половину черепа...»[149].
Отличительной особенностью вооружения итальянского рыцарства была его легкость, — здесь в ходу были короткие колющие мечи, легкие гибкие копья с узкими наконечниками, снабженными дополнительными зацепами, кинжалы. Из защитного вооружения в Италии использовались легкие, обычно чешуйчатые панцири, малые круглые щиты и шлемы, облегающие голову[150]. Эти особенности вооружения обусловливали и отличия тактики итальянских рыцарей от их французских и немецких коллег: итальянцы традиционно действовали в тесном соприкосновении с пехотой и лучниками, зачастую выполняя не только атакующую функцию, традиционную для рыцарей, но и функцию поддержки пехоты.
Нельзя не сказать и об основных противниках западных франков в рассматриваемый период — о норманнах (викингах, варягах). Именно норманны были одними из самых смелых и знающих мореходов средневековой Европы. В отличие от большинства континентальных стран они использовали флот не только для перевозки грузов и людей, сколько для военных действий на воде.
Основным типом норманнского корабля был драккар (несколько таких кораблей найдено, первый из них — в Осеберге в 1904 г.; выставлен в музее в Осло) — парусно-гребной корабль длиной 20 — 23 м, шириной в средней части 4 —5 м. Он очень остойчив за счет сильно развитого киля, благодаря небольшой осадке может подходить к берегу в мелководье и проникать в реки, благодаря эластичности конструкции устойчив к океанским волнам.
Пиратские набеги норманнов поселили такой ужас в сердца европейцев, что в конце X века в церковную молитву об избавлении от бедствий включена просьба к Богу об избавлении «от ярости норманнов» («De furore Normannorum libera nos, Domine»). В сухопутном войске норманнов основную роль играла «конная пехота», т.е. пехота, совершавшая переходы верхом, что давало им существенный выигрыш в мобильности. Отличительной чертой вооружения норманнов были заостренный кверху шлем с наносником, плотно облегающий панцирь и вытянутый книзу длинный щит. Тяжелая пехота норманнов была вооружена тяжелыми длинными копьями, секирами и теми же длинными щитами. Из метательного оружия норманны предпочитали пращу[151].
Если в походы на Западную Европу отправлялись в основном дружины скандинавской знати (т.н. «морских конунгов»), то на родине отличительной чертой скандинавского общественного устройства и военного дела являлось сохранение свободного крестьянства (бондов) и значительная роль крестьянского ополчения (особенно в Норвегии). Норвежский конунг Хакон Добрый (ум. ок. 960 г.), как сообщает сага[152], упорядочил сбор морского ополчения: страна была разделена на корабельные округа так далеко от моря, «как поднимается лосось», и было установлено, сколько кораблей должен выставить каждый округ при вторжении в страну. Для оповещения была создана система сигнальных огней, позволявшая за неделю передать сообщение через всю Норвегию.
Еще одной отличительной чертой военного дела X —XI веков является расцвет замковой фортификации. Во французских землях инициатива строительства принадлежала местным сеньорам, стремившимся укрепить свою власть в своих владениях, в германских краях, где королевская власть была еще крепка, активным строительством укреплений в рассматриваемый период занимался король (так, при Генрихе I Птицелове (919—935) по границам немецких земель была построена целая серия городков-крепостей — бургов). Однако нельзя сказать, что в этот период наблюдается расцвет и взлет осадного мастерства западноевропейских армий, — осадные орудия увеличиваются количественно, но практически не меняются качественно. Города брались либо измором, либо путем подкопов под стены. Фронтальные штурмы случались редко, так как они бывали сопряжены с большими потерями для атакующих и только в небольшом количестве случаев увенчивались успехом[153].
Подводя итоги развитию армии и военного дела в странах Западной Европы в этот период, можно отметить еще одну важную особенность этого процесса: в рассматриваемое время начинается активное заимствование в западное военное искусство тактических и стратегических приемов, деталей доспехов или вооружения из военного искусства иных народов, чаще всего — народов Востока. Этот процесс приобретет гораздо больший размах в следующий период европейской истории — период крестовых походов.
б) Византия в IX—XII веках.
В начале этого периода, в правление Македонской династии (864 — 1057), военная организация Византии строится на принципе фемного устройства, описанном выше. Армия Византии в этот период не уступает армиям западноевропейских государств. К X в. Византии удалось справиться с внутренними трудностями и перейти в наступление на всех фронтах. В правление Василия II Болгаробойца (976—1025) Византийская империя достигает максимального могущества со времен Юстиниана. Высокого уровня достигает искусство фортификации, византийские архитекторы возводят крепости даже для Хазарского каганата. Продолжает развиваться «искусство войны», бережно хранятся и переписываются старые руководства и составляются новые.
Однако уже в этот период закладываются корни более поздних проблем. Начиная со времени Никифора Фоки (963 — 969) идет активная фискализация мелких стратий (воинских наделов) и расслоение фемного войска, из которого выделяются катафракты (тяжеловооруженная конница). Понимание, что рядовые стратиоты так или иначе не в состоянии обеспечить себя оружием на уровне врагов Византии, а также постоянное напряжение финансов империи вынуждали правительство все в большей мере заменять военную службу налогообложением, а на вырученные деньги формировать отряды наемников. К тому же столичному чиновничеству наемники казались более надежной силой, чем военная аристократия фем. Большую роль начинает играть варяжская гвардия, комплектуемая выходцами из Скандинавии, Англии и Руси. Результатом этой политики стало опасное сокращение численности армии, приведшее в итоге в тяжелому поражению от сельджуков при Манцикерте (19.8.1071).
При династии Комнинов проходит решительная реорганизация армии. Фемное ополчение и фемный флот распускаются, опора делается на значительно меньшие по численности гвардейские части, сформированные из наемных войск и из феодализировавшейся фемной военной аристократии. Идет процесс фактического закрепощения крестьянства. Благодаря искусной дипломатии и военным талантам представителей династии эта система приносит свои плоды, и Византия вновь становится одной из сильнейших держав Европы и Ближнего Востока. Однако при Мануиле Комнине (1143 — 1180) силы Византии оказались перенапряжены активной политикой одновременно на всех направлениях и в конце его правления византийская армия потерпела новое сокрушительное поражение от сельджуков при Мириокефале (17.9.1176).
После этого поражения начинается стремительный упадок Византийской империи в целом и византийской армии в частности. В 1204 г. Константинополь впервые пал перед внешним врагом — его захватили крестоносцы IV Крестового похода. Военное дело Византии после этого события не представляет серьезного интереса для военной истории.
в) Западная Европа в XII—XIII веках: Крестовые походы
Конец XI в. в Западной Европе был ознаменован началом крестовых походов, т.е. походов за освобождение Гроба Господня в Иерусалиме. Принято считать, что крестовые походы начались в 1096 г., когда начался первый поход христианских рыцарей в Палестину, приведший к завоеванию Иерусалима, и закончились в 1291 г. потерей города Акры — последней крепости крестоносцев в Палестине. Крестовые походы оказали огромное влияние на всю историю христианской средневековой Европы, особенно же их влияние было заметно в военной сфере.
Во-первых, на Востоке христианские рыцари столкнулись с ранее неведомым им противником: легковооруженная турецкая конница спокойно уходила от удара бронированной рыцарской армады и с безопасного расстояния осыпала европейцев стрелами из луков, а турецкая пехота, использовавшая в бою еще неизвестные европейцам самострелы, ядра которых пробивали рыцарский панцирь, производила ощутимый урон в рядах христианской конницы. Более того, турки, уступавшие рыцарям в бою один на один, превосходили христиан числом и нападали все сразу, а не поодиночке.
Гораздо более подвижные, поскольку их движения не сковывал доспех, они вертелись вокруг рыцарей, нанося удары с разных сторон, и довольно часто добивались успеха. Было очевидно, что необходимо как-то приспосабливаться к новым методам ведения боя. Эволюция христианской армии на Востоке, ее структуры, вооружения, а значит, и тактики ведения боя шла по двум основным путям.
С одной стороны, возрастает роль пехоты и лучников в военных действиях (лук, несомненно, был известен в Европе задолго до крестовых походов, но с таким массовым применением этого оружия европейцы столкнулись впервые именно в Палестине), заимствуется самострел. Массированное применение турками лучников и пехоты производит такое впечатление, что английский король Генрих II даже проводит в Англии военную реформу, заменив военную службу многих феодалов налоговым сбором (так называемыми «щитовыми деньгами») и создав военное ополчение из всех свободных людей, обязанных являться в войско по первому зову короля. Многие рыцари, пытаясь сравняться с турками в подвижности, заимствуют у них легкое вооружение: кольчугу, легкий шлем, круглый кавалерийский щит, легкое копье и кривой меч. Естественно, что вооруженные подобным образом рыцари больше не были самодостаточны и вынуждены были действовать в активном взаимодействии с пехотными и стрелковыми частями.
С другой стороны, вооружение подавляющей части рыцарей эволюционирует в сторону утяжеления: величина и толщина копья увеличивается так, что им становится невозможно управлять свободной рукой — теперь, чтобы нанести удар, его нужно было упирать в выемку наплечника, увеличивается вес меча. В доспехе появляется шлем-горшок, закрывавший всю голову и оставлявший только узкую щель для глаз, панцирь становится ощутимо тяжелее и еще больше, чем раньше, сковывает движения рыцаря. Лошадь с большим трудом могла нести такого всадника, что привело к тому, что, с одной стороны, турок с его легким вооружением не мог причинить закованному в железо рыцарю никакого вреда, а с другой стороны, рыцарь, нагруженный доспехами, не мог догнать турка[154]. При таком типе вооружения знаменитый рыцарский копейный удар был невозможен — каждый отдельный рыцарь, во-первых, занимал слишком много места, а во-вторых, был слишком неповоротлив, — и, таким образом, бой сразу же разбивался на множество поединков, в которых каждый рыцарь выбирал себе противника и стремился с ним схватиться. Это направление развития вооружения и стало основным для европейского военного дела на протяжении всего XIII в.
Во-вторых, крестовые походы сильнейшим образом повлияли на повышение групповой солидарности европейского рыцарства, внезапно осознавшего себя единым воинством Христовым. Это осознание проявлялось в нескольких основных формах, среди которых можно назвать образование и широкое распространение военно-монашеских орденов и появление турниров.
Военно-монашеские ордена представляли собой организации монастырского типа, имевшие свой устав и резиденцию. Возглавлялись ордена великими магистрами. Члены орденов принимали на себя монашеские обеты, но при этом жили в миру и, более того, воевали. Первым возник орден тамплиеров в 1118 году, примерно в то же время возникает орден иоаннитов или госпитальеров, в Испании в 1158 году появляется орден Калатравы, а в 1170 году — орден Сантьяго-де-Компостела, в 1199 году основывается Тевтонский орден меченосцев. Основными задачами орденов в Святой Земле стала охрана паломников, защита большей части христианских крепостей, война с мусульманами[155]. По сути дела, ордена стали первыми регулярными профессиональными армиями христианской Европы.
Итак, подводя итоги развитию военного дела в Европе в XII — XIII вв., можно отметить несколько основных тенденций: увеличение роли пехоты и стрелковых соединений и происходившее в то же время замыкание на себя рыцарского сословия, что выражалось, с одной стороны, в дальнейшем утяжелении доспеха, превращавшем одиночного рыцаря в боевую крепость, как по грозности, так и по подвижности, а с другой — в самоорганизации рыцарства в военно-монашеские. ордена, в появлении развитой системы гербов, значение которых было понятно лишь посвященным и т.д. Это нараставшее противоречие привело, в конце концов, к нескольким крупным поражениям, нанесенным рыцарям простолюдинами (например, при Куртре в 1302 году, при Моргартене в 1315 году) и к дальнейшему падению военной роли рыцарства.
3. Европа в XIV—XV веках: осень Средневековья.
Значение XIV —XV вв. для европейской военной истории сравнимо, пожалуй, только с VIII —X вв. Тогда мы наблюдали зарождение рыцарства, сейчас же — его упадок. Это было связано с несколькими факторами, наиболее значительными из которых можно назвать следующие: во-первых, в этот период в большинстве европейских государств складываются единые централизованные монархии, сменяющие собой феодальную раздробленность, что, в свою очередь, влекло за собой постепенное, но неумолимое превращение вассалов в подданных, во-вторых, простые незнатные люди, возвращавшиеся из крестовых походов, понимали, что рыцарство не так непобедимо, каким оно казалось, понимали, что слаженными действиями пехоты можно Добиться очень многого, и, наконец, в-третьих, именно в этот период входит в широкое употребление огнестрельное оружие, и прежде всего, — артиллерия, от которой уже не спасали даже самые лучшие рыцарские доспехи.
Все эти и некоторые другие факторы в полной мере проявились во время самого, длительного в истории Европы военного конфликта, имевшего место между Англией и Францией. Речь идет о Столетней войне 1337 — 1453 гг. Война началась из-за претензий английского короля Эдуарда III на французский трон.
Буквально в первые же годы войны Франция потерпела ряд серьезнейших поражений — в морском сражении при Слейсе (1346) погиб весь французский флот, а уже на суше, в битве при Кресси (1346) французское рыцарство, столкнувшись с английскими лучниками, потерпело страшный разгром. Фактически в этой битве французы разбились о собственное же убеждение в непобедимости рыцарской конницы и о неспособности пехоты эффективно противостоять ей. Когда было выбрано поле для битвы, английский полководец поставил на холме своих лучников и спешенных рыцарей. Спешенные рыцари не могли передвигаться, зато стояли, стальной стеной прикрывая своих лучников. Французы, напротив, бросили своих рыцарей в атаку на холм прямо с марша, не дав им ни отдохнуть, ни построиться. Это привело к весьма печальным последствиям для них — стрелы английских лучников не могли пробить сам рыцарский доспех, но они находили дорожку в конской броне, либо в забрале шлема. В итоге до вершины холма добралось всего около трети французских рыцарей, раненых и измотанных. Там же их встретили отдохнувшие английские рыцари с мечами и боевыми топорами. Разгром был полным.
Десять лет спустя, в битве при Пуатье (1356), французы потерпели еще одно поражение. На этот раз победа англичан была поразительна по своим результатам — к ним в плен попал сам король Франции Иоанн II Добрый. В разгар битвы вассалы французского короля, видя, что военная удача им изменила, предпочли увести с поля боя свои отряды, бросив короля сражаться практически в полном одиночестве — с ним остался лишь его сын. Это поражение в очередной раз показало, что феодальная армия изжила себя и не может более достойно противостоять набранному ополчению из простых людей.
Ситуация усугубилась с началом активного использования огнестрельного оружия сначала в качестве осадной, а затем и в качестве полевой артиллерии[156]. Критическая ситуация, сложившаяся во Франции как в политике, так и в области военного дела к началу XV века, вынудила короля Карла VII провести военную реформу, коренным образом изменившую облик французской, а затем и европейской армии. Согласно королевскому ордонансу, изданному в 1445 году, во Франции создавался регулярный воинский контингент. Набирался он из дворян и представлял собой тяжело вооруженную конницу. Эта кавалерия делилась на отряды или роты, которые состояли из «копий». В «копье» обыкновенно входило б человек: один кавалерист, вооруженный копьем, и пять вспомогательных конных воинов[157]. Помимо этой конницы, носившей название «бан» (т.е. «знамя») и набиравшейся из непосредственных вассалов короля, в контингент включались еще артиллерийские части, части лучников и пехота. В случае крайней необходимости король мог созвать арьербан, т.е. ополчение из вассалов своих вассалов.
Соответственно изменениям в структуре армии менялся и алгоритм боевых действий: теперь, когда встречались два воюющих войска, в первую очередь начинался артобстрел, сопровождаемый рытьем укреплений для своих орудий и укрытий от вражеских ядер: «Граф Шароле разбил лагерь вдоль реки, окружив его повозками и артиллерией...»[158]; «Люди короля начали рыть траншею и сооружать из земли и дерева вал. За нею они поставили мощную артиллерию <...> Многие из наших вырыли окопы возле своих домов...»[159] Во все стороны от лагеря высылались дозоры, достигавшие иногда пятидесяти копий, то есть трехсот человек численности[160]. В бою враждующие стороны стремились добраться до артпозиций друг друга для того, чтобы захватить орудия. В общем, мы можем отметить, что начиналась классическая война Нового времени, обзор которой уже выходит за рамки этой работы.
А. Марей, Г. Кантор
Часть III
ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО ИМПЕРИИ
Томас Флеминг
Маловероятная победа
Тринадцать вариантов возможного поражения Американской революции
Можно сказать, что Американская революция представляет собой лабораторию контрафактуальой истории. Трудно найти период времени, создававший больше возможностей для воплощения в жизнь альтернативных сценариев будущего, нежели те восемь лет (1775 — 1783 гг.). Порой, как показывает Томас Флеминг, реальностью становился самый неожиданный вариант развития событий, и все решал простой случай. Британский стрелок, уже взявший на мушку Вашингтона, не нажимает на спусковой крючок. Командиры выказывают слишком много (или наоборот, слишком мало) осторожности. Британцы, произведя безукоризненную высадку на остров Манхэттен, дожидаются подкреплений, в то время как Вашингтон и его континенталы ускользают из силков. В битве при Каупенсе Бэнэстр Тарлетон проявляет не меньшую импульсивность, чем император Валент при Адрианополе, и американцы удерживаются на Юге. Бывают случаи, когда ход истории могут изменить краткий отдых и хороший завтрак. Рождественской ночью, в пургу, Вашингтон атакует Трентон, и дело патриотов получает новый импульс. Выбор (хороший или плохой) делается под воздействием стресса. При Саратоге Бенедикт Арнольд нарушает приказ, что приводит к победе американцев. А разве в противном случае французы вмешались бы в войну на нашей стороне? Ход событий определяет личная вражда. Подковерная борьба приводит к тому, что британский главнокомандующий сэр Генри Клинтон приказывает командиру южной группировки лорду Чарльзу Корнуоллису отослать большую часть армии на север, а самому отступить и укрепиться в неприметном виргинском табачном порту под названием Йорктаун. На ход военных операций влияют и капризы погоды. Взять хотя бы два яростных шторма, в октябре 1781 г. решивших участь попавших в ловушку в Йорктауне англичан: первый помешал намеревавшемуся плыть им на выручку флоту выйти из Нью-Йоркской гавани, а второй, несколькими днями спустя, сорвал попытку форсировать реку Йорк. Насколько иным мог стать ход войны за независимость, сумей тогда британцы уйти?
Давая, в пределах возможного, волю воображению, Флеминг напоминает нам о том, что Соединенные Штаты могли умереть еще в колыбели. Их возникновение едва ли можно считать исторически неизбежным.
Томас Флеминг является автором таких исторических трудов, как «1776: Год иллюзий», «Человек из Монтичелло. Биография Томаса Джефферсона», «Человек, обуздавший молнию. Биография Бенджамина Франклина», «Свобода: Американская революция», а также новейших исследований: «Дуэль: Александр Гамильтон» и «Аарон Бэрр и будущее Америки». Его перу принадлежит также ряд исторических романов, в том числе и таких, действие которых происходит в годы освободительной войны («Таверна "Свобода"» и «Мечты о славе»). Он — бывший председатель «Круглого стола Американской революции» и американского ПЕН-Центра (международной писательской организации).
Когда историк, занимающийся проблемами Американской революции, начинает задаваться вопросами «Что, если?» его пробирает дрожь. Слишком много было моментов, когда висевшее на волоске дело патриотов спасали лишь совершенно невероятные совпадения, случайности или неожиданные решения, принятые оказавшимися в центре событий измотанными людьми. Если мир и знал войны с большим потенциалом для возможного изменения хода истории, то крайне редко. Представьте себе последние два столетия — или хотя бы одно — без Соединенных Штатов! Вообразите мир, в котором Британская империя владеет не только полуостровом Индостан, но и Североамериканским материком.
Ход и итоги той войны оказали влияние и на возникшее в ее результате общество. Будь движение американских патриотов подавлено в зародыше, колонии возможно получили бы известную степень самоуправления без широкого применения смертных казней и конфискаций (если таковые вообще имели бы место). Но будь победа достигнута позднее, после того как долгая война успела ожесточить народ и правительство Британии, американцев, возможно, ждала бы участь угнетенного народа, управляемого наглыми выскочками при поддержке грубо попирающей их права и свободы оккупационной армии[161]. Но и на саму Британию такой поворот событий мог оказать почти столь же пагубное влияние. Возобладавшие среди аристократии сторонники жесткой линии, влияя на столь же узко мыслящего короля, создали бы государство, безжалостно нетерпимое к демократии.
В рамках тех же экстремумов возможны и иные результаты, причем самые интригующие могли проявиться еще до начала войны. Дитя — независимость — было бы с легкостью задушено в колыбели, не сумей его родители осознать, что значение их действий выходит далеко за рамки провинциального морского порта Бостон. Что, если бы Сэмуэль Адамс получил такую возможность после «бостонской резни»?
Сэмуэль Адамс бесспорно заслужил славу одного из главных вдохновителей первых шагов, сделанных на тернистом пути к независимости. Однако ему было свойственно балансировать на самой грани войны, что он и продемонстрировал своей постановкой «бостонской резни», которую трудно назвать блистательной. Когда в город вступили два полка британских регулярных войск, Сэм вообразил, будто его вооруженные молодцы с Северной окраины смогут нагнать на королевских солдат такого страха, что те с позором унесут ноги. В ночь на 5 марта 1770 г. вооруженная толпа в 400 человек принялась забрасывать осколками льда и поленьями пятерых британских солдат, стоявших на карауле у таможни. Выкрикивая оскорбления, бостонцы лезли прямо на ружья; Сэм уверил их, что ни один из «красных мундиров» не спустит курка, пока судья не обратится к толпе с предложением разойтись, а после отказа зачитает «акт о мятеже», официально обвинив непокорных в нарушении королевского мира. Чего ни один судья в Бостоне не осмелился бы сделать.
Но кто-то из толпы сбил солдата с ног ударом дубинки. Солдат вскочил на ноги, тут же упал снова, сбитый брошенным поленом, и выстрелил из мушкета по нападавшим. Спустя мгновение остальные караульные последовали его примеру. Мятежники бросились врассыпную, оставив (что выяснилось, когда рассеялся пороховой дым) пятерых убитых или умирающих товарищей. Еще шестеро были ранены.
Хотя Сэм Адамс всегда объявлял себя противником кровопролития, втайне он ликовал, ибо предвидел судебный процесс, в котором британские солдаты будут признаны виновными в убийстве. Чтобы не допустить их повешения, британские власти вмешаются и заявят о неподсудности военных колониальным судам присяжных, предоставив Сэму прекрасную возможность развернуть пропагандистскую кампанию по обвинению «убийц в мундирах» и их лондонских покровителей. Умеренные и в Англии, и в других колониях могли счесть случившееся доказательством того, что Бостон оказался в руках буйной, неуправляемой толпы, а значит, действия британцев по восстановлению законности и порядка вполне оправданы, однако о такой возможности Сэм попросту не задумывался. Зато эту опасность ясно видел другой житель Бостона — кузен Сэма, Джон Адамс.
Победа британцев в штате Нью-Йорк, осень 1777 года
Хотя Джон принимал активное участие в движении Сэма, он был потрясен, узнав, что ни один адвокат в Бостоне не решается выступить на суде защитником стрелявших солдат из опасения, что буяны Сэма расколошматят ему окна и намнут бока. Взяв на себя защиту солдат, Джон сумел доказать, что они действовали в пределах необходимой обороны, добился их оправдания, а потом, на протяжении всей своей жизни, утверждал, что его бескорыстное выступление в защиту «красных мундиров» было лучшей услугой, какую он мог оказать своему народу. И это соответствовало действительности, ибо убедило умеренных и в Англии, и в Виргинии, и в Нью-Йорке, что в Бостоне господствуют закон и право, а, значит, бостонцы заслуживают поддержки.
А ведь если бы Сэму удалось спровоцировать власти на принятие драконовских мер, «бостонское чаепитие»[162] могло бы не состояться. В городе, нашпигованном войсками, открытый мятеж был бы попросту невозможен, а Сэм вместе с ближайшими помощниками, вполне возможно, провели бы в темнице время между «бостонской резней» и сбрасыванием в море тюков с чаем. На деле же вышло, что в глазах сторонних наблюдателей столкновение из-за пустякового по размеру, но имевшего символическое значение налога на ввозимый чай стало наглядным свидетельством британского высокомерия и недомыслия. Умеренные восприняли инцидент с досадой, но никто не счел его очередным проявлением свойственного янки пренебрежения к закону, а потому и реакция британского правительства — закрытие порта и реорганизация управления Массачусетсом на далеко не демократических началах[163] — были восприняты как совершенно несоразмерные случившемуся акты вопиющего произвола. Вскоре Сэм и Джон Адамсы отправились в Филадельфию, на 1-й Континентальный конгрессе.[164]
Когда в начале 1775 года они вернулись в Массачусетс, оказалось, что Сэм не извлек из «бостонской резни» никаких уроков. В Бостоне шло противостояние между фактически оказавшейся в осаде английской воинской группировкой, численностью в 4500 человек, и многочисленным народным ополчением. Сэм Адамс предложил решить проблему радикально, начав решительное наступление на регулярные части[165]. Правда, трезвомыслящие взяли верх, заявив, что вся остальная Америка никогда не поддержит такой шаг, а британцы, напротив, будут приветствовать его как доказательство того, что в Массачусетсе вспыхнул бунт, ничем не отличающийся от подавленных ими с безжалостной эффективностью восстаний в Ирландии и Шотландии.
И опять трезвые головы оказались правы. Когда нетерпеливое начальство вынудило британского коменданта Бостона (генерал-майора Томаса Гэйджа) к действию, он силами отряда из 700 человек предпринял ночной бросок на Конкорд, рассчитывая обезвредить мятежников, захватив их склады с порохом и другим военным снаряжением[166]. На Лексингтон-Грин солдаты столкнулись с отрядом городской милиции. Прозвучали выстрелы, на траву упали убитые. За этим последовали кровопролитие в Конкорде и настоящее сражение между британцами и ополченцами на обратном пути в Бостон. На сей раз Сэм Адамс получил-таки столь желанный инцидент, позволивший ему, с одной стороны, объединить американцев[167], а с другой, дать умеренным в Англии повод для раздувания в парламенте и печати антиправительственной кампании.
Что, если бы при Банкер-Хилл британцы сумели осуществить свой план?
Два месяца спустя лишь разгоравшаяся война могла пойти по одному из двух возможных путей в зависимости от исхода дела при Банкер-Хилл. Согласно хрестоматийной версии этого сражения, англичане тупо маршировали вверх по склону под пулями метких американских стрелков. В действительности же у них имелся хитроумный план, и удайся им претворить его, война могла бы на этом и закончиться.
Английский командир, генерал-майор Уильям Хоу, намеревался обойти с фланга выдававшееся вперед укрепление на Брид-, а не на Банкер-Хилл[168]. Он направил колонну первоклассной легкой пехоты вдоль берега реки Мистик с тем, чтобы заблокировать узкий перешеек полуострова Чарльстон, закупорив американцев, словно мух в бутылке. Одновременно другой половине британской армии надлежало обрушиться на растянутые американские позиции вокруг Кембриджа, где мятежники сосредоточили большую часть запасов пороха и боеприпасов. Получись все, как было задумано, к концу дня американцы уже обратились бы в беспорядочное бегство.
К счастью для будущего еще не существовавших Соединенных Штатов, командир Нью-Гемпширского полка, ветеран войн с французами и индейцами, полковник Джон Старк счел, что оставлять реку без присмотра опасно, и лично отправился к берегу во главе двухсот отборных солдат. Обнаружив эту непредвиденную помеху, генерал попросил командира стоявшей на рейде Бостона британской эскадры направить вверх по реке Мистик шлюп и разогнать людей Старка несколькими залпами картечи. Адмирал отказался, сославшись на отсутствие у него карты мелей на реке. Хоу все равно послал своих легких пехотинцев вперед, надеясь, что американские ополченцы не успеют сделать больше одного залпа, прежде чем солдаты регулярных войск сойдутся с ними в штыковую. Но тут он просчитался. Люди Старка оказались меткими стрелками. Они усеяли берег мертвыми телами британцев, и Хоу не оставалось иного выхода, кроме отчаянной фронтальной атаки на Брид-Хилл, стоившей ему почти половины его небольшой армии.
А ведь окажись британский адмирал достаточно прозорливым, чтобы заказать заранее карту мелей, или наоборот, Старк недостаточно прозорливым, чтобы сообразить, откуда может грозить опасность, по-иному могло бы закончиться не только дело у Банкер-Хилл. 17 июня 1775 г. стало бы днем последнего сражения Американской революции, не считая, может быть, нескольких мелких стычек в Виргинии и других колониях. Но то, что случилось, чрезвычайно воодушевило восставших. Они уверились в своей способности наносить противнику тяжкий урон, и скоро окруженные в Бостоне кольцом враждебных янки британцы вынуждены были перейти к унизительной обороне.
Что, если бы в начале 1776 г. Вашингтон атаковал в Бостоне английскую армию?
Когда в июле 1775 г. Джордж Вашингтон[169] принял командование стоявшей под Бостоном американской армией, все его мысли занимала завораживающая возможность овладеть городом. На протяжении девяти месяцев это не удавалось из-за того, что Вашингтону отчаянно не хватало артиллерии. Вдобавок, он не смог помешать значительной части своих янки разойтись по домам в связи с истечением срока их службы 1 января 1776 г. В марте 1776 г. его лазутчики донесли, что стоящие в гавани многочисленные британские суда запасаются провиантом и водой, и готовятся покинуть Бостон. Местом их назначения предположительно являлся Нью-Йорк.
К тому времени Вашингтону удалось захватить в форте Тайкондерога немало пушек и вновь собрать армию внушительных размеров. Американский командующий решил сорвать вражий план захвата Нью-Йорка, ибо, оказавшись там, англичане представляли бы куда большую опасность для Революции, нежели будучи зажатыми в Бостоне.
Замысел Вашингтона был дерзок и весьма рискован. В первую очередь он вознамерился захватить находившиеся к югу от города Дорчестерские высоты и установить там пушки, а как только англичане начнут атаку этой позиции, послать 4000 человек на сорока пяти судах при поддержке установленных на плотах двенадцатифунтовых орудий на штурм Бостона со стороны реки Чарльз. Таким образом, пока половина войска будет удерживать Бикон-Хилл и другие господствующие высоты, другая прорвет британскую линию укреплений на Бостон-Нек, открыв путь для подкреплений, ожидающих возможности подойти сушей из Роксбери. Вашингтон не сомневался, что разгром армии Хоу настолько подорвет военные возможности англичан, что приведет к немедленному заключению мира.
Поначалу все шло в соответствии с планом. В ночь на четвертое марта Вашингтон захватил Дорчестерские высоты и установил там орудия, поставив противника перед выбором: отбить высоты или оставить город. Генерал Хоу наметил атаку на 5 марта. Однако этот амбициозный игрок задумал нанести двойной удар. Четыре тысячи человек должны были повести наступление на занятый Вашингтоном Роксбери, тогда как остальные три тысячи двести солдат — на Дорчестерские высоты. Таким образом, оборонять Бостон со стороны главного направления задуманного Вашингтоном вторжения предстояло всего-навсего четырем сотням «красных мундиров»
Все было готово к решающему, титаническому столкновению. Однако 5 марта, едва начали сгущаться сумерки, задул пронизывающий, холодный ветер, который принес с собой смешанный с градом дождь. А вскоре, по словам одного из младших офицеров Вашингтона, разразился «настоящий ураган». Хоу отменил задуманное наступление, да и Вашингтон отказался от своего плана. Но во что могла вылиться попытка воплотить его в жизнь? Тринадцать дней спустя, когда британцы оставили Бостон, Вашингтон осмотрел оборонительные сооружения, которые намеревался штурмовать, и был потрясен их мощью. «Город Бостон был почти неприступен», — признал он и в письме к брату Джеку назвал бурю «спасительным вмешательством провидения».
Хотя на том этапе поражение Вашингтона могло и не означать прекращения борьбы, оно стало бы губительным для его репутации. И в армии, и в Континентальном конгрессе он и без того подвергался резким нападкам со стороны недоброжелателей, обвинявших его в робости и нерешительности. Но предположим, что ему все же удалось одержать под Бостоном победу. Стала бы ли эта победа окончательной, на что надеялся Вашингтон? Вероятно нет, ибо в те дни правительство Британии уже готовило отправку в Америку армии, вчетверо большей, нежели та, что находилась в Бостоне.
Что, если бы британцы поймали Вашингтона в ловушку на Лонг-Айленде или Манхэттене?
Джордж Вашингтон настоятельно просил 2-й Континентальный конгресс предоставить в его распоряжение сорокатысячную армию, набранную до окончания войны. Однако конгресс принял на веру фантазии Сэма Адамса, искренне верившего в способность наскоро вооруженных фермеров Лексингтона и Конкорда нанести поражение регулярным британским частям. В действительности Массачусетс располагал лишь зародышем настоящей армии в виде отрядов ополченцев, которые проходили обучение в течение девяти месяцев. С другой стороны, они впятеро превосходили по численности британский гарнизон Бостона. Вашингтону было приказано довольствоваться двадцатитысячной амией, набранной на один год, и в основном полагаться на милицию — людей, отдававших службе лишь часть времени и не получивших почти никакой военной подготовки. Вдобавок, Конгресс основательно пощипал и имевшиеся в распоряжении Вашингтона силы, приказав направить часть войск на канадский театр военный действий, где американцев преследовали неудачи.
В результате Вашингтон объявился в Нью-Йорке с армией чуть больше, чем в десять тысяч солдат (которых прозвали «континенталами»), в помощь которой объявил мобилизацию ополченцев из Новой Англии, Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании. Этим силам пришлось толкнуться с тридцатитысячным королевским войском, в состав которого входили двенадцать тысяч германских наемников. В состоявшемся 27 августа сражении при Лонг-Айленде англичане, во главе которых вновь стоял Уильям Хоу, успешно применили тактику обхода с флангов. Неудачный день завершился тем, что большая часть армии Вашингтона оказалась запертой в укреплениях на Бруклинских высотах.
Два дня спустя, воспользовавшись благоприятным ветром и сильным туманом, Вашингтон сумел тайно отвести свои силы на Манхэттен, но и после этого дважды оказывался в ситуации, когда ему едва удавалось ускользнуть. 15 сентября англичане высадились в Кипе Бэй (в районе нынешней Тридцать четвертой улицы) и едва не захватили в ловушку на нижнем Манхэттене треть континентальной армии.
Десятого октября англичане высадились в Пеллс-Пойнт, в Вестчестере, и лишь героизм отступавшей с боями Массачусетской бригады из 750 человек позволил Вашингтону выиграть время и эвакуировать армию с Манхэттена. К тому времени он уже не питал никаких иллюзий насчет милиции: большая часть ополченцев разбежалась по домам. Но хотя многие американские лидеры пребывали в отчаянии, он не потерял головы и в критический момент взял руководство дальнейшим ходом войны на себя. Вашингтон объявил Конгрессу, что отныне американская армия не станет стремится покончить с войной разом, выиграв решающую битву. «Мы ни в коей мере не станем искать генерального сражения, — писал он президенту конгресса Джону Хэнкоку, — а будем, напротив, всячески затягивать войну». Благодаря этому, казалось бы простому, изменению в стратегии он навязал англичанам войну на истощение, какую они менее всего готовы были вести.
А ведь попади армия Вашингтона в западню на Бруклинских высотах или на Манхэттене, война закончилась бы быстро. Недальновидность Конгресса, делавшего ставку на ополченцев, стала совершенно очевидной. После поражений на Лонг-Айленд или при Кипс-Бэй американцам было бы очень трудно собрать новую армию. Хуже того, большинство американских генералов являлись сторонниками стратегии генерального сражения, и мечтали повторить успех при Банкер-Хилл. Однако англичане не совершили бы снова ту же ошибку, и не возникни новая стратегия Вашингтона, в стане революционеров могло распространиться отчаяние.
Что, если бы Вашингтон не захватил Трентон и Принстон или хотя бы один из этих городов?
Отступив из Нью-Джерси, Вашингтон пристально следил за мерами англичан по умиротворению этого важного в политическом и стратегическом отношении штата. Британские власти распространили прокламацию, призывавшую гражданское населения принести клятву «миролюбия и верности» Георгу III в обмен на королевское «покровительство», означавшее гарантию неприкосновенности жизни и собственности. Недавние неудачи американцев побудили тысячи людей откликнуться на это предложение. От всей милиции Нью-Джерси, численность которой на бумаге составляла семнадцать тысяч человек, в строю осталась едва ли тысяча. В данном случае англичане опробовали метод, при помощи которого надеялись в скором времени завершить войну и в других колониях.
Для защиты лоялистов англичане разместили в различных городах этого штата свои гарнизоны, однако Вашингтон понял, что эти разрозненные отряды могут оказаться легкой добычей для превосходящих их численно американцев. Рождественской ночью 1776 г., в сильную пургу, он совершил марш-бросок через Делавэр, увенчавшийся пленением в Трентоне трех германских полков. Вследствие этого весь штат Нью-Джерси вновь «впал в безумие свободы», по выражению одного испуганного англичанина.
Десять дней спустя Вашингтон предпринял еще более дерзкую операцию. Желая содействовать вящему сплочению штата, он вернулся к границе Делавэра с Нью-Джерси, где встретился с семитысячным отрядом прекрасно вооруженных «красных мундиров» под командованием лорда Чарльза Корнуоллиса. Совершив стремительный ночной обход с фланга (почти точное повторение маневра Хоу на Лонг-Айленд), Вашингтон внезапным ударом захватил Принстон и тут же отошел к высотам Морристауна с добычей и пленными. Ошеломленные англичане с перепугу решили, что он готовит удар по их главной базе и заняли оборонительные позиции вокруг города, уступив большую часть Нью-Джерси повстанцам.
Если бы Вашингтон не решился нанести эти удары силами своей оборванной и разутой армии или хотя бы один из них закончился неудачей, центральные колонии — Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд и Делавэр сдались бы англичанам немедленно. Покорение Юга, и в особенности горделивой Виргинии, обещало занять больше времени, а завоевание Новой Англии еще больше. Но сторонники короля Георга III, заверяя всех, что неотъемлемым условием примирения является безусловное соблюдение «британских свобод», рано или поздно взяли бы верх. В течение года, в крайнем случае двух, они превратили бы американцев в некое подобие канадцев — мирных колонистов, прирученных торжествующей Британской Империей и напрочь лишенных того духа независимости, что составляет ныне стержень национального характера.
Что, если бы генерал Бенедикт Арнольд не превратился на озере Шамплейн в адмирала?
Сходный результат мог бы иметь место, и обернись по-иному в 1776 г. события на ином театре военных действий. Если бы бригадному генералу Бенедикту Арнольду не хватило познаний (и невероятного самообладания), чтобы в конце лета выступить на озере Шамплейн в качестве флотоводца, англичане перезимовали бы в Олбани и к весне 1777 г. были готовы развязать войну на уничтожение против Новой Англии.
Выбитый из Канады получившими сильное подкрепление англичанами, Арнольд с остатками так называемой «Северной армии» отступил в форт Тайкондерога на берегу озера Шамплейн. Менее благоприятную позицию трудно было себе даже представить. Британский командующий Гай Карлтон планировал напасть на «Американский Гибралтар» с шестнадцатитысячной армией, не считая многочисленных союзных ему индейцев. Противопоставить ему американцы могли лишь три с половиной тысячи вымотанных, измученных оспой и надломленных понесенными поражениями людей.
Поскольку совершить пеший переход в 135 миль вдоль заросшего непроходимым лесом берега озера не представлялось возможным, Карлтон вознамерился двинуться по воде. В ответ Арнольд решил превратиться в адмирала и первым делом построить для этого собственный флот. К счастью, в бытность свою купцом он совершил немало плаваний в Вест-Индию и Канаду и представлял себе, как следует управлять кораблем. Под его руководством плотники сколотили из подвернувшегося под руки, вовсе не корабельного леса тринадцать неуклюжих весельных галер, экипажи которых составили из отроду не бывавших на палубе солдат. Проявив дерзкую отвагу, граничившую с безумием, Арнольд повел свою эскадру вверх по озеру, бросая англичанам вызов.
Затевая это предприятие, самозваный адмирал не ведал, что Карлтон заканчивает полностью оснащенный и укомплектованный командой военный корабль «Инфлексибл» водоизмещением в 180 тонн, способный одним залпом бортовых орудий разнести в щепки любой корабль Арнольда. Узнав об этом, он отступил вниз по озеру и укрепился на острове Валку р. Тем временем многие английские офицеры упрашивали своего командующего повести наступление немедленно, не дожидаясь достройки «Инфлексибла». Начинался сентябрь, через месяц мог пойти снег, а в их распоряжении и без того имелись двадцать четыре канонерские лодки, две хорошо вооруженные шхуны и огромный артиллерийский плот под названием «Тандерер». Но Карлтон, на которого бравада Арнольда, видимо, произвела впечатление, предпочел перестраховаться, и его армия ждала на берегу еще четыре недели, пока «Инфлексибл» оснащался и довооружался.
Лишь 11 сентября флотилия Карлтона приблизилась к эскадре Арнольда и встала на якорь в устье залива Валкур. Последовала ожесточенная и беспорядочная шестичасовая схватка. Хотя американцам и задали основательную трепку, они смогли продержаться до ночи и пустились наутек лишь под покровом темноты. В течение следующих трех дней британские суда гонялись по озеру за американцами, после чего от эскадры Арнольда осталось на плаву только пять кораблей. Располагавший пятикратным превосходством в живой силе и артиллерии, Карлтон имел полную возможность захватить Тайкондерогу.
Американский гарнизон всячески демонстрировал высокий боевой дух, посылая приближавшимся к стенам английским разведчикам пушечные ядра и отборные ругательства. В результате Карлтон, памятуя о Банкер-Хилл, отказался от лобового штурма. Насчет осады он решил, что начинать ее в этом году уже слишком поздно. Когда англичане отходили на зиму в Канаду, один из офицеров простонал: «Как жаль, что мы не начали этот поход четырьмя неделями раньше». Четыре недели потребовались Карлтону на то, чтобы достроить «Инфлексибл», и это промедление позволило Арнольду с его примитивным флотом сорвать английское наступление с севера.
Сумей Карлтон захватить осенью 1776 г. Тайкондерогу и разгромить или пленить «Северную Армию», уже ничто не могло бы помешать ему в любое время обрушиться на Новую Англию и опустошить ее подобно тому, как во время Гражданской войны Шерман опустошил Юг, вторгнувшись туда с незащищенного западного фланга. Еще до похода Карлтон мог превратить Олбани в центр сопротивления лоялистов Континентальному конгрессу. Канадский командующий проявлял куда больше проницательности и дипломатичности в умиротворении провинций, чем Хоу. Так, всех захваченных в Канаде пленных он накормил и отпустил по домам, даровав полное прощение под честное слово не воевать больше против короля. Как показали впоследствии не прекращавшиеся пять лет кровопролитные «пограничные стычки», позиции лоялистов были весьма сильны и на севере штата Нью-Йорк.
Что, если бы при Саратоге Бенедикт Арнольд подчинился приказу?
Впрочем, год спустя ни у кого не складывалось впечатления, будто достигнутый генералом (а заодно и адмиралом) Арнольдом в заливе Валкур успех имел серьезное значение. Сменивший Карлтона на посту командующего генерал Джон Бургойн в начале июля, не встречая никакого противодействия, спустился по озеру Чамплэйн и с ошеломляющей легкостью захватил Тайкондерогу. Американцы ухитрились растратить впустую драгоценные месяцы, выигранные для них благодаря энергии и боевому духу Арнольда.
Задачу противостояния девятитысячной армии Бургойна Конгресс возложил на генерал-майора Горацио Гэйтса, бывшего английского штабного офицера, не имевшего заслуживающего упоминания боевого опыта. Дабы компенсировать этот недостаток, Вашингтон направил ему в помощь ставшего генерал-майором Арнольда и огромного, задиристого полковника Дэниэла Моргана с корпусом виргинских стрелков. Мастерски укрепившись на холмах Бамис, в двадцати восьми милях к северу от Олбани, Гэйтс стал ожидать атаки Бургойна, видимо рассчитывая повторить Банкер-Хилл в лесу. Но Бургойн отнюдь не намеревался ему подыгрывать. С огромным трудом протащив через леса из Тайкондероги сорок две тяжелые пушки, он планировал совершить фланговый обход, что позволило бы ему, установив эти орудия на господствующих высотах, шквальным огнем разнести в клочья армию Гэйтса вместе с любовно возведенными им оборонительными сооружениями. Понявший грозившую им опасность, Арнольд после яростного спора убедил острожного Гэйтса позволить ему сразиться с англичанами в лесу. В результате кровопролитной битвы на вырубке Фримен-Фарм англичане понесли тяжелые потери и вынуждены были отступить.
Три недели спустя, 7 октября, Бургойн напал снова, но на сей раз им двигало отчаяние. Его люди сидели на половинном пайке и страдали от болезней, что вело к росту пораженческих настроений. Ситуацию усугубила завистливая недальновидность Хоу, который, вместо того чтобы сразиться с Вашингтоном в Нью-Джерси, откуда имелась возможность выступить форсированным маршем на подмогу Бургойну, предпочел отплыть из Нью-Йорка на юг, дабы напасть на Филадельфию. Захват американской столицы казался Хоу куда более верным способом выиграть войну, нежели план Бургойна покорить Нью-Йорк и отколоть штаты Новой Англии от остальной Американской Конфедерации. Кроме того, занимавший пост главнокомандующего и имевший под началом втрое большую армию, Хоу вовсе не желал отдать «Джентльмену Джонни» лавры человека, выигравшего войну. Это делает понятным его плохо объяснимое с иной точки зрения решение и служит наглядным примером того, как неприязнь между людьми, облеченными властью, может оказать влияние на ход истории.
В американском стане тоже не обошлось без раздоров. Трусоватый Гэйтс привел Арнольда в бешенство, не оценив по достоинству подвиги, совершенные при Фримен-Фарм, и после взаимного обмена оскорблениями отстранил последнего от командования, приказав ему оставаться в своей палатке. Но когда началось сражение, Арнольд ослушался приказа и поскакал на звук канонады. И вновь его появление на поле боя позволило переломить ход событий! В решающий момент он лично возглавил лобовую атаку и, хотя английская пуля раздробила ему ногу, захватил главный редут противника. Тут уж и Гэйтс прислал приказ удерживать редут «любой ценой», поскольку оттуда простреливался весь английский лагерь.
Ночью англичане попытались отступить, но возможные пути их отхода были перерезаны кишевшей повсюду многочисленной милицией. 17 октября Бургойн капитулировал перед Гэйтсом. Значение этого события в военной и дипломатической истории Революции невозможно переоценить. Во Франции советники Людовика XVI решили, что американцы, пожалуй, в состоянии выиграть войну и стали снабжать их столь жизненно необходимыми деньгами и пушками. В ответ Англия объявила своему исконному врагу войну, пожар которой охватил Вест-Индию, Индию и Африку[170].
Если бы в первом сражении при Саратоге Арнольд действовал в согласии с Гэйтсом, Бургойн, генерал гораздо более воинственный, чем Карлтон, наверняка разгромил бы американцев и установил контроль над долиной реки Гудзон. Если бы Хоу остался в Нью-Йорке, а потом повел наступление вверх по Гудзону навстречу Бургойну, разгром Гэйтса стал бы неминуемым, несмотря на весь героизм Арнольда. Ведь даже довольно вялая, запоздалая и безуспешная попытка выручить Бургойна силами посланного из Нью-Йорка четырехтысячного отряда повергла американцев в состояние, близкое к панике.
Что, если бы капитан Фергюсон нажал на курок?
В то самое время Джордж Вашингтон вел (и проигрывал) бои при Брендивайне и Германтауне, защищая бывшую тогда американской столицей Филадельфию. В ходе одного из этих столкновений был момент, когда одно нажатие пальца на спусковой крючок ружья могло необратимо изменить весь ход американской истории. Производивший разведку местности, чтобы выбрать позицию для отражения Хоу, наступавшего от Чесапик, Вашинтон в лесу близ Брендивайн Крик повстречался с капитаном английской армии Патриком Фергюсоном,
Фергюсон являлся изобретателем первой заряжавшейся с казенной части винтовки и имел при себе это смертоносное оружие, обладавшее скорострельностью в шесть выстрелов в минуту и несравненно лучшей прицельностью, чем принятые на вооружение в обеих армиях мушкеты. Не имея представления о том, что столкнулся лицом к лицу с самим Вашингтоном, Фергюсон предложил и ему и сопровождавшему командующего гусарскому офицеру в ярком мундире сдаться. Офицер предупреждающе вскрикнул, Вашингтон мгновенно развернул коня и пустился вскачь. Фергюсон прицелился, но не нашел в себе сил выстрелить беззащитному врагу в спину и опустил оружие.
Неожиданная смерть Вашингтона осенью 1777 г. оказала бы на американских патриотов деморализующее воздействие. Этот рослый виргинец, как никто другой, сочетал умение повести за собой континентальную армию с беззаветной преданностью идеалам революции. Накануне Трентона Конгресс для разрешения критической ситуации наделил Вашингтона диктаторскими полномочиями—и шесть месяцев спустя он сложил с себя эту «кромвелевскую» власть, вернув ее политикам. Возможность найти ему равноценную замену была столь невелика, что ею можно пренебречь.
Что, если бы на посту командующего Вашингтона заменил Гэйтс?
Спустя несколько месяцев после почти чудесного спасения американского командующего от пули Фергюсона в армии и Конгрессе созрел заговор с целью сместить Вашингтона с этой должности и заменить его победителем при Саратоге, генерал-майором Гэйтсом. В случае успеха он мог повлечь за собой последствия, не менее бедственные, чем выстрел Фергюсона.
Горацио Гэйтс, хитрый и расчетливый эгоист, предоставил своим помощникам и друзьям продвигать его на высший командный пост, благо формальные основания для того имелись. В конце концов, Вашингтон проиграл два важных сражения, в результате чего англичане овладели Филадельфией, а американская армия голодала в Вэли Фордж. Обстоятельства как нельзя благоприятствовали смене командования.
Впоследствии заговор стали называть по имени одного из его активных участников, служившего ранее во французской армии волонтера ирландского происхождения, генерала Томаса Конвея. Но по сути за «Кликой Конвея» скрывались представители Новой Англии в Конгрессе: инициатива исходила от Сэма Адамса (в очередной раз продемонстрировавшего скверное политическое чутье) и, возможно, от завидовавшего растущей популярности Вашингтона его кузена Джона Адамса. Горлопаном Конвеем манипулировали истинные заговорщики. Достаточно скоро выяснилось, что они не располагают достаточной поддержкой среди генералов и политиков, но на протяжении нескольких месяцев, пока развивалась интрига, штаб-квартиру Вашингтона постоянно лихорадило.
Если бы заговорщики преуспели в своем намерении сделать Гэйтса главнокомандующим, это почти наверняка привело Революцию к плачевному концу. Низкорослый, суетливый англичанин, получивший в войсках насмешливое прозвище «бабуля», никоим образом не мог заменить Вашингтона в качестве объединяющей и воодушевляющей фигуры. Кто таков Гэйтс, показало случившееся в 1770 г., когда он двинулся на юг для отражения британского натиска уже после захвата Чарльстона и большей части Южной Каролины. Там Горацио, потерпев сокрушительно поражение при Кэмдене, вскочил на самого быстрого коня, какого смог раздобыть, и скакал без остановки, пока не оказался в ста шестидесяти милях от поля боя.
В условиях, когда континентальные доллары превращались в никчемные бумажки, а южные штаты были близки к отделению, отчаявшийся Конгресс вполне мог обратится к действительно боевому генералу — Бенедикту Арнольду. Однако к тому времени раздосадованный герой Саратоги уже давно вступил в тайную переписку с английским командованием. Представьте себе, с каким восторгом честолюбивый изменник воспринял бы назначение главнокомандующим! Это открыло бы перед ним возможность осуществить мечты, о которых можно догадаться по псевдониму, использовавшемуся им в некоторых из первых, адресованных англичанам письмам — «генерал Монк». (Так звали английского республиканского полководца генерала Джорджа Монка, перешедшего после смерти Оливера Кромвеля на сторону монархии, способствовавшего реставрации и щедро вознагражденного за это королем Карлом II.)
Даже и не получив от Конгресса подобный дар, Арнольд едва не нанес Революции тяжкий удар. Его план сдать осенью 1780 г. англичанам ключевую крепость Вест-Пойнт не осуществился лишь потому, что глава британской разведки майор Джон Андре случайно угодил в плен отряду ополченцев, когда возвращался с планом крепости за голенищем в удерживаемый англичанами Нью-Йорк. Захват Вест-Пойнта предоставил бы англичанам возможность осуществить давнее намерение — установить контроль над рекой Гудзон и таким образом отрезать Новую Англию от других колоний. Такой удар, нанесенный революции в тот год, когда американская армия была ослаблена мятежом на зимних квартирах, на юге успех сопутствовал англичанам и лоялистам а континентальный доллар практически обесценился, вполне мог стать смертельным.
Что, если бы англичане разгромили французский экспедиционный корпус сразу по прибытии?
Еще в одном случае Вашингтону удалось спасти Революцию, когда судьба ее висела на волоске, благодаря умению подсунуть противнику дезинформацию. Этим важнейшим делом он руководил лично, с помощью уроженца Лонг-Айленда, кавалерийского майора Бенджамена Толлмаджа. В штате Нью-Йорк его снабжали сведениями несколько самостоятельных шпионских сетей, и в июле 1780 г. одна из таких ячеек тайком переправила ему тревожное известие. Англичане грузили на суда шеститысячное войско, готовясь нанести удар по только что высадившемуся у Ньюпорта (в Род-Айленде) французскому экспедиционному корпусу.
Ничто не могло бы покончить с войной так быстро, как разгром этой, насчитывавшей пять с половиной тысяч бойцов, армии. Безудержная инфляция и усталость от затянувшейся войны разъедали моральный дух континентальной армии. Падение стоимости американской валюты делало невозможным набор новых солдат. Пока союз с Францией не принес союзникам ничего, кроме разочарований. Предпринятая в 1778 г. попытка отбить удерживаемый англичанами Ньюпорт закончилась провалом. Нападение на Саванну в 1779 г. англичане отбили с серьезными потерями для нападавших. Теперь они рассчитывали нанести сокрушительный удар, который обескуражит Францию и заставит ее выйти из войны.
Не имея возможности доставить свою армию к Ньюпорту быстрее, чем туда поспеет британский флот, Вашингтон повел хитроумную шпионскую игру. Двойной агент вышел к английскому аванпосту с пакетом бумаг, найденному, по его словам, на дороге. В нем содержался подробный план массированного наступления американцев на Нью-Йорк. Английские транспортные суда и эскортирующие их боевые корабли уже направлялись по проливу Лонг-Айленд в открытое море. На стратегически важных точках побережья (Лонг-Айленд находился в руках англичан) зажглись сигнальные огни и эскадра вошла в залив Хантингтон, дабы принять доставленные туда бешено скакавшими конными гонцами «захваченные у американцев секретные документы». Англичане, устрашенные прочитанным, отказались он плавания к Ньюпорту, вернулись в Нью-Йорк и засели в своих многочисленных фортах в ожидании атаки, которой так и не последовало. К тому времени, когда британцы сообразили, что Вашингтон их попросту одурачил, французы уже укрепились в Ньюпорте, и выбить их оттуда стало невозможно.
Провал попытки вывести Францию из войны существенно усложнил положение англичан, заставляя их постоянно держать в Нью-Йорке столь необходимую на других направлениях армию.
Что, если бы Морган проиграл при Каупенс?
В то время как на севере сохранялось неустойчивое равновесие, позиции британцев на Юге продолжали укрепляться. В 1779 г. под власть короля вернулась Джорджия. Капитуляция весной 1780 г. Чарльстона с его пятитысячным гарнизоном более чем скомпенсировала капитуляцию Бургойна при Саратоге. После разгрома у Кэдмена вся южная континентальная армия сократилась до восьмисот полуголодных солдат. Попытки нового командующего, генерал-майора Натаниэля Грина, привести к послушанию таких партизанских вожаков, как Томас Самтер, ни к чему не привели, а устоять пред англичанами порознь у них не было никаких шансов. Под началом дородного, но чрезвычайно энергичного полковника Банастра Тарлтона в составе королевской армии действовал представлявший собой смесь кавалерии и пехоты, чрезвычайно мобильный Британский Легион, бойцы которого могли преодолевать до семидесяти миль в день и нередко захватывали партизан врасплох в их становищах. Жесткая политика набора в королевскую милицию, когда лишь завербовавшимся гарантировалось, что их дома и урожай не будут сожжены, тоже оказалась достаточно эффективной. К концу 1780 г. сопротивление в Южной Каролине было почти подавлено. Англичане уже обсуждали возможность быстрого завоевания Северной Каролины и вторжения в Виргинию.
В этих условиях Натаниэль Грин совершил действие, являвшееся стратегическим ходом в той же мере, что и актом отчаяния — предоставил в распоряжение ставшего бригадным генералом Дэниэла Моргана 600 регулярных пехотинцев и остатки кавалерии (70 человек под командованием Уильяма Вашингтона, троюродного брата Джорджа) и направил их на запад Южной Каролины с заданием попытаться мобилизовать штат и вывести его из состояния прострации. Британский командующий лорд Корнуоллис приказал Тарлтону и его Британскому Легиону пресечь наглую вылазку Моргана.
На первый взгляд, в том, что кавалеристы в красных мундирах справятся с заданием, не могло быть сомнения. Собирая по пути подкрепления, Тарлтон устремился навстречу Моргану в своем обычном темпе, не обращая внимания на холодный декабрьский дождь, превративший дороги в трясину. «Старый Возчик», как прозвали мускулистого, ростом в шесть футов два дюйма Моргана, счел за благо поскорее унести ноги. К тому времени он привлек под свои знамена около трехсот ополченцев. Опережая авангард Тарлтона всего на пять миль, он подошел к реке Брод и обнаружил, что та разлилась, да так, что попытка переправы грозила бы ему потерей половины его маленького войска.
Неподалеку находился холмистый, слегка поросший леском участок местности под названием Каупенс, служивший окрестным фермерам местом зимних выпасов: на этом заброшенном пастбище Морган решил остановиться. К тому времени ему удалось пополнить свой отряд еще ста пятьюдесятью ополченцами, и долговязый виргинец задумал план сражения, рассчитанный на то, чтобы извлечь максимальную пользу из народной милиции, на которую не слишком надеялся. Расположив ополченцев в два эшелона перед позициями своих континенталов, он приказал им дать по наступающим два залпа, после чего пускаться наутек — что они сделали бы безо всяких приказов.
Примерно в ста пятидесяти ярдах позади второй линии ополченцев, на невысоком кряже, заняли оборону регулярные пехотинцы под личным командованием Моргана. Позади них, за гребнем, укрылся кавалерийский резерв Уильяма Вашингтона. Всю ночь Морган переходил от костра к костру, доводя свой план до каждого рядового и убеждая их, что если они сделают все как надо, поутру Старый Возчик переломит свой кнут о спину Бенни Тарлтона.
Тарлтон прибыл на место боя на рассвете 17 января 1781 г. после беспрерывного ночного марша и с ходу, без отдыха и завтрака, бросил своих людей в атаку. Это была его первая ошибка. Вторая заключалась в пренебрежении стрелками-ополченцами, прицельным огнем выбившими из седел немало прикрывавших его фланги кавалеристов и немногочисленных офицеров.
Когда ополченцы, согласно приказу, устремились в тыл, Тарлтон решил, будто битва уже выиграна, однако, увлекшись погоней, натолкнулся на ожесточенное сопротивление регулярной континентальной пехоты. Британский командир ввел в сражение свой резерв — бойцов 71-го Шотландского полка с тем, чтобы совершить обход противника с фланга. Морган ответил на это стандартным маневром, известным как «откат фланга» и заключающимся в том, что, дабы избежать охвата, фланги отступают и разворачиваются навстречу обходящему противнику. Однако в сумятице отступление повели не только фланги, но и центр. Сочтя это свидетельством поражения американцев и желая завершить разгром, Тарлтон скомандовал штыковую атаку. С громкими криками «красные мундиры» устремились вперед.
Но в действительности Морган не утратил контроля над ситуацией. Уильям Вашингтон, оказавшийся на правом фланге англичан, прислал к нему гонца со словами «Они наступают как беспорядочная толпа. Дай по ним залп, и я пойду в атаку». Морган выкрикнул приказ и отступавшие континенталы развернулись, дали по преследователям залп и сошлись с ними в штыковую. Одновременно в тыл англичанам ударила кавалерия.
Вымотанные, и вдобавок ко всему лишившиеся многих командиров, британцы не выдержали удара. Некоторые побросали оружие и сдались, другие пустились в бегство. Через пять минут сражение закончилось. Морган одержал победу, уничтожив армию Тарлтона и кардинально изменив весь ход войны на Юге. Окажись фронтальная атака Тарлтона успешной, Северная и Южная Каролина почти наверняка подчинились бы королевской власти следом за Джорджией. Этот пораженческий водоворот мог увлечь в воронку и уже выказывавшую признаки усталости Виргинию и Мэриленд. При фактически обанкротившемся и уже зондировавшем почву для мирных переговоров французском правительстве, Англия вполне могла закончить войну, сохранив за собой весь Юг. Откуда, через несколько лет, она несомненно повела бы наступление на оставшиеся независимыми колонии Севера.
Что, если бы Вашингтон не двинулся в Виргинию и не осадил англичан в Йорктауне — или же они бежали бы, как только началась осада?
После состоявшегося при Гилфорд Корт Хаус в Северной Каролине и дорого обошедшегося ему сражения с возрожденной континентальной армией, командующий британскими силами на Юге лорд Чарльз Корнуоллис отступил к побережью, решив отказаться от использовавшейся до сих пор королевской армией стратегии последовательного покорения штата за штатом. По его мнению, чтобы добиться господства надо всем югом, было достаточно привести к покорности богатую и густонаселенную Виргинию. Направившись на север и приняв под начало войска, грабившие Виргинское побережье, граф не встретил заслуживающего внимания сопротивления со стороны малочисленного американского корпуса маркиза де Лафайета.
Куда более серьезно его планам противодействовал британский главнокомандующий сэр Генри Клинтон, полагавший, что граф вторгся в его вотчину, в то время как существует опасность захвата Юга повстанцами Натаниэля Грина. Его язвительные депеши дали Корнуоллису понять, кто распоряжается на этой войне, и тот скрепя сердце отступил к небольшому табачному порту Йорктаун, венчавшему собой полуостров с тем же названием. Согласно приказу, Корнуоллису следовало укрепить город, а большую часть своих сил отправить Клинтону в Нью-Йорк.
Граф не преминул ответить Клинтону, что для постройки требуемых фортификационных сооружений ему необходимы все наличные силы — семь с половиной тысяч человек. Таким образом к концу лета 1781 ход войны поставил обе стороны в такое положение — безысходное на Севере и немногим лучшее на Юге, что стало ясно: тот, кто сумеет нанести один удар, равный по силе Саратоге или Чарльстону, выиграет этот матч нокаутом.
Близ города Нью-Йорка Джордж Вашингтон и командир французского экспедиционного корпуса граф де Рошамбо совещались относительно того, куда лучше такой удар нанести. Вашингтон хотел напасть на Нью-Йорк, но для этого его армия, даже с учетом французских подкреплений, была слишком слаба. Французский командующий предлагал выступить на юг, дабы поймать Корнуоллиса в ловушку в Йорктауне. Вашингтон, однако, считал, что покуда побережье Америки контролирует британский флот, такой поход будет пустой тратой времени и сил. Моряки выручат Корнуоллиса прежде, чем американская армия вынудит его капитулировать.
Однако Рошамбо сообщил, что французские корабли из Вест-Индии получили приказ отплыть на север, дабы укрыться от непогоды в сезон штормов. Почему бы не направить эти корабли в Чесапик, пока солдаты движутся туда сушей? Вашингтон согласился, хотя и неохотно. Во-первых, он опасался того, что английские моряки, как уже не раз бывало, разобьют французских, а во-вторых того, что в время марша многие из его уставших от войны и давно не видевших жалования солдат попросту разбегутся.
Но откажись Вашингтон идти на Йорктаун, французы могли отказать ему в поддержке. Казалось, что революция выдохлась. Континентальный доллар обесценился настолько, что, как мрачно шутил сам Вашингтон, «чтобы купить воз сена, нужен воз денег» Вербовщики докладывали о полном отсутствии интереса к воинской службе. Французы были готовы отозвать войска из Америки и признать свое поражение.
Этого не случилось. Вашингтон выступил в поход на Юг, сопровождавшийся чередой чудес. Дезертирство почти не имело места благодаря срочной выплате жалования звонкой монетой из французской казны. Французский флот поспел как раз вовремя, чтобы поймать Корнуоллиса в ловушку в Йорктауне. Британский флот отплыл из Нью-Йорка на выручку Корнуоллису, но пятого сентября в малоизвестном сражении у мыса Чесапик третьеразрядный английский адмирал по имени Томас Грэйвз ухитрился сделать неправильно решительно все, тогда как французы кое в чем не ошиблись. Сильно потрепанным англичанам пришлось убираться назад в Нью-Йорк, а запертый на полуострове Корнуоллис остался под дулами орудий союзников.
А ведь сумей Грэйвз выиграть морской бой и вызволить Корнуоллиса, взаимное разочарование американцев и французов могло достигнуть критической точки. Вполне возможно, что Континентальный конгресс поставил бы перед своими дипломатами задачу выторговать у англичан максимально приемлемые условия мира. Скорее всего американцам пришлось бы поступиться значительными территориями в штате Нью-Йорк и большей частью Юга. Вдобавок британцы могли предъявить претензии на земли к западу от Аппалачей, где вели кровопролитную войну союзные им индейцы. Рухнувший союз Америки с Францией оставил бы новорожденную республику в мире, где за Британией сохранялось положение доминирующей державы.
В Нью-Йорке энергичный сэр Генри Клинтон предложил Грэйвзу план спасения Корнуоллиса, заключавшийся в посадке большей части армии на суда и походу на Чесапик. Решительное совместное наступление генерала и адмирала могло определить исход войны, но, к глубочайшему сожалению сэра Генри, у Грэвза для подобного предприятия не хватило духу. Не отказываясь наотрез, он, под предлогом необходимости приведения в порядок потрепанных судов, всячески тянул время.
Наконец флот был приведен в готовность. Отплытие намечалось на 13 октября, но именно в этот день над Нью-Йоркской гаванью разразилась страшная буря. Могучий порыв ветра сорвал с якоря один корабль и швырнул его на другой, так что оба получили серьезные повреждения. Грэйвз, само собой, заявил, что не может выйти в море, пока все они не будут исправлены. Не в первый и не в последний раз погода сыграла в борьбе за независимость немаловажную роль.
Пятнадцатого октября французская и американская артиллерия превратила большую часть оборонительных сооружений Корнуоллиса в руины. Кроме того, нападавшим удалось захватить два ключевых редута, что позволяло обстреливать позиции англичан продольным огнем. Понимая, что близится момент, когда союзники предпримут решающий штурм, Корнуоллис отважился на весьма рискованный маневр.
В Глостере, за рекой Йорк, находился британский аванпост, окруженный по периметру небольшим отрядом из 750 французских солдат и некоторым количеством американских ополченцев, главной задачей которых было не допускать грабительских вылазок. Памятуя, возможно, о бегстве Вашингтона с Бруклинских высот, Корнуоллис решил в ночь на 16 сентября переправить большую часть армии через реку на паромах и на рассвете объявиться на Глостерских позициях. Оттуда он намеревался двинуться форсированным маршем к устью реки Делавэр, на соединение с британскими силами, имевшими штаб-квартиру в Нью-Йорке.
В то время, как союзная артиллерия продолжала безжалостно осыпать британцев ядрами, Корнуоллис снял свою легкую пехоту с передовых позиций и отправил к побережью, где солдаты погрузились на 16 тяжелых плоскодонок, управлявшихся моряками Королевского флота. К ним присоединились отборные подразделения Пешей Гвардии и Королевских Валлийских стрелков. На переправу и возвращение ушло около двух часов, так что принять на борт следующую партию суда смогли около полуночи. Но не прошло и пяти минут после погрузки, как поднялся ветер, по силе, согласно многим описаниям, ничуть не уступавший разогнавшему Британский флот урагану. Продрогшим на пронизывающем ветру, промокшим до нитки, вымотанным солдатам и матросам пришлось вернуться к побережью Йорктауна. Ветер стих лишь к двум часам ночи, когда переправлять оставшуюся часть армии было уже поздно. Семнадцатого октября, около 7 часов утра, граф и его первый заместитель, бригадир Чарльз О'Хара, в сопровождении адъютантов появились на передовых позициях: ущерб, нанесенный шквальным орудийным огнем союзников, поверг их в уныние. Командующий артиллерией доложил, что у него осталось не более сотни ядер к мортирам. Количество больных и раненых множилось с каждым часом.
Обратившись к своим офицерам с вопросом, следует ли им драться до последнего, Корнуоллис получил единодушный ответ — он обязан сдаться ради спасения жизней солдат, сделавших все возможное и гораздо больше. Молча кивнув в знак согласия, Корнуоллис обернулся к адъютанту и продиктовал ему свое историческое письмо.
«Сэр, я предлагаю вам приостановить боевые действия на 24 часа и назначить по два офицера от каждой из сторон... для обсуждения условий на постах в Йорке и Глостере».
Многие военные специалисты считают, что не случись той бури, Корнуоллису, возможно, и удалось бы ускользнуть. А не случись предыдущего шторма в Нью-Йоркской гавани, сэр Генри Клинтон, возможно добился бы от адмирала Грэйвза выхода в море 13 октября. В этом случае британцы добрались бы до Чесапика до 19 октября, прежде чем Корнуоллис успел подписать акт о капитуляции. Любая из приведенных альтернатив создавала возможность совершенно иного результата. Бегство Корнуоллиса поставило бы разочарованных, раздосадованных французов и американцев перед перспективой затяжной войны, на которую у них уже не оставалось ни денег, ни боевого духа. Америка могла поступиться большей частью своей, ставшей предметом торга на переговорах свободы. Поход Клинтона на Чесапик неизбежно повлек бы за собой масштабное морское и сухопутное сражение, победа в котором англичан представляется вполне вероятной. А эта победа означала бы для них возможность навязать измотанным американцам и побитым французам сколь угодно суровые условия мира. Но вышло иначе: удар союзников оказался нокаутирующим.
Что, если бы Джорджу Вашингтону не удалось пресечь заговор в Ньюбери?
В то время как война постепенно свелась к случайным стычкам между мелкими отрядами на Юге, на Западе и на северной границе штата Нью-Йорк, Американской Революции пришлось столкнуться с последним кризисом, едва не сделавшим всю долгую, тяжкую борьбу совершенно напрасной. И снова свобода была спасена лишь благодаря Джорджу Вашингтону — человеку на все времена.
В самом начале 1783 г. из Европы пришло известие о том, что Бенджамин Франклин и другие участники переговоров торжественно подписали мир на условиях признания независимости Соединенных Штатов и расширения американских владений до восточного берега Миссисипи. Оставалось лишь заключить мирный договор между Англией и Францией, но в континентальной армии отнюдь не все восприняли эту новость с восторгом.
Напротив, первый проблеск мира над горизонтом поверг часть офицерского корпуса в мрачное неистовство. Конгресс, годами не плативший им положенных денег, в 1780 г. пообещал всем пожизненную пенсию в размере половины жалования. Но теперь Конгресс больше в них не нуждался и ходили упорные слухи, что выполнять это соглашение власти не собираются. Антагонизм между законодателями и «джентльменами клинка», как прозвали офицеров некоторые враждебно настроенные конгрессмены из Новой Англии, возник давно, но теперь военные сочли необходимым разрешить давний спор, пока в их руках еще есть пушки.
Первым делом они направили в Конгресс делегацию во главе с генерал-майором Александром Мак-Дугласом из Нью-Йорка, выбор которого в качестве представителя уже сам по себе являлся своего рода демонстрацией. В начале 1770-х гг. этот горлопан и демагог приобрел известность как агитатор, уступавший разве что Сэму Адамсу. Офицеры требовали начала выплаты задолженности, торжественного обещания того, что она будет погашена полностью, и урегулирования вопроса об обещанной пожизненной половинной пенсией путем замены ее уплатой либо крупной суммы единовременно, либо полного жалования за ряд лет.
Тринадцатого января 1783 г. Мак-Дуглас встретился с Джеймсом Мэдиссоном, Александром Гамильтоном и другими конгрессменами. Мэдисон нашел, что глава военной делегации говорил «чрезмерно резко». Другой делегат, полковник Джон Руке, предупредил, что разочарование может подвигнуть армию на «крайние меры». Тринадцатого февраля Гамильтон, вышедший в отставку после Йорктауна, отправил Вашингтону письмо, где сообщал, что ситуация чревата взрывом.
Письмо Гамильтона пришло как раз вовремя. Офицеры из Ньюбери и члены военной делегации в Филадельфии составили опасный заговор. К числу его вожаков принадлежал помощник давнего недруга Вашингтона Горацио Гэйтса майор Джон Армстрог. Армстронг писал Гэйтсу, что окажись во главе войск вместо Вашингтона кто-нибудь вроде «Безумного Энтони» (Вэйна) «я и сам не знаю, на чем они остановятся», особенно если «смогут научиться думать, как политики».
Вскоре Армстронг и еще один человек Гэйтса, полковник из Пенсильвании Уолтер Стюарт, начали распространять в лагере в Ньюбери анонимные «адреса», призывавшую армию «не расходиться, пока не будет восстановлена справедливость». Потом появилось новое анонимное воззвание, призывавшее офицеров собраться и решить, что же им следует предпринять в отношении государства, «которое попирает ваши права, пренебрегает вашими мольбами и презирает ваши горести».
Предупрежденный письмом Гамильтона, Вашингтон отреагировал, немедленно и яростно. Сурово осудив несанкционированное собрание, он заявил о решительном намерении «арестовать всякого, кто вздумает занести ногу над краем ужасной пропасти». Он чувствовал, что с наступлением мира закладываются основы существования новой страны, и если армии сойдет с рук запугивание Конгресса, это станет для будущей Америки неисчерпаемым источником трагических коллизий.
Тринадцатого марта 1783 г. Вашингтон созвал офицеров лагеря в Ньюбери на официальное собрание. Оно состоялось в большом здании, которое называли «храмом» — по воскресеньям оно служило церковью, а в других случаях использовалось как танцевальный зал. Главнокомандующий произнес страстную речь, призывая людей, «если им дорога собственная священная честь», презреть призывающие к походу на Конгресс подметные письма и взглянуть с «крайним ужасом и отвращением» на тех, кто «готов под любым обманчивым предлогом погубить свободу нашей страны».
Слушали его внимательно, но лица людей оставались суровыми. Над ними все еще властвовало озлобление. Вашингтон завершил речь призывом повести себя так, чтобы потомки могли сказать «Не будь этого дня, мир никогда бы не увидел, до какого совершенства способна возвыситься человеческая природа». Однако напряженность в помещении не спадала.
Вашингтон достал из кармана письмо виргинского конгрессмена Джозефа Джонса, заверявшего, что Конгресс не остается глухим к нуждам армии, поколебавшись, извлек очки (о том, что ему приходиться пользоваться ими уже несколько месяцев, знали лишь ближайшие помощники) и сказал: «Джентльмены, позвольте мне надеть очки, ибо, служа вместе с вами, я не только поседел, но и почти ослеп».
Волна эмоций прокатилась по рядам собравшихся. Эта простая констатация факта оказалась гораздо действеннее любых призывов. Многие рыдали, не стесняясь слез. Зачитав письмо конгрессмена, Вашингтон удалился, предоставив офицерам принимать решение в его отсутствие. Они единодушно проголосовали за выражение благодарности командующему, доверия Конгрессу и осуждение анонимных писем.
Сообщение Вашингтона о результатах собрания в Ньюбери достигло Конгресса как раз вовремя, помешав законодателям объявить войну армии. Джеймс Мэдисон записал в своем журнале, что эта депеша развеяла «тучи, которые, похоже, сгущались». Конгрессмен Элифалет Дайер из Коннектикута предложил заключить соглашение: выдать пятилетнее жалование в виде ценных бумаг, с обязательством погашения их стоимости, как только правительства США станет платежеспособным. Офицеры согласились, и самый опасный кризис периода борьбы за свободу Америки миновал.
Говоря в отношении событий в Ньюбери о «крае пропасти», Вашингтон не преувеличивал. Не сумей он изменить умонастроение армии, революции грозила бы серьезная опасность. Армия могла выступить против Конгресса и продиктовать ему свои условия под дулами пушек, однако штаты, особенно такие большие, как Виргиния и Массачусетс, почти наверняка отказались бы признать подобную сделку. Попытка армии подвигнуть их к уступкам силой означала гражданскую войну. Не успевшая окрепнуть американская конфедерация дала бы трещину, создав для еще державших в Нью-Йорке армию и флот англичан сильное искушение возобновить свое участие в политической игре. Трудно представить себе, чтобы один из названных выше штатов вернулся в лоно империи, однако другие, те, в которых имелось влиятельное лоялистское меньшинство (например, Нью-Йорк или Нью-Джерси), возможно, вступили бы с англичанами в оборонительный союз для защиты от бесчинствующих континенталов.
Как известно, спустя много лет Джордж Вашингтон вел с секретарем Континентального конгресса Чарльзом Томпсоном переписку относительно написания мемуаров. Томпсон присутствовал практически на всех заседаниях Конгресса от его созыва до роспуска в 1788 г. Можно предположить, что им двоим было известно больше тайн, чем всему Конгрессу и армии вместе взятым. В конце концов, оба пришли к выводу, что идея опубликования вредна, ибо для американского народа будет слишком большим разочарованием узнать, как часто «Славное Дело» оказывалось на волосок от гибели. И тот и другой сошлись на том, что истинная причина победы Америки в восьмилетней борьбе за независимость заключается в двух словах «Божественное Провидение»
Аира Д. Грубер
Рискованная игра Джорджа Вашингтона
Аира Д. Грубер — профессор истории университета Райс.
К концу декабря 1766 г. британцы выбили потрепанные и деморализованные войска Вашингтона с Манхэттена и погнали их через Нью-Джерси. Срок службы оставшихся 1400 солдат истекал к концу года. В армии ощущалась острейшая нехватка продовольствия, одежды, одеял и палаток, тогда как тысячи простых жителей Нью-Джерси выражали готовность покориться британцам на условиях предложенной теми амнистии. Континентальный конгресс, предвидя неизбежную потерю Филадельфии, перебрался в Балтимор. По словам Томаса Пэйна, то было время «испытания человеческих душ».
Если бы в тот момент отчаянные атаки Вашингтона на британские аванпосты в Трентоне и Принстоне не увенчались успехом и британцы уничтожили его армию, это вполне могло стать концом восстания. Ведь вынужденный в таких обстоятельствах вести мирные переговоры Конгресс, вероятно, счел бы предложенные британцами условия (предложение заменить устанавливаемые парламентом налоги фиксированным колониальным взносом на нужды обороны империи) весьма привлекательными. Такие условия при таких обстоятельствах устроили бы и многих американцев.
Но коль скоро ставки при Трентоне и Принстоне были столь высоки, мы вправе задаться вопросом, сколь велик был риск и какова для поставившего все на карту Вашингтона вероятность проигрыша. При Трентоне, где Вашингтон имел численное превосходство, воспользовался преимуществом внезапности, а также тем, что гессенский гарнизон еще не проспался после празднования Рождества, риск был небольшим, но осуществленное им немногим более чем неделю спустя нападение на куда более многочисленных и готовых к отражению атаки англичан в Принстоне вполне могло закончиться катастрофой. Если бы Вашингтона обнаружили во время его долгого ночного марша, если бы гарнизон был объединен к моменту прибытия американцев или просто продержался подольше, Корнуолллис мог появиться на поле боя и ударить по измотанным бойцам Вашингтона. Этот удар мог оказаться роковым для репутации Вашингтона, для американской армии и для самой американской революции.
Дэвид Мак-Гиллоу
Что натворил туман
Дюнкерк революции, 29 августа 1776 г.
Что бы ни говорилось в пользу детерминистического представления о обусловленности и неизбежности исторических событий, что Т. С. Эллиот назвал «великими безликими силами», — случай и удача (явления близкие, но отнюдь не тождественные), тоже играют немаловажную роль. Как еще объяснить случившееся в середине августа 1776 г., когда сильно потрепанному в сражении у Лог-Айленда (Бруклин) небольшому войску Джорджа Вашингтона, противостоявшему гораздо более сильной, одной из лучших в мире, британской армии, грозило полное уничтожение. Как указывает Дэвид Мак-Гиллоу, тогда на кону стояла не менее чем сама независимость Соединенных Штатов. Однако в ход событий вмешались совершенно, как это часто бывает, непредсказуемые капризы погоды. Если что-то в этой истории и позволяет говорить о «неизбежности», так это как всегда проявленные Вашингтоном интуиция и чувство момента.
Дэвид Мак-Гиллоу — один из самых известных и популярных историков нашего времени. Его работа «Трумэн» удостоилась одновременно двух премий — Национальной книжной и Пулитцеровской (за биографическое исследование). Другой Национальной книжной премией было отмечено его повествование о строительстве Панамского канала «Путь между морями». Читатели хорошо знают такие его книги, как «Потоп в Джорджтауне», «Великий мост» и «Утренние прогулки верхом». Миллионам телезрителям он знаком как ведущий или гость различных телевизионных шоу — таких как программа «Американский опыт». Бывший президент Общества Американских историков, Мак-Гиллоу является также лауреатом премии Фрэнсиса Пикмена и Книжной премии газеты «Лос-Анджелес Тайме». В настоящее время он работает над биографией Джона и Абигайль Адамс.
«Близится судный день, в известной мере решающий для судьбы Америки», — писал в середине августа 1776 г. из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Джордж Вашингтон. Всего несколькими днями раньше, 8 августа (а не 4 июля, как принято считать), в Филадельфии была подписана Декларация Независимости — и вот уже на протяжении шести недель в Нью-Йоркскую гавань британский флот доставлял самый сильный королевский экспедиционный корпус, когда-либо посылавшийся за океан.
Первые британские парусу были замечены еще в конце июня, а весь могучий флот, по выражению одного очевидца, создавал впечатление, «будто весь Лондон спустился на воду». Такого зрелища у берегов Америки еще не видели. Корабли продолжали прибывать все лето. Тринадцатого августа Вашингтон узнал о приходе 96 судов за один день. На следующий день бросили якорь еще двадцать, а в конечном счете в гавани собралось более четырехсот судов — из них десять линейных кораблей, двадцать фрегатов и сотни транспортных кораблей. Тридцать две тысячи прекрасно экипированных британских и германских солдат (некоторые подразделения считались лучшими в мире), не встречая сопротивления, высадились на Стэйтен Айленд. Число вражеских солдат превосходило все население Филадельфии, самого большого города только что провозглашенных Соединенных Штатов.
Оборону Нью-Йорка считали важной задачей как Конгресс (главным образом, по политическим соображениям), так и генерал Вашингтон, приветствовавший приближение решающей битвы: по его собственному выражению, «судного дня». Правда, при этом он располагал всего двадцатью тысячами солдат, а флота — ни боевых, ни транспортных судов — не имел вовсе. Его армия представляла собой сборище плохо вооруженных волонтеров и необученных новобранцев. Снабжалась она весьма скудно, достаточно сказать, что у солдат не было палаток и лишь очень немногие имели штыки — оружие, использовавшееся британцами с устрашающей эффективностью. Как писал служивший под началом Вашингтона хирург: «...в плане численности, дисциплины и военного опыта... неприятель обладал решающим превосходством, не говоря уж о важности поддержки со стороны сильного флота».
Среди немалого числа людей, вовсе не рвавшихся сражаться, был и самый способный из офицеров Вашингтона, Натаниэль Грин. Немногие из американских командиров имели опыт широкомасштабных военных операций, да и сам Вашингтон до сих пор не выводил армию в поле. Ему еще предстояло дать свое первое сражение в качестве командующего.
Не имея представления о том, куда англичане нанесут удар, Вашингтон решил разделить свои силы: половину оставить на острове Манхэттен, а другую переправить через Ист-Ривер на Лонг-Айленд и занять позиции на утесах над рекой, известным под названием «Бруклинские высоты». Все это делалось в нарушение известного правила, предписывавшего никогда не разделять армию перед лицом превосходящего противника. Когда 22 августа британцы начали переправляться на паромах через пролив и высаживаться на юге Лонг-Айленда, в восьми милях от маленькой деревушки Бруклин, Вашингтон направил дополнительные силы через Ист-Ривер (заметим, вовсе не через реку, как могло бы следовать из названия, а морской пролив шириною в милю с очень сильными течениями).
«У меня нет сомнения, что в скором времени произойдут великие события», — эти слова из письма Вашингтона, адресованного президенту Конгресса Джону Хэнкоку, стали теперь классикой. Но по существу сложившаяся ситуация грозила обернуться для Америки катастрофой. Вашингтону, имевшему на Лонг-Айленде не более 12 тысяч, предстояло вступить в бой с примерно двадцатитысячной армией, а в случае если попытка остановить противника не увенчается успехом, отступать со своими плохо обученными солдатами, имея за спиной водный рубеж. Случилось последнее.
Ожесточенное сражение на Лонг-Айленде разыгралось во вторник, 27 августа 1776 года, в нескольких милях от Бруклинских высот. Англичанам под началом генерала Уильяма Хоу потребовалось немного времени, чтобы обойти американцев с флангов, смять и отбросить. Все подчиненные Хоу офицеры, в числе которых были Джеймс Грант, Генри Клинтон, лорд Корнуоллис и лорд Перси, проявили себе знающими командирами. «В общем, наших генералов перегенералили», — кратко высказался по этому поводу Джон Адамс.
Есть свидетельства того, что сидевший верхом на крупном сером коне и наблюдавший за ходом битвы со склона холма Вашингтон с горечью промолвил: «Всемогущий Боже! Каких бравых парней суждено мне сегодня потерять!» А согласно поздним оценкам, он и сам не знал подлинного размера своих потерь, составивших убитыми, ранеными и захваченными в плен свыше 1400 человек. Двух его генералов пленили, многие из лучших офицеров погибли или пропали без вести. Британские штыки не щадили и сдавшихся, по этому поводу один английский офицер высказался так: «На войне все средства хороши, особенно на войне против столь гнусных врагов короля и страны». Вашингтон с уцелевшими солдатами отступил к укреплениям на Высотах и, заняв позицию спиной к проливу, стал дожидаться ночи и финальной атаки англичан.
В этот момент судьба американцев повисла на волоске. Англичане, чего по-видимому не понимал (или не позволял себе понимать?!) Вашингтон, загнали его в почти идеальную ловушку. Чтобы отрезать противнику путь к спасению, им стоило всего лишь ввести в Ист-Ривер несколько кораблей. Битва тогда закончилась бы совсем по-иному, но все изменилось из-за капризов погоды.
Джордж Вашингтон в ловушке. Бруклинские высоты, 30 августа 1776 года
Вероятность произошедшего была ничтожна, а вот то, что хотя и не произошло, но случиться вполне могло, представить совсем не трудно.
Разумеется, индивидуальные планы обоих командующих сыграли свою роль в ходе сражения. Действия, предпринятые Хоу на второй день, явно диктовались опытом Банкер-Хилл: добившись успеха, генерал предпочел не закреплять его штурмом американских позиций на Бруклинских высотах. Он не видел ни малейших причин как для увеличения своих потерь сверх необходимого минимума, так и для спешки. По правде сказать, образ действий Уильяма Хоу почти всегда отличался неторопливостью, но на сей раз ему и вправду не было надобности спешить — ведь он загнал Вашингтона именно туда, куда и хотел.
Джордж Вашингтон, со своей стороны, кажется, даже не задумывался об отступлении, являвшемся для него единственным разумным выходом. Все его порывы сводились к одному — сражаться. В среду 28 августа и в четверг 29, при том что на позициях заканчивались припасы, а время, когда еще можно было отойти, стремительно истекало, он (решение, которому трудно найти объяснение) посылал в Нью-Йорк приказы о высылке к нему подкреплений.
При всей своей отваге и преданности командиру его голодные, измотанные солдаты не испытывали особого подъема духа, когда 29 числа, во второй половине дня, резко похолодало и на не имевшие никакого укрытия войска хлынул дождь. «На нас обрушился такой сильный ливень, какой трудно припомнить»,— записал в своем дневнике бруклинский пастор. Мушкеты и порох промокли. Окопы в некоторых местах залило так, что солдаты стояли в них по пояс в воде, и при этом им приходилось вести постоянное наблюдение за противником, ибо атака могла последовать в любой миг. Многим приходилось обходиться без сна. Один житель Нью-Йорка, увидевший солдат Вашингтона когда все уже закончилось, сказал, что «отроду не встречал бедолаг, выглядевших такими несчастными».
Но сам Вашингтон присутствовал на позициях днем и ночью. Люди чувствовали заботу о себе командира, двое суток (28 и 29 августа) почти не слезавшего с седла и практически не дававшего себе отдыха.
Но именно в горестном положении американцев коренилась надежда на спасение. Холод и дождевые тучи приносил с собой державшийся больше недели, порывистый, а временами просто неистовый ветер — тот самый, который не позволял английским судам, воспользовавшись приливом, подняться вверх по Ист-Ривер. То, что этот пронизывающий, злой ветер не стихал, оборачивалось великим благом для новой страны.
Правда, ее защитники об этом не догадывались. Как писал английский историк сэр Джордж Тревильян, в то время «девять тысяч (или более того) истощенных, павших духом солдат, в которых заключалась последняя надежда нации, зажатые между морем позади и торжествующим неприятелем впереди, сгрудились на одной квадратной миле открытой местности, насквозь продуваемой студеным и яростным северо-восточным ветром...»
В письме Джону Хэнкоку, написанном в 4 часа утра 29 августа (кульминационного дня сражения), Вашингтон сетовал на суровость погоды и на то, что Конгресс не удосужился обеспечить армию палатками, однако и словом не обмолвился об отступлении. Он видел, как пять английских кораблей потерпели неудачу, попытавшись подняться по Ист-Ривер, и, таким образом, вероятно не рассчитывал на перемену ветра. Возможно, он также полагал, что корпуса затонувших в гавани кораблей надежно блокируют вход в пролив для всех судов, кроме имеющих очень малую осадку. Забегая вперед, можно сказать, что это предположение являлось ошибочным, да и в любом случае он был очень близок к тому, чтобы, уже подвергнувшись обходу по суше с флангов, оказаться обойденным еще и по воде с тыла.
Решение, напрашивавшиеся, казалось бы, само собой, созрело лишь вечером, после того, как сделалось очевидным, что англичане, используя тактику «постепенного продвижения», под покровом темноты ведут окопы в направлении американских позиций (а, возможно, и того, как Вашингтон допустил, наконец, вероятность появления английского флота у него за спиной). Важно, что, как подчеркивает сам Вашингтон, принято оно было «по совету ...старших офицеров».
По свидетельству одного из очевидцев, самым настойчивым из этих «советчиков» являлся самоуверенный тридцати двух летний «боевой квакер» из Филадельфии Томас Миффин. Именно Миффин, лишь сутки назад прибывший на позиции с подкреплением из Нью-Йорка, во время ночного обхода обнаружил продвижение вперед линии английских окопов и заявил Вашингтону, что единственным выходом является немедленное отступление.
А дабы никто не счел его предложение свидетельством малодушия, он взял на себя самую опасную при отступлении задачу — вызвался командовать арьергардом. Чтобы укрыться от по-прежнему нещадно хлеставшего дождя, Вашингтон и его офицеры собрались на военный совет в располагавшемся на Бруклинских высотах загородном доме находившегося в то время в Филадельфии на Конгрессе Филиппа Ливингстона, одного из тех, чья подпись стояла под Декларацией Независимости. Цель встречи, в соответствии с официальным протоколом, заключалась в том, чтобы определить «действительно ли в сложившихся обстоятельствах единственным выходом является уход с Лонг-Айленда?» Принятию положительного решения способствовали возможность перемены ветра и признание того факта, что едва ли стоит тешиться надеждой на непреодолимость преграды, созданной в гавани затонувшими кораблями.
Приняв решение, командиры без промедления занялись подготовкой эвакуации. Вашингтон направил в Нью-Йорк приказ собрать все суда и лодки «от Хеллгейта (на проливе Лонг-Айленд) до Спайтен Дайвил-Крик (на Гудзоне), которые можно спустить на воду и на которых имеются паруса либо весла и под покровом тьмы перевести их к восточной оконечности гавани».
Личному составу объявили, что сбор судов осуществляется для отправки в тыл раненых и доставки к Бруклину подкреплений, но всем офицерам на Высотах предписывалось «к 7 часам выстроить солдат по подразделениям с оружием, снаряжением и уложенными ранцами и ждать дальнейших приказов».
Ложь, на которую пошел в данном случае Вашингтон, предназначалась для того, чтобы до последнего момента скрыть от солдат правду и, таким образом, свести к минимуму возможность возникновения паники. А также для того, чтобы ввести в заблуждение англичан, наверняка узнавших о сборе судов от своих бесчисленных шпионов в Нью-Йорке.
В большинстве подразделений полученный приказ о построении с полной выкладкой восприняли как указание на то, что утром их бросят в атаку. Как вспоминал молодой капитан пенсильванских добровольцев Александр Грэйден, некоторые сочли нужным составить завещания, однако самого его не покидало ощущение, будто затевается нечто особенное. «Неожиданно меня осенило: готовится отступление, а приказ... всего лишь прикрытие для истинного плана», — писал он, однако добавлял, что никто из офицеров, с которыми ему пришло в голову поделиться своей догадкой, не принял ее на веру. Впоследствии, вместе с воспоминанием о долгом ожидании, ему всякий раз приходил на ум хор из шекспировского «Генриха V», где описывается «ночь томительного бдения» перед Азенкуром.
Едва стемнело, первые лодки начали переправу. Трудно представить себе, как удалось все это осуществить. В ход пошли все, даже самые утлые плавающие средства, управление которыми доверили подчиненным генерала Джона Гловера и полковника Израэля Хатчинсона, солдатам из Массачусетса, бывшим в мирной жизни моряками и рыбаками в Сайлеме и Марблхеде. Можно сказать, что судьба американской армии была в их руках. Они, как никто другой, понимали, что на воде та ночь могла обернуться не меньшим бедствием, чем на суше.
Переправляли все — солдат, припасы, лошадей и пушки. Чтобы сохранить тишину, предприняли меры предосторожности: весла, копыта и колеса обмотали тряпками, приказы передавали шепотом. С отправкой первого судна в непроглядной ночи под проливным дождем началась смертельная гонка.
Был миг, когда казалось, что все пропало. Около девяти часов отлив совпал со столь резким усилением северо-восточного ветра, что парусным судам не удавалось справляться с течением, а весельных явно не хватало, чтобы переправить всю армию до наступления дня. Однако через час ветер сжалился и утих, а потом и вовсе сменился на более благоприятный юго-западный, что позволило вновь задействовать всю спасательную флотилию.
Час проходил за часом, но переправа продолжалась без сучка и задоринки. Если когда-либо фортуна действительно благоволила отважным, так это имело место в ту ночь на Ист-Ривер. Вашингтон, по правде сказать, не выказавший в первом, данным им в качестве командующего, сражении талантов великого стратега, свое первое крупное отступление провел блестяще, сочетая решимость и быстроту со знанием дела. И его усталое, промокшее воинство тоже не ударило в грязь лицом. На холоде, под проливным дождем солдаты часами дожидались своей очереди на погрузку, бесшумно, как привидения, спускались к крохотной, не различимой во тьме Бруклинской пристани (туда, где ныне находится Бруклинский мост) и в полном порядке всходили на борт.
По мере того как сгущалась ночь и полки один за другим покидали позиции, передовая линия опасно редела. Если бы враг узнал, что происходит, и бросился в атаку, задержать его было бы некому, кроме арьергарда Маффина. Этому отряду надлежало жечь костры, поднимать шум и всячески поддерживать иллюзию того, что американская армия не покидала высот.
Единственный сбой произошел около двух ночи, когда Маффин получил приказ на отход и уже на пути к пристани узнал, что произошла ужасная ошибка и ему следует немедленно вернуться к оставленным постам. «Для молодых солдат то было нелегкое испытание, — написал впоследствии один из бойцов, — однако они с ним справились». Отряд вернулся на позиции прежде, чем англичане успели заметить его отсутствие.
Другой офицер, полковник Бенджамен Толлмадж, вспоминал, что «по мере того, как близился рассвет, остававшихся в окопах охватывало все большее беспокойство за собственную жизнь ...»
Эвакуировать предстояло еще очень многих и, судя по тому, как шли дела, казалось, что день настанет раньше, чем войска успеют завершить переправу. И снова на выручку американцам пришла «стихия», на сей раз в виде густого, как гороховый суп, тумана.
Впоследствии этот туман называли «подлинным чудом», «явным вмешательством Провидения», «знаком благоволения», «чудесным туманом», «дружеским туманом», «американским туманом». «Воздух сделался настолько плотным,— вспоминал тот же Толлмадж, — что я едва мог различить человека на расстоянии шести ярдов».
Когда настало утро, туман не рассеялся и продолжал прикрывать операцию не хуже, чем ночная тьма. Толлмадж пишет, что когда арьергард получил наконец приказ отходить и «мы радостно распрощались с теми окопами», пелена оставалась «все такой же густой».
«...Когда мы добрались до Бруклинской пристани, лодки еще не вернулись, но очень скоро они появились и перевезли весь полк в Нью-Йорк. Мне показалось, что уже садясь в одну из последних лодок, я увидел на ступенях пристани Джорджа Вашингтона...»
Когда около семи утра туман наконец рассеялся, англичане с изумлением обнаружили, что противник исчез.
Поразительно, но всю армию числом в девять, если не более тысяч человек, с амуницией, провизией, лошадьми и полевой артиллерией за вычетом пяти тяжелых пушек, слишком глубоко увядших в грязи, удалось переправить через пролив всего за одну ночь с помощью собранной для этой цели за считанные часы лодочной флотилии. При этом никто не погиб и даже неизвестно, был ли кто-нибудь ранен. Если верить Толлмаджу, Вашингтон, рискуя попасть в плен, оставался на берегу до отплытия последней лодки. Единственными американцами, попавшими в руки англичан, оказались трое солдат, не покинувших остров в надежде поживиться брошенным добром.
«Судный день», которому, в соответствии с предвидением Вашингтона, предстояло решить судьбу Америки, оказался «судной ночью», что действительно оказала на будущее страны не меньшее влияние, чем любое из самых знаменитых сражений.
То был подлинный Дюнкерк Американской Революции: рискованная водная операция спасла армию и принесла Вашингтону глубочайшее уважение со стороны солдат, офицеров, членов Конгресса, военных теоретиков и историков — как современников, так и потомков. Впоследствии один из исследователей написал, что «операция такого рода никогда не выполнялась с большим искусством».
Но при этом она постоянно находилась на грани провала. Все могло пойти совсем по другому еще во время битвы за Лонг-Айленд, не поднимись тогда помешавший англичанам войти в пролив северо-восточный ветер. Или не сменись он на юго-западный в решающую ночь переправы.
Или не приди на смену ночной тьме спасительный для отступавших густой туман.
Ярким примером того, к каким последствиям могло привести появление в тылу защитников Бруклинских высот британских судов, служат события, произошедшие всего неделю спустя. Тогда при благоприятном течении и ветре пять королевских кораблей, включая пятидесятипушечный «Ринаун», поднялись по Ист-Ривер до Кипс Бэй и с расстояния в двести ярдов принялись прямой наводкой громить американские укрепления на Манхэттене. «Мало кому и в армии, и на флоте приходилось слышать столь ужасающий и непрестанный грохот орудий», — писал об этом один английский морской офицер. Земляные валы были разбиты в пыль, траншеи уничтожены в Считанные мгновения, а их защитники в панике бежали.
Окажись эта грозная сила в тылу Бруклинских высот, ловушка захлопнулась бы намертво. Вместе с Вашингтоном в мешок попала бы половина Континентальной армии, что грозило стать концом Американской Революции. Будущее убедительно показало, что без Вашингтона революция победить не могла. Как писал историк Тревельян: «Перемена ветра и появление английских фрегатов в тылу у Бруклина отсрочили бы завоевание Америкой независимости на неопределенное время».
Знаменательно то, что пять лет спустя Бруклинским событиям суждено было повториться, только вот стороны поменялись местами. Американцы и французы под командованием Вашингтона и Рошамбо поймали англичан в западню у Йорктауна, а зашедший им в тыл французский флот сделал отступление невозможным, не оставив лорду Корнуоллису и более чем семи тысячам его солдат никакого выхода, кроме плена.
Говорят, что, получив донесение о случившемся у Йорктауна, премьер-министр Англии лорд Норт воскликнул: «О Боже! Все кончено!» Вполне возможно, такое восклицание прозвучало бы в Конгрессе летом 1776 г., не поднимись над Бруклином судьбоносный ветер и не сгустись спасительный туман.
Алистер Хорн
Повелитель мира
Упущенные возможности Наполеона
Даже признавая за Наполеоном право именоваться самой выдающейся исторической личностью девятнадцатого столетия, мы должны согласиться, что эта личность вызывает отнюдь не только восторг. Ему ничего не стоило принести в жертву своему честолюбию целое поколение европейцев. Жизнь людей, готовых на все ради достижения своих целей, всегда открывает прекрасные возможности для контрафактуальных спекуляций. Равных в этом отношению Наполеону будущее не знало до появления Гитлера. Наполеон был человеком, не знавшим, когда следует остановиться. Но кто знает, что было бы, если бы он остановился, когда следовало.
В настоящей работе английский историк Алистер Хорн рассматривает некоторые из, на его взгляд, упущенных Наполеоном возможностей. Мог ли Бонапарт успешно совершить в 1805 г. вторжение в Англию? Был ли он прав, продав территорию Луизианы новорожденным Соединенным Штатам? Насколько близок был этот Великий Игрок к поражению в Центральной Европе в ходе кампании, завершившейся триумфом Аустерлица, и не последовали ли бы за этим скорое появление на европейской сцене объединенной Германии и века смут? Что, если бы вместо нападения на Россию Наполеон предпочел по примеру Александра Македонского вторгнуться через Турцию на Ближний Восток и создать угрозу Британской Индии? Что, если бы герцог Веллингтон согласился, как ему предлагали, принять командование Британской армией в Америке? Возможно, он выиграл бы для Англии войну 1812 г. , но его не оказалось бы под Ватерлоо. Но можем ли мы сказать, какими бы стали Европа и весь мир, сумей Наполеон совершить при Ватерлоо очередное «чудо»?
Алистер Хорн, доктор литературы Кембриджского университета, командор орденов Британской Империи и Почетного Легиона (Франция). Автор таких примечательных исторических исследований, как «Падение Парижа: Осада и Коммуна, 1870— 1871 гг.», «Цена славы: Верден, 1916 г.», «Проиграть сражение: Франция, 1940 г.», «Дикая война ради мира: Алжир, 1954— 1962 гг.», а также двух книг о Наполеоне: «Властитель Европы. 1805 — 1807» и «Как далеко до Аустерлица?»
На протяжении примерно двух десятилетий изумительной карьеры Наполеона возникало немало моментов, когда история вполне могла обернуться совсем иначе. И его противникам и ему самому не раз предоставлялся выбор. Возможно, окажись он другим, Наполеон до конца остался бы на вершине власти? Кто знает, как повлияла бы на будущее Европы предположительная победа Наполеона под Ватерлоо.
По словам историка Джорджа Руде, Наполеон был «...человеком действия и быстрых решений, поэтом и мечтателем, мечтавшим о завоевании мира, выдающимся реалистом и в то же время вульгарным авантюристом, азартным игроком, всегда делавшим высочайшие ставки». Он появился на исторической сцене в тот благоприятный момент, когда революция уже выдохлась и создались условия для того, чтобы политические судьбы Европы (и Мира!) надолго оказались в руках сильной личности.
Директория, сменившая диктатуру Робеспьера 1792 — 1794 годов, представляла собой слабое и разобщенное правительство. (В известном смысле с ней можно сравнить пришедшие к власти в России после долгих лет господства сталинизма режимы Горбачева и Ельцина.) 1799 год вполне мог стать годом примирения для народов Европы, проливавших кровь с тех пор, как Францию захлестнула волна Революции[171]. Но четырьмя годами раньше один двадцатишестилетний генерал сделал себе имя «дымом крупной картечи», утихомирившей парижскую чернь[172]. Свои первые крупные победы Наполеон одержал в Италии в 1796—1797 годах[173], еще не достигнув тридцатилетия, а в результате переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 года) он оказался фактическим правителем Франции. Вскоре после этого национальный плебисцит подтвердил его верховенство, сделав пожизненным консулом. Взлет Наполеона к вершине власти разрушил какие-либо надежды на скорое примирение с Англией[174], особенно после того, как он убедил Директорию организовать под его началом злосчастную экспедицию в Египет. Однако французы вплоть до 1803 г. воспринимали Наполеона как миротворца и лишь потом увидели в нем завоевателя и создателя империи. Что и приветствовали, ибо (как и немцы в пору легких успехов Гитлера) шли вперед за счастливой звездой своего вождя, пока дела не испортились окончательно.
Недолгий период Амьенского мира[175] (названный Уинстоном Черчиллем «коротким туристическим сезоном») предоставил враждующим сторонам реальную возможность урегулировать разногласия путем переговоров. Но ни Англия Питта, потерпевшая ряд неудач, но твердо настроенная сохранить Мальту[176], ни Наполеон, доказавший свое превосходство на суше, хотя в море королевский флот нередко расстраивал его планы, не были к этому готовы. Достижение компромисса представлялось невозможным до тех пор, пока несговорчивому Питту противостоял непобедимый на суше Наполеон.
В во время мира Наполеон занимался внутренними делами, но проводя во Франции социальные и законодательные реформы, он уже планировал будущие внешние завоевания. Самым удачным его ходом во внешней политике этого периода стала продажа Луизианы молодым Соединенным Штатам[177]. Это позволило обеспечить если не открытую поддержку, то во всяком случае благожелательный нейтралитет американцев на случай будущего конфликта с Англией. Конечно, он мог и дальше извлекать выгоды из обладания огромной территорией, являвшейся прежде частью Испанской колониальной империи, но это почти наверняка привело бы его к противостоянию со Штатами, ссориться с которыми было не на руку ни ему, ни Питту.
Правильность решения Наполеона становится еще более очевидной, если вспомнить развернувшуюся еще при «старом (королевском) режиме» долголетнюю и дорогостоящую борьбу между Францией и Англией за острова Карибского бассейна. Последние считались, заметим, самыми ценными владениями в Новом Свете. На протяжении двадцати двух лет войны с Францией большая часть британских потерь приходилась на походы Питта в Вест-Индию, причем люди гибли не столько от пуль, сколько от желтой лихорадки. Она же унесла жизни девяти десятых от числа участников экспедиции, посланной Наполеоном в 1802 г., дабы вернуть богатый сахаром остров Санто-Доминго (ныне Гаити). Жертвой болезни пал и командующий французами генерал Леклерк, муж сестры Наполеона Полины. Из тридцати четырех тысяч французов в живых осталось лишь три. Хотя глаза Наполеона еще не раз обращались к утраченным Карибским жемчужинам, после провала Доминиканской экспедиции и продажи Луизианы его активность в Новом Свете (к огромному облегчению Вашингтона) фактически сошла на нет. У послереволюционной Франции попросту не имелось военно-морских сил, достаточных для обеспечения своего постоянного присутствия на Американском континенте, и попытка утвердиться там сделала бы французские экспедиционные силы легкой добычей британского флота. Такого рода сценарий был бы попросту нежизнеспособным. Да и многие другие возможные варианты действий Наполеона в заметной степени обусловливались тем, что как морская держава Франция серьезно уступала Великобритании. Французский флот так и не смог оправиться от урона, нанесенного ему в годы Революции. В то время как Наполеон одерживал победы на суше, молодой Нельсон уничтожил его суда[178] в 1798 г., а спустя три годы тот же урок был преподан французам у Копенгагена[179]. Несмотря на все это, в июле 1803 г. Наполеон объявил о создании «Национальной флотилии» с целью немедленного вторжения в Англию. Историки продолжают спорить, действительно ли Наполеон имел подобное намерение, однако, согласно многим свидетельствам, он, как и Гитлер, сделал бы это, если бы смог.
Так же как и Гитлер, он обладал решающим превосходством в сухопутных силах, которые в случае удачной высадки могли просто «затопить» остров. Еще в 1797 г. была предпринята попытка завоевания Ирландии, но ее сорвал шторм. Поднятое на следующий год при подстрекательстве Франции Ирландское восстание англичане жестоко подавили. Разбили они и высадившийся два месяца спустя французский десант. Ирландский вариант оказался тупиковым, и не мог стать иным, во всяком случае до тех пор, пока морские подступы к Британским островам контролировал Королевский флот. Еще в начале XIII века, когда мятежным баронам удалось на короткий срок утвердить в Вестминстере французского правителя[180], последовавшая в следующем году вспышка английского патриотизма привела к полному уничтожению французского флота в сражении при Кале. С тех пор Франция, какого бы могущества ни достигала она на суше, редко добивалась успеха в морском противостоянии с англичанами.
Тем не менее Наполеон приступил к строительству флота вторжения из более чем тысячи барж. Эти неуклюжие, плоскодонные и не имевшие киля суда идеально подходили для высадки на песчаные пляжи и могли заходить в устья британских рек, однако были совершенно не пригодны для плавания в открытом море: даже учения не обходились без крушений и человеческих жертв. Многие британцы воспринимали угрозу вторжения серьезно, но «Правитель Королевского флота» адмирал «Джарви» Сент-Винсент был прав, когда говорил: «Я вовсе не утверждаю, будто французы не могут прийти. Я только утверждаю, что они не могут прийти морем». Сам Наполеон после Египетской кампании признавал: «Не будь англичан, я стал бы императором Востока, но повсюду, где только находится вода, куда можно спустить корабль, они непременно встречаются на нашем пути». Хотя Питт в то время не располагал заслуживавшей внимания армией, британское золото поддерживало противников Франции на континенте, а британский флот неоднократно срывал честолюбивые замыслы Наполеона.
С возобновлением военных действий в 1804 г. Нельсон имел пятьдесят пять кораблей против французских сорока двух, из которых в полной готовности пребывали только тринадцать. Однако Наполеон разыграл рискованную комбинацию: направил эскадру адмирала Вильнева в поход длиной 1400 миль в Вест-Индию, что должно было отвлечь Нельсона и обеспечить французам превосходство сил на Ла-Манше на срок, достаточный, чтобы осуществить вторжение. Наполеон, с присущим ему избыточным оптимизмом, решил, что для этого хватит двадцати четырех часов. «Мы на борту и в полной готовности», — заявил он своим адмиралам. Все лето 1805 г. Англия Питта (точно так же как в 1940 г. Англия Черчилля), затаив дыхание, ждала вражеского вторжения, в то время как Наполеон на утесах Булони проклинал «гнусный ветер» и своих адмиралов. Его подвели и люди, и погода. Нужные двадцать четыре часа так и не наступили. И снова Наполеон поступил так же, как впоследствии Гитлер: резко изменил направление главного удара и повернул на восток. К концу августа двухсоттысячная «Великая Армия» уже двигалась к австрийским владениям навстречу объединенным силам Австрии и России.
Угроза Британии отпала. Но существовала ли она в действительности? Могло ли «вторжение 1805 г.» завершиться успехом, и стоило ли вообще его затевать? Пожалуй, столь азартный и не склонный беречь солдатские жизни игрок, как Наполеон, вполне мог счесть это мероприятие стоящим риска. Однако королевский флот во всех отношениях (и качествами судов, и выучкой команд, и подбором командиров) превосходил французский настолько, что кости скорее всего выпали бы против него. Трудно было рассчитывать на успех, пытаясь вести игру в стихии, которая и для самого Бонапарта и для его столь непобедимых на суше маршалов была, да так и осталась, непонятной и чуждой. Приведем знаменитые слова французского адмирала Мохана, сказанные два месяца спустя по поводу Трафальгарской битвы: «Эти далекие, потрепанные ветрами суда, которые Великая Армия не удостаивала внимания, стояли между нею и господством над миром».
Заключенная в этих словах истина преследовала Наполеона до самого острова Св. Елены.
После невероятно быстрых переходов и блистательных маневров Наполеон 2 августа 1805 г. одержал под Аустерлицем величайшую из своих побед. Имея всего 73 тысяч солдат и 139 пушек, он наголову разбил объединенную армию Австрии и России, насчитывавшую 85 тысяч человек и имевшую двойное превосходство в орудиях[181]. И под Аустерлицем и ранее при Ульме Наполеон великолепно планировал сражения и отдавал себе отчет в каждом решении, однако на востоке Европы, в глубине вражеской территории, риск был чрезвычайно велик и в ходе кампании не раз возникала возможность иного поворота событий.
Что, если бы неспешно тащившаяся по дорогам русская армия все же успела соединиться с австрийским генералом Маком до разгрома последнего при Ульме[182]?
Что, если бы Россия вступила в войну раньше и русские полки атаковали растянутые фланги Наполеона...
Что, если бы под Аустерлицем русский генерал Кутузов не принял решающего сражения, а применил тактику, принесшую ему успех в 1812 г...
И что, если бы Наполеон провел битву под Аустерлицем столь же небрежно, как ту, которую год спустя дал под Иеной куда более замуштрованным пруссакам...
Обдумывая все это, я прихожу к выводу, что у истории не раз возникал шанс пойти другим путем. Ход игры мог оказаться иным, нежели то виделось главному игроку. Даже в ходе самого Аустерлицкого сражения был момент, когда успех или неуспех французов полностью зависел от быстроты спешившего из Вены маршала Даву. Но представим себе на месте Даву тщеславного, медлительного и некомпетентного «Belle-Jambe» Бернадота[183], чье прискорбное поведение едва не стоило Франции победы под Йеной в 1806 г. и кого Наполеон подверг опале у Варгама в 1809 г.
Трудно представить себе, как смог бы перенести Наполеон поражение при Аустерлице. Это означало гибель Великой Армии в центре Европы, в тысяче километров от Парижа, а вполне возможно, и собственное пленение! А между тем всего двумя месяцами ранее на другом конце Европы Нельсон нанес ему не менее ощутимое поражение. Со дня провалившейся при Трафальгаре попытки обрести свободу действий в открытом море Наполеон вынужден был при совершении каждого маневра, при принятии каждого решения иметь в виду это ограничение. Вот фактор, который невозможно переоценить.
Поражение французов при Аустерлице могло повлечь за собой еще более серьезные последствия. Уже не потребовалось бы битвы при Ватерлоо, а значит, мир, в котором народам предстояло прожить после нее целое столетие, не стал бы Pax Britannica. Добыв победу силой объединенных под его началом австрийских и русских войск, генерал Кутузов создал бы условия для такого послевоенного устройства мира, какое было бы продиктовано царем Александром. Итогом могло стать укрепление тяготевшей в то время к распаду империи Габсбургов. Существенно, что сама Россия вернулась бы в довоенные границы, разве что несколько расширившись за счет Оттоманской Турции. Совсем иная историческая судьбы ждала бы Пруссию. Не подвергаясь военной опасности и не имея необходимости в объединении Германии под своей эгидой, она осталась бы второстепенным государством, едва ли способным угрожать в будущем общеевропейскому миру. Основным политическим результатом Аустерлицкого торжества союзников должно было стать эффективное и быстрое восстановление в Европе status quo ante[184].
Как уже отмечалось выше, сражение с пруссаками под Йеной-Ауэрштедтом[185] было разыграно отнюдь не с безупречностью Аустерлица. Столь же «шероховаты» и последние кровопролитные битвы с русскими при Пресиш-Эйлау и Фридланде. К тому времени кости при каждом броске падали благоприятно для Наполеона, ибо успех порождает успех, победа — победу. Но в более широком историческом плане триумф Наполеона в 1805—1807 гг. таил в себе опасность. Его победы были слишком велики, а унижение противников на континенте — Австрии, России и Пруссии — слишком глубоко для того, чтобы они могли смириться со свершившимся, не помышляя о мести. Возможно, без грандиозного торжества Аустерлица не было бы и никакого Ватерлоо. В 1807 г. будущее державы Наполеона следовало определять уже не генералам, а дипломатам. Точнее сказать, Генри Киссинджеру своего времени, бывшему епископу, ставшему министром иностранных дел, Шарлю Морису Талейрану де Перигору.
Конечно, с утверждением, что, не закружись у Наполеона голова от череды казавшихся нескончаемыми успехов, Талейрану было бы легче, можно поспорить, однако победа Пруссии над Францией в 1871 г. убедительно доказала, что из чрезвычайно удачливых полководцев далеко не всегда получаются такие же дипломаты. Девятнадцатого июня 1807 г. кавалерия Мюрата вышла к реке Неман, находившейся более чем в тысяче миль от Парижа и являвшейся западной границей России. Послы царя Александра встретили там французов с предложением о прекращении военных действий.
На следующей неделе два государя встретились на середине реки, на спешно сколоченном плоту, чтобы договориться о будущем материка. Когда Наполеон взошел на плот, ему было 37 лет и он воистину являлся властелином Европы, однако на свою беду, видимо, мыслил себя, по выражению Томаса Вулфа, еще и «властителем Вселенной». Земли от Гибралтара до Вислы и даже дальше на восток управлялись им или непосредственно, или через его вассалов и ставленников. Как писал Уинстон Черчилль: «Он господствовал надо всей Европой... Император Австрии являлся его запуганным и подобострастным сателлитом, король Пруссии со своей прекрасной королевой были нищими и чуть ли не пленниками в его свите. Братья Наполеона правили как короли в Гааге, Неаполе и Вестфалии...»
До Аустерлица Наполеон внушал страх, но после Тильзита Европа взирала на него с ужасом. Его завоевания за последние десять лет, бесспорно, не уступали по размаху деяниям Александра Великого. При этом если Александр вел войска по безлюдным просторам Персии и Индии, расправляясь с почти не оказывавшим сопротивления населением, то Наполеон прошел более тысячи миль по враждебной Европе, покоряя великие державы и разбивая могущественные армии. Однако здесь трудно не провести тревожную параллель: Александр ставил своей целью не менее чем достижение «края света» и остановиться в Персеполисе просто не мог. Поход в Индию через пустыни Персии погубил его.
А мог ли остановиться Наполеон? На плоту посреди Немана у него был выбор. Ему предоставлялась прекрасная возможность мирными средствами закрепить военные успехи. Ничто не мешало ему войти в историю в качестве государя — объединителя Италии, тем более что как корсиканец по крови он был ближе к итальянцам, чем к французам. Милан, один из немногих покоренных городов, где имя Наполеона и поныне окружено почетом, поражает гостей памятниками завоевателю и проспектами, названными в его честь.
Была у него и другая возможность — посвятить всю свою исключительную энергию преобразованию Франции и преображению Парижа. Он хотел, как заявлял сам в 1798 г., сделать его «прекраснейшим городом мира, самым красивым не только из когда-либо существовавших, но и из тех, что будут существовать».
«Я желал сделать Париж городом с двумя, тремя или четырьмя миллионами населения, чем-то изумительным, грандиозным и до наших дней никогда не существовавшим... Если бы небеса даровали мне еще двадцать лет и немного свободного времени, вы бы тщетно искали старый Париж».
Но изо всех его широкомасштабных строительных проектов в жизнь воплотились лишь немногие, а мечте превратить Париж в гигантский монумент величию и славе его правления не суждено было сбыться именно из-за непомерности его военных амбиций.
Тильзит оказался для Наполеона порогом, последней возможностью сделать правильный выбор до того, как ему изменит удача. Вернувшись к Неману всего пять лет спустя, он был на пути к своему первому великому поражению и последовавшему за этим закату.
Коварный и проницательный Талейран понимал важность верного выбора и опасность неверного гораздо лучше своего императора. Он выступал против навязывания побежденным противникам унизительных условий мира. Особенно бесцеремонно (наложив тяжелейшие репарации и расчленив все их территории к западу от Эльбы) Наполеон обошелся с гордыми пруссаками. Это привело к росту национального самосознания, способствовавшего всем победам Пруссии над Францией начиная с 1813 г. Не уязвленная ли гордость заставила Пруссию возглавить объединенную Германию и жестоко посчитаться с Францией в 1870, 1914 и 1940 гг.?
Талейран надеялся на великодушие Наполеона по отношению к Австрии, что могло обеспечить равновесие сил в Восточной Европе и сделать эту страну барьером против России, ибо в конце концов злополучный австро-русский союз 1805 г. являлся случайным и противоестественным. Но вместо этого Австрия, как и Пруссия, оказалась оскорбленной и мечтающей о возмездии.
Россия после Тильзита стала формально союзницей Наполеона. Однако и она чувствовала обиду и раздражение. Воссоздание у самых границ России, на землях, традиционно считавшихся сферой ее влияния, Польши (Великого герцогства Варшавского) Александр воспринял так же, как Ельцин в 1990-х гг. расширение НАТО на восток. Союз, заключенный Наполеоном в интересах продолжения его кампании против Британии, являлся искусственным и непрочным. Наполеон заставил царя присоединиться к направленной на удушение Англии «Континентальной блокаде», но тот пошел на это без малейшей охоты[186].
Такого рода комбинации отнюдь не устраивали Талейрана, больше всего стремившегося положить конец пятнадцатилетней войне, разорявшей Францию еще со времен Революции. В его глазах оставивший Францию без друзей Тильзитский мир являлся не более чем прелюдией к новой войне, и он не ошибался. Недовольный развитием событий Талейран по сути решился на измену, предложив свои услуги царю[187]. Правда, сам дипломат отвергал все обвинения, заявляя, что это был лишь «вопрос времени» — казалось предпочтительным предать Наполеона прежде, чем тот погубит страну. А в Париже известие о заключении Тильзитского мира было встречено с явно большим восторгом и ликованием, нежели того заслуживало.
Но чего мог бы добиться Наполеон, последовав в Тильзите рекомендациям Талейрана? Опираясь не на военное принуждение, а на убеждение и дипломатию, он мог распространить некоторые привлекательные административные аспекты бонапартистской системы на всю Европу. Это с течением времени создало бы возможность установления над важными для британской экономики рынками куда более эффективного контроля, нежели жесткая «Континентальная блокада», бившая по партнерам Франции на материке куда больнее, чем по Англии.
В стратегическом плане у него имелась возможность добиться поддержки царя в организации угрожавшего самой основе британского владычества в Индии похода через Турцию и Ближний Восток. Мечта о таком походе посещала Наполеона еще со времен неудачной Египетской кампании 1798 г., и в этом вопросе он вполне мог встретить понимание России, чьи интересы постоянно пересекались с британскими в Центральной Азии[188]. На Ближнем Востоке Наполеон не встретил бы серьезного противодействия, а ислам, вполне вероятно, сумел бы поставить на службу интересам своей империи, определив ему место в одном строю с прочими религиями.
Впрочем, мы вправе вспомнить о судьбе воинов Александра Великого, во множестве сгинувших от болезней в страшных пустынях Персии и Белуджистана. То же могло случится и с солдатами Великой Армии — да и случилось, только не в песках, а на необозримых просторах России. К тому же при сохранявшемся господстве Британии над морями любые растянутые коммуникации неизбежно становились уязвимыми — их можно было бы перерезать, скажем, посылкой судов к Босфору или предусмотрительной высадкой десанта в Леванте. Да и Оттоманская империя могла преподнести сюрприз, оказавшись отнюдь не уступчивой и вовсе не бессильной.
Размышляя о «ближневосточном выборе», мы вправе задаться вопросом о возможных его последствиях для палестинских евреев. Во Франции Наполеон проявил серьезный и даже по сегодняшним меркам прогрессивный подход к еврейскому вопросу. Во время ожесточенной осады Аккры (где королевский флот также основательно подпортил ему настроение) он издал прокламацию, торжественно провозглашавшую, что евреи имеют такое же «право на политическое существование, как и любая другая нация». Это никогда не было забыто. Могла ли переориентация Наполеона на Средний Восток привести к реализации еврейских национальных устремлений в Палестине на столетие раньше возникновения государства Израиль? Впрочем, не стоит забывать о том, какая пропасть лежала между обещаниями, дававшимися Наполеоном, скажем, полякам, и их исполнением. Геополитика значила для него куда больше, чем верность слову и принципам.
Однако в Тильзите Наполеон отринул все эти возможности, и не исключено, что измена Талейрана ознаменовала собой важнейший поворот в его судьбе. Как неоднократно признавался он сам уже в ссылке на острове Св. Елены, Тильзит, вероятно, был прекраснейшим его часом.
Попытки залатать дыры в «континентальной блокаде» привели к тому, что не прошло и нескольких месяцев после Тильзита, как Наполеон совершил свою самую крупную стратегическую ошибку. Португалия, старейший союзник Англии, оставалась ее последним бастионом в материковой Европе. Бонапарт решил уничтожить этот бастион, однако путь к нему лежал через Испанию. Оккупировав ее, он создал себе проблему, оказавшуюся неразрешимой[189]. Сопротивление ему вылилось в партизанскую войну, победить в которой почти невозможно. Непокорные испанские войска получили сильную поддержку в виде девятитысячного (и это было только начало) экспедиционного корпуса под командованием сэра Артура Уэсли (будущего герцога Веллингтона). В разверзшейся по вине самого Наполеона войне, получившей название «испанская язва», англичане открыли свой «второй фронт». К концу 1809 г. в войну на Иберийском полуострове оказались втянутыми 270 тысяч отборных наполеоновских солдат, что составляло три пятых всех его сил. Это неизбежно повлекло за собой кардинальное изменение отношений с Россией. В Тильзите Наполеон продиктовал побежденному Александру свои условия, а по прошествии менее чем года оказался вынужденным просить того продемонстрировать дружеское расположение, удерживая в узде Австрию[190].Между тем Австрия энергично перевооружалась, мечтая отомстить за Аустерлиц. Если мы спросим, мог ли Наполеон повести себя иначе на Иберийском полуострове, то ответ будет один — несомненно. Он мог попросту не вступать на Испанскую территорию. Перекрыв границы на Пиренеях, Наполеон предоставил бы гордым, националистически настроенным испанцам самим разбираться с британской авантюрой. В конце концов, испанцы не забыли о том, что у Трафальгара Нельсон топил и их корабли, так что не исключено, что, не случись французов, иберийцы, прервав дремоту, обратили бы свой гнев против англичан[191]. Беда заключалась в том, что Наполеон никогда не умел вовремя остановиться. Между тем нарастание экономических проблем и падение духа народа в самой Франции подтолкнули его к излюбленному решению диктаторов: отвлечь нацию от реальных невзгод, бросив в погоню за манящим призраком Славы.
Летом 1809 г. Наполеон оказался в состоянии войны с восстановившей силы Австрией. При Ваграме[192], недалеко от Вены и Аустерлица, он одержал последнюю свою большую победу, но заметную роль в ней сыграли иностранные, главным образом саксонские и итальянские, рекруты, на которых едва ли можно было положиться в трудную минуту. К тому же, в отличие от Аустерлица, Ваграм не стал ни решающей, ни окончательной победой. Австрия пришла в себя довольно скоро. Тени сгущались, вражеские генералы учились.
С каждым последующим годом Королевский флот все туже затягивал удушающее кольцо блокады вокруг европейских портов[193]. В 1806, 1810 и 1811 гг. Францию поражали экономические кризисы, и Наполеону следовало бы внять этим предостережениям. В 1810 г. 80% импортируемой Англией пшеницы проскользнуло в Англию с территорий, контролируемых Наполеоном, причем часть ее поступила из самой Франции. В то же время для обеспечения Великой Армии шинелями и сапогами наполеоновским квартирмейстерам приходилось тайком нарушать им же установленный запрет на торговлю с Британией. В том же самом году из 400 сахарных заводов Гамбурга работали только три. Но наибольший урон от континентальной блокады несла Россия, которая со временем стала ею почти открыто пренебрегать. К лету 1811 г. в портах России побывало 150 английских судов, ходивших для видимости под американским флагом. Наполеон не мог оставить без внимания столь дерзкое нарушение его воли. Грозовые тучи сгущались, а разразившийся в январе 1812 г. хлебный кризис создал дополнительную мотивацию для похода на восток.
Однако 1811 г. оказался весьма опасным и для Англии, где неурожай совпал с общим экономическим кризисом. Вышло так, что в 1812 г. небеса предоставили Наполеону уникальный шанс — в июне американский Конгресс объявил Англии войну[194]. Этот нелепый и крайне нежелательный, во всяком случае для англичан, конфликт явился прямым следствием деспотизма, проявлявшегося Британией в осуществлении морской блокады наполеоновской Европы. Но к тому времени, когда император мог бы воспользоваться неожиданно возникшей возможностью, он уже возвращался во Францию, потерпев поражение в России.
Что, если бы вместо похода на восток Наполеон в 1812 г. сосредоточился на взаимоотношениях с западом, причем поставив во главу угла не военные, а дипломатические усилия? Что, если бы он по-прежнему мог полагаться на Талейрана? Во время Великой Французской революции Талейран два года жил в Филадельфии и имел представление о движущих мотивах американской политики. Поскольку на морях господствовала Англия, Наполеон не имел возможности оказать американцам серьезную военную помощь, но они были бы благодарны ему за моральную и дипломатическую поддержку борьбы против диктаторских замашек «Владычицы Морей», их бывшей метрополии. Игра стоила свеч. Давайте подумаем и еще об одном возможном результате. В ноябре 1814 г. герцогу Веллингтону предложили пост главнокомандующего английскими силами в Северной Америке. Резко отрицательное отношение к этой войне побудило его ответить отказом, чего, возможно, и не случилось бы, выступи Наполеон на стороне американцев. Отказ Веллингтона явился большой удачей для Британии, так как борьба с бывшими колониями закончилась вничью всего через несколько недель после этого. Но сделай Веллингтон другой выбор, будущее Европы оказалось бы поставлено на карту, когда герцог находился бы в трех тысячах миль от места событий. Это могло бы произойти, сумей американцы создать серьезную угрозу Канаде, и особенно Квебеку.
Весьма вероятно, что Веллингтон сумел бы нанести американцам решающее поражение. Подумаем, не ввело бы это англичан в искушение возвратить себе значительную часть бывших колониальных владений в качестве репараций, как бы вернуться в 1775 г.? Нам это представляется маловероятным: Англия не желала увязнуть в Новом Свете и боевые действия в 1812 г. вела весьма вяло. Ее несомненным приоритетом являлся Наполеон.
Вышло так, что некоторые из полков Веллингтона, очень нужные под Ватерлоо, возвращались из-за Атлантики как раз накануне этого сражения. Ну а результаты отсутствия на поле боя самого герцога предсказать легко: лучшего подарка для Наполеона невозможно вообразить.
А у последнего к ноябрю 1812 г. дела шли отнюдь не лучшим образом. Наполеон дошел до Москвы и разрушил ее. Но он не сделал того единственного, что могло дать ему преимущество в противостоянии с царем — не освободил русских крепостных крестьян. Вынужденный повернуть обратно, он вернул лишь 93 000 солдат из 600 000 переправившихся в июне 1812 г. через Неман, да и то в самом жалком состоянии. Империя вернулась в границы, существовавшие до Тильзита, а действовавший в Испании Веллингтон уже угрожал рубежам самой Франции.
Вывод прост: Наполеон допустил ошибку, когда напал в 1812 году на Россию, имея в тылу непокоренную Испанию. (Впоследствии так же ошибся Гитлер, напавший на Сталина, оставив за спиной непобежденную Англию.) А по большому счету Наполеону вообще не следовало соваться ни в Испанию, ни тем более в Россию. В следующем, 1913 г. объединенные силы Австрии[195], Пруссии и России впервые за всю историю Наполеоновских войн сумели загнать в угол и разбить Великую Армию в «Битве Народов» под Лейпцигом.
За этим поражением последовали другие, теперь уже на земле Франции. Однако даже тогда Наполеону было еще не поздно остановиться: по меркам своего времени союзники выдвигали сравнительно мягкие условия и, во всяком случае, не посягали на историческую и географическую целостность Франции[196]. Однако Наполеон предпочел продолжить борьбу, тщетно уповая на то, что его «звезда» совершит чудо. Чуда не произошло: в апреле 1814 г. ему пришлось отречься и отправиться в свою первую ссылку, на остров Эльба, неподалеку от Корсики. Однако спустя десять месяцев он ускользнул, высадился на юге Франции и стремительно двинулся на север, к Парижу. Начались знаменитые «Сто дней». Казалось, долгожданное чудо все же свершилось.
И вот, в июне 1815 г. под Ватерлоо все уже в который раз оказалось поставленным на карту. Согласно часто цитируемым словам самого «железного герцога»: «Это была такая гонка наперегонки, какой вы не видели». Но окажись он не во главе армии, а, как вполне могло случиться, в Канаде, Блюхер почти наверняка не совершил бы свой прославленный бросок на помощь союзнику и битва под Ватерлоо, с той же степенью вероятности, была бы проиграна.
Правда, стоит отметить, что победа в этом сражении отнюдь не означала бы полное торжество Наполеона. Огромные свежие силы России, Австрии и Германских государств уже двигались к французским границам, и за Ватерлоо несомненно последовало бы другое сражение, а возможно, и не одно. Но и окажись в конечном итоге Наполеон побежденным, победа, одержанная без участия англичан, принадлежала бы не им, а континентальным державам. Исходя из этого условия будущего мира предстояло бы выработать не Британии, а политикам держав центральной Европы (России, Австрии и Пруссии), среди которых ведущую роль играл Меттерних. Будущее столетие несомненно выглядело бы по-иному, однако мы можем лишь гадать, был бы это век разброда и шатания (а не завещанной Ватерлоо стабильности) или же победители все же сумели бы обеспечить длительный мир, выработав свою форму «европейского концерна».
Но каким могло стать в этом уравнении место Америки? В какой мере развитие событий по альтернативному сценарию способствовало бы скорейшему включению недавних колоний в орбиту мировой политики? Предположим, что Англия потерпела сокрушительное поражение в июне 1815 г. или на Среднем Востоке, или в Индии, или после Тильзита не выдержала бы организованной Наполеоном «континентальной блокады»... — чем любой из этих вариантов мог обернуться для молодых Соединенных Штатов? С известной степенью уверенности можно предположить, что необходимость, неблагоприятные внешние условия и общие интересы сблизили бы бывшие колонии и лишившуюся могущества бывшую метрополию — как и произошло в 1940 г.
Главная беда всех этих вариантов, сценариев, альтернатив, контрафактов и прочих «Что если?» состоит в полнейшей зависимости их всех от характера самого Наполеона. Невольно вспоминаются слова Кассия, сказанные о Цезаре в «Юлии Цезаре» Шекспира: «Беда, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих...»
Однако Наполеон никогда не мог заставиться себя признаться виноватым в собственных неудачах и упорно возлагал вину на других. Если позволить себе вновь процитировать Шекспира он, подобно Гамлету, мог бы «...считать себя королем бесконечного пространства, когда бы... не было дурных мечтаний».
«Дурные мечтания» Наполеона — это не что иное, как стремление к нескончаемым завоеваниям. Подобно большинству завоевателей и до и после него, он просто не знал, когда (и как!) можно остановиться, что прекрасно понимал Веллингтон.
«Завоеватель,— как-то заметил герцог,— подобен пушечному ядру. Он должен продолжать полет». Именно это заставило Талейрана разочароваться в Наполеоне и переметнуться к царю. Тильзит предоставил Наполеону последнюю возможность связать свое имя с длительным и прочным миром, однако характер не позволил ему не только ухватиться за эту возможность, но даже ее заметить. Впрочем, даже не упусти он ее, никто не в силах ответить, как долго позволили бы ему униженные, побежденные народы Восточной Европы, Пруссии, Австрии и России пользоваться достигнутым.
Девяносто лет назад подающий надежды молодой английский историк Джордж Тревильян выиграл конкурс, объявленный Лондонской «Вестминстер Газетт» и получил премию за эссе под заголовком «Если бы Наполеон выиграл битву под Ватерлоо». (Впоследствии он станет одним из самых известных историков в своем поколении.) Как видится это Тревильяну, инстинкт самосохранения побудил бы одержавшего победу, но истощенного бесконечной войной и донимаемого призывами к миру в рядах армии императора предложить своему главному врагу — Англии — «неожиданно мягкие» условия мирного договора. В результате Россию ожидало бы изгнание из Европы, немцев — участь «самых спокойных и верных подданных Наполеона» (эти слова написаны за пять лет до 1914 года!), а Британию — изоляция[197].
В этой схеме можно увидеть намек на политическое устройство Европы, возможно, довольно близкое к мечтаниям Шарля де Голля или современных брюссельских технократов.
Калеб Карр
Наполеон побеждает при Ватерлоо
Последними работами Калеба Карра являются книги «Союзник» и «Ангел Тьмы».
Предположим, что несчастный маркиз де Груши оказался способным справиться с задачей (невыполнимость которой представляется спорной), поставленной перед ним Наполеоном 17 июня 1815 г., и не позволил бы войскам прусского маршала Блюхера соединиться на следующий день у Ватерлоо с силами английского герцога Веллингтона. При наиболее благоприятном для французов развитии событий Наполеон мог одержать при Ватерлоо победу, и тогда союзникам пришлось бы примириться с восстановленным бонапартистким режимом. Что принесло бы это Европе и миру?
Если допустить также, что Наполеон повел себя на переговорах не как сумасшедший, одержимый манией величия, то его можно представить искусным участником дипломатической игры, которую вели на Венском конгрессе такие политики, как английский виконт Кастльро и австрийский князь Меттерних. Это открыло бы весьма привлекательную возможность: согласись Бонапарт стать одним из многих игроков на политической сцене Европы девятнадцатого века, это дало бы континенту самый долгий к его истории (полные сто лет) период относительного мира, а возвышение Германской империи (событие, которое со временем привело к нарушению этого баланса) было бы предотвращено. При осуществлении такого сценария всеобщий мир мог продлиться куда дольше, нежели до 1914 г.
К сожалению, для того, чтобы сделать подобное допущение, пришлось бы проигнорировать серьезные психологические сложности, с которыми должен был столкнуться император французов. Мысль о том, что он — пусть император, но тем не менее дитя Великой Французской революции — удовольствовался возможностью сидеть на равных за столом переговоров с недавними врагами, представлявшими собой живое воплощение реакции, кажется нелепой, если не смехотворной. Куда вероятнее, что, выиграв время и восстановив армию, он, рано или поздно, начал бы новую игру за господство на континенте. Очень трудно (если вообще возможно) найти свидетельства того, что Наполеон хотя бы в малейшей степени ощущал себя ответственным за многолетние бедствия, в которые он вверг Европу. Поэтому его победа при Ватерлоо, скорее, не отсрочила бы бедствие 1914 г., а приблизило лет на девяносто, превратив девятнадцатый век в еще один период непрекращающегося массового кровопролития, большую часть которого европейцы предавались бы взаимному истреблению по воле кровожадных правителей.
Приложение 3
Армии войны за независимость
Вспомним, что представляли собой войска, сражавшиеся на рубеже XVIII —XIX веков. Англия содержала в колониях небольшие контингенты регулярных войск, сформированные по найму в Европе и обученные действовать в классическом линейном порядке. Их задачей была защита колоний от французов из Канады и поддержание внутреннего порядка. Кроме них существовала милиция из колонистов, использовавшаяся для борьбы с индейцами и усиления регулярных войск. В ходе войны из метрополии были переброшены новые подкрепления регулярных войск, а на месте сформированы из сторонников короля — «лоялистов» — нерегулярные части.
Армия восставших колоний первоначально состояла из необученных боевым порядкам отрядов милиционеров. Они тем не менее имели опыт войны с индейцами и хорошо умели обращаться с огнестрельным оружием. Вашингтон занимался постепенным превращением их в некое подобие регулярных войск. Позднее к армии Вашингтона присоединились французские контингенты, имевшие европейскую боевую подготовку.
Классическая тактика «гладкоствольного» периода считала главным элементом штыковую атаку. Войска для боя выстраивались в линии из двух-трех шеренг каждая, обеспечивавших максимальную эффективность ружейного огня. Атакующий стремился сблизится с противником в плотных шеренгах, обеспечивающих победу в рукопашной. Его задачей было максимально быстро пройти зону ружейного огня, не смешав при этом строя. Обороняющийся, в свою очередь, стремился расстроить ряды атакующих ружейным огнем до того, как дело дойдет до штыкового боя.
Артиллерия использовалась прежде всего для борьбы с артиллерией противника, но была и наиболее эффективным средством поражения плотных порядков пехоты. Традиционные гладкоствольные пушки имели прицельную дальность около одного километра, дальность эффективной стрельбы картечью не превышала 300 метров. Однако и она была большей, чем дальнобойность пехотных мушкетов, и удачно поставленные пушки могли самостоятельно рассеять вражескую пехоту.
Подобная тактика работала при эффективной дальности ружейной стрельбы порядка 150 метров и скорострельности 2 выстрела в минуту. Атакующие успевали преодолеть опасную зону, выдержав, в теории, один или максимум два прицельных залпа до начала рукопашной схватки. Основную роль в бою играла способность солдат в ходе атаки автоматически заполнять места выбывших из строя и соблюдать равнение.
В подобном бою шансы на успех имели только вымуштрованные профессионалы, автоматически выполняющие команды и боящиеся своего капрала больше, чем вражеских пуль. С другой стороны, бывалые ветераны, вроде солдат Фридриха II, знали, что их спасение — в сохранении строя и дружности удара. Недостатком подобного строя была чрезвычайная трудность управления им, требовавшая длительного обучения войск и специальных солдат — флигельманов. Последние ставились на флангах и задавали движение всей шеренги.
Но как только бой терял плац-парадный характер, подобные войска, не привыкшие выходить в своих действиях за рамки устава, теряли значительную часть своих преимуществ перед милиционерами, действующими по своему разумению. Подобное часто случалось как во время войны за независимость, так и в ходе наполеоновских войн.
Милиционные войска не имели шансов на победу при использовании классических боевых порядков из-за недостаточной по сравнению с профессионалами выучки. Их ответом на это стало применение рассыпного строя и ставка на ружейный огонь. Дополнительным фактором было то, что в регулярных армиях культивировался залповый огонь с упором не на точность, а на скорострельность. Превосходя противника в меткости и используя складки местности, милиционеры отступали перед наступающими шеренгами, подвергая тех эффективному обстрелу. При этом англичане несли тяжелые потери и не могли использовать свою выучку к рукопашному бою. Малоэффективен был против рассыпного строя и артиллерийский огонь.
Подобная тактика оправдывала себя в тех случаях, когда милиционерам было куда отступать до тех пор, пока потери противника не вынудят его остановиться. В противном случае они терпели поражение, подобное Бруклину.
В революционной Франции нашли свой путь для борьбы с линейным боевым порядком. Этим способом стали батальонные колонны и каре. (Русские применяли каре в войнах с Турцией и раньше, там это было вызвано необходимостью отражать в степи атаки многочисленной конницы, и в каре строились целые дивизии.) В две-три шеренги теперь строился только батальон первой линии, выславший вперед редкую стрелковую цепь для разведки и охранения, а следующие за ним части оставались в колоннах. При столкновении с противником головные батальоны прикрывали собой остальных и вели перестрелку с противником. Неразвернутые подразделения должны пройти через передовые линии и с ходу обрушиться на линии противника. Подобный боевой порядок обеспечивал возможность сосредоточить главные силы на решающем участке, сохраняя возможность маневрировать, и был применим на пересеченной местности. От солдат в подобном построении не требовалось особой вымуштрованности: держаться в бою вместе роту заставляли и чисто психологические причины. Атака превосходила оборону за счет возможности выстроить, пренебрегая интенсивностью собственного ружейного огня, более глубокие боевые порядки. При этом первая шеренга наверняка погибала, но идущие сзади успевали достичь «разрядившегося» противника.
Отразить атакующие колонны можно было только артиллерийским огнем.. Ядра и бомбы находили себе многочисленные жертвы в густых рядах солдат противника, и это делало артиллерию чрезвычайно эффективным средством.
Необходимость встретить атакующего в готовности к рукопашной делала бессмысленным рытье окопов и сводила полевые укрепления к сочетанию рва (препятствия для противника) и вала (укрытия для своих солдат).
А. Поляхов
Часть IV
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
Джеймс М. Макферсон
Если бы «потерянный приказ» не был потерян.
Роберт Ли побеждает федералов, 1862 г.
Одним из критических моментов Гражданской войны в Америке, является находка в 1862 г. особого приказа Роберта Ли за № 191 — легендарного «потерянного приказа». Данный эпизод так же служит и великолепной основой для создания альтернативных исторических моделей.
В сентябре 1862 г. армия конфедератов под командованием Ли на пути в Пенсильванию вступила в Мэриленд. Совсем недавно ей удалось разгромить федералов во Второй битве при Манассасе. Еще одна столь же громкая победа могла наконец повлечь за собой официальное признание Конфедерации Англией и Францией. Особый приказ, разосланный генералом Ли его командирам, представлял собой стратегический план осенней кампании.
Утром 13 сентября капрал из Индианы Бартон В. Митчел нашел на лугу увесистый конверт, содержавший три сигары и копию приказа Ли. «Потерянный приказ» был срочно доставлен противнику Ли, командиру федералов генералу Джорджу Мак-Клеллану. Сигары по дороге таинственным образом исчезли, но зато Мак-Клеллан получил превосходную возможность атаковать растянувшиеся силы конфедератов на марше и разбить их по частям. Правда, воспользовался он ею не лучшим образом, результатом чего стало самое кровопролитное в истории Гражданской войны сражение на реке Антьетам. Победа в нем досталась северянам с большим трудом и отнюдь не стала решающей, хотя вполне могла ею стать.
Но довольно о фактах — перейдем к домыслам и допущениям. Предположим, вместе с Джеймсом Макферсоном, что «потерянный приказ» не был потерян. В этом случае Ли, скорее всего, беспрепятственно продолжил бы путь на север. Логика военных действий подсказывает, что генеральное сражение разразилось бы на территории Пенсильвании, в долине Кумберленд. Где именно? Макферсон дает логичный ответ на этот вопрос. Но предполагаемое им развитие событий фатально для продолжения существования США как единого государства.
Джеймс Макферсон является не только специалистом по Гражданской войне, но и одним из лучших публикующихся в наше время историков. Будучи профессором истории Принстонского университета, он написал десять научных трудов, один из которых — «Боевой клич победы» — удостоен Пулитцеровской премии в области истории.
Огромные возможности открывались перед армией Северной Виргинии. 4 сентября 1862 г. она вышла к броду в 35 милях к северу от Вашингтона и начала переправу через Потомак. Принявший командование ею три месяца назад генерал Роберт Э. Ли сумел переломить ситуацию в то время, когда победа северян казалась очень близкой, ибо армия Потомака стояла всего в пяти милях от Ричмонда, готовясь к захвату столицы конфедератов. Завершив серию непрерывных военных успехов северян, за четыре месяца взявших под контроль 100 000 квадратных миль конфедератских земель в Западной Виргинии, Теннесси, долине Миссисипи и других местах, захват Ричмонда вполне мог ознаменовать собой конец Конфедерации. Однако Ли нанес несколько контрударов, полностью изменивших военную обстановку в пользу южан. В ходе «Семидневной Битвы» (25 июня — 1 июля) он отогнал Потомакскую армию северян от Ричмонда и перенес боевые действия в северную Виргинию, где одержал победу над Виргинской армией во второй битве при Манассасе (29 — 30 августа). Павшие духом северяне отошли зализывать раны к оборонительным линиям Вашингтона.
Столь быстрая и радикальная перемена обстановки повергла северян в уныние. «Нас охватило величайшее отчаяние», — писал после Семидневной Битвы один видный демократ из Нью-Йорка. Те же чувства выражает дневниковая запись, сделанная Нью-Йоркским же республиканцем: «...Это самый мрачный день, какой мы видели с первой битвы у Булл Ран. Все кажется безнадежным... Мне очень трудно сохранить веру в торжество нации и закона». Даже президент Авраам Линкольн втайне сокрушался, отмечая упадок духа северян: «Кажется нелепым, что непрерывные успехи в течение полугода, когда удалось очистить от неприятеля сотни тысяч квадратных миль, сведены на нет одним-единственным (имеется в виду «Семидневная Битва») поражением».
Но сколь бы нелепым это не представлялось, названный факт имел место. Сторонники мира в рядах Демократической партии тут же подвергли политику Линкольна, направленную на сохранение Союза с помощью военной силы, ожесточенной критике. Получившие от республиканцев насмешливое прозвище «Медноголовые», демократы-миролюбцы упорно твердили, что военная победа Севера над Югом недостижима, а стало быть, правительству надлежит полагаться не на пушки, а на мирные переговоры. Весомым аргументом в пользу такой позиции стали военные успехи конфедератов в 1862 г. И худшее еще поджидало правительство Линкольна впереди. Западные соединения конфедератов, с января по июнь 1862 г. терпевшие поражения решительно в каждой стычке, в июле осуществили перегруппировку и августе—сентябре провели ряд наступательных операций и кавалерийских рейдов. В результате коренным образом изменилась обстановка в Теннесси. Когда армия Северной Виргинии переправлялась через Потомак в Мэриленд, другие армии конфедератов повели двумя колоннами контрнаступление, вскоре позволившее им не только вновь овладеть восточной половиной штата, но также вторгнуться в Кентукки, захватить столицу (г. Франкфорт) и начать приготовления к инаугурации своего губернатора.
Однако вместо того, чтобы поддаться пораженческим настроениям и вступить в переговоры о мире, Линкольн и республиканский Конгресс приняли кардинальные меры для активизации боевых действий. Линкольн объявил новый набор 300 000 волонтеров. 17 июля Конгресс издал «Акт о милиции», согласно которому штатам предписывалось призывать на девятимесячную службу ополченцев в соответствии с определенными для них центральной властью квотами. В тот же день Линкольн подписал «Акт о конфискации», объявлявший свободными всех рабов, принадлежавших «нелояльным» (т.е. поддерживавшим конфедератов) владельцам.
Рабовладение составляло основу экономики Юга. Тысячи рабов строили оборонительные сооружения, доставляли припасы, и боеспособность армии конфедератов во многом обеспечивалась их нелегкими трудами. Именно ради защиты рабства южные штаты пошли на раскол и повели войну. С самого начала войны республиканцы-радикалы настаивали на освобождении невольников, считая, что это должно поразить мятежников в самое сердце, лишив их огромного резерва рабочей силы и позволив использовать эти людские ресурсы на благо Союза.
К лету 1863 г. Линкольн согласился с данной позицией, стараясь при этом не выпускать столь важный вопрос из-под личного президентского контроля. Двадцать второго июня он объявил Кабинету, что намерен воспользоваться своим правом главнокомандующего и издать прокламацию об освобождении рабов. По утверждению Линкольна, это стало «военной потребностью, абсолютно необходимой для сохранения Союза. Мы должны освободить рабов или стать порабощенными сами... Должно принять решительные и масштабные меры... Не подлежит сомнению, что рабы являются фактором, усиливающим тех, кому они служат, и нам должно решить, будет этот фактор использован нами или же против нас». Члены Кабинета в большинстве своем поддержали президента, однако государственный секретарь Уильям X. Стюарт посоветовал отложить оглашение прокламации до тех пор, «пока вы не сможете преподнести ее стране, подкрепив военным успехом». По его мнению, в противном случае мир мог увидеть в ней «крайнюю меру обессилевшего правительства, призыв о помощи... последний крик, изданный при отступлении».
Геттисберская компания Роберта Ли, осень 1862 года
Геттисберг, 8 октября 1862 года
Линкольн внял этому совету и отложил освобождение рабов до улучшения обстановки на фронтах. Однако она, к сожалению, продолжала ухудшаться: с началом вторжения южан в Мэриленд и Кентукки складывалось впечатление, что оба пограничных штата уже «созрели и южанам осталось лишь сорвать их». Боевой дух северян продолжал падать. «Страна идет ко дну, — записал в дневнике житель Нью-Йорка,— Джексон Каменная Стена, наше национальное пугало, готов вторгнуться в Мэриленд с сорокатысячным войском. Общее наступление мятежников угрожает нашему влиянию в Миссури и Кентукки... Повсеместно ширится возмущение нынешним правительством».
Демократы надеялись извлечь из этого возмущения выгоду на следующих выборах в Конгресс. Республиканцев, естественно, подобная перспектива пугала. «За полтора года тяжких испытаний, кровопролития и огромных трат, — писал один из них,— погубив и сделав калеками тысячи людей, мы не добились ощутимого прогресса в подавлении этого мятежа... и народ желает каких-то перемен». Республиканцы чувствовали себя уязвимыми, ибо низкая активность избирателей или срыв выборов легко могли лишить их шаткого большинства в Палате. Избиратели бывали подвержены колебаниями и в обычные годы, а уж 1862-й никоим образом таковым не являлся. В ситуации, когда в пограничных штатах хозяйничали захватчики-конфедераты, демократы, как представлялось, имели хорошие шансы получить большинство, выступая под лозунгами прекращения военных действий и мирных переговоров.
Эту возможность прекрасно видел и Роберт Э. Ли. Она являлась одним из тех факторов, которые побудили его вторгнуться в Мэриленд, несмотря на состояние армии. За десять недель походов и боев южане потеряли 35 000 убитых и раненых, не говоря уж о тысячах отставших, армия и в физическом, и в материально-техническом отношении оставляла желать лучшего. «Настоящее состояние дел,— писал Ли Джефферсону Дэвису 8 сентября из своей штаб-квартиры близ Фредерики (штат Мэриленд),— вполне позволяет нам... предложить правительству Соединенных Штатов признать нашу независимость... Подобная мирная перспектива... позволит народу Соединенных Штатов определить на предстоящих выборах, поддерживает он сторонников продолжения войны либо же тех, кто желает с нею покончить».
В своем письме Ли не затрагивал внешнеполитические аспекты ситуации, но и он и Дэвис прекрасно их осознавали. Давно предсказывавшийся «хлопковый голод»[198] начал наконец серьезно ощущаться в текстильной промышленности Англии и Франции. Конец войны означал бы возобновление поставок хлопка американского Юга в Европу, а потому в обеих странах и среди влиятельных политических деятелей, и в широких кругах общественности имелось немало сочувствующих конфедератам. Французский император Наполеон III заигрывал с южанами, но не решался на официальное дипломатическое признание Конфедерации в одиночку, без поддержки Англии.[199]
В первой половине 1862 года, когда военная удача склонялась в сторону северян, иностранные правительства открестились от каких-либо отношений с Конфедерацией, но едва известия о «Семидневной Битве» достигли Парижа, как Наполеон III приказал министру иностранных дел выяснить, не считает ли британское правительство, «что пришло время признать Юг».
Ход мысли британского правительства был весьма схожим. Консул Соединенных Штатов в Ливерпуле сообщал, что «... нам угрожает большая опасность интервенции, чем за весь предыдущий период... Они все против нас и были бы рады нашему падению». Представитель Конфедерации в Лондоне Джеймс Мэйсон предвидел «скорую интервенцию в какой-либо форме. Известия о победе при Манассасе и вторжениях в Мэриленд и Кентукки существенно расширили число сочувствующих делу Конфедерации за границей». В октябре, произнося речь в Ньюкасле, канцлер британского казначейства заявил: «Джефферсон Дэвис и другие лидеры Юга создали армию и сейчас создают флот. Но им удалось создать то, что важнее и армии и флота вместе взятых — они создали страну».
Премьер-министр виконт Пальмерстон и министр иностранных дел лорд Рассел проявляли большую осмотрительность, но и они обсудили возможность участия Англии и Франции в качестве посредников на переговорах о мире и признании независимости Юга. Если, конечно, вторжение в Мэриленд принесет конфедератам очередную победу. «Юнионисты полностью разгромлены при Манассасе, — писал Пальмерстон Расселу 14 сентября,— и представляется вполне вероятным, что их поджидают большие беды и что в руки конфедератов могут попасть даже Вашингтон или Балтимор. Если это случится, не настанет ли для нас время подумать, почему бы Англии и Франции не обратиться к противоборствующим сторонам с предложением прийти к соглашению на основе раздела?» В последовавшем через три дня ответе Рассел согласился с предложением поразмыслить «о перспективах признания независимости Конфедерации». При этом он указывал, что в случае несогласия Севера «мы сами должны признать Южные Штаты независимым государством».
Правительство Линкольна прекрасно понимало, какими политическими и дипломатическими осложнениями чревато наступление Ли. Однако первостепенной являлась военная опасность. Юнионистская группа войск, проигравшая второе сражение при Манассасе (Булл-Ран), представляла собой смесь из не притершихся друг к другу Виргинской армии генерала Джона Поупа, переброшенного из Северной Каролины корпуса генерал-майора Эмброуза Бернсайда и перевезенной с Виргинского полуострова Потомакской армии генерала Джорджа Мак-Клеллана. Особой любви между Поупом и Мак-Клелланом не наблюдалось. Негодовавший из-за своего отзыва с полуострова, считавший себя обиженным правительством, последний не слишком спешил помочь Поупу. Два самых сильных его корпуса, находившихся в пределах слышимости канонады от Булл-Ран, на поле битвы так и не показались.
Линкольн назвал такое поведение Мак-Клеллана «непростительным». Многие в правительстве предлагали уволить генерала со службы, однако Линкольн принял во внимание его организаторский талант, а также исключительную популярность среди солдат. Он поручил Мак-Клеллану командование над всеми силами северян на восточном театре военных действий, с приказом соединить армии и выступить против мятежников. В ответ на возражения членов правительства, обвинявших Мак-Клеллана в бездарности, Линкольн заявил, что Мак-Клеллан «в этом вопросе действовал предрассудительно, но... армия на его стороне... а мы... должны использовать те инструменты, которые имеем. В армии нет человека, способного сорганизовать наши силы хотя бы вполовину так хорошо, как он... Пусть сам он и не мастер сражаться, но зато превосходно знает, как заставить сражаться других».
Мак-Клеллан ухитрился оправдать как доверие Линкольна, так и сомнения членов Кабинета. Один младший офицер писал, что едва в войсках узнали о возвращении Мак-Клеллану командования, как «полнейшее уныние тут же сменилось буйным восторгом. Солдаты высоко подбрасывали свои кепи в воздух, плясали и резвились, как школьники... Воздействие этого человека на армию Потомака было электризующим и слишком чудесным, чтобы даже пытаться его объяснить». Он действительно в самый короткий срок реорганизовал армию, привел ее в порядок и сделал вполне боеспособной. Но сразу после этого Мак-Клеллан вернулся к привычной (явно чрезмерной) осторожности. Оценивая силы противника в Мэриленде вдвое, а то и второе выше той численности, какой располагал Ли на самом деле[200], он двигался с черепашьей скоростью, делая по шесть миль в день, словно боялся найти мятежников.
Мак-Клеллан требовал подкреплений и особенно рассчитывал на двенадцатитысячный гарнизон крепости и базы снабжения Харперс-Ферри, однако главнокомандующий, генерал Генри В. Халлек, отказался передать эти войска в его подчинение. Отказ открыл перед Ли новую перспективу, но создал и проблему, поскольку названный гарнизон держал под угрозой линии снабжения конфедератов, проходившие через долину Шенандоа. Перспектива заключалась в возможности овладеть на этой базе всем необходимым для голодной, оборванной и разутой армии. Ли издал особый приказ № 191 о разделении почти двух третей своей армии на три отдельные маршевые колонны. Под общим командованием Джексона, они должны были сойтись у Харперс-Ферри и захватить его[201]. Опасность этого маневра заключалась в возможности для Мак-Клеллана в течение необходимого для осуществлении операции периода от трех до шести дней вклиниться между разделившимися колоннами и разбить армию Северной Виргинии по частям.
Как командующего Ли отличали две особенности: невероятное умение прогнозировать действия противника и готовность идти на большой риск[202]. Бригадному генералу Джону Дж. Уокеру, командиру одной из колонн, которым предстояло соединиться у Харперс-Ферри, Ли объяснил свой замысел кампании. После захвата складов с припасами армии предстояло перегруппироваться у Хагерстауна, поскольку, во-первых, солдатам требовался отдых, а, во-вторых, это позволило бы подтянуться отставшим, число которых, по его оценке, могло составить от 8 до 10 тысяч человек.
После того как армия соединится и будет обеспечена всем необходимым, Ли намеревался перерезать железную дорогу Балтимор — Огайо, а потом двинуться к Гаррисбергу и разрушить Пенсильванский железнодорожный мост через Саскеханну. Этим выводились из строя две[203] железные дороги, связывавших восток и запад Севера. «После этого, — заключил Ли, — я смогу обратить внимание на Филадельфию, Балтимор или Вашингтон, в зависимости от того, что покажется более подходящим для наших целей». Уокер выразил удивление дерзостью этого плана, согласно которому армия северян должна была остаться у них в тылу. «А вы знаете Мак-Клеллана? — спросил в ответ Ли.— Он способный генерал, но слишком уж осторожный... К тому же его армия деморализована, пребывает в хаотическом состоянии и не будет готова (во всяком случае, он будет думать, что она не готова) к наступательным действиям еще три-четыре недели. А до этого времени я надеюсь оказаться на Саскеханне».
Однако, в то время как Ли высказывал эти соображения, его противнику выпала неслыханная удача. Тринадцатого сентября два солдата северян, отдыхавшие на лугу под Фредерикой, где несколькими днями раньше стояли лагерем конфедераты, нашли копию особого приказа № 191. Какой-то беспечный южанин завернул в нее три сигары, да все это вместе и потерял.
Поняв важность находки, солдаты-янки доложили о ней своему капитану, который передал документ по команде наверх, пока тот не попал в руки Мак-Клеллана. Один из штабных офицеров-юнионистов смог удостоверить подлинность приказа, поскольку до войны служил вместе с адъютантом Ли Робертом Л. Чилтоном и прекрасно знал его почерк. Таким образом, Мак-Клеллан узнал, что армия Ли разделена на пять отдельных частей, между которыми пролегает от восьми до десяти миль, да еще и река Потомак. Ни одному генералу за всю историю Гражданской войны не выпадало подобной возможности разбить вражескую армию по частям, прежде чем она объединится. Одному из своих подчиненных торжествующий Мак-Клеллан заявил: «Если эта бумага не поможет мне высечь "Бобби Ли", я выйду в отставку».
Однако даже при таких обстоятельствах Мак-Клеллан действовал осторожно. Правда, 14 сентября он[204] отогнал конфедератов от перевалов Южной Горы, но 15 сентября Джексон захватил Харперс-Ферри. Ли успел сосредоточить большую часть армии Северной Виргинии близ Шарпсбурга прежде, чем Мак-Клеллан смог атаковать его. Семнадцатого сентября на холмах над рекой Антитам разразилось сражение. Оно продолжалось весь день, а ночью Ли был вынужден отступить за Потомак. Не посчастливься им найти «потерянный приказ», северяне едва ли смогли бы одержать и эту, пусть неполную, но победу[205].
* * *
Шансы на то, чтобы столь важный документ мог быть потерян, найден именно солдатом противника, передан в нужные руки и принят на веру можно расценивать примерно как один к миллиону. Куда более вероятным представляется следующий сценарий: зная, что в отличие от дружественной Виргинии жители западного Мэриленда настроены по отношению к его воинству враждебно и среди них наверняка полно юнионистских шпионов, Ли предпринял меры безопасности, строго ограничив контакты армии с населением и распорядившись, чтобы его адъютант лично доставил приказ №191 каждому из командиров корпусов и дивизий, зачитал его, а после ознакомления сжег. Таким образом, все экземпляры документа, кроме хранившегося в штабе Ли, подлежали уничтожению и утечка практически исключена[206].
Из-за неумелой организации обороны начальником гарнизона Харперс-Ферри Диксоном Майлсом и медлительности Мак-Клеллана 15 сентября двенадцатитысячный гарнизон сдался Джексону, и в руки конфедератов попали горы военного имущества. Тем временем кавалерия Джеба Стюарта выполняла важную задачу, собирая отставших и отгоняя от перевалов Южной Горы конные разъезды северян, пытавшихся выяснить местонахождение основных сил Ли. 16 сентября Мак-Клеллан прибыл во Фредерик, оставленный мятежникам неделю назад. К тому времени Ли уже произвел перегруппировку войск в Хагерстауне. Тысячи отставших вновь присоединились к его армии, а благодаря захваченному в Харперс-Ферри добру армия Северной Виргинии впервые за два месяца оказалась хорошо экипированной.
После еще одной остановки на отдых, пока Мак-Клеллан еще пребывал в неведении относительно местонахождения армии Северной Виргинии и ее намерений, мятежники двинулись на север, в Пенсильванию. Отбросив местное ополчение и обнаружившие их наконец конные отряды северян, они разлетелись как саранча по цветущей, славящейся богатыми фермами Кумберлендской долине. Здесь армия Ли, достигшая теперь 55 000, смогла прокормить себя даже лучше, чем в Виргинии[207]. 1 октября авангард достиг Карлсли. Сильный кавалерийский отряд и часть легкой пехоты Джексона Ли выслал на двадцать миль вперед, к железнодорожному мосту у Гаррисберга, который они сожгли 3 октября. Одновременно он направил своих мэрилендских разведчиков в их родной штат, дабы выяснить, где находится Потомакская армия. Обнаружилось, что она находится близ Эммитсбуга, южнее границы Пенсильвании, и форсированным маршем движется на север. Такое движение наводило на мысль о том, что Мак-Клеллан решил наконец найти Ли и сразиться с ним.
Кроме того, лазутчики донесли Ли, что холмистая местность вокруг городка под названием Геттисберг, куда сходятся многочисленные дороги, позволяет армии занять удобные позиции и хорошо укрепиться. Четвертого октября Ли приказал выступать к Геттисбергу, куда конфедераты прибыли всего за несколько часов до неприятеля.
6 октября армия северной Виргинии окопалась на возвышенностях к югу от города.
Мак-Клеллан принял решение атаковать захватчиков под огромным давлением из Вашингтона. «Разгромите мятежников», — телеграфировал ему Линкольн. С позиций на Семинари Ридж не слишком рвавшийся в бой Мак-Клеллан обозревал оборонительные линии конфедератов, тянувшиеся от Раунд Топе на юге вдоль Семетри Ридж к северу, к Семетри и Калпс Хиллз, и в его голове вызревал план сражения. Ему предстояло начаться утром 8 октября отвлекающим ударом по стоявшему на правом фланге конфедератов корпусу генерала Джеймса Лонгстрита. После переброски Ли подкреплений в тот сектор янки должны были развернуть главное наступление через пшеничное поле и персиковый сад против укрепившихся на Литтл Раунд Топ солдат Джексона. В случае удачи этой атаки в позиции южан образовалась бы брешь, куда могла хлынуть державшаяся в тылу центра позиции северян кавалерия. Этот наполеоновский план имел один существенный недостаток: фланги юнионистов оставались без кавалерийского прикрытия.
На рассвете силами Первого и Девятого корпусов федералы начали отвлекающую атаку на Семетри и Капе Хиллз. Однако Ли разгадал характер этого маневра и не стал перебрасывать туда свое резерв — легкую дивизию Э. П. Хилла[208]. Лонгстрит держался крепко, так что когда Второй, Шестой и Двенадцатый корпуса северян двинулись через пшеничное поле и персиковый сад, Джексон встретил их в полной готовности. В разразившейся схватке, столь ожесточенной, что равной ей не было в истории этой кровопролитной войны, северяне не смогли добиться победы.
Около трех часов дня Стюарт доложил Ли, что правый флаг юнионистов не имеет прикрытия. Командующий южан немедленно приказал Хиллу вести дивизию на юг в обход Раунд Топ и атаковать противника с фланга на пшеничном поле. Поскольку юнионистская кавалерия находилась более чем в миле к северу, шесть тысяч солдат Хил л оставались незамеченными до тех пор, пока не вылетели из-за деревьев и валунов Девилз Ден, издавая боевые кличи мятежников. На многих красовались захваченные на складах Харперс-Ферри голубые юнионистские мундиры, что вызвало среди солдат Двенадцатого корпуса северян еще большее смятение. Ряды уже вымотанных и потрепанных юнионистов падали один за другим, как костяшки домино. Точно рассчитав время, остальная часть корпуса Джексона предприняла контратаку, сминая те из юнионистских полков, которые еще пытались организовать отпор Хиллу. Центр сражения постепенно перемещался к северу, и в половине пятого к контратаке присоединился корпус Лонгстрита.
Стоявшему в резерве Пятому корпусу, любимому соединению Мак-Клеллана, при поддержке дивизиона[209] регулярной пехоты бригадного генерала Сайкса удавалось некоторое время сдерживать яростно наседающих мятежников, но когда солнце закатилось за гребень Южной Горы, дрогнул и он. В отчаянной попытке воодушевить солдат Мак-Клеллан поскакал вперед.
— За мной, солдаты! — вскричал он, выхватив шпагу, но в тот же миг упал мертвым с коня, сраженный пушечным ядром. Известие о гибели командующего мигом распространилось среди продолжавших сражаться янки, и последние очаги сопротивления угасли. Тысячи удрученных северян сдались, еще тысячи рассеялись во мраке. Каждый спасался сам по себе. Потомакская армия перестала существовать.
Весть о сражении под Геттисбергом прокатилась по всей стране и пересекла Атлантику. «Боже мой! Боже мой! — восклицал Линкольн в Белом Доме. — Что скажет народ?» Ничего хорошего о правительстве народ не сказал. Сторонники мира из числа демократов усилили свои нападки на власть.— «Мы устали от этой проклятой войны! — слышалось повсюду. — С каждым ее часом страна все глубже проваливается в болото банкротства и изоляции!» Даже стойкие сторонники Линкольна, такие как издатель «Чикаго Трибьюн» Джозеф Медилл, потеряли надежду на победу. «В течение 1863 г. необходимо прекратить боевые действия и начать переговоры, — писал этот журналист. — Мятежников невозможно победить силами нынешнего нашего государства. Капитан Оливер Венделл Холмс младший, офицер Двадцатого Массачусетсского полка, потерявшего под Геттисбергом 75% личного состава, писал, что «прошедшая сквозь суровые, ужасные испытания армия смертельно устала. Лично я решил, что Юг уже добился независимости».
Восьмое сентября вошло в историю прежде всего как дата Геттисбергской битвы, однако в тот самый день силы конфедератов и юнионистов сошлись также в сражении при Перивилле, штат Кентукки. Воодушевленные новостями из Пенсильвании командиры южан Брэгстон Брэгг и Эдмунд Кирби-Смитт решили продолжить Кентуккийскую кампанию. Уже заняв Лексингтон и Франкфорт, они двинулись на Луиссвиль, тогда как обескураженная известием о гибели Мак-Клеллана федеральная армия генерал-майора Дона Карлоса Бюэля, вяло отстреливаясь, отступила. В Пенсильвании, после небольшой передышки, необходимой для приведения в порядок коммуникаций[210], Ли развернул наступление на Балтимор. Его успехи подвигли многочисленных приверженцев южан в Мэриленде открыто выступить на стороне Конфедерации. Хотя многочисленный гарнизон и мощное кольцо укреплений вокруг Вашингтона удержали Ли от искушения штурмовать столицу, полевой армии, способной воспрепятствовать передвижениям войск южан, в распоряжении центрального правительства не имелось.
Едва ли не сразу после того, как стали известны результаты выборов, посол Великобритании в США лорд Лайонс ознакомил Государственного секретаря Сьюарда с совместным предложением правительств Великобритании, Франции, России и Австро-Венгрии выступить посредниками в мирных переговорах на основе будущего раздела страны[211]. Сьюард ответил, что Соединенные Штаты будут любой ценой отстаивать свою территориальную целостность и в этом вопросе какой-либо компромисс невозможен. «В таком случае, — заявил Лайонс, — правительство Его Величества признает независимость Конфедеративных Штатов Америки. Точно так же поступят и другие европейские державы. Это не вопрос принципов или предпочтений, — подчеркнул Лайонс в разговоре со Сьюардом, — это факт».
Сьюард мог сколько угодно произносить воинственные речи, но он был практичным политиком и к тому же изучал историю. Он знал, что победа при Саратоге в 1777 г. повлекла признание еще не оперившихся Соединенных Штатов Францией, за чем последовала французская помощь, в том числе и оказавшееся жизненно важным для достижения Америкой подлинной независимости прямое военное вмешательство. Не повторится ли история? Не последует ли за дипломатическим признанием военная помощь Конфедерации со стороны Англии и Франции? Эти вопросы, в совокупности с результатами выборов в Конгресс и готовностью армий конфедератов повести наступление на Балтимор и Луисвилль заставили Линкольна и Сьюарда прийти к тому неутешительному заключению, что выхода у них нет.
Унылым днем нового, 1863 г. хмурый Линкольн созвал в Белый Дом республиканских лидеров Конгресса и губернаторов штатов. «Не так надеялся я отчитаться перед вами о выполнении своего долга,— сказал им президент. — В июле прошлого года мною был издан указ об освобождении рабов, вступающий в силу сегодня. Увы! — печально вздохнул он. — У нас нет возможности претворить его в жизнь. Может ли мое слово освободить рабов, если я не способен обеспечить в мятежных штатах даже соблюдение Конституции. Мы столкнулись с ситуацией, когда против нас ополчился чуть ли не весь мир. Прошлым летом, когда Мак-Клеллана выбили из Ричмонда, я обещал, что, несмотря на неудачу, буду продолжать борьбу, пока не добьюсь победы, или не умру, или не истечет мой президентский срок, или народ и Конгресс не откажутся от меня. Джентльмены, на последних выборах народ высказал свое мнение. Страна отказалась от нас, и новый состав Конгресса будет не на нашей стороне. Даже не признавая себя побежденными, мы должны согласиться с тем, что подавить этот мятеж нам не под силу. Сегодня я объявляю о том, что принимаю предложение мятежников о перемирии и поручаю Государственному секретарю Сьюарду прибегнуть при ведении мирных переговоров к посредничеству иностранных государств. Джентльмены, — голос президента упал, — единой, неделимой страны под названием Соединенные Штаты больше не существует».
Стивен В. Сирс
Канны конфедератов и другие сценарии.
Как Гражданская война могла обернуться по-иному
Возможно, оценить вероятностные сценарии американской Гражданской войны и труднее, нежели таковые же Революции — настало другое время и сама техника ведения войн существенно усложнилась, — однако они достаточно многообразны. В течение первых двух лет войны окончательный раскол страны оставался вполне реальной перспективой, поддерживавшей боевой дух южан. Если бы, как предположил в предыдущей статье Джеймс Макферсон, «потерянный приказ» не оказался потерянным, раздел стал бы неизбежным следствием первого вторжения Роберта Ли на Север. Или, как пишет ниже Стефан В. Сирс, если бы Роберт Ли сумел осуществить двойной охват Потомакской армии Джорджа Б. Мак-Клеллана на шестой день «Семидневной Битвы» в июне 1862 г., это вполне могло привести к окончанию военных действий и началу «переговоров на основе раздела». Но мятеж (как называли это на Севере) с таким же успехом мог закончиться довольно скоро после начала. Иногда, замечает Сирс, если военным операциям вообще присуща какая-либо логика, последствия должны бы быть совсем иными. Причем зависеть эти последствия могли бы от таких частностей, как траектория полета пули или своевременное отклонение цели от этой траектории. И, как уже было отмечено выше, судьбу столетий могут решить миллисекунды. Но в других случаях событие, по всем признакам способное изменить ход истории (Сирс приводит в качестве примера возможную победу Мак-Клеллана над Линкольном на президентских выборах 1864 г.), может породить любопытный феномен «контрафакта второго порядка». Иными словами, изменение огромного масштаба может просто-напросто привести нас туда, где мы и были.
Стивен В. Сирс — один из виднейших специалистов по истории Гражданской войны, автор таких книг, как «Кровавый пейзаж: Битва на реке Антьетам», «Джордж Мак-Клеллан: Молодой Наполеон», «Ченселорсвилл» и самой последней — «Контрверсии и командиры: Депеши из Потомакской армии».
В ходе гражданской (как и всякой другой) войны неизбежно возникают моменты неустойчивого равновесия, когда чаша весов застывает в тревожном ожидании и малейшее ее колебание в ту или иную сторону делает одного из противников победителем, а другого побежденным. В такие моменты повлиять на ход истории способны решения и действия полководцев, политиков или, как в случае, приведенном здесь, избирателей. Однако последствия некоторых такого рода действий вполне могли, а порой, если война вообще подчиняется какой-либо логике, просто должны были стать иными.
Каждый из приведенных ниже пяти сценариев описывает существовавшую (хотя бы на протяжении нескольких мгновений) вероятность значительного изменения хода войны или (как в последнем из них) ее последствий. Давайте попробуем, не допуская невероятного искажения действительных событий (скажем, в первом сценарии Джефферсон Дэвис является свидетелем сражения при Бул-Ран в 1861 г. ) и не вкладывая в уста действующих лиц слов, которых они на самом деле не произносили, представить себе, что в эти критические моменты Гражданской войны все происходило так...
Сражение при Бул-Ран или Мятеж 1861 года
«Спору нет, вы совсем зеленые, — сказал Линкольн командующему только что набранной в Вашингтоне федеральной армией Ирвину Макдоуэллу, — но ведь и они такие же. Все вы зеленые». Это замечание полностью соответствовало действительности. Двадцать седьмого июля необученные войска Макдоуэлла вступили на берегу протекавшей к западу от столицы реки Булл-Ран в бой с ничуть не более опытными солдатами лишь недавно провозглашенной Конфедерации. Вопрос заключался лишь в том, какая из двух толп новобранцев дрогнет и побежит первой.
Решающий момент наступил ближе к вечеру. После шести часов неуклюжих маневров и неумело организованных, но кровопролитных стычек обе армии приблизились к пределу своей стойкости. Конфедераты, на которых медленно, но неуклонно наседали солдаты Макдоуэлла, сосредоточились на холме Генри Хаус Хилл с намерением биться до последнего. В центре их позиций находилась бригада виргинцев, под командованием твердого как скала бригадного генерала по имени Томас Дж. Джексон. Атаки противника следовали одна за другой, но виргинцы стояли насмерть, пока залп федералов не вывел из строя отважного генерала. Раненного сразу тремя пулями, с искалеченной левой рукой, Джексона унесли с поля боя, что не могло не сказаться на состоянии духа его солдат. Виргинцы дрогнули, и когда федералы предприняли очередную атаку, остановить их не удалось. Конфедератов потеснили в центре, после чего подались назад и их оставшиеся без прикрытия фланги. Очень скоро отступление превратилось в бегство. Отходя с обозом через расположенную на перекрестье дорог деревеньку Нью-Маркет, беглецы угодили под обстрел федеральной артиллерии. На забитой повозками дороге воцарился кромешный ад, началась паника. «По большей части солдаты представляли собой растерянную, полностью деморализованную толпу, — вынужден был признать один из офицеров разбитой армии.— Все командиры сошлись на том, что закрепиться и устоять невозможно».
В конечном счете решающим оказался именно этот фактор: поблизости не нашлось никакого естественного рубежа, за которым бегущие солдаты могли бы остановиться, перегруппироваться и закрепиться. За спиной федеральных войск протекал Потомак, и если бы события приняли иной оборот и спасения пришлось искать им, они могли укрыться за недостроенными укреплениями Вашингтона. Но для бежавших с поля боя конфедератов ближайшим оборонительным рубежом мог стать разве что Раппахэннок в 25 милях к югу. До этой реки было слишком далеко.
По части организованности и дисциплины победители не слишком превосходили побежденных, однако у генерала Макдоуэлла стояли в резерве две свежие дивизии, которые он бросил в погоню. Она продолжалась до утра, и все это время выбившиеся из сил, павшие духом мятежники тысячами бросали оружие и сдавались преследователям. Самым видным пленником оказался не кто иной, как президент Конфедерации Джефферсон Дэвис. Он примчался из Ричмонда, чтобы наблюдать за ходом сражения, и угодил в плен, когда пытался своим присутствием остановить панику.
На второй день после сражения мятежные генералы Джозеф Э. Джонстон и П. Дж. Борегард отвели собранные ими остатки разбитой армии за Раппахэннок. Двадцать первого числа они приняли бой при Бул-Ран имея тридцатитысячное войско; теперь у них под ружьем оставалась едва ли четверть этого числа. Даже после присоединения к ним резервных отрядов из Фредериксерга общая численность вооруженных сил Конфедерации не превышала 10 000 человек. К занимавшим позиции на другом берегу войскам Макдоуэлла ежечасно подтягивались свежие полки с Севера. С Юга никаких подкреплений не прибывало.
Джонстон и Борегард отчетливо понимали, что через считанные дни, а может быть и часы, превосходящие силы противника устремятся через Раппахэннок, дабы покончить с тем, что осталось от армии мятежников. Поскольку президент Дэвис томился в тюрьме Старого Капитолия в Вашингтоне, два генерала приняли всю ответственность на себя. Не являясь новаторами, оба придерживались традиционных представлений о военных действиях и считали, что коль скоро поражение неминуемо, то не стоит лить кровь понапрасну. Они направили к Макдоуэллу парламентера с предложением вступить в мирные переговоры, и тот, с согласия президента Линкольна, предложение принял. Так завершилась военная фаза того, что получило в истории название «Мятеж 1861 года».
«Канны конфедератов»
Теперь оружие заменила дипломатия. Снова в центре внимания оказались сенатор от Кентукки Джон Дж. Киттенден и сенатский Комитет Тринадцати, еще на рубеже года тщетно пытавшийся выработать компромисс между сецессионистами и юнионистами. На сей раз южанам пришлось «играть без козырей» — условия диктовал из Белого Дома мистер Линкольн. Одиннадцати штатам Конфедерации предписывалось отменить постановления сессий и присоединиться к Союзу, а также распустить свои вооруженные силы и вернуть федеральным властям всю изъятую собственность. В тех штатах, где рабовладение существовало традиционно, оно сохранялось, но его расширение за их границы подлежало категорическому запрету. Конгрессу поручалось обеспечение законодательной базы, а Комитету Тринадцати выработка долгосрочной программы освобождения рабов на основе выкупа.
В ситуации, когда память о битве при Бул-Ран была еще свежа, а остатки армии южан накрепко скованы Макдоуэллом, у Конфедерации не было иного выхода, кроме согласия на все условия. Общественное мнение на Севере склонялось и к более радикальным мерам, включая повешение вождей «Мятежа 1861 г.» во главе с мистером Дэвисом, но президент Линкольн подобного экстремизма не одобрял. Он сумел остановить военные действия и намеревался использовать срок своего пребывания у власти для решения сложнейших вопросов мирного вывода страны из той трясины, какой являлась американская рабовладельческая система. Оскорбленные и обозленные казнью своих лидеров, южане могли сделать эту задачу совершенно невыполнимой. «Отпустите их» — таков был безыскусный приказ Линкольна[212].
Конечно, все произошло совсем по-другому. Лишь слегка задетый пулей генерал Джексон держался на Генри Хаус Хилл неколебимо (за что и получило прозвище Каменной Стены), так что в результате дрогнули и побежали не его солдаты, а такие же необстрелянные новобранцы Макдоуэлла. Победоносная армия конфедератов, названная позднее армией Северной Виргинии, уже предвкушала, что итогом следующей кампании станет обретение Югом государственной независимости.
Следующая кампания развернулась на Виргинском полуострове, где сменивший Макдоуэлла Джордж Мак-Клеллан повел наступление на Ричмонд. Кульминацией военных действия стала разразившаяся на последней неделе июня «Семидневная Битва». Роберт Э. Ли, занявший место раненого Джозефа Э. Джонстона, яростно атаковал Мак-Клеллана на подступах к Ричмонду, а 30 июля близ лежащей на перекрестке дорог деревушки Глендэйл нанес ему удар, которым намеревался решить судьбу кампании.
Генерал Ли добивается своих Канн
Как выразился биограф Ли, Дуглас Саутхолл Фримен, у генерала Ли «подходящим для Канн являлся только тот день». Имеется в виду шестой день «Семидневной Битвы», когда Потомакская армия Мак-Клеллана быстро отступала к реке Джеймс. Путь отступающих лежал через деревню Глендэйл. На пятки Мак-Клеллану наступал преследовавший его с четырьмя дивизиями Джексон Каменная Стена. Три дивизии Джеймса Лонгстрита готовились нанести отходящим янки фланговый удар. Хотя силы Мак-Клеллана численно превосходили оба неприятельских соединения вместе взятые, южане сумели обеспечить себе преимущество на узком участке фронта. Фланговая атака Лонгстрита, грозившая рассечь федеральную армию пополам, и впрямь сулила конфедератам повторение классической победы, одержанной Ганнибалом при Каннах в 216 г. до н.э. и ставшей для истории символом сокрушительного разгрома. Портер Александер, наиболее проницательный из исследователей истории Конфедерации, отмечал, что в ходе Гражданской войны возникло всего несколько моментов, когда «... мы могли добиться столь существенных военных успехов, что это сделало бы реальным окончание войны и обретение нами независимости... Наилучшим из всех мне представляется шанс, представившийся 30 июня 1862 г.».
Но случилось так, что Ли свой шанс упустил. Его войскам чуть-чуть недостало наступательного порыва, в результате чего янки избежали разгрома, и на следующий день сражение возобновилось. В связи с едва не увенчавшейся успехом фланговой атакой Лонгстрита, Ли с горечью писал: «Будь в действиях других подразделений больше слаженности, результат мог бы стать бедственным для неприятеля». Главным виновником неудачи оказался Джексон Каменная Стена, пребывавший в тот день в какой-то странной летаргии. Он не выступил против арьергарда федералов, благодаря чему им удалось вовремя получить подкрепления и блокировать прорыв Лонгстрита.
В тот день все могло сложиться совсем иначе. И почти наверняка сложилось бы иначе, будь Джексон 30 июня 1862 г. таким, как всегда.
* * *
После изматывающей трехмесячной кампании в долине Шенандоа, стремительного броска к Полуострову и вступления прямо с марша в «Семидневную Битву» Джексон Каменная Стена совершенно выбился из сил. На пятый день битвы (воскресенье, 29 июня) он понял, что руководить войсками в таком состоянии опасно. Не имея в это время самостоятельной задачи, а лишь выполняя распоряжения командующего, он счел возможным отдать приказ, чтобы его не беспокоили, и проспать половину суток. Соответственно, когда ему пришлось вступить в дело под Глендэйлом, Джексон Каменная Стена был свеж, бодр и готов к любым испытаниям. В то утро Джексон настиг арьергард янки под командованием Уильяма Франклина на разбитом мосту через речушку Уайт-Оук-Свомп, к северу от Глендэйла. Получив донесение разведки о наличии крупных неприятельских сил, Джексон (как обычно!) задумал совершить фланговый обход. Его людям удалось найти ниже по течению два пригодных для переправы пехоты брода, и генерал ухватился за представившуюся ему возможность маневра. Обрушив на мост мощный заградительный огонь, он бросил три бригады на переправу, с тем чтобы обойти Франклина с фланга и ударить ему в тыл.
В то самое время, когда завязался бой с арьергардом Франклина, Ли приказал Лонгстриту повести наступление на федералов, оборонявших подступы ко Глендэйлу с юга. Почувствовав, что натиск слишком силен, защитники Глендэйла послали за подмогой к Франклину, однако тот не только не смог послать им на помощь своих людей, но и удержал при себе две бригады, «позаимствованные» накануне в Глендэйле.
Лонгстрит врезался в центр слишком растянутых позиций юнионистов, прорвал их, легко отбросив пытавшийся задержать его немногочисленный резерв, и повернул острие атаки на север, против уже вовлеченного в битву арьергарда Франклина. Как только Франклин развернул войска для отражения этой новой угрозы, Джексоя стремительным броском форсировал Уайт-Оук-Свомп. Таким образом, двойной удар южан рассек силы юнионистов почти надвое.
Их и без того затруднительное положение усугублялось полным разбродом и сумбуром в верхах. Еще до начала битвы совершенно деморализованный обрушившимися на него неудачами генерал Мак-Клеллан бросил свои войска у Глендэйла и ускакал вперед, к находившемуся далеко от поля сражения на реке Джеймс авангарду. Хуже того, он не назначил оставшимся командующего, и таким образом в «Глендэйлском мешке» каждый генерал сражался сам за себя.
«Драчун» Джо Хукер сумел увести свою дивизию, занимавшую позицию южнее места прорыва. Фил Кирни предпринял отчаянную атаку и вырвался из смыкавшегося кольца. Остальные пять дивизий темнота застала пойманными в ловушку у Глендэйла и Уайт-Оук-Свомп. За ночь Ли успел затянуть кольцо и на следующий день, 1 июля, принял капитуляцию федеральных сил. Генерал Ли добился успеха, близкого к победе при Каннах. Глендэйл стоил янки потери 46 000 человек убитыми и пленными вместе со всей их амуницией. Мак-Клеллан с остатками своих сил добрался до «Стоянки Харриссона» на реке Джеймс, где его и настигло извести о разгроме. Убежденный в том, что Ли располагает двухсоттысячной армией (в действительности южан было вдвое меньше), «молодой Наполеон» решил, что Глендэйл стал его Ватерлоо. Поручив своему заместителю Фиц Джону Портеру договориться о приемлемых условиях капитуляции, он взошел на борт канонерской лодки и отплыл восвояси. Мак-Клеллану удалось избежать плена, но не позора: на основании обличительных показаний генералов Хукера и Кирни он был обвинен в пренебрежении воинским долгом и изгнан со службы.
Что же до победителя, генерала Ли, то встреча, устроенная ему в Ричмонде, напоминала триумфы полководцев древнего Рима. Захваченное у Потомакской армии снаряжение позволило ему пополнить свои войска новобранцами и оснастить всем необходимым. Он знал, что теперь ему противостоит лишь многословный крикун генерал Поуп с его Виргинской армией. Последняя представляла собой лоскутное одеяло, наспех сшитое из остатков федеральных сил на Востоке. В конце июля Ли выступил на север, приказав командовавшему передовыми соединениями Джексону «задать трепку» хвастуну Поупу.
Поуп получать трепку не пожелал, предпочтя поспешно отступить и укрыться за Вашингтонскими укреплениями. Шедший за ним по пятам Ли вскоре осадил город со всей разномастной ратью его защитников. Южане перекрыли Потомак выше и ниже столицы, перерезали железнодорожные пути, а потом стали подтягивать отбитые у Мак-Клеллана тяжелые осадные орудия. Следивший за всем происходящим из Лондона премьер-министр Пальмерстон отметил, что «федералы получили основательную взбучку», и поинтересовался у министра иностранных дел «не пора ли нам, при таком повороте событий, подумать о возможности совместного обращения Англии и Франции к противоборствующим сторонам с рекомендацией начать мирные переговоры на основе будущего раздела страны?»
Получившее вскоре соответствующие англо-французские предложения правительство Линкольна отдавало себе отчет в том, что за ними таится угроза одностороннего признания Конфедерации европейскими державами. Понимали в правительстве и то, что если оно попытается снять осаду Вашингтона, перебросив войска с Запада (предприятие, принимая во внимание стратегический талант Ли, по меньшей мере сомнительное), мятежники нанесут удар в Огайо, в сердце юнионистских земель[213]. В результате, когда в конце сентября генерал Ли предоставил гражданскому населению три дня, чтоб покинуть Вашингтон, прежде чем он начнет обстрел города из тяжелых орудий, ответом на ультиматум стало официальное правительственное предложение о перемирии и начале переговоров о условиях раздела. Одержав свою победу, Ли получил все, чего добивался[214].
* * *
Наиболее прославленным и неожиданным тактическим маневром Гражданской войны, бесспорно, следует считать совершенный Джексоном Каменной Стеной при Чанселлорсвилле фланговый обход с последующей атакой на армию Джо Хукера. Вспоминая впоследствии о случившемся, Хукер не раскаивался в том, как руководил сражением. «Вероятность того, что движение Джексона приведет к успеху, — писал он, — практически равнялась нулю. Девяносто девять шансов из ста были за то, что войска Джексона будут уничтожены». Конечно, Хукера трудно назвать беспристрастным свидетелем, но суть произошедшего он уловил верно. Более того, он предпринял меры для отражения атаки, подобной той, что имела место 2 мая 1863 г., и будь его приказы, касавшиеся охранения правого фланга, выполнены как должно, результат мог бы стать совсем иным.
Победитель при Ченселорсвилле
Утром 2 мая, на шестой день кампании, Джо Хукер был исполнен уверенности в себе, ибо по всем признакам задуманный им план осуществлялся успешно. Сковав Ли под Фредериксберге силами сдерживающей группировки, он с основной армией сумел тайно переправиться через Раппа-хэннок и теперь угрожал противнику, которого сумел выманить из-под защиты внушительных укреплений обходом с фланга и заходом в тыл. На следующем этапе операции он хотел вынудить Ли атаковать его на избранной им, Хукером, удобной позиции близ Ченселорсвилла[215].
Войска Хукера подготовились к отражению атаки. Самый слабый Одиннадцатый корпус не хватавшего звезд с небес командира О. О. Ховарда Хукер предусмотрительно разместил на правом фланге, подальше от вероятного направления главного удара противника. Однако на всякий случай Хукер подстраховался и, чтобы укрепить позицию Ховарда, отозвал из под Фредериксберга Первый корпус Джона Рейнольдса, один из лучших в армии. Тут таилась серьезная опасность, поскольку связь между крыльями армии являлась ее слабым местом: курьеры сбивались в лесу с пути, а телеграфного сообщения с Фредриксбергским фронтом не имелось. Однако, видимо ради приятного разнообразия, в данном случае все прошло без помех. Рейнольде получил приказ вовремя, и к середине дня 2 мая его корпус прочно закрепился на правом фланге армии.
Еще в первой половине дня наблюдатели засекли в лесу пересекавшую прогалину войсковую колонну, о чем было доложено командованию. Хукер не преминул предупредить Ховарда о возможном появлении противника и приказал ему сосредоточить резервы и подготовиться к обороне своего фланга, «с какого бы направления ни подступил неприятель».
Стив Ховард, которого лишь недавно повысили в должности, доверив командование Одиннадцатым корпусом, со рвением принялся исполнять приказ. Он развернул край своей линии лицом к западу, соорудил бревенчатые брустверы и установил за ними орудия. В тылу у него оставался сильный резерв с артиллерией. Когда к правому флангу стал подтягиваться Первый корпус, Ховард убедился в том, что его и Рейнольдса люди образуют сплошную линию обороны. После этого он послал донесение Хукеру: «Мною приняты все меры для отражения возможной атаки с запада», — что полностью соответствовало действительности.
В половине шестого Джексон Каменная Стена скомандовал «Вперед!», и его солдаты лавиной устремились на северян. Линия Ховарда подалась назад, кое-где даже оказалась разорванной, но ничего похожего на панику не имело места. Державшиеся наготове резервы быстро закрыли образовавшиеся бреши. Рейнольде также отбил пришедшийся на него удар, а потом нанес контрудар по флангу атакующих войск. К тому времени когда темнота положила конец сражению, Джексон всего-навсего потеснил янки ярдов на двести. Ночью он случайно угодил под залп собственных людей при проведении разведки, тщетно пытаясь обнаружить брешь в прочном неприятельском фронте.
3 мая, стержневой день кампании, прошло именно так, как наметил Джо Хукер. Кавалерист Джеб Стюарт, принявший командование вместо раненого Джексона, беспрерывными яростными атаками тщетно пытался закрыть огромную брешь между двумя крыльями армии конфедератов. Хукер неколебимо отбивал вражеские наскоки а потом, предприняв силами двух свежих корпусов контрнаступление, отбросил Стюарта назад.
В сложившихся обстоятельствах Ли не имел возможности продолжать сражение и был вынужден отдать приказ об отступлении. Понеся серьезные потери при отводе армии от Чанселдорсвилля, он стал отходить к Ричмонду, держась обеспечивавших снабжение войск железнодорожных путей. Хукер следовал за ним по пятам, и эта продолжительная весенняя операция вошла в историю под названием «Сухопутной Кампании». Ли упорно пытался закрепиться на любом естественном рубеже, оборонял каждую речушку между Фредериксбургом и Ричмондом, но Хукер терпеливо обходил оборонительные позиции и продолжал развивать наступление. К июлю Ли и его горделивой армии Северной Виргинии пришлось окопаться на ближних подступах к Ричмонду. Хукер, повышенный в звании до генерал-лейтенанта, уверенно руководил осадой столицы Конфедерации.
Тогда же, в июле 1863 г., Грант захватил Виксбург, установив контроль над Миссисипи. К ноябрю усилиями Гранта в руках северян оказался открывавший путь к Глубокому Югу проход Чаттануга[216]. Непрерывные победы Хукера на Востоке и Гранта на Западе подорвали боевой дух конфедератов. Развивая успех, Грант устремился к Атланте, захватил город и расчистил коридор через Джорджию к побережью. Завершающие операции были проведены весной 1864 г. Пока Гранд двигался на север через обе Каролины, Хукер перерезал одну за другой железнодорожные ветки, служившие Ли артериями снабжения. 9 апреля 1864 г. у Аппоматтокс Ли предпринял отчаянную попытку прорыва, а после ее провала сдался Джо Хукеру. Вскоре после этого Джо Джонстон сдался Гранту в Северной Каролине, и великий мятеж стал историей.
Приверженцы Гранта и Хукера всячески побуждали обоих героев выставить свои кандидатуры на предстоявших осенью президентских выборах. Однако Грант уже заверил Линкольна, что он не станет соперничать с ним в борьбе за президентское кресло. Не собирался делать этого и презиравший политику Джо Хукер. «Я не дам согласия на выдвижение и откажусь от поста, если меня все же выберут!» — громогласно заявил он.
Первое место среди юнионистских полководцев историки отвели Гранту, однако, все они сходятся на том, что самую безупречную кампанию за всю трехлетнюю войну провел при Ченселорсвилле «Драчун» Джо Хукер.
* * *
24 августа 1863 г. президент Дэвис телеграммой пригласил находившегося в одном из лагерей у Раппахэннока Ли в Ричмонд, дабы проконсультироваться с ним относительно общей стратегии. На Востоке, несмотря на Геттисбергское поражение, армия Ли, похоже, сохранила способность противостоять возможному наступлению федералов, но на Западе, особенно в Теннесси, конфедераты пребывали в бедственном положении. Мистер Дэвис хотел не только направить часть армии Ли на западный театр военных действий, но желал, чтобы Ли сам отправился в Тенесси во главе своих людей и сменил там на посту командующего незадачливого Брэкстона Брэгга. По словам Дэвиса одно лишь появление Ли на западе стоило бы переброски «целого корпуса».
Ли выслушал президента с надлежащим почтением, однако ясно дал понять, что не желает перевода на Запад. «Я не отказываюсь от этого поручения, — сказал он Дэвису, — но, по моему мнению, с ним куда лучше справился бы командир, уже воевавший на том плацдарме». Дэвис, по-видимому, счел нецелесообразным навязывать своему незаменимому помощнику нежелательное для того решение и больше к этому вопросу не возвращался. Вместо Ли на запад отправился Лонгстрит, и армия Теннесси, ведомая Брэнстоном Брэггом, продолжила свой путь к бесславному краху[217].
Но что, если бы Дэвис воспользовался своим статусом главнокомандующего, и приказал Ли отправиться на Запад «в интересах дела»? Вполне возможно, ход военных действий на том театре стал бы совсем иным...
Новый командующий для Запада
Если мистер Дэвис и решил вопрос о смене командования в приказном порядке, у него хватило мудрости предоставить генералу Ли самостоятельно решить, какие войска он возьмет с собой на Запад и, что еще важнее, кто заменит его во главе армии Северной Виргинии. Из трех корпусных командиров (Джеймса Лонгстрита, А. П. Хилла и Дика Эввелла) Ли полагался только на Лонгстрита и, естественно, остановил выбор на нем.
Парадоксально, но как раз Лонгстрит долго добивался прямо противоположного: перевода его корпуса из армии Северной Виргинии в армию Теннесси. Такой перевод сулил ему возможность стать командующим армией. Теперь, оказавшись на месте Ли, он настаивал на том, чтобы с ним оставили и его соединение. Ли пошел ему навстречу, и вместо корпуса Лонгстрита взял с собой на Запад корпус Дика Эввелла, принявшего боевое крещение в качестве корпусного командира в Геттисбергском сражении. Он прекрасно проявил себя, воюя под началом Джексона Каменной Стены, и Ли рассчитывал скомпенсировать недостаток опыта этого командира своим умелым руководством.
Правда, сам Ли высказывал опасения, как бы назначение их командующим «чужака» не вызвало возмущение высших офицеров Западной армии, но его тревога оказалось напрасной. Брэгг сумел так настроить против себя собственных подчиненных, что Ли был встречен с распростертыми объятиями. Едва он успел принять командование, как ему представилась возможность продемонстрировать свой излюбленный агрессивный стиль ведения боевых действий. Отступавшая армия Брэгга оставила Чаттанугу и полностью очистила Теннесси, однако федералы Уильяма Розенкранца увлеклись преследованием и неосторожно подставили себя под контрудар. Задуманный еще Брэгом, он был нанесен в Чикамуге по приказу Ли, 20 сентября. На второй день операции присланный для усиления армии корпус Дика Эвела нанес решающий удар с востока. Армия Розенкранца оказалась расколотой надвое, и сумерки застали ее поспешно отступающей к Чаттануге.
На рассвете следующего дня кавалерийский командир Натан Бедфорд Форрест поднялся с разъездом на господствовавший над Чаттанугой кряж Мишинери. Он увидел внизу беспорядочные толпы бегущих федералов и немедленно послал в штаб донесение. «Полагаю,— докладывал он,— они бегут со всем возможным усердием... Думаю, нам следует двинуться вперед как можно скорее». Форрест уверял, что сейчас Чаттанугу можно захватить силами одной пехотной бригады, но предупреждал, что каждый потерянный час будет стоить тысячи человек.
Брэкстон Брэгг имел обыкновение упускать такие блистательные возможности, но это никак не относилось к Роберту Э. Ли. Он распознал в Форресте то же безошибочное чутье, какое отличало в Восточной армии Джеба Стюарта, и не преминул воспользоваться его советом. Ли приказал бросить вперед всех, способных носить оружие. На предупреждение о возможной нехватке военного снаряжения он заявил, что все необходимое можно раздобыть на складах янки, как ему уже удалось сделать при Ченселорсвилле
На протяжении нескольких следующих дней потрепанная Кумберлендская армия понесла чудовищные потери: это был один из немногих случаев в военной истории, когда полевое сражение обернулось массовым уничтожением. Джордж Томас, пожалуй единственный из юнионистских командиров, проявивший себя при Чаттануге с самой лучшей стороны, после пленения командующего сделал все возможное, чтобы собрать остатки разгромленной армии Розенкранца и восстановить порядок при отступлении. Ли вновь захватил Чаттанугу, и теперь федеральным силам под командованием Эбмроуза Бернсайда пришлось убраться из восточного Тенесси. К октябрю весь штат Теннесси, по которому пролегал жизненно важный путь к Глубокому Югу, прочно удерживался конфедератами.
Обеспечив южанам надежное положение на Западе по меньшей мере до начала следующей весенней кампании, генерал Ли подал на имя Дэвиса рапорт с просьбой передать армию Теннесси Джозефу Э. Джонстону, а ему позволить вернуться к своей любимой армии Северной Виргинии.
Пока Лонгстрит неплохо справлялся со своей задачей, успешно сковывая в Виргинии нерешительные передвижения генерала Мида (Потомакской армии тоже пришлось направить подкрепления на Запад), но Ли решил, что Лонгстриту недостает наступательного пыла. Роберту Ли все еще казалось, что независимость Конфедерации может быть достигнута победой на Востоке, и он хотел лично возглавить решающую стадию борьбы. Президент Дэвис едва ли мог отказать в подобной просьбе лучшему из своих генералов.
К сожалению для Конфедерации, у нее имелся лишь один Роберт Э. Ли, а также один чрезмерно осторожный Джо Джонстон. Весной 1864 г. юнионистам в Теннесси пришлось начинать все сначала, но на сей раз во главе их стоял Грант. Объединив силы Шермана и потрепанный, но пополненный за счет резервов, корпус Томаса, Грант продемонстрировал то же блистательное умение маневрировать, какое было проявлено им при Виксбурге. Сначала он обманным движением выманил слишком нервного Джонстона из Чаттануги, а потом, не давая передышки, погнал его к Атланте. Уже 2 сентября 1864 г. Грант телеграфировал Линкольну: «Атланта наша, и это честная победа».
Участие Ли в Западной кампании и его блестящие победы при Чикамуге и Чаттануге пропали даром — оказались, как будет сказано впоследствии «унесенными ветром». Единственное, чего он в конечном счете добился, — это назначение Гранта именно туда, где он был больше всего нужен.
* * *
В конце августа 1864 г. представители Демократической партии собрались в Чикаго, чтобы выдвинуть своего кандидата в президенты. Еще до начала съезда все понимали, что назван будет Мак-Клеллан, и даже в стане республиканцев многие ожидали избрания популярного генерала. В том числе и Авраам Линкольн. За несколько дней до съезда он велел членам своего Кабинета подписать «слепой меморандум», содержание которого было известно лишь ему одному. Линкольн не рассчитывал на переизбрание и потому считал долгом своей администрации обеспечить сохранение Союза до инаугурации нового президента, поскольку тот «будет избран на такой основе, что не сможет преуспеть в деле спасения».
Однако демократы встали на путь политического самоубийства. На съезде фракция «медноголовых», выступающая за мир любой ценой, сумела оттенить последовательных сторонников Мак-Клеллана и, захватив контроль за комитетом по выработке предвыборной платформы, провела резолюцию, утверждавшую, что война закончилась провалом, и призывавшая к прекращению военных действий безо всяких условий. Выдвижение Мак-Клеллана состоялось, но ему, стороннику продолжения войны, навязали мирную избирательную платформу. Хотя он и поспешил отмежеваться от этого пункта, инициатива миролюбцев обрекла его на поражение. Прежде всего он потерял голоса большинства солдат. К тому же захват Шерманом Атланты мгновенно дезавуировал тот пункт программы демократов, где говорилось о «провале войны». 8 ноября Мак-Клеллан проиграл, получив 1,8 миллиона голосов против 3,2 миллиона в общем голосовании и 21 голос против 212 в коллегии выборщиков.
Но что, если бы демократы проявили в Чикаго побольше благоразумия? Что, если бы составной частью избирательной платформы (и подспорьем для генерала Мак-Клеллана) стала серьезная военная программа? В таком случае выборы 8 ноября вполне могли закончиться с иным результатом.
Наш семнадцатый президент
Джордж Мак-Клеллан оказался отнюдь не столь политически наивным, как полагали многие. Он понял, как следует использовать пессимизм северян, чтобы заполучить президентский пост. Прежде всего ему требовалось заручиться поддержкой двух самых многонаселенных и потому располагавших большей половиной (50% + 1 голос) голосов выборщиков, необходимых ему для победы в штатах Пенсильвания и Нью-Йорк. Помимо того демократы традиционно занимали прочные позиции в пограничных штатах — Мэриленде, Делавэре, Кентукки и Миссури. Считалось, что они имеют неплохие перспективы в двух штатах Новой Англии — Коннектикуте и Нью Гэмпшире, а также в Нью-Джерси. Наконец, стоило подумать о многолюдных южных избирательных округах Индиана и Иллинойс. Сумей генерал Мак-Клеллан склонить на свою сторону Нью-Йорк и Пенсильванию, для победы ему потребовалось бы раздобыть еще всего лишь 58 голосов выборщиков, а штаты, на которых он вознамерился сконцентрировать свои усилия, располагали семьюдесятью девятью.
Захват Шерманом Атланты, последовавший сразу же за выдвижением Мак-Клеллана, сыграл на руку военному крылу Демократической партии, один видный представитель который заявил, что «люди Мак-Клеллана сожгли в боях столько же пороху, сколько республиканцы при праздновании провозглашаемых ими время от времени побед». «Ваша кампания войдет в историю, как одна из самых памятных в мире», — написал Мак-Клеллан Шерману, не преминув позаботиться о том, чтобы копии этого письма попали в печать. Стратегия демократов заключалась в том, чтобы противопоставить Мак-Клеллана, старшего по выслуге генерала, отстраненного республиканцами от командования после великой победы при Антитаме, сугубо штатскому президенту Линкольну. Мак-Клеллан преподносился избирателям как человек, способный привести войну к завершению быстрыми, точными и профессиональными действиями. Один из членов его избирательного штаба говорил, что, «будучи избранным, генерал в первый год президентства будет очень непопулярен, ибо осуществит мобилизацию и невзирая на протесты сделает все для скорейшего подавления мятежа». Такого рода декларации обеспечили Мак-Клеллану голоса солдат.
Кроме того, демократы усиленно критиковали то, что они называли «тиранией» Линкольна, отмечая попрание таких основ свободы личности, как Habeas Corpus. Они указывали на «аболиционистский фанатизм» действующего правительства, царящий в стране социально-экономический хаос, и всяческие махинации вокруг военных расходов. Повсюду твердили, что Потомакская армия, любимое детище Мак-Клеллана, при его преемниках увязла в болоте позиционной войны и после кровопролитного, отмеченного огромными потерями лета подошла к Ричмонду ничуть не ближе чем Мак-Клеллан в 1862 г. Мак-Клеллан являлся противником освобождения рабов, однако и он, и его избирательный штаб предпочитали замалчивать эту щекотливую тему. Сам генерал более всего полагался на свою популярность в войсках и поддержку «Легиона Мак-Клеллана» — тысяч отставных или находящихся в отпуске солдат, проводивших агитацию за него среди гражданского населения.
Все предсказывали, что 8 ноября у соперников будут очень близкие результаты. Даже сам Линкольн, хотя и рассчитывал на победу с минимальным перевесом в шесть голосов выборщиков, заранее уступал Нью-Йорк и Пенсильванию Мак-Клеллану. Сам Мак-Клеллан за десять дней до выборов писал: «Все прогнозы очень благоприятны. У меня есть основания питать большие надежды».
Расчет генерала оказался точнее. В решающий день он проиграл прямые выборы, но коллегия выборщиков поддержала его в девяти штатах 120 голосами против 113. В Нью-Йорке и Пенсильвании он взял верх за счет голосов солдат, прежде всего верной ему Потомакской армии. Ему удалось склонить на свою сторону Делавэр, Кентукки и Нью-Джерси и добиться минимального преимущества в Коннектикуте и Нью-Гэмпшире. Военная программа обеспечила ему поддержку Индианы и Иллинойса. Аналитики отмечали, что именно эта часть избирательной платформы демократов определила их успех.
До инаугурации избранного президента оставалось около четырех месяцев, однако Мак-Клеллан не преминул направить всем командующим юнионистскими армиями энергичные меморандумы, где заявлял, что с наступлением 4 марта намерен не на словах, а на деле выполнять конституционные обязанности Верховного Главнокомандующего. По существу он намеревался снова вступить в командование вооруженными силами страны, с той лишь разницей, что теперь над ним не было никакого гражданского начальства. Так и случилось: капитуляцию Ли у Агаюматокс Корт Хаус 9 апреля 1865 г. вместе с Грантом принимал президент Мак-Клеллан.
К тому времени Авраам Линкольн уже находился у себя дома, в Спрингфилде, штат Иллинойс, став еще одним из восходящей к Эндрю Джексону череды президентов, чье пребывание у власти ограничилось одним сроком. В истории он остался твердым сторонником единства страны, хорошо говорившим и писавшим, но все же не сумевшим убедить народ позволить ему довести войну до конца так, как он считает нужным.
Сколь это ни парадоксально, но преемник, которого в своем «слепом меморандуме» Линкольн называл не способным спасти союз, справился с этой задачей не менее эффективно, чем мог бы сделать это переизбранный Линкольн. Конечно, не обошлось и без трудностей, ведь еще несколько месяцев по всем вопросам реформирования Союза ему приходилось иметь дело с Конгрессом 38-го созыва, где большинство имели республиканцы. Однако в бумажных и словесных баталиях Мак-Клеллан одерживал куда больше побед, чем на поле боя. Так вышло и на сей раз.
Том Уикер
Вьетнам в Америке, 1865 г.
Том Уикер, бывший обозреватель «Нью-Йорк Таймс», является также автором нескольких исторических романов.
В воскресенье, 9 апреля 1865 года, вскоре после рассвета, голодная, измотанная армия Северной Виргинии генерала Роберта Э. Ли была окружена превосходящими силами федеральной армии Гранта близ Аппоматокса (штат Виргиния)[218]. Сидя на бревне рядом с своим доверенным подчиненным, генералом Портером Александером, Ли сказал, что не видит никакого выхода, кроме капитуляции.
Александер, потрясенный услышанным, принялся пылко возражать, предлагая Ли приказать солдатам рассыпаться по лесам и кустарникам. Он призывал командующего не подвергать сражавшихся под его знаменами четыре года людей позору: ведь в ответ на вопрос об условиях, Грант мог ответить лишь одно — «безоговорочная капитуляция».
«Две трети ваших солдат,— уверял Александер,— разбегутся, как кролики или куропатки. Изловить их будет невозможно, а значит, они смогут продолжить войну».
Ли ответил, что и в этом случае на свободе останется не больше 10 000 человек, число «для продолжения войны слишком незначительное». «Но положим, — добавил Ли,— я приму твое предложение... Тогда люди, лишенные снабжения и не связанные никакой дисциплиной, начнут добывать себе пропитание грабежом и разбоем, страну заполонят вооруженные банды, и в результате воцарится такой хаос, что на восстановление общественного порядка потребуются годы. К тому же вражеская кавалерия будет преследовать беглецов и где бы те ни появились, им будут сопутствовать разорение и насилие»[219].
«Нет,— сказал старый генерал,— сейчас мы должны просто взглянуть в лицо тому факту, что Конфедерация проиграла. Пусть люди «без шума и промедления» разойдутся по домам, чтобы «собрать урожай и начать заживлять нанесенные войной раны». А насчет собственной судьбы он высказался так, «может твоим молодцам и пристало прятаться по кустам, но для меня единственно верным и достойным выходом будет сдаться и безропотно принять последствия».
Роберт Ли так и поступил. Возможно, из всех деяний прославленного военачальника это явилось величайшим, ибо оно стало весомым вкладом в обретение страной мира. Он спас Америку от партизанской войны, ставшей бы неизбежным следствием попытки реализовать отчаянный план Александера. Эта жестокая и разрушительная усобица была способна на долгие годы отстрочить воссоединение нации[220].
Комментарии к четвертой части
Для США история в нашем, европейском, понимании этого слова, началась лишь в самом конце XVIII века, когда первые общеамериканские герои — Отцы-основатели — сконструировали первый священный американский текст — доныне действующую Конституцию страны. Ту самую — «люди рождаются равными...» Росчерк пера Томаса Джефферсона положил начало второму периоду колонизации Нового Света, когда главнейшей ценностью американцев стала свобода.
В первые десятилетия следующего века была заложена основа будущего процветания величайшей западной демократии.
Современная американская транспортная сеть почти целиком подчиняется условиям теоремы Кристаллера «об идеальном распределении иерархических сетевых узлов». В результате транспортное сопротивление огромной трансконтинентальной страны минимально, а связность высока настолько, что позволяет создать оптимизированную экономику и оборонять территорию с помощью одной-единственной дивизии.
Экспансия на запад была первым естественным направлением социальной динамики Континентального конгресса, которому суждено было стать Северо-Американскими Соединенными Штатами, а затем и Соединенными Штатами Америки. Эта экспансия опиралась на развитую уже технику начала XIX столетия, на постоянный приток пассионарно активных эмигрантов из Европы, на неимоверное богатство земель, ранее никогда не эксплуатировавшихся человеком. Но решающим фактором стал равнинный характер континента... Теорема Кристаллера, собственно, и была доказана для такой идеальной бесконечной плоскости.
Все же различие климатических зон континента породило противоречие между Югом и Севером. Экономика Юга опиралась на выращивание экспортных культур — табака и хлопка — при использовании рабского труда, транспортная сеть была вытянута вдоль течения Миссисипи на западе и вдоль океанского побережья на востоке. (Собственно, Юг отказался от преимуществ, которые давало «естественное» конструирование узлов связности по Кристаллеру, в пользу высокоэффективного речного и морского каботажного транспорта. Строительство железных дорог подразумевало производство широкомасштабных строительных работ с привлечением большого количества свободных рабочих и создание сложной эксплуатационной инфраструктуры. Для организации перевозок по воде требовались только пароходы, закупавшиеся на Севере, и минимум обученного персонала. Но в простоте создания речного транспорта таился и его основной недостаток. Дешевая и простая водная сеть практически не может быть расширена и жестко ограничивает рамки построенной на ее использовании экономики.) В свою очередь Север воспользовался своей развитой железнодорожной инфраструктурой для обеспечения работы предприятий тяжелой индустрии, эксплуатирующих труд свободных наемных рабочих.
К середине столетия в САСШ было две экономики, две транспортные сети, две внутренние и внешние политики. Необходим был лишь повод, чтобы на территории страны возникло два правительства, управляющих двумя армиями и двумя военно-морскими флотами. Повод отыскался на Западе.
Обе структуры — и Северная, и Южная — были заинтересованы в экспансии к тихоокеанскому побережью, но для железнодорожного Севера она была более естественна. Решение Конгресса, согласно которому все вновь создаваемые на Западе штаты, объявляются свободными от рабства, стало смертельным для культуры и экономики Юга и вынудило рабовладельцев попытать счастья в безнадежной войне.
В этой войне обе стороны остервенело защищали свое представление о свободе.
Вслед за победителями-янки мы привыкли считать рабовладельческую культуру американского Юга отвратительной гримасой истории. Но, рассуждая в терминах греха и воздаяния, мы должны помнить, что Юг не был повержен подвижничеством аболюционистов и примером свободных людей Севера. Не был он и разбит на поле брани «черным ураганом» восставших рабов, вооруженных винтовками, изготовленными на фабриках северных промышленных штатов.
Конфедерация, уступающая своему противнику в экономическом и техническом отношении, с первых дней войны подвергнутая четко организованной морской блокаде, сражалась более четырех лет. Ее офицеры показали себя грамотными, инициативными и отчаянными людьми, ее кораблестроители, имея в своем распоряжении заведомо негодные средства, до самого конца поддерживали флот мятежников в исправном состоянии. Никто не будет умирать ради свободы рабства и прибылей плантаторов. Офицеры и солдаты Юга воевали так, как сражаются только за родной дом, за своих близких, за свой образ жизни. Впрочем, к северянам это тоже относится...
Юг был сломлен морской блокадой и блестящим рейдом отряда Шермана по Джорджии. Блестящим — но и беспредельно жестоким. Шерман не стал воевать с армией противника. Вместо этого он подорвал самые основы экономики Конфедерации, разрушил хозяйственные связи южных штатов и полностью разорил страну. Война была окончательно проиграна Югом в тот день, когда солдаты Шермана уничтожили полотно единственной на весь Юг магистральной железной дороги.
Может быть, именно в этот день окончательно сложился специфический «американский стиль» ведения войны. Прежде всего противник подвергается полной идеологической и информационной изоляции: отныне в глазах всего мира он должен стать воплощением зла, притом зла тупого и ограниченного. Затем войне в обязательном порядке придаются черты освободительного похода. Американцы никогда не воюют против какого-то народа, они предпочитают бескорыстно сражаться за его освобождение. Это снимает чувство вины и обесценивает все этические ограничения, в результате усилия американской военной машины ориентируются против инфраструктуры вражеской страны, против ее городов, против основы существования ее людей.
Лицемерие американской военной политики лежит на поверхности, гораздо труднее разглядеть за разоренными селами и превращенными в каменный щебень городами ее несомненную искренность. Янки не знают поражений... потому, может быть, что истовой верой в справедливость своего дела они превращают его в справедливое — хотя бы только в своей альтернативной реальности.
Приложение 4
Армии гражданской войны
Регулярные вооруженные силы США в 1861 году комплектовались по найму и были одними из самых дисциплинированных и маленьких в мире. Численность сухопутных войск составляла лишь 16 тысяч человек, в том числе 1098 офицеров — выпускников академии Уэст-Пойнт. В пехоте и кавалерии самой крупной войсковой единицей был полк, а в артиллерии — батарея. Этих сил было совершенно недостаточно для начавшейся войны, и в ходе нее были созданы первые в военной истории массовые армии «на пустом месте». Мобилизационные ресурсы Севера составляли около 4 миллионов человек, южане имели 1140 тысяч белых призывного возраста. Кроме того, за время войны в федеральную армию поступили более 500 тысяч эмигрантов.
При организации армии обе стороны сохранили привычную для командиров регулярных войск старую систему. В армии США она была несколько необычной. Основным тактическим соединением в ней считался пехотный полк, состоящий из одного батальона в составе 10 рот. Боевой состав полка должен был составлять около 1000 штыков. Фактически батальонное звено в составе полка отсутствовало, хотя иногда весь полк именовался батальоном. Подобная система была пригодна в мирное время, когда полк фактически представлял собой административную единицу, позволяя сократить офицерский штат и соответственно расходы. Управление же подобным соединением в бою представляло значительные трудности, которые привели к постепенному снижению в ходе войны численности полков до 350 — 400 человек. Таким образом, американский пехотный полк приблизился к европейскому батальону. Эти полки-батальоны сводились в бригады, включавшие от 2 до 5 батальонов в каждой. Численность этих формирований сильно колебалась в зависимости от потерь, прибытия пополнений и других обстоятельств. Федеральная бригада могла насчитывать от 800 до 1700 человек (конфедеративная — от 1400 до 2000). Дивизии включали в себя 3 — 5 пехотных бригад и одну артиллерийскую из трех батарей по 6 орудий. Северные соединения насчитывали обычно 3 — 7 тысяч человек. Южане предпочитали дивизии большего состава, численность их дивизий доходила до 14 тысяч солдат и офицеров. Следующим соединением с 1862 года являлся корпус из 3 — 4 дивизий, общей численностью до 20 000 человек у федералов и 28 000 у южан. Большая численность южных дивизий и корпусов объясняется тем, что они имели талантливых, но немногочисленных командиров, справлявшихся с управлением подобными частями. Высшим соединением являлась армия. Армия Северной Виргинии — наиболее крупная из южных — включала в себя 2 — 3 корпуса, Потомакская армия северян — 7 — 8. Предпринятая северянами попытка создания групп корпусов не привела к значительным результатам.
Всего за время войны на Севере было сформировано 2144 пехотных и 272 кавалерийских полка. Артиллерия союза составила 432 батарей. Конфедерация создала 642 пехотных и 137 кавалерийских полков, усиленные 272 батареями.
Датой официального начала формирования армии Конфедерации можно считать 6 марта 1861 года, когда президент Джефферсон Дэвис призвал губернаторов своих штатов предоставить 100 тысяч добровольцев на одногодичную службу. Подготовка к созданию собственной армии, однако, началась на юге еще в канун 1861 года, сразу после выхода первых штатов из состава Союза. Первоначально создавались и обучались «по месту жительства» отдельные добровольческие формирования численностью около роты, вооружавшиеся и обмундировывавшиеся из местных ресурсов. Базой для части из них послужила ранее существовавшая местная милиция, другие создавались заново. Численность формируемых войск определялась наличными запасами оружия. К моменту официального начала формирования армии бойцы этих рот уже прошли некий начальный курс боевой подготовки и привыкли друг к другу и своим командирам. (Необходимо заметить, что в создании этих отрядов не было ничего противоречащего законам США.) Организаторам армии оставалось собрать готовые роты в учебных лагерях для окончательной «доводки», а потом свести их в полки и бригады. Командный состав этих частей, до командира полка включительно, первоначально был выборным. Серьезность подхода населения к делу создания армии на Юге позволила поставить во главе новых формирований людей действительно соответствующих своим новым обязанностям. Положение с командным составом облегчало и то, что из 286 офицеров, которые примкнули к армии Конфедерации, 182 были старшими. Это позволило заполнить должности от командира бригады и выше профессиональными военными, назначаемыми президентом. Логичностью своей организации армия Юга обязана Джефферсону Дэвису, бывшему в 1850-х годах военным министром САСШ. Основной проблемой для армии Юга являлось нежелание губернаторов давать «свои» войска для действий в других штатах и слабость транспорта, неспособного обеспечить нормальное снабжение крупных соединений. Последнее относится как к железнодорожному, так и к гужевому транспорту.
Союз приступил к организации большой армии заметно позже южан — 15 апреля 1861 года, когда президент обратился к губернаторам штатов с призывом предоставить ему 75 тысяч добровольцев на трехмесячную службу. (Он получил на это право после нападения на Форт-Самтер, но энтузиазма у губернаторов эта идея не вызвала, и в некоторых местах они прямо противодействовали формированию войск.) Создание армии первоначально носило характер политической кампании, так как многие политики создавали «свои» полки ради звания и положения и делали это так как умели и привыкли. Формирование частей началось сразу с уровня полков, создаваемых из совершенно необученного личного состава. Обилие формируемых частей вызвало распыление людских ресурсов, и в результате некомплект частей стал общим явлением. Положение усугублялось нехваткой офицеров-инструкторов, способных обучить новобранцев и формировать части. В этом вопросе основная «заслуга» принадлежит главнокомандующему Союза генералу Уинфильду Скотту. Располагая офицерами и сержантами регулярной армии, он не только сам не направил их на создание новых частей, но и препятствовал тем, кто желал стать инструктором. Его отказ предоставлять отпуска офицерам для организации обучения волонтеров граничил с предательством. (Другой «гениальной» идеей Скотта была борьба против казнозарядных и магазинных винтовок. Тезис о вреде скорострельного оружия был изобретен не императором Николаем II.). Но настоящим бедствием для армии Союза стала некомпетентность представителей старшего командного состава. Отсутствие достаточного количества старших офицеров привело к стремительному карьерному росту вчерашних майоров и капитанов. Получив под свое командование корпуса и дивизии, они начали вспоминать свою учебу в Уэст-Пойнте и пытаться применять остатки знаний на практике. Результаты были самые печальные. Не имея опыта управления войсками, они могли создавать в своих штабах красивые оперативные планы, но при их реализации сталкивались с непредвиденными обстоятельствами или действовали слишком неуверенно. В обычных армиях необходимый опыт приобретается, а неспособные офицеры отсеиваются еще в мирное время, что и составляет задачу соответствующих отделов Генерального штаба. Но северным командирам пришлось сдавать экзамен на зрелость под огнем, и «экзаменационная комиссия» в лице генералов Ли и Джексона не прощала ни малейшей ошибки. Платой за подобную учебу стали десятки тысяч человеческих жизней и затянувшаяся война. Другой вид военачальников Союза представляли дилетанты, назначавшиеся по причинам политического характера и прозванные генералами-политиканами. Они тоже учились методом проб и ошибок.
Тактика
Классическая тактика «гладкоствольного» периода считала главным элементом штыковую атаку. Атакующий стремился сблизится с противником в плотных шеренгах, обеспечивающих победу в рукопашной. Его задачей было максимально быстро пройти зону ружейного огня, не смешав при этом боевого порядка. Идущий в атаку полк строился в две-три шеренги, выслав вперед редкую стрелковую цепь для разведки и охранения, а следующие за ним части оставались в колоннах, развертываясь по мере надобности. Обороняющийся, в свою очередь, стремился расстроить ряды атакующих ружейным огнем до того, как дело дойдет до штыкового боя. Подобная тактика работала при эффективной дальности стрельбы порядка 150 метров и скорострельности 2 выстрела в минуту.
Все изменилось с массовым применением нарезного оружия, пришедшего на смену гладкоствольному. Прицельная дальность винтовок составляла 400 метров и более, а убойная доходила до двух километров. Скачок дальности ружейного огня, вызванный переходом на нарезное оружие, обеспечивает превосходство обороны над атакой и самым решительным образом меняет тактику войск. Наступление в плотных построениях под четвертьчасовым градом свинца стало самоубийственным. Плотные шеренги и колонны стали теперь представлять собой прекрасные мишени и было вполне возможным отразить атаку одним ружейным огнем, не доводя ее до рукопашной. Преимущество обороняющихся состояло в том, что они могли располагать своих стрелков в укрытиях, как имеющихся (дорожные выемки, насыпи, стены) так и специально построенных (траншеях). Армии Америки широко применяли самоокапывание, успевая за одну ночь построить вполне законченную оборонительную позицию с окопами в рост человека. Нашли себе применение колючая проволока, противопехотные мины и магазинные винтовки, появились снайперы с оптическими прицелами, выбивающие вражеских командиров. На все эти новшества атакующие ответили превращением шеренг в цепи, наступающие перекатами, но этого было недостаточно для прорыва обороны. Лобовые атаки на сколько-нибудь подготовленную оборону неизменно отбиваются с тяжелыми потерями и обе стороны стремятся обходными маневрами заставить противник выйти из укреплений и принять маневренный бой в поле.
Артиллерия в Гражданскую войну играла меньшую роль, чем до и после нее. Это объясняется тем, что она переживала переходный период и условиями местности, в которой проходили сражения. Дальность картечного огня оказалась много меньше прицельной дальности новых винтовок, что сделало артиллеристов потенциальной добычей вражеских стрелков. Новые нарезные пушки обладали большой дальнобойностью, но реализовать ее мешало отсутствие прицелов и конструктивные недостатки снарядов. Снаряды того времени снаряжались слабым взрывчатым веществом — порохом и не имели ударных взрывателей. При стрельбе основным «противопехотным» средством — картечью — нарезные пушки были мало эффективны. Дополнительным обстоятельством, осложнявшим использование артиллерии, был закрытый характер местности в районе основных сражений.
Уроки гражданской войны в США были многочисленны и понятны. Фактически это уже война новейшего времени. При внимательном рассмотрении ее можно увидеть многие элементы будущих мировых войн. Прежде всего, это тотальность ведения войны со стороны Севера. В отличие от предшествующих межгосударственных войн Север не рассматривает Юг как послевоенного соседа и партнера, южная цивилизация подлежит уничтожению. Неспособный победить южан в генеральном сражении, Север сосредоточивает свои усилия на разрушении экономической системы Конфедерации. Это достигается им удушающей блокадой и методическим захватом территории, опирающимися на огромное превосходство в силах. Поход Шермана, обладавшего трехкратным превосходством, направлен прежде всего против транспорта и промышленности южан, а не против их армии. Последняя просуществовала до самого конца, но разрушенная страна не могла больше снабжать ее. Ранее к подобным методам прибегали только в колониальных войнах, но теперь такое стало дозволено и по отношению к «белому человеку».
В оперативной области эта война является первой, где широко применяются железные дороги. За них идет борьба между противоборствующими армиями, и их пропускная способность определяет численность последних, образуя, таким образом, «рисунок» войны. Переброски по железной дороге корпуса Лонгстрита с Востока на Запад и обратно являются первым случаем подобного маневра в истории. Одновременно обнаруживается и уязвимость рельсовых магистралей, легко выводящихся из строя или блокирующихся.
Но просвещенные европейцы, собиравшиеся только наступать, не снизошли до полноценного анализа Гражданской войны и приняли только отдельные новшества, позабыв об остальных. Французы вооружили свою пехоту превосходной для своего времени дальнобойной винтовкой, но позабыли реформировать пехотную тактику. Дальнобойную артиллерию они вообще перестали развивать, полагаясь на эффективность подвижных гладкостволок. Немцы сделали упор на создание многочисленной нарезной артиллерии и ударных взрывателей, но не заметили бессилия тогдашних полевых пушек против укреплений. Платить за эту невнимательность пришлось на полях франко-прусской войны.
Не умеющая окапываться французская пехота будет стоять под градом прусских снарядов, беспощадно выкашивающих ее ряды. Траншеи могли бы спасти ее от этого избиения с дальней дистанции, но саперов, обязанных их соорудить, не хватает. Выдать лопаты самим пехотинцам никому не приходит в голову, и французские генералы проигрывают сражение за сражением, действуя в полном соответствии с уставом. У них во всем виновато не собственное тупоумие, а промышленность, которая не дала им таких же пушек. Не заметят они и массовый призыв со всеми его возможностями и проблемами, а в результате, создав новую армию из одних резервистов, будут поражаться ее низкой боеспособности. Пруссаки, в свою очередь, будут бросать свою гвардию в лобовые атаки и восторгаться ее героизмом на этой бойне. От разгрома их спасет только уже упомянутое выше пренебрежение французов к строительству оборонительных сооружений. И что еще поразительнее, уроки не будут извлечены и из собственных бед. В 1914 году французы по-прежнему не будут жаловать рытье окопов, а немцы посылать свою пехоту в атаку густыми шеренгами под отбивающий шаг барабан против пулеметов. Легко представить себе, что сказал бы по этому поводу генерал Ли.
А. Поляхов
Часть V
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
Роберт Коули
Альтернативы 1914 года
Мировая война, которой могло бы не быть
И по сей день общепринятое представление о Первой Мировой войне связано прежде всего с замершей в неподвижности линией окопов Западного фронта. Однако сегодня мы видим, что ответы на многие вопросы, связанные с этой войной, следует искать в событиях, произошедших до того, как на исходе 1914 года эти окопы были вырыты. Война началась как мобильная и маневренная, а траншеи стали своего рода подведением итогов первых месяцев боевых действий, указавшим столетию направление, еще год назад показавшееся бы немыслимым.
Первые месяцы войны 1914 года таили в себе множество альтернативных возможностей. Что,если бы Великобритания не вступила в игру? Могла бы тогда Германия выиграть войну? Сделал бы мир ставку на германскую победу? Могла ли война и вправду закончиться в сроки, представлявшиеся поначалу единственно реальными большинству европейцев — «до начала листопада»? Что, если бы США не оказались вовлеченными в конфликт? Как выглядело бы наше столетие, не случись в его начале этой войны или же свелись она к непродолжительному конфликту с участием лишь держав континентальной Европы? И главное: обязательно ли эта война должна была стать Мировой?
И ныне, на пороге нового, двадцать первого, столетия еще не сгладились шрамы тех лет — шрамы, навсегда изменившие соотношение сил и до сих пор оказывающие влияние на нашу жизнь. На что был бы похож мир без этих шрамов? История, перефразируя Джеймса Джойса, это кошмар, от которого мы силимся пробудиться.
Роберт Коули — издатель «Милитари Хистори Квотерли» («Ежеквартального журнала военной истории») и (совместно с Джеффри Паркером) «Спутника любителя военной истории», а также редактор настоящего сборника, является признанным знатоком истории Первой Мировой войны.
То была худшая из войн, случившаяся в лучшее из времен. «Первая Мировая война стала конфликтом трагическим и ненужным» — такими словами начинается книга Джона Кигана о «Великой войне»[221], как называли ее до тех пор, пока не разразилась другая, еще более великая. «Это была величайшая ошибка современной истории»,— вторит Кигану Нил Фергюсон в заключении к своему труду «Печальный факт войны». И по мере того как мы приближаемся к концу отмеченного почти непрекращающимся насилием столетия, справедливость подобных утверждений становится все яснее.
Но зададимся несколькими вопросами. Можно ли было избежать этой войны? Можно ли было свести ее, и по масштабу и по последствиям, к конфликту не общемирового, но общенационального значения. И наконец — могла ли война закончиться с другим результатом?
На каждый из названных вопросов — быть может, за исключением первого, следует дать положительный ответ. Разумеется, какая-то вспышка насилия все равно бы произошла: длительное политическое противостояние в духе «Холодной войны» не соответствовало менталитету того времени. Подстегиваемая гонкой вооружений, Европа с трудом сдерживала стремление к решению дипломатических проблем с помощью силы и давно уже балансировала на опасной грани. Национальная вражда, борьба за рынки и колониальные владения, столкновение стратегических планов и гегемонистских устремлений — нельзя отрицать, что политический климат во многом определялся именно этими факторами. Мнение о неизбежности войн получило широкое распространение и нашло отражение в литературе и публицистике того времени. Спорили лишь о том, охватит ли будущий пожар весь континент, долго ли продлится и кто одержит верх. При этом мало кто сомневался в том, что победа будет достигнута в достаточно короткие сроки и изменит лишь соотношение сил, но никак не политическую структуру Европы с ее колониальной системой. Того, какой размах примет эта бойня, как надолго увязнет в ней человечество и какие гигантские перемены принесет она миру, не представлял себе практически никто. Все расчеты и предсказания оказались неверными[222].
Если какое-то событие и можно назвать водоразделом современной истории, то именно Первую Мировую войну. Но при всей исторической неизбежности такого рода водораздела им вовсе не обязательно должно было стать одно событие, и не обязательно именно война. Да и война, пусть и приняв значительные масштабы, могла и не перерасти в глобальное вооруженное столкновение — к такому мнению все чаше склоняются современные исследователи, признанным лидером которых является Фергюсон. В случае полного отказа или отсрочки Англией своего вступления в войну боевые действия вполне могли завершиться еще в конце 1914 года — вскоре после осеннего листопада. Одержав победы в нескольких сражениях, Германия могла заключить выгодный для себя мир, заняв на континенте положение первой среди номинально равных держав. В этом случае распад Британской империи был бы отсрочен на десятилетия — равно как и наступление «американского века», берущего начало со вступления США в Первую Мировую войну. К тому же при воплощении в жизнь такого сценария коммунисты едва ли захватили бы власть в России. И наконец, спросим себя — не случись ПЕРВОЙ (это слово выделено намеренно) Мировой войны — разве произошла бы Вторая, с ее трагическим финалом в виде атомной бомбардировки[223]? Хотя, принимая во внимание тягу человечества к экстремальным способам разрешения конфликтов, можно предположить, что рано или поздно бомбу все равно пустили бы в ход.
Давайте же рассмотрим несколько альтернативных вариантов развития событий, каждый из которых исключил бы те последствия, которые принесла война в действительности но, зато, без всякого сомнения, повлек бы за собой иные. Какие — трудно даже вообразить.
Англия остается в стороне
Всю последнюю неделю, когда над континентом сгущались грозовые тучи и основные материковые державы уже приступили к мобилизации, вероятность вступления в войну Великобритании оставалась ничтожно малой[224]. Франция всячески пыталась склонить ее к военному союзу против Германии и Австро-Венгрии, но со времен победы над Наполеоном англичане старались держаться в стороне от сугубо материковых дел, а разгорающийся конфликт виделся им поначалу именно таким. Участие во внутриевропейском противоборстве могло лишь уменьшить мировое влияние Британии, подорвав ее военную и экономическую мощь[225].
Хотя эрцгерцог Австрии Франц-Фердинанд и его жена были убиты в Сараево 28 июня, либеральный кабинет Герберта Асквита собрался на заседание, посвященное международным делам, только в пятницу 24 июля. Причем основным на повестке дня стоял вопрос об Ирландии, ибо правительству Англии наиболее острой и злободневной виделась проблема гомруля[226]. Когда после утомительного заседания государственные мужи уже собирались разойтись, их попросил задержаться на несколько минут министр иностранных дел сэр Эдвард Грей. Невозмутимый, несколько скрытный, подслеповатый вдовец как всегда усталым голосом проинформировал собравшихся об ультиматуме, предъявленном Австро-Венгрией предполагаемому вдохновителю убийства — правительству Сербии. Ультиматум представлял собой явное посягательство на суверенитет Сербии, а его отклонение означало начало войны. Причем войны, вступления в которую на стороне Австро-Венгрии следовало ожидать связанной с ней союзом Германии, а на стороне Сербии — России и дружественной ей Франции. Министры выслушали Грея и разъехались на выходные.
В написанном в тот же вечер письме Асквит отмечал, что на континент надвигается «Армагеддон», однако выражал надежду на то, что «...к счастью, нет оснований полагать, будто мы будем чем-то большим, нежели зрители». В начале следующей недели, когда все континентальные правительства, оправившись от растерянности, вплотную занялись мобилизационными мероприятиями, Англия все еще пребывала в благодушном спокойствии. В среду, 29 июля, занявшая позиции на правом берегу Дуная австрийская артиллерия начала обстрел столицы Сербии — Белграда. Тем временем Грей позволил себе довольно туманные высказывания, воспринятые в Германии как завуалированное подтверждение невмешательства Британии в случае осуществления давно разработанного немцами плана вторжения во Францию через Бельгию. Все говорило о намерении Англии и впредь держаться подальше от континентальной свары. Разве в тот самый день, когда австрийцы предъявили свой ультиматум сербам, канцлер казначейства Дэвид Ллойд-Джордж не доложил парламенту о настолько заметном улучшении отношении между Великобританией и Германией, что он «предвидит значительное сокращение расходов на военно-морской флот». Асквит прекрасно понимал, что и в его партии и, более того, в его кабинете большинство принадлежит сторонникам неучастия в назревающем конфликте. Более того, на тот момент отказ от нейтралитета мог бы угрожать падением правительства. Даже в пятницу 31 июля, после того как Австрия, Россия, Турция и Франция начали мобилизацию, он планировал на следующее утро выступить с речью в Честере, после чего сесть на поезд и поехать на уикэнд в гости к своему другу, лорду Шеффилду.
Восстанавливая хронологию тех дней, на какой-то момент можно просто поверить, что Англия так и останется в стороне — а значит, 947 000 молодых парней, цвет Британской Империи, не сложат головы в этой бойне. Их тела не будут громоздиться на проволочных заграждениях Тьепваля и тонуть в грязи Пашендаля. Война не выйдет за пределы континента и уж ни в коем случае не станет глобальным столкновением, с участием Индии, Австралии, Южной Африки и Канады. Не ввяжутся в драку и Соединенные Штаты: разные партии за океаном станут, вероятно, поддерживать ту или другую сторону, но общие отношения бывшей колонии с бывшей метрополией, оставаясь особой смесью любви и ненависти, так и не перерастут в военный союз, оказавшийся самым долговременным стратегическим альянсом столетия. Империя попросту не будет нуждаться в американской поддержке, ибо, не растратив силы в войне, она останется мировым лидером и после 1945 года — который, в свою очередь, тоже не станет примечательной исторической датой.
Итак, мы вправе вообразить, что 4 августа, спустя одиннадцать дней после того, как Грэй проинформировал своих коллег о содержании австрийского ультиматума, Англия все еще оставалась бы нейтральной. Во всяком случае, в тот уик-энд тон задавала антивоенная фракция. Утром в субботу (1 августа) Грэй сообщил французскому послу о «невозможности направить в настоящий момент на материк экспедиционный корпус», поскольку пребывал в убеждении, что предоставление военных гарантий Франции приведет к расколу кабинета. Тем временем Лондон охватила связанная с известиями о мобилизации в Германии финансовая паника, что повлекло за собой экстренные заседания правительства. В целом оно склонялось к объявлению нейтралитета, чему препятствовала позиция Грэя, не согласного с таким курсом и угрожавшего подать в отставку. Между тем за бильярдом молодой сторонник жесткого курса, первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль, все-таки убедил только что узнавшего об объявлении Германией войны России Асквита в качестве предупредительной меры привести в боевую готовность военно-морской флот. В тот же самый вечер, перепутав что-то в суматохе военных приготовлений, германские войска вступили в Люксембург — и тут же были выведены обратно, поскольку в соответствии с утвержденным планом вторжение намечалось лишь на следующий день.
«С тех пор, — пишет Барбара Такман, — историки беспрестанно задаются вопросом — «А что, если бы в 1914 г. Германия ограничилась оборонительными действиями против Франции, развернув полномасштабное наступление на восточном фронте?»[227]
В то воскресенье состоялось два заседания кабинета (второе было прервано и отложено в половине девятого вечера), и все это время казалось, что правительство Асквита должно пасть. Такой исход представлялся не просто вероятным, но по существу неизбежным! Четыре министра говорили о возможной отставке, и найдись среди них решительный лидер (в первую очередь им мог стать Ллойд-Джордж), она бы непременно состоялась. Но именно Ллойд-Джордж попросил отложить заседание, а вместе с ним и обнародование поданных им и его коллегами прошений об отставке.
Ночь свершила чудесную перемену в настроениях общества и политиков, добавив им воинственности — не без помощи немцев. С утра 3 августа, в понедельник, являвшийся банковским выходным, Асквит узнал о предъявлении Германией ультиматума Бельгии с требованием беспрепятственного пропуска через бельгийскую территорию тридцати четырех дивизий 1-й армии генерала Александра фон Клюка[228]. Момент для этого немцы выбрали самый неподходящий. Неожиданно в Англии заговорили о том, что четырехсоттысячная германская группировка не просто срежет уголок через Бельгию, а пройдет по всей стране, создав непосредственную угрозу таким портам на Ла-Манше, как Кале и Булонь[229]. Легионы кайзера окажутся менее чем в тридцати милях от Британского побережья. Маятник общественных настроений тут же качнулся в сторону войны. На Трафальгарской площади и возле парламента митинговали толпы людей с национальными флажками в руках. Британский ультиматум стал облегчением для нерешительного Асквита, опасавшегося, что отказ от вмешательства ввергнет его правительство в еще более глубокий раскол, чем интервенция. Для тори приоткрылась дверь к власти, и Черчилль уже начал осторожные переговоры с консерваторами, интересуясь, «готова ли оппозиция спасти правительство путем вступления в коалицию», если слишком многие члены кабинета Асквита уйдут в отставку. Правда, в конечном счете в отставку подали всего два министра. Как слишком часто случалось в те тревожные дни и в Англии, и на материке, политиков куда больше заботило, что будет с ними если они не вступят в войну, нежели последствия их вступления. В тот день выступавший от имени правительства в Палате Общин Грей заявил «совершенно очевидно, что мир в Европе сохранить невозможно...»[230]
К концу следующего дня Англия официально вступила в войну. Но что могло бы произойти в случае общей отставки и падения правительства Асквита?
Даже в случае замены его воинственно настроенным коалиционным кабинетом отсрочка на одну-две недели могла изменить все. Не состоялись бы арьергардные бои при Монсе и Ле Като, где британские экспедиционные силы впервые после Крымской войны пролили кровь на европейском театре военных действий. Вполне возможно, Англия воздержалась бы от посылки на материк своих незначительных (80 000 человек и 30 000 лошадей) сил, сосредоточившись на морской блокаде германских портов[231]. Ну, а в случае назначения новых выборов вступление в войну оказалось бы и вовсе отложенным до осени. Кто взял бы на себя ответственность объявления войны до выборов? К тому же воинственное возбуждение в обществе могло бы улечься довольно быстро, с пониманием того, что германская военная машина не создает непосредственной угрозы портам Английского Канала.
К тому же (хотя по этому поводу можно спорить до бесконечности) французы имели возможность остановить немцев и без британской помощи. Их пыл еще не угас, как произойдет в 1915 году, после страшных потерь в Артуа и Шампани[232]. Да и такие командиры, как Фердинанд Фош или Луи Феликс Мари Франсуа Франше д'Эспре[233], ничем не уступали германским военачальникам. Несмотря на неудачное начало войны, французская армия была вовсе не так плоха, как думают многие. Вопрос о вступлении в войну мог со всей остротой встать перед Англией осенью, когда Германия и впрямь подошла бы вплотную к захвату портов в Канале. Однако к тому времени вполне могла появиться и возможность достижения договоренности, каковая и будет нами рассмотрена ниже.
В действительности же исход войны был предопределен вечером во вторник 4 августа. Германия имела возможность выиграть войну на континенте — но отнюдь не мировую. Однако всю тяжесть вовлечения в боевые действия всего мира немцы начали ощущать лишь позднее, осенью. Пока все было на их стороне.
Германия одерживает победу на Марне (если дело вообще дойдет до Марны)
Романист Джордж Бэйли как-то сказал, что «события, о которых мы знаем, что они обязательно должны произойти, вовсе не являются неизбежными». Это суждение справедливо как по отношению к вступлению Британии в войну, так и в связи с другим важнейшим событием, имевшим место в Западной Европе тем летом. Легко счесть совокупность больших и малых маневров и операций, объединенных общим названием «сражение на Марне», хаотическим столкновением сил, поначалу приблизительно равных и движимых стихийным боевым импульсом. В действительности же все происходившее во многом определилось тем фактом, что среди принимавших решения командиров слишком многие давно перевалили шестидесятилетний возрастной рубеж.
За несколькими яркими исключениями генералам обеих противоборствующих сторон недоставало именно энергии, в то время как именно энергия жизненно необходима для успеха такого длительного операционного противоборства, результаты которого в те первые и сумбурные дни войны часто определялись далеко позади передовых линий. Да и линии как таковые обозначились лишь на завершающем этапе кампании, когда воинские группировки стали соединяться в сплошной фронт и усиленно окапываться. До этого фронты возникали и распадались в кровопролитных стычках, армии не растягивались в шеренги, а выстраивались в колонны и, беспрестанно маршируя по пыльным дорогам, пытались зондировать фланги противника, ища бреши или пути для обхода. В ходе этой маневренной войны случалось, что вражеские дивизии передвигались параллельно одна другой. В течение месяца кампании у Марны противоборствующие подразделения преодолевали в среднем по двенадцать с половиной миль за день. Генералы делали все возможное, чтобы не терять связь с собственными частями и следить за перемещениями неприятеля, но это удавалось далеко не всегда. Верховное командование обеих сторон имело весьма туманное представление о происходящем[234].
Последствия германской победы в 1914 году
Продлись такая мобильная, маневренная кампания несколько дольше, Германия могла бы одержать победу. Она просто должна была одержать победу — и тем самым избавить всех нас от многих невзгод, пришедшихся на следующие 85 лет.
В наши дни непрерывная полоса германских побед в августе 1914 года невольно сопоставляется с начальным этапом осуществления плана «Барбароссса». Париж, в предместьях которого были замечены немецкие конные патрули, мог бы стать некой химерической Москвой. В соответствии с «Планом Шлиффена», названном по имени его создателя, графа Альфреда фон Шлиффена, немцы предприняли широкомасштабное наступление с охватом позиций противника. Основные их ударные силы, сосредоточенные на правом фланге, форсированным маршем прошли через Бельгию и обрушились на равнины северной Франции. На карте германские войска выглядели гигантским крабом с растопыренными клешнями, каждая из которых представляла собой армию — то был воистину «кайзеровский краб». Французы, слишком сосредоточившиеся на первой фазе выполнения своего собственного наступательного «Плана 17», вели через границу массированный артиллерийский обстрел промышленных центров за Рейном и оказались застигнутыми врасплох. Когда они начали переброску войск в западном направлении, время было упущено.
Двенадцать считавшихся неприступными фортов, окружавших пограничный бельгийский город Льеж, пали первыми, оказавшись неспособными противостоять чудовищным гаубицам[235] производства заводов Круппа и фирмы «Шкода». Брюссель сдался без боя. Между тем французы, совершенно не обращая внимания на все возрастающую угрозу, начали из района Арденн наступление на Лотарингию. «Пограничное сражение» в середине августа продолжалась 11 дней и стоила им потери 300 000 человек. Когда же французская армия все-таки вступила в Бельгию, она была почти наголову разгромлена в сражении при Шарлеруа (22 — 23 августа). Еще один укрепленный бельгийский город, Намюр, пал 23-го, в тот самый день когда британцы, силами всего пяти дивизий совершили свой отважный, но напрасный бросок вдоль канала и через шлаковые отвалы Монса[236]. На своем участке фронта им удалось задержать немцев и отсрочить их вторжение во Францию, но всего на один день. Двадцать четвертого августа передовые германские части пересекли французскую границу — лишь на несколько часов позже жесткого срока, установленного «Планом Шлиффена».
Именно здесь мы и подходим к историческому перекрестку — ибо, как писал в своем сообщении о Марне Черчилль, тут-то и начинают аккумулироваться ужасные «если». Следующим девяти дням (с 24 августа по 1 сентября) предстояло стать решающими. Судя по всему, именно они определили исход войны. Были ли одержанные Германией до сего момента победы слишком легкими, а маневр их семи армий, подрезавших противника на Западе как косой, совершенно неотразимым?
Вспомним, что первоначальный план предусматривал сосредоточение основных сил на правом крыле: большую часть сена всегда срезает кончик косы. Легенда гласит, что последними словами умершего в 1913 году фон Шлиффена были «Укрепите правое крыло». Эта почетная роль досталась 1-й армии генерала фон Клюка, лучшего военачальника, какого имела Германия на Западном фронте. Перед ним стояла задача, в то время как остальные армии движутся в южном направлении, совершить обходный маневр и выйти к Парижу, поймав французов в ловушку. Согласно детально продуманному и разработанному германскому плану, достижение этой цели намечалось на 39-й день кампании.
Однако преемник Шлиффена на посту начальника Генерального штаба Хельмут фон Мольтке (племянник и тезка великого фельдмаршала, героя трех войн, двумя поколениями раньше создавших Германию как страну) не преминул внести в план свои коррективы. «Мрачного Юлиуса» — так называли Мольтке сослуживцы за его широкой спиной — никогда не оставляла мысль о возможной угрозе со стороны России. Задолго до начала войны он перебросил на восток четыре с половиной корпуса общей численностью в 180 000 человек (все из состава армий правого крыла) и отнюдь не был уверен в достаточности этих мер[237]. Кроме того, в отличие от его предшественника ему претила мысль о вступлении французов на немецкую землю. Идея Шлиффена заключалась в том, чтобы дать французам заглотить столько германской территории, сколько им удастся, — в результате чего они попадут в мешок и будут обречены на уничтожение. Однако гордыня заставляла Мольтке оборонять каждую пядь германской земли даже вопреки стратегической целесообразности. С этой целью он усилил левое крыло, и опять-таки за счет правого. Ну и, наконец, план Шлиффена предусматривал взятие французов в клещи путем совершения частью сил броска через Голландию, в обход Маастрихта[238]. Это должно было способствовать более широкому охвату и облегчить в самом начале операции прохождение правого крыла через Бельгию. Крайняя на правом фланге армия Клюка могла достичь пролива и окружить Лилль, прежде чем повернуть на юг, к Парижу. Но как ни странно, Мольтке-младший считал нарушение голландского нейтралитета нежелательным по этическим соображениям. А ведь действуй он в соответствии со смелым, но аморальным планом Шлиффена, не было бы ни последовавшего за Марной «бега к морю» ни, само собой, Ипра. Порты Английского Канала — Дюнкерк, Кале и Булонь — оказались бы в руках победителя, а это существенно уменьшало возможность непосредственного вмешательства Британии в ход событий на континенте. С ее стороны германским военным следовало бы больше всего опасаться морской блокады.
Такая корректировка плана существенно, хотя и не фатально, ослабляла германский наступательный импульс. Там, где Шлиффен готов был пойти на риск ради возможности (и вполне реальной) выиграть войну одним ударом, Мольтке предпочитал осторожность. Правда, 22 августа рискнул и он — но, как оказалось, не вовремя и напрасно. Правда, в начале этой операции она казалась отнюдь не рискованной, а, напротив, выглядела блистательной и безупречной, благодаря которой младший Мольтке должен был навеки остаться в истории автором плана молниеносной кампании, покончившей с Францией раз и навсегда.
14 августа французы, приступив к осуществлению «Плана 17», под гром орудий пересекли границу и вступили в Лотарингию, провинцию, отнятую у них Германией в 1871 году. Под звуки «Марсельезы» солдаты валили полосатые пограничные столбы. Немцы отступали, оказывая лишь символическое сопротивление. До сих пор все шло в соответствии с планом Шлиффена и несколько походило на игру под названием «Кригшпиль».
Но 19 и 20 августа наступающие неожиданно натолкнулись на окружавшую города Саребур и Моранж продуманную систему укреплений с окопами, проволочными заграждениями и скрытыми пулеметными гнездами, которым предстояло стать основным звеном в линиях обороны по всему западному фронту. Скосив пулеметными очередями французскую пехоту, немцы, в свою очередь, обрушили на французов столько яростных контратак, что те дрогнули и стали отходить к Гран-Куронне — собственным укреплениям у Нанси, откуда неделей раньше повели наступление. Дошло даже до обсуждения возможности оставить Нанси, хотя французский главнокомандующий Жозеф Жоффр не желал об этом и слышать. Тем временем поначалу не слишком активные в преследовании противника немцы воодушевились успехом, осознав представившуюся возможность.
Большая часть случившегося дальше произошла благодаря телефону, и возможно, то был первый случай в истории, когда прибору досталась роль контрафактуального «deus ex machina». Представьте себе, как пошла кругом голова Мольтке, когда весть о разгроме французов в Лотарингии достигла его временной ставки в рейнском городке Кобленц. Возможно, он решил, будто война на Западе уже закончена. Следовало ли ему развить успех и нанести удар, пока французы не оправились от потрясения? И мог ли он себе это позволить? Лобовая атака на высоты у Нанси и систему укреплений в районе Эпиналя и Туля никак не соответствовала плану Шлиффена, но ее результатом могли стать новые Канны! Огромные клещи сдавили бы французов с обоих флангов, повторив легендарное окружение римлян Ганнибалом в 216 году до н.э. Кстати, та битва тоже произошла в августе...
Мольтке уже обсуждал такую возможность со штабными офицерами, когда раздался телефонный звонок. Командир победившей при Моранже Шестой армии генерал Кнафф фон Деллмензинген[239] просил позволить ему добить французов, и чем быстрее, тем лучше.
— Мольтке еще не решил,— ответил ему начальник оперативного отдела генштаба полковник Таппен. — Подождите у аппарата минут пять: если связь не прервется, я, может быть, смогу передать вам такой приказ, какого вы ждете.
Времени потребовалось даже меньше. Спустя всего пару минут Таппен взял трубку и сообщил решение Мольтке:
— Развивайте наступление в направлении Эпиналя.
Мешок Шлиффена так и остался пустым. От одного до двух корпусов общей численностью не менее 100 000 человек[240] — силы, способные усилить правое крыло, когда это более всего требовалось, — повели бессмысленное наступление. Германское командование сделало все, чтобы никто не узнал истиной величины понесенных потерь, однако и без того ясно, что сражение у Гран-Куронне стало для немцев не меньшим бедствием, чем для французов злосчастная атака на Моранж. Закрепившиеся на господствующих высотах французы обрушили на наступавшую по открытой равнине плотную массу немецкой пехоты шквальный огонь. В мешок угодили не они, а сам Мольтке. Результат оказался таким, что еще до того, как 10 сентября бои закончились, французский главнокомандующий Жоффр чувствовал себя достаточно уверенно для того, чтобы принять решение о снятии войск с Гран-Куронне и посылке их в западном направлении, дабы попытаться изменить в свою сторону соотношение сила на Марне.
Но и после того, как Мольтке, поддавшись минутному импульсу, приказал «развивать наступление в направление Эпиналя», победа Германии оставалась не просто возможной, но и весьма вероятной. Однако четыре дня спустя состоялся еще один телефонный звонок из числа тех, что меняют ход истории.
Русские, которым удалось провести мобилизацию с ошеломившей германский генштаб скоростью, вторглись в Восточную Пруссию (территория современной Польши), и оттуда, распространяя панику, хлынула волна беженцев. В этих обстоятельствах герой Льежа, а ныне начальник штаба 8-й армии бригадный генерал Эрик Людендорф присоединился к генералу Паулю Гинденбургу, положив начало знаменитому военному сотрудничеству. Два полководца сумели остановить натиск русских и переломили ход событий так, что вполне могли одержать победу эпического значения — Таненберг Великой войны.
В ночь на 26 августа в штаб-квартиру Людендорфа в Восточной Пруссии позвонил все тот же полковник Таппен и сообщил удивленному Людендорфу о посылке ему на помощь трех корпусов и кавалерийской дивизии. Генерал ответил, что в подкреплениях не нуждается — тем более что они не состоянии прибыть на Восточный фронт достаточно скоро, чтобы повлиять на ход уже начавшегося сражения. На это Таппен сказал одно: «Мольтке принял решение и пересмотру оно не подлежит». Правда через пару дней последовал новый звонок с известием, что подкрепления уже выступили, но их численность сократилась до двух корпусов и конной дивизии. Так или иначе, но 80 000 человек, способных усилить правое крыло, оказались снятыми Западного фронта — а на Восточный, как и предсказывал Людендорф, прибыли уже после разгрома русских. Лишь в 1916 году, на смертном одре Мольтке признал, что за все время кампании на Марне отправка двух корпусов на восток была его самой большой ошибкой[241]. Для закрепления успеха в решающей стадии операции недоставало по меньшей мере четырех корпусов. Добавьте к бесцельно отправленным на Запад и на Восток один, отнятый у Клюка, чтобы запереть бельгийцев в Антверпене, и другой, увязший в блокаде лежавшей возле бельгийской границы французской крепости Моберж, и вы получите шесть корпусов общей численностью в 250 000 человек — эквивалент целой армии.
Три телефонных звонка изменили все. Первые два сделали невозможной победу, а третий, последний, обусловил будущую тупиковую ситуацию. Пожалуй, самые худшие последствия для германцев имело ставшее не просто изменением, а существенным отступлением от плана Шлиффена выделение крупных сил для наступления на Нанси. (Возможно, битва при Гран-Куронне является важнейшим из неоцененных сражений в военной истории.) Не окажись Мольтке во власти свойственной многим из германской военной верхушки мечты о своих Каннах и укрепи он вместо этого правое крыло, Первая армия фон Клюка, вероятно, обошла бы Париж, блокировала прикрывавшие город с запада и юга форты и повернула на север[242], нанеся мощный, всесокрушающий удар. Помимо защитников крепостей и оснащенного чем попало парижского гарнизона, оказать противодействие победному маршу Клюка по стране было бы просто некому. Дошло до того, что правительство Франции уже собиралось бежать в Бордо[243]. Туго натянутый канат был готов лопнуть. Возможно, дело шло к повторению сценария 1870—1871 годов, с распадом системы власти и революцией.
Огромное значение для немцев имела скорость. Захватив инициативу, они не имели права дать противнику хотя бы малейшую передышку. Конечно, победный порыв позволяет забыть об усталости, но в армии Клюка и солдаты, и офицеры вымотались не на шутку. Дурную службу сослужила немцам и прижимистость военного ведомства, которое свело к минимуму число командных должностей. Командиры соединений и частей не спали по двадцать часов в сутки, неизбежным следствием чего становились тактические ошибки. Трудно не согласиться с Деннисом Шоуолтером, писавшим, что «на войне, как и в бизнесе, избыток дает определенное преимущество». Кроме того, отступавшие французы и бельгийцы разрушили свои железные дороги, и при отсутствии надежного автомобильного транспорта снабжение армии представляло собой серьезную проблему, усугублявшуюся по мере растягивания колонн и удаления от тыловых баз. То же самое справедливо и по отношению к связи. Углубившиеся на французскую территорию соединения не имели возможности связаться с командованием по телефону. Мольтке, имевший ставку сначала в Кобленце, а после 29 августа — в Люксембурге, использовал для связи с западной группой войск беспроволочный телеграф. Прием и передача сообщений замедлялись перегруженностью аппаратуры, необходимостью декодирования радиограмм, а также помехами, которые генерировали установленные на Эйфелевой башне французские передатчики.
Совокупность всех этих факторов делала достижение победы в намеченные Шлиффеном сроки (39 дней от начала мобилизации) весьма сомнительным.
Но давайте представим себе, что Мольтке не только сумел обуздать свой наступательный порыв после Моранжа, но еще и отказался в последний момент от отправки двух корпусов на восток. Что могло воспоследовать из такого решения? Наступление усиленной группировки Клюка развивалось бы беспрепятственно и успешно. Оказавшиеся в окружении (что действительно едва не случилось в начале сентября), форты Вердена были бы достаточно быстро нейтрализованы. После падения Реймса (действительно захваченного без особых проблем) армии германского центра развернулись бы навстречу правому апперкоту, что открывало для Мольтке реальную возможность добиться своих Канн. Решающее сражение, скорее всего, должно было развернуться в долине Сены, к юго-востоку от Парижа — возможно, в столь любимом многими поколениями французских художников лесистом районе Фонтенбло. Только на сей раз композицию картины задавали бы немцы.
Такой сценарий представляется наиболее благоприятным для Германии на Западном фронте. Краткое вмешательство Великобритании не влекло за собой заметных последствий, война осталась бы сугубо континентальной. Конечно же, ее результаты привели бы к серьезному осложнению германо-британских отношений — особенно, вздумай Германия настаивать на превращении захваченных ею портов на Ла-Манше в свои укрепленные анклавы. Одержанная победа означала неминуемую аннексию Германией части французской и бельгийской территории (включая Нанси). Историки школы Нила Фергюсона предполагают, что Германия могла бы инициировать создание Центрально-Европейского экономического союза, в котором ей принадлежала лидирующая роль, — что в определенной степени и произошло с ЕЭС в конце XX столетия. Заплаченные Францией огромные репарации оставили бы ее на целое поколение обозленной и не способной вооружиться, и антисемитизм, вечное проклятие побежденных европейских наций, стал бы не германской, а французской проблемой.
Но даже на столь мрачном полотне имеются светлые мазки. Помимо спасения миллиона французов, которым в противном случае пришлось бы расстаться с жизнью в следующие четыре года вместе со множеством лучших сынов других воюющих держав, поражение стимулировало бы прогресс, ибо победа в Первой Мировой войне лишь замаскировала отсталость Франции. Страна оказалось обреченной на жизнь в «затянувшемся XIX веке», закончившимся в итоге новой мировой бойней и четырехлетней германской оккупацией. Возможно, что экономическое возрождение второй послевоенной эпохи имело шанс начаться гораздо раньше.
Что, если бы карта не была потеряна, а сэр Джон ушел по-французски?
Могла ли и тогда Германия одержать победу? Возможно, хотя шансов у нее становилось все меньше, и они все больше зависели от действий противника. Например, от того, дрогнут ли французы так, как дрогнули они поколение спустя. Такая вероятность существовала — были случаи, когда отступление превращалось в паническое бегство, остановить которое офицеры не могли, даже прибегая к оружию. Страну наводнили шайки занимавшихся мародерством дезертиров. Миллион человек — треть всего населения — покинули Париж вместе с правительством. Генерал Жозеф Галиени, военный губернатор Парижа, готовил полное разрушение французской столицы на тот случай, если немцы с боями ворвутся в нее. Предполагалось взорвать динамитом все мосты через Сену и не пощадить даже Эйфелеву башню[244]. В глазах французов ощущение катастрофы искажало действительность, и это представляло для них самую большую опасность. Еще одно проигранное сражение могло обернуться для Франции катастрофой, ибо в тот момент французы ждали самого худшего, не зная, что самое худшее, по существу, уже позади.
Тридцатого августа Клюк принял знаменитое решение повернуть свои колонны на восток, что означало полный отказ от плана Шлиффена. Поступок Клюка объяснялся тем, что он решил форсированным маршем настигнуть отступавших французов и разгромить их правый фланг. Кроме того, немецкий генерал опасался бреши между своими войсками и двигавшейся слева от него 2-й германской армией — эта брешь неизбежно расширялась бы, следуй он и дальше первоначальным курсом. На новую опасность — приводившуюся в порядок в Париже 6-ю армию Мишеля-Жозефа Монури — он практически не обратил внимания. Французы, со своей стороны, понятия не имели о том, что армия Клюка изменила направление движения. И в этот критический момент вмешался великий уравнитель исторических сил — случай.
Итак, мы подошли к еще одному контрафактуальному перекрестку Марны — 14 сентября 1914 года. Ближе к вечеру, в лесистой местности близ Шато-Куси, над которой господствовал средневековый замок сеньоров де Куси (который немцы, совершив акт вандализма, взорвут при отступлении в 1917 году), германский автомобиль нарвался на французский патруль. Французы открыли огонь и перебили всех пассажиров. В заляпанной кровью сумке убитого кавалерийского офицера помимо одежды и снеди нашлись кое-какие бумаги. Просматривая их, офицеры французской разведки обнаружили карту и сумели разобрать под кровавыми пятнами цифры и карандашные стрелки. Цифры обозначали номера корпусов Клюка, а стрелки — направление их движения.
По своей потенциальной (и фатальной) значимости эта потеря вполне сопоставима с потерей приказа № 191 Роберта Ли у реки Антьетам. Карта открыла французам не только новое направление движения Клюка, но и то, что немцы при этом подставляют противнику свой фланг. Воздушная разведка и радиоперехват подтвердили данные карты, и 5 сентября 6-я французская армия врезалась в обнаженный фланг Клюка, положив конец его надеждам на победу. Полководческое дарование позволило Клюку избежать разгрома: необычайно искусным маневром он сумел защитить фланг — хотя и создал для себя еще более сложную проблему, о которой мы поговорим ниже. Не попади карта в руки французов, Клюк выиграл бы пару драгоценных дней. Кто знает — возможно, он сумел бы сдержать свой наступательный порыв и в итоге не попал бы в столь опасное положение[245].
Да и в этом случае ситуация все равно обещала стать почти тупиковой — но все же несколько более благоприятной для немцев. Вероятность захвата Парижа в тот момент, когда немцев отделяло от него двадцать миль, была много выше, чем несколько дней спустя, — когда это расстояние составило миль восемьдесят или сто и уже начала формироваться непрерывная линия Западного фронта. Близость неприятельской столицы не могла не повлиять на принимавшиеся в последующие месяцы оперативные решения германского командования. Вполне возможно, находись немцы ближе к Парижу, они не ограничились бы до конца войны позиционными и оборонительными боями на Западном фронте. Кто знает, не обернулось бы это окружением и осадой города по образцу 1870 года? История обычно не повторяется, но в мире, где всегда возможны альтернативные варианты развития событий, люди обречены совершать новые ошибки, а будущее — преподносить неожиданности.
Случайность — это одно, а сознательное действие — совсем другое. 1 сентября стало ясно, во что вылилось осуществление еще одной вероятности, потенциально даже более опасной для союзников, чем потеря штабной карты — для немцев. Командующий британскими экспедиционными силами сэр Джон Френч, очевидно, поддался общей панике. Отношения этого маленького фельдмаршала с союзниками не клеились с самого начала, и сэр Джон (говоривший, несмотря на свою фамилию, только по-английски) питал глубокие подозрения в отношении намерений французов. Но могли ли его войска волей-неволей оказаться втянутыми в осуществление модернизированного, но все столь же кровопролитного «Плана № 17»? Френч почти маниакально боялся оказаться обманутым, а в сложившейся ситуации думал только о том, как вывести свою армию из-под угрозы с наименьшим ущербом для собственной репутации. Жоффр, стремившийся любой ценой стабилизировать линию фронта, 29 августа встретился со своим британским союзником и призвал его держаться до последнего. Сэр Джон отказался, заявив, что его отходившей неделю с боями и потерявшей 15 000 человек армии необходимо дней на десять выйти из зоны военных действия для отдыха, переоснащения и получения подкреплений. Жоффр, совладав с гневом, поблагодарил сэра Джона, хотя уход последнего с фронта означал не только уменьшение численности союзных войск, но и образование бреши в их позициях. На сэра Джона не повлияла даже переданная ему через британского посла личная просьба президента Франции Раймона Пуанкаре. Французское командование уже предупредило офицеров о необходимости готовиться «к неизбежному и долгому отступлению в южном направлении, с обходом Парижа с востока и запада».
Френч не ограничивался намерением отвести армию к британской базе на материке, каковой являлся тогда порт Сен-Назер в устье Луары. Он уже рассматривал возможность переправки войск в Англию, с возвращением их на континент для продолжения боевых действий лишь осенью — если война к тому времени не закончится.
Тем временем в Лондоне военный министр лорд Китченер читал телеграммы Френча со все возрастающей тревогой. Тридцать первого августа он телеграфировал ему сам, спрашивая, не приведет ли предполагаемый отход англичан к разрыву линии фронта и окончательному падению боевого духа французов, а затем убедил премьер-министра созвать экстренное заседание кабинета. Нельзя было отдавать такой важнейший вопрос национальной политики, как военный союз с Францией, на откуп сэру Джону. В тот момент возможность военного поражения казалась как никогда близкой. Поздно вечером поступила ответная телеграмма Френча, заявившего, что он «не видит оснований для того, чтобы... рисковать полным уничтожением...» Китченер, стоявший возле аппарата при расшифровке телеграммы, решил действовать немедленно. После созванного Асквитом срочного заседания правительства, Черчилль приказал разжечь пары на самом быстроходном крейсере в Дувре[246]: покинув Лондон около полуночи, к полудню 1 сентября Китченер прибыл в Париж. В британское посольство он явился в синем маршальском мундире, что сверхчувствительный Френч тут же истолковал как оскорбление и попытку Китченера (имевшего то же воинское звание, что и он сам) продемонстрировать свое превосходство. Он выразил возмущение тем, что его «в такой критический момент» вызвали из штаб-квартиры. На встрече присутствовали и другие военные, но вскоре дискуссия обострилась до такой степени, что оба фельдмаршала предпочли продолжить ее в другой комнате, за закрытой дверью. Соглашение все же было достигнуто: английские войска должны были вернуться на фронт и оставаться там «сообразуя свои передвижения с передвижениями французской армии». Френч ушел в ярости, но свою задачу Китченер выполнил.
Но что, если бы сэр Джон Френч снял войска с позиций и отвел их на 250 миль назад, в Сен-Назер, — не говоря уж о совершенно абсурдной идее переправки частей для отдыха и переоснащения в Англию? Трудно представить себе, как в случае осуществления этого замысла политические лидеры могли бы справиться с разрастанием паники и упадком боевого духа. Хотя в конечном счете такой поворот событий пошел бы империи лишь на пользу, правительство Асквита, безусловно, было бы обречено на падение. Как повлиял бы постыдный уход британцев с фронта на их отношения с Францией на протяжении следующего десятилетия — а то и более продолжительного времени? Ведь в той сложнейшей психологической обстановке, которая сложилась к 1 сентября, дезертирство британцев могло оказаться для Франции фатальным и неизвестно, когда бы французы вообще смогли простить своих неверных союзников. Иными словами, чрезмерная осторожность сэра Джона могла дать Германии последний шанс выиграть войну на Западе, в которую для Англии было бы лучше не ввязываться с самого начала[247].
Но у этой истории имеется продолжение. Несмотря на то что французам удалось перебросить в район боевых действий подкрепления из Парижа, Клюк, блистательно отразивший натиск 6-й армии Монури, сохранял инициативу за собой. Но чтобы обеспечить себе преимущество в ходе пятидневной операции на фронте протяженностью в двести миль, ему пришлось позаимствовать два корпуса, закрывавшие разрыв между его 1-й армией и 2-й армией Карла фон Бюлова. Он решил, что с их помощью сможет выйти сухим из воды, и это ему почти удалось. Но в последний день кампании на Марне британская армия, примерно равная тем двум корпусам, которые вступали в Восточную Пруссию, устремилась в открывшуюся тридцатимильную брешь. Хотя глубина прорыва составила всего несколько миль, для германцев это явилось, по словам Черчилля, «ударом в печень». Осознав угрозу своим флангам, немцы дрогнули и вскоре стали отступать по всему фронту[248]. В эти дни были вырыты первые окопы. Первоначальным планом кампании предусматривалось, что ее исход должен быть решен между 6 и 9 сентября (на тридцать шестой —тридцать девятый день после мобилизации). Это и случилось — но отнюдь не так, как предполагали германцы. Как заметил Черчилль, перефразируя прозвучавшие почти две тысячи лет назад, после разгрома римлян в Тевтобургском лесу, слова римского императора Августа, кайзер вполне мог бы воскликнуть: «Мольтке, Мольтке, верни мне мои легионы!»
Бригадир и рядовой
Действующими лицами этой истории являются два человека, никогда не встречавшиеся лично: британский офицер и рядовой германской армии. Но 31 октября, в последний день военного кризиса 1914 года, их судьбы, возможно, пересеклись. В одном случае история всего лишь могла измениться, в другом — это изменение произошло.
На протяжении нескольких недель после Марны враждебные армии параллельно одна другой двигались на север, периодически проводя разведку боем и безуспешно пытаясь обойти противника с фланга. «Бег к морю» так и не выявил победителя и лишь привел к формированию сплошной линии фронта. К концу октября единственная брешь, которую союзники еще не успели закрыть, оставалась в районе бельгийского городка Ипр, лежавшего чуть более чем в десяти милях от Дюнкерка и побережья Северного моря. Именно там, вокруг узкого и все более сужавшегося выступа, и разразилось последнее, самое отчаянное сражение этого года.
Немцам успешный исход битвы при Ипре сулил трофеи, достойные того, чтобы увенчать славой великий поход 1914 года: стратегически важные порты Дюнкерк, Кале и Булонь. Их захват обезопасил бы немцев со стороны пролива и весьма затруднил бы переброску живой силы и техники из Англии во Францию (если бы после Ипрского поражения британская армия вообще оставалась бы на континенте). Сэр Джон снова, и весьма серьезно, подумывал о эвакуации, но на сей раз решительность Жоффра позволила наложить на эту идею вето. На протяжении всего двух месяцев участие Британии в сухопутной операции вторично оказалось поставленным под вопрос, хотя к тому моменту Франция с большей вероятностью, чем прежде, могла обойтись и без союзника. Но, помимо чисто материальных приобретений, захват портов пролива вызвал бы подъем национального духа, показав народу Германии, что дорогостоящая и кровавая кампания на Западе отнюдь не бесплодна.
После двенадцати дней непрекращающихся германских атак на редеющие ряды французов и британцев создалась ситуация, когда исход битвы казался предрешенным. Незадолго до полудня 31 октября британская линия обороны в районе населенного пункта Гелувельт — кучки кирпичных строений на холмах в пяти милях к востоку от Ипра — распалась, и не покинувшие окопов защитники оказались лицом к лицу с десятикратно превосходящим противником. Под натиском немцев в британских позициях образовался разрыв шириной в милю. Войскам кайзера оставалось лишь хлынуть туда и, развернувшись веером, покончить с сопротивлением англичан на этом участке фронта. Но германские войска остановились: немцы ждали приказа. Приказа не поступало. Миновал полдень, а 1200 солдат (большей частью принадлежавших к 16-му Баварскому резервному полку) бесцельно топтались в окрестностях тамошнего замка, занимаясь мелким грабежом. Однако не было никаких оснований сомневаться в том, что приказ рано или поздно поступит, командиры соберут солдат и те, вместе с тысячами других, продолжат неудержимое продвижение вперед.
Тем временем в лесу, примерно в миле от расположения немцев, британский бригадир принял решение, вполне возможно изменившее весь ход войны. Звали его Чарльз Фитцкларене, и возможно, ему довелось бы свершить в будущем и более великие деяния, не оборви пуля его жизнь несколькими днями позже. Узнав о случившемся у Гелувельта несчастьи, он собрал всех, кого мог, — 370 пехотинцев из 2-го Вустерского батальона — и послал их в атаку через местное пастбище. Угодив на открытом пространстве под огонь германской артиллерии, вустерцы потеряли убитыми и ранеными более четверти своего числа, но не дрогнули и, достигнув луга у замка Гелувельт, обратили баварцев в бегство. На этом германское наступление закончилось. Благодаря британскому бригадиру брешь на пути к Дюнкерку закрылась, а Англия продолжила участие в войне — что в конечном итоге привело ее к банкротству.
Но есть еще одна деталь, кажется, не замеченная до сих пор никем из историков. Среди сотен баварцев, бежавших из-под стен замка, вполне мог оказаться недавно перебравшийся в Мюнхен уроженец Австрии рядовой Адольф Гитлер. Точно установлено, что двумя днями ранее он участвовал в операции, в которой 16-й Баварский резервный полк понес страшные потери. В прорыв у замка были направлены остатки полка, и, учитывая почти магнетическое тяготение Гитлера к боевым действиям, трудно представить, чтобы его там не оказалось. Однако в германской исторической и мемуарной литературе весь этот эпизод замалчивается: ни о реальной возможности прорыва ни о том, как она оказалась упущенной, предпочитают не упоминать. Неудивительно, что не сохранилось и свидетельств участия в описанных событиях Гитлера: бегство едва ли могло украсить биографию будущего фюрера. Но что, если бы Гитлер пал в том бою? История недосчиталась бы одного из величайших чудовищ. Думается, нет нужды распространяться насчет того, от каких бедствий могла бы избавить мир одна-единственная пуля.
Пожалуй, это была одна из самых интригующих возможностей, открывавшихся в 1914 году.
Постскриптум: отчаяние Фалькенгайна.
Сразу по завершении кампании на Марне Мольтке был отстранен от командования — хотя ставший его преемником Эрик фон Фалькенгайн, тоже бывший военный министр Пруссии, из политических соображений вынудил своего бывшего начальника еще два месяца играть унизительную роль фиктивного главнокомандующего. Но новому полководцу повезло ненамного больше, чем прежнему. Восемнадцатого ноября, уже после Ипрского поражения, пребывавший в унынии Фалькенгайн встретился в Берлине с канцлером Германии Теобальдом фон Бетман-Гольвегом и решительно заявил ему, что победа уже невозможна. Он признался, что не видит способа, каким Германия может хотя бы нанести противникам достаточно весомый урон, чтобы попытаться выторговать «приличные условия мира». Вместе с тем он указал, что если какая-либо договоренность не будет достигнута в кратчайшие сроки, страну ждет мрачная перспектива «постепенного самоистощения». Фалькенгайн предложил попробовать сначала, не требуя аннексий, договориться с Россией — выразив уверенность в том, что Франция последует за ней.
Бетман-Гольвег отверг это предложение, заявив, что, по его мнению, Германия способна одержать победу и одержит ее. Кроме того, согласие на сделку с Россией и Францией потребовало бы заключения мира и с Великобританией, в которой немцы начинали видеть главное препятствие на пути к осуществлению своих планов и враждебность по отношению к которой возрастала с каждой неделей. Ненависть к Англии, ослепившая Наполеона в Тильзите в 1805 году[249], ослепила и Германию в 1914. Мы вправе предположить, что канцлер попросту устрашился неизбежного гнева кайзера — но, какими бы побуждениями он ни руководствовался, ясно одно: его отказ стал смертным приговором для целого поколения[250].
Вскоре легионы Британской империи начнут стекаться в Европу со всех уголков земного шара. За несколько дней до упомянутого разговора разразилось морское сражение у берегов Чили, а вскоре состоялось еще одно — близ Фолклендских островов. В январе Турция попыталась нанести удар по чеке колеса Британской империи — Суэцкому каналу, а весной сама испытала вторжение в Галлиполи. Германская субмарина (вот уж воистину несчастный случай в истории) торпедировала лайнер «Лузитания», лишив жизни 128 американцев[251] и обеспечив таким образом последующее вступление «Великого Нейтрала» в войну. В то время, как Фалькенгайн тщетно пытался ее остановить, война, подобно чудовищному водовороту, уже начинала втягивать в себя весь мир. Возможно, в тот день был упущен последний, уже весьма слабый шанс пресечь этот процесс.
«Отличительная особенность современной войны в том, что она сама берет на себя командование, — отмечает Брюс Кэттон. — Единожды начавшись, она настоятельно требует доведения до конца и по ходу действия инициирует события, оказывающиеся неподвластными человеку. Делая, как им кажется, лишь то, что необходимо для победы, люди, не замечая того, изменяют саму почву, питающую корни общества».
Подумаем о том, чем могло обернуться для двадцатого столетия скорое завершение войны. Предположим, что Германии удалось бы договориться с Россией. Хотя Россия и понесла в конце 1914 года значительные потери, они не были фатальны для столь большой страны, а заключение мира повлекло бы за собой промышленный подъем, уже наметившийся в предвоенный период[252]. Экономическое процветание и некоторое ослабление самодержавного гнета могли выбить почву из под ног революционеров, оставив Ленина тосковать в унылой швейцарской эмиграции. Не было бы ни направленного Германией в Россию запломбированного вагона, ни занесенной этим вагоном на Финляндский вокзал политической чумы. А значит, не было бы Сталина, сталинских чисток, ГУЛАГА и «Холодной войны»[253].
Мы уже рассмотрели альтернативы для Великобритании и Франции, но что сулил иной поворот событий Америке? В случае прекращения боевых действий в конце 1914 года наша страна осталась бы тем, чем была до войны: энергичным и буйным, но не всегда благовоспитанным провинциальным кузеном. Американские юноши так и не пересекли бы ставшую нашим Рубиконом Атлантику, а стало быть, не возник бы и вопрос из популярной песенки: «как вы собираетесь удержать их на ферме, ведь они повидали Париж?» Наступление «американского века» оказалось бы отсроченным, причем не только в военном, но и в экономическом плане — ведь не затянись война так надолго, Великобритания, могущественнейшая держава мира, не погрязла бы к 1918 году в долгах перед Соединенными Штатами.
XIX век продлился бы не на одно десятилетие — и не только во Франции, но повсюду. Европа продолжала бы снисходительно посматривать на остальной мир, оставаясь неоспоримым лидером во всех областях. Взять хотя бы литературу: кто скажет, сколько талантов, едва раскрывшихся или так и оставшихся безвестными, погребено на непристойно аккуратных кладбищах Великой войны? Роман Алена-Фурнье «Скиталец» или стихи Уилфрида Оуэна (оба автора погибли) позволяют составить некоторое представление о том, что мы потеряли. Выкосившая литературные нивы Европы смерть отдала первенство Америке. Хемингуэй, конечно, остался бы Хемингуэйем — только без книги «Прощай, оружие».
«Войска шли по дороге мимо домов, и пыль, поднятая ими, припорошила листья деревьев...»
Возможно, он нашел бы другие слова для самого проникновенного вступления в прозе нашего века. При ином развитии событий за 1914 годом не последовала бы долгая и безжалостная окопная война, оставившая глубокие шрамы в сознании и духовно искалечившая целое поколение. То, с чем люди внутреннего склада Адольфа Гитлера столкнулись в время этого первого «холокоста», они, используя выражение Джона Кигана, «спустя двадцать лет повторят в каждом уголке Европы. От этого ужасного культа смерти континент не оправился и по сей день».
Случается, что правильно оценить отдаленные последствия травмы удается, лишь представив себе, что ее не было вовсе.
Джеймс Чэйс
Нерожденная империя Бисмарка
Джеймс Чэйс является редактором «Уорлд Джорнэл» и профессором международных отношений в Бард-колледже. Его перу принадлежит биография Ачесона.
«Эта династия идет к концу», — заметил Бисмарк, глядя на отступление императора Наполеона III после поражения французской армии при Седане 1 сентября 1870 года[254]. Менее двух месяцев спустя[255] французский маршал Ашиль Базен сдался пруссакам при Меце с 6000 офицеров и 173 000 солдат. Еще через три месяца, 18 января 1871 года, в Зеркальном зале Версальского дворца было провозглашено создание Германской Империи.
Поражение Франции отнюдь не являлось неизбежным. Французская армия располагала достаточным количеством живой силы, а по качеству вооружения в некоторых аспектах даже превосходила прусскую. Новая, более скорострельная и дальнобойная французская винтовка существенно усилила огневую мощь пехоты. Помимо того, французы располагали митральезами — этот прообраз пулемета представлял собой пакет из двадцати пяти стволов, стрелявших один за другим после простого поворота ручки[256]. Капитуляция Франции стала результатом отвратительного руководства.
Оказавшаяся в спячке после Седана и Меца хваленая «furia francese» так больше нигде и не проявилась. Даже когда две германские армии под командованием графа Хельмута фон Мольтке обложили Париж, воля располагавшего численным превосходством коменданта французской столицы оказалась парализованной настолько, что он не смог оказать сопротивления[257].
Несмотря на то что командующим армией вплоть до Седана числился сам Наполеон III, французские войска оказались практически неуправляемыми. А ведь если бы они не отсиживались в крепостях, а перешли в наступление раньше, пруссакам, вполне вероятно, пришлось бы остановиться — а Германская Империя в том виде, в каком мы ее знаем, так бы и не возникла.
Но без империи Бисмарка не было бы и империи кайзера Вильгельма — а также стремления к силе ради силы, французского реваншизма из-за Эльзас-Лотарингии и Первой Мировой войны. Значит, в 1919 году не состоялось бы подписание Версальского мира, а следовательно, потом не разразилась бы Вторая Мировая. Помимо того, не будь Первой Мировой войны, большевики не совершили бы революцию, не возник Советский Союз и, соответственно мир не познакомился бы с «Холодной войной». Ход истории в последние 150 лет со всеми ужасами нашего века — века тотальных войн — мог бы быть совершенно иным. Однако Луи Бонапарт, никчемный племянник величайшего военачальника нового времени, лишил Европу ее лидирующей роли.
Дэвид Клэй Лардж
Излишняя меткость
Дэвид Клэй Лардж в настоящее время заканчивает работу над историей города Берлина.
Холодным ноябрьским днем 1889 года закутанная в меха толпа собралась на берлинском ипподроме Шарлоттенбург, чтобы полюбоваться ковбойским шоу Буфалло Билла «Дикий Запад», с огромным успехом гастролировавшим по всей Европе. Среди зрителей присутствовал и молодой, импульсивный владыка Рейха кайзер Вильгельм II, взошедший на престол всего год назад[258]. Больше всего ему хотелось увидеть звезду аттракциона Энни Оукли, прославившуюся на весь мир мастерским обращением с кольтом 45-го калибра.
В тот день Энни, как и обычно, объявила, что собьет выстрелом пепел с сигары у любого из публики. «Дамы и господа, есть ли среди вас желающие подержать сигару?» — спрашивала она, хотя в действительности вовсе не рассчитывала на добровольцев из зрителей и вызывала их только для смеха.
Всякий раз, когда исполнялся этот трюк, вперед выступал ее муж и партнер — Фрэнк Батлер.
Но на сей раз, едва Энни успела сделать свое объявление, как на арене появился не кто иной, как лично покинувший для этого королевскую ложу молодой император. Энни была ошеломлена и напугана, хотя ничем не выдала своей растерянности, дабы не потерять лицо.
Она отошла на обычную дистанцию, а Вильгельм, красуясь перед публикой, раскурил сигару. Несколько германских полицейских, до которых внезапно дошло, что это вовсе не шутка, попытались занять его место, но Его Наивысочайшее Величество отослал их прочь. Исходя потом под ковбойским нарядом из оленей кожи и отчаянно жалея о том, что выпила на ночь больше виски, чем обычно, Энни подняла кольт, нажала курок и сбила пепел с сигары Вильгельма.
А ведь стоило мастерице меткой стрельбы из Цинциннати вместо сигары угодить кайзеру в лоб, как с исторической сцены исчез бы один из самых честолюбивых и склонных к насилию правителей в Европе — и Германия не стала бы проводить ту агрессивную политику, которая спустя четверть века привела к Первой Мировой войне[259].
Впоследствии Энни, судя по всему, осознала свою ошибку. После начала Первой Мировой войны она послала кайзеру письмо с просьбой разрешить ей повторить выстрел. Он не ответил.
Денис Э. Шоуолтер
Примирение от отчаяния
Денис Э. Шоуолтер является профессором истории в Колорадо-колледж и президентом Военно-исторического общества.
Первую Мировую войну все чаще признают событием, определившим облик двадцатого столетия — с его тотальными войнами, геноцидом и оружием массового поражения. Но что могло бы воспоследовать за прекращением войны через несколько месяцев после начала — чего в то время ожидали буквально все?
К столь быстрому решению вполне могли бы прийти на Западе, единственно возможном театре массированных военных действий промышленной эпохи. Наиболее правдоподобный сценарий предполагает еще большую, чем в реальности, агрессивность на всех уровнях командования французской и германской армий. К концу 1914 года число жертв со стороны Франции приблизилось к миллиону; примерно три четверти миллиона потеряла за то же время Германия. Это был высочайший уровень потерь за всю войну. Что, если бы генералы и полковые командиры в Приграничном сражении и битве на реке Марне гнали своих солдат в бой еще более ожесточенно? Что, если бы немцы проявили большее стремление отдавать жизни за землю на Ипрском выступе?
Результат полностью соответствовал бы существующим наступательным доктринам. Были бы достигнуты определенные тактические успехи: скажем, более поспешное отступление немцев от Марны или захват Ипра в последнем, отчаянном броске. Однако победителям оказалось бы нелегко воспользоваться плодами своих побед. Атаки такой интенсивности непременно должны были истощить и без того ограниченные резервы снабжения до такой степени, что командованию приходилось бы все больше и больше полагаться на уменьшавшуюся численность и сходившую на нет храбрость личного состава. Непосредственным и немедленным следствием такого подхода должен был стать 20 — 25% рост потерь. Системы управления — и прежде всего медицинская служба, не выдержали бы подобного напряжения, что вылилось бы в кризис всех структур, делающих армию единым целым: службы связи, продовольственного и вещевого снабжения, а также в нарастающую деморализацию как на передовой, так и в тылу. Безвыходная ситуация на фронте и революционная драма — это как раз то, чего опасались перед войной власть имущие. Теперь, столкнувшись с этим на практике, представители воюющих сторон вполне бы могли от отчаяния пойти на переговоры о перемирии.
Кто провозгласил бы себя «победителем», не имело значения. Великие державы Европы начали Первую Мировую, исходя из негативных, а не позитивных соображений. В 1914 году даже развязавшее войну правительство Германии плохо представляло себе, чего, собственно, хочет этим добиться. Масштабы разрушений и порожденная войной дезорганизация, грозившая привести к настоящему апокалипсису, вполне вероятно, могли способствовать распространению во всех социальных слоях обновленного взгляда на Европу как на сообщество, с пониманием того, что этому сообществу необходима стабильность. Доминирующие региональные державы не допустили бы повторения Балканского кризиса 1911 — 1914 годов.
Всем, а в первую очередь Германии и России, пришлось бы наводить порядок у себя дома. Во Втором рейхе падение престижа кайзера и армии могло повлечь за собой утверждение подлинно парламентского правления. Не обескровленная за 1915—1916 годы Россия имела бы возможность продолжить политическое и экономическое развитие по наметившемуся до войны пути.
Что же до Владимира Ленина, то при реализации этой альтернативы он умер бы в эмиграции, в Швейцарии. Адольф Гитлер стал бы своим человеком в богемных кругах Мюнхена. Пикассо никогда не создал бы «Гернику», а Альберт Эйнштейн прожил бы долгую и плодотворную жизнь, войдя в историю как великий физик и филантроп. В этой спокойной, сытой и благополучной Европе молодежь порой сетовала бы на однообразие и скуку, но, пока не истерлась память о «Шестимесячной войне» 1914 — 1915 годов, люди постарше не переставали бы благодарить Бога и судьбу за то, что им не приходится больше жить в столь «интересное» время.
Комментарии к пятой части
«Мировой кризис» 1914 — 1918 годов занимает особое место в истории человечества. Историография событий Великой войны насчитывает сотни томов. Узловые точки войны и, в частности, перипетии решающей кампании 1914 года на Западном фронте исследованы поколениями комментаторов, среди которых следует назвать Новицкого, Галактионова, Людендорфа, Фанкельгайма, Гренера, Манштейна. Динамика шлиффеновского маневра, все его варианты и подварианты, изучены буквально с часами в руках.
На этом фоне рассуждения Роберта Коули вызывают легкое недоумение. Возможно, автор и является признанным знатоком Первой Мировой войны — но при чтении его «альтернативных историй» возникает ощущение, что из всего корпуса материалов, созданных за восемьдесят последующих лет, Коули прочел только одну (правда превосходную!) работу — научно-художественный роман Барбары Такман «Августовские пушки»[260]. Конечно, не приходится рассчитывать, что американский автор будет знаком с исследованием М. Галактионова — но мы вправе ожидать, что человек, рискнувший предложить альтернативную версию Марнской битвы, читал хотя бы основополагающий труд Тренера.
В результате реконструкции Коули, даже в тех местах, где автор ограничивается чисто военными вопросами, выглядят школьными экзерсисами. Что же касается социально-политического анализа... «Если бы Остап знал, что он играет такой сложный дебют и сталкивается со столь испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни». Мы не будем заниматься здесь подробным разбором предложенной Робертом Коули альтернативы (это заняло бы слишком много времени), а отсылаем читателя хотя бы к работам, перечисленным в приложенной здесь библиографии.
Впрочем, удивительная неосведомленность дипломированных американских историков касается не только 1914 года, но и всего комплекса событий, связанных с возникновением Великой Войны. А ведь эти события были предсказаны и даже проанализированы еще на исходе XIX века. И вовсе не франко-прусская война вызвала рождение Второго рейха — напротив, появление единого германского государства потребовало этой войны, как средства окончательно закрепить объединение немецких земель в единую структуру. И если бы реакция Луи Бонапарта на «Эмскую депешу» не была столь бурной, Бисмарк нашел бы другой способ добиться своих целей.
Вильгельм Второй тоже мог погибнуть гораздо раньше 1889 года — у него были все шансы умереть при родах. В этом случае престол, вероятнее всего, занял бы Генрих Прусский. В 1889 году уже был рожден кронпринц Вильгельм — достигнув совершеннолетия, этот весьма незаурядный военачальник стал бы императором. А в целом ничего бы не изменилось: посеяв национальную привычку, пожнешь национальный характер. Магический характер Германской империи был задан заранее (вспомним немецких романтиков начала XIX века!), а это, вкупе с расстановкой сил на европейской арене, делало ее войну с Западом неизбежной. Смерть кайзера могла оказать влияние лишь на ход и финал этой войны — и, возможно, на изначальную расстановку сил: вспомним, что отправленный кайзером в 1890 году в отставку Бисмарк был твердым сторонником союза с Россией...
Без сомнения, Первая Мировая война стала поворотным пунктом в истории Европы. Можно даже согласиться с мыслью о том, что именно после нее начались все беды и проблемы европейской цивилизации. Но во-первых, «после этого — не значит вследствие этого», как говорили юристы еще в Древнем Риме. А во-вторых — откуда взялась эта типичная для американских (или всех западных?) историков убежденность в том, что не будь Мировой войны, история пошла бы по гораздо более благоприятному пути? Не разгроми Арминий три римских легиона в Тевтобургском лесу, то Германия стала бы мирной бюргерской страной (с Дюрером, Шиллером и Бахом, но без Фридриха Великого, Бисмарка и Гинденбурга), а в России воцарилась бы демократия... Не проиграй Луи Бонапарт под Седаном и не стань Вильгельм II императором — не было бы августовских пушек, Версальского мира, большевиков, Сталина, Гитлера, ГУЛАГА и «Холодной войны». Осознай противники бессмысленность дальнейшего кровопролития еще осенью 1914 года, в Германии не появился бы Гитлер, Британия не уступила бы мировое лидерство Соединенным Штатам, а в России опять-таки воцарилась бы демократия...
Да что же это за чудесное явление — демократия в России — если ради возможности ее установления американские историки даже готовы признать альтернативу, в которой Соединенные Штаты остаются второстепенной заморской державой?..
Часть VI
ВТОРАЯ МИРОВАЯ
Джон Киган
Как Гитлер мог выиграть войну.
Вторжение на Ближний Восток, 1941 год
Адольф Гитлер может служить прекрасным примером человека, чья граничащая с безумием решимость способна изменить ход мировой истории. Можно возразить, что не переживи Гитлер Перовой Мировой войны, униженную поражением, разоренную, истерзанную гиперинфляцией, Германию неизбежно вверг бы во Вторую Мировую какой-нибудь другой лидер. Последователи такого рода детерминизма считают появление людей, подобных Гитлеру, не случайностью, а симптомом. Но кто бы это мог быть? Никто из ближайшего окружения фюрера не обладал злобной харизмой такой силы. Взрастившие его условия являлись объективной реальностью, но совершенная им нацистская революция отнюдь не была неизбежной. С точки зрения всевозможных «что, если?» ум Гитлера представляет собой виртуальный ящик Пандоры. В наши дни многие склонны забывать о том, как близко подошел он к победе во Второй Мировой войне и установлению господства над большей частью мира. Сценарий, приведенный ниже Джоном Киганом, представляется вполне реалистичным. Как и Наполеон, Гитлер серьезно подумывал о том, чтобы вторгнуться на Ближний Восток и пройти путем другого завоевателя — Александра Великого. Но в действительности они оба, и Гитлер и Наполеон, вместо этого вторглись в Россию. Последствия такого шага общеизвестны, но что, если бы в 1941 году фюрер отложил на год запланированное нападение на Советский Союз и устремился за призом, овладение которым могло обеспечить ему серьезное преимущество перед коалицией его противников: за ближневосточной нефтью.
Джон Киган является одним из виднейших современных военных историков. Его перу принадлежат такие замечательные труды: «Лицо Битвы», «Приз Адмиралтейства» и недавно вышедшая работа «Первая Мировая война». В качестве военного корреспондента лондонской «Дэйли Телеграф», в 1998 г. он прочел на Би-Би-Си курс лекций о Третьем рейхе.
Что, если бы летом 1941 года Гитлер решил не нападать на Советский Союз, а вторгнуться в Сирию и Ливан через восточное Средиземноморье? Мог ли он таким образом избежать поражения, которое потерпел той же зимой под Москвой? Мог ли он получить стратегическое преимущество, способное со временем обеспечить ему полную победу?
Побуждающий мотив был силен. Окажись Гитлер способен решить задачу переброски германских войск из Греции в контролируемую правительством Виши Сирию[261], он получил бы превосходный плацдарм для нанесения удара Ирану. Путь через северный Иран выводил немцев прямиком к советским нефтяным промыслам на Каспии, оккупация южного Ирана означала доступ к скважинам Англо-Иранской нефтяной кампании и огромному нефтеперегонному комплексу в Абадане. Более того, из восточного Ирана открывался прямой путь в Белуджистан — самую западную провинцию Британской Индии, а оттуда — на Пенджаб и Дели. Оккупация государств Леванта (Сирии и Ливана) сразу же обеспечила бы Германии не только контроль над стратегически важной сетью коммуникаций, по которым осуществлялись поставки ближневосточной нефти, но и давала доступ ко владениям последнего оставшегося у него в Европе врага — Британии, а также выводила Гитлера к южным провинциям его главного идеологического соперника — сталинской России.
К весне 1941 года Россия превратилась для Гитлера в навязчивую идею. После разгрома Франции он был убежден в том, что сможет обеспечить господство Германии в Европе путем переговоров и мире с Англией. Нейтрализация Британии позволила бы ему консолидировать военные ресурсы и предоставила время для определения дальнейших целей. В числе первейших из них числился разгром Советского Союза. Однако после того как в июне 1940 года французы прекратили сопротивления, Гитлер не счел необходимой немедленную мобилизацию всех военных возможностей[262]. По его мнению, в сложившейся ситуации Англия должна была реалистично признать неоспоримое превосходство нацистской Германии и подчиниться ее военному господству.
Отказ Черчилля признать реальность такой, какой она виделась из Берлина, и упорство Британии побудили Гитлера к тому, чтобы в июле 1940 года (несмотря на шедшую в это время воздушную «Битву за Британию») он произвел передислокацию сухопутных сил вермахта на восток — к новой границе Советского Союза, проведенной после аннексии восточной половины Польши в 1939 году[263]. Одновременно он отказался от лишь недавно принятого решения — демобилизовать тридцать пять пехотных дивизий, участвовавших в битве за Францию, и распорядился увеличить число танковых дивизий вдвое — с десяти до двадцати. Служба военного обеспечения получила задание подыскать в течение августа на территории Восточной Пруссии место для новой штаб-квартиры фюрера, а в сентябре его личный оперативный штаб предоставил общий план нападения на Советский Союз под кодовым названием «Фриц»[264]. Однако все это являлось, скорее, мерами предосторожности. Гитлер еще не принял твердого решения напасть на Россию, выражая готовность вести переговоры о расширении заключенного в августе 1939 года пакта Молотова—Риббентропа с включением туда новых положений о разделе сфер влияния в Восточной Европе — до тех пор, пока эти условия будут его устраивать. В ноябре для продолжения переговоров в Берлин должен был прибыть Молотов. В то же самое время Гитлер продолжал осуществлять программу укрепления своего влияния в Восточной Европе в ущерб Советскому Союзу — правда, скорее дипломатическими, нежели военными средствами.
Его политическим инструментом являлся Тройственный пакт, подписанный между Германией, Италией и Японией 27 сентября 1940 года и провозглашавший, что в случае нападения на одну из стран-участниц две другие обязуются прийти ей на помощь. Данный договор не являлся закрытым. К нему могли присоединиться другие страны, и осенью 1940 года Гитлер счел целесообразным вступление в него некоторых государств Центральной и Южной Европы. Еще до конца года пакт подписали Венгрия и Румыния (страны с отчетливо прогерманскими и антисоветскими режимами) и марионеточная Словакия[265]. На Болгарию и Югославию оказывалось сильнейшее давление, и в марте им предстояло пополнить собой число участников договора.
Однако с Россией дела у гитлеровских дипломатов шли вовсе не так гладко. Несмотря на очевидное господствующее положение нацистской Германии на континенте и веские основания полагать, что проведенные в 1937 и 1938 годах сталинские чистки командного состава серьезно подорвали боевую мощь Красной Армии, Сталин даже в сложной ситуации 1940 года упорно претендовал на равное с Гитлером положение. По прибытии в Берлин 12 ноября министр иностранных дел СССР Молотов потребовал, чтобы Советский Союз, в дополнение к уже аннексированным странам Балтии, получил Финляндию[266], стал гарантом границ Болгарии (притом что недавно отхватил солидный кусок болгарской территории[267]), обрел право беспрепятственного провода военных кораблей из Черного моря в Средиземное через турецкий пролив Босфор и расширил свое военной присутствие в Балтийском море. Гитлер пришел в ярость[268]. Затем, после отъезда, Молотов прислал свой проект договора, в общих чертах подтверждавший советские требования. Гитлер приказал Риббентропу оставить документ без ответа — и уже 18 декабря подписал тайную «директиву фюрера № 21», представлявшую собой черновой набросок плана вторжения в Россию под кодовым названием «Барбаросса».
Но между отклонением Гитлером требований, выдвинутых Молотовым во время ноябрьского визита, и началом осуществления плана «Барбаросса» 22 июня 1941 года еще должно было произойти немало тревожных событий. Наибольшее раздражение Гитлера вызывали попытки диктатора Италии Бенито Муссолини претендовать на роль равноправного с германским фюрером игрока на сцене мировой стратегии. Муссолини откладывал вступление Италии во Вторую Мировую войну до тех пор, пока труднейшие задачи на Западе — разгром Франции и изгнание британских войск с континента — не были решены без его участия. Затем Муссолини решил, что настало время легких побед. В сентябре 1940 года он вторгся из Ливии в Британский Египет, а 28 октября начал с территории недавно оккупированной Албании наступление на Грецию — последнего союзника Британии на европейском континенте. Оба предприятия потерпели фиаско. В ходе декабрьского контрнаступления англичане разбили итальянскую Ливийскую армию, в то время как греки, хотя их и превосходили числом, перешли от обороны к наступлению и в итоге зимней кампании освободили половину Албании от итальянских захватчиков.
Но худшее было еще впереди. Принудив югославское правительство принца-регента Павла подписать 25 марта Тройственный Пакт, Германия всего через два дня столкнулась с патриотическим военным переворотом. Новая власть отвергла пакт и присоединилась к Британии и Греции, продолжавшим противодействовать установлению Германией своих порядков в южной Европе[269]. В феврале Гитлеру пришлось послать в итальянскую Ливию войска, ядром которых являлся прославившийся в будущем Африканский корпус Роммеля, чтобы спасти итальянцев от полного разгрома. Он решил прервать развертывание войск, предназначавшихся для осуществления плана «Барбаросса», ради проведения менее масштабной операции «Марита», которая должна была поставить под германский контроль Югославию и Грецию.
Германская «Буря в пустыне». 1941 год
Отчасти эта операция была вызвана действиями Британии. В ноябре 1940 года, через неделю после итальянского нападения, Греция согласилась разместить эскадрильи британской авиации (RAF) на Пелопоннесе. В марте 1941 она пошла еще дальше: рискуя спровоцировать Гитлера, греки дали разрешение на ввод в страну четырех британских дивизий из состава сил генерала Уэйвелла, недавно одержавших в Ливии эффектную победу над итальянцами. 4 марта английские дивизии начали высадку в Греции, что явилось для Гитлера сильнейшим раздражителем. Одновременно это подвигло Югославию к официальному выходу из Тройственного Пакта. Это было смелым, но весьма опасным жестом. 6 апреля 1941 года Югославия была атакована одновременно с пяти направлений: итальянцами из Албании, венгерской армией, а также тремя немецкими группировками, размещенными в Австрии, Румынии и Болгарии. Практически мгновенный разгром югославской армии позволил высвободить германские и итальянские силы для вторжения в Грецию.
Греки и их британские союзники оказали более длительное сопротивление, нежели беспомощная Югославия[270]. Однако их оборонительные позиции с самого начала подвергались угрозе с флангов, особенно со стороны сильной германской группировки, размещенной в Болгарии на основании Тройственного пакта. Нацисты теснили союзников до тех пор, пока 27 апреля уцелевшие британские части не эвакуировались через порты южной Греции, оставив в руках противника множество пленных и почти все тяжелое снаряжение.
«Марита» стала еще одним триумфом Гитлера. Почти без потерь он завершил завоевание всей континентальной Европы, оставив не оккупированными или не связанными с ним союзами лишь Швецию, Швейцарию и Иберийский полуостров. Теперь противостоять его могуществу мог лишь один Советский Союз. Однако планы вторжения и разгрома этой страны были уже разработаны, и требовался лишь приказ фюрера, чтобы бросить вермахт на Москву.
Но насколько разумным было решение повести наступление прямо на столицу России? Замысел уничтожения Советского Союза Гитлер вынашивал в своем сердце, для него это было идеологическим и стратегическим приоритетом — однако, оглядываясь назад, можно предположить, что фронтальная атака на советские границы являлась не лучшим средством для достижения означенной цели. Разумеется в конечном счете вермахту все равно пришлось бы сразиться с Красной Армией[271]. Военная победа была лишь одной из задач, обозначенных в плане «Барбаросса». Другой, не менее значимой, если фюрер не желал останавливаться на достигнутом и собирался нанести Британии окончательное поражение, являлось овладение огромными природными ресурсами Советского Союза — и в первую очередь месторождениями нефти. Гитлер не имел под своим прямым контролем нефтеносных месторождений, кроме явно недостаточных для его потребностей скважин Румынии, и возмещал нехватку этого стратегического сырья за счет поставок из Росси в соответствии с пактом Молотова — Риббентропа[272]. Фюрер отчаянно нуждался в нефти.
Однако после покорения Греции ему осталось лишь протянуть за нефтью руку. Иран, Ирак и Саудовская Аравия являлись крупнейшими поставщиками нефти на мировой рынок[273], а путь к их скважинам и нефтеперерабатывающим заводам пролегал через восточную часть Средиземного моря и Сирию. Решение не считаться с нейтралитетом Турции могло открыть и другой путь — прямо по суше. Левант был защищен очень слабо. Армия вишистской Франции в Сирии насчитывала всего 38 000 человек без современного снаряжения и авиационного прикрытия[274]. Британия имела в Египте, Палестине и Ливии только семь дивизий, да и те были скованы Африканским корпусом Роммеля, пришедшим на помощь более многочисленной итальянской армии. Усиление германо-итальянской группировки открывало возможность установления контроля над регионом. Не стоило сбрасывать со счетов и возможность прихода к власти в странах региона прогермански настроенных режимов. 3 апреля 1941 года Рашид Али сверг ориентировавшееся на Британию правительство Ирака и обратился к Германии с просьбой о помощи. Тринадцатого мая, совершив перелет через Сирию, немецкие самолеты приземлились в Мосуле, не встретив никакого противодействия со стороны авиации Виши в Сирии. И хотя после вторжения англичан из Трансиордании Рашид Али лишился власти, а силы Виши в Сирии и Ливане были разбиты в ходе «трехнедельной войны» в июле и августе 1941 года, Гитлер получил наглядное доказательство слабости стратегических позиций своих врагов на Ближнем Востоке. Еще 23 мая он подписал «Директиву № 23» о поддержке «арабского национально-освободительного движения» в связи с германо-итальянским наступлением в направлении Суэцкого канала. В «Директиве № 32», подписанной 11 июня, среди прочих мер упоминался сбор на территории Болгарии сил, достаточных, «чтобы привести Турцию к политическому послушанию или преодолеть ее сопротивление».
Предполагалось, что обе директивы будут приведены в действие уже после начала выполнения плана «Барбаросса». Но что, если бы Гитлер передумал и избрал в качестве главной стратегической операции 1941 года не нападение на СССР, а вторжение на Ближний Восток из Болгарии и Греции? Тут возможны два варианта.
Первый позволял не нарушать нейтралитет Турции и ограничиться в качестве перевалочных пунктов на пути к французской Сирии территориями, уже контролировавшимися державами Оси — итальянским архипелагом Додеканес у турецкого побережья, греческими островами в Эгейском море или британским Кипром. К примеру, принадлежавший Италии остров Родос мог быть использован в качестве плацдарма для нанесения удара по Кипру силами 7-й воздушно-десантной дивизии — в действительности без всякой пользы сброшенной 20 мая на Крит[275]. После высадки десанта на Кипре и установления постоянного морского сообщения с островом под прикрытием германской авиации здесь можно было сформировать ударные силы, достаточные для высадки в Сирии и Ливане. Получив надежный опорный пункт во Французском Леванте, мобильные колонны могли начать наступление через пустыню в северный Ирак — а оттуда, получив подкрепления, начать завоевание южного Ирака, Ирана и Саудовской Аравии.
Захваченные нефтяные богатства позволили бы Гитлеру решить все проблемы, связанные с содержанием его военной машины. К концу 1941 года, использовав всего около двадцати дивизий (не больше того числа, которое по плану Барбаросса было выделено для наступления на советский Кавказ в 1942 году), он бы мог выйти к южным границам СССР. Германские войска получали возможность создать прямую угрозу для нефтедобывающих центров Сталина на Каспийском море. А осуществление плана «Барбаросса» можно было начаться и в 1942 году, в гораздо более благоприятной военной ситуации.
Успех этого сценария зависел лишь от того, удастся ли собрать в восточном Средиземноморье необходимое для перевозки достаточного воинского контингента количество судов. О том, что немцы располагали воздушными силами, необходимыми для прикрытия транспортов с десантом от нападения британского флота, свидетельствует неудачная попытка англичан поддержать с моря высадку на острова Додеканес осенью 1943 года. Однако сама возможность раздобыть требуемые корабли представляется проблематичной. В «Директиве № 32» Гитлер писал о «...привлечении судов Франции и нейтральных стран». В действительности же почти все наличные мореходные транспорты находились в руках англичан, что вынудило немцев во время нападения на Крит перевозить сухопутные войска на совершенно не пригодных для этого каботажных судах. Существует вероятность того, что стратегия, основанная на использовании средиземноморских островов в качестве перевалочных пунктов по пути в Левант, провалилась бы по причине заурядной нехватки палубных мест[276].
Куда более перспективной представляется стратегия, основанная на попрании турецкого нейтралитета. В ходе Второй Мировой войны Турция строго придерживалась объявленного нейтралитета. Хотя Германия, Британия и Россия оказывали на нее беспрерывное жесткое давление, она не пошла на уступки ни одной из сторон — даже невзирая на свою очевидную военную слабость. Вообще-то турки — храбрые солдаты, но в годы Второй Мировой войны их армия не располагала каким-либо современным вооружением и военной техникой. Если бы Гитлер после завоевания Балкан решил отложить введение в действие плана «Барбаросса» и, использовав Болгарию и Грецию как трамплин, вторгся бы в европейскую часть Турции, он вполне мог бы захватить Стамбул, переправиться через Босфор и овладеть сердцем Турции — Анатолией, не встретив особого сопротивления. Сталинские войска на новой советской западной границе занимали позиции, не позволявшие воспрепятствовать подобной инициативе, а солдаты вермахта показали в России, что способны одолевать любое бездорожье, и их не могли смутить трудности пути по Анатолии. Быстрое продвижение к Кавказскому хребту, по которому проходила граница СССР и Турции, обезопасило бы фланг вермахта со стороны Советского Союза. Из Анатолии немецкие войска могли легко вторгнуться в Иран или Ирак, запустить щупальца далеко на юг, в Аравию, разместить передовые отряды вокруг Каспия и создать угрозу советской Средней Азии[277].
Если бы Гитлер дополнил свои победы на Балканах весной 1941 года победами в Анатолии и Леванте, то немецкие войска могли бы выйти на Аравийский полуостров и занять господствующие позиции на южном фланге России. Трудно представить себе, как вариант плана «Барбаросса», предусматривающий вместо лобового удара взятие СССР в «клещи», мог бы не увенчаться успехом. Одновременно это поставило бы под удар опорные пункты Британии на Ближнем Востоке и создало страшную угрозу ее господству в Индии.
К счастью, Гитлер разрабатывал свои стратегические планы с учетом правовых и идеологических факторов. В правовом смысле он не мог найти никакого предлога для нападения на строго придерживавшуюся нейтралитета Турцию. В идеологическом аспекте страх и ненависть по отношению к большевизму ослепляли его, не позволяя увидеть другую возможность сокрушить Советский Союз кроме прямого, лобового удара. Он радовался своим великим победам над Сталиным летом и осенью 1941 года и не выказывал ни малейшего сожаления по поводу того, что ввел в действие план «Барбаросса», даже когда в 1945 году на его бункер в Берлине падали русские снаряды. Мы же должны благодарить судьбу за то, что весной 1941 года германский фюрер не остановил свой выбор на менее прямолинейной и более изощренной стратегии.
Уильямсон Мюррей
Дорожный инцидент
Уильямсон Мюррей является профессором университета штата Огайо в отставке.
Это случилось в 1931 году. Один нью-йоркский таксист кружил по городу в поисках поздних пассажиров. Стоял холодный, сумрачный вечер, и при повороте на север, на Пятую Авеню (движение по которой было в то время двусторонним) он разглядел на почти пустынной улице переходившего ее одинокого пешехода. Вместо того чтобы притормозить, спешивший найти последнего пассажира водитель решил, что успеет проскочить, — и на большой скорости сбил полного мужчину, видимо невнимательно следившего за движением.
На следующий день газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала некролог, в котором отмечался вклад Черчилля в британскую политику в годы Великой войны, его роль в приведении в готовность британского флота и работа в Министерстве военного снабжения в 1918 году. Впрочем, автор не смог удержаться от искушения возложить на покойного вину за провал операции в Дарданеллах в 1915 году. Подчеркивалось, что Черчилль являлся многообещающим политиком — однако этим обещаниям не суждено было сбыться.
В Соединенных Штатах, к концу XX века превратившихся в осажденный диктаторскими режимами островок демократии, историки не связывали великую победу нацистов в войне 1939—1947 годов с этим событием. Как можно ставить судьбы государств и народов в зависимость от дорожно-транспортного происшествия? В конце концов, все должны согласиться с тем, что история есть результат великих социальных движений и совокупных действий миллионов личностей, которые составляют человечество, — а никак не деятельности немногих, пусть и великих, людей. Некоторые историки продолжали утверждать, что подписанная летом 1940 году премьер-министром лордом Галифаксом капитуляция Британии не являлась единственным разумным выходом из безнадежного положения, а передача Королевского флота Германии и вовсе не имела смысла. Но никто из них не представлял себе Британию в качестве возможного победителя нацистов в Европе[278]. Тем временем вооруженные силы США снова готовились к отражению наступления нацистов в Южной Америке, и войне не видно было конца...
На самом деле в том дорожном инциденте Черчилль отделался травмой. Возможно, его судьбу решили несколько дюймов, несколько мгновений. Но это другая история, которая нам уже известна.
Дэвид Фромкин
Триумф диктаторов
Дэвид Фромкин — профессор истории и международных отношений Бостонского университета.
Весной 1941 года нацистская Германия была как никогда близка к достижению господства над миром. Северная Франция, Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Чехословакия, Югославия, Греция и большая часть Польши находились под ее полным управлением. Вся Европа, за исключением нейтральных Швеции и Швейцарии, находилась в руках друзей и союзников Гитлера: диктаторов или монархов, возглавлявших фашистскую Италию, вишистскую Францию, франкистскую Испанию, Португалию, Финляндию, Балканские страны — и, самое главное, Советский Союз.
Одна-единственная германская дивизия под командованием генерала Роммеля, посланная в Ливию на выручку осажденным итальянцам, обратила британские войска на Ближнем Востоке в бегство и создала угрозу для столь жизненно важной транспортной артерии, как Суэцкий канал. В то же самое время в Ираке, в результате государственного переворота, пришел к власти прогермански настроенный Рашид Али, что открывало немцам путь в Индию по суше. На Дальнем Востоке союзная с Германией Япония, свернувшаяся в кольцо, как готовая к броску змея, планировала захват Юго-Восточной Азии и Индии. Японцам не было надобности нападать на Соединенные Штаты: овладев Индией и Индокитаем, они свели бы на нет воздействие американского эмбарго, получив доступ к нефтяным запасам, вполне достаточным для обеспечения нужд армий держав Оси.
Предоставив в распоряжение Роммеля группу армий, Гитлер получил бы возможность добиться того, что не удалось ни Александру, ни Наполеону — следом за Ближним Востоком развернуть наступление в глубь Индии и соединиться там с японскими союзниками. После этого Европа, Азия и Африка оказались бы под пятой диктаторов и милитаристов.
Нацистско-советско-японский альянс имел в своем распоряжении военные силы и ресурсы, значительно превосходившие все, чем располагали Англия (со всей ее империей) и Соединенные Штаты. У оказавшихся во враждебном окружении англоязычных стран не осталось бы другого выхода, кроме заключения мира на условиях сохранения — да и то, возможно, лишь до поры — относительной самостоятельности. Нацистская Германия, как лидер господствующей коалиции, стала бы владычицей мира.
И лишь удивительный просчет Гитлера, предательски вторгшегося в Советский Союз, не дал этому осуществиться.
Теодор Ф. Кук (младший)
Фиаско у атолла Мидуэй.
Японская ловушка, 4 нюня 1942 года
Существует апокрифу будто в Военно-морском колледже в Ньюпорте (Род-Айленд) слушатели многократно проводили игру, имитирующую ход состоявшегося в 1942 году сражения при атолле Мидуэй — но при всех возможных сценариях им ни разу не удалось добиться победы американской стороны. Как можно воспроизвести невероятную удачу американских бомбардировщиков, вышедших на японские авианосцы именно в тот момент, когда все вражеские самолеты проходили заправку и находились на палубах? Размышляя о том, как несколько мгновений могут решить исход военной операции, Теодор Ф. Кук пишет: «Легко могло случиться, что 4 июня 1942 года военно-морскому флоту США пришлось бы оплакивать потерю трех авианосцев со всей их превосходной палубной авиацией в обмен на один, может быть два авианосца противника»
Какие последствия могла бы повлечь за собой победа японцев? Как смогли бы мы противостоять их экспансии, располагая на Тихом океане всего одним оставшимся авианосцам?
Ближайшие перспективы для Соединенных Штатов представляются весьма мрачными. Японцы, без сомнения, захватили бы сам атолл Мидуэй и, превратив его в опорный пункт, получили возможность, занимая остров за островом, осуществить свой план изоляции Австралии. За этим последовало бы то, что они называли «Восточной операцией» — вторжение на Гавайи. Чем могли бы ответить на это Соединенные Штаты? Какой должна бы стать наша новая общая стратегия? Маловероятно, чтобы мы просто смирились с поражением. Теодор Кук предлагает несколько вариантов развития событий, один из которых годен лишь для величайшей в мире индустриальной державы. Дата могла стать иной, но со временем — что является примером «контрафакта второго порядка» — совершенно иные обстоятельства вполне могли привести к воплощению в жизнь прекрасно известного нам сценария. Речь идет об атомной бомбардировке.
Теодор Ф. Кук — профессор истории университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси. Один из виднейших специалистов в области военной истории США и Японии. В соавторстве с Харико Тайя написал книгу «Япония в войне: устная история».
«Невероятная победа», «Поворотный пункт», «Чудо при Мидуэе», «Победа, ставшая приговором Японии» — все эти и многие другие эпитеты относились к одному событию — произошедшей в начале июня 1942 года битве у атолла Мидуэй. Перехватив шифровку, свидетельствующую о намерении адмирала Ямамото Исуроку вторгнуться на расположенный в центральной части Тихого океана коралловый атолл Мидуэй, адмирал Честер У. Нимиц приказал заметно уступавшей в силе противнику американской эскадре[279] сразиться с авианосцами японского Мобильного флота — теми самыми, что атаковали Перл-Харбор. В однодневной битве американцы уничтожили эти суда, вынудив разом лишившийся своей главной ударной силы Императорский флот перейти к стратегической обороне. Если до этого командиры союзных сил от Цейлона до Сан-Франциско имели все основания опасаться волны японского натиска, то теперь она отхлынула. Победа американцев предоставила союзникам возможность сосредоточить все усилия против Германии — и при этом уже в августе 1942 года начать наступления на японцев у Гуадалканала.
За месяц до битвы, в мае 1942 года, адмирал Ямамото Исуроку, главнокомандующий Объединенным Флотом Японии, разработал план, согласно которому за захватом атолла в центральной части Тихого океана («Операция MI») должен был последовать захват плацдармов далеко на севере, на островах Алеутской гряды Атту и Кыска («Операция AL»). Японского флотоводца привел в ярость организованный Джеймсом Дулиттлом в апреле того же года налет на Японию американских сухопутных бомбардировщиков, взлетевших с крейсировавших в северной части Тихого океана авианосцев, обнаружить которые японцам не удалось. В начале мая его план высадки японских войск в Порт-Морсби (Новая Гвинея) был сорван в результате сражения в Коралловом море, хотя в нем японцы нанесли противнику больший урон, нежели потерпели сами. Теперь Ямамото разработал схему, позволявшую закрыть бреши в передовой линии японской обороны и — в чем он нимало не сомневался — вовлечь в сражение и уничтожить американские авианосцы, уцелевшие потому, *что во время налета на Перл-Харбор их не было в гавани. Хитроумный замысел предусматривал координацию действий на безбрежных просторах центральной и северной части Тихого океана сразу девяти различных соединений.
К несчастью для японцев, благодаря усилиям группы «Нипо» — работавшей в Перл-Харборе команды дешифровщиков разведки главной базы ВМФ США под началом Джозефа Дж. Рочфорта-младшего — американцы располагали некоторыми сведениями о планах Ямамото. Удара можно было ждать где угодно, и хотя поступавшая информация давала основания предполагать, что первой мишенью станет Мидуэй, она была далеко не полной и нуждалась в подтверждении. Старания группы Рочфорта уточнить значение перехватываемых радиосообщений, которыми обменивались по всему Тихому океану корабли и соединения Императорского флота (используемый им код JN-25 удалось расшифровать лишь частично), достигли кульминации в начале мая, когда в японских шифровках стало повторяться обозначение «AF». Судя по всему, это было кодовое обозначение цели намечавшейся операции, однако какой именно географический пункт имелся в виду, оставалось неясным. По этому поводу в узком кругу приближенных адмирала Честера У. Нимица существовали разногласия и велись споры.
История того, как удалось добиться успеха, вошла в предания шифровальщиков, став для них своего рода эпосом. Самым замечательным в ней является то, что американцы заставили японцев раскрыться благодаря гениальной в своей простоте уловке. По приказу командования с базы Мидуэй открытым текстом было передано сообщение, что в связи с выходом из строя опреснителя личному составу угрожает нехватка питьевой воды. В ответ Перл-Харбор (также открытым текстом) известил об отправке на" Мидуэй пресной воды. В тот же день станции радиоперехвата союзников в Австралии зафиксировали в эфире японскую радиограмму, говорившую о проблеме с питьевой водой на объекте «AF». Информация об этом была немедленно передана в Перл-Харбор. Это утвердило Нимица в его решении — встретить противника у атолла Мидуэй. Дата, на которую намечался японский удар — 4 июня — была выяснена ранее, благодаря прежним перехватам. Нимиц задумал дождаться японцев севернее атолла, на дистанции, позволявшей своевременно обнаружить приближение неприятеля и, сосредоточив силы для неожиданного удара, обрушить его на фланг соединения Ямамото.
Масштабы разразившегося у атолла сражения хорошо известны. Для осуществления операции, имевшей целью захват Мидуэй и западных островов Алеутской гряды (Атту и Кыска), Ямамото располагал одиннадцатью линкорами и восемью авианосцами[280]. Четыре последних — «Акаги», «Kara», «Хирю» и «Сорю», являлись авианосцами первого класса, участвовавшими в нападении на Перл-Харбор, — два других авианосца, побывавших у Перл-Харбора, восстанавливались в Японии от повреждений, полученных ранее в мае в сражении в Коралловом море. Кроме того, у японцев было двадцать два крейсера[281], шестьдесят пять эсминцев, двадцать одна субмарина и более чем семьсот самолетов[282]. Противопоставить этой армаде Нимиц мог три авианосца (в том числе «Йорктаун», после битвы в Коралловом море восстановленный в доках Перл-Харбор практически из развалин), восемь крейсеров, восемнадцать эсминцев и двадцать пять подводных лодок[283].
Будучи предупрежденным о целях и сроках грандиозной операции Ямамото, Нимиц все же разделил свои силы на два оперативных соединения. Оба соединения группировались вокруг авианосцев. «Энтерпрайз» и «Хорнет» относились к Оперативному соединению 16, возглавлявшимся контр-адмиралом Рэймондом Спрюэнсом. Собранное вокруг «Йорктауна» Оперативное соединение 17 оказалось под началом контр-адмирала Фрэнка Д. Флетчера, заменившего вице-адмирала Уильяма в самый критический момент заболевшего и отправленного на берег. Им предстояло встретить авианосцы Мобильного флота вице-адмирала Нагумо Тюити, когда те приблизятся к острову Мидуэй, дабы произвести бомбежку оборонительных сооружений перед началом вторжения.
Великая война на Тихом океане, 1941 — 1946 гг.
Вторжение на Гавайи, декабрь 1942 г.
Ирония ситуации заключается в том, что оба командующих были уверены в своей способности захватить противника врасплох. Нимиц усилил гарнизон базы, перебросив туда все самолеты, которые могли разместиться на аэродроме острова, — даже устаревшие, слишком тяжелые или не прошедшие испытаний. Затем он приказал своим авианосцам занять фланкирующую позицию — так называемый «Пункт Удачи». В ретроспективе понятно, что Нагумо в своей оценке обстановки допустил больше ошибок, чем его противник. Об этом свидетельствуют детали оперативного плана, составленного японским адмиралом непосредственно перед нанесением первого удара.
1. По всей вероятности, неприятельский флот вступит в бой лишь после начала операции по высадке сухопутных сил на остров Мидуэй.
2. Неприятель будет осуществлять воздушное патрулирование: более интенсивное к югу и западу от объекта, менее интенсивное к северу и северо-западу.
3. Воздушное патрулирование будет осуществляться неприятелем в радиусе приблизительно 500 миль.
4. Противник не осведомлен о нашем плане и не обнаружил наше оперативное соединение.
5. Никаких признаков приближения неприятельского оперативного соединения к зоне нашей активности не обнаружено.
6. Таким образом, для нашего флота представляется возможным атаковать Мидуэй, уничтожить вражеские самолеты на земле и осуществить поддержку десантной операции. После этого мы сможем развернуться, встретить приближающееся оперативное соединение противника и разгромить его.
7. Возможности нашей зенитной артиллерии и истребительной авиации безусловно позволяют пресечь любую попытку противника произвести контратаку силами самолетов наземного базирования.
Трудно было бы ошибиться сильнее, и эти заблуждения во многом обусловили неспособность Нагумо к адекватным действиям в условиях, которые оказались совсем иными.
В реальности первыми еще 3 июня были обнаружены силы вторжения, приближавшиеся с юго-запада. Базировавшиеся на острове самолеты подвергли японцев бомбовой атаке, не нанесшей особого ущерба. На рассвете следующего дня японцы произвели бомбардировку острова, повлекшую значительные разрушения, но не достигшую главной цели — уничтожения американских самолетов на земле. Кроме того, японцев встретили столь плотным зенитным огнем, что командующий авиацией предложил нанести по атоллу второй удар. Нагумо, не догадывавшийся о том, что совсем неподалеку скрываются американские авианосцы, и считавший необходимым довести до конца дело, начатое при Перл-Харборе, дал разрешение перевооружить для второго удара по Мидуэю те самолеты, которые он держал в резерве на случай появления американских кораблей. Но как раз в тот момент, когда японцы снимали со своих самолетов торпеды и противокорабельные бомбы, заменяя их оружием, пригодным для поражения наземных целей, их разведка совершенно неожиданно обнаружила корабли адмирала Спрюэнса. И Нагумсг приказал заново переоснастить самолеты для морского боя.
А вот Спрюэнс приказал начать воздушную атаку с предельно дальнего расстояния — как только установил местоположение противника. Правда, американский удар был скоординирован не лучшим образом. Самолеты-торпедоносцы, медлительные и уязвимые, первыми вступили в соприкосновение с неприятелем и погибли почти все — но зато отвлекли на себя внимание большей части японских истребителей, позволив пикирующим бомбардировщикам обрушиться на корабли Нагумо. Прямые попадания бомб буквально уничтожили японское соединение. Авианосцы «Акаги», «Kara» и «Сорю» оказались выведенными из строя, их палубная авиация погибла, не успев взлететь. Взрывы топливных цистерн вызвали столь страшные пожары, что мало кому из команд удалось спастись[284].
Однако «Хирю», четвертый авианосец Нагумо, не только уцелел, но и оказался способным огрызнуться: поднятые с него самолеты нанесли по «Йорктауну», флагманскому кораблю контр-адмирала Флетчера, такой удар, что командующему пришлось перейти на другой корабль. Флетчер передал верховное руководство Спрюэнсу, и тот снова послал в атаку свои пикировщики, уже успевшие принять новый бомбовый груз. После полудня они настигли «Хирю» и обратили его в бегство, причинив кораблю серьезные разрушения[285]. Грандиозный замысел Ямамото провалился — причем Спрюэнс, скомандовав отступление и не приняв ночного боя, который пытался навязать ему все еще мощный японский надводный флот, лишил противника последней возможности отомстить. На этом битва закончилась — хотя на следующий день американский самолет потопил поврежденный в столкновении японский крейсер, а чуть позже, 7 июня, японская субмарина I-168 пустила на дно направлявшийся домой «Йорктаун». С крушением плана Ямамото инициатива в войне полностью перешла к американцам.
* * *
Альтернативные возможности хода и исхода этого сражения давно занимали внимание всех, кто изучал историю войны на Тихом океане. Достойные сожаления технические ошибки, маленькие, но опасные нестыковки в координации действий, запоздалые или поспешные командные решения — все это, в свете известных и неизвестных непосредственным участникам сражения событий, создает множество вероятностных возможностей. Список наиболее известных из этих возможностей, приведенный Уолтером Лордом в книге «Невероятная победа» (1967 год), содержит, к примеру, следующие допущения:
— если бы только гидросамолет № 4 с тяжелого крейсера «Тоне» взлетел в назначенное время, «японцы обнаружили бы флот США до того, как приступили к перевооружению своих самолетов для второй атаки на Мидуэй;
— если бы только американские пикирующие бомбардировщики начали атаку пятью минутами позже (те самые знаменитые «пять минут»), японцы успели бы организовать оборону;
— если бы только японцы атаковали американские авианосцы сразу после появления тех на виду и не стали ждать, когда все самолеты будут готовы...
К этому списку мы готовы добавить: что, если бы командир атакующей группы пикировщиков Уэйд Макклуски не решил пренебречь соблюдением безопасной дистанции ради обнаружения японских авианосцев, а контр-адмирал Фрэнк Д. Флетчер, сойдя со своего тонущего корабля, не передал оперативное командование контр-адмиралу Рэю Спрюэнсу, который довел атаку до конца? Эти и многие другие отважные решения и смелые поступки, а также многочисленные просчеты следует признать важными составляющими в обеспечении исторической победы американского флота. Однако ниже я хочу заострить внимание на событиях, предшествовавших самому сражению — и, возможно, не в меньшей степени определивших его исход. Следует признать, что даже незначительные изменения могли заставить все обернуться совсем по-иному.
Альтернативный вариант?
Мало кому придет в голову усомниться в важности победы у Мидуэй для обеспечения окончательной победы США над Японией[286]. По словам адмирала Честера У Нимица, главнокомандующего на Тихоокеанском театре, человека, который привел американский флот к победе над японским, «Мидуэй стал решающей битвой Тихоокеанской войны, сражением, после которого стало возможно все». Остальное, как говорится, уже история.
Но что, если бы в середине мая 1942 года японский радист, записав текст перехваченной американской радиограммы, повернулся бы к своему командиру, и сказал:
— С чего это они передают такие сообщения открытым текстом? Неужели не боятся, что о нехватке пресной воды на острове станет известно нам?
И что, если бы молодой японский офицер-связист, имея хотя бы толику подозрения, передал свои сомнения по команде? А более квалифицированные криптологи из Токио не отмели с ходу саму мысль о возможности расшифровки кодов Императорского флота? Могли ведь они предположить, что американцы пытаются их перехитрить? Ход их рассуждений мог быть примерно таким: «Если американцы сумели прочесть часть наших сообщений и пытаются уточнить, что станет целью нашей операции, то не является ли это маленькое послание великолепной уловкой, направленной на то, чтобы выманить у нас кодовое обозначение для Мидуэй?» И в этом случае воспринятое тогда в Токио как рутинное (а ныне занимающее почетное место в истории криптографии, дезинформации и разведки) сообщение о нехватке пресной воды на «объекте AF» могло стать первым шагом в ответной игре японской разведки, призванной навязать американцам сражение на благоприятных для Японии условиях.
Простой вопрос и немного элементарной бдительности могли дать японцам ключ для достижения великой победы в центральной части Тихого океана — драматически изменив весь ход Второй Мировой войны.
Переписать историю этого сражения означает вырвать одну из славнейших страниц всей военной истории Америки — однако нельзя не признать, что удача разведки, позволившая американским авианосцам нанести удар по авианосцам Нагумо Тюити уже после налета японских бомбардировщиков на атолл, вполне могла привести к совершенно противоположному результату. Узнай, или хотя бы заподозри адмирал Ямамото Исуроку до отплытия американских авианосцев с Гавайских островов, что противник догадался о цели задуманной им операции — и ничто не помешало бы ему устроить ловушку для самих американцев, использовав свое преимущество как в кораблях, так и в авиации.
Но нельзя исключать, что, получив информацию о том, что его планы стали известны врагу, Ямамото попросту отказался бы от намерения захватить Мидуэй и выбрал бы себе другую цель — возможно, Австралию, Цейлон, Датч-Харбор у берегов Аляски, а то даже Фиджи или Самоа (оперативный план «FS» предпочитали многие его противники в штабе флота). Однако вариант с захватом Мидуэя выглядел более привлекательно — во всяком случае, в глазах главнокомандующего Объединенным флотом. Отказ от собственного, тщательно разработанного плана, выглядит не соответствующим характеру этого человека. Он представлял себе операцию в виде грандиозной шахматной партии с синхронными маневрами девяти оперативных соединений и блистательным эндшпилем. При этом первоначальный сценарий отводил самому адмиралу решающую роль в разгроме американского флота — которым Ямамото намеревался командовать с борта своего флагмана, суперлинкора «Ямато», находившегося всего в нескольких сотнях миль позади авианосцев Нагумо.
Предполагая, что американцы имеют представление о его целях, Ямамото обязан был также предположить, что противник постарается сделать все возможное, дабы не отдать Мидуэй японцам. Даже если японский флот временно превосходил неприятельский, сама Япония имела очень мало шансов выиграть долговременное состязание с США, поэтому Ямамото не мог позволить себе придерживаться стратегии затяжных действий. Напротив, следуя заветам адмирала Того Хейхатиро, разгромившего русских в Цусимском сражении 1905 года, и британского адмирала Нельсона, чье имя было окружено в японском Императорском флоте величайшим почетом, Ямамото не мог желать ничего лучшего, нежели возможность дать решающее сражение в выбранном им самим месте.
Таким образом, вместо того, чтобы переписывать сценарий грандиозной операции Объединенного флота и сочинять для американских участников этой драмы совершенно новые роли, Ямамото, скорее всего, предпочел бы изменить детали своего оперативного плана с учетом того факта, что неприятель будет ждать его у Мидуэя. Вряд ли бы он пошел на полный отказ от своих амбициозных замыслов. Ямамото и начальник его штаба Угаки Матоме считали, что ожидаемой победе надлежит стать лишь первым актом, открывавшим путь к Гавайям. План «Восточной Операции» предусматривал захват острова Оаху, на котором находился Перл-Харбор — главная база Тихоокеанского флота США.
Какими же сведениями относительно намерений и приготовлений американцев располагал Ямамото накануне битвы? Вряд ли их было много, ибо американцы хранили в строжайшей тайне все, что касалось численности и местонахождения их сил. Японский командующий знал, что в море находятся по крайней мере два американских авианосца. Даже добавив к ним «Йорктаун» (относительно которого японцы располагали неподтвержденными сведениями, будто он затонул в Коралловом море) или «Саратогу» (о местонахождении которого японцы ничего не знали, в действительности же этот корабль двигался на запад из Сан-Диего), Ямамото мог рассчитывать на численное превосходство своих сил. Конечно, даже будучи предупрежден о возможной реакции США на его планы, он не имел возможности с уверенностью предвидеть, какова именно она будет. Однако первым свидетельством предпринимаемых американцами усилий мог стать срыв «Операции К» — плана второй за всю войну воздушной разведки Перл-Харбора. Этот рейд должен был осуществляться с помощью летающих лодок дальнего радиуса действия «Каваниси» (союзники окрестили эту модель гидроплана «Эмили»[287]). Предполагалось, что вылетевшие с Кваджалейна самолеты будут дозаправлены с субмарины I-123 возле острова Френч-Фригэйт, находящегося в нескольких сотнях миль западнее Оаху, однако в ночь с 30 на 31 мая в намеченном районе появился американский гидроавиатранспорт. Правда, у японцев оставалась возможность осуществить операцию, перенеся место дозаправки к находившемуся неподалеку, тоже почти необитаемому острову Некер, от которого летающие лодки могли продолжить полет к Перл-Харбору. А то, что они не обнаружили бы там ни одного американского авианосца, могло стать для Ямамото свидетельством попытки Нимица встретить японцев на подходе к Мидуэю.
По предлагаемому нами сценарию сражение могло разворачиваться следующим образом: несколькими днями раньше Ямамото располагает заградительную цепь своих подводных лодок между атоллом Мидуэй и Гавайскими островами. Второго июня, едва на горизонте появились авианосцы Спрюэнса, субмарины оповещают флагмана о появлении американцев. Вместо того чтобы без особой надежды на успех искать противника палубными самолетами, предупрежденный хищник адмирал Нагумо встречает его во всеоружии: поднятые в небо до рассвета гидропланы уточняют местоположение врага, палубная авиация находится в полной боевой готовности. «Пункт Удачи» к северо-востоку от Мидуэй, предполагаемое место встречи ОС 16 и ОС 17, становится черной меткой на американской карте Тихого океана, ибо сюда — и к своей погибели — направляются буквально все действующие на этом театре боевые корабли Соединенных Штагов.
Известие о приближении американцев избавляет Нагумо от последних колебаний относительно стратегии предстоящего боя. У него нет больше необходимости сначала пытаться подавить оборону острова и только потом заниматься вражеским флотом, или, как говорил начальник его штаба адмирал Кусака, «гоняться за двумя зайцами». Осталось лишь встретиться с неприятелем и уничтожить его. Вскоре после рассвета 4 июня японская воздушная разведка определяет состав вражеских сил: два авианосца и корабли сопровождения. Хотя расстояние до противника остается предельным, японский адмирал отдает приказ немедленно атаковать всеми имеющимся средствами. Главный удар приходится по авианосцам, уже идентифицированным как «Энтерпрайз» и «Хорнет». Ударные группы бомбардировщиков «Вэл» и торпедоносцев, ведомые превосходно подготовленными пилотами и сопровождаемые половиной имеющихся в распоряжении Нагумо истребителей, обрушиваются на корабли Спрюэнса. Остальные истребители находятся на палубах японских авианосцев, готовые отразить американскую контратаку. Палубные команды готовят самолеты Нагумо ко второму удару.
Поскольку удача далеко не обязательно склоняется лишь на сторону численно превосходящей стороны, мы вправе предположить, что она все же не окончательно отвернется от американцев. Итак, предупреждение о местонахождении соединения Нагумо, посланное базировавшимся на Мидуэе гидропланом «каталина», позволило радару Оперативного соединения 16 засечь приближение того, что могло оказаться вражескими самолетами. Спрюэнс, также искавший противника, отдает приказ атаковать приближающиеся цели. Лишь наличие радара позволило бы американцам поднять в воздух свои самолеты до того, как враг окажется в пределах визуального обнаружения.
Бомбардировщики устремились в контратаку, хотя основные надводные цели находились на расстоянии, большем, чем радиус полета большинства американских машин. Рэй Спрюэнс объявил, что постарается сократить расстояние между своим и неприятельским флотами, однако прекрасно понимал, что большинству летчиков вернуться не суждено. Истребители, не отправленные на сопровождение штурмовых групп, мужественно пытались противостоять нападению с воздуха — но были рассеяны превосходившими их как числом, так и маневренностью японскими истребителями «зеро», великолепно выполнявшими функцию прикрытия не столь быстрых бомбардировщиков. Лишь немногие из атакующих машин оказались сбитыми или поврежденными прежде, чем они оказались над авианосцами. Несмотря на отчаянные усилия корабельных зенитчиков, сброшенные врагом торпеды поразили оба борта «Хорнета», тогда как «Энтерпрайз» получил несколько огромных пробоин на взлетной палубе. Оперативное соединение 16 фактически перестало существовать — противник же понес весьма скромные потери. Впереди оставалось немало героических, отчаянных подвигов, но эту битву у Мидуэй американцы уже проиграли.
В то время, как капитан «Энтерпрайза» предпринимал отчаянные попытки спасти свой тонущий авианосец, а адмирал Рэй Спрюэнс поднимал флаг командующего на другом корабле, американские бомбардировщики тоже приблизились к соединению Нагумо, где были встречены волной японских истребителей. Американцы мужественно рвались к цели, однако в первую очередь оказались сбитыми медлительные самолеты-торпедоносцы, а затем многочисленные «зеро» атаковали сверху более маневренные пикировщики, стремившиеся во что бы то ни стало сбросить на врага свой бомбовый груз. Вдобавок корабли Нагумо, искусно маневрируя, уворачивались от атакующих самолетов, прикрываясь при этом еще и плотной завесой зенитного огня. Как и в Коралловом море, американцам все же удалось поразить один японский авианосец — допустим, «Кага». Но поскольку в цель попало не так уж много бомб, судно сталось на плаву. Так как вернуться и пополнить боезапас бомбардировщикам было уже некуда, у них не было и возможности завершить дело.
Скоро сражение вступает во вторую фазу. Адмирал Флетчер, находящийся на борту авианосца «Йорктаун», главной ударной силы Оперативного соединения 17, узнав о появлении японских авианосцев, тоже хотел принять участие в сражении — но оно началось прежде, чем он подошел к противнику достаточно близко. Его самолеты уже были готовы к взлету, когда от Спрюэнса поступило сообщение об ужасных разрушениях на его кораблях. С этого момента Джеку Флетчеру придется разрываться надвое, определяя, что делать дальше. Надо заметить, что оперативные планы и приказы, которыми он обязан был руководствоваться, являлись не менее запутанными, чем сложившаяся ситуация.
Приказ Нимица от 27 мая 1942 года предписывал Флетчеру и Спрюэнсу, «применяя тактику заманивания, нанести врагу максимальный ущерб» и по появлении японцев атаковать их корабли с северо-востока. Перед самым отбытием из Перл-Харбор тот же Нимиц призвал своих командиров «руководствоваться принципом разумного риска» и не атаковать превосходящие силы противника, если не появится хорошей возможности нанести ему большой урон. Не кажется ли вам, что в момент несомненного поражения эти приказы представляются не просто противоречивыми, но связывающим руки обоим флотоводцам? О превосходстве вражеских сил знали до начала сражения. Означала ли «тактика заманивания» отступление? И разве эти разговоры о «фланговых маневрах» не обратились в химеру с того момента, как все американские силы собрались к северо-востоку от Мидуэя, не оставив себе другой позиции для удара по японцам, приближавшимся с юго-востока? А если все американские авианосцы будут повреждены, не оставит ли это недавно усиленный гарнизон Мидуэя на сомнительную милость японского флота?
Джек Флетчер знал, что Хэлси очертя голову бросился бы в бой, но ведь сам-то он не «Бык» Хэлси, который частенько сначала действует, а потом думает. Он не может так просто оставить Спрюэнса, которому нечем ответить на второй удар Нагумо. Было еще только утро, и вполне возможно, Флетчер считал, что самому ему удастся избежать обнаружения японцами — а значит, у него есть возможность нанести им совершенно неожиданный удар и сравнять счет. Он принимает решение не возвращаться в Перл-Харбор, а двигаться дальше на запад, рассчитывая незамеченным приблизиться к Нагумо на расстояние атаки.
Однако его обнаруживает возвращавшийся на крейсер «Тоне» японский катапультный разведчик. Перехватив его сообщение о «вражеском авианосце», Флетчер бросает свои самолеты в атаку — возможно надеясь настичь Нагумо прежде, чем тот успеет привести свою авиацию в порядок после недавнего сражения. Силы, составляющие последнюю надежду Америки, устремляются к тому месту, где еще недавно находился Мобильный Флот — но застают там лишь поврежденный авианосец «Кага», двигающийся на запад в сопровождении двух эсминцев. Не обнаружив резко сменившее курс и отвернувшее на север японское соединение, посланные с Йорктауна самолеты в бессильной ярости разбомбили уже потрепанный японский авианосец и один из кораблей сопровождения.
Но пока американцы расправлялись с «Кага», флагман Флетчера сам стал объектом яростной ответной атаки. Оставшиеся невредимыми три авианосца Нагумо, во время продуманного отхода на север приведя в порядок свои самолеты, обрушили второй удар на обнаруженный несколькими гидропланами «Йорктаун», к закату превратившийся в покореженную, охваченную пожарами груду железа. Когда вернулись самолеты Флетчера, сесть им было уже некуда. Всего за один день «Хорнет» отправился на дно, «Йорктаун» был изуродован, получив страшные пробоины, а оставшийся на плаву горящий «Энтерпрайз» оказался (как и «Лексингтон» в Коралловом море) легкой добычей для японских субмарин. Он был торпедирован и затонул незадолго до рассвета следующего дня — 5 июня. После того как к ночи боевые корабли японцев сомкнулись возле «Пункта Удачи», чтобы уничтожить поврежденные американские суда и качавшиеся на волнах сбитые, но не затонувшие самолеты, «чудо Мидуэя» превратилось в безжалостную бойню. За несколько следующих дней японские эсминцы подобрали с воды много спасшихся — как своих, так и американцев — но последние интересовали победителей лишь с точки зрения сведений, которые можно получить от них об оборонительной системе Мидуэя или Гавайев, перед тем как их казнят[288]. Поражение лишило морскую авиацию США лучших пилотов и авиационных техников, в то время как многие сбитые над океаном японские летчики были спасены и могли летать снова.
Первым последствием поражения американских ВМС неизбежно должна была стать потеря самого атолла Мидуэй. Налет бомбардировщиков Мобильного Флота Нагумо привел к почти полному уничтожению оборонительных сооружений, аэродрома и находившихся на нем не успевших улететь самолетов[289]. Но на бомбежке дело не кончилось: за ней последовал обстрел острова орудиями крейсеров, а затем еще и главным калибром линкоров Ямамото. 16- и 18-дюймовые снаряды дробили коралл в пыль. Американский гарнизон, даже будучи предварительно усиленным, не мог долго противиться такому натиску — особенно после высадки японцев на берег. Однако захват базы стоил японцам большой крови и так прославил защитников острова, что со временем оборона Мидуэй стала символом героизма американских моряков. Появился даже обычай прибавлять слово «Мидуэй» к названиям баз ВМС как знак почетного отличия: Мидуэй-Аламо, Мидуэй-Уэйк или Мидуэй-Батаан[290].
В распоряжении Нимица на Тихом океане остался всего один авианосец — вышедший из Сан-Диего «Саратога». Разумеется, Хэлси порывался броситься на врага, чтобы «вцепиться ему в глотку», но Нимиц чувствовал, что задуманная им система стратегической обороны обратилась в ничто из-за его собственной чрезмерной пылкости. Он последовал предчувствию — нет, это был разумный расчет, основанный на оценке разведывательных данных, только вот нить, стягивающая эти понятия воедино, оказалась слишком уж тонкой. А ведь казалось, что японцы ни за что не разгадают его план. Он рискнул флотом — и вот итог: флот потерян. Как могла удачная стратегическая разведывательная операция привести к столь катастрофическому поражению? И как могло случиться что он, рассчитав все совершенно верно, оказался разгромлен наголову? Это останется тайной до конца войны.
Затяжная война
А теперь попытаемся поразмыслить о стратегической ситуации, сложившейся после победы японцев у атолла Мидуэй, а также об альтернативах дельнейшего развития событий.
Баланс военно-морских сил на Тихом океане решительно изменился в пользу Японии и должен был остаться таким до конца 1942 года — а возможно, и всю первую половину 1943. В начале июня 1942 года США располагали всего шестью авианосцами, и в случае потери Нимицем трех из них восстановить мощь флота в короткий срок было технически невозможно. К оставшимся трем авианосцам было нечего добавить до конца 1942 года — срока, на который намечался ввод в строй первых кораблей типа «Эссекс». Однако план пополнения флота предусматривал спуск на воду шести авианосцев в 1943 году, семи — в 1944 году и еще трех — в 1945 году. Иными словами, если исключить возможные потери, к концу 1943 года американские адмиралы могли располагать в лучшем случае десятью авианосцами. Поскольку американский авианосный флот на Тихом океане был практически уничтожен, США оставалось или отозвать остававшиеся авианосцы с Атлантики, где они осуществляли задачу воздушного прикрытия морских конвоев и наступательных операций, либо перейти на Тихоокеанском театре военных действий к пассивной обороне.
Позиции Японии были несравненно сильнее. После сражения у Мидуэй инициатива перешла к ней (тогда как в реальной истории — к США). «Секаку» и «Дзуйкаку», два авианосца, поврежденные в Коралловом море и нуждавшиеся в ремонте и пополнении экипажей, были готовы вернуться в строй и влиться в состав Мобильного флота уже вскоре после успешного сражения. А к середине 1942 года ожидалось пополнение флота еще двумя авианесущими кораблями. Это позволяло задействовать в будущих операциях по четыре, а то и пять авианосцев одновременно — даже учитывая, что какой-то корабль будет находиться на ремонте или пополнять запасы. На определенное время за японцами закреплялось превосходство в новейших средствах ведения морской войны; и это при том, что Ямамото сохранял свою приверженность линкорам, еще недавно считавшимися высшими арбитрами океанских баталий. Сомнительно, чтобы планировавшееся американцами на ближайшее время введение в строй большого числа легких боевых кораблей (включая даже легкие и эскортные авианосцы) могло серьезно изменить соотношение сил.
Во вторых, возникла угроза полной блокады Австралии — во всяком случае, со стороны Тихого океана, поскольку в сложившейся ситуации американские авиация и флот не могли помешать японцам перерезать связь Австралии с США в районе островов Фиджи и Самоа. Семь миллионов австралийцев рисковали оказаться в еще большей изоляции, чем прежде, поскольку прерывание потока снабжения грозило тем, что группировка юго-западной части Тихого океана под командованием генерала Макартура окажется обескровленной прежде, чем коммуникации удастся восстановить.
В третьих, единственным открытым путем в Австралию оставался Индийский океан, однако там линии снабжения пролегали через Индию и Цейлон, по ряду причин уязвимые для японского вторжения. В Индии множились выступления против британского владычества и за полную независимость Индостана, а учитывая, что в Бирме британские войска откатывались под натиском японцев, Индия в июне 1942 года представляла собой не столько надежную базу, сколько место потенциального взрыва.
В случае успеха предусматривавшейся японским планом высадки на острова Атту и Кыска нельзя было исключать возможность продвижения японцев в северной части Тихого океана вдоль Алеутской гряды — вплоть до Датч-Харбора. Это представляло огромную опасность в силу того, что указанный плацдарм находился на примерно равном расстоянии как от Сан-Франциско, так и до Гонолулу (2034 мили) и на данном театре военных действий являлся жизненно важным. Защищенная суровыми штормовыми морями, морозами и туманам, в случае захвата японцами эта база превратилась бы в грозную преграду на пути сил, попытавшихся бы во второй раз атаковать Токио через центральную часть Тихого океана.
В юго-западной части Тихого океана, вместо осуществленной американцами в августе 1942 года операции «Сторожевая башня», приведшей к захвату Гуадалканала, могло иметь место почти беспрепятственное продвижение японцев вплоть до Соломоновых островов. Это создавало реальную угрозу аванпостам союзников на Эспириту-Санто, в Новой Каледонии, а возможно — на Фиджи и Самоа. Несмотря на трудности такого рода продвижения, каждый его этап мог бы опираться на поддержку японской авиации наземного базирования — тогда как для противодействия этому процессу США должны были бы изыскать способ доставлять самолеты и топливо в нужное место в нужное время.
Кроме того, можем ли мы исключить повторение паники, подобной той, которая после Перл-Харбор охватила западное побережье США и прокатилась даже по коридорам власти в Вашингтоне? Опять же, в случае вторичного поражения американского флота (представлявшего собой главный инструмент борьбы именно с Японией) могли возникнуть сомнения в правильности объявленной Рузвельтом стратегии, направленной в первую очередь на разгром Германии — стратегии, которая легла в основу плана «Радуга».
Но дела могли обернуться для Америки еще хуже. Что, если бы следующим шагом врага стало вторжение на Гавайи? Ведь когда началось осуществление «Операции MI», эта кампания уже находилась в стадии планирования — поскольку в глазах Ямамото естественным продолжением захвата Мидуэя и Алеутов должен был стать удар по этому главнейшему оплоту мощи США на Тихом океане.
Вторжение на Гавайи
Заманчивая возможность вторжения на Гавайские острова рассматривалась высшим военным руководством Японии чуть ли не с самого начала войны. Четырнадцатого января 1942 года контр-адмирал Угаки Матоме, начальник штаба Объединенного флота и правая рука Ямамото, доверил эту мысль своему дневнику: Японии надлежит предпринять попытку «в течение июня захватить Мидуэй, Джонстон и Пальмиру, разместить на этих островах нашу авиацию, а после того, как эти задачи будут выполнены, мобилизовать все имеющиеся силы для вторжения на Гавайи — попытавшись в то же время уничтожить вражеский флот в решающем сражении». Он знал, что подобный план встретит немало возражений, однако, приводя доводы в пользу необходимости его осуществления, писал: «Какой удар может оказаться для США более тяжким, чем потеря флота и Гавайских островов?.. Попытка вторгнуться на Гавайи и дать при этом решительное морское сражение может показаться безумным планом, однако шансы на успех отнюдь не малы... По прошествии времени мы можем потерять те преимущества, которые успели приобрести в ходе войны. Более того, пока мы будем терять время в пассивном ожидании, враг может нарастить свою мощь... Уничтожение американского флота будет означать то же самое и относительно британского флота. Тогда мы получим полную свободу действий. Таким образом, предложенный план представляет собой кратчайший путь к завершению войны...»
Победа японцев при Мидуэе не могла не придать весу каждому из приведенных доводов.
В том, что следующей после Мидуэй целью Императорского флота стали бы именно Гавайи, почти нет сомнений. Благодаря замечательному труду сотрудника Гавайского университета Джона Стивена «Гавайи под Восходящим Солнцем: замыслы японцев после Перл-Харбор» мы имеем четкое представление о том, как в течение 1941 —1942 годов разрабатывались планы вторжения на острова. Разумеется, практическое их осуществление было сопряжено с огромными трудностями. Бросок японцев на Перл-Харбор в любом случае представлял рискованный ход — но у него было куда больше шансов оказаться удачным в том случае, если бы американские авианосцы были потоплены, а Гавайские острова изолированы с востока японскими авианосцами и подводными лодками. В такой ситуации Ямамото, конечно же, предпринял бы попытку вторжения — сумей он получить от Императорской армии поддержку живой силой, авиацией и необходимыми припасами. Несмотря на риск, огромную пользу, которую могла бы извлечь Япония из успешной высадки на Оаху, трудно переоценить. Можно даже привести доводы в пользу того, что единственным способом отсрочить поражение и завершить войну на приемлемых условиях для Японии было бы именно полномасштабное нападение на острова в самом начале войны — но это уже уведет нас в сторону от избранной нами контрафактуальной дороги.
Вторжение на Гавайи в рамках «Восточной операции» планировалось осуществлять поэтапно, в течение нескольких месяцев, хотя (как предполагается в данном сценарии) одержи японцы у Мидуэя убедительную победу, в военном руководстве наверняка поднялись бы голоса в пользу ускорения кампании. Ударить немедленно означало воспользоваться замешательством (если не сказать паникой) американцев, но одновременно это было чревато серьезной опасностью. Оаху, остров, где располагалась база Перл-Харбор, защищали грозные укрепления, многочисленный гарнизон и сильная авиация, и не ослабив его оборонительного потенциала, нечего было и помышлять о штурме. Чтобы японский меч оставался острым, авианосцы нуждались в ремонте, а команды — в отдыхе. Ямамото не мог сразу после победы у Мидуэя бросить флот к Гавайям, даже сумей он обеспечить его достаточным количеством топлива. Кроме того, для успеха задуманного японским ВМС требовалась готовность армии предоставить людей и самолеты, причем в количестве, значительно превышающем согласованное до Мидуэя. В свете постоянного противодействия наступательным планам флота, в течение всей войны оказывавшегося руководством сухопутных сил, это выглядело бы весьма нелегкой задачей. Но великая победа у Мидуэя вполне могла превратить японских генералов в пламенных сторонников такой кампании — хотя на самом деле лишь немногие в японском руководстве разделяли уверенность Ямамото в том, что захват Гавайев вынудит американцев пойти на переговоры о мире.
Кажется наиболее вероятным, что исполнение плана должно было начаться с постепенного продвижения с острова на остров — начиная с атолла Пальмира, важного промежуточного аэродрома на пути в южную часть Тихого океана, и кончая островом Самоа, где военно-воздушная и морская база Японии могла быть организована уже к сентябрю. Таким образом, полномасштабный удар по Гавайям представлялось реальным нанести не ранее конца 1942 года — возможно, в декабре. Для этого требовалось привлечь еще несколько авианосцев, переоборудовать в легкие авианосцы плавбазы гидросамолетов, а также осуществить иные, поистине грандиозные мероприятия. Но урон, нанесенный военной мощи США у Мидуэя, делал все это возможным. В соответствии с планом «Фиджи—Самоа», разработанным еще до сражения за Мидуэй, японцы словно гигантской косой прошлись бы по югу и юго-западу Тихого океана, перерезая коммуникации, связывавшие Австралию с Гавайями и Западным побережьем США. Захвату подлежали Новая Каледония, Фиджи, Самоа, а возможно, и Таити. Каждый скачок обеспечивал поддержку следующего. Этот процесс должен был сопровождаться высадкой на атоллах Джонстон и Пальмира, в результате чего Гавайи остались бы единственным форпостом США в центральной части Тихого океана.
Соединенные Штаты постоянно усиливали оборону Гавайских островов, и если в декабре 1941 года там размещалось 40 000 солдат американской армии, то к апрелю 1942 года их число составило приблизительно 65 000. Планировалось и дальнейшее усиление гарнизонов — как на Оаху, где находились город Гонолулу и база Перл-Харбор, так и на «Большом острове», лежавшего в нескольких сотнях миль к юго-востоку.
Но такое наращивание военной мощи порождало свои проблемы. В действительности Гавайи вовсе не являются райской землей, какой представляют их туристические проспекты и вербовочные брошюры флота. Продовольственное обеспечение армии и гражданского населения (особенно большой массы людей, сосредоточенной в Гонолулу) в случае прекращения морских рейсов представляется почти неосуществимой задачей. Сельское хозяйство Гавайев (кроме, разве что, выращивания ананасов и сахарного тростника) в то время было развито весьма слабо, и поэтому острова даже в мирное время полностью зависели от ввоза продовольствия извне. Большая часть припасов поступала из портов Западного побережья США, находившихся в двух тысячах миль морского пути. По оценкам, сделанным накануне войны, запасов провизии на Гавайях могло хватить лишь на несколько недель.
Функционирование Перл-Харбора и прочих военных объектов зависело от местной рабочей силы, причем 160 000 жителей Оаху (то есть более 40% всего населения острова) составляли те, кого в Японии называли «дохо», что значит «соотечественники». Этот термин объединял всех этнических японцев на родине и за рубежом, вне зависимости от гражданства. Следует сказать, что при планировании обороны островов перед войной американское командование оценивало лояльность второго поколения японских переселенцев (так называемых «нисей») довольно высоко — департамент по управлению островами даже рекомендовал набирать из них солдат. В отличие от драконовской практики, имевшей место на Западном побережье, где этнические японцы (в том числе и имевшие американское гражданство) стали объектом пристального внимания со стороны спецслужб[291], на Гавайях было интернировано менее 1% жителей японского происхождения. Но, несмотря на это, японское военное руководство всерьез рассчитывало, что их «братья» встретят появление Императорских сил антиамериканским восстанием, и намеревалось в дальнейшем широко использовать опыт местных жителей при управлении архипелагом.
Какими средствами располагала Америка для того, чтобы отстоять Гавайи, наладить снабжение находившихся весьма многочисленных экспедиционных сил или даже организовать какую-либо широкомасштабную военную операцию с Западного побережья? Прямая воздушная связь между США и Гавайями исключалось в силу того, что ни один бомбардировщик или транспортный самолет (за исключением В-29, в массовом порядке начавшего поступать на вооружение лишь в середине 1944 года) не мог одолеть такое расстояние с полной загрузкой. Как мы видели выше, победа японцев у Мидуэя лишила Америку авианосцев, способных воспрепятствовать вторжению, а для того, чтобы отбить Гавайи, окажись они во власти Японии, потребовалась бы морская операция такого масштаба, что подготовить ее США смогли бы только к концу 1943 года. Выигрыш Японии от затяжной Гавайской кампании был очевиден — особенно в сопоставлении с той ценой, в которую она должна была обойтись Соединенным Штатам. Без прикрытия с моря «американский Гибралтар», столица федеральной территории Гавайи город Гонолулу, база Перл-Харбор и остров Оаху не были полностью защищены от нападения. Оснобой их обороны, на считая береговой артиллерии, являлась размещенная на аэродромах Оаху авиация. Однако даже в эпоху, когда самолеты могли вести патрулирование и наносить удары на большом удалении от берега, способность аэропланов держаться в воздухе все равно зависела от морских поставок горючего.
Наиболее вероятным сценарием финального японского удара по Гавайским островам представляется сильный отвлекающий удар по Оаху, высадка на «Большом острове» (Гавайи) с целью обеспечения безопасности аванпостов на Хило и последующее ускоренное строительство аэродромов. Как только Императорский флот доставит с юга бомбардировщики, истребители и горючее, японская базовая авиация начинает регулярные налеты на Охахо. Далее должна следовать серия жесточайших воздушных боев, но, несмотря на мужество и выучку американских пилотов, без поддержки с моря они не смогут сдерживать натиск врага до бесконечности. Бои потребуют восполнения потерь личного состава и техники — не говоря уж о топливе и боеприпасах, а попытка направить к островам караван транспортных судов может быть легко пресечена японским флотом. Если никакого «восстания» так и не разгорится, то гражданские объекты на острове будут подвергаться бомбежке, все более безжалостной по мере истощения возможностей американской истребительной авиации. Нет сомнения в том, что прямая атака на Перл-Харбор для японцев была бы самоубийством, к тому же американский гарнизон наверняка постарался бы сделать неприступным наиболее удобное для высадки северное побережье Оаху. Однако вполне возможно, что после истощения боевых возможностей американской авиации и долгого обстрела береговых оборонительных сооружения японской корабельной артиллерией на берег были бы выброшены элитные воздушно-десантные подразделения, подобные действовавшим в Индонезии. После разрушения оборонительных сооружений и истощения припасов гарнизон острова был бы полностью обескровлен, что вполне могло привести к позорному падению тихоокеанского бастиона Америки.
В имперских архивах не сохранилось каких-либо планов расширения Гавайской операции далее на восток. Но даже при малой вероятности действия здесь силами флотов или эскадр удачные крейсерские рейды по пресечению отчаянных попыток послать на острова подкрепление должны были отрицательно повлиять на боевой дух американцев. Тому же способствовали и рейды японских субмарин к находившемуся в 2000 милях к северо-востоку Западному побережью США, равно как и обстрелы изолированных американских аванпостов. Более того, охотничьи стаи субмарин могли парализовать прибрежные морские сообщения — во всяком случае, до установления там регулярного дальнего патрулирования, какое было организовано в Атлантике. Развертывание нескольких подводных лодок у берегов Панамы могло затруднить судоходство по важнейшему межокеанскому пути, пусть даже эти субмарины и не могли оставаться на месте долгое время. Помимо всего прочего, японцы имели возможность нанести удар непосредственно по Панамскому каналу. Летчики-смертники «камикадзе» на набитых взрывчатками самолетах с запасом топлива только в один конец могли вызвать невероятный хаос, если бы им удалось нанести серьезные повреждения хотя бы одному шлюзу[292]. Эта угроза связывала американские силы еще больше.
1942. Год решений
Последовавшие одна за другой катастрофы — разгром у Мидуэя и потеря Гавайев — поставили Объединенный Комитет начальников штабов перед нелегким выбором. Следовало определить, какой театр военных действий — тихоокеанский или европейский — должно признать приоритетным. Летом 1942 года по всему миру союзникам наносились тяжкие удары. В России нацисты рвались к Сталинграду на Волге и богатому нефтью Кавказскому региону. Германский «Африканский корпус» уже стоял у ворот Египта, тогда как в Атлантике ширилась смертоносная подводная война. В июне немецкие субмарины отправили на дно суда союзников суммарным водоизмещением в 700 000 тонн, а в ноябре потерям предстояло достигнуть высшей точки — 802 000 тонн. И в такой ситуации генералу Макартуру и президенту Рузвельту приходилось отвлекать значительные ресурсы на противодействие японской угрозе западному побережью США. Согласие между Англией и Америкой, базировавшееся на признании первостепенности европейского ТВД и борьбы против Гитлера, могло оставаться формальным стратегическим приоритетом, однако суровая реальность происходящего на Тихом океане, несомненно, потребовала бы существенной корректировки практических действий. Как, например, в сложившихся обстоятельствах могли осуществляться военные поставки из США в СССР[293]?
Когда между Калифорнией и захваченными Японией Гавайями не осталось ничего, способного защитить побережье, по стране прокатилась волна требований направить все возможные силы и средства — войска, технику, снаряжение, припасы — на обеспечение безопасности собственной территории. Ограниченные возможности берегового авиационного патрулирования могли привести к отзыву из Британии главного стратегического оружия США — предназначавшихся для налетов на Германию «Летающих крепостей» В-17[294], и превращению их в самолеты береговой обороны. Правда, применение В-17 на Филиппинах и в операциях возле Мидуэя показало, что тяжелые бомбардировщики не слишком эффективны при борьбе с кораблями — но что поделать, если ничего лучшего все равно нет!
Конечно, в первую очередь надлежало увеличивать производство военной продукции — но и тут имелось немало проблем, одной из которых, как ни странно, являлся патриотизм. Мужчины трудоспособного возраста рвались в армию, так что страна испытывала затруднения не только с материальными, но и с людскими ресурсами. Разумеется, даже в таких обстоятельствах Америка могла произвести больше военной техники, нежели весь остальной мир: вопрос заключался в том, могла ли она сделать это вовремя?
Не исключено, что в 1942 году стремление увеличить численность американской армии более чем до ста дивизий внесло бы сумятицу во все ранее составленные мобилизационные планы, а также схемы и расписания, связанные с производством, снабжением и подготовкой персонала. Адмиралу Эрнесту Кингу и генералу Джорджу Маршаллу при определении приоритетов пришлось бы выдерживать сильнейшее давление. Впоследствии реалистическая позиция могла снова возобладать над мобилизационной суматохой, однако это замедлило бы движение по истинно американскому пути, позволяющему, создавая качество, качество и еще раз качество, доставлять все необходимое в нужное время в нужное место, равно как и куда угодно.
Нам представляется, что вопреки чаяниям Ямамото и некоторых других японских стратегов, захват Гавайев отнюдь не подвиг бы руководство Соединенных Штатов к мирным переговорам. Доказательством тому могут служить слова, произнесенные президентом Рузвельтом в Конгрессе 8 декабря 1941 года. «Не имеет значения, сколько потребуется времени для того, чтобы справиться с этим спланированным вторжением. Но народ Америки в своей праведной мощи добьется полной и окончательной победы»[295]. Однако долгая борьба за острова (даже с учетом того, что она наверняка ослабила бы и японский флот) могла серьезно истощить Америку. И тогда бы все чаще начали бы раздаваться голоса, твердящие о том, что отвоевание Гавайев не стоит времени и усилий, которые придется затратить на строительство огромного ударного флота.
Представляется вероятным, что после победы японцев у Мидуэя и оккупации Гавайских давняя мечта американских стратегов о постепенной подготовке вторжения в Японию путем захвата все более близких к ней островов и размещении на них своих баз, превратится в военно-исторический реликт. Однако, хотя бы в теории, еще будет сохраняться возможность осуществления альтернативного кошмара, пугавшего японских стратегов еще до войны — наступления американцев через Аляску.
В свете этой возможности становится понятен повышенный интерес Ямамото к Алеутским островам. Единственный прямой путь из Америки в Японию при сложившихся обстоятельствах пролегал через приполярные льды и туманы. Так называемый «Великий круговой путь», связывавший Сан-Франциско с Манилой, проходил прямо через Токио. Но чтобы сделать такое наступление реально осуществимым, потребовалось бы не просто завершить начатое в феврале 1942 года строительство Алканской дороги, обеспечивавшей прямой наземный путь в центральную Аляску. Нет, здесь была бы нужна «Аляскинская супердорога» — не только шоссе, но и цепь аэродромов, причалов, баз снабжения и тому подобного на всем пути от западной Канады и Сиэтла (штат Вашингтон), до Датч-Харбора, и даже далее. Проект воистину грандиозный — хотя Америка и Канада могли бы воплотить его в жизнь, сочти они это необходимым.
Всякий, изучающий историю Второй Мировой войны, сталкивается с аксиомой: используя свой индустриальный потенциал, Америка всегда создавала то, что ей требовалось создать. После Перл-Харбора она показала способность к сплочению и мобилизации всех сил. Однако непрекращающаяся череда неудач — утрата Филиппин, отступление из западной части Тихого океана, потеря союзниками стратегических ресурсов Голландской Ост-Индии, а особенно — гибель флота у Мидуэя и падение Перл-Харбора, могли поколебать даже эту решимость.
Эндшпиль
Значит ли это, что Америка должна была проиграть войну? Маловероятно, учитывая ее гигантские экономические возможности. Однако после поражения у Мидуэя победа над Японией стала бы еще более трудновыполнимой задачей. И суть проблемы не только в восполнении потерь: дело в том что в этом случае с июня 1942 года инициатива в боевых действиях надолго закреплялась за Японией. То есть Америке приходилось сосредоточивать ресурсы на обороне собственной территории — что не могло не привести к затягиванию войны в Европе. А это, в свою очередь, давало Германии время, чтобы поставить на поток производство своего «супероружия». Технический прорыв Германии в области реактивного оружия, и та грозная сила, которую представляли собой ракеты (особенно «Фау-2»), существенно осложнили бы остановку на европейском театре военных действий. А для миллионов узников лагерей смерти, чьи судьбы не очень-то волновали союзников, нацистское «окончательное решение» могло и вправду стать окончательным.
Продолжение войны означало также продолжение японской оккупации Восточной Азии, а значит, и всех связанных с ней ужасов и страданий. Массовая мобилизация японцами трудовых ресурсов в Китае и Малайе могла повлечь за собой новые, неисчислимые жертвы. Ну и, наконец, последнюю, неизмеримо большую, чем та, что была уплачена в 1945 году, дань человеческими жизнями пришлось бы уплатить под градом атомных бомб самой Японии. Разумеется, при том допущении, что, несмотря на все дополнительные трудности, связанные с катастрофой 1942 года, власти США сочли бы возможным финансировать не сулившие скорой практической отдачи программы большой науки, к которым относился и «Манхэттенский проект».
Элихью Роуз
Спасшиеся авианосцы
Элихью Роуз преподает военную историю в Нью-Йоркском университете.
Когда 7 декабря 1941 года ударные японские самолеты внезапно обрушились на Перл-Харбор, Тихоокеанский флот Соединенных Штатов оказался для них легкой добычей. Почти весь — но все же не весь. В ловушке оказались линкоры, эсминцы, подводные лодки и множество вспомогательных судов — однако трем авианосцам удалось избежать гибели. Чтобы смягчить горечь потерь, боги войны сделали военно-морским силам США маленький подарок: «Саратога» проходила капитальный ремонт на Западном побережье, «Лексингтон» доставлял самолеты на Мидуэй, а «Энтерпрайз» находился с той же миссией у острова Уэйк. Им довелось участвовать в других сражениях. «Лексингтон» погиб в Коралловом море, «Саратога» заслужил семь «Боевых звезд», внеся важный, хотя и не решающий, вклад в достижение победы.
Однако именно самолеты с «Энтерпрайза» (а также с авианосца «Йорктаун») потопили у атолла Мидуэй четыре японских авианосца, переломив ход отчаянного сражения, нанеся смертельный удар по надеждам японцев захватить Мидуэй и Гавайи и не позволив им развернуть боевые действия на Цейлоне и в Австралии. То было величайшее морское поражение Японии с 1592 года, когда японский флот уничтожили корейские броненосцы. Как справедливо отмечает Сэмюэль Эллиот Морисон, Мидуэй изменил весь ход войны на Тихом океане. Но представьте себе, чем могла бы обернуться эта историческая битва, не выйди «Энтерпрайз» в плавание за несколько дней до того страшного декабрьского утра...
Стивен Э. Эмброуз
Несостоявшийся «День Д».
Атомные альтернативы Европы
В военной истории нередки случаи, когда судьбы могущественных держав зависели от капризов погоды. Мы уже знаем, как повлияли на ход событий сырость и грязь 1529 года, шквал, разогнавший Испанскую Армаду, туман, позволивший Вашингтону увести армию с Лонг-Айленда. Но мало когда воздействие погоды имело столь далеко идущие последствия, как в «День Д». Шестое июня 1944 года стало поворотным пунктом не только в военном, но и в политическом отношении, ибо этот день определил магистральный идеологический путь для Западной Европы на половину столетия. Но что, если бы высадка союзников в Нормандии была отменена или провалилась? Что, если бы знаменитое «окно» — короткий перерыв в терзавшей Европу буре — так бы и не открылось, вынудив Дуайта Эйзенхауэра остановить вторжение или проводить операцию в крайне неблагоприятных условиях? Мог ли шторм сыграть на руку немцам, не дав союзникам воспользоваться результатами умелой дезинформации, заставившей Гитлера и его генералов перебросить ряд дивизий на другое направление, представлявшееся им более опасным? По мнению Стивена Эмброуза, неудача союзников могла повлечь за собой целый спектр возможных последствий — от просто неприятных до устрашающих.
Если популярность истории возрождается, то это в немалой степени является заслугой профессора Стивена Эмброуза. Его перу принадлежат (по последним подсчетам) два десятка книг, включая многотомные биографии Дуайта Д. Эйзенхауэра и Ричарда М. Никсона, а также недавно вышедшие бестселлеры «Беззаветная храбрость» (история экспедиции Льюиса и Кларка), два исследования о завершающем периоде Второй Мировой войны в Западной Европе — «День Д» и «Граждане-солдаты», а также новейший труд «Товарищи».
При ретроспективном взгляде на исторические события мы нередко вынуждены признавать, что ход их мог оказаться совсем иным под воздействием факторов, находящихся вне человеческого контроля — чаще всего погодных. Ведь если такие природные явления как приливы, отливы или смена фаз луны, могут предсказываются заранее, то другие — например, ветер, облачность или волнение — трудно угадать более чем за сутки, особенно там, где климат известен своей изменчивостью. Как, скажем, в проливе Ла-Манш.
Операция «Оверлорд» — кодовое название высадки союзников в Нормандии, являлась, вероятно, наиболее тщательно спланированным наступлением за всю войну. С самого начала ЭСВКС (Экспедиционные силы Верховного командования союзников) делали ставку на приемлемую погоду — слабый ветер, умеренное волнение, рассеянную облачность. Бурное море, ураганный ветер и нулевая видимость сделали бы осуществление плана невозможным.
Первоначально вторжение намечалось на 5 июня 1944 года. Первые три дня месяца погода действительно держалась прекрасная, но затем она начала портиться. Зарядивший над проливом мелкий дождь усиливался, превращаясь в хлещущий холодный ливень. На последнем оперативном совещании, состоявшемся 4 июня в 4 часа утра, полковник авиации Дж. М. Стрэгг, описанный Дуайтом Эйзенхауэром как «суровый, умудренный опытом шотландец», сообщил командующему прогноз. Звучал он неутешительно: давление падало, и 5 июля ожидались сплошная облачность и штормовой ветер. Эйзенхауэр принял решение отсрочить начало операции по крайней мере на день.
Ранним утром 5 июня, под завывание ветра и шума барабанившего в окна штаб-квартиры ЭСВКС дождя, Стрэг сделал новый, наверное самый известный в военной истории прогноз погоды, заявив, что к вечеру буря стихнет, а во вторник, 6 июня, погода станет вполне сносной, каковой и останется на протяжении примерно тридцати шести часов. На вопрос Эйзенхауэра, точно ли он за это ручается, Стрэг со смехом ответил, что «как известно самому генералу, в таких делах гарантии невозможны».
— Хорошо, — промолвил Айк после некоторого размышления — Мы дадим делу ход.
Предвидение Стрэга основывалось на интуиции в той же мере, сколь и на научном знании: в свои двадцать восемь это офицер уже успел стать опытным военным синоптиком. Другие метеорологи из соответствующих служб Королевского флота и ВМФ США придерживались иного мнения и в скорое окончание шторма не верили. Впоследствии в своих мемуарах, озаглавленных «Оверлорд-Прогноз», Стрэг написал, что даже будь у него тогда возможность использовать данные современных метеоспутников, он все равно в не меньшей мере положился бы на интуицию. В чем с ним трудно не согласиться: в наши дни, когда в распоряжении Би-Би-Си имеются технические средства, каких Стрэг не мог себе даже вообразить, сделанные за сутки майские и июньские прогнозы в зоне Ла-Манша в половине случаев оказываются абсолютно неверными.
А что, если бы буря не стихла и 6 июня? Эйзенхауэру пришлось бы отложить операцию — но вся беда в том, что 19 июля, в следующий, предусмотренный планом срок, когда сочетание полнолуния и низкого прилива должно было благоприятствовать высадке, на побережье Нормандии обрушился самый яростный шторм того года.
Попытка несмотря ни на что переправиться в намеченный срок могла обернуться самыми тяжкими последствиями. Суда болтало бы на волнах как щепки, и достигшие берега люди были бы измучены качкой и приступами морской болезни. Не было бы ни воздушного прикрытия, ни парашютно-десантной поддержки — поскольку при попытке осуществить выброску ветер раскидал бы парашютистов по всему побережью. Качка затруднила бы и поддержку высадки корабельной артиллерией, снизив точность попаданий, тогда как укрытым от непогоды в своих блиндажах и бункерах немцами ничто не мешало косить огнем незадачливых десантников.
У Эйзенхауэра не имелось бы иного выхода кроме отмены последующей высадки. В противном случае его люди были бы перебиты или захвачены в плен, как это случилось с участниками первой десантной операции союзников в Европе[296] — злосчастной высадке в Дьеппе в 1942 году. 6 июля главнокомандующий союзными войсками обнародовал бы заготовленное заранее заявление для прессы с признанием провала операции, а союзный флот, поджав хвост, ретировался бы в Англию.
Эйзенхауэр отдавал себе отчет в том, что это может стоить ему поста: потому он и подготовил вышеупомянутое заявление, приняв всю ответственность на себя. Заменять все союзное командование не имело смысла, но кто мог занять его место? Кандидатура Бернарда Монтгомери являлась неприемлемой для американцев, чей вклад в операцию являлся решающим. Омара Брэдли неудача запятнала бы не меньше, чем Эйзенхауэра. Джордж Паттон остался бы к ней непричастен — но его назначение представляется сомнительным в силу противодействия Монти. Возможно, выбор остановился бы на начальнике штаба Джордже Маршалле: он с самого начала надеялся возглавить кампанию в Европе, но президент Рузвельт счел его незаменимым в Вашингтоне.
Между тем союзные стратеги наверняка впали бы в отчаяние. Конечно, в их распоряжении все равно оставались огромные силы, но ведь на подготовку к осуществлению операции «Оверлорд» ушло больше года, и альтернативного плана просто не имелось. В ретроспективе Нормандия представляется идеальным выбором, но вряд ли союзники рискнули предпринять вторую попытку в том же самом месте. Но если не там, то где? Побережье Па-де-Кале было защищено гораздо лучше нормандского. Гавр щетинился германскими пушками. Пожалуй, единственной приемлемой альтернативой являлась переброска собранных сил для высадки на юге Франции (придание более масштабного характера операции «Драгун»), но это повлекло бы за собой серьезные затруднения в материально-техническом обеспечении армии еще на пути к Рейну — не говоря уж о Берлине. Само же по себе освобождение Южной Франции не только не означало конца войны, но и вообще не создавало существенной угрозы для гитлеровской империи. Кроме того, обезопасив себя со стороны пролива, фюрер мог, почти ничем не рискуя, направить на юг любые подкрепления (когда операция «Драгун» началась в действительности, такой возможности у него уже не было). В долине Роны возникла бы тупиковая ситуация — такого же рода, как и в Италии. Впрочем, несмотря на все приведенные соображения, наиболее вероятной альтернативой Нормандии все же оставался именно юг Франции.
Помимо сугубо военных проблем, срыв операции «Оверлорд» породил бы и проблемы политические. Рискнем предположить, что это повлекло бы падение правительства Черчилля, сделавшего ставку на этот план. Новый кабинет получил бы мандат... — на что? На более энергичное ведение войны? Едва ли. На переговоры с Гитлером? Немыслимо! Топтаться на месте и в прямом смысле ждать у моря погоды? Скорее всего.
Точно так же в Соединенных Штатах поставившему все на операцию «Оверлорд» Франклину Рузвельту вотум недоверия не грозил, но через пять месяцев страну ждали президентские выборы. Не сумев должным образом продемонстрировать американскую военную мощь, он проиграл бы их, уступив место в Белом Доме Тому Дьюи. Его администрация получила бы мандат ... — на что? Думается, лишь на более активное ведение войны на Тихом океане.
Провал «Дня Д» не снял бы для Гитлера проблему ведения войны на два фронта, ибо сосредоточенные в Британии союзные силы продолжали представлять собой нешуточную угрозу, однако это позволило бы ему перебросить часть войск на Восточный фронт. Но самое главное — он мог воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы внести раскол в противоестественный союз Запада и Востока. Промедление с открытием Второго фронта играло на руку Геббельсу и нацистской пропагандистской машине, стремившейся убедить Сталина в готовности капиталистов сражаться до последней капли русской крови. Нет ничего невозможного в том, что Гитлер и Сталин сумели бы восстановить взаимопонимание, существовавшее между ними в 1939 году и восстановить прежний советско-германский пакт. А возможно, Сталин сумел бы разгромить Гитлера в одиночку и, захватив следом за Германией Францию, вышел к Ла-Маншу. Трудно представить себе менее приятную перспективу.
Переориентация союзников на операцию «Драгун», как и соответственное возрастание советской угрозы, должны были повлечь за собой активизацию США, Англией и Францией воздушных налетов на Германию, а в конце лета 1945 года это вполне могло закончиться атомной бомбардировкой. Финал поистине ужасный.
Дальнейшее развитие событий представляется весьма неопределенным. Однако можно предположить, что в образовавшийся в Центральной Европе в результате атомного удара вакуум тут же устремились бы союзные армии из Британии и Красная Армия с востока. Могло ли это вылиться в открытое военное столкновение и если да, то могли ли США применить атомную бомбу также и против Советов? Или союзники (как это и произошло в действительности) все равно договорились бы со Сталиным о разделе сфер влияния, проведя через центральную Европу разграничительную линию?
Но если бы летом 1945 года США использовали свой ядерный арсенал против Германии, Сталин вполне мог перебросить часть войск с германского фронта на Дальний Восток, что привело бы к вторжению Красной Армии на северные острова Японии. В соответствии с этим сценарием Япония не подверглась бы атомной бомбардировке, но оказалась бы разделенной надвое, как Германия, с установлением в северной ее части коммунистической диктатуры.
Сталин замышлял такое вторжение и осуществил бы свой замысел, если бы японцы не успели капитулировать перед США. А окажись русские в Японии, трудно сказать, когда бы они оттуда ушли — если бы вообще ушли.
То, что срыв «Дня Д» повлек бы за собой весьма нежелательные последствия, очевидно. Какими именно могли бы они быть — лежит в области догадок. Но лично для меня несомненно, что никакой расклад уже не мог сделать возможной победу нацистов. Зато победа коммунистов в Европе представляется достаточно вероятной. Коммунистические Франция, Германия, Италия и Нидерланды означали бы невозможность создания НАТО и, напротив, возможность добавления к ним коммунистической Великобритании. Советский Союз мог стать неизмеримо могущественнее, а отношения с ним опаснее и труднее. Перспектива безрадостная, но она вполне могла обернуться реальностью, если бы у берегов Нормандии нас постигла неудача.
Роберт Коули
Советское вторжение в Японию
Роберт Коули является редактором-учредителем «Ежеквартального журнала военной истории».
Теперь нам известно, что Советский Союз, чьи армии прошли по Маньчжурии и острову Сахалин, намеревался вторгнуться на Хоккайдо, самый северный из исконно японских островов. Это вторжение должно было состояться за два месяца до начала операции «Олимпик» — американской высадки на южном острове Кюсю. В то время, как акт о капитуляции императора Хирохито ждал официального подписания в Токийском заливе (состоявшегося 2 сентября 1945 года), Советы продолжали жадно поглощать все новые территории и готовились к прыжку на Хоккайдо. Из всех опасных возможностей, какими грозила миру эпоха «Холодной войны», этот «лягушачий прыжок» мог быть чреват едва ли не самыми тяжкими последствиями.
И дело не только в том, что всего за пару недель и с минимальными затратами Советы могли получить немалую долю выгод от победы, которой союзники добивались почти четыре года и за которую заплатили тысячами жизней. Если бы их силы вторжения захватили на Хоккайдо хотя бы прибрежную полосу (что было вполне возможно — летом 1945 года американцы совершали туда рейды, не встречая особого сопротивления), то Советы получили бы возможность предъявить права и на остров — что явно не облегчило бы выработку условий капитуляции — а также и на создание своей зоны оккупации в Токио. Представьте себе, что в годы «Холодной войны» на Тихом океане имелся бы свой разделенный Берлин! Впрочем, в этом имелась и положительная сторона — Штаты могли бы блокировать советскую зону в Токио в ответ на сталинскую блокаду Берлина в 1948 году. Словом, такой поворот событий открывал возможность положить кризису конец — или же, напротив, усугубить его! Следует также принимать во внимание пагубное влияние существования советского Хоккайдо на послевоенные преобразования в Японии или на то сдерживающее воздействие, которое присутствие недружественных оккупационных сил на острове могло оказать на Штаты при принятии решения о вмешательстве в Корее с использованием японских баз. Все это делало весьма вероятным значительное расширение масштабов регионального конфликта.
Можно лишь радоваться тому, что война на Тихом океане закончилась именно так, как она закончилась. Продлись она еще хотя бы на одну-две недели — и это могло повлечь за собой бесповоротное изменение соотношения сил между Востоком и Западом, то есть всей будущей геополитической ситуации. В ретроспективе начинает казаться, что когда Гарри Трумэн предостерег Сталина от вторжения на японскую территорию и диктатор в последнюю минуту отменил операцию на Хоккайдо, то человек, ставший президентом США в силу случая, принял одно из своих важнейших решений, равное по значению приказу об атомной бомбардировке.
Не поступи он так и я, возможно, не писал бы сейчас эти слова.
Приложение 5
Несостоявшаяся высадка.
Хоккайдо, август 1945 года
Автор нижеследующего материала должен покаяться сразу: первоначально эта статья готовилась в качестве наукообразной журнальной мистификации на тему «броня крепка и танки наши быстры». Но оказалось, что выдумывать ничего не надо — в ходе работы над статьей «притянутые за уши» построения неожиданно начали подтверждаться вполне, реальными фактами...
К августу 1945 года финал Второй Мировой войны уже не вызывал ни у кого сомнений. Германия была разгромлена, императорская Япония могла лишь надеяться затянуть свою агонию еще на год-полтора. Тем временем будущие победители — СССР и страны-союзники — все больше и больше отдалялись друг от друга.
Как ни странно, в этот момент у Японии вновь появлялись шансы если не победить в войне, то хотя бы избежать полной капитуляции, сохранить священный императорский режим и добиться чего-либо похожего на статус Веймарской республики после Первой Мировой войны. Для этого надо было лишь попытаться как можно искуснее сыграть на противоречиях союзников.
Самым вероятным кандидатом на роль будущего покровителя Японии оказался Сталин. И не только потому, что СССР не находился в состоянии войны со Страной Восходящего солнца. Отношения СССР и Японии, несмотря на память о войне 1904 —1905 годов, интервенцию времен Гражданской войны, «Антикоминтерновский пакт» и многочисленные пограничные инциденты, оставались вовсе не такими плохими, как это могло казаться. В империи всегда была сильна группировка политиков, выступавших за сотрудничество с Россией в противовес «англо-саксонскому миру». В мае 1941 года был подписан советско-японский «Пакт о нейтралитете», который Япония честно соблюдала даже в самые тяжелые для СССР моменты, отказываясь таскать для немцев каштаны из огня. И, в конце концов, при фактическом развале выполнившей свою задачу Антигитлеровской коалиции империя Микадо могла оказаться для СССР весьма ценным новым союзником в противостоянии союзникам прежним.
Кроме того, Советский Союз в прямом смысле держал Японию за горло. Небольшая по площади островная империя с чрезвычайно высокой плотностью населения катастрофически нуждалась во ввозе продуктов питания из-за пределов метрополии. Собственно, именно это и послужило причиной интервенции в Китай — империи Восходящего Солнца любой ценой необходимо было установить контроль над ближайшими к ней континентальными сельскохозяйственными районами. К концу 1944 года эта задача была выполнена — практически все приморские районы Китая оказались под контролем японских войск, армия Чан Кайши была оттеснена в глубинные районы страны и фактически прекратила сопротивление.
Однако победа пришла слишком поздно. Ситуация на главном, Тихоокеанском фронте неуклонно двигалась к катастрофе. Американские самолеты и подводные лодки безнаказанно хозяйничали в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, фактически перекрыв подвоз в метрополию продовольствия, сырья и нефтепродуктов из Юго-Восточной Азии. Последним сельскохозяйственным районом, сохранившимся у Японии под боком, оставалась Маньчжурия — богатейшая северо-восточная часть Китая, захваченная ею еще в начале 30-х годов.
Для защиты этого жизненно важного региона Япония сделала все, на что была способна. На протяжении всей войны здесь находилось больше половины японских сухопутных войск — сорок дивизий, сведенных в Кванту некую армию. К лету 1945 года Квантунская армия вместе с местными формированиями насчитывала почти миллион человек! Однако над ними с двух сторон уже нависала куда более могущественная сила — советские войска Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов, по численности почти в два раза превосходившие силы японцев и их маньчжурских союзников. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин в обмен на многочисленные уступки Черчилля и Рузвельта дал обещание объявить войну Японии. Впоследствии многие западные историки и политики назовут эти уступки чрезмерными и будут долго недоумевать — как это лидеры демократических держав смогли фактически подарить Европу зловещему российскому диктатору? Но даже если не учитывать специфические интересы США в Европе, а всего лишь вспомнить, что, готовя план штурма Японских островов, американские штабисты заложили в него ориентировочную цифру потерь (убитыми и ранеными) в миллион человек, то сделанные в Ялте уступки уже не кажутся чрезмерными...
После того как блокада со стороны Тихого океана фактически отрезала Японию от ее заморских колоний и оккупированных территорий, основным источником продовольствия стала Маньчжурия. В случае вступления СССР в войну Японские острова даже не потребовалось бы штурмовать — железная рука голода вынудила бы империю сдаться без боя.
В июне 1945 года Сталин по дипломатическим каналам получил совершенно секретное японское предложение. Вкратце оно сводилось к следующему: чтобы заручиться благосклонностью Советского Союза, Япония готова выполнить все его требования. То есть вернуть все, что западные союзники гарантировали СССР в своей Потсдамской декларации — Порт-Артур, Южный Сахалин, Курильские острова, КВЖД (несмотря на то что в 30-е годы эта железная дорога была вполне законным порядком куплена Японией у Советского Союза) и даже северную часть Курильских островов. Япония хотела только, чтобы СССР не объявлял ей войны и не трогал Маньчжурию. А за поставки советской нефти она изъявила желание расплатиться остатками своего когда-то могущественного флота[297].
Впрочем, какие-либо действия СССР, направленные против Японии, и без того юридически являлись нарушением пакта о нейтралитете от мая 1941 года. Поэтому советское руководство оказалось перед дилеммой: нарушить международное право во имя союзнического долга или не нарушать его — во имя собственных интересов.
Известно, что Сталин выбрал первое. Менее известно, что он колебался до последнего момента. Советские войска из Европы перебрасывались на Дальний Восток уже с конца мая, о том, что грядет война с Японией, знали все. Но вот приказа на непосредственную подготовку к боевым действиям войска не получали. В конце июля Военный Совет Тихоокеанского флота запросил у руководства ВМФ страны разрешение на предварительный вывод и развертывание на позициях хотя бы части подводных лодок — и получил ничем не мотивированный отказ. Более того, лишь 5 августа 1945 года была определена разграничительная линия между зонами ответственности советского и американского флотов. При этом зоной действия ТОФ фактически оказывались только прибрежные воды СССР: в Японском море эта линия проходила на удалении сотни миль от берега, а в открытой части Тихого океана советские корабли вообще должны были фактически действовать у границы советских территориальных вод. Охотское море объявлялось совместной зоной ответственности. Характерно, что в Корее советские войска тоже имели право продвигаться лишь до линии 38-й параллели, территория южнее нее назначалась для оккупации американскими войсками. Подобная уступчивость Сталина тоже не может не наводить на размышления.
6 августа пришло известие о сброшенной на Хиросиму атомной бомбе, что резко изменило позицию СССР. Готова ли была Япония сражаться с «англо-саксонским миром» до конца даже после атомной бомбардировки — вопрос очень сложный. А в случае неожиданной капитуляции империи у Советского Союза возникал реальный шанс упустить все. Сталин рисковать не хотел.
В ночь на 8 августа 1945 года советские войска на Дальнем Востоке получили приказ о начале боевых действий против Японии. Согласно этому приказу, наступление назначалось на 9 августа — менее чем через сутки. Если сухопутные войска, как им и было положено, уже занимали исходные рубежи для наступления, то флот к боевым действиям, даже сугубо оборонительным, оказался совершенно не готов. Вместо того чтобы к моменту официального объявления войны уже находиться на отведенных позициях в готовности атаковать суда противника, подводные лодки вышли в исходные квадраты лишь через сутки после начала войны. Естественно, все японские транспорты уже успели попрятаться в свои порты и без крайней нужды больше оттуда не вылезали. Поэтому, в отличие от сухопутного театра военных действий, морская война с Японией первую неделю протекала исключительно вяло. Никто не мог предполагать, что именно здесь, на море, Сталин попытается разыграть новую карту.
Спешно спланированная «на самом верху» операция предполагала вслед за захватом Сахалина высадку десанта на Хоккайдо — втором по величине острове Японии, естественно входившем в американскую зону оккупации. Но американцы были еще далеко, а руководство СССР очень надеялось, что местное население предпочтет советскую оккупацию американской. Следует отметить, что надежды на симпатии местного населения имели под собой некоторые основания. В отличие от Соединенных Штатов СССР не воевал с Японией и не нес ответственности за жертвы и разрушения, вызванные тотальными американскими бомбардировками (в том числе атомными). Кроме того, Хоккайдо был по преимуществу сельскохозяйственным, а не промышленным районом; большая часть земли в Японии все еще находилась в руках помещиков, поэтому проведение тут аграрной реформы привлекло бы на сторону оккупационных войск практически все безземельное крестьянство. Работавший в то время в Японии советский дипломат М.И. Иванов в своей книге «Япония в годы войны» отмечал, что по завершении войны очень многие японцы действительно интересовались, не будет ли Советскому Союзу тоже отведена зона оккупации, и даже не скрывали того, что связывают этот вопрос с надеждой получить свой надел земли. Принц Коноэ Фумимаро в меморандуме, предоставленном императору 14 февраля 1945 года, прямо заявил о возможности в стране «коммунистической революции». Кстати, тот же Иванов рассказывает и о грандиозной драке между советскими летчиками и американскими морскими пехотинцами в Токио, прямо напротив императорского дворца. Причем, по его утверждению, финал битвы, когда все американцы оказались в окружающем дворец канале, был встречен японскими зрителями с большим восторгом...
Конечно, американцам такие действия (высадка на Хоккайдо, а не драка перед императорским дворцом) должны были крайне не понравиться. Более того, они явились бы прямым нарушением соглашения о разделе сфер влияния. Правда, нормы международного права при этом не нарушались, поскольку данное соглашение юридически не оформлялось. А заняв как можно большее пространство на японской территории раньше американцев, Советский Союз мог потом торговаться со Штатами уже на других условиях. При этом для захвата территории достаточно было поставить под свой контроль ключевые ее пункты — аэродромы, морские порты, а также «почту и телеграф». Войск для этого требовалось совсем немного — главным была бы не их численность, а сам факт наличия. Словом, действовал принцип «кто успел, тот застолбил».
Для высадки назначался 87-й стрелковый корпус, перевозиться он должен был тремя отрядами транспортов общей численностью 16 судов. Судя по всему, американцы сами ждали чего-то подобного, потому что 18 августа президент Трумэн выступил с категорическим протестом против высадки советских войск в Японии. Тем не менее операция не была отменена. 19 августа командующий 1-м Дальневосточным фронтом и командующий Тихоокеанским флотом получили приказ быть готовыми к высадке войск на Курильские острова и оккупации северной части острова Хоккайдо до линии Кусир — Румои.
С 21 августа первые подразделения десантного отряда начали перебрасываться из Советской Гавани в порт Маока на западном побережье Сахалина, накануне занятый советским десантом. Далее они должны были двигаться в японский порт Румои на западе острова Хоккайдо. Высадка намечалась на 22 — 24 августа. Еще раньше из бухты Улисс под Владивостоком к побережью Хоккайдо были отправлены сразу четыре подводные лодки: Л-11, Л-12, Л-18 и Л-19. Это были лучшие подводные корабли, которыми располагал Тихоокеанский флот — большие подводные минные заградители типа «Ленинец» XI и XIII серий. Вместо мин заграждения лодки могли брать на борт достаточно много груза и поэтому довольно часто использовались для транспортных целей.
Обстоятельства этой операции полностью не известны до сих пор. Опубликованы отнюдь не все документы, касающиеся похода, а источники советских времен полны странных расхождений в датах и цифрах. К примеру, известно, что Л-12 и Л-19 получили приказ на выход сразу же после распоряжения командования о проведении десантной операции — 19 августа. В официальных работах, посвященных действиям советских ВМС против Японии, говорится, что они должны были вести наблюдение за побережьем и препятствовать переброске морем японских подкреплений на Южный Сахалин. Но в действительности задача ставилась другая — высадить разведгруппы и произвести разведку обстановки на побережье. До советской разведки дошли сведения о том, что японцы якобы готовы сдать остров Хоккайдо советским, а не американским войскам — в обмен на будущее заступничество. Информация требовала проверки.
Численность и состав разведывательных групп на лодках тоже неизвестны. Более того, встречаются утверждения, что лодки должны были вести разведку на берегу только силами экипажа! Якобы часть моряков этих лодок ранее проходила специальную подготовку — что звучит совсем уже дико, поскольку на подводной лодке в боевых условиях на счету каждый человек и выделять из своего числа разведчиков для выполнения задачи на суше подводники никак не могут. То есть можно подозревать, что разведгруппа на борту каждой лодки все-таки была.
И здесь появляется следующая пикантная деталь: официально признано, что две другие лодки, Л-11 и Л-18, действительно везли боевые части. Причем даже не разведгруппы, а довольно крупные десантные отряды, пригодные для разведки боем — по 60 морских пехотинцев, по две 45-миллиметровые противотанковые пушки, боеприпасы и запас продовольствия на 10 суток. Дата выхода лодок так и остается неясной. С этого момента официальные советские источники начинают откровенно противоречить друг другу.
Согласно архивным данным, на основе которых составлялся известный справочник А.В. Платонова по советским подводным лодкам 1941 — 1945 годов, обе лодки вышли из бухты Улисс 22 августа, а 25 августа прибыли в порт Маока на Сахалине. Однако в предисловии к справочнику автор предупреждает, что из-за противоречивости использованных источников многие приведенные им данные могут оказаться неточными. Действительно, в других книгах говорится, что лодки пришли в Маока уже 20 августа — что тоже выглядит малоправдоподобно (в этот день на окраинах Маока еще шли бои). Спрашивается, зачем вообще надо было перебрасывать войска на Сахалин из-под Владивостока, да еще столь незначительными порциями, когда Советская Гавань, где сосредоточивался назначенный в десант 87-й стрелковый корпус, была в несколько раз ближе?
Можно предположить, что лодки все-таки вышли из базы не 22 августа, а вместе с предыдущими двумя (то есть вечером 19 числа), или на следующий день после них. Тогда все становится на свои места, и операция обретает конкретные черты. Можно также предположить, что на самом деле десант был на всех четырех лодках. Две с половиной сотни морских пехотинцев — это уже немалая сила, которой (при отсутствии сопротивления японцев) хватило бы для установления контроля не только над портом Румои, но и над другими пунктами на побережье Хоккайдо.
В район Румои Л-12 и Л-19 прибыли днем 21 августа и сразу же приступили к разведке местности и подходов к порту — ведь за ними шли Л-11 и Л-18 с десантом. С наступлением темноты лодки всплыли на поверхность и подошли к самому берегу. По окончании рекогносцировки перед самым рассветом должна была начаться высадка разведгрупп. Можно предположить, что надувные лодки с Л-12 были уже спущены на воду, когда прозвучал сигнал тревоги. На северной стороне горизонта в предрассветной дымке показались силуэты кораблей противника.
На самом деле это была группа японских вспомогательных судов, перевозящих беженцев из Отомари (ныне город Холмск на Сахалине), но командиры лодок знать об этом не могли. Л-12 и Л-19 спешно прекратили высадку, погрузились и вышли в атаку. Около 4 часов утра Л-19 выпустила торпеду по вспомогательной канонерской лодке «Шинко-Мару №2», а затем всплыла рядом с поврежденным взрывом кораблем и открыла по нему огонь из 100-миллиметрового орудия. Однако, поднявшись на мостик, командир заметил на палубе атакованного судна множество гражданских лиц и приказал прекратить огонь. Лодка погрузилась, транспорт с трудом доковылял до берега и выбросился на набережную.
Буквально через час Л-19 торпедировала и утопила быстроходный кабелеукладчик «Осагава-Мару» водоизмещением около 4000 тонн. Чуть позже, в 11:42, уже на самом входе в порт Румои Л-12 трехторпедным залпом атаковала и утопила транспорт «Тайто-Мару» (6000 тонн). По японским данным, на борту всех трех кораблей (несших военно-морские флаги) погибло в общей сложности 1700 человек.
К моменту окончания бойни солнце уже стояло высоко и пытаться производить высадку разведгрупп до наступления темноты не имело смысла. Л-19 вышла на связь с базой и доложила, что южнее Румои кораблей противника нет, мин не обнаружено, корабельный дозор у входа в порт отсутствует. В ответ база неожиданно приказала сменить позицию и перейти в залив Анива (южнее Хоккайдо) для прикрытия высадки советских войск в порту Отомари. Ряд историков связывает этот приказ с отменой плана высадки на Хоккайдо, однако при этом уже находившиеся в пути лодки с десантом (Л-11 и Л-18) обратно на базу возвращены не были, из чего следует, что решение на высадку пока не отменялось.
Л-12 осталась у Румои — очевидно, следующей ночью все же намереваясь осуществить высадку разведчиков. Ближе к вечеру она встретила японский конвой и начала сближение с ним, но была обнаружена самолетами противника и атакована катерами охранения. Позднее, уже в темноте, лодка выходила в атаку на транспорт, но из-за большого расстояния и повреждения перископа от атаки отказалась. А Л-19 тем временем отправилась на север.
Впрочем, на самом ли деле на север?
Как уже упоминалось выше, документы, посвященные действиям советских лодок у побережья Хоккайдо, противоречат друг другу до невероятной степени. Противоречия во времени отправления радиограмм еще как-то можно объяснить, но чем объяснить неувязки в местонахождении кораблей и даже в характере их действий?
Причем это касается не только нас, но и японцев. К примеру, около десяти вечера 22 августа (то есть уже после получения приказа идти в залив Анива) Л-19 в районе мыса Нашинторо атаковала и повредила торпедой транспорт «Тетсуго-Мару». Однако мыс Нашинторо находится не севернее, а южнее Румои. Выходит, лодка еще некоторое время продолжала выполнять прежнюю боевую задачу?
Тем не менее очевидно, что в ночь на 23 августа Л-19 все же повернула на север и направилась к проливу Лаперуза. Судя по всему, именно на этом пути она повстречала японский эскортный корабль «Кайбо Кан 75», вечером 22 августа вышедший из Вакканая (порт на крайней северной точке Хоккайдо) в Майдзуру. По крайней мере, в пункт назначения корабль не дошел, минных заграждений на его пути не было, и поэтому во всех западных справочниках он числится на счету Л-19. Каково же было удивление командира лодки, когда рано утром 23 августа, выйдя на связь с базой, он получил строгое распоряжение: прекратить атаки вражеских кораблей.
В ответ на распоряжение о прекращении атак командир Л-19 Кононенко недоуменно запросил, как ему теперь понимать свою задачу. Ответ был кратким: «Ваша задача — разведка».
То есть разговора о прикрытии высадки в Отомари уже не шло. Отныне командир лодки должен был действовать только согласно приказу из пакета, выданного ему перед самым выходом. 23 августа в 15:22 он сообщил о том, что был атакован подводной лодкой и что начинает форсирование пролива. Можно представить себе чувства капитана, который сначала получает приказ о прекращении боевых действий, а сразу же после этого подвергается атаке со стороны противника!
Официально лодка Л-19 числится погибшей на японском минном заграждении при форсировании пролива Лаперуза. Одни источники называют датой ее гибели 23 августа — время, когда она, согласно последнему донесению, должна была войти в пролив. Другие источники упоминают 24-е число, но большинство сходится на 25 августа.
А может быть, лодка подорвалась на мине только на обратном пути, уже проведя два дня в Охотском море? Официальный приказ требовал от лодки вести разведку в районе Анива, но содержание приказа из пакета нам неизвестно.
Можно предполагать, что действия по второму варианту (после отказа от высадки в районе Румои) подразумевали высадку разведгруппы в другом районе Хоккайдо.
У северо-восточного побережья Хоккайдо действительно появилась советская подводная лодка. Правда, по японским документам, это случилось двумя днями раньше — утром 22 августа. В этот день в районе порта Абасири, недалеко от восточной оконечности острова, всплывшая на поверхность подводная лодка атаковала артиллерийским огнем транспорт «Дайто-Мару №49», также шедший из Отомари с беженцами. Возможно, лодка пыталась захватить транспорт, но он открыл ответный огонь и, по утверждению японцев, тоже нанес лодке повреждения. По всем раскладам подводная лодка могла быть только советской — американские лодки с 14 августа атак не проводили не только в этом районе, но и вообще на Тихом океане. Однако кто именно атаковал «Дайто-Мару», остается тайной и по сей день.
Логично предположить, что это была Л-19, форсировавшая пролив Лаперуза в указанный ею срок (в ночь с 23 на 24 августа) и днем 24 августа уже находившаяся у северо-восточного побережья Хоккайдо, в районе порта Абасини. Правда, в этом случае приходится предположить ошибку в датировке события уже с японской стороны. Видимо, «Дайто-Мару №49» наткнулся на лодку именно в тот момент, когда она высаживала разведгруппу — поэтому бой и вышел таким сумбурным. Независимо от того, удалось ли ей высадить разведчиков, Л-19 легла на обратный курс — и погибла на мине в проливе Лаперуза, пересекая его уже при возвращении из Охотского моря.
С уверенностью можно сказать только одно: 22 — 24 августа 1945 года в ряде точек на побережье Хоккайдо была предпринята высадка советских разведгрупп. Причем, судя по всему, не с целью сбора данных о структуре обороны противника и тыловых коммуникаций, а с конкретной задачей — проверить, как японцы отреагируют на появление советских войск и не предпочтут ли сдаваться в плен нам, а не американцам. В случае удачного результата вслед за разведгруппами на берег должны были высадиться отряды с ожидавших в море лодок Л-11 и Л-18. Далее из Маока выходили транспорты с основными силами 87-го стрелкового корпуса. И в течение трех-четырех дней остров Хоккайдо оказывался под контролем СССР.
Очевидно, результаты произведенной разведки были признаны неутешительными — японцы не проявили стремления сдаться в плен русским. Операция была свернута. Подробности ее проведения остаются тайной и по сей день...
В. Гончаров
Часть VII
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ
Дэвид Клэй Лардж
Похороны в Берлине.
Холодная война становится горячей
На протяжении сорока пяти лет разделенный надвое Берлин являлся центром того, что Дэвид Клэй Лардж назвал «сюрреалистической игрой, известной под именем "Холодной войны". Но за это время, как и во многих других случаях, не раз и не два возникали ситуации, когда игра могла вылиться в совсем иные формы. Ниже Дэвид Лардж рассматривает ряд наиболее серьезных вариантов такого рода сценария. Что, если бы немцы и русские заключили в 1944 году второй «пакт о ненападении»? Могли ли мы попытаться опередить русских и самим захватить Берлин в апреле 1945 года? Был ли у такой попытки шанс на успех? Насколько реальной была угроза вторжения Советов в Западную Европу в конце 1940-х годов? Чем могла бы обернуться наша попытка силой воспрепятствовать блокаде Берлина в 1948 году? С другой стороны, к чему привело бы решение западных держав оставить город? В чем заключалась опасность превращения Германии в «нейтральную» страну с самостоятельной армией — вариант, предлагавшийся Сталиным в 1952 году? Что, если бы президент Эйзенхауэр не позволил Фрэнсису Гэри Пауэрсу отправиться в свой роковой полет на U-2? Или если бы он прибегнул к силе, чтобы помешать восточным немцам воздвигнуть «Берлинскую стену»? Итак, мог ли Берлин стать Сараево Третьей Мировой войны?
Дэвид Клэй Лардж, профессор истории университета штата Монтана, является автором таких книг, как «Меж двух огней: Европа в 1930-х годах», «Там, где блуждали призраки: Мюнхенская дорога к Третьему Рейху» и готовящаяся к печати работа «Берлин: Роль столицы в созидании современной Германии».
«Холодная война» длилась так долго, что в обоих лагерях разделенного мира многие люди привыкли воспринимать ситуацию как нечто «нормальное» и даже неизбежное. Они не верили ни в наступление перемен, ни в то, что исторические обстоятельства могли сложиться как-то по-иному. Однако на самом деле сорокалетнее противостояние, известное нам под названием «Холодной войны», отнюдь не было исторической неизбежным — во всяком случае, в той форме, в какой оно нам известно сейчас. Возможности для осуществления других вариантов развития событий появлялись неоднократно, особенно на ранних стадиях конфронтации.
Чаще, чем где бы то ни было, они возникали там, где завершилась война в Европе — в Германии, и прежде всего в Берлине. В этом месте недавние союзники, превратившиеся в соперников, сошлись лицом к лицу и танк к танку.
Но существовала вполне реальная возможность того, что сюрреалистическая игра, названная «Холодной войной», могла не начаться совсем, а Германия вполне могла избежать участи главного игрового поля и наиболее желанного приза в этом матче. А окажись она выведенной из игры, сама природа состязания, равно как и соотношение сил его участников, стали бы совсем иными.
Союзники занимают Берлин
Все знают об открывшем для Германии возможность для вторжения в Польшу, заключенном нацистами с Советским Союзом в августе 1939 года «Пакте о ненападении»[298], однако куда менее известен тот факт, что Гитлер обдумывал возможность заключения другого пакта — сепаратного мира с Советами — в конце 1944 года. От самого Сталинграда вермахт терпел на Восточном фронте поражение за поражением и неуклонно откатывался назад, а союзные Гитлеру японцы убеждали фюрера в необходимости заключить мир с Советами, дабы бросить все силы против США и Великобритании. Поначалу фюрер и слышать не хотел ни о чем подобном, однако по мере того, как военная удача отворачивалась от немцев, мысль о том, чтобы сесть за стол переговоров с бывшим союзником, казалась все более приемлемой. Есть основания полагать, что в Москве были готовы выслушать германские предложения. В конце концов, несмотря на формальную приверженность провозглашенному союзниками курсу на достижение безоговорочной капитуляции нацистов, Советы сочли возможным обещать группе антигитлеровски настроенных военных (так называемому «Комитету "Свободная Германия"») сохранение Германии в границах 1937 года в случае прекращения Рейхом боевых действий против СССР[299].
Правда, в конечном итоге Гитлер предпочел переломить ситуацию и повернуть вспять накатывавшие на него с двух сторон валы иным способом — реализацией своего амбициозного плана наступления на Западном фронте, в Арденнах. Да и Сталин, уже почуявший германскую кровь, отказался от попыток заключить сепаратное перемирие. Но что, если бы русские и немцы все-таки подписали, бы во второй половине 1944 года новый Пакт, позволивший рейху бросить все силы на Запад? Мы не знаем, смог ли бы в таком случае Гитлер вынудить к заключению соглашения и западные державы (в 1918 году подобный сценарий так и не удалось реализовать) — но, во всяком случае, это позволило бы Германии избежать одновременного вторжения с востока и с запада. А Россия, со своей стороны, не получила бы возможности урвать себе кусок побежденной Германии и тем более — утвердиться в Восточной Европе. А не возникни под эгидой СССР обширная восточноевропейская империя, весьма сомнительно, чтобы Советы вообще смогли бросить вызов Западу в послевоенный период.
Другая возможность избегнуть «Холодной войны» возникла в апреле 1945 года, когда союзные армии вторглись в Германию и с востока и с запада. Ранее союзники согласились на том, что Берлин будет занят Красной Армией, ибо тогда казалось, что это продиктовано логикой обстоятельств. Более того, предполагалось, что Берлин целиком окажется в советской зоне оккупации Германии. Однако после форсирования Рейна в марте 1945 года продвижение западных армий ускорилось[300] настолько, что их бросок на Берлин стал не только возможен, но и — по крайней мере, с точки зрения некоторых военных деятелей — весьма желателен. Известно, что фельдмаршал Монтгомери всеми силами пытался склонить Дуайта Эйзенхауэра к нанесению «одного решительного, полнокровного удара», нацеленного на Берлин. Эйзенхауэр отверг эту просьбу, предпочитая целенаправленному удару по столице широкое наступление по всему фронту, оставлявшее Берлин русским. В Британии это вызывало раздражение: отношения Эйзенхауэра со Сталиным характеризовали фразой «Пойдем-ка, Джо» — обычным обращением лондонских проституток к потенциальным клиентам из числа американских солдат. Снова «берлинский вопрос» был поднят в середине апреля, когда Девятая армия США вышла к Эльбе, всего в пятидесяти милях от германской столицы. Теперь уже американский командир, Уильям Симпсон, умолял главнокомандующего позволить ему взять город, которого он — как был уверен — мог достигнуть за один день. Но Эйзенхауэр вновь сказал «нет», не желая, чтобы американцы несли высокие потери ради достижения цели, не казавшейся ему стратегически значимой. Генерал Джордж Паттон, поддержавший просьбу Симпсона, настаивал на быстром взятии Берлина и выдвижении к Одеру, но Эйзенхауэр упорствовал, заявляя, что Берлин, с его разрушенной инфраструктурой и толпами охваченных паникой жителей, станет скорее обузой, чем добычей. «Кому это нужно?» — промолвил он, на что Паттон сказал: «Я думаю, ответ на этот вопрос даст история».
Вот уже полвека ведутся споры о том, могли ли войска западных союзников и вправду выхватить Берлин из-под носа у русских. Ответ таков: едва ли. Монтгомери, сколько бы он ни петушился, являлся весьма осторожным и медлительным генералом, а потому маловероятным кандидатом на победу в гонке с любой целью — кроме, разве что пьедестала для водружения на оный собственной персоны. Симпсон был более энергичным военачальником, но он привел к Эльбе не более чем передовой отряд, тогда как основные силы оставались далеко позади. Кроме того, на пути к Берлину ему пришлось бы форсировать несколько водных преград, что не могло не замедлить продвижения, да и топлива для финального рывка потребовалось бы явно больше, чем было в наличии. Русские, со своей стороны, подошли к городу на 15 миль ближе, чем американцы, и располагали несравненно большими силами — около 1 250 000 человек при 22 000 единицах артиллерии[301]. Правда, с начала наступления Красной Армии на Берлин до его захвата прошло две недели, однако узнав о приближении к городу американцев русские, разумеется, ускорили бы ход операции.
Но поскольку мы рассматриваем сугубо гипотетические сценарии, попробуем на миг представить себе, что армии Запада все же смогли бы занять Берлин первыми — или, в крайнем случае, вступить в него приблизительно в одно время с русскими. Могло ли это решающим образом изменить последующий ход событий? И вновь наш ответ будет тем же: едва ли — если только изменение военной ситуации под Берлином не сопровождалось бы коренным изменением геополитической стратегии западных держав. Соперничество с Красной Армией в стремлении овладеть Берлином имело бы смысл лишь в случае осознанного намерения западных союзников пересмотреть все достигнутые ранее соглашения о разделе сфер влияния в Германии и Восточной Европе. В 1945 году ни один из западных политических лидеров, даже Черчилль, не вынашивал подобных планов.
Однако подобные настроения, или очень близкие к ним, имели хождения среди военных. Паттон и Монтгомери не только размышляли о противостоянии русским, но и открыто высказывались в его пользу. Паттон считал возможным, коль скоро война с нацистами закончена, начать поход на Москву, причем допускал участие в нем остатков вермахта, а Монтгомери настаивал на немедленном создании «фронта, обращенного к востоку». С точки зрения Паттона американцы пришли в Европу, дабы принести ее народам право самим определять свою судьбу. Сначала их лишали этого права нацисты, теперь схожая угроза исходила от Советов. Таким образом, свою миссию в Европе американцы еще не выполнили. «Мы все равно должны будем завершить работу, — заявил он в мае 1945 года,— или сейчас, когда мы находимся здесь и пребываем в готовности, или потом, при менее благоприятных условиях».
Идеи Паттона и Монтгомери в контексте того времени представляются не более чем политическими фантазиями, но нельзя сказать, что при наличии воли к воплощению их в жизнь они были бы неосуществимы с сугубо военной точки зрения. К моменту окончания войны западная часть Европейского континента была занята мощнейшей коалиционной армией, какую когда-либо видел мир. Одни лишь американские силы, размещенные на западе Германии, составляли 1600 000 человек. Война с Японией шла к завершению, и Америка была близка к единоличному (во всяком случае, до поры) обладанию атомной бомбой. Красная Армия, хотя и многочисленная, была измотана до крайности тяжелейшими боями на территории Рейха и снабжалась столь скудно, что (отнюдь не на пользу установлению добрых отношений с населением) буквально опустошала землю, по которой проходила[302]. Предпринятая Западом кампания по вытеснению Советов из Восточной Европы силовыми методами несомненно привела бы к продлению на континенте «горячей войны», но в случае успеха столь же несомненно сделала бы невозможным наступление войны «холодной» как результата раздела Германии и Европы.
Впрочем существовала и другая, более непритязательная альтернатива, позволявшая подорвать позиции Советов в Восточной Европе без (снова используя выражение Паттона) изгнания русских «в азиатские степи, где им и место». Американцы, британцы и французы имели полное право настоять на оккупации своих секторов Берлина одновременно с установлением оккупационного режима Советами, а потом (что тоже являлось их правом) потребовать создания совместной администрации для управления всем городом. Это позволило бы предотвратить завуалированный раздел города Советами путем создания в своем секторе контролируемых коммунистами органов власти. При отсутствии контроля над восточным Берлином советские позиции в остальной восточной Германии были бы куда слабее, что, в свою очередь, ослабило бы большевистскую хватку на горле всей Восточной Европы.
1948 год
Было бы, стало бы, могло бы... К 1948 году все возможности предотвращения «холодной войны» были исчерпаны по той простой причине, что она уже началась. Возможность не допустить господства СССР над Восточной и Центральной Европой также была упущена, ибо соотношение сил в этом регионе (во всяком случае, вооруженных сил) существенно изменилось в пользу Советского Союза. По данным американской разведки (как стало недавно известно — преувеличенным) советские сухопутные войска состояли из 175 дивизий общей численностью 2 500 000 человек. Считалось, что 88 дивизий размещены на территории Восточной Германии и других советских сателлитов. Противопоставить этой мощи Запад мог лишь шестьдесят дивизий, базировавшихся в Германии, Австрии, странах Бенилюкса и Франции. Из-за быстрой демобилизации и сокращения бюджетных ассигнований посланная в Европу против Гитлера великая американская армия прекратила свое существование. На континенте остались лишь малочисленные, плоха оснащенные и никудышно обученные части. Силы союзников США пребывали в еще худшем состоянии. Аналитики Пентагона полагали, что голландскую и бельгийскую армии вообще не следует принимать в расчет и испытывали сильные сомнения относительно вооруженных сил Франции в силу наличия в этой стране таких факторов, как серьезные проблемы с колониями и сильное влияние коммунистической партии. Кстати, этим и объясняется желание США заново вооружить немцев в Западной зоне оккупации: можно было рассчитывать, что те, по крайней мере умеют драться. В некоторых штабах считали, что превосходство русских в обычных вооружениях позволяет им через два дня после начала наступления форсировать Рейн, а через две недели достичь Ла-Манша. «Чтобы дошагать до Рейна русским не хватает только сапог», — сказал государственный секретарь США Роберт Ловетт.
Сейчас мы знаем, что в первые послевоенные годы Советский Союз не вынашивал планов вторжения в Западную Европу, поскольку Сталин считал, что его народ еще не готов к войне с Западом. Но что, если бы Советы не проявили подобного благоразумия и терпения? Что, если бы в 1948 году они надели-таки сапоги и совершили бросок к Рейну, а то и к берегам Ла-Манша? Могли ли они и вправду провести это с такой легкостью, какой страшились западные аналитики?
В добавление к крепким сапогам им потребовались бы антирадиационные костюмы. Сознавая свою относительную слабость в обычных вооружениях, западные державы были готовы остановить продвижение русских по Центральной и Западной Европы применив тактическое, а то и стратегическое ядерное оружие. Планы, разработанные различными службами в американских штабах, предполагали воздушные атомные атаки по наступающим русским войскам и их коммуникациям в сочетании с ядерным ударом по территории СССР с баз в Испании и на Сицилии (вариант, предложенный армией), или бомбардировкой советских объектов силами дальней авиации (вариант ВВС), или применением против советских войск тактических ядерных зарядов самолетами, базирующимися на авианосцах (предложение, сделанное командованием флота). Адмирал Д.В. Галлери, один из авторов военной доктрины США, выражал надежду, что тактические атомные удары по продвигающимся советским войскам в Центральной Европе помогут избежать необходимости стратегической бомбардировки собственно территории России. «Когда русские армии будут остановлены у Рейна, — писал он,— и вождям и народу станет ясно, что лучше вступить в переговоры о мире, чем подвергнуться полномасштабному ядерному удару. Пока их войска находятся восточнее Рейна, угроза атомной бомбардировки будет иметь больший эффект, нежели нанесение удара после того, как они уже наводнят Европу».
Но и без бомбардировки территории СССР нанесение тактических ядерных ударов по продвигающимся советским войскам нанесло бы страшный ущерб тем самым регионам Центральной и Западной Европы, которые в Вашингтоне собирались спасать. Понимание этого факта способствовало распространению того мнения, что «лучше быть красным, чем мертвым», во всей Европе, а особенно в Западной Германии, подозревавшей Вашингтон и его союзников в намерении вести Третью Мировую войну «до последнего немца».
Впрочем, русские, вместо того чтобы, разжившись сапогами, выступить в поход, усилили нажим на Берлин, где Запад был особенно уязвим. В ответ на действия западных держав по созданию нового западногерманского государства (чему Москва, не потерявшая надежды установить контроль надо всей Германией, всячески противилась), Советы в 1948 году начали препятствовать железнодорожному и автомобильному сообщению между Западным Берлином и Западной Германией. Сделать это русским было совсем не сложно в силу того, что в свое время западные союзники не позаботились об обеспечении каких-либо гарантий свободного доступа к своим секторам Берлина через советскую зону оккупации Германии. Теперь их доступ ограничили тремя шоссе, двумя железнодорожными ветками, каналом и тремя воздушными коридорами. В июне 1948 года следом за введением в Берлине новой западногерманской валюты Советы ужесточили блокаду. Впрочем, вопреки широко распространенным мифам, Западный Берлин не был изолирован полностью: осуществлялась торговля западных секторов города с советской зоной, а также перемещение товаров и людей между Восточным и Западным Берлином. Эти связи не прервались по той простой причине, что экономика советской зоны оккупации находилась в сильной зависимости от торговли с Западным Берлином. Непосредственная цель Москвы при проведении этой отнюдь не непроницаемой блокады сводилась к тому, чтобы помешать созданию западногерманского государства. Кроме того русские надеялись, что, убедившись в уязвимости своих гарнизонов в Западном Берлине, союзники их оттуда попросту выведут.
Действия СССР вызвали ощущение кризиса в западных столицах, и в первую очередь в Вашингтоне, от которого ожидали адекватного ситуации ответа. Джордж Кенанн, глава группы политического планирования Государственного Департамента, вспоминал: «Никто понятия не имел, как при данных обстоятельствах противодействовать русским и есть ли вообще возможность как-то им противодействовать. Ситуация сложилась мрачная и весьма опасная».
Она и впрямь виделась столь опасной, что Конгресс призвал к немедленной эвакуации из Берлина американских граждан, а некоторые политики высказались и за вывод войск. Интересно, что среди последних оказался и начальник штаба армии генерал Омар Брэдли. Еще до того, как Советы перерезали сухопутное сообщение с Западным Берлином, Брэдли, обсуждая с Берлинским комендантом генералом Лусиусом Клеем вопрос о том, имеет ли для США смысл рисковать ввязаться в войну, стараясь сохранить свои позиции, заметил, что «сомневается в готовности американского народа начать войну ради сохранения наших позиций в Берлине и Вене». Клэй, в отличие от него, полагал, что советская тактика представляет собой простой блеф, как раз и рассчитанный на вытеснение Запада из Берлина. При этом он добавил, что в случае возникновения реальной опасности готов и к войне — лишь бы «спасти» Берлин. «Если падет Берлин,— предупреждал он, — следом падет и вся Германия. Если мы и впрямь намерены защитить Европу от коммунизма, то не должны бездействовать».
В конце концов Запад не отказался от Берлина, но мы вправе задаться вопросом: что, если бы Вашингтон и его союзники в 1948 году оставили город? Решение сохранить свое присутствие в Берлине являлось единственно разумным, ибо вне зависимости от военного аспекта проблемы контроль над Западным Берлином имел огромное политическое значение. В 1948 году от решения Берлинской проблемы зависел престиж Запада, и отступление там повлекло бы за собой ослабления влияния союзников — в первую очередь американцев — в Европе и во всем мире. Вашингтон считал своим долгом помочь Европе в восстановлении экономики и доверия к либеральным политическим институтам, каковая задача требовала высокого уровня доверия к самим США.
Неизбежный урон, нанесенный авторитету США в случае их уступки Советам, тяжелее всего сказался бы на претворении в жизнь американской политики в отношении Германии, ибо способствовал бы усилению внутри страны позиций противников создания отдельного западногерманского государства.
Конрад Аденауэр, ярый сторонник создания тесно связанной с Западом «Боннской Республики», не мог бы рассчитывать на успех без сильной американской поддержки. Состоявшийся в 1949 г. формальный раздел Германии многие немцы восприняли с горечью, однако без него вся страна оставалась бы открытой для дальнейших шагов по дестабилизации, предпринимаемых СССР и действовавшими по его наущению германскими коммунистами. Раздел явился болезненной процедурой, но потенциальная возможность коммунистического захвата была чревата куда большими бедами.
Как мы знаем, вместо того, чтобы покинуть Берлин, западные державы ответили на советскую блокаду созданием мощного воздушного моста, снабжавшего Западный Берлин всем необходимым, от продовольствия и угля, до сластей для детишек (но, вопреки распространенному мифу, далеко не всем необходимым берлинцам для жизни). Однако, помимо воздушного моста, на Западе рассматривались и иные возможности «прорыва» советской блокады. Так, еще до принятия решения о усилении снабжения по воздуху, генерал Клей выдвинул весьма рискованную идею доставки припасов в Западный Берлин через советскую зону оккупации военными конвоями. Он обратился к генералу Кертису Ле Мэю, командующему ВВС США в Европе, с просьбой обеспечить воздушную поддержку на тот случай, если русские откроют огонь — что, по мнению Ле Мэя, могло стать прекрасным поводом для превентивного удара по всем русским военным аэродромам в Германии. «Естественно, нам было известно их расположение,— говорил он позднее. — Мы видели их самолеты, выстроившиеся ровными линиями перед ангарами, и, случись заварушка, думаю, смогли бы не дать взлететь ни одному».
«Заварушки», правда, так и не случилось, поскольку идея с прохождением конвоев была отвергнута как нецелесообразная. Как возразил Брэдли, «русские запросто могли остановить любой вооруженный конвой и не открывая по нему огня: достаточно перекрыть шоссе для проведения ремонтных работ или поймать конвой в ловушку, разобрав мост и перед ним, и позади него». Если бы американские военные попытались претворить в жизнь план Клэя и попали в ловушку, единственным способом вызволить их оттуда стала бы посылка на выручку еще больших сил — что означало эскалацию вооруженного конфликта.
Воздушный мост, на котором в конце концов остановили выбор, имел очевидные преимущества перед сухопутным конвоем, но и эту идею нельзя назвать вовсе избавленной от риска. Существовала серьезная опасность того, что русские станут мешать осуществлению воздушного сообщения провокационными методами, вплоть до того, что начнут сбивать самолеты. Добавил опасений и случившийся незадолго до открытия «моста» воздушный инцидент, когда русский истребитель, сопровождавший в опасной близости британский транспортный самолет, столкнулся с ним при подходе к аэродрому Гатов в английском секторе берлина. Погибли все: советский летчик, экипаж английского самолета и 14 его пассажиров. К счастью, более подобных происшествий не случалось, и за все время существования моста русские ни разу не открывали огонь по западным воздушным судам. Правда, в сентябре 1948 года Советы объявили о проведении воздушных маневров над английским сектором: в Вашингтоне это расценили как подготовку к агрессивным действиям и восприняли весьма болезненно.
Если бы Советский Союз и впрямь прибегнул к силе, дабы пресечь воздушное сообщение (хотя о том, что советское руководство серьезно обдумывало такую возможность, сведений не имеется), это означало бы развязывание войны, ибо США (равно как и Британия) были настроены отвечать огнем на огонь. Президент Трумэн заверил министра обороны Джеймса Форрестолла, опасавшегося любых уступок, что прикажет применить атомную бомбу, если ситуация вокруг Берлина взорвется. В устах человека, в 1945 году отдавшего приказ о атомной бомбардировке Японии, подобное обещание звучало более чем серьезно. Бомбардировщики Б-29, способные нести ядерное оружие, были переброшены в Британию. Совет Национальной Безопасности подтвердил принятую ранее концепцию, допускавшую применение ядерного оружия в случае развязывания войны. Окажись большой курок и впрямь спущенным, Берлин — место, откуда Гитлер начал Вторую Мировую войну, мог бы стать еще и Сараево Третьей Мировой. У которой имелись шансы стать тем, чем, вопреки надеждам многих, не смогла обернуться Первая Мировая — «Войной за Прекращение Всех Войн».
В конце концов Советы сняли блокаду Берлина не только потому, что воздушный мост сделал ее малоэффективной, но и в результате предпринятой Западом контрблокады СССР. К весне 1949 года это позволило практически свести на нет жизненно важную для советской экономики торговлю между Западом и Востоком в Центральной Европе. Будь русские сильнее в экономическом отношении — образно выражаясь, будь у них столько же масла, сколько и пушек — они могли бы ужесточить блокаду Берлина и устоять перед контрмерами Запада. В этом случае положение союзников стало бы действительно отчаянным, ибо сколь бы ни был полезен воздушный мост, обеспечить Берлин всем необходимым для жизни лишь с его помощью было попросту невозможно. Не открывая огня, Советы могли поставить западные державы перед выбором: оставить город на милость русских или снова посылать туда самолеты, но уже не с конфетами, а с бомбами на борту.
Опасное воссоединение Германии в 1952 году
К началу 50-х годов Советам пришлось смириться с существованием отдельного западногерманского государства. Серьезный вопрос заключался в том, потерпят ли они вооруженную Западную Германию в составе Западного альянса, что являлось главной целью политики, проводимой США и Англией в Бонне.. В Вашингтоне пришли к выводу, что лучшим способом эффективного противодействия экспансионистским амбициям СССР в Европе будет включение в европейскую оборонительную структуру армии Западной Германии. Когда этот вопрос был поднят, очень многие в западном лагере и в самой Западной Германии опасались, что одна лишь угроза возрождения германских вооруженных сил может подтолкнуть Советы к нанесению превентивного удара. В конце концов, русские совсем недавно испытали на себе ужасы германской агрессии и имели все основания страшиться нового «Drang nach Osten». Существовала реальная опасность того, что вместо предотвращения новой большой войны вооружение Германии сможет ее спровоцировать.
Это казалось тем более возможным, что начало дебатов по вопросу вооружения Германии совпало с началом развязанной по инициативе Москвы войны в Корее. Многие на Западе не без основания видели в ней прообраз судьбы, ожидавшей и другое, разделенное роковой чертой противостояния мировых систем, государство — Германию. Германские газеты называли азиатский кризис «пробным испытанием» для центральной Европы. Западную Германию охватил апокалиптический страх перед возможностью «германской Кореи». Парламентарии носили при себе ампулы с цианидом, чтобы не попасть живыми в руки врага. Сам Аденауэр запросил для сотрудников своего аппарата двести автоматических пистолетов на предмет отражения атаки коммунистов. Согласно данным опросов, более половины граждан Западной Германии считали, что в случае перехода коммунистами границы союзники бросят молодую Федеративную республику на произвол судьбы.
Провозглашение Восточной Германии самостоятельным коммунистическим государством едва ли могло успокоить западных немцев. По словам сталинского ставленника, диктатора ГДР Вальтера Ульбрихта, опыт Кореи доказал, что «марионеточные режимы», вроде правительства Аденауэра, неспособны к самостоятельному существованию, а северокорейский вождь Ким Ир Сен указал путь к воссоединению Германии. «Если американцы в своем империалистическом высокомерии вообразили, будто у немцев национальное сознание развито хуже, чем у корейцев, то они предаются глубокому самообману».
Угрозы Ульбрихта, само собой, представляли собой не более чем похвальбу, но что, если бы он и впрямь попытался сыграть роль германского Ким Ир Сена, а его советские покровители попытались повторить корейский эксперимент в Германии?
Прежде всего, Ульбрихт не располагал такими возможностями, как северокорейский диктатор. Советы сколотили из восточногерманской Народной Полиции, полностью состоявшей из ветеранов вермахта, некое подобие вооруженных сил, но они никоим образом не могли сравниться с Народной Армией Северной Кореи, вдвое превосходившей южнокорейскую армию по огневой мощи. К тому же в Европе коммунистам пришлось бы иметь дело с куда более внушительными соперниками, нежели в избранной ими мишенью Корее. В отличие от Южной Кореи, Западная Германия была оккупирована сильнейшими мировыми державами, две из которых были географически близки к зоне оккупации. Федеративная Республика пока еще не имела своей армии, но ее внутренние и пограничные полицейские силы ничем не уступали Народной Полиции.
Для того чтобы акция, аналогичная корейской, могла привести к положительным результатам, Советам пришлось, не ограничиваясь политической и экономической поддержкой, принять непосредственное участие в боевых действиях — то есть сыграть ту роль, которая в Корее, после натиска генерала Макартура на реке Ялу, взял на себя красный Китай. Вздумай Советы бросить свои войска на Западную Германию в начале 1950-х годов, они столкнулись бы с большими трудностями чем в конце 1940-х, поскольку с того времени державы Запада, особенно Америка, существенно нарастили силы безопасности в регионе. Правда, теперь и Советский Союз обладал ядерными возможности, начав накапливать атомный арсенал после проведенного в 1949 г. успешного испытания бомбы. Хотя русские еще не располагали средствами доставки дальнего радиуса действия, их планы на случай войны предусматривали нанесение тактических ядерных ударов на поле боя, а стратегический — по тем объектам в тылу противника, какие окажутся в пределах досягаемости. Иными словами, в отличие от Корейской войны «европейская Корея» стала бы ядерной, с применением атомного оружия с обеих сторон. В итоге большая часть Европы, подобно Берлину в 1945 г., превратилась бы в руины, но в руины радиоактивные.
Теперь нам известно, что во время войны в Корее Сталин не строил планов силового воссоединения Германии. Но до самого смертного часа (к счастью, наступившего довольно скоро) он надеялся политическими средствами помешать становлению государства в той части Германии, которая находилась вне его контроля. Именно это явилось главной причиной появления нашумевшей мартовской ноты 1952 г., в которой СССР предлагал западным державам воссоздание германской армии и единой Германии при условии вывода с ее территории всех иностранных войск и полного нейтралитета страны. При этом Сталин вовсе не рассчитывал на одобрение своей инициативы хотя бы потому, что действительно нейтральную Германию считал слишком опасной. Ибо просто опасной ему виделась объединенная Германия, союзная с Москвой, но не контролируемая ею. В конце концов, перед нападением на Россию в 1941 г. Германия состояла в союзе с ней, а вовсе не с Западом. В действительности знаменитая Сталинская нота имела своей целью воздействие вовсе не на правительства Западных держав, а на общественное мнение в самой Западной Германии. Идея состояла в том, чтобы помещать формированию западногерманской армии и дестабилизировать правительство Аденауэра, предложив немцам взамен интеграции в западное сообщество заманчивую перспективу воссоединения нации. Этот несложный дипломатический ход мог сорвать вооружение ФРГ и привести к падению правительства Аденауэра, что стало бы для Советов крупной удачей.
Делая свое «предложение», Сталин пребывал в уверенности, что оно будет отвергнуто. Однако существовал краткий момент, когда оно вполне серьезно обсуждалось в дипломатических кругах Запада.
Но попробуем представить себе, чем могло обернуться воплощение Сталинской идеи в жизнь. Вообразим, что Германия объединилась не в 1990, а в 1952 году — и объединилась, не будучи членом НАТО, но в качестве «нейтрального» государства с самостоятельной армией. Как нам известно, некоторые западные лидеры, особенно Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттеран, не испытывали особого восторга по поводу объединения Германии и в 1990 г. Они опасались, что новая страна может повести себя «безответственно», сорвавшись с якоря у Западного причала и отправившись в самостоятельное, весьма опасное плавание. Разумеется, такие опасения вызваны недооценкой того, сколь глубоко укоренились в Германии за последние сорок лет идеи мира и демократии. Однако в начале 50-х для внедрения подобных идеалов в массовое сознание прошло еще слишком мало времени, а потому Германия с возрожденной армией, но без тесных связей с Западом и впрямь могла представлять собой немалую опасность. Сталин не без оснований опасался возобновления «Drang nach Osten», однако этот «Drang» сильная и еще жаждущая отмщения Германия вполне могла бы повести в противоположном направлении. А то и в обоих направлениях разом, потому как умеренность никогда не числилась среди сильных сторон немецкой внешней политики. Существовала угроза не превращения «Холодной» войны в «горячую», а возобновления старого, уже затушенного пожара. Случись такое, и вполне возможно, что, дабы загасить пламя соперничества на арене «Холодной войны» пришлось бы вновь объединять усилия.
Хрущев в Берлине
Вышло так, что дипломатический гамбит Сталина был разоблачен слишком быстро, чтобы оказать серьезное воздействие на общественное мнение западной Германии, и Советы не смогли предотвратить состоявшееся в 1955 г. присоединение Бонна к НАТО. Еще до наступления этой даты Советы, разочаровавшись в попытках обрести рычаги влияния на Федеративную Республику, стали переориентировываться на экономическую и политическую консолидацию той части Германии, которая находилась под их контролем. Однако экономическая несостоятельность Советского Союза не позволяла ему превратить своего германского сателлита в достойного соперника Западной Германии. С годами экономическое отставание ГДР от ФРГ усиливалось, а политическая и культурная жизнь страны оставалась зажатой в жесткие тиски сталинской системы.
Потеряв надежду на лучшую жизнь в собственной стране, восточногерманские граждане начали тысячами перебираться на Запад, причем большинство беженцев составляли люди молодые, хорошо образованные и активные, то есть та часть населения, терять которую не может себе позволить ни одно государство.
Пытаясь остановить этот отток, правительство ГДР закрыло в мае 1952 г. границу с Западной Германией. Берлин, однако, оставался лазейкой для беглецов, ибо граждане могли относительно свободно попасть из советского сектора города в западный, а уж оттуда перебраться в ФРГ. В следующие пять лет этой лазейкой воспользовались десятки тысяч восточных немцев.
В 1958 г. Никита Хрущев решил заткнуть эту дыру, чтобы прекратить бегство граждан ГДР на Запад (и проникновение шпионов стран НАТО на Восток). В ноябре того года он выдвинул ультиматум. В течение шести месяцев западным державам надлежало полностью очистить Берлин (или, в качестве промежуточного решения, сделать его «вольным городом» безо всяких связей с Западом) или же он подпишет соглашение о передаче ГДР всех прав и полномочий советской администрации в своем секторе. Хрущев полагал, что эта угроза окажется действенной, ибо в изолированном Берлинском анклаве Запад был наиболее уязвим. Согласно его любимому выражению, Берлин представлял собой «яйца, которые он может прищемить так, что Запад взвоет». Более того, в отличие от периода первого Берлинского кризиса теперь Россия располагала не только ядерными зарядами, но и баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками, позволявшими поразить любой населенный пункт не только в Европе, но и в США. «Американские руководители, — доверительно говорил Хрущев своим советникам, — не такие идиоты, чтобы воевать из-за Берлина».
В этом отношении Хрущев ошибался. Лидеры США и других Западных держав не хотели воевать за Берлин, но были достаточными «идиотами», чтобы пойти на это, если на кон будет поставлено присутствие их стран в городе. Соответственно, окажись руководители СССР такими «идиотами», чтобы снова попытаться вытеснить Запад из Берлина с помощью блокады, организованной ими самими или их подручными из ГДР, они столкнулись бы с готовностью Запада к силовому ответу. Обновляя выдвинутую Клэем еще в 1948 г. идею конвоев, Пентагон планировал направить через территорию ГДР в Берлин караван в сопровождении всего одного взвода, но окажись этот взвод остановленным Восточногерманскими (или Советскими) силами, выслать ему в поддержку целую дивизию. Ну а в случае затруднений с проходом и этих сил должно было последовать широкомасштабное наступление. Как говорил государственный секретарь Джон Фостер Даллес Аденауэру, «мы не отвергаем возможность применения ядерного оружия». И действительно, стратегия Пентагона предусматривала применение американцами ядерного оружия первыми, дабы нанести урон противнику прежде, чем взлетят русские ракеты. Планировалось также широкомасштабное нанесение тактических ядерных ударов по целям на территории Германии. Разумеется, этот план представлял серьезную угрозу для обеих сторон. Сам Даллес в разговоре с Аденауэром признавал, что по оценкам НАТО такой сценарий будет стоить Германии 1 700 000 убитых и 3 500 000 потерявших здоровье. Даже такому апологету «Холодной войны», как канцлер ФРГ, становилось не по себе при мысли о таких жертвах, принесенных единственно ради того, чтобы сохранить доступ в никогда не нравившийся ему город. «Боже! — охнул он. — Берлин того не стоит!»
В надежде на мирное разрешение германского кризиса президент Эйзенхауэр в сентябре 1959 г. пригласил Хрущева в Кэмп-Дэвид. Переговоры прошли в миролюбивом тоне, но результаты их были скромными: Хрущев отказался от жесткого шестимесячного срока выполнения ультиматума, тогда как Айк согласился на проведение ближайшей весной в Париже встречи лидеров четырех держав для обсуждения «германского вопроса».
Неизвестно, чем бы могла увенчаться эта встреча, но все карты спутал инцидент в небе над СССР: в мае 1960 русские сбили американский самолет-шпион У-2. Эйзенхауэр не хотел давать разрешение на полеты над советской территорией накануне готовящейся встречи, но ЦРУ убедило его в необходимости этого вылета для проверки данных о базировании советских межконтинентальных баллистических ракет. Президента уверили, что русские не способны сбить такой самолет как У-2, а потому даже в случае его обнаружения не станут поднимать шума, чтобы не признаваться в своей военно-технической отсталости. Увы, Советы не только успешно сбили самолет, но еще и захватили в плен пилота, Фрэнсиса Гэри Пауэрса, в нарушение приказа не уничтожившего свою машину и не покончившего с собой[303]. Не добившись от Эйзенхауэра официальных извинений по поводу нарушения воздушного пространства СССР, Хрущев покинул Париж.
Такой поворот событий позволяет задаться вопросом: а что, если бы Эйзенхауэр внял внутреннему голосу и запретил разведывательный полет? Или даже если бы полет состоялся, но подбитый Пауэре выполнил приказ, лишив Советский Союз доказательств американского коварства?
Наиболее вероятный в этой ситуации альтернативный сценарий не представляется нам слишком драматичным. Хрущев не ждал от Парижа ничего особенного и лишь искал предлог для того, чтобы покинуть саммит. Не окажись у него другого оправдания для подобного поступка, он, скорее всего, повторил бы свои прежние требования, может быть постучал ботинком по трибуне (такое случалось, когда он выходил из себя), да тем и ограничился. Ни малейших признаков готовности Эйзенхауэра пойти на сколь бы то ни было значительные уступки не наблюдалось.
Причина, по которой Эйзенхауэр не был готов на сделку по Берлину, заключалось в том, что, хотя в военном отношении Берлин едва ли представлял для Запада большую ценность, президент придавал присутствию в этом городе важное символическое значение. Развитие событий в том случае, если западные союзники покинут город или будут вышвырнуты оттуда силой, виделось ему весьма драматическим. Он рассматривал старую столицу Германии как первую из вошедших в поговорку костяшек домино, которые, стоит Западу покинуть город, повалятся одна за другой. За Берлином настанет очередь всей Германии, за Германией падет Европа, а если Европа окажется под властью Советов, не сможет остаться демократической страной и Америка. Как говорил Эйзенхауэр: «Если падет Берлин, США потеряют Европу, а если Европа окажется в руках Советского Союза, добавив, таким образом свой промышленный потенциал к и без того огромному промышленному потенциалу СССР, Соединенные Штаты, если они вообще уцелеют, должны будут перейти на осадное положение». Иными словами, падение Берлина означало установление фашистской диктатуры в Америке.
Хрущев надеялся, что новый президент Дж.Ф. Кеннеди, почти не затрагивавший тему Берлина в ходе своей избирательной кампании, окажется сговорчивее. Вскоре после своего избрания Кеннеди признал, что изо всех острых внешнеполитических вопросов Берлинский казался едва ли не самым сложным, ибо заставлял сделать выбор, между «уничтожением и унижением». Советский руководитель знал, что именно боязнь возможных действий русских в отношении Берлина явилось основной причиной отказа от поддержки вторжения в заливе Кочинос, и полагал, что стоит зажать «чувствительные места» молодого американского лидера в Берлинские тиски, как тот проявит еще большую уступчивость.
Хрущев не упустил случая «прижать» Кеннеди, когда они в первый раз вступили в личное противоборство на Венской встрече в верхах в июне 1961 г. Едва совещание успело начаться, как советский премьер выступил с обвинениями в связи с «неприемлемой» позицией Вашингтона по проблемам Берлина и Германии. Он объявил, что сохраняя свое присутствие в Берлине, способствуя ремилитаризации Западной Германии и поощряя боннские мечтания о воссоединении страны, Америка создает предпосылки новой мировой войны. Почему Вашингтон не желает признать тот факт, что Германия разделена надвое и Берлин является законной столицей Восточногерманского государства? Глядя на Кеннеди, Хрущев сказал, что хотел бы достигнуть соглашения «с вами», но если это невозможно, то он подпишет мирный договор с ГДР. В таком случае все «обязательства, связанные с капитуляцией Германии, утратят силу. Это относится и к любым правам оккупационных структур, в том числе и права доступа в Берлин, включая коридор».
Перед отлетом Кеннеди в Вену Аллан Лайтнер, американский представитель в Западном Берлине, сказал президенту, что «Советы должны убрать руки прочь от Берлина». По существу именно так он и поступил. Поблагодарив председателя за «откровенность», он напомнил ему, что «предметом обсуждения здесь являются не только правовые аспекты, но и практические факты, оказывающие существенное влияние на национальную безопасность». Америка присутствует в Берлине «не по чьей-то милости», а потому, что «мы проложили туда путь в боях». Если США и их союзники покинут Западный Берлин, «Европа тоже будет оставлена. Таким образом, говоря о Западном Берлине, мы говорим о Западной Европе».
Ожидавший от Кеннеди хоть какой-то уступки, Хрущев рассвирепел и принялся, словно школьнику, внушать ему, сколь высокие ставки разыгрываются в Берлине. Он сказал, что бывшая нацистская столица «была самым опасным местом в мире» и, нагромождая метафоры, заявил о своем намерении «вскрыть этот нарыв, удалить эту занозу, вырвать с корнем этот сорняк». «Подписав мирный договор с Восточной Германией, Москва У«сорвет планы Западногерманских реваншистов, желающих новой войны...» Стукнув рукой по столу, он воскликнул «Я хочу мира! Но если вы хотите войны, это ваша проблема».
Несмотря на прием прописанных ему доктором в связи с болезнью Эддисона возбуждающих средств, Кеннеди сохранил полное спокойствие. « Это вы стремитесь форсировать перемены, а не я», — молвил он в ответ и мрачно добавил, что Америка не оставит Берлин, а если в результате Москва выполнит свою угрозу и заключит в декабре мирный договор с Восточной Германией, то для всех наступит «холодная зима».
В действительности зима грозила обернуться весьма горячей. Если бы Восточная Германия, заключив обещанный договор, вознамерилась в ознаменование этого события выставить Западных союзников из Берлина, дело грозило обернуться большой дракой. Хотя сам Кеннеди относился к Берлину двойственно и в приватной обстановке говаривал, что «весьма глупо рисковать жизнями миллионов американцев, отстаивая права на проезд по автостраде», он (как и Эйзенхауэр) не собирался упускать Западный Берлин из-под своего контроля. Президент скорее направил бы по этой автостраде войска, чем отдал город на милость коммунистам. Случившееся в Заливе Свиней не должно было повториться на берегах Шпрее.
С другой стороны, будь найдено по Берлину компромиссное решение, не принуждающее Запад бросить город на произвол судьбы. Кеннеди был бы готов его поддержать. Он даже сочувствовал Советам, столкнувшимся в Германии с постепенной утратой их вассалом наиболее динамичной и способной части населения с перспективой превращения ГДР из ценного приобретения в головную боль и обузу для Москвы. «Нельзя винить Хрущева за то, что он печалится по этому поводу», — заметил американский президент.
«Решение» Берлинского кризиса было найдено 13 августа 1961 г. Рано поутру восточногерманские солдаты и полицейские начали устанавливать проволочные заграждения вдоль разграничительной линии между Западным и Восточным Берлином, а очень скоро колючую проволоку сменили железобетонные блоки. Овеществленный символ Холодной войны обретал очертания на глазах изумленного и испуганного мира. Кажется, это был наиболее вероятный момент, когда достигшее крайней точки политическое напряжение могло вылиться в открытый конфликт.
На союзные державы оказывалось сильное давление: от них требовали принятия эффективных контрмер силового характера. Западноберлинцы, в том числе и энергичный молодой бургомистр Вилли Брандт, настойчиво требовали действий, заявляя, что размещенные в городе подразделения союзников должны немедленно разрушить ужасную стену, если потребуется, то с помощью танков. Неспособные сделать что-либо со стеной своими силами, граждане Западного Берлина в бессильной злобе атаковали расположенный в британском секторе, к западу от Бранденбургских ворот, советский воинский мемориал. Охранявшие его русские солдаты были бы разорваны толпой, если бы на выручку им — один из парадоксов того тревожного времени — не пришли воины английского гарнизона.
Если бы войсковые части союзников вняли яростным призывам жителей Западного Берлина и вправду решили помешать строительству стены, Советы ответили бы применением силы. Русские окружили Берлин армейским кольцом и привели ракетные войска в состояние полной боевой готовности. Они надеялись, что эти меры окажутся достаточными, чтобы предостеречь Запад от совершения каких-либо акций военного характера, как то нападения на стену или посылки войск через территорию ГДР. Но на тот случай, если предостережение не сработает, советские войска имели приказ не только сохранить в целости воздвигаемую стену, но и сокрушить гарнизоны союзников на всей территории западного анклава. Что вполне могло случиться, ибо силы стран НАТО в Западном Берлине не шли ни в какое сравнение со сконцентрированной в прилегающем к городу регионе советской военной мощью.
Однако державы Запада не имели намерения сносить Берлинскую Стену. В конце концов ее возведение отнюдь не принудило их покинуть Западный Берлин, а просто отгородило от него граждан ГДР. Вспомним, что президент Кеннеди никогда не предъявлял никаких претензий на весь город, вполне довольствуясь именно Западным Берлином (позднее, когда он произносил в этом городе свою знаменитую речь ему и вправду следовало бы сказать «Ich bin ein West Berliner»). Стабилизируя положение в Восточной Германии, Стена сулила некоторое смягчение взрывоопасной ситуации в Европе. Кроме того, хотя Западу и пришлось стать безучастным свидетелем возведения Стены, стыдиться ее следовало не столько ему, сколько самим русским и немецким коммунистам, вынужденным наглухо отгородить от мира свой «пролетарский рай», дабы его обитатели не разбежались кто куда. (Конечно, коммунисты ничего подобного не признавали и именовали Стену «антифашистским защитным барьером», утверждая, будто она служит исключительно интересам безопасности ГДР). Вскоре выяснилось, что Западу не приходилось и мечтать о лучшем пропагандистском приобретении — наглядном, овеществленном символе политического и морального упадка коммунистического лагеря. Как только в западных столицах оправились от вызванного самим фактом возведения Стены изумления, их преимущественной реакцией стало облегчение.
Разумеется, ни один западный лидер не признал, что сооружение Стены принесло ему облегчение. Громких высказываний, демонстративных жестов и призывов к солидарности с несчастными берлинцами имелось более чем достаточно. Западные державы выразили формальный протест своему бывшему союзнику. Президент Кеннеди направил вице-президента Линдона Джонсона в Западный Берлин дабы убедить граждан, что Америка с ними. (Правда сам Джонсон долго отнекивался, считая, что в Берлине чересчур опасно). Генерал Клэй, весьма популярный в Западном Берлине благодаря его твердой позиции в период блокады 1948—1949 гг., был отозван из отставки и послан в Западный Берлин в качестве личного представителя президента США .
Направление в город Клэя оказалось, пожалуй, слишком демонстративным актом, поскольку тот вознамерился показать, что США намерены использовать все свои традиционные права, невзирая на наличие Стены (которую он страстно надеялся разрушить). Когда пограничники ГДР стали требовать у американцев паспорта для въезда в Восточный Берлин, он направил на контрольно-пропускной пункт «Чарли» армейские джипы, дабы они прорвались через границу силой. За ними к пропускному пункту подошли десять танков М-48. Увы, Советы ответили тем же. Несколько часов машины стояли дулом к дулу, разделенные одним лишь хрупким шлагбаумом. Все орудия были заряжены и готовы открыть огонь. Американский начальник поста впоследствии вспоминал, что беспокоился «как бы у кого-либо из солдат не сдали нервы, и он не начал пальбу». Спустя семнадцать часов, на протяжении которых ходили слухи, что вот-вот разразиться бой, хотя активность проявил лишь торговец солеными сухариками, бойко продававший свой товар танкистам и с той, и с другой стороны, из Вашингтона поступил приказ отойти. И снова русские ответили тем же.
Государственный секретарь Дин Раек впоследствии назвал этот эпизод «нелепой конфронтацией у Чек-Пойнт-Чарли, единственной причиной которой явилось фанфаронство генерала Клэйя». Но при всем действительном фанфаронстве этого жеста он был чреват реальной опасностью. Один выстрел, намеренно или случайно произведенный американским танком, вызвал бы немедленный ответный огонь, и бывшие союзники по великой войне, шестнадцать лет назад обнимавшиеся на Эльбе, теперь вступили бы в перестрелку на Шпрее, с реальной перспективой быстрого разрастания пожара.
Теперь нам известно, что помимо возможности полного взаимного истребления (весьма вероятной в случае полномасштабной ядерной войны) немногие факторы помогли тому, что «Холодная война» так и осталась холодной в такой степени, как сооружение «Берлинской Стены». После того как она поднялась, напряжение между Востоком и Западом спало. С превращением Стены в почти неотъемлемый элемент политического ландшафта — а также в прибыльный туристический аттракцион и длиннейшую в мире художественную галерею — тот накал идеологического противоборства, который и впрямь мог обратить «Холодную войну» в горячую, стал ослабевать, постепенно сходя на нет в Германии и Европе.
Артур Уэлдрон
Китай без слез.
Если бы Чан Кай-ши не проиграл в 1946 году
Одна из последних статей настоящего сборника является и наиболее острой. Однако похоже на то, что не будь один человек упрям и азартен и не ошибись другой — истинный американский герой — в оценке обстановки, самого худшего, что принесла «Холодная война», можно было бы избежать. Не было бы ни Кореи, ни Индонезийской[304] и Вьетнамской войн, ни Камбоджи, ни кризиса в Тайваньском проливе, ни «Красной угрозы» в Америке. Это означало бы спасение жизней более ста тысяч американцев, не говоря уж о неисчислимом множестве азиатов.
Азартным игроком являлся лидер националистов Китая Чан Кайши, в конце Второй Мировой войны поклявшийся покончить с господством китайских коммунистов в Маньчжурии. Вопреки советам американцев, он бросил против сил Мао свои лучшие войска, и весной 1946 года был, казалось, недалек от решающей победы. Но вскоре ему пришлось остановить наступление под нажимом генерала Джорджа Маршалла, пытавшегося примирить националистов и коммунистов. Сторонникам Чана уже не удалось восстановить наступательный импульс, и три года спустя их вытеснили с материка на остров Тайвань. Но что, если бы итогом гражданской войны стало образование не одного, а двух континентальных китайских государств?
Артур Уэлдрон, специалист по современному Китаю, является профессором международных отношений Пенсильванского университета и директором Азиатской студии Американского Института Предпринимательства.
Попробуйте представить себе эпоху «Холодной войны» без «Красного Китая». Надо полагать, что даже при сохранении угрозы, исходящей от Советского Союза и находящейся под жестким контролем русских Восточной Европы, этот период был бы куда менее устрашающим. Во всяком случае, без поддержки коммунистического Китая Ким Ир Сен никогда не осмелился бы вторгнуться в Южную Корею, а коммунисты Хо Ши Мина не смогли бы добиться успеха в Индокитае. Не случись разделения страны на коммунистический материковый Китай и антикоммунистический Тайвань, Тайваньский пролив не стал бы взрывоопасной зоной ни в пятидесятых годах XX века, ни в девяностых. Иными словами, без этого непредсказуемого источника конфликтов эпоха «Холодной войны» была бы совсем иной, и гораздо менее суровой.
Но имеет ли смысл даже размышлять о такой возможности? Да — ибо дальнейшее развитие событий в Азии явилось прямым итогом захвата Китая коммунистами. Всего этого могло просто не быть, если бы в 1946 г. националистический лидер Чан Кай-ши не совершил роковую ошибку.
В конце предыдущего года, после капитуляции Японии, генералиссимус начал переброску по воздуху своих отборных частей в Маньчжурию, ставшую оплотом коммунистов. Красные, разумеется, сопротивлялись, но их войска не шли ни в какое сравнение с закаленными в боях ветеранами-националистами. Быстро продвигаясь на север, подразделения Гоминьдана за месяц тяжелых боев сломили сопротивление противника при Сипинджи и вернули себе всю южную Маньчжурию. Коммунисты бежали на север. 6 июня их полководец Линь Бяо получил приказ подготовиться к оставлению Харбина, ключевого пункта обороны севера. Но когда из города уже были видны приближающиеся отряды центрального правительства, Чан Кай ши остановил наступление — тем самым совершив ошибку, которую уже не смог исправить. Он упустил время, предоставив коммунистам возможность перегруппироваться и реорганизоваться. Его армия так и не вступила в Харбин, а тремя годами позже оказалось разбитой наголову, остаткам ее пришлось бежать на Тайвань. Чан, перефразируя старую поговорку, ухитрился выхватить поражение из зубов победы. Колоссальные последствия чего Азия и весь мир ощущают и по сей день.
Но чем объясняется странный поступок Чана? Увы, ответ заключается в двух словах: «давление США». К совершению непоправимой ошибки Чана подтолкнул американский генерал Джордж Маршалл, находившийся тогда в Китае с дипломатической миссией, целью которых было примирение националистов и коммунистов[305].
Кем же был сам Маршалл? При всем том вполне заслуженном уважении, каким пользуется этот храбрый солдат и выдающийся государственный деятель, в Китае он оказался не на своем месте. Мужественный и честный человек, он не сумел разобраться в коварных хитросплетениях азиатской политики. Желая принести мир, он посеял в Азии зерно «холодной войны» — что для самого Маршалла стало ужасным сюрпризом,
Когда после двойного удара — советского вторжения в Маньчжурию и американской атомной бомбардировки — Япония дрогнула и внезапно капитулировала, победы коммунистов в Китае не предвидел никто. К моменту неожиданного прекращения боевых действий коммунисты, по большей части, отсиживались на своих базах в Янани, вдалеке от бывшего ареной сражений северного Шэньси, и в любом случае не обладали внушительным военным потенциалом[306]. Все иностранные державы, включая СССР, признавали правительство Чан Кай ши в Чунцине в качестве единственной законной власти в Китае.
Сталин определенно не рассчитывал на победу коммунистов[307]. Секретные пункты ялтинского соглашения предоставляли русским в Маньчжурии особые права и привилегии, однако Советский Союз не выказал ни малейшего намерения оспорить суверенитет Китая над этим регионом. По правде сказать, многие ожидали, что СССР попросту аннексирует эту территорию, за контроль над которой Россия и Япония боролись с конца XIX века и пребывание которой в недружественных руках создавало серьезную угрозу дальневосточным регионам Советского Союза и стратегическому порту Владивосток.
Но если союзники, идя навстречу советским требованиям, согласились на расширение границ СССР в Европе, то почему то же самое не могло произойти и в Азии? Во всяком случае, американский журналист Эдгар Сноу, видимо располагавший серьезными источниками информации, предупреждал своих читателей о намерении Москвы закрепиться таким образом в северо-восточной Азии.
Проблема заключалась в категорическом неприятии подобного решения китайским правительством. Вступившее в войну с Японией прежде всего из-за Маньчжурии[308], оно на могло остаться безучастным свидетелем простой смены японских захватчиков на русских. Эти опасения заставили Чан Кай-ши отвлечься от внутренних проблем (каковых имелось в избытке) и сосредоточить внимание на северо-востоке.
Славу полководца Чан Кай-ши снискал в 1925—1928 годах, когда он, мгновенно воспользовавшись открывшейся, быть может на миг, возможностью, совершил со своей южной армией рискованный, молниеносный бросок на север (так называемый «Северный Поход»), результатом которого стало свержение военного правительства в Пекине и создание Китайской Республики со столицей в Нанкине. Эта операция, основанная на классической китайской стратегии «быстрых решений и быстрых действий», считалась образцовой. Достаточно отметить, что за всю многовековую историю Китая Чан оказался вторым вождем, которому удалось осуществить завоевание страны с юга[309]. Его Маньчжурская операция 1946 года базировалась на той же концепции.
Два материковых Китая
Но несмотря на то, что Вашингтон являлся неизменным союзником Чана, многие американцы не жаловали китайского генералиссимуса. Он не знал ни слова по-английски, не доверял иностранцам и держался с ними настороженной. «Уксусный Джо» Стилуэлл, командующий американскими войсками на китайско-бирманско-индийском театре военных действий, презирал главу чунцинского правительства, называя его «дешевкой». Под руководством Чана Китай был обескровлен в бесплодной войне с Японией, и, кроме того, генералиссимус нес личную ответственность за чудовищный размах коррупции, экономический упадок и разгул насилия в стране. Коммунисты, власть которых народ еще не испытал на себе, выглядели предпочтительнее в глазах многих, включая осведомленных и мыслящих иностранцев.
Что же до окопавшихся в далекой Янъани коммунистов, то начавшееся в августе 1945 года вторжение Красной Армии в Маньчжурию неожиданно открыло для них новые возможности. Стратегического значения Янъань не имела: коммунисты угнездились там в 1930-х годах, спасаясь от проводимой националистами кампании по «искоренению разбойников». Преимущество этого места состояло в близости к границе Монгольской Народной Республики, находившейся в то время под полным контролем СССР и способной стать для коммунистов последним убежищем в случае новой угрозы со стороны националистов.
Зато Маньчжурия представляла собой ключ к овладению всем Китаем. Именно с этого плацдарма начинались завоевательные походы, приводившие к воцарению в стране династий завоевателей. Последний раз именно маньчжуры — народ, давший провинции свое имя, — в 1644 году повели отсюда наступление на Пекин и основали великую династию Цин, правившую до 1912 года.
Простейшее решение коммунистов состояло в том, чтобы переместить свои вооруженные силы и управленческий аппарат из Янъани в Маньчжурию следом за освобождением последней от японцев наступающей Красной Армией. Советы и впрямь способствовали этому, и отдельные отряды коммунистов даже перебазировались на новое место по находившимся под советским контролем железнодорожным путям[310], однако существовала серьезная проблема. На словах Советы признавали Маньчжурию частью единого националистического Китая и не имели официальных дипломатических отношений с коммунистическими властями.
Однако коммунисты — и советские и китайские — считали себя принадлежащими к международному братству единомышленников, а потому искали и находили приемлемые формы сотрудничества. Коммунистические отряды дислоцировались за пределами столицы провинции, именовались «местными отрядами самообороны», а их поддержка со стороны советского командования (весьма весомая) объявлялась «неформальной». К тому же Советы не допустили того, чтобы армия националистов вступила в Манчжурию и приняла там капитуляцию японцев[311].
При негласной поддержке осуществлявшей военный контроль над провинцией Красной Армии коммунисты прибрали к рукам местную гражданскую администрацию. Поначалу они не уделяли первостепенного внимания созданию сильной армии, но зато учреждали в каждом маньчжурском городе или селении партийную ячейку. Возможно, они рассчитывали на постоянную защиту со стороны советских войск.
Тем временем националисты развернули активную дипломатическую кампанию, добиваясь скорейшего вывода Красной Армии из Маньчжурии[312]. Эта кампания увенчалась успехом — в то же время став первым шагом к роковому решению Чан Кай-ши.
Представим себе, каким могло стать политическое будущее Азии, не поведи Чан спор с советскими и китайскими коммунистами за контроль над Маньчжурией. Думается, в этом случае здесь возникло бы что-то, похожее на азиатскую Восточную Германию — «Китайская Народно-Демократическая Республика», территория которой почти наверняка ограничивалась бы Манчжурией и которая стала бы дополнением к Корейской Народно-Демократической Республике, провозглашенной Советами в Пхеньяне[313]. В отличии от «Китайской Народной Республики», созданной Мао Цзэ-дуном и его армией в 1949 году после долгой гражданской войны, государство китайских коммунистов в Маньчжурии находилось бы под полным контролем Москвы.
Среди китайских коммунистических лидеров было немало учившихся в СССР и еще больше тех, кто считал Советский Союз образцом для Китая. Подобно Чжоу Энь-лаю, они верили, что «настоящее в СССР — это будущее для Китая». Даже Мао — не учившийся в СССР, не бывавший там ранее и вообще не имевший никаких связей с Советами, в начале «Холодной войны» инстинктивно склонился на одну сторону — на сторону Москвы. Таким образом, китайская коммунистическая верхушка почти наверняка согласилась бы с вариантом создания (по примеру ульбрихтовской Германии) социалистического Китая под патронажем СССР. Коммунисты ожидали этого, свидетельством чему служит их усиленное внимание к контрою над административными органами.
Но что, если бы Мао, подобно югославскому руководителю Тито, проявил непокорность[314]? В коммунистической Восточной Европе подобные строптивцы попросту исчезали, «кончали жизнь самоубийством»[315] и еще как-либо сходили со сцены, и нет оснований полагать, что в марионеточном Китае дело обстояло бы иначе. Власть Мао в партии отнюдь не являлась абсолютной. Многие коммунисты ненавидели его. В начале 1950-х годов СССР явно поддерживал в Маньчжурии заговоры против Пекина. Они провалились, но в описанных нами обстоятельствах Москва, вероятно, добилась бы своего. В конце концов Югославия была защищена своим географическим положением[316] и имела свою — никогда не зависевшую от СССР! — армию. А вот Маньчжурия лежала вблизи советских границ, и даже националисты гарантировали предоставление СССР особых стратегических прав в этой провинции.
Более того, красный Китай в Маньчжурии вполне мог бы — во всяком случае, в начале своего существования — стать довольно благополучной страной. В отличие от большей части остального Китая, Манчжурия не была перенаселена, помимо плодородной почвы она располагала богатыми природными ресурсами, включая залежи угля и железной руды (японцы даже успели построить там большой сталелитейный завод). Порт Далянь обеспечивал морские торговые связи со всем миром, а Китайско-Восточная железная дорога была связана с железнодорожной сетью СССР. В экономическом отношении Маньчжурия являлась самым перспективным регионом Китая.
Когда в Китае разгорелась гражданская война, американские советники отговаривали Чан Кай-ши от намерения овладеть Манчжурией, полагая, что такая попытка может поставить под угрозу его власть надо всем Китаем. Надо полагать, что в Москве тоже считали вполне приемлемым существование в Китае проамериканского режима, ибо это буквально толкало коммунистов Маньчжурии в объятия СССР.
Хорошие границы способствуют добрососедским отношениям. Когда в Европе завершилась Вторая Мировая война, Красная Армия и войска союзников остановились на согласованных заранее демаркационных линиях. Местные горячие головы (каковых хватало и среди коммунистов и среди антикоммунистов) напрасно пытались столкнуть великие державы между собой. Страсти разгорелись лишь вокруг Берлина и вокруг Югославии, но на то были особые причины, а в остальном противостояние огромных армий проходило на удивление спокойно.
Думается, если бы державы-победительницы согласовали заранее политическое будущее Азии, и там получилось бы нечто подобное. Раздел Китая на большой некоммунистический и маленький коммунистический мог быть осуществлен таким образом, что это лишило бы Мао Цзэ-дуна (равно как Ким Ир Сена и Хо Ши Мина) возможности втягивать великие державы в разрешение региональных споров. В результате этого Азия имела шанс стать гораздо спокойней.
«Вы начали это!» Коммунисты возлагали вину за разразившуюся в стране гражданскую войну на своих противников, и у их были к тому основания. Маньчжурский поход Чан Кай-ши положил начало пожару, охватившему весь Китай.
К концу войны лучшие войска Чана дислоцировались на китайско-бирманско-индийском фронте. Ветераны боев с японцами в джунглях Индокитая были переоснащены и прошли переподготовку в Индии под руководством американских инструкторов. В состав командования входили самые одаренные и смелые китайские полководцы — такие, как выпускник Виргинского военного университета генерал Сун Лин. Посланные в Маньчжурию Новая 1-я и Новая 6-я армии, закаленные, как лучшая сталь, несравненно превосходили по своим боевым качеством любые силы, какие могли собрать коммунисты[317]. К тому же в отличие от полупартизанских коммунистических отрядов эти регулярные части располагали сильной современной артиллерией.
В распоряжении Чана имелась и авиация. Он разделял характерное для китайцев преклонение перед новейшими военно-техническими достижениями и с самого начала войны с Японией симпатизировал взглядам генерала Клэра Ченно, являвшегося сторонником всемерного укрепления воздушных сил — в отличие от эмиссара Рузвельта генерала Стилуэлла, делавшего ставку на сухопутные войска[318].
Постепенно в уме Чана стал вызревать план кампании, образцом для которой должен был послужить «Северный поход» конца 1920-х годов. Коммунисты не ожидали войны, и в случае вывода советских войск вооруженные силы националистов могли пройти сквозь Маньчжурию, как нож сквозь масло. К тому же наличие авиации позволяло войскам Гоминьдана преодолеть проклятие всех сухопутных войн в Азии — затруднения с перемещением войск в связи с бездорожьем. Используя транспортную авиацию, Чан мог забросить десант в тыл коммунистов, а также связать воедино разбросанные по огромной территории гарнизоны и обеспечить их бесперебойное снабжение[319].
Такое видение перспективы (не слишком отличавшееся от продемонстрированного пару десятилетий спустя американцами во Вьетнаме) в то время казалось вполне оправданным. Советский Союз согласился на вывод своих войск из Маньчжурии, и части националистов хлынули на освобождаемые Красной Армией территории. Переброска войск — сначала по воздуху — началась уже осенью 1945 года. Они покатились вперед, сминая застигнутых врасплох, совершенно не готовых к такой войне коммунистов. Правда, у ключевого железнодорожного узла Сипинджи сломить коммунистов удалось лишь после месячного сражения. Их предводитель Линь Бяо волна за волной бросал под огонь националистов необученных новобранцев, включая 100 000 фабричных рабочих из Чаньчуня[320]. Лишь 18 мая — потеряв 40 000 человек, что составляло половину его армии, — Линь Бяо бежал на север.
Произошедшее потом заставляет вспомнить знаменитый приказ Гитлера, остановивший преследовавший британцев вермахт у Дюнкерка и превративший решающую победу Германии в стратегическое поражение[321].
В то время генерал Маршалл искренне пытался решить неразрешимую задачу создания коалиционного правительства из коммунистов Мао и националистов Чана. Никакой предварительной договоренности об отказе Чан Кай-ши от ввода войск в Маньчжурию не существовало, однако когда это случилось, коммунисты принялись громогласно обвинять Чана в коварстве и подрыве доверия, необходимого для сотрудничества и достижения мирного соглашения; В январе 1946 года Маршаллу удалось добился заключения перемирия, но оно очень скоро оказалось нарушенным, и теперь коммунисты, ища спасения от наступления националистов, оказали давление на американцев, призывая к немедленному вмешательству.
И Маршалл прислушался к их просьбам. Используя весь авторитет США — богатейшей и могущественнейшей страны лежавшего в руинах послевоенного мира, — он надавил на Чана, требуя остановить наступление. И Чан сдался.
Ошеломленные военачальники умоляли его изменить это решение, втолковывая, что захват Харбина будет означать полную победу над вооруженными силами коммунистов в Маньчжурии, но тот в ярости ответил своему главнокомандующему: «Ты уверяешь, будто захватить город будет совсем просто, но знай ты причины, по которым мы не можем захватить его, ты бы понял, что мне совсем не легко будет его не взять». Впоследствии Чан называл прекращение наступления худшей ошибкой, совершенной им за все время борьбы с коммунистами[322].
Сумей китайский лидер не поддаться давлению Маршалла, он вполне мог могучим пинком вышибить коммунистов из Маньчжурии и поставить весь мир — не только Вашингтон, но и Москву — перед свершившимся фактом. Хотя существовала вероятность и того, что коммунисты могли перегруппироваться и нанести удар по растянувшимся коммуникациям наступавшей армии. Несомненным остается одно: приказ остановиться лишил Чана шансов одержать военную победу.
Армия националистов утратила наступательный импульс. Подобно Сизифу, они почти достигли вершины — и на последних шагах внезапно покатились назад. Но предположим, что Чан вовсе не стал бы вступать в борьбу за Маньчжурию. Сосредоточенные на основной территории Китая его войска были бы гораздо сильнее, и это могло бы сыграть решающую роль. Более того, это сулило серьезные перемены в отношениях как с Вашингтоном, так и с Москвой. В случае продолжения столкновений на основной территории Китая гнев Маршала обратился бы против коммунистов, да и Советы, видя, что Чан не намерен оспаривать их право на контроль над северо-востоком, пошли бы на соглашение с ним, и согласились ограничить зону коммунистического влияния одной Маньчжурией.
Мао, само существование режима которого обеспечивалось бы лишь наличием в Маньчжурии советских военных баз, оказался бы в полной зависимости от Москвы, которая лишь усиливалась бы по мере интеграции региона в экономику советской Сибири и Дальнего Востока.
Разумеется, нашлись бы коммунистические вожди (хоть бы и тот же Мао), желавшие установить власть над всем Китаем, но поднаторевшие в такого рода демагогии советские политики объяснили бы им, что всекитайская пролетарская революция вовсе не отменяется, а лишь откладывается до наступления исторически неизбежного краха капитализма, когда некоммунистические страны, словно созревшие фрукты, сами попадают им в руки.
Такой довод Сталин привел французским коммунистам, просившим о силовой поддержке для прихода к власти во Франции после разгрома нацистов. Ссылаясь на прогнозы своих экономических «гуру», он предложил им потерпеть всего несколько лет. Мировой кризис капитализма близок, а до той поры не стоит дразнить США и Англию понапрасну.
Но, как показало время, «гуру» ошибались. Не только советские, но и многие американские экономисты действительно ожидали, что за Второй Мировой войной должен была последовать Всемирный кризис — так же, как Великая Депрессия последовала за Первой. Но кризис так и не разразился. Напротив, свободная рыночная экономика начала возрождаться, сначала медленно, а потом — как казалось в то время — с просто волшебной скоростью. В Германии произошло «экономическое чудо», Япония совершила взлет к вершинам технологии и качества. Гонконг, сонный, заштатный колониальный порт у южного побережья Китая, стал подниматься из нищеты к процветанию пока, в конце столетия, не превзошел по размеру дохода на душу населения Великобританию.
Если бы вместо вторжения Чана в Маньчжурию и начала гражданской войны произошел простой раздел Китая, то Шанхай — важнейший экономический центр восточной Азии — оказался бы в пятидесятые годы открытым для свободной торговли, а не страдал одновременно и от ограничения торговых связей с капиталистическим миром, введенных коммунистами, и от эмбарго против коммунистов, наложенного Западом. Огромные рынки, равно как колоссальные людские и материальные ресурсы долины Янцзы, объединились бы для свершения азиатского экономического чуда. Когда в восьмидесятых годах Китай отказался от самых закоснелых и вредных коммунистических догм в экономике, это повлекло за собой настоящий экономический бум. А ведь откажись националисты от притязаний на север, этот бум мог бы начаться двадцатью годами раньше.
Это означало бы осуществление в Китае стратегической трансформации того же рода, какая имела место в Германии и Корее. В Корее север традиционно являлся промышленным, а юг сельскохозяйственным, так что раздел в том виде, в каком он произошел, был на руку Пхеньяну. Но Южная Корея со временем опередила Север по всем параметрам, так что к 1990-м годам на Юге сформировалось процветающее демократическое государство[323], тогда как Север докатился до голода и разрухи. Полная несостоятельность экономического курса ГДР на фоне успехов ФРГ определили способ объединения страны после 1989 года.
Маньчжурия являлась важнейшим в Китае центром горнодобывающей промышленности и металлургии. Вся остальная страна не располагала подобным индустриальным потенциалом. Но попробуем смоделировать ситуацию, которая сложилась бы после раздела страны. Уже к шестидесятым-семидесятым годам Юг наверняка вырвался бы вперед. Уделом Маньчжурии, как и всех стран, где приходили к власти коммунисты, должна была стать экономическая и технологическая отсталость, тогда как Югу было уготовано место в ряду «азиатских экономических драконов»
За их первоначальную жертву Чану и националистам воздалось бы сторицей. Ко времени смерти генералиссимуса в 1975 году «красный Китай» на северо-востоке был бы не более чем карликом в сравнении с его державой.
Можно сказать, что имело бы место повторение с точностью до наоборот нынешнего соотношения сил между Тайванем и материковым Китаем. По мере того, как коммунистический север попадал бы во все большую технологическую и финансовую зависимость от своего процветающего южного соседа[324], а его население, в силу невозможности не допустить приема радио и телевизионных программ соседней страны в пограничной зоне, все больше проникалось бы демократическими и рыночными идеями, ситуация скопировала бы ту, что сложилась в Германии. Китайскую Демократическую Республику ждало такое же фиаско, как и Германскую.
Но раздела страны не произошло. Чан перебросил свои войска в Маньчжурию и вскоре после этого все пошло прахом.
Приказ остановить наступление, бесспорно, стал важнейшей причиной постигшей его неудачи. Но на избранном генералиссимусом пути таились и другие, не столь очевидные опасности. Помимо всего прочего, при всем превосходстве Чана в военном отношении рассчитывать на легкую победу было бы ошибкой. Отступать из Маньчжурии коммунистам было некуда: за эту, используя выражение Сунь-Цзы, «местность смерти» они намеревались сражаться до последнего. И не только намеревались, но и дрались: в длившейся с 1946 по 1948 год войне на истощение сложили головы десятки тысяч коммунистов. Дабы остановить националистов, Линь Бяо проливал реки крови и гнал своих людей в самое пекло, не считаясь ни с какими потерями.
Кроме того Линь и другие коммунистические военачальники постарались сделать все возможное для того, чтобы сравняться с противником в вооружении и боевой технике. Советы передали им свою, а также трофейную японскую артиллерию и создали артиллерийское училище. С получением коммунистами тяжелого вооружения бои стали боле затяжными и кровопролитными. Появление у коммунистов зенитных орудий позволило им прервать воздушное сообщение армии Чан Кай ши с удерживавшимися националистами городами Маньчжурии[325]. Сотни тысяч отборных солдат Чана увязли в бесплодных позиционных боях, обороняя растянутые коммуникации и не имея возможности сконцентрироваться и перейти в способное переломить ситуацию решительное наступление.
В Маньчжурии коммунисты имели два существенных преимущества. Во-первых, на своей территории они могли сосредоточивать силы в опорных пунктах, тогда как Чану приходилось метаться по всей провинции, отражая их удары то здесь, то там. Во-вторых, разбитые коммунистические отряды всегда могли укрыться от преследования в районах дислокации советских воинских частей[326].
Коммунисты воспользовались имевшимися возможностями. Инициировав восстание в Шаньдуне, что позволило отвлечь часть националистических сил от Маньчжурии, они укрепили свое положение, вынудили националистов перейти по всему Китаю к обороне, а потом, нарастив свою наступательную мощь, стали медленно вгрызаться в позиции противника.
Это походило на нападение термитов, протачивающих ходы в прочном с виду строении. С 1945 по 1947 год дела националистов (по крайней мере, с виду) обстояли не так уж плохо. Они одержали несколько впечатляющих побед, большая часть страны находилась под формальным контролем их правительства. Но чаша весов начала склоняться в другую сторону: Гоминьдан слабел, а коммунисты набирали силу. В 1948 году войска Чана были окончательно вытеснены из Маньчжурии, причем разбросанным по различным городам, беззащитным изолированным гарнизонам не осталось ничего другого, кроме как сдаваться один за другим. Прилив сменился отливом — армия Чана покатилась назад и в 1949 году распалась под сокрушительными ударами коммунистических сил.
Потрясение от победы коммунистов (так называемая «потеря Китая») ввергла Америку в самый суровый за весь период «Холодной войны» период, получивший название маккартизма. А всего через несколько месяцев, в июне 1950 года, воодушевленная успехом единомышленников Северная Корея напала на Южную. Этот кризис оказался гораздо опаснее всего, происходившего в Европе, так что и без того холодные отношения с Москвой сковал настоящий мороз.
Теперь нам известно, что поразительная победа китайских коммунистов не только подтолкнула Ким Ир Сена к попытке блицкрига против Сеула, но также побудила Сталина и Мао поддержать это начинание, ибо они искренне верили в его успех. Очевидно, они решили, что раз Вашингтон, не поморщившись, проглотил захват коммунистами огромного Китая, то едва ли американцы встанут на дыбы из-за маленькой Кореи. А ведь раздел Китая скорее всего исключил бы такое развитие событий: без маньчжурской авантюры Чана не было бы и корейской авантюры Кима.
Кроме того, поддержка Штатами Тайваня вбивала еще один клин между Вашингтоном и Москвой, а без победы коммунистов в Китае эта проблема просто бы не возникла.
И наконец, приход к власти коммунистов во Вьетнаме стал возможным исключительно благодаря соседству с коммунистическим Китаем. Китайские военные поставки, равно как и предоставление вьетнамцам убежища на китайской территории, имели решающее значение для обеспечения победы над французами под Дьен-Бен-Фу. Эта победа обусловила раздел Вьетнама, а итогом стала Вьетнамская война с участием Америки. За весь период «холодной войны» противостояние двух социальных систем выливалось в настоящие войны почти исключительно в Азии, и все эти войны, так или иначе, явились следствием победы коммунистов в Китае. Она превратила Азию в локомотив «холодной войны», тащивший мир от кризиса к кризису.
Существование огромного некоммунистического Китая означало бы смягчение политического климата в период «холодной войны» и, вследствие более быстрого экономического возрождения Азии, меньшую продолжительность самого этого периода.
Поддержание на плаву своего вассала на севере Китая опустошило бы сундуки Москвы, ускорив экономический крах коммунистического режима. К тому же на месте Мао, скорее всего, оказался бы не столь харизматический лидер, полностью подконтрольный Советам.
К началу 1970-х годов все было бы готово к полному — экономическому, политическому и социальному — поглощению «Свободным» Китаем «Красного», столь же кардинальному и, возможно, даже более быстрому, чем поглощение Восточной Германии Западной. Сколь это ни парадоксально, но это означало бы, что отказ Чан Кай-ши от Маньчжурии привел бы не к увековечению раздела страны, а к скорейшему воссоединению нации, причем не под эгидой коммунистов.
Тед Морган
Не увязли в трясине?
Тед Морган, служивший ранее во французской армии, является автором книги «Тайная жизнь», представляющей собой биографию коммунистического лидера (а впоследствии агента ЦРУ) Джэя Лавстоуна.
Если бы президент Эйзенхауэр одобрил операцию «Гриф», имевшую своей целью спасение французских войск, окруженных под Дьен-Бьен-Фу, французы вполне могли выиграть это сражение — а вслед за ним и всю кампанию. То есть Америка не увязла бы на дюжину лет в трясине Второй Вьетнамской войны.
Дьен-Бьен-Фу представлял собой небольшой опорный пункт в северном Вьетнаме, на границе с Лаосом. Французские силы заняли этот городок в конце 1953 года для того, чтобы перерезать вьетнамцам пути снабжения и обзавестись базой, откуда можно проводить операции по пресечению вражеских рейдов. Однако генерал Зиап, командующий войсками Вьетминя, понял, что изолированный гарнизон, размещенный близ границ Китая и Лаоса, может стать для него легкой добычей[327]. Для достижения своей цели он прибег к классической тактике, окружив французов сорокатысячной армией[328] и подтянув для обстрела французских оборонительных сооружений тяжелую артиллерию. Доставка припасов осажденным могла осуществляться только по воздуху.
В рамках операции «Гриф» рассматривалась возможность посылки с американских баз на Окинаве и Филиппинах бомбардировщиков Б-29 для проведения ковровых бомбардировок вьетнамских позиций под Дьен-Бен-Фу. В январе 1954 года французы обратились к «Айку» с просьбой о выделении им в помощь двадцати бомбардировщиков Б-26 и четырехсот авиационных специалистов, которую американский президент удовлетворил ровно наполовину. В марте он согласился направить французам и несколько «летающих цистерн» С-119, способных поливать артиллерийские позиции Зиапа напалмом. Но когда французы попросили еще и две-три атомные бомбы, им ответили отказом. В Конгрессе президент словно заклинание твердил, что он «не допустит новой Кореи», а офицеры Пентагона заключали между собой пари, когда же французская крепость падет. Это случилось седьмого мая, и стало одним из тех катастрофических поражений, значение которых выходит за рамки военной операции — ибо оно подорвало волю нации и решило исход войны[329]. Спустя два месяца последовало прекращение огня и разделение страны, а спустя десятилетие воевать во Вьетнаме настала очередь Америки.
Роберт Л. О'Коннел
Заключение
Роберт О'Коннел является автором исследования о причинах войн под названием «Скачка Второго Всадника»
Как быстро мы забываем. Проведя большую часть жизни в тени ядерного противостояния и лишь недавно в связи с окончанием «холодной войны» выбравшись на свет, мы тут же поспешили предать прошлое благостному забвению. Кто ныне всерьез задается вопросом «а что, если бы Дамоклов меч упал?» Даже вспоминая «Карибский кризис», многие умники готовы доказывать нам, что единственный урок этого события заключается в демонстрации того, как в условиях глобального устрашения хорошо может срабатывать стратегическая связь. Но они практически никогда не упоминают другой кризис схожего масштаба — случай, когда стратегическая связь не только не была задействована, но одна из сторон вообще едва ли знала, что происходит.
В начале ноября 1983 года, во время учений НАТО под кодовым названием «Эйбл Арчер» («Меткий стрелок»), американские и британские наблюдатели с удивлением отметили резкую активизацию систем связи «Восточного блока». По ряду признаков можно было судить, что там сработали средства предупреждения о готовящемся ядерном нападении и в войсках была объявлена тревога.
То был вовсе не мираж. Тогдашние хозяева Кремля действительно верили, что Запад близок к нанесению превентивного ядерного удара.
Корни этого заблуждения следует искать в начале восьмидесятых годов, когда Владимир Крючков, тогдашний руководитель КГБ, а впоследствии лидер провалившегося путча против Горбачева, выдвинул идею упреждающего удара. Дело в том, что, по его мнению, новые американские ракеты средней дальности «Першинг-2» с их коротким подлетным временем и боеголовками, способными поражать подземные убежища, являлись идеальным оружием первого удара. В таком случае размещение этих ракет в Европе нельзя было трактовать иначе как намерение развязать войну. По настоянию Крючкова советская разведка развернула активную деятельность, направленную на раннее обнаружение признаков подготовки к атаке.
Эти страхи являлись совершенно безосновательными, поскольку стартовые комплексы «Першингов» на тот момент еще не были развернуты, а сама эта ракетная система даже не испытывалась в учебных стрельбах на дистанции, необходимой, чтобы поразить Москву. Но это не имело значения для пребывавших в маразме, правивших рассыпавшейся империей «кремлевских старцев» — особенно для стоявшего во главе страны тяжело больного выходца из КГБ Юрия Андропова. Их ответом на усугублявшиеся трудности системы были лишь гнев и маниакальная подозрительность[330].
Советско-американские отношения продолжали ухудшаться. В июне 1983 г. Андропов охарактеризовал их, как «отмеченные противостоянием, беспрецедентным за весь послевоенный период». Менее двух месяцев спустя советский перехватчик намеренно сбил корейский пассажирский лайнер, предположительно выполнявший разведывательную миссию. К ноябрю Андропов уже был при смерти, и вопрос о том, кто приказал привести советские стратегические силы в полную готовность, остается открытым до сих пор. Ясно одно — что учения «Эйбл Арчер» повергли его кремлевских соратников в состояние паники.
Однако шло время, и ничего не случалось. Маневры НАТО закончились, а нападения так и не последовало. Войска «Восточного блока» стали возвращаться к обычному режиму несения службы. До лидеров СССР дошло, что никто не помешает им встретить 1984 год живыми. Однако в США лишь спустя годы смогли понять, почему коммунисты реагировали на обычные учения в столь эксцентричной манере — а ведь тогда, при постоянной и неусыпной слежке обоих противников друг за другом, одна из сторон явно галлюцинировала, а другая казалась погруженной в дремоту.
В тот момент опасность миновала, но из истории надлежит извлекать уроки. Военный психоз 1983 года мог закончиться катастрофой, и возможности повторения подобной ситуации должен быть навсегда положен конец.
Комментарии к седьмой части
Приходится признать, что история Третьей Мировой войны до сих пор изучена довольно слабо. На Западе — в основном, из чисто идеологических соображений — принято считать, что Советский Союз всеми силами стремился к мировой коммунистической революции, а Соединенные Штаты оказывали этому отчаянное противодействие.
Но могла ли страна, даже в лучшие периоды своего существования не претендовавшая ни на что большее, нежели доминирование в Восточной и Юго-Восточной Европе, всерьез рассчитывать поставить под свой контроль весь мир? В начале XX века Британия строила свой военный флот, исходя из «двухдержавного стандарта» — так, чтобы он был мощнее объединенных флотов двух следующих по силе морских держав. Но Россия никогда не могла рассчитывать добиться «мультидержавного стандарта», то есть военной и экономической мощи, превосходящей суммарную мощь всего остального промышленно развитого мира, то есть Западной Европы и Северной Америки. Это было невозможно не только из-за промышленной отсталости страны (которую, к слову, хотя бы отчасти удалось преодолеть именно большевикам), но и просто по «физическим параметрам» — Европа и Америка в сумме имеют больше и населения, и природных ресурсов. И если Советского Союза боялись во всем остальном «цивилизованном» мире, значит, это было кому-то очень нужно. Характерно, что в мире «слабоцивилизованном» к России и СССР всегда относились либо хорошо, либо индифферентно.
Отставим в сторону байки о том, что Сталин и коммунисты были клиническими идиотами и стремились силой распространить свою идеологию по всему миру, невзирая на заведомую неосуществимость таких планов. С 1927 года, то есть с момента отстранения Троцкого и троцкистов от управления страной, руководство Советского Союза стремилось в первую очередь любой ценой обеспечить безопасность государства — и лишь потом добиться каких-либо внешнеполитических целей, военных или дипломатических. Такую политику можно называть национализмом, прагматизмом или оппортунизмом[331] и изменой делу рабочего класса — но нельзя не признать, что в условиях 30-х годов она была наиболее логичной.
Именно с этой точки зрения следует рассматривать и послевоенную политику СССР в Европе. Наиболее предпочтительным вариантом всегда являлся союз России и Германии (его сторонниками были и Бисмарк, и фон Сект, и многие деятели германской дипломатии еще в начале Второй Мировой войны — тот же посол в Москве граф фон Шуленбург). Впрочем, Дэвид Лардж прав — в упомянутом им варианте с заключением сепаратного мира между Германией и СССР в 1944 году военный союз был бы уже невозможен. Но при этом не возникло бы и Северо-Атлантического союза, одной из главных составляющих которого был западногерманский бундесвер. То есть мы опять возвращаемся к планам создания единой нейтральной Германии. Напомним, что исходили они отнюдь не от Запада[332].
Для чего же Сталину была нужна единая и сильная Германия? Увы, «зловещий диктатор» был достаточно умен и прекрасно понимал, что Советский Союз не обладает столь могущественной экономикой для того, чтобы тащить на себе бремя одной из двух «мировых держав». А вот Соединенные Штаты наличие «третьей силы» абсолютно не устраивало. Они предпочитали иметь дело именно с разделенной Европой, крайне нуждающейся в американской помощи и заокеанском покровительстве. И тем более им не нужно было здесь британское влияние, установленное итогами Первой Мировой войны, а затем долгим и упорным устранением с политической сцены французов.
Неудивительно, что в ответ на любые попытки Монтгомери проявить самостоятельность, американский командующий регулярно ставил самовлюбленного британца на место. Эйзенхауэр, как и Рузвельт, был весьма неглупым человеком и прекрасно понимал, что усиление позиций Британии в послевоенной Европе Соединенным Штатам крайне невыгодно. Поэтому американцы целенаправленно разыгрывали против англичан «русскую карту», идя на многочисленные уступки Сталину — малообъяснимые с первого взгляда, но весьма логичные с точки зрения послевоенной геополитики. Для США главной задачей было установить свое экономическое и политическое доминирование в послевоенном мире — и в первую очередь на тех территориях, которые ранее являлись сферой влияния Великобритании. Ради этого вполне можно было пойти на усиление в Восточной Европе (до войны ориентировавшейся на Англию) позиций другого конкурента, который справедливо оценивался как более слабый. Тем более что Советский Союз с его далеко не могучей экономикой и исключительно сухопутной армией не имел и тени возможности занять зависимые от Британии заморские территории силой или обеспечить проникновение туда экономическим путем.
Что же касается целей, которые Москва преследовала при создании Берлинского кризиса 1948 года, то они были гораздо проще и прозаичнее, чем это представляется автору. Сталин вовсе не надеялся помешать созданию западногерманского государства или добиться вывода англо-американских войск из западных секторов Берлина. Ему просто нужно было создать- кризис в центре Европы, чтобы отвлечь внимание американцев от Дальнего Востока — где в это время китайские коммунисты начали решительное наступление на Гоминьдан. Отвлекающий маневр удался с блеском — американские аналитики догадались о его истинном смысле лишь полвека спустя.
Тем не менее все эти достаточно прозаические материи на Западе и поныне сплошь и рядом облекаются в одежды классицистской пьесы, где добро непримиримо и горделиво противостоит ужасному злу. И если при этом логика американских военных иногда выглядит просто потрясающе, то логика историков вгоняет в чувство недоумения: понимают ли они, о чем говорят?
«С точки зрения Паттона американцы пришли в Европу, дабы принести ее народам право самим определять свою судьбу», — пишет Дэвид Клей Лардж. Но так думал не только Паттон — все тогдашнее американское руководство официально основывало свои действия именно на этом постулате. Да и современные американские историки, судя по этому сборнику, вполне его разделяют. То и дело создается впечатление, что у Соединенных Штатов не существует и не существовало никаких интересов, кроме как установить свободу и демократию во всем мире. Какой ценой — об этом автор скромно уточняет чуть ниже:
«...нанесение тактических ядерных ударов по продвигающимся советским войскам нанесло бы страшный ущерб тем самым регионам Центральной и Западной Европы, которые в Вашингтоне собирались спасать».
Поневоле закрадывается мысль о том, что наиболее приемлемым местом для установления этой самой свободы и демократии являлась вьетнамская деревушка Сонгми. Правда, для полного торжества американских идеалов там пришлось вырезать всех жителей — очевидно, как неприспособленных к восприятию упомянутой демократии. Что поделаешь: даже в цивилизованной и просвещенной Европе попадаются народы, которые надо бы «загнать обратно в азиатские степи». Тем более что само их название происходит от корня «раб», так что церемониться с ними не следует.
Кстати, на известном процессе лейтенанта Колли выяснилось, что американские офицеры не имели никакого представления не только о нормах международного права, но и о Гаагских конвенциях, устанавливавших законы и обычаи ведения войны! Ну не преподавали им это в Уэст-Пойнте! И сей факт был учтен судом в качестве смягчающего обстоятельства — проштрафившегося вояку вскоре выпустили на свободу. Стоит вспомнить, что немецкие солдаты в 1941 году тоже были совершенно искренне убеждены, что несут «в азиатские степи» европейскую культуру и цивилизацию...
Впрочем, и Азию тоже можно цивилизовать и гуманизировать. Статья Артура Уэлдрона так и называется: «Китай без слез». То есть автор искренне уверен, что если бы Чан Кай-ши не проиграл гражданскую войну, то в стране установились бы мир и процветание. Правда, сам он мимоходом неоднократно дает режиму китайского генералиссимуса весьма нелестные характеристики — но на итог рассуждений это никак не влияет.
Трудно понять, то ли Уэлдрон просто не знает истории Китая в XX веке, то ли он просто пользовался лишь тайваньскими источниками. Ясно одно — генералы и дипломаты рузвельтовских времен разбирались «в коварных хитросплетениях азиатской политики» гораздо лучше, нежели современные американские историки. Не будем разбирать здесь все перипетии гражданской войны в Китае и правдоподобность их изложения у автора, зададимся лишь одним вопросом: а откуда бы взялось благоденствие и процветание в Центральном Китае в случае сохранения там власти Гоминьдана?
Автор в своих построениях исходит лишь из одного параметра — «экономического чуда», продемонстрированного Тайванем, Южной Кореей, Гонконгом и Таиландом в 80-х годах XX века. Но причиной этого «чуда» стала не «либеральная экономическая система», а массовые инвестиции в экономику со стороны стран Запада, и в первую очередь США. Залогом же эффективности инвестиций являлась политическая стабильность, обеспеченная жесткостью режимов, а также изначально низкий уровень оплаты труда. Кстати, Филиппины, имевшие куда более высокий «стартовый капитал» (как-никак, бывшая американская колония), ныне плетутся далеко позади «азиатских тигров». Не продемонстрировала особых экономических успехов и Индонезия под чутким руководством генерала Сухарто — а ведь по численности населения она обгоняет всех «тигров» вместе взятых. Зато коммунистический Китай, руководствуясь все теми же «идеями Мао Цзэ-дуна», за последние годы совершил значительный рывок вперед.
Вряд ли при существовании «двух Китаев» на материке такое было бы возможно. Скорее всего, вялотекущая гражданская война в стране продолжалось бы еще многие годы. Любая же попытка добиться внутриполитической стабильности гоминьдановского режима путем прямого вооруженного вмешательства (как это было в Корее, в Малайзии или на Филиппинах) стоила бы Соединенным Штатам такого количества ресурсов, что им поневоле пришлось бы забыть о своих интересах в других областях мира — в частности, в том же Индокитае... В этом плане Советскому Союзу его «сателлиты» обходились гораздо Дешевле — даже во время Корейской войны вооружение Мао и Ким Ир Сену поставлялось отнюдь не бесплатно.
(К слову сказать, с момента объединения Германии прошло уже десять лет, а экономика бывшей ГДР все еще не поднялась до уровня Западной Германии. И так было всегда — по уровню экономического развития восточная часть Германии неизменно отставала от западной. Пруссия давала стране солдат, а не станки и машины.)
Интересно, а почему бы, продолжая логику автора, не предложить для Азии другой глобальный сценарий? Затянувшееся на многие годы противостояние в Китае лишь усугубит политическую нестабильность на всем Дальнем Востоке и тем самым лишит его всей инвестиционной привлекательности — основной причины «Азиатского чуда». Ведь если Соединенные Штаты возьмутся поддерживать Гоминьдан в бесконечной гражданской войне, это поневоле вынудит их пойти на снижение своего присутствия в других регионах земного шара. Увы, возможности американских вооруженных сил отнюдь не безграничны, что показала еще Корейская война. И в этом плане существование «двух континентальных Китаев» действительно могло бы снизить накал «холодной войны». Правда, тогда Советский Союз к 1960-м годам не получил бы «конкурента» в виде маоистского Китая (существование которого, если рассматривать ситуацию объективно, для СССР было выгодно точно так же, как присутствие Сталина в Европе — для США). Зато западная китайская провинция Синцзян, с начала 1930-х годов фактически находившаяся под советским протекторатом[333], скорее всего, превратилась бы еще в одну республику СССР.
Фактически к этой альтернативе примыкает и вариант, предлагаемый Тедом Морганом: что бы произошло, если бы США ввязались во Вьетнамскую войну десятью годами раньше? Увы, рассматриваться он может как сугубо теоретический, поскольку Эйзенхауэр, как уже упоминалось выше, был слишком умен, чтобы допускать подобные ошибки. Американское «общественное мнение», на которое часто ссылаются авторы патетических статей, как правило, относится к зарубежным делам гораздо индифферентнее чиновников из Пентагона или Госдепартамента — но только до тех пор, пока «на защите интересов демократии» не начинают гибнуть американские парни. Поэтому вряд ли кому-либо из американского руководства, находящемуся в здравом уме, могла прийти в голову мысль менее чем через год после подписания перемирия в Корее ввязаться в очередную азиатскую войну. К 1954 году генерал Паттон уже разбился в автомобильной катастрофе, отставленный от дел Форрестол умер, а Макартур был снят за разгром в Корее. То есть безумной идее попытаться выиграть авиацией очередную проигранную на земле кампанию (да к тому же — чужую) было просто не к кому являться...
Библиография
Поскольку две первые части данного сборника затрагивают период, не слишком широко освещенный в книгах «Военно-исторической библиотеки», мы сочли необходимым дать к нему наиболее подробную библиографию — естественно, отразив в основном источники и работы по военному делу. Напротив, список литературы по XX веку сознательно сделан небольшим — и Первая, и Вторая Мировая войны достаточно широко освещались в других наших изданиях, поэтому нет необходимости в очередной раз перечислять те же самые книги.
Увы, про историю США XVIII и XIX веков это сказать нельзя. Война за Независимость и Гражданская война в Северо-Американских штатах никогда не являлись излюбленной темой отечественных историков. Большинство имеющихся по этой теме работ носят характер научных монографий и издавались весьма незначительным тиражом.
Редакция выражает благодарность Г. Кантору за помощь в подготовке данной библиографии.
Часть I
I. Публикации источников (на русском языке).
Подбор источников для данного списка представлял определенную трудность, поскольку в абсолютном большинстве античных источников есть какие-либо сведения по военной истории. Поэтому в список включены только источники трех видов: сочинения по военному делу (стратегии, тактике, военным хитростям и полиоркетике); истории войн; сочинения, дающие не повторяемую важную информацию по истории войн и военному делу, даже если это не является их основной темой (например, биографии Плутарха). Не включены сочинения, дающие о войнах древности только политическую информацию (например, «Деяния божественного Августа»). Не входят в список также поэтические и риторические сочинения, даже когда они посвящены каким-либо войнам (как «Фарсалия» Лукана). Краткая характеристика источников дана только с точки зрения военной истории. Более подробные сведения см. в изд.: История греческой литературы: В 3 т. / Под ред. С.И. Соболевского и др. М. 1946—1960; История римской литературы: В 2 т. / Под ред. Ф.А. Петровского, С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассек. М., 1959—1962.
Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер., коммент. Ю. А. Кулаковского; вступ. ст. Л.Ю. Лукомского. СПб., 1994. — (Античн. библиотека). Сохранившаяся часть охватывает период с 353 по 378 г. н.э. и является нашим основным источником по римской истории, в т.ч. военной, этого периода. Автор — бывший офицер и служил непосредственно при magister militum Урзицине, однако в ряде мест страдает риторическими неточностями в военной терминологии.
Анней Флор. Две книги римских войн / Пер. А.И. Немировского, М.Ф. Дашковой; прим. А.И. Немировского // Малые римские историки. М., 1996. С. 97 — 190. Произведение II в. н.э., охватывает время от царей до Августа. Носит панегирический характер и зачастую жертвует точностью в угоду риторическому эффекту.
Аппиан. Иберийско-римские войны / Пер. С.П. Кондратьева // Вестник древней истории. 1939. — №2. С. 265 — 300.
Аппиан. Римские войны. СПб., 1994. — (Античн. библиотека). Из «Римской истории» автора II в. н.э. Аппиана Александрийского, организованной не хронологически, как обычно, а по войнам (от царских времен до парфянской войны Траяна в 114 — 117 гг.), до нас дошли целиком книги VI —VIII, посвященные II и III Пуническим войнам и кампаниям в Испании и XII —XVII, в которых описываются войны римлян с царством Селевкидов, Митридатова война и Гражданские войны, а также небольшие отрывки из остальных книг. Наиболее важен Аппиан как источник по Гражданским войнам. Книга VI («Иберика») не вошла в издание 1994 г., и ее надо смотреть в публикации «Вестника древней истории» (см. [3]).
Аристотель. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига // Античная демократия в свидетельствах современников. М. 1996. С. 28 — 86. Сочинение Аристотеля дает нам еще древнее и, судя по всему, достоверное описание военной организации Афин классической эпохи.
Беллей Патеркул. Римская история / Пер. А.И. Немировского, М.Ф. Дашковой; прим. А.И. Немировского / Малые римские историки. М., 1996. С. 9 — 96. Официозный историк времен Тиберия (14 — 37 гг. н.э.). Один их немногих наших источников о войнах, которые вел Тиберий как полководец Августа. Изложение очень сжатое.
Гай Саллюстий Крисп. Югуртинская война / Пер., прим. В.О. Горенштейна // Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. М., 1981. С. 40—105. — (Памятники историч. мысли). История войны Рима с нумидийским царем Югуртой (111 — 107 гг. до н.э.), написанная одним из четырех крупнейших римских историков. Содержит также описание военной реформы Мария.
Геродот. История в девяти книгах ' Пер., прим. Г.А. Стратановского. Л., 1972. — (Памятники историч. мысли). Сочинение «отца истории» посвящено греко-персидским войнам (до зимы 479 — 478 гг. до н.э.) и их предыстории и является основным источником по этой теме. Огромные цифры варварских войск, приводимые Геродотом, бесспорно не соответствуют действительности (хотя масштаб преувеличения служит предметом споров), но численности греческих войск и флотов сейчас большинством историков признаются за достоверные.
Греческие полиоркетики. Флавий Вегеций Ренат - Предисл. А.В. Мишулина; коммент. А.А. Новикова. СПб., 1996. — (Античн. библиотека). Издание включает в себя трактаты по осадным машинам, принадлежащие перу знаменитого архитектора и инженера времен Траяна и Адриана Аполлодора и двух более поздних авторов — Афинея Механика и Византийского Анонима, а также трактат Вегеция «Краткое изложение военного дела». Вегеций писал в конце IV в. и пытался представить легион эпохи Ранней империи как идеальную военную организацию. Сам он был не военным, а чиновником, и его труд страдает рядом неточностей, но тем не менее без этого трактата нельзя представить себе римскую армию.
Демосфен. Речь XIV. О симмориях / Пер. С.И. Радцига // Демосфен. Речи. Т. 3. М. 1996. С. 170—181. — (Памятники историч. мысли). Речь о реформе системы финансирования афинского военного флота.
Дигесты Юстиниана. Кн.ХLIХ. Тит.XVI. О военном деле / Пер. И.И. Яковкина // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 591 — 598. Основной источник по римскому военному праву — фрагменты из сочинений юристов конца II —начала III в., сохранившие значение ко времени Юстиниана (527 — 565). Отрывки из этого титула также даны (с коммент. А.Л. Смышляева) в университетской хрестоматии: Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1987. С. 283-285.
Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Пер., коммент. М.М. Покровского. М., 1993. — [Репринтн. изд.]. — (Лит. памятники). Записки Цезаря создавались (и дописывались затем его офицерами) в обстановке острой политической борьбы и страдают частым недостатком военных мемуаров — резким преувеличением численности противника и приуменьшением собственных потерь. Тем не менее это неоценимый источник по ведению военных действий в древности (в част: ности, прекрасно показаны отношения в военном совете). Некоторые полезные приложения и иллюстрации содержатся также в учебном издании латинского текста: Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. Кн.1 — 4 / Предисл., коммент. С.И. Соболевского. М., 1946—1947. — Вып.1—3. — (Римские классики).
Иосиф Флавий. Иудейская война Пер. с древнегреч. под ред. А.Б. Ковельмана. М.; Иерусалим, 1993. Рассказ об одной из немногих крупных войн периода Ранней империи — Иудейской войне 66 — 73 гг. Написан иудейским полководцем, сдавшимся римлянам и находившимся на службе победителей.
Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре / Под ред. А.А. Вигасина. М., 1993. Римская история походов Александра, очень популярная в Средние века и Возрождение. Считается, что в военном деле Курций разбирался плохо.
Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах , Пер., коммент. Н.Н. Трухиной // Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги о римских историках. М., 1992. С. 8—98. Сочинение римского историка I в. до н. э. (возможно, дошло в сокращении IV в. н.э.). Даны краткие характеристики знаменитых греческих, пунийских и даже одного персидского (Датам) полководцев. Сочинение Непота страдает многими неточностями (они отмечены в весьма содержательном комментарии), и лучше следовать более надежным авторам, но читается он легко и с интересом.
Корнелий Тацит. Сочинения: В 2 т. / Изд. подгот. А.С. Бобович, Я.М. Боровский, М.Е. Сергеенко. Л., 1969. Т. 1—2; 2-е изд. М., 1993. Т. 1—2. — (Лит. памятники). Хотя Теодор Моммзен и назвал Тацита «самым невоенным из всех римских историков», сочинения Тацита в изобилии дают нам уникальную информацию о войнах Римской империи в I в. н.э. Тацит в целом считается достоверным историком, да и мнение Моммзена и Дельбрюка о его военной некомпетентности в последнее время стало подвергаться сомнению.
Ксенофонт. Анабасис / Пер. С. Ошерова // Историки Греции. М., 1976. С. 227 — 390. Менее удачный перевод (но более подробные карта и комментарии) есть в изд.: Ксенофонт. Анабасис Пер. М.И. Максимовой; под ред. И.И. Толстого. М.-Л. 1951; М. 1994.
Ксенофонт. Греческая история / Пер., коммент. С.Я. Лурье; предисл. Р.В. Светлова. СПб., 1993. — (Античн. библиотека). Ксенофонт, как и многие другие древние авторы, сам был военачальником. Его сочинения («Анабасис» — воспоминания о походе наемников Кира, и «Греческая история», охватывающая время с 411 по 362 г. до н.э.) относятся к числу лучших в области военной истории, какие оставила нам античная древность. Несмотря на явные симпатии к Спарте, Ксенофонт считается довольно точным автором.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. / Изд. подгот. С.П. Маркиш, .СИ. Соболевский. М., 1961 -1964. Т. 1 -3; 2-е изд.: В 2 т. / Изд. подгот. С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. М. 1994. Т. 1—2. — (Лит. памятники). Плутарх писал «не историю, а биографии», но поскольку это были большей частью биографии выдающихся полководцев, то в его сочинениях сохранились многие сведения, не повторяющиеся в иных доступных источниках (например, о войнах Пирра или о фессалийских походах Пелопида). Плутарх был хорошо эрудирован, но сам в военном деле не разбирался.
Полибий. Всеобщая история в сорока книгах: В 3 т. / Пер. с древнегреч., предисл., коммент. Ф.Г. Мищенко. СПб., 1994 — 1995. Т. 1—3. — (Историч. библиотека). Сочинение Полибия — единственный крупный источник по I Пунической войне и один из основных по времени от II Пунической до III Пунической войны (включая, в отличие от римских авторов, войны эллинистических царств между собой). Полибий был военачальником и дипломатом и писал «прагматическую историю», которая должна была быть полезна государственному деятелю. Он пользуется, репутацией беспристрастного автора. Вследствие этого он весьма информативен и точен в области военной истории.
Полиэн. Стратегемы / Пер. с древнегреч. Д. Пападопуло. СПб., 1842. Собрание военных хитростей. Автор — македонянин, адвокат, посвятил свое сочинение в 8 кн. Марку Аврелию и Луцию Веру в связи с началом парфянской войны в 162 г. Пользовался почти исключительно греческими авторами, в т.ч. не дошедшими до нас. Есть исторические неточности. Сочинение Полиэна использовалось как учебник по военному делу в Византии.
Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига // Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996. С 87— 100. Сочинение неизвестного олигархического критика афинского государственного строя. Замечательно синтетическим подходом к стратегии, военной организации и социальному строю.
Секст Юлий Фронтин. Военные хитрости (Стратегемы) / Вступ. ст., коммент. А.А. Новикова. СПб., 1996. — (Античн. библиотека). Сочинение римского полководца и государственного деятеля второй половины I в. н.э. Еще одна коллекция военных хитростей, греческих, пунийских и римских, предназначенная служить учебником для полководцев.
Тит Ливий. История Рима от основания города: В 3 т. М., 1991 —1993. Т. 1—3. — (Памятники историч. мысли). Одно из основных римских исторических сочинений. Сохранившаяся часть охватывает периоды от основания Рима до 292 г. и с 219 по 168 г. до н.э. Ливии опирался на сочинения предшественников (в частности, Полибия), но они до нас большей частью не дошли. Он один из основных создателей «римского мифа», но тенденциозность выражается более в оценках, чем в фактах. Цифры, впрочем, надо анализировать тщательно. Военным не был.
Флавий Арриан. Диспозиция против аланов / Вступ. ст., пер. с древнегреч., коммент. С.М. Перевалова // Вестник древней истории. 2001. № 1. С. 236 — 243. Арриан — автор II в. н.э., сам военный и при том успешный писатель, ориентировавшийся на Ксенофонта. Данное сочинение написано в бытность его наместником Каппадокии и является, судя по всему, литературной обработкой приказа по армии во время кампании против кочевого племени аланов. По меткому замечанию переводчика, по стилю текст похож на диспозицию Вейротера из «Войны и мира».
Флавий Арриан. Поход Александра / Пер. М.Е. Сергеенко; предисл. О.О. Крюгера. М.—Л., 1962; М., 1993. Сочинение того же автора. Он опирался на записки одного из полководцев Александра, Птолемея, и считается основным источником по войнам Александра (впрочем, точность сообщений Птолемея поставлена под сомнение Ф. Шахермайром, удачно сравнившим их с «Записками о Галльской войне»). Преимущество труда Арриана над остальными историями Александра в том, что он сам хорошо разбирался в военном деле
Фукидид. История / Пер., коммент. Г.А. Стратановского. Л., 1981. — (Лит. памятники). «История» Фукидида описывает события Пелопоннесской войны с 431 по 412 г. до н.э., участником которой он был. Традиционно считается одним из величайших древнегреческих исторических сочинений. Сам Фукидид как полководец был неудачлив, но к его военному анализу обычно относятся с уважением. Факты и цифры Фукидида принято считать точными.
Эней Тактик. О перенесении осады / Пер., вступ. ст. В.Ф. Беляева // Вестник древней истории. 1965. Jsfel. С. 237 — 268; N 2. С. 215 — 243. Трактат греческого военачальника IV в. до н.э. Дано всестороннее описание системы обороны древнегреческого города (включая такие вопросы, как отношения с наемниками, предотвращение мятежа и измены, поддержание морального духа и дисциплины, организацию сигнализации и тайнописи и т.п.).
II. Литература
В список литературы включены работы, которые представляется возможным рекомендовать для прочтения по теме военной организации (работы, посвященные исследованию отдельных войн и сражений, а также специальные работы по вооружению в него не вошли). В список вошла лишь краткая выборка работ по истории римской армии (в частности, были исключены работы, посвященные римской армии в отдельных провинциях), так как включение их всех заставило бы издать дополнительную книгу. Также исключены книги, которые недоступны в российских библиотеках (некоторые из них все же указаны в сносках).
По всем темам стоит также обращаться к главам в соответствующих томах «The Cambridge Ancient History» (1-е изд. — Cambridge, 1928—1939; 2-е и 3-е — Cambridge, 1970) и к статьям в «Real-encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft» Паули и Виссовы, обычно являющимся своего рода мини-монографиямй.
Общие работы
Голицын Н.С. Всеобщая военная история древних времен: В 5 ч. СПб., 1872—1876. Незаслуженно забытый капитальный труд на русском языке. Автор — генерал-лейтенант, преподаватель Академии Генерального штаба, получил хорошее классическое образование. Даны очерки по народам Древнего Востока, но основное внимание уделено Греции и Риму. Книга богато снабжена картами и планами. Местами страдает чрезмерным доверием к античной литературной традиции (так, поход Кира на Лидию дан по роману Ксенофонта «Киропедия»).
Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории: В 4 т. / Пер. с нем., прим. В.И. Авдиева. СПб., 1994. Т. 1: Античный мир; Т.2: Германцы. — (Историч. библиотека). Этот труд, относящийся к самому началу нашего века, до сих пор остается основной обобщающей работой по военной истории древнего мира и Средних веков. Однако он не лишен и серьезных недостатков, основными из которых являются гиперкритицизм, вообще свойственный немецкой науке рубежа веков, и склонность к преувеличению военных достижений древних германцев. Необходимо также отметить избирательность труда Дельбрюка.
Коннолли Я. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. Пер. с англ. С. Лопуховой, А. Хромовой; предисл. Х.Х. Скалларда. М., 2000. Очень неплохой справочник, особенно в части оружия и осадных машин.
Разин Е.Л. История военного искусства. XXXI в. до н.э. — VI в. н.э. СПб., 1999. — (Военно-историч. библиотека). Первый том четырехтомной «Истории военного искусства», наиболее известной у нас в стране. Дан обзор военной истории (включая важнейшие сражения) от разложения первобытно-общинного строя до времени Юстиниана. Работа не лишена недостатков — некоторые периоды освещены совершенно недостаточно (например, период империи в Риме), есть советские идеологические штампы, но в целом сделана вполне основательно.
Armees et fiscalite dans le monde antique: Actes de colloque (Paris, 14 — 16 octobre 1976). — P., 1977. Сборник докладов коллоквиума по организации и финансированию военного дела, проводившегося парижским Центром Глотца. В докладах подверглись рассмотрению практически все периоды истории античности (от крито-микенского периода до Поздней Римской империи).
Kromayer J., Veith G. Heerwesen und Kriegfuhrung der Griechen und Romer. — München, 1928. Последнее издание классической немецкой работы по античной военной организации. Данные в ней во многом устарели, особенно в части римской армии, эпиграфические и археологические данные о которой поступают постоянно.
Древняя Греция и эллинизм
Блаватский В. Д. Битва при Фате и греческая тактика IV в. до н.э. // Вестник древней истории. 1946. №1. С. 101 —106.
Блаватский В.Д. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1954. В работах Блаватского с привлечением обширной источниковой базы и археологического материала исследовано военное дело греческих государств Северного Причерноморья и их степных соседей, включая римский период.
Болдырев А. В., Боровский Я.М. Техника военного дела и мореходства // Эллинистическая техника: Сб. статей. М.— Л., 1948. С. 267 — 343. Чрезвычайно тщательное исследование всех сторон поднятой темы: фортификации и осадные машины, применение боевых слонов, корабли грузовые и военные и т.д.
Латышев В.В. Очерк греческих древностей: В 2 ч. 4.1: Государственные и военные древности. СПб., 1997. (Античн. библиотека). Пособие, составленное знаменитым русским античником для помощи в чтении древних авторов. Даны довольно подробные сведения по военной организации в Афинах и в Спарте.
Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса. М., 1975. Классическая для отечественной историографии работа по формированию и сущности явления наемничества в позднеклассический период.
Шахермайр Ф. Александр Македонский Пер. с нем. М.Н. Ботвинника, Б. Функа. М., 1984. Хотя основной темой этой монографии военное дело не является, но все же там дан ряд полезных сведений по организации армий Филиппа и Александра.
Adcock F.E. The Greek and Macedonian art of war. — Berkeley; Los Angeles, 1957. Короткое, но вполне качественное пособие по греко-македонскому военному делу.
Anderson J.К. Military theory and practice in the age of Xenophon. — Berkeley; Los Angeles, 1970. Капитальное исследование военной организации, вооружения и военной истории в период от Пелопоннесской войны до битвы при Мантинее (362 г. до н.э.), сделанное на материале письменных и археологических источников.
Jordan В. The Athenian Navy in the Classical Period: A Study of Athenian Naval Administration and Military Organisation in the Fifth and Fourth Centuries B.C. — Berkeley; Los Angeles; L., 1975. Исследование афинского флота от греко-персидских войн до македонского завоевания с организационной точки зрения.
Pritchett W.K. The Greek State at War: In 5 vol. Berkeley; Los Angeles; L., 1979 — 1991. Подробнейшее исследование древнегреческой военной организации и всех сторон жизни полиса, связанных с ней (от налогов до религиозных обрядов).
Tarn W.W. Hellenistic Military and Naval Developments. — Cambridge, 1930. Небольшая, но чрезвычайно насыщенная книга по военному делу эллинистического периода. Основное внимание уделено кавалерии и военной технике.
Древний Рим
Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи. М., 1995. С. 87 — 290. Интерес для нашей темы представляет часть вторая этой монографии — «Римская армия и ее лидер по данным нумизматики», в которой дается ряд интересных сведений по римской военной идеологии.
Глушанин Е.П. Военные реформы Диоклетиана и Константина / Вестник древней истории. 1987. №2. С. 51 —73. Новейший анализ формирования военной организации Домината в отечественной историографии.
Колобов А.В. Римские легионы вне полей сражений: (Эпоха ранней Империи): Учеб. пособие по спецкурсу Пермск. гос. ун-т; науч. ред. И.Л. Маяк. Пермь, 1999. Описаны, на вполне неплохом уровне, римская военная организация и повседневная жизнь легионов в период от Августа до Антонинов. В приложениях даны словарь латинской военной терминологии и полный список легионов с местами их расквартирования.
Коптев А. В. Правовой механизм передачи царской власти в архаическом Риме и сакральные функции трибуна целеров //IVS ANTQWM: Древнее право. №1(2). - 1997. С. 24-33. Оригинальная концепция эволюции высшей военной власти в архаическом Риме. В данном обзоре она, как не вполне утвердившаяся, не использовалась, но заслуживает внимания.
Махлаюк А. В. Армия Римской империи: Очерки традиций и ментальности. Нижний Новгород, 2000. Еще одна новая отечественная монография по римской армии: Посвящена армии как социальному организму и вопросам внутриармейской этики.
Покровский М.М. Военное дело у римлян во времена Цезаря // Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. М., 1993. С. 502 — 512. Краткий, но чрезвычайно тщательный очерк. Дана организация войска, сведения о его боевом построении и вооружении, приведена латинская терминология. Впрочем, автора можно обвинить в чрезмерном доверии к сообщениям Цезаря.
Скрипилев Е.А. К постановке проблем военного права древнего Рима // Военно-юридическая академия Советской Армии. Тр. Вып.10. М., 1949. С. 104—185. Обзор развития jus militare от царского Рима до времен Империи. К недостаткам работы можно отнести значительное число идеологических штампов сталинских времен и увлечение теорией Марра, но тем не менее она представляет немалый интерес, хотя бы как единственная значительная отечественная работа такого рода.
Смышляев А.Л. Об эволюции канцелярского персонала Римской империи в III в н.э. // Вестник древней истории. 1979. №3. С. 60-81. Исследование роли армии в административном аппарате позднего Принципата (прежде всего при Северах).
Токмаков В.Н. Военная организация Рима Ранней республики (VI —IV вв. до н.э.) / ИВИ РАН; отв. ред. И.Л. Маяк. М., 1998. Работа посвящена развитию центуриатного строя от реформы Сервия Туллия до первой половины IV в. Многие выводы автора спорны, но работа безусловно представляет большой интерес
Утченко С.Л. Римская армия в 1 в. до н.э. // Вестник древней истории. 1962. №4. С. 30 — 47. Работа известнейшего отечественного специалиста по кризису Римской республики.
Холмогоров В.И. Римская стратегия в IV в. н.э. у Аммиана Марцеллина / Вестник древней истории. 1939. №3. С. 87 — 97. Попытка стратегического анализа борьбы римлян с европейскими варварами по Аммиану. Страдает идеологическими штампами, но сделана тщательно. Опровергает некоторые тезисы Дельбрюка.
Breeze D.J. The Career Structure below the Centurionate // Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. — T.2: Principat. — B.1. — В.; N.Y., 1974. — S.435 — 451. Одно из классических исследований по младшему командному составу армии Принципата. Уточняет выводы, сделанные ранее Домашевским (см. ниже).
Davies R.W. The Daily Life of the Roman Soldier under the Principate // Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. — T.2: Principat. - B.1. - В.; N.Y.,1974. - S.299-338. Исследование каждодневных обязанностей римского солдата в мирное время, основанное на богатом эпиграфическом и документальном материале, в частности, расписаниях нарядов в легионах. Многие выводы повторены в [36].
Dobson В. The Significance of the Centurion and 'Primi pilaris' in the Roman Army and Administration // Aufstieg und Niedcrgang der rumischen Welt. - T.2: Principat. - B.1. - В.; N.Y.,1974. -S.392 —434. Неплохое исследование роли и карьеры центурионов при Принципате.
Domaszewsky A. von. Die Rangordnung des romischen Heeres. — 2. durchges. Aufl. / Bearb. von B. Dobson. — Koln; Graz, 1967. Классическое исследование организации и табели о рангах римской армии времен Принципата (1-е изд. — Бонн, 1908), положившее начало современному этапу в изучении этой темы и в основном не устаревшее и по сию пору.
Durry M. Les cohortes pretoriennes. — P., 1938. Работа, до сих пор остающаяся основным исследованием по преторианской гвардии.
Jones A.H.M. The later Roman Empire, 284 — 602: A social, economic and administrative survey: In 3 vol. Oxford, 1964. — Vol.2. — P.607 —686. Обзор позднеримской армии в основном на сей день общем труде по истории институтов Поздней Римской империи.
Le Bohec Y. L'armee romaine sous le Haut-Empire. — P., 1989. Основная на сей момент книга на французском языке по армии периода принципата.
MacMullen R. Soldier and Civilian in the later Roman Empire. Cambridge (Mass.), 1963. Исследование эволюции отношений армии и гражданского населения Империи в период 200 — 400 гг., принадлежащее крупнейшему современному специалисту по Поздней Империи.
Southern P., Dixon K.R. The Late Roman army. New Haven; L., 1996. Новейшее исследование позднеримской армии (от Марка Аврелия до Юстиниана). Содержит, в дополнение к сведениям о структуре и истории армии, богатый археологический материал по вооружению.
Starr C.G. The Roman Imperial Navy, 31 B.C. A.D. 324. N.Y., 1941. Одно из немногих существующих исследований римского флота. В приложении даны просопография префектов флота и карта основных гаваней.
Часть II
I. Публикации источников (на русском языке)
Так же как и для предыдущей статьи этого издания, подбор источников для этой работы был затруднен несколькими обстоятельствами. Во-первых, крайне сложно найти хотя бы один источник по истории Средних веков, в котором не затрагивалась бы тема войны; во-вторых, в отличие от античности в Средние века практически не существовало сочинений, посвященных конкретно военному делу, либо истории какой-либо конкретной войны (исключение составляет византийская традиция, в рамках которой были созданы «Войны» Прокопия Кесарийского, а также сочинения по тактике и стратегии псевдо-Маврикия, Кекавмена и прочих); наконец, в-третьих, ситуация с источниками по истории Средних веков, переведенными на русский язык, оставляет желать много лучшего. Все это вместе обуславливает тот факт, что ниже приводится лишь небольшая подборка источников, которые мы можем порекомендовать для чтения по теме статьи. Характеристика источников дана только с точки зрения военной истории. Более подробные сведения см.: Люблинская А.Д. Источниковедение истории Средних веков. Л., 1955; Бибиков М.В. Историческая литература Византии. СПб., 1998. — (Визант. библиотека).
Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / Пер. М.В. Левченко. М., 1996. — Сочинение продолжателя Прокопия Кесарийского посвящено описанию войн полководца Нарсеса против готов, вандалов, франков и персов и содержит богатую информацию о византийском военном искусстве второй половины VI века. Однако Агафий не был военным человеком и его изложение военных событий иногда страдает неточностью.
Анна Комнина. Алексиада / Пер. с греч. Я.Н. Любарского. СПб., 1996. (Визант. библиотека). Несмотря на риторический стиль и отсутствие у самого автора какого-либо опыта в военном деле, это сочинение остается важным источником по военной истории Византии в эпоху Комнинов.
Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975. Источник создан в X веке монахом Новокорвейского монастыря. Даны сведения преимущественно политического характера, войны описаны коротко (в стиле Veni, vidi, vici), однако встречаются описания вооружения и военной одежды саксов, есть сведения о принципе комплектования саксонской армии, о наличии у саксов военного флота, кавалерии и осадных орудий.
Виллардуэн, Жоффруа де. Завоевание Константинополя / Пер., ст., коммент. М.А. Заборова. М., 1993. — (Памятники историч. мысли). Воспоминания одного из руководителей IV Крестового похода. Содержатся данные по организации, численности и вооружению крестоносного воинства.
Греческие полиоркетики. Флавий Вегеций Ренат / Предисл А.В. Мишулина; коммент. А.А. Новикова. СПб., 1996. — (Античн. библиотека). Подробный комментарий к этому источнику см. выше в библиографии к статье по античной армии. Можно лишь добавить, что сочинение Вегеция было наиболее авторитетным для средневековых мыслителей трактатом об устройстве армии, — в идеальном легионе Вегеция они видели идеальную модель построения средневекового рыцарского войска.
Дигесты Юстиниана. Kh.XLIX. Tht.XVI. О военном деле / Пер. И.И. Яковкина // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 591 — 598. Комментарий к данному источнику см. в библиографии к статье по античной армии. Можно добавить, что военное право «Дигест» не только сохранило свою актуальность ко времени Юстиниана, но и было воспринято и использовано потом многими европейскими законодателями эпохи Средних веков (например, королем Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрым) при составлении своих законов.
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. «Getica» / Пер., вступ. ст., коммент. Е.Ч. Скржинской. СПб., 1997. — (Визант. библиотека). С. 98—102. Из этого труда можно порекомендовать только описание Иорданом знаменитой битвы на Каталаунеких полях, ставшее для многих средневековых хронистов образцом для подражания при описании битв.
Клари, Роберде. Завоевание Константинополя / Пер., ст., коммент. М.А. Заборова. М., 1986. — (Памятники историч. мысли). Автор — один из простых рыцарей, состоявших в войске крестоносцев, штурмовавших Константинополь в 1204 г., чем и объясняется некоторая неполнота и субъективность сведений источника. Тем не менее в тексте хроники содержатся сведения о численности рыцарских отрядов, о стоимости найма кораблей для перевозки войска, о структуре рыцарского войска.
Коммин, Филипп де. Мемуары / Пер., ст., примеч. Ю.П. Малинина. М., 1986. — (Памятники историч. мысли). Автор — профессиональный военный и дипломат, сначала служил под началом герцога Бургундии Карла Смелого, потом перешел на сторону короля Людовика XI и стал его советником по делам войны с Бургундией. В его труде содержится масса информации, необходимой для исследования французской армии сер. — 2-й пол. XV в., ее структуры, вооружения, тактики и стратегии.
Константин Багрянородный. Об управлении империей / Пер. Г.Г. Литаврина. М., 1991. — (Древнейшие источники по истории Восточн. Европы). Сочинение византийского императора, написанное в 913 — 959 гг. Содержит многочисленные сведения по византийской дипломатии, военной организации, отношениям с соседними народами, а также и по военной технике (описание греческого огня).
Кулаковский Ю.А. Византийский лагерь конца X в. // Византийская цивилизация в освещении российских ученых, 1894 — 1927. М., 1999. С. 189 — 216. Комментированная публикация очень тщательно написанного небольшого византийского трактата к X в. «De castrametatione» («О разбивке лагеря»). Снабжена схемами византийского лагеря. Впервые опубл.: Византийский временник. Т. 10. М, 1903. С. 63-90.
Маврикий. Тактика и стратегия: Первоисточник соч. о воен. искусстве имп. Льва Философа и Н. Макиавелли / Пер. с лат. Цыбышева; предисл. Н.А. Гейсмана. СПб., 1903. Основополагающее византийское сочинение по стратегии рубежа V —VI вв. Его принадлежность императору Маврикию (582 — 602) оспаривается современными учеными. Особый интерес представляют первое в европейской военной литературе упоминание стремян, а также сведения по военному делу древних славян. Есть более доступное сокращенное изд.: Псевдо-Маврикий. Статегикон / Пер. Цыбышева под ред. Р.В. Светлова // Искусство войны: Антология военной мысли. СПб., 2000. Т. 1. С. 285-378.
Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / Изд. подгот. В.И. Матузова. М., 1997. Сочинение, рассказывающее о войнах Тевтонского ордена в Пруссии с точки зрения крестоносцев. Чрезвычайно ценный источник по духовно-рыцарским орденам, великолепно переведенный и откомментированный.
Песнь о Нибелунгах: эпос / Пер. Ю. Корнеева; вступ. ст., коммент. А.Я. Гуревича. СПб., 2000. Знаменитый старогерманский эпос. Отсюда можно почерпнуть как сведения относительно вооружения, так и по поводу стратегии средневекового войска (в частности, относительно использования разведки).
Песнь о Роланде: по Оксфордскому тексту / Пер. Б.И. Ярхо. — М. — Л.: «Academia», 1934. Из этого текста можно брать сведения о вооружении рыцарей, о тактике боя (устройство засад и пр.), а также о структуре войска. Не надо обращать внимание на численность войск, указываемую в «Песне...».
Песнь о Сиде: Староиспанский героический эпос / Пер. Б.И. Ярхо, Ю.Б. Корнеева; изд. подгот. А.А. Смирнов. — М.—Л., 1959. — (Лит. памятники). Текст источника датируется серединой XII века и содержит ценные сведения о военном искусстве XI —XII веков, о методах ведения осады, о численности войск (в отличие от «Песни о Роланде» этот памятник дает достоверную информацию по этому предмету, подтверждаемую данными других источников), о вооружении и снаряжении рыцарей.
Прокопий Кесарийский. Война с готами: В 2 т. / Пер. С.П. Кондратьева. М., 1996. Т. 1—2.
Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / Пер., ст., коммент. А.А. Чекаловой. СПб., 1998. — (Визант. библиотека). Прокопий Кесарийский — профессиональный историк времени императора Юстиниана, создавший цикл исторических произведений «История войн», посвященный войнам Византийской империи при этом императоре. В этот цикл вошли уже названные выше сочинения «Война с готами», «Война с персами» и «Война с вандалами». Характерной особенностью этих произведений является глубокое знание Прокопием описываемого предмета — он долгие годы был личным секретарем крупнейшего полководца Юстиниана, Велисария, и сопровождал его в походах, а потому имел непосредственную возможность наблюдать ход военных действий. Особенно удачны у Прокопия описания осад городов (причем как с точки зрения осаждающего, так и с точки зрения осажденного). Сведения автора о численности и структуре византийского войска подтверждаются другими источниками, а потому могут считаться достоверными.
Прокопий Кесарийский. О постройках / Пер. С.П. Кондратьева // Ол же. Война с готами: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 138-288. Это сочинение Прокопия содержит богатую информацию о строительной политике императора Юстиниана, в частности — о военном строительстве той эпохи. Подробно освещены принципы византийской фортификации, названы практически все крепости, построенные при Юстиниане.
Рихер Реймсский. История / Пер., коммент., ст. А.В. Тарасовой. М., 1997. Из этого сочинения можно почерпнуть информацию о вооружении войска и приемах ведения боя в конце X —XI вв., о применении разведки в военных действиях. В свою очередь, сведения о структуре франкского войска у Рихера нельзя назвать заслуживающими доверия — разделение войска на легионы и когорты Рихер явно позаимствовал у римских авторов, а конкретнее — у любимого им Саллюстия.
Сага о Сверрире / Изд. подгот. М.И. Стеблин-Каменский и др. — М., 1988. — (Лит. памятники). История междоусобных войн в Норвегии в XII —XIII вв. Продолжает «Круг Земной» Снорри Стурлусона (см. ниже), содержит подробные сведения по военному делу, которое и после окончания эпохи викингов продолжало в Норвегии сильно отличаться от остальной Западной Европы.
Саксонское зерцало / Отв. ред. В.М. Корецкий. М., 1985.
Салическая Правда / Пер. Н.П. Грацианского. М., 1950. Эти два памятника писаного обычного права германских народов внесены в список источников как типичные представители «варварских Правд». Из них, как правило, нельзя почерпнуть реальной информации о военном деле, но зато там содержится информация о стоимости доспехов и вооружения, что создает представление о социальном положении воина в германском варварском обществе.
Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот. А.Я. Гуревич и др. М., 1980. — (Лит. памятники). Классическое собрание саг о «правителях, которые были в Северных Странах и говорили на датском языке», созданное в Исландии в 1-й пол. XIII в. Изложение доведено с древнейших времен до 1177 г. Применительно к военной истории, здесь содержится информация о военном деле викингов, об их завоевательных походах, военных хитростях и вооружении, о механизме комплектования норманнской армии.
Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI в. / Подгот. текста, введ., пер., коммент. Г.Г. Литаврина. М., 1972. — (Памятники средневековой истории народов Центр, и Вост. Европы). Источник написан в 1070-е гг. Содержит советы по руководству войском (около четверти объема), а также житейские наставления, которые дают представить византийскую военную аристократию, и к тому же зачастую проиллюстрирована примерами из области военного дела. Один из основных источников по византийской военной истории. Единственная рукопись хранится в Рукописном отделе ГИМ в Москве.
II. Литература
Ниже приводится литература по истории средневековой армии, рекомендованная для прочтения. Нами были отобраны лишь общие работы, что объясняется двумя основными факторами: необычайным обилием работ, посвященных частным вопросам военного искусства средневековой Европы, вышедших на Западе, с одной стороны, и малой доступностью для отечественного читателя работ по национальным военным историям стран Западной Европы — с другой. Почти все представленные ниже работы обладают хорошей библиографией, позволяющей читателю легко осуществить дальнейший поиск литературы.
Винклер П. фон. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века. М., 1992. Неплохой справочник по части средневекового вооружения, хорошо подобранный иллюстративный ряд, сопровождаемый профессиональным комментарием.
Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966. — (Научно-популярн. серия АН СССР). Хотя эта книга написана и не военным историком, но содержит многочисленные сведения по военному делу и военной организации викингов, а также фотографии кораблей и оружия. Автор — один из крупнейших отечественных скандинавистов.
Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. В 4 т. СПб., 1994 — 1996. Т. 2-3. Относительно этого издания см. аннотацию к нему, данную в предыдущей статье.
Дюпюи Т.Н., Дюпюи Р.Э. Всемирная история войн: Харперовская энциклопедия военной истории. — СПб.; М., 1997. Кн. 1—2. Этим изданием можно пользоваться только для получения начальной минимальной информации по интересующему предмету. Сведения, здесь собранные, касаются, в первую очередь, вопросов тактики средневековых армий на примере знаменитых битв. В издании приведены схемы битв и прочий иллюстративный материал.
История крестовых походов / Под ред. Д. Райли-Смита. М., 1998. Издание представляет собой перевод на русский язык одного из лучших трудов по истории крестовых походов, подготовленного в Оксфордском университете. Отдельно необходимо отметить главы, посвященные военно-монашеским орденам, в которых подробно разбирается не только военное искусство орденов, но и их внутренняя организация, место в обществе и политике. Также нужно сказать, что в книге отдельно затронуты вопросы снабжения и перевозки армий во время крестовых походов, ранее исследовавшиеся довольно мало. Отличительную черту книги составляет богатый иллюстративный материал.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. Сретенск, 2000. В этой работе представляется возможным рекомендовать для прочтения вторую и третью части, посвященные формированию идеологии средневекового христианского рыцарства и военному искусству европейцев (преимущественно — франков, византийцев и их союзников) периода VI —IX веков, т.к. точка зрения автора на предысторию рыцарства, и в частности его военного искусства, изложенная в первой части книги, весьма спорна и неоднозначна. К сожалению, также необходимо отметить, что в русском переводе этой книги снят весь историографический материал, научная полемика и сноски на источники, что, безусловно, лишает многие утверждения автора изрядной доли доказательности.
Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в X — XI вв. М., 1977. С. 236-259.
Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. СПб., 1997. — (Визант. библиотека). С. 120— 143. Очерки военного дела в Византии центрального периода ее истории (IX —XII вв.), написанные одним из крупнейших отечественных византинистов (вторая из этих двух книг — научно-популярная).
Мельвиль М. История ордена тамплиеров / Пер. с фр. Г.Ф. Цыбулько. СПб., 1999. — (Clio). Добротное исследование истории одного из наиболее известных духовно-рыцарских орденов.
Разин Е.А. История военного искусства. СПб., 1999. Т. 2. — (Военно-историч. библиотека). Работа сделана вполне основательно, и если не обращать внимания на многочисленные советские штампы, то можно назвать ее одним из наиболее полных произведений по военной истории Средних веков на русском языке. В книге дан богатый иллюстративный материал, из которого наиболее интересны схемы основных сражений Средневековья.
Флори Ж. Идеология меча: Предыстория рыцарства. СПб., 1999. — (Clio). Как следует из названия, эта работа посвящена формированию идеологии христианского рыцарства и становлению его социальной структуры. Одна из лучших работ, посвященных идеологии рыцарства, сопровождаемая к тому же довольно полной библиографией по вопросам военной истории Средних веков.
Яковлев В.В. История крепостей: Эволюция долговременной фортификации. СПб., 1995. — Гл. IV —XII. С этим изданием лучше обращаться с осторожностью — профессиональное исследование фортификаций IX—XVII вв. сопровождается более чем сомнительными историческими комментариями.
Beeler J. Warfare in the feudal Europe: 730 — 1200. Ithaca (N.Y.), 1971. В работе известного английского исследователя рассматривается военное дело стран Западной Европы от эпохи Каролингов до периода расцвета военного феодализма. Отдельные главы посвящены развитию и характерным особенностям военного искусства в норманнской Италии, южной Франции и христианской Испании. Отличительной чертой работы является доступность изложения материала, не влияющая, впрочем, на его полноту.
Contamine Ph. La guerre au Moyen Age. P., 1980; 1999. (Nouvelle Clio: L'histoire et ses problemes). Уже много лет этот труд по праву считается классическим в области изучения военной истории Средних веков. В книге освещено развитие армии и военного искусства в странах Западной Европы и в государствах Латинского Востока в период V —конец XV вв. Отдельное внимание уделено эволюции вооружения, появлению и развитию артиллерии, а также связи войны с различными сторонами жизни средневекового общества. Великолепный научно-справочный аппарат, важнейшее место в котором занимает список источников и литературы общим объемом более ста страниц, дает основание рекомендовать это произведение всем желающим ознакомиться с историей военного дела Средних веков.
Lot F. L'art militaire et les amines au Moyen Age en Europe et dans le Proche Orient: 2 vols. P., 1946. Классическая работа по истории военного искусства, выдержавшая уже несколько изданий и до сих пор не потерявшая своей актуальности. Особое место в книге уделено сопоставлению военного искусства христианских армий и мусульман в период крестовых походов.
Medieval warfare: A history / Ed. by Maurice Keen. Oxford, 1999. Книга разделена на две основные части, в первой из которых в хронологическом порядке рассматривается история военного дела Европы и Латинского Востока, начиная от Каролингов и заканчивая Столетней войной, а вторая содержит несколько глав, посвященных рассмотрению отдельных вопросов: искусство осады в Средние века, вооружение средневековых армий, наемничество, военный флот в Средние века и появление пороховой артиллерии и регулярных армий. Книга богато иллюстрирована, снабжена хронологическими таблицами и прекрасным библиографическим указателем.
Menendez Pidal R. La Espaca del Cid: 2 vols. Madrid, 1929. Прекрасная работа испанского филолога, посвященная Испании периода XI — XIII веков. Армия рассматривается как неотъемлемая часть испанского средневекового общества, показывается ее структура, основы ее военного искусства, ее вооружение. Вопреки названию, работа основана далеко не только на материале «Песни о Сиде», но и на прочих источниках.
Nicolle D. Medieval warfare: Sourcebook: In 2 vols. L., 1995 — 1996. Vol.1 —2. Обобщающий сводный труд, посвященный военному делу Средневековой Европы, начиная от эпохи Великого переселения народов до начала Великих географических открытий. В первом томе описано военное дело в пределах Европы, во втором идет речь о военных мероприятиях европейцев в других странах. Характерными особенностями работы являются, во-первых, ее четкая структура, а во-вторых, богатейший иллюстративный материал (в каждом томе на 320 страниц текста приходится 200 иллюстраций), делающий книгу практически незаменимой для изучения военной истории Средних веков.
Oman C.W.C. The art of war in the Middle Ages: A.D. 378-1515 / Rev. ed. by J.H. Beeler. Ithaca (N.Y.), 1963. Пятое издание одной из самых популярных в Европе книг по военной истории. Созданная в конце XIX века, она по-прежнему привлекает к себе читателей доступностью и, в хорошем смысле слова, популярностью изложения. В книге уделено внимание военной стороне распада Римской империи, Великому переселению народов, отдельные главы посвящены военному развитию Византии в VI —XI вв., Швейцарии в 1315 — 1515 гг. и Англии в XIII —XV вв. В заключении автор пишет о военном деле государств Восточной Европы XV в., включая Оттоманскую Порту. Книга снабжена хронологическими таблицами.
Prestwich M. Armies and warfare in the Middle Ages: The English experience. New Haven; L., 1996. Книга интересна тем, что автор отдельно концентрирует внимание на роли пехоты в Средние века, подробно рассматривает проблему военных коммуникаций, проблемы стратегии (в частности — использование разведки в Средние века). Интересен также один из основных выводов автора — он сомневается в реальности так называемой «средневековой военной революции», приведшей к увеличению роли кавалерии в бою, и считает, что роль пехоты в средневековой армии сильно недооценивалась предшествующими историками. Книга богато иллюстрирована.
Части III и IV
Война за Независимость, как и Гражданская в Северной Америке, является для отечественного читателя своеобразным белым пятном. Когда заходит речь о событиях конца XVIII века, первое, что приходит в голову — это «Золотой Век» Екатерины и русско-турецкие войны. Потом начинает вспоминаться Великая французская революция и переход Суворова через Альпы. Помимо всего прочего, история революционной и бонапартистской Франции весьма подробно изложена в сочинениях З. Манфреда и профессора Е. Тарле. Наиболее доступной работой по истории войны 1812 года является книга П. А. Жилина «Отечественная война 1812 года» (М., 1988, ранее выходила также под названием «Гибель наполеоновской армии в России»)
Но при этом все происходившее в Северной Америке неизменно остается как бы «за кадром». Нельзя даже обвинять в этих пробелах школьную программу: нам всем честно об этом рассказывали, и в учебниках все происходившее надлежащим образом освещено. Но факт остается фактом — за этими пределами мы знаем очень и очень мало.
По истории Гражданской войны в САСШ можно порекомендовать следующие отечественные издания:
Моль К. Гражданская война в США (1961 — 1965). Минск: Харвест; М.: ACT, 2000. Эта книга носит сугубо компилятивный характер и к тому же освещает события достаточно односторонне — но тем не менее является одной из немногих доступных работ, посвященных данной теме.
Иванов Р. К столетию гражданской войны в США, М., 1961. Книга дает краткое, но однородное изложение событий на суше, почти не касаясь морских и речных операций. Вопросы экономики и материального обеспечения войск почти не рассмотрены. Несмотря на малый объем, содержит много интересных сведений и фактов.
Кормилец A., Поршаков С. Кризис двухпартийной системы США накануне и в годы гражданской войны. М.: Издательство Московского университета, 1987. Одна из немногочисленных работ, излагающих не столько военную, сколько политическую историю США пятидесятых и шестидесятых годов XIX века.
Альтернативным вариантам истории XIX века, и в частности Гражданской войны в США, посвящено немало книг. В одном из последних романов Гарри Гаррисона Север и Юг объединяются для совместной борьбы против британского империализма. Можно также вспомнить книжку под названием «Бесцеремонный Роман» И. Гришгорна, Г. Келлера и Б. Липатова, написанную в середине 20-х годов и переизданную в 1991-м. Ее герой помогает Бонапарту выиграть сражение при Ватерлоо, а затем перекраивает Европу на революционный лад. А в повести Андрея Аникина «Смерть в Дрездене» (сборник «Вторая жизнь». М., 1987) вместо умершего Наполеона поход в Россию возглавляет Евгениий Богарнэ.
Часть V
Франко-прусская война 1870— 1871 гг. подробно рассмотрена у старшего (или Великого) Х. Мольтке («История германо-французской войны 1870— 1871 гг.», выпускавшаяся у нас «Воениздатом» в 1937 году). Представляет интерес также версия Ф. Энгельса, которую можно найти в любом собрании сочинений классиков. Политическое обрамление событий подробно освещено в мемуарах Отто фон Бисмарка. Краткую французскую версию излагает французская «История XIX века», изданная в русском переводе под редакцией Тарле в 1937 году. Наконец, этой важной войне посвящены целые главы и разделы в многочисленных «Историях военного искусства». (Хорошее изложение дано, в частности, у Строкова). Впрочем, чтобы составить «окончательное мнение» о набросках Джеймса Чэйса, можно ограничиться и чтением «Битвы железных канцлеров» В. Пикуля. Что же до работ непосредственно о Великой Войне, то наиболее известной и популярной книгой, посвященной начальному ее периоду, являются знаменитые «Августовские пушки» Барбары Такман (в частности, ей пользовался и Роберт Коули). В 1999 году эта книга была выпущена в «Военно-исторической библиотеке» под названием «Первый блицкриг». Марнской битве посвящено и фундаментальное исследование М. Галактионова «Темпы операций», выходившее также под названием «Париж, 1914». В качестве обзорных работ можно порекомендовать книгу А. Зайончковского «Мировая война 1914-1918» (М., 1938 и СПб., 2000) или двухтомник «История Первой Мировой войны» под редакцией И. Ростунова, вышедший в издательстве «Наука» в 1975 году.
Части VI и VII
Список литературы, посвященной Второй Мировой войне, ее причинам и последствиям, невероятно обширен и вряд ли стоит приводить его здесь полностью или частично. Альтернативная ее история на Западе тоже довольно популярна — см. выходившие в нашей серии сборники «Вторжение, которого не было» и «Упущенные возможности Гитлера». Но для отечественного читателя до самого последнего времени эта тема была достаточно непривычной. Хотя еще в 1967 году была издана небольшая повесть Севера Гансовского «Демон Истории», в которой скупо, но весьма профессионально описан альтернативный вариант нацистского режима, а война начинается нападением на Чехословакию. Из современных отечественных произведений следует в первую очередь упомянуть «Иное Небо» А. Лазарчука. Более поздний, развернутый вариант этой повести («Все способные держать оружие») посвящен уже на только альтернативной Второй Мировой войне, но и альтернативной Третьей Мировой...
Напротив, составить список литературы, посвященной Третьей Миовой войне, чрезвычайно сложно. Многие «локальные конфликты» второй половины XX века исследованы достаточно хорошо — но цельной работы, которая анализировала бы их в комплексе (то есть именно как сражения единой войны, подчинявшиеся общим тенденциям и закономерностям), не существует до сих пор. Тем не менее на русском языке выходил ряд книг, так или иначе исследовавших системные аспекты глобального противостояния сверхдержав. Официальная американская точка зрения 1950-х годов наглядно изложена в работе бывшего министра ВВС США Т.К. Финлеттера «Сила и политика» (М.: Издательство иностранной литературы, 1956). Вышедшая в 1954 году, эта книга в популярной форме рассказывает, как и для чего Соединенные Штаты борются против коммунизма во всем мире. При ее чтении можно заметить, что представленные в настоящем сборнике мнения американских историков и политологов с тех пор ушли вперед не слишком далеко.
А. Паршев, автор книги «Почему Россия не Америка?» (М., 2001), не является историком, политиком или дипломатом. Он просто экономист, и его работа с точки зрения экономики весьма популярно, хотя зачастую на нетривиальном материале, излагает многие неочевидные аспекты, определившие ход и характер Третьей Мировой войны.
А вот мемуары бывшего первого заместителя министра иностранных дел СССР Г.М. Корниенко «"Холодная война": свидетельство ее участника» (М.: Международные отношения, 1994) являются одной из немногих работ, в которой дается не только описание ряда ключевых «сражений» этой войны (начиная с 1940-х годов), но и их комплексный анализ. Книга особенно ценна тем, что автор постоянно дублирует свои воспоминания «взглядом с другой стороны», информацией из описывающих те же события западных источников — иногда полемизируя с ними, иногда дополняя их. Главным ее недостатком является ничтожный тираж — 1000 экземпляров.
Описанию начального периода Третьей Мировой на Дальнем Востоке посвящены следующие издания:
Кравцов И. Агрессия американского империализма в Корее. 1945-1951. М., 1951
Эта книга, изданная с очевидно пропагандистскими целями, содержит неожиданно интересный материал, почерпнутый из американской прессы тех лет.
Блейк Джордж. Иного выбора нет. М.: Международные отношения, 1991
Воспоминания перебежчика — британского дипломата и сотрудника «Интеллидженс Сервис» в Корее, который почему-то захотел воевать на другой стороне.
Сапожников Б. Народно-освободительная война в Китае (1946-1955 гг.). М.: Воениздат, 1984
Судя по всему, эта не слишком содержательная работа является единственной отечественной монографией, посвященной событиям в Китае во второй половине 1940-х годов.
По дорогам Китая. 1937 — 1945. Воспоминания. М.: Наука, 1989.
Особенно ценна вторая часть этой книги, где помещены воспоминания советских военных, находившихся в Маньчжурии в 1945-1946 годах.
Биографический указатель
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (Augustus Gaius Iulius Caesar Octavianus), урожд. Гай Октавий [23.9.63 г. до н.э., Рим — 19.8.14 г. н.э., Нола, Италия]. Первый римский император. Внучатый племянник Юлия Цезаря, который усыновил его в завещании. Выступил на политическую арену после смерти Цезаря. В 43 — консул (занимал этот пост 13 раз), с 43, совместно с лидерами цезарианцев Антонием и Лепидом, триумвир для устроения республики. В 42 совместно с Антонием разбил убийц Цезаря при Филиппах, в 36 разгромил пиратский флот Секста Помпея и низложил Лепида, в 31—30 разгромил Антония и поддержавшую его царицу Египта Клеопатру, завершив тем самым гражданские войны. После победы объявил о «восстановлении Республики», в ответ на что сенат 16.1.27 присвоил ему титул Августа (священного) и ряд особых полномочий. Этот акт считается началом периода Римской империи. Сам или через полководцев присоединил Египет, сев.-зап. часть Испании, юго-зап. часть Галлии (Аквитанию), альпийские народы, обширн. территории на Адриатике, на сев. Балканского п-ова и за Альпами, перенеся сев. границу Империи на Дунай. Предпринимал попытки покорения Германии. Установил римский протекторат над Арменией. Вел активное общественное строительство в Риме, покровительствовал литературе (т.н. «серебряный век»). Сохранилась его автобиографическая надпись. (Рус. пер. см.: Деяния божественного Августа / Пер. А.Л. Смышляева // Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1987. С. 166 —176).
Адамс Джон (Adams John) [19(30).10.1735, Брейнтри, Массачусетс — 4.7.1826]. Один из «отцов-основателей», 2-й президент США (1797 —1801). Принимал активное участие в борьбе за независимость. В 1774 — 1777 — чл. Континентального конгресса. В 1783 — один из представителей США на мирных переговорах с Англией. В 1789—1797 — вице-президент.
Адамс Сэмюэль (Adams Samuel) [27.09(8.10). 1722 -2.10.1803]. Один из лидеров радикального крыла движения за независимость. Организатор «Бостонского чаепития» 16.12.1773. Губернатор Массучусетса в 1793 — 1797.
Аларих (Alaricus) [ум. 410, Консенция, Калабрия]. Король вестготов. Выдвинулся в 394, командуя вестготским отрядом в армии Феодосия при Фригидусе. С 395 — во враждебных отношениях с Римской империей. 24.8.410 взял Рим и подверг его трехдневному разграблению. Оттуда двинулся в Южную Италию, где скоропостижно скончался.
Александр (Alexandras, лат. Alexander) Великий, Македонский [07.356 г. до н.э., Пелла, Македония — 13.6.323 г. до н.э., Вавилон]. Царь Македонии (336 — 323), один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира. Сын Филиппа II. Ученик Аристотеля. Проявил мужество и военные дарования в битве при Херонее (338 до н.э.). В 334 до н.э. выступил в поход на Персию, и разбив персидского царя Дария III при Иссе (12.11.333) и Гавгамелах (20.09.331), завоевал ее. Достиг со своим войском Индии. На развалинах Персии создал греко-македонско-персидское государство со столицей в Вавилоне, которое распалось вскоре после его смерти в результате войн его военачальников за престолонаследие. Походы А. послужили толчком к проникновению на Восток эллинистической культуры и считаются началом периода эллинизма.
Андропов Юрий Владимирович [2(15).6.1914, ст. Нагутская, Ставропольск. край — 9.2.1984, Москва]. Советский политический деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982 — 1984). Выдвинулся по комсомольской линии, позднее работал в аппарате ЦК. Член ЦК КПСС с 1941. В 1953-1957 посол СССР в Венгрии, принимал активное участие в подавлении венгерского восстания 1956. В 1962-1967 - секретарь ЦК КПСС. В 1967-1982 - председатель КГБ СССР, кандидат в члены Политбюро, затем член Политбюро. Один из организаторов подавления диссидентского движения. Был в числе инициаторов вторжения в Афганистан. В 1982, после смерти М.А. Суслова, второй секретарь ЦК. С нояб. 1982 — Генеральный секретарь, председатель Совета Министров. Пытался вести курс на борьбу с коррупцией и повышение дисциплины. Большую часть своего правления был серьезно болен.
Арминий (Arminius), сын Сигимера [16 г. до н.э. — 21 г. н.э.]. Вождь германского племени херусков. Состоял на римской службе, получил от Августа звание римского всадника. В 9 г. н.э. возглавил восстание против римлян и уничтожил легионы Вара в Тевтобургском лесу. В 10—16 возглавлял сопротивление римским армиям Тиберия и Германика. Был убит по обвинению в стремлении к единовластию.
Арнольд Бенедикт (Arnold Benedict) [3(14).01.1741 — 14.06.1801]. Амер. военачальник. С началом Войны за независимость вступил в милицию в Массачусетсе. С 1777 — генерал-майор амер. армии. Считая, что Конгресс недооценивает его заслуги, вступил в тайные переговоры с англичанами, 21.9.1780 из страха перед разоблачением бежал к ним. Стал бригадн. генералом англ. армии, принимал участие в действиях против колонистов. В годы революционных войн занимался снаряжением каперов, действовавших против французских судов.
Базен Ашиль Франсуа (Bazaine Achille Francois) [13.2.1811, Версаль — 23.9.1888, Мадрид]. Маршал Франции (1864). Участник войн в Алжире (1835), Испании (1837), Крымской войны 1853—1856, австро-итало-французской войны 1859 и Мексиканской экспедиции 1862—1867. Во время франко-прусской войны 1870-71 командовал 3-м корпусом, а с 12.8.1870 Рейнской армией, 27.10.1870 сдал Мец с 173-тысячной армией. В 1873 приговорен военным судом к смертной казни, замененной судом 20-летним заключением. В 1874 бежал из тюрьмы и последние годы жизни провел в Испании.
Бисмарк Отто (Bismarck Otto) Эдуард Леопольд фон Шенхаузен [1.4.1815, Шенхаузен — 30.7.1898, Фридрихсру]. Германский государственный деятель. В 1847 — 1848 один из самых реакционных депутатов 1-го и 2-го соединенных ландтагов Пруссии, сторонник применения силы для подавления революции. В 1851 — 1859 представитель Пруссии в бундестаге во Франкфурте-на-Майне. В 1859—1861 посланник в России, в 1862 — во Франции. С 1862 — министр-президент и министр иностранных дел Пруссии. Вопреки конституции произвел военную реформу, что значительно укрепило военную мощь Пруссии. Был инициатором конвенции 1863 с правительством России о совместных действиях по подавлению восстания в Польше. Опираясь на мощь Прусской армии, Бисмарк в результате датской войны 1864, австро-прусской войны 1866, франко-прусской войны 1870—1871 осуществил объединение Германии «сверху». В 1871 оказал существенную поддержку правительству Тьера против Парижской Коммуны. После создания в 1867 Северо-Германского союза стал бундесканцлером. В 1871 — 1890 рейхсканцлер Германской империи. Правительство Бисмарка вело активный протекционистский курс (тариф 1879). Являлся инициатором русско-австро-германского союза 1873 («Союз трех императоров»), а в 1882 — «Тройственного союза» (Германии, Австро-Венгрии и Италии), направленного против Франции и России, однако в 1881 и 1884 пошел на возобновления «Союза трех императоров», а в 1887 заключил с Россией «договор о перестраховке».
Брэгг Брэкстон (Bragg Braxton) [22.3.1817, Уоррентон, Сев. Каролина — 27.9.1878, Гальвестон, Техас]. Амер. военачальник. Окончил Уэст-Пойнт в 1837. Принял участие в Гражданской войне на стороне южан. Бригадн. генерал армии Конфедерации 7.3.1861, ген.-майор в янв. 1862, полный генерал 2.4.1862. Командовал Западной армией южан. После поражения при Чаттануге (23 — 25.11.1863) снят с занимаемой должности (2.12.1863). Назначен военным советником президента Дэвиса (24.2.1864). В февр. 1865 вновь получил полевое назначение.
Бургойн Джон (Burgoyn John) [1722 — 4.6.1792]. Англ. военачальник. В армии с 1740. С 1761 — член Парламента, с 1772 — генерал-майор. В 1775 отправлен в Северную Америку. В 1777 за взятие Тайкондероги произведен в генерал-лейтенанты. 17.10.1777 был вынужден капитулировать под Саратогой. Осужден и понижен в звании последующим парламентским расследованием. Драматург.
Валент (Valens), Император Цезарь Флавий Валент Август [ок. 328, Паннония — 9.8.378, ок. Адрианополя, Фракия]. Римский император. Провозглашен своим братом Валентинианом соправителем 28.3.364. Управлял восточной частью Империи, имел резиденцию в Антиохии (Сирия). Погиб в сражении с готами.
Вар Публий Квинтилий (Varus Publius Quintilius) [ок. 45 г. до н.э. — 9 г. н.э., Тевтобургский лес, Германия]. Римский политический деятель, выходец из патрицианского рода. Женат третьим браком на внучатой племяннице Августа Клавдии Пульхре. Консул 13 г. до н.э., императорский наместник в Сирии в 7 г. до н.э. и в Германии в 5 —9 гг. н.э. Погиб вместе со своей армией в сражении с германцами.
Вашингтон Джордж (Washington George) [11(22).2.1732, Уэй-филд, Виргиния — 14.12.1799, Маунт-Вернон, Виргиния]. Первый президент США (1789—1797). Происходил из состоятельной виргинской плантаторской семьи. В 1751 — 1759 служил в колониальн. милиции, в 1754 получил звание полковника за успешные действия против французов (послужившие одним из поводов к Семилетней войне). В 1774 избран в Континентальный конгресс. С 15.6.1775 по 23.12.1783 — главнокомандующий армией Конвента, по завершении войны подал в отставку. В 1787 принимал участие в Конституционном Конвенте и в 1789 избран президентом. В «Прощальном послании» (17.9.1796) рекомендовал политику изоляционизма. Во время конфликта Америки с революционной Францией 3.2.1798 президент Адамс назначил В. главнокомандующим.
Веллингтон Артур Уэлсли (Wellington Arthur Wellesley) [1.5.1769, Дублин — 14.9.1852, замок Уолмер, Кент]. Английский полководец, государственный деятель, фельдмаршал (1813), представитель партии тори. Учился в Итоне и в военной школе в Анжере (Франция). Начал военную карьеру в английских войсках в Нидерландах во время антифранцузского похода 1794—1795. В 1796 был направлен в Индию, где командовал английскими войсками при завоевании княжества Майсур и маратхских княжеств. В 1805 возвратился в Великобританию. В 1807 — 1808 государственный секретарь по делам Ирландии. В 1808—1813 командовал войсками антифранцузской коалиции на Пиренейском полуострове. В 1814 назначен английским послом в Париже. В том же году получил титул герцога Веллингтона. В 1815 командующий союзной англо-голландской армией, вынесшей главную тяжесть в сражении при Ватерлоо. Участвовал в работе Венского конгресса 1814 — 1815. В 1815—1818 возглавлял оккупационные войска во Франции. Английский представитель на конгрессах Священного союза в Аахене (1818) и Вероне (1822). В 1826 подписал в Петербурге т.н. Греческий протокол, определявший позиции Великобритании и России в отношении Греции. В 1827 — 1852 главнокомандующий английской армией. В 1828—1830 премьер-министр, провел акт о эмансипации католиков (1829). Открыто выступал против проведения парламентской реформы, что способствовало падению его кабинета. В 1834—1835 министр иностранных дел, в 1841 — 1846 министр без портфеля. В 1848 возглавил воинские части, готовившие вооруженное подавление чартистских выступлений.
Вильгельм II (Wilhelm II) [27.1.1859, Потсдам - 4.6.1941, провинция Утрехт, Нидерланды]. Германский император и прусский король (1888—1918), внук Вильгельма I. Активно способствовал развязыванию I Мировой войны. Свергнут революцией 9.11.1918, бежал в Нидерланды и 28.11.1918 отрекся от престола.
Гейтс Горацио (Gates Horatio) [ок. 1727, Великобритания — 10.4.1806, Манхэттен, Нью-Йорк]. Амер. военачальник. Служил в британских колониальных войсках в Америке. Встал на сторону борцов на независимость, получил звание бригадн. генерала в армии Конгресса. 17.10.1777 разбил Дж. Бургойна под Саратогой. Назначен председателем воен. комитета Конгресса. Делал попытки поставить армию под контроль Конгресса и заменить Вашингтона на посту главнокомандующего. 15.8.1780 наголову разбит Ч. Корнуоллисом под Кэмденом, после этого вышел в отставку.
Гигес. Лидийский царь (традиц. даты правления: 685 — 652 гг. до н.э.), основатель династии Мермнадов. Легендарная история прихода Гигеса к власти изложена у Геродота (I, 7 — 14).
Гитлер Адольф (Hitler Adolf) [20.4.1889, Браунау, Австрия — 30.4.1945, Берлин]. Лидер германской национал-социалистической партии (фашистской), глава немецко-фашистского государства (1933 — 1945), главный военный преступник. Отец Адольфа Алоис Шикльгрубер (Schicklgruber) сменил фамилию на Гитлер в 1876 (Гитлер иногда пользовался старой фамилией как псевдонимом). С 1913 Гитлер жил в Мюнхене, во время I Мировой войны был ефрейтором в германской армии. В 1919 один из организаторов, а в 1920 глава (фюрер) Национал-социалистической рабочей партии Германии. 8 — 9.11.1923 вместе с генералом Э. Людендорфом предпринял в Мюнхене попытку фашистского переворота, которая окончилась провалом (Гитлер попал в тюрьму). В дальнейшем, используя национал-социалистическую демагогию и реваншистские настроения, создал себе массовую опору среди населения. 30.1.1933 президент П. Гинденбург назначил его рейхсканцлером. После смерти Гинденбурга Гитлер сосредоточил в своих руках всю законодательную и исполнительную власть, объединив посты рейхсканцлера и президента (август 1934). В дальнейшем правительство Гитлера превратило Германию в базу для проведения мировой экспансии. Фашистская Германия приняла участие в войне против Испанской республики (1936 — 1939), осуществила аншлюс (присоединение) Австрии (1938), оккупировала Чехословакию (1938—1939) и, сколотив блок союзников, развязала II Мировую войну (1939—1945). Когда советские войска вошли в Берлин Гитлер покончил жизнь самоубийством.
Грант Улисс Симпсон (Grant Ulysses Simpson) [27.4.1822, Пойнт-Плезант, Огайо — 23.7.1885, Нью-Йорк]. Амер. военачальник и полит, деятель, 18-й президент США (1869—1877). Окончил Уэст-Пойнт, участвовал в Мексиканской войне, в 1854 уволен из армии за пьянство. В 1861 вступил в армию северян добровольцем, возглавил полк иллинойских добровольцев, своими успехами вызвал внимание президента Линкольна. С 1862 — генерал-майор. Взяв 4.7.1863 Виксберг, установил контроль северян над долиной Миссисипи. С 9.3.1864 — генерал-лейтенант, с 12.3.1864 — главный генерал армий США (единств, обладатель должности). 9.4.1865 принял капитуляцию Ли в Аппоматоксе. По завершении войны остался во главе армии США, в 1867 — 1868 — военный министр. Победил на президентских выборах 1868 и 1872. Его популярность упала из-за серии коррупционных скандалов, депрессии и противодействия Г. реконструкции южных штатов. В 1880 пытался вернуть президентский пост, но неудачно. В конце жизни разорился.
Грей Эдвард (Grey Edward) [1862—1933]. Британский политический деятель. Депутат от Либеральной партии 1885—1916. Министр иностранных дел 1905-1916. Сыграл важную роль в формировании Антанты, был сторонником вступления Великобритании в войну. С 1916 — виконт Фаллодон.
Дарий I, древнеперс. Дарьявауш [ок. 550—486 г. до н.э.]. Персидский царь в 522 — 486 гг. до н.э., сын Гистаспа (Виштаспы). Занял престол после свержения мага Гауматы, выдававшего себя за сына Кира Великого, Бардию. Укрепил созданное Киром царство, подавил восстания покоренных народов, создал административную структуру (20 сатрапий), существовавшую в общих чертах вплоть до падения державы Ахеменидов, учредил упорядоченную налоговую систему, ввел стабильную золотую монету (дарик), создал эффективную почтовую службу. Около 518 завоевал северозападную часть Индии. В 514 предпринял поход на скифов, в ходе которого подчинил греческие города Фракии. В 500 — 494 подавил восстание ионийских полисов. В 490 по его приказу был совершен карательный поход против поддержавших ионийцев Афин, окончившийся битвой при Марафоне.
Дарий III (Кодоман) [ок. 380 г. до н.э. — 330 г. до н.э., Бактрия]. Последний персидский царь (336—330) из династии Ахеменидов. Захватил власть в результате дворцового переворота. В 331 у Гавгамел армия Д. была полностью разгромлена Александром Македонским, после чего он бежал в Восточный Иран, где был свергнут сатрапом Бактрии Бессом и при приближении Александра убит.
Джексон «Каменная Стена» Томас Джонатан (Jackson «Stonewall» Thomas Jonathan) [21.1.1824, Виргиния — 10.5.1863, Ченселорсвилль]. Амер. военачальник. В 1846 окончил Уэст-Пойнт, участвовал в Мексиканской войне 1846—1848. С 17.6.1861 бригадный генерал армии Конфедерации, за стойкость в сражении при Бул-Ране получил прозвище «Каменная Стена». С 7.10.1861 — генерал-майор, остановил наступление северян в долине Шенандоа. Наладил идеальное взаимодействие с Ли, реализуя его решения на тактическом уровне. С 10.10.1862 генерал-лейтенант. Погиб в сражении при Ченселорсвилле.
Джонстон Джозеф Эгглстон (Johnston Joseph Eggleston) [3.12.1807, Черри Гроув, Виргиния — 21.1.1891, Вашингтон]. Амер. военачальник. Окончил Уэст-Пойнт в 1829. Участвовал в Мексиканской войне 1846—1848, войнах с индейцами. С июля 1860 — бригадн. генерал, генерал-квартирмейстер армии США. В апр. 1861 вышел в отставку и примкнул к армии Конфедерации. До своего ранения 31.5.1862 командовал Армией Северной Виргинии. В дек. 1863 возглавил Западную армию после отставки Б. Брэгга. Его лучшим военным достижением считается отступление перед превосходящими силами Шермана к Атланте (весна 1864Х за которое он был отправлен в отставку. В февр. 1865 вновь возглавил Западную Армию, 26.4.1865 капитулировал перед Шерманом у Дарэм Стейшн в Сев. Каролине. Член палаты представителей в 1876—1878.
Дрейк Фрэнсис (Drake Francis) [ок. 1540, Трейвисток, Девоншир — 28.1.1596, близ Порто-Бельо, Панама]. Английский мореплаватель, вице-адмирал (1588), пират. В 1567 участвовал в морской экспедиции Дж. Гаукинса в Вест-Индию. В 1577 с эскадрой из 5 кораблей отплыл на Тихий океан, прошел через Магелланов пролив, пересек Тихий океан и в 1580 с огромной добычей вернулся в Плимут, совершив второе (после Магеллана) кругосветное путешествие. В 1587 совершил внезапный налет на корабли «Непобедимой армады» в Кадисе. В 1588 фактически командовал английским флотом при разгроме «Непобедимой армады». Умер во время грабительской экспедиции, начавшейся в 1595.
Дэвис Джефферсон (Davis Jefferson) [3.6.1808, Крисчен Ка-унти, Кентукки — 6.12.1889, Новый Орлеан]. Амер. полит, деятель, президент Конфедеративных Штатов Америки (1861 — 1865). Окончил Уэст-Пойнт в 1828, в 1828—1835 служил в армии, участвовал в войнах с индейцами. В 1844 избран в коллегию президентских выборщиков, в 1844 — 1846 член палаты представителей, в 1846—1848 добровольцем участвовал в Мексиканской войне, сенатор (1847-1851, 1857-1861), военный министр США (1851-1857). 18.2.1861 избран Конгрессом Конфедерации временным президентом, 22.2.1862 избран президентом сроком на 6 лет. Не был активным сторонником сецессии, выдвинул на ключевые посты умеренных. Проводил курс на централизацию управления, чрезмерно активно вмешивался в военное руководство. После падения Ричмонда и капитуляции Ли пытался скрыться, захвачен в плен 10.5.1865. Привлечен к суду за организацию мятежа, освобожден по амнистии 26.2.1869.
Елизавета I (Elizabeth I) [7.9.1533, Гринвич — 24.3.1603, Ричмонд]. Королева Англии в 1558—1603. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Сторонница протестантизма. В ее правление Англия достигла значительных внешнеполитических успехов, особенно после победы над испанской «Непобедимой Армадой» в 1588. Время Елизаветы ознаменовалось взлетом культуры английского Возрождения (Уильям Шекспир, Фрэнсис Бэкон, Уолтер Рэли и др.). Не была замужем, из-за чего получила прозвище «Королевы-девственницы». Трон унаследовал ее дальний родственник, шотландский король Иаков VI Стюарт.
Иезекия. Иудейский царь (прибл. 715—687 гг. до н.э.), сын Ахаза. Удостоился в Библии (4 Цар 18 — 20; 2 Пар 30 — 32) положительной характеристики. Вел монотеистическую религиозную политику: разрушил «высоты и жертвенники» и объединил празднование Пасхи в Иерусалиме. Построил первый водопровод в Иерусалиме.
Исайя [ок.765 — после 700 гг. до н.э.] Иудейский пророк, современник царя Иезекии. Наряду с Иеремией, Иезекиилем и Даниилом традиционно относится к числу четырех «великих» пророков. Под его именем сохранилась одна из важнейших пророческих книг Ветхого Завета, знаменитая предсказанием пришествия Мессии, рожденного Девой (Ис 7:14), и первым в ветхозаветной традиции предсказанием спасения иноплеменников (Ис 56). В современной библеистике господствует версия, по которой часть книги Исайи (Ис 40 — 55) написана не им, а его последователем времен Вавилонского пленения, т.н. Второисайей.
Карл Великий (Carolus Magnus) [2.4.742 - 28.1.814, Аахен], король франков (768), император (800). После смерти Пипина Короткого (24.09.768) К. стал править частью Франкского государства (другая была во владении его брата Лотаря). С 771 стал единоличным правителем воссоединенного государства. Завоевал королевство лангобардов в Италии (774), Саксонию (775 — 804), земли в Испании к северу от р. Эбро (778, 796 — 812), Баварию (788), разгромил Аварский каганат (795 — 796). 25.12.800 был коронован в Риме папой Львом III императорской короной и в 812 добился признания восстановленной империи на Западе Византией. При внуках К. созданное им государство распалось.
Карл Мартелл (Carolus Martellus) [ок. 688 — 22.9.741, Кьерси, Нейстрия]. Майордом (фактический правитель) Франкского королевства (716 — 741). Сын майордома Пипина II Геристальского от побочн. жены Альпаиды. После смерти отца (714) был заключен в тюрьму сторонниками племянника, но бежал и завоевал власть. В 722 — 738 совершает серию походов в Германию, закрепляя там власть франков. 25.10.732 отразил набег арабов при Муссе, ок. Пуатье. Первым начал систематически проводить политику вознаграждения бенефициями за службу (основа будущей феодальной системы). После смерти в 737 короля Тьерри IV правил без короля.
Карл V (Carlos V) [24.2.1500, Гент, Нидерланды - 21.9.1558, монастырь св. Юста, Испания]. Король Испании (1516—1556), император Священной Римской империи германской нации (1519— 1556). От матери получил бургундское наследство (Нидерланды) Пытался создать мировую католическую империю. Вел войны с Францией (этап Итальянских войн 1494 — 1559). Боролся с Реформацией в Германии, но не достиг успеха и вынужден был подписать Аугсбургский религиозный мир 1555 (по принципу «чья власть — того и вера»). В его правление в состав испанских колоний были включены земли ацтеков (1519—1521), инков (1531 — 1534) и ряд иных территорий. Под влиянием неудачи в религиозной войне в Германии и ухудшения здоровья отрекся в 1556 от императорского престола в пользу брата Фердинанда, а от престола Испании, Нидерландов, итальянских и заморских владений в пользу сына Филиппа и удалился в иеронимитский монастырь св. Юста.
Климент VII (Clemens VII), Джулио Медичи [1475, Флоренция — 25.9.1534, Рим]. Папа Римский в 1523—1534. Происходил из флорентийского правящего рода. Папство К. отмечено чередой дипломатических неудач — взятием Рима войсками Карла V в 1527, отпадением Церкви Англии от католицизма в 1534.
Клинтон сэр Генри (Clinton Henry) [ок. 1738 — 23.12.1795, Гибралтар]. Англ. военачальник. В армии с 1751, с 1762 — полковник, с 1772 — генерал-майор. С 1775 в Северной Америке. В 1776 за взятие Нью-Йорка произведен в генерал лейтенанты. С марта 1778 по 1781 — главнокомандующий войск, действующих против колонистов. С 1793 — полный генерал, в 1795 — губернатор Гибралтара.
Клит (Cleitos) Черный [356 — 328 г. до н.э.]. Молочный брат Александра Великого, спасший его жизнь в битве при Гранике (334). Командовал конницей гетайров. В 328 лишен этой должности и назначен сатрапом Бактрии и Согдианы. Противник заимствования персидских обычаев и придворного церемониала. Убит Александром в пьяной ссоре на пиру.
Корнуоллис Чарльз (Cornwallis Charles) [3(14). 12.1738 — 5.10.1805]. Англ. военачальник. Выпускник Итона. В армии с 1756. С 1760 — подполковник, с 1766 — полковник, с 1775 — генерал-майор. В 1776 направлен в Северную Америку. В 1778 произведен в генерал-лейтенанты и стал зам. главнокомандующего войсками, действующими против колонистов. С мая 1780 командовал южной группировкой англ. войск, с которой капитулировал 19.10.1781 в Йорктауне. В 1786-94 — генерал-губернатор и главнокомандующий в Индии, одержал победу в 3-й англо-майсурской войне. С 1793 — полный генерал и 1-й маркиз К. В 1798—1805 — вице-король Ирландии, подавил ирл. восстание 1798.
Кортес Эрнан (Cortes Hernan) [1485 — 2.12.1547, Испания]. Испанский конкистадор. Окончил университет в Саламанке, в 1504—1519 служил чиновником в Вест-Индии. В 1519—1521 во главе отряда испанцев завоевал страну ацтеков. В 1522 — 1540 — губернатор и генерал-капитан Новой Испании. В 1540 уехал в Испанию. Опубликованы его письма к Карлу V.
Ксеркс I (Xerxes), древнеперс. Хшаяршан [ум. 465 г. до н.э., Сузы]. Персидский царь в 486 — 465 гг. до н.э., сын и преемник Дарил I. В начале правления подавил мощные восстания в Вавилонии и Египте. Перешел к более жесткой политике в отношении религий покоренных народов, в частности разрушил храм Марду-ка в Вавилоне. В 480 совершил неудачный поход на Грецию. Убит вместе со старшим сыном в результате дворцового заговора.
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич [22.4.1870, Симбирск — 21.1.1924, пос. Горки]. Российский революционер и советский государственный деятель. Отчислен из Казанского университета (1887). Вступил в марксистский кружок. С 1891 работал помощником присяжного поверенного. Неоднократно арестовывался за подрывную деятельность. Возглавил вооруженное восстание 25.10(7.11). 1917 года. После победы революции возглавил Совет народных комиссаров. С мая 1923 по болезни фактически отошел от дел и переехал в Горки, где и умер. Тело В.И. Ленина забальзамировано и находится в мавзолее в Москве.
Леонид I (Leonidas), сын Анаксандрида [ум. 7480 г. до н.э., Фермопилы]. Спартанский царь из дома Агиадов (488—480). Командовал войском спартанцев и союзников в битве при Фермопилах, в которой и погиб, стяжав великую славу (см. Геродот, VII, 199 — 239).
Ли Роберт Эдвард (Lee Robert Edward) [19.01.1807, Стрэтфорд, Виргиния — 12.10.1870, Лексингтон, Виргиния]. Амер. полководец. Окончил Уэст-Пойнт в 1829, участвовал в Мексиканской войне 1846—1848, в 1852—1855 — суперинтендант Уэст-Пойнта, в 1857—1861 командовал полком в Техасе, 17.10.1859 командовал подавлением мятежа Джона Брауна. После начала Гражданской войны Линкольн предложил Л. возглавить армию США, но хотя Л. был противником рабства и сецессии, он считал своим долгом воевать на стороне родного штата и встал на сторону Конфедерации. С 1.6.1862 после ранения Дж. Джонстона воглавил Армию Северной Виргинии, главную боевую силу Конфедерации. В условиях подавляющего численного превосходства сил США наносил им большой урон и несколько раз был близок к взятию Вашингтона и выигрышу войны. После поражения при Геттисберге (1 — 3.7.1863) вынужден перейти к обороне. В 1864 — 1865 успешно оборонял Ричмонд против более чем вдвое превосходящих сил У. С. Гранта. В февр. 1865 назначен главнокомандующим армии Конфедерации, но не мог спасти ее от поражения и 9.4.1865 капитулировал перед У.С. Грантом в Аппоматоксе.
Линкольн Авраам (Lincoln Abraham) [12.2.1809, ок. Ходженвилла, Кентукки — 15.04.1865, Вашингтон]. Амер. полит, деятель, 16-й президент США (1861 - 1865). В 1834-1842 изб. в легислатуру штата Иллинойс, в 1847 — 1849 в палату представителей Конгресса США. Являлся сторонником отмены рабства. Его1 победа на президентских выборах 1860 послужила толчком к сецессии южных штатов. В ходе войны был непреклонным сторонником сохранения единства США и отсутствия у штатов права на выход из Союза. 22.9.1862 издал прокламацию об освобождении рабов во всех штатах, которые к 1.1.1863 еще будут воевать против Союза. На президентских выборах 1864 добился переизбрания со значительным перевесом. Противник крайних мер против конфедератов после победы. По его инициативе Конгресс 31.1.1865 принял XIII поправку к Конституции США (об отмене рабства). 14.4.1865 актер Дж. Бут, сторонник Конфедерации, выстрелил ему в затылок в театре Форда в Вашингтоне. Л. умер на следующий день.
Ллойд-Джордж Дэвид (Lloyd George David) [17.1.1863, Манчестер — 26.3.1945, Лланистамдви, Карнарвоншир]. Государственный деятель Великобритании, член Либеральной партии. Занимался юридической практикой. В 1890 впервые избран в парламент. Объявил себя радикалом и сторонником широких реформ. После прихода к власти либералов был в 1905—1908 министром торговли и в 1908—1915 министром финансов. Во время I Мировой войны выступал за ведение войны до победного конца. В 1915—1916 министр снабжения в коалиционном правительстве. В 1916 сменил Асквита во главе коалиционного правительства (премьер-министр до октября 1922) и в качестве лидера Либеральной партии. Один из главных участников Парижской мирной конференции 1919—1920 и творец Версальского мира 1919. Упадок либеральной партии привел к уменьшению политической роли Л.-Д., хотя он сохранял до конца жизни известное влияние в стране. В годы II Мировой войны выступал за скорейшее открытие второго фронта. В 1945 получил титул графа. Оставил мемуары о I Мировой войне (Ллойд-Джордж Д. Военные мемуары: В 6 т. / Пер. с англ. И. Звавича. М., 1934).
Макартур Дуглас (McArthur Douglas) [26.1.1880, Литтл-Рок, Арканзас — 5.4.1964, Вашингтон]. Амер. генерал армии (1944). В 1903 окончил Уэст-Пойнт. Участник I Мировой войны. В 1930—1935 начальник штаба американской армии, в 1932 учинил расправу над участниками похода безработных ветеранов войны в Вашингтоне. В 1935— 1937 военный советник на Филиппинах, в 1936— 1937 фельдмаршал Филиппинской армии. В 1941 назначен главнокомандующим американскими силами на Дальнем Востоке. В 1942—1951 верховный командующий союзными войсками в юго-западной части Тихого океана. В 1945—1951 командующий оккупационными войсками в Японии. В июле 1950 —апреле 1951 руководил операциями сил США и союзников в войне против Кореи. В апр. 1951 в результате неудач амер. войск был смещен президентом Г. Трумэном со всех командных постов. В 1952 начал деятельность в крупном бизнесе.
Мак-Клеллан Джордж Бринтон (McClellan George Brinton) [3.12.1826, Филадельфия — 29.10.1885]. Амер. военачальник и полит. деятель. Окончил Уэст-Пойнт в 1846, участвовал в Мексиканской войне 1846—1848, вышел в отставку в чине капитана в 1857. Благодаря знакомству с А. Линкольном 3.5.1861 вернулся в армию в чине генерал-майора. С 15.8.1861 по 9.11.1862 командовал силами США на главном театре воен. действий — Армией Потомака. С 11.1861 — главнокомандующий Армией Союза. Проявил себя способным организатором, но неудачливым полководцем, в связи с чем отправлен Линкольном в отставку. В 1864 — кандидат от Демократической партии на выборах президента. В 1878—1881 — губернатор Нью-Джерси.
Мао Цзэ-дун [26.12.1893, дер. Шаошань, пров. Хунань — 9.9.1976, Пекин]. Китайский государственный деятель. Из крестьянской семьи. С 1920 член компартии. Выдвинулся в ходе войны с Гоминьданом. В 1931 избран председателем ЦИК и СНК народного Китая. В 1934—1936 организовал перебазирование китайских коммунистов на северо-запад, в пров. Янъань. С 1943 — председатель ЦК КПК. В 1946—1949 руководил войной с Гоминьданом за власть над Китаем. В 1949—1954 председатель Центрального народного правительственного совета КНР, с 1954 — председатель КНР. Установил режим жесткой личной диктатуры. С конца 1950-х в конфронтации с СССР. Для поддержания личной власти инициировал в 1966 движение «культурной революции».
Маршалл Джордж Кэтлетт (Marshall George) [31.12.1880, Юнионтаун, Пенсильвания — 16.10.1959, Вашингтон]. Генерал армии США (1944). В 1901 окончил Вирджинский военный колледж и с 1902 служил офицером американской армии на Филиппинах. В 1917 — 1918 участвовал в I Мировой войне в качестве начальника оперативного отдела 1-й американской армии и начальника штаба 8-го американского корпуса во Франции. В 1919—1924 адъютант генерала Д. Першинга. В 1924—1927 служил в 15-м американском пехотном полку, находившемся в Китае. В 1927—1932 заместитель начальника школы пехоты в Форт-Беннинге (США). В 1939 назначен начальником штаба армии США, на этом посту оставался в течение всей II Мировой войны. В 1945 — 1947 личный представитель президента Трумэна в Китае при правительстве Чан Кай-ши.С 1947 по 1949 был госсекретарем США, в 1950— 1951 министр обороны. В 1947 выдвинул план помощи экон. восстановлению Европы («план Маршалла»). После 1952 отошел от активной политической жизни.
Мольтке Младший Гельмут (Moltke Helmut) Иоганн Людвиг [25.5.1848, Герсдорф, Мекленбург — 18.6.1916, Берлин]. Германский военный деятель, генерал. Племянник Г. Мольтке Старшего, с 1880 его адъютант. С 1891 флигель-адъютант Вильгельма II. В 1899—1902 командовал пехотной бригадой, затем пехотной дивизией. С 1903 генерал-квартирмейстер, с 1906 начальник генерального штаба. 14 сентября 1914 года М. был отстранен от должности.
Мольтке Старший Гельмут (Moltke Helmut) Карл Бернгард [26.10.1800, Пархим, Мекленбург — 24.4.1891, Берлин]. Прусский и германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1871). Окончил кадетский корпус в Копенгагене (1818), Берлинскую военную академию (1826). В 1819 начал военную службу офицером в датской армии, в 1822 перешел в прусскую армию. С начала 1827 начальник дивизионной школы. В 1828 причислен к генштабу, в 1833 переведен в него, работал в топографическом бюро. В 1836 —1839 военный советник в турецк. армии. По возвращении в Пруссию был назначен в штаб 4-го армейск. корпуса. С 1848 начальник отделения генштаба, начальник штаба корпуса. В 1858—1888 начальник прусского (с 1871 имперского) генштаба, превратившийся под его руководством в основной орган подготовки страны и вооруженных сил к войнам, которые вела Пруссия, а затем Германия. При поддержке О. Бисмарка провел ряд мероприятий по усилению армии. В 1864 М. был начальником штаба прусско-австрийских объединенных армий в войне с Данией. В войнах Пруссии с Австрией и ее союзниками (1866) и с Францией (1870 — 1871) М., занимая пост начальника полевого штаба, фактически был главнокомандующим всеми вооруженными силами. В 1867—1891 член рейхстага от консерваторов, с 1872 наследственный член прусской палаты господ.
Монтгомери Аламейнский (Montgomery of Alamein) Бернард Лоу [17.11.1887, Лондон — 24.3.1976, Альтон, Хэмпшир]. Британский фельдмаршал (1944), виконт (1946). Окончил военную академию в Сандхерсте (1908). Участник I Мировой войны. В кампании 1940, командуя 3-й пехотной дивизией, участвовал в боях в Бельгии и Франции. С авг. 1942 командующий 8-й английской армией в Северной Африке, которая в боях под Эль-Аламейном (октябрь —ноябрь 1942) нанесла поражение итало-немецким войскам, а затем действовала в Сицилии и Италии. В 1944 командующий союзной группой армий, высадившейся в июне 1944 в Нормандии, с авг. 1944 командующий 21-й группой армий, действовавшей в Бельгии, Нидерландах и Северной Германии. В 1945 главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии. В 1946—1948 начальник имперского Генштаба, в 1948—1951 председатель комитета главнокомандующих Совета обороны Западного союза. В 1951 —1958 1-й заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе. Кавалер всех высших орденов Великобритании и многих иностранных орденов, в т.ч. советского ордена «Победа».
Монтесума II (Моктесума, правильнее Мотекухсома Шокойоцин) [1466 — 1520, Теночтитлан]. Девятый тлатоани (верховный правитель) ацтеков (1502 — 1520). Захвачен в плен испанцами под началом 3. Кортеса вскоре по их прибытии в столицу ацтеков Теночтитлан. При штурме дворца, в котором засели испанцы, легко ранен камнем, после чего скончался при не до конца выясненных обстоятельствах.
Муссолини Бенито (Mussolini Benito) [29.7.1883, Форли — 28.4.1945, близ Донго]. Глава итальянской фашистской партии и фашистского правительства Италии в 1922—1943 и марионеточного правительства «республики Сало» в 1943—1945. Был учителем. Политическую карьеру начал в рядах социалистического движения.
Выдвинулся как журналист и оратор. В 1912—1914 редактор органа Итальянской социалистической партии газеты «Аванти!» («L'Avanti!»). За агитацию в пользу вступления Италии в войну на стороне Антанты в ноябре 1914 исключен из партии. Тогда же им основана газета «Пополо д'Италия» («Popolo d'Italia») (впоследствии фашистский официоз). В марте 1919 из бывших участников войны основал организацию, получившей название фашистской (fasci di combatimento). Опираясь на фашистские отряды, Муссолини возглавил антидемократическое движение, маскируя его социальной и национальной демагогией. В октябре 1922 осуществил государственный переворот («Поход на Рим»). В условиях острого политического кризиса, последовавшего за убийством в 1924 фашистами социалиста Дж. Маттеотти, Муссолини удалось удержаться у власти, используя пассивность антифашистской оппозиции и террор. В 1926 приступил к ликвидации конституционных свобод и установлению открытой диктатуры. В 1929 подписал Латеранские соглашения с Ватиканом. Милитаризировал экономику. После установления фашистской диктатуры в Германии (1933) заключил с Германией политический и военный союз (оформленный рядом договоров). В 1935— 1936 осуществил захват Эфиопии, в 1939 присоединил Албанию. Втянул Италию во II Мировую войну в 1940, объявив войну Франции. Поражение гитлеровской коалиции привело к падению диктатуры Муссолини (25.7.1943). В 1943—1945 возглавлял марионеточное правительство оккупированной немцами территории Италии. Был захвачен партизанами близ итало-швейцарской границы и казнен по приговору военного трибунала Комитета национального освобождения Северной Италии.
Мухаммед (Мохаммед, Магомет), сын Абдаллаха [ок. 570, Мекка — 8.6.632, Медина]. Пророк, основатель ислама. Происходил из влиятельного мекканского рода. По преданию, в ночь на 24 Рамадана 610 ему явился архангел Джибрил (Гавриил) и начал открывать ему части книги Аллаха (Коран). Встретив сопротивление со стороны мекканской купеческой олигархии, был вынужден перебраться вместе с приверженцами в Ясриб (Медину). День переселения (Хиджра, 22.9.622) служит эпохой мусульманской эры. В 630 — 631 мусульмане под его руководством подчинили Мекку, а затем и другие районы Аравии.
Нагумо (Nagumo) Тюити [1887г Ямагата — 6.7.1944, Сайпан]. Японский вице-адмирал. Закончил военно-морское училище (1908). В 1917 командовал эсминцем. В 1935 — линкором. Командовал «отрядом особого назначения», предназначавшимся для удара по Перл-Харбору (1941), затем авианосным соединением в операции по захвату голландской Ост-Индии и при ударе по Цейлону. Покончил жизнь самоубийством при обороне Сайпана.
Наполеон (Napoleon) Бонапарт [15.8.1769, Аяччо, Корсика — 5.5.1821, о. Св. Елены]. Первый консул Французской республики (1799—1804), император Французов (1804 — 1814 и март —июнь 1815). В 1784 окончил Бриеннское военное училище и перешел в Парижскую военную школу (1784 — 1785). С окт. 1785 в армии (в чине младшего лейтенанта артиллерии). В 1792 вступил в Якобинский клуб. Это привело к конфликту с корсиканскими сепаратистами, и в 1793 он был вынужден бежать с Корсики. Отличился при взятии Тулона 17.12.1793, произведен из капитанов в бригадные генералы. С этого времени начинается стремительное восхождение Н. 18—19 брюмера 1799 года (9—10.11) произвел государственный переворот и стал первым консулом. В 1801 заключил конкордат с римским папой. В 1804 провозглашен императором. Создал новое, буржуазное дворянство, расторг первый брак с женой Жозефиной и вступил в 1810 в брак с дочерью австрийского императора Марией-Луизой. Череда победоносных наполеоновских войн закончилась кампанией 1812 в России. Поражение в этой кампании дало мощный толчок борьбе против наполеоновского гнета. 6.3.1814 отрекся от престола. Союзники-победители оставили ему титул императора и отдали ему во владение остров Эльба. Высадка Н. во Франции (1.3.1815) и последовавшие «Сто дней» {20.3 — 22.6.1815) показали, что правительство Бурбонов не пользуется поддержкой французов. Однако беспокойство остальных стран Европы вторичным возвышением Н. привели к сражению при Ватерлоо и вторичному отречению (22.6.1815). Сосланный на остров Святой Елены, он умер через 6 лет пленником англичан. Есть рус. изд. избр. соч. Н. по военному делу: Наполеон. Избранные произведения. — М., 1956.
Нельсон Горацио (Nelson Horatio) [29.9.1758, Бернм-Торп, Норфолк — 21.10.1805, близ мыса Трафальгар, Испания]. Английский вице-адмирал (1801), барон Нильский (1801). Во флоте с 12 лет, в 1777 стал лейтенантом, командовал бригом, фрегатом, с 1793 — линейным кораблем в составе эскадры адмирала Худа, действовавшей в Средиземном море против Франции. В бою под Кальви (Корсика) в июле 1794 потерял правый глаз, а в 1797 в бою при Санта-Крус (остров Тенерифе) — правую руку. В феврале 1797 под командованием адмирала Джервиса участвовал в сражении при Сан-Винсенте, взял на абордаж 2 испанских корабля, за что произведен в контр-адмиралы. С 1798 командовал эскадрой, направленной в Средиземное море для противодействия Египетской экспедиции Наполеона 1798—1801. 1—2.8.1798 разгромил французский флот при Абукире, отрезав армию Наполеона в Египте. В 1798 — 1800 находился в Неаполе, откуда в 1799 изгнал французов и восстановил на троне Королевства обеих Сицилии короля Фердинанда IV, от которого получил титул герцога Бронте. В 1801 был 2-м флагманом в эскадре адмирала Паркера при действиях в Балтийском море и бомбардировке Копенгагена, затем командовал эскадрой в Ла-Манше. В 1803—1805 командующий эскадрой Средиземного моря. В сентябре 1805 заблокировал франко-испанский флот в Кадисе, а 21.10.1805 разгромил его в Трафальгарском сражении, в котором был смертельно ранен.
Нимиц Честер Вильям (Nimitz Chester William) [24.2.1885, Фредериксберг, Техас — 20.2.1966, Сан-Франциско]. Американский адмирал флота (1944). Окончил Морскую академию (1905), служил на командных и штабных должностях (с 1918 начальник штаба подводных сил Атлантического флота США). Во время II Мировой войны с конца декабря 1941 до ноября 1945 командовал Тихоокеанским флотом США. 2.9.1945 от имени США подписал акт о капитуляции Японии. 15.12.1945—15.12.1947 начальник морских операций. С 1947 в отставке, являлся советником морского министерства.
Паттон Джордж Смит-младший (Patton George Smith Jr) [11.11.1885, Сан-Габриэль, Калифорния — 21.12.1945, Гейдельберг]. Амер. генерал (1945). Окончил военную академию в Уэст-Пойнте (1909), армейский военный колледж (1932). В 1916 в качестве адъютанта генерала Дж. Першинга участвовал в интервенции против Мексики. В нояб. 1917, находясь в составе амер. экспедиционного соединения, занимался формированием первого американского танкового соединения (1-й бронетанковой бригады), с которой участвовал в Сен-Мийельской и Маас-Аргонской операциях I Мировой войны. Затем служил на Гавайях и в США, был командиром бронетанковой бригады (1940), бронетанковой дивизии (1942). При вторжении союзных войск в Северную Африку возглавлял оперативную группу, которая захватила Французское Марокко. Командуя 7-й американской армией, принимал участие в боях за остров Сицилия. Накануне высадки союзников в Нормандии назначен командующим 3-й армией. После капитуляции Германии, исполнял обязанности военного губернатора Баварии, затем командовал 15 армией, впоследствии руководил группой, занимавшейся обобщением опыта войны. Погиб в автомобильной катастрофе.
Пий V (Pius V), Антонио Микеле Гислиери [17.1.1504, Боско, ок. Милана — 1.5.1572, Рим]. Папа Римский в 1566—1572. В 1518 вступил в доминиканский орден, в 1557 — кардинал. Вел аскетический образ жизни, который пытался насадить в Риме. Один из наиболее активных Пап эпохи Контрреформации, проводил в жизнь решения Тридентского Вселенского собора (1545— 1564). В 1570 отлучил от Церкви Елизавету I Английскую. Выступил инициатором создания Священной антитурецкой лиги. В 1712 канонизирован.
Риббентроп Иоахим (Ribbentrop Joachim) [30.4.1893, Везель — 16.10.1946, Нюрнберг]. Германский государственный деятель. Был агентом по продаже шампанских вин. В 1930 примкнул к нацистской партии и вскоре стал одним из приближенных Гитлера. В 1936—1938 посол в Лондоне. В феврале 1938—1945 министр иностранных дел. Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Рузвельт Франклин Делано (Roosevelt Franklin Delano) [30.1.1882, Гайд-парк, Нью-Йорк — 12.4.1945, Уорм-Спрингс, Джорджия]. Американский государственный деятель, президент США (1933 — 1945). По образованию юрист. Учился в Гротоне, Гарвардском и Колумбийском ун-тах. В 1905 женился на дальней родственнице Элеоноре Рузвельт, племяннице Теодора Рузвельта. В 1910 избран в сенат штата Нью-Йорк от Демократической партии. В 1913—1920 был помощником морского министра в правительстве В. Вильсона, выступал за усиление военно-морской мощи США. В 1920 кандидат на пост президента от Демократической партии. После поражения на выборах возвратился к частной практике. В 1928 избран губернатором штата Нью-Йорк. В 1932 избран президентом США, произвел ряд реформ, вошедших в историю как «Новый курс», одной из особенностей которого было усиление военной мощи США, и прежде всего флота. Популярность Рузвельта была столь велика, что в 1940 он был избран на третий срок, а в 1944 — на четвертый (первым в истории США). В декабре 1941, после нападения Японии на Перл-Харбор (до формального объявления состояния войны со стороны Японии), США вступили во II Мировую войну. Представлял США на Тегеранской (1943) и Крымской (1945) конференциях.
Синнахериб (Синнахирим). Ассирийский царь (705 — 681 до н.э.), сын Саргона II. Сторонник «военной партии», находился в конфликте со жречеством и городами. В области внешней политики проводил политику грубой силы. Основными его противниками были вавилоняне, пытавшиеся отстоять свою независимость, и поддерживавшее их царство Элам (юго-запад совр. Ирана). Основал новую столицу Ассирии — Ниневию. В 689 С. взял Вавилон и предал его разрушению, что вызвало недовольство даже в самой Ассирии. Ему пришлось назначить наследником младшего сына Асархаддона, сторонника «жреческой партии». Возмущенные этим старшие сыновья убили С. Современники восприняли это как кару богов.
Спрюэнс Раймонд (Spruance Raimond) Эймс [3.7.1886, Балтимор, Мэриленд — 13.12.1969, Монтерей, Калифорния]. Американский контр-адмирал. Окончил военно-морскую академию (1906). В начале II Мировой войны командовал соединением крейсеров. В 1942 стал начальником штаба Тихоокеанского флота. С ноября 1943 командующий 5-м флотом, командовал силами Центра Тихого океана. После войны стал президентом Военно-морского колледжа и послом США на Филиппинах.
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович [21.12.1879, Гори, Грузия — 5.3.1953, Москва]. Руководитель СССР в 1924 — 1953. Член РСДРП с 1898, неоднократно судим за террористическую деятельность. После Февральской революции 1917 в Петрограде участвовал в подготовке и проведении Октябрьской революции. В 1917 — 1922 нарком по делам национальностей. В апреле 1922 избран генеральным секретарем РКП (б), дальнейшая деятельность Сталина направлена на усиление собственной власти. В 1928 закончил НЭП, стал проводить индустриализацию и коллективизацию. 8.8.1941 назначен Главнокомандующим вооруженными силами СССР. В качестве главы советской делегации принимал участие в Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской конференциях (1945) руководителей трех держав — СССР, США и Великобритании. Во внутренней политике проводил жестокие репрессивные меры («Большой террор»), установил культ собственной личности.
Стилуэлл Джозеф Уоррен (Stilwell Joseph Warren) [19.3.1882, Палатка, Флорида — 12.10.1946, Сан-Франциско]. Амер. генерал (1944). Окончил военную академию в Уэст-Пойнте (1904). Служил на Филиппинах, в Китае и в Европе, был военным атташе в Пекине (1935—1939).В начале II Мировой войны Чан Кай-ши попросил С. занять пост начальника штаба китайской армии. Он командовал 5-й и б-й армиями в Бирме. В 1942 его армии были разбиты японцами, а сам он, с остатками войск, добрался до Индии. В дальнейшем командовал всеми американскими войсками в Китае, Бирме и Индии. С 1944 командовал 10-й американской армией на Тихоокеанском ТВ Д.
Субудай. Военачальник Чингисхана,один из монгольских командующих в битве при Калке (16.6.1223), главный военный советник Батыя (Бату-хана) в походах на Русь и Европу (1236—1242).
Тиберий (Tiberius) Юлий Цезарь, урожд. Тиберий Клавдий Нерон [16.11.42 г. до н.э., Рим — 16.3.37 г. н.э., ок. Мизена, Кампания]. Римский император (14 — 37). Приемный сын и наследник Августа. В годы правления Августа прославился как полководец. В 15 г. до н.э. завоевал ретов и винделиков (совр. Швейцария и юг Германии), в 13-9 гг. до н.э. завоевал Паннонию, в 8 г. до н.э., 4 — 6, 10—11 гг. н.э. командовал армией в Германии, в 6 —9 гг. н.э. подавил паннонское восстание. После получения верховной власти, следуя завещанию Августа, прекратил завоевательные войны. Столкнувшись с оппозицией в сенатских кругах и заговорами правил с большой жестокостью.
Привел в блестящее состояние финансы Римской империи. В 26 покинул Рим и жил в уединении на о. Капри. Личность Тиберия — предмет больших споров в историографии.
Трумэн Гарри С. (Truman Harry S.) [8.5.1884, Ламар, Миссури — 26.12.1972, Канзас-Сити, Миссури]. Государственный деятель США. Участвовал в I Мировой войне. В 1934 — 1944 сенатор. С января 1945 вице-президент США от Демократической партии, с 12.4.1945 (после смерти президента Ф.Д. Рузвельта) до 20.1.1953 президент США. В авг. 1945 отдал приказ о атомной бомбардировке Японии.
Угэдей [ум. 1241, Каракорум]. Великий каган монголов (1227—1241), сын Чингис-хана.
Фарнезе Александр (Farnese Alessandro) [27.8.1545, Рим — 9.12.1592, аббатство Св. Вааста, ок. Арраса, Франция]. Испанский полководец, герцог Пармы и Пьяченцы (1586— 1592). Сын герцога Пармы Оттавио Фарнезе и дочери Карла V Маргариты Австрийской. В 1577 привел в Нидерланды подкрепления своему дяде дону Хуану Австрийскому. После его смерти в 1578 назначен наместником Нидерландов, продолжил кампанию подчинения их южн. части. 15.8.1585 взял Антверпен. Однако Филипп II, поглощенный замыслами против Англии, не дал ему перенести кампанию в сев. часть страны. В 1588 должен был переправиться в Англию при содействии Непобедимой Армады. В 1590 отбросил Генриха IV от Парижа. Умер во время нового похода во Францию.
Фемистокл (Themistocles), сын Неокла [ок.525 г. до н.э., Афины — 460/459 г. до н.э., Магнесия, Малая Азия]. Крупный афинский государственный деятель и полководец. Начиная с 493 неоднократно избирался архонтом и стратегом. В 484 выступил инициатором строительства афинского триерного флота за счет средств от серебряных рудников. В 480 был стратегом, на основании двусмысленного пророчества из Дельф настоял на эвакуации города и на том, чтобы главное сражение было дано на море. Командовал афинским флотом в битве при Саламине, был автором плана этого сражения. Сыграл большую роль в укреплении афинского могущества после войны и создании первого Афинского морского союза. Вопреки противодействию спартанцев, обнес Афины стенами. Ф. постигла судьба многих победителей в больших войнах: он утратил популярность и в 471 был изгнан посредством остракизма. Вскоре он, как и победитель при Платеях спартанец Павсаний, был обвинен в сговоре с персами и бежал ко двору персидского царя. По преданию, покончил с собой, когда получил от Артаксеркса I приказ возглавить поход на Элладу.
Филипп II (Philippos), сын Аминты II [382 г.до н.э. — ЗЗбг. до н.э., Пелла, Македония]. Македонский царь в 359 — 336. Отец Александра Великого. В молодости был заложником в Фивах и воспитывался в доме великого фиванского полководца Эпаминонда. Пришел к власти, отрешив своего малолетнего племянника Аминту III, при котором был регентом. Реформировал македонскую армию, сделав ее сильнейшей на Балканах (см. обзор по армиям античности). В ходе серии войн, в которых его основным противником выступали Афины, приобрел главенствующее положение в Греции. Победа Филиппа над соединенным афинско-фиванским войском при Херонее (нач. августа 338) считается концом независимости Эллады. После победы не включил греческие полисы в состав своего царства, а создал направленный против Персии Панэллинский союз с центром в Коринфе, в котором стал гегемоном (главой) и стратегом-автократором (главнокомандующим). Был убит в разгар подготовки к походу в Персию.
Филипп II Испанский [21.5.1527, Вальядолид — 13.9.1598, Эскориал], король Испании (с 1556) из династии Габсбургов. Вступил на престол после отречения своего отца Карла V и раздела империи, по которому получил Испанию, Королевство обеих Сицилии, Нидерланды, Франш-Конте, Милан, владения в Африке и Америке. Непомерно увеличил бюрократический аппарат, старался лично контролировать все важные решения в стране. Фанатичный поборник католицизма, поддерживал инквизицию. В 1554 женился на английской королеве Марии Тюдор. Заключил выгодный для Испании мир с Францией в Като-Камбрези, завершивший Итальянские войны (3.4.1559). В 1571 возглавил Священную лигу для борьбы с турками и берберскими пиратами. Начиная с 1572 столкнулся с революцией в Нидерландах, вызванной его религиозной политикой, в результате которой северная часть Нидерландов была утеряна. В 1580—1581 присоединил Португалию. Смерть Марии Тюдор и воцарение Елизаветы I привели Ф. к решению вторгнуться в Англию. Гибель созданной им Непобедимой армады (1588) подорвала могущество Испании. Пытался посадить на французский трон свою дочь Изабеллу (1593), но этому воспротивились Генеральные штаты. Ведение неуспешных войн подорвало казну государства — объявлял государственное банкротство в 1557, 1575, 1598.
Хоу Уильям (Howe William) [10.08.1729 - 12.07.1814]. Англ. военачальник. Выпускник Итона. В армии с 1746. В 1758—1760 — член Парламента. С 1772 — генерал-майор. В 1775—1778 — главнокомандующий английскими войсками, действующими против колонистов. Пытался сочетать мирные переговоры с решительными военными действиями. С 1793 — полный генерал, в 1805 — губернатор Плимута.
Хуан Австрийский (Don Juan de Austria) [24.2.1542 — 1.10.1578, ок. Намюра, Нидерланды]. Испанский полководец и флотоводец. Побочный сын Карла V, брат Филиппа II. В янв. 1570 поставлен во главе войск, действующих против морисков и к 19.5.1570 принудил их к капитуляции. В 1571 — 1573 возглавлял флот Священной антитурецкой лиги, 7.10.1571 одержал решительную победу над флотом турок и магрибских пиратов при Лепанто. В окт. 1573 овладел Тунисом, но Филипп II помешал X. основать христианское королевство в Африке. В 1576 назначен наместником Нидерландов, 31.1.1578 одержал решительную победу при Жамблу, в результате которой Испания удержала южные Нидерланды (ныне Бельгия и Люксембург). Умер от сердечного приступа в походном лагере.
Хэлси Вильям (Halsey William) Фредерик младший («Билл») [30.10.1882, Элизабет, Нью-Джерси - 16.8.1959, Фишере Айленд, штат Нью-Йорк]. Американский адмирал флота (12.1945). Окончил военно-морскую академию в Аннаполисе (1904). Участвовал в I Мировой войне, командовал эсминцем. В 1935 стал морским пилотом. В 1940 произведен в вице-адмиралы, командовал авианосцем «Энтерпрайз». После нападения японцев на Перл-Харбор эскадра Хэлси осталась последней боеспособной американской группой на Тихом океане. В июне 1944 стал командующим 3-м флотом, с которым принял участие в битве в заливе Лейте. В отставке с 1947, занялся бизнесом.
Чан Кай-ши, Цзян Цзе-ши [31.10.1887, Фынхуа, пров. Чжэцзян — 5.4.1975, Тайбей]. Китайский государственный деятель, генералиссимус. Окончил военную академию в Баодине и Токио. В начале XX века выступал на стороне Сунь Ятсена. В качестве главнокомандующего Национально-революционной армией участвовал в Северном походе 1926—1927. С 1926 председатель ЦИК гоминьдана. 12.4.27 совершил переворот, стал президентом, председателем исполнительного юаня, главнокомандующим вооруженными силами. После поражения от войск народно-освободительной армии бежал на Тайвань, где основал независимое государство.
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (Churchill Winston Leonard Spencer) [30.11.1874, Бленхейм, близ Вудстока, Оксфордшир — 24.1.1965, Лондон]. Государственный, политический и военный деятель Великобритании, один из лидеров консервативной партии. Образование получил в привилегированной школе Харроу и Сандхерстском военном училище. С 1895 служил офицером в войсках, участвовал в колониальных войнах и подавлении национального восстания в Индии, Судане и других британских колониях. Одновременно сотрудничал в газетах. Во время англобурской войны 1899— 1902 военный корреспондент в Южной Африке. В 1900 избран в парламент от консервативной партии. В 1904 по карьерным соображениям перешел в либеральную партию. Многочисленные выступления с критическими речами в адрес правительства способствовали росту его популярности. В 1906 назначается заместителем министра колоний. В 1908—1910 министр торговли, в 1910—1911 министр внутренних дел, в 1911 — 1915 первый лорд Адмиралтейства. В I Мировую войну участвовал в обороне и эвакуации Антверпена, был одним из организаторов Дарданнельской операции 1915—1916, провал которой привел к его отставке. С 1917 Черчилль — министр военного снабжения, в 1919—1921 военный министр и министр авиации. В 1921 — 1922 министр колоний, активно занимался укреплением английских колониальных войск, строительством баз, особенно на Ближнем Востоке, впервые применил военную авиацию для подавления национально-освободительного движения в колониях. В 20-е годы вернулся в консервативную партию, от которой с 1924 до конца жизни был депутатом парламента. В 1924 — 1929 министр финансов. В 1930—1939 занимался журналистикой. В 30-е годы активно выступал против внешней политики С. Болдуина и Н. Чемберлена, направленной на умиротворение фашистских агрессоров. С вступлением Великобритании во Вторую Мировую войну в сентябре 1939 назначен военно-морским министром, а в мае 1940 — премьер-министром. Участвовал в Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях. После победы лейбористов на выборах 1945 правительство ушло в отставку, и Ч. возглавил консервативную оппозицию в парламенте. 5.3.1946 в Фултоне выступил с речью, которая считается началом холодной войны. В 1951 — 1955 Черчилль вновь премьер-министр, проводил политику усиления военной организации НАТО, ремилитаризации Западной Германии, создания военных блоков. В 1955 ушел в отставку и отошел от политической деятельности (член Палаты общин до 1964). Черчилль известен также как публицист и автор ряда книг историко-мемуарного жанра: «The Second World War» (рус.пер.: Черчилль У. Вторая мировая война: В 3 кн. Сокр. пер. с англ. М., 1991. Кн.1 — 3), «A history of the English-speaking peoples», «The world crisis» и др.
Чингис-хан (Темучжин) [ок. 1155 г., урочище Делпун-Юол-дан на реке Онон — 25.8.1227], основатель единого Монгольского государства, полководец. К 1204 разбил соперников в борьбе за власть и, захватив обширные территории, стал фактическим главой населяющих их родоплеменных объединений. На курултае 1206 он был провозглашен великим ханом над всеми племенами с титулом Чингис-хан (от тюрк. Чингис — океан, море). Подчинив в 1207 — 1211 народы Сибири и Восточного Туркестана, в 1211 напал на чжуржэньское государство Цзынь. Чингисхан умер на территории тангутского государства Си-ся во время начатого им в 1226 похода в эту страну.
Шерман Уильям Текумсе (Sherman William Tecumseh) [8.2.1820, Ланкастер, Огайо — 14.2.1891]. Амер. военачальник. Окончил Уэст-Пойнт в 1840, в 1855 вышел в отставку, в 1861 вступил добровольцем в армию северян. С 1863 возглавил армию Теннесси. Весной 1864 взял Атланту, откуда совершил марш к морю, разделивший территорию Конфедерации. С 4.3.1869 — полный генерал и главнокомандующий армией США (до 1.11.1883). Один из крупнейших полководцев северян.
Эврибиад (Еврибиад), сын Эвриклида (Eurybiades). [V в. до н.э.]. Спартанский военачальник. Формальный главнокомандующий союзного греческого флота в битвах при Артемисии и Саламине.
Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (Eisenhower Dwight David) [14.10.1890, Денисон, Техас — 28.3.1969, Вашингтон]. Государственный и военный деятель США, генерал армии (1944). Окончил военную академию в Уэст-Пойнте (1915). С 1920 служил в американских войсках на территории США и за рубежом, в военном министерстве, штабе армии. С июня 1942 командовал американскими войсками с Северной Африке и Средиземноморье. С 1943 верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Западной Европе, руководил высадкой англо-американских войск в Нормандии (1944). Был награжден орденами многих стран, в т.ч. орденом «Победа» (1945). После разгрома Германии командующий оккупационными силами США в Германии. В нояб. 1945 — февр. 1948 начальник штаба армии США. В 1950—1952 верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе. В 1948—1952 ректор Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 1953 — 1961 34-й президент США (от Республиканской партии). Рус. изд. его мемуаров: Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу: Воен. мемуары / Пер. с англ. Е.М. Федотова. М., 1980.
Эсхил (Aeschylos), сын Эвфориона. [525 г. до н.э., Элевсин, близ Афин - 456 г. до н.э., Гела, Сицилия]. Афинский трагик, пользующийся со времен древности славой «отца трагедии». Первый из античных драматургов, чьи произведения (семь трагедий целиком и фрагменты) дошли до нас. Участник битв при Марафоне, Саламине и Платеях. Осн. рус. изд. соч. Э.: Эсхил. Трагедии / Пер. Вяч. Иванова, А.И. Пиотровского; изд. подг. Н.И. Балашов и др. М., 1989. — (Лит. памятники).
Ямамото Исуроку [4.4.1884, Нагаока, префектура Ниигата — 18.4.1943, район Соломоновых островов]. Японский адмирал. Окончил Морскую академию (1904) и Военно-морской штабной колледж (1916). Участвовал в русско-японской войне 1904—1905. В 1936—1939 заместитель морского министра. С 1939 командовал Соединенным флотом. В 1941 — 1943 руководил морскими операциями, начиная с нападения на Перл-Харбор. Во время сражения на Соломоновых островах самолет, на котором летел Ямамото, был сбит американской авиацией, которая получила информацию о его вылете.
Заключение
Как известно, история не имеет сослагательного наклонения. Очевидно, именно поэтому из нее никто никогда не извлекает никаких уроков. А извлечь их очень хочется — вот и появляется странный жанр, именующийся «альтернативной историей».
Подобно любому жанру, лежащему между строгой наукой и фантастической литературой, альтернативная история имеет как фанатичных поклонников, так и убежденных противников. Заметим, что среди первых профессиональные историки встречаются гораздо чаще, чем это можно предположить. Собственно, это лишь у нас исторические альтернативы давно и прочно были отданы в ведение научной. Но на Западе, где даже академическая наука никогда не стремилась любой ценой сохранять серьезное лицо и не чуралась легких «игр ума», вариации на тему, «что было бы, если...» давно стали общепринятой частью околоисторической среды. Во-первых, это просто интересно — узнать, что бы случилось, «если бы Александр не умер тогда...» А во-вторых, осознание всего спектра альтернатив, стоявших перед тем или иным историческим деятелем, помогает лучше понять, почему им было избрано то, а не иное решение...
Другое дело, что сами альтернативы тоже создаются в разных Реальностях, обитатели которых часто воспринимают окружающий мир совершенно по-разному, а иногда создается впечатление, что даже природные и социальные законы действуют различным образом.
Представленный Вашему вниманию сборник написан именно «по ту сторону» нашей Реальности — тем он и интересен. Мы надеемся, что в скором времени сможем познакомить вас с другими вариантами видения Реальности, созданными как в наши дни, так и в давно прошедшие времена и эпохи. Например, когда «броня была крепка, и танки — быстры».
В ближайших же планах редакции — переиздание многотомного «Военного дневника» Ф. Гальдера, дополненного фундаментальной статистической работой Мюллер-Гиллебрандта «Сухопутная армия Германии». Труд этот предполагается снабдить обширными комментариями и приложениями, поскольку исследование Мюллер-Гиллебрандта выходило еще в пятидесятых годах и приведенная в нем информация требует существенных уточнений.
Малоисследованным событиям Третьей Мировой войны будет посвящена книга «Арабо-израильские войны», основой которой станут мемуары бывшего израильского президента Хаима Герцога. Эта работа представит читателю израильский взгляд на историю ближневосточного конфликта, длящегося по сей день. Точно так же в исследовании Уильяма Стьюка «Корейская война» читатель найдет современную американскую версию одного из начальных этапов Третьей Мировой. Разумеется, обе книги мы планируем снабдить развернутыми примечаниями и комментариями.
Вслед за сборником «Последние адмиралы», посвященном судьбам двух столь непохожих деятелей русского флота, как адмиралы С.О. Макаров и З.П. Рожественский, выйдет и другая биографическая работа — книга профессора Ч. Поттера «Адмирал Нимиц». А в сборник «Лоуренс Аравийский» вместе с книгой мемуаров самого Лоуренса «Восстание в пустыне» войдет биография знаменитого разведчика, написанная Б. Лиддел Гартом.
Вслед за «Первым блицкригом», повествующем о плане Шлиффена и событиях 1914 года, появится книга, посвященная германскому блицкригу 1939—1941 годов в Западной Европе. Для любителей оперативного искусства будет небезынтересной аналитическая работа А. Филиппи «Припятская проблема», проливающая свет на неочевидные тонкости в подготовке и осуществлении плана «Барбаросса», и издаваемая в паре с мемуарами Г. Фриснера «Проигранные сражения». Далее готовится издание трудов классика американской военно-морской мысли А.Т. Мэхэна «Влияние морской силы на историю» и «Влияние морской силы на Французскую революцию и Империю».
В дальнейших планах издательства — вернуться на поля Первой Мировой. Книга «Первая Мировая война», написанная Джоном Киганом (одним из авторов настоящего сборника), представит нам современный американский взгляд на историю этой войны в целом, а сборник «Восточный фронт, осень 1914 года», заново откроет читателю страницы русской военной славы — сражения в Галиции и под Саракамышем.