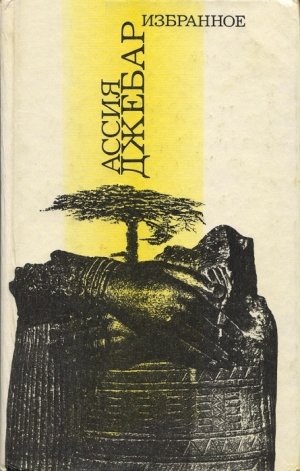
Часть первая
Глава I
Тем летом я была как-то тускло безразлична и к пылающему над М. солнцу, и к галдежу многочисленных завсегдатаев побережья, сгрудившихся на пляже компаниями или семьями и подставлявших жарким лучам свои обнаженные тела. Так три месяца в году они получали свою порцию хорошей погоды.
А я все лениво дремала — то утром на теплом песке, то в душный полдень на влажных простынях в кровати во время долгой сиесты. Ночной воздух был свеж и легок, все кругом погружалось в тишину. Но мне ночь не приносила облегчения. Я все никак не могла избавиться от какого-то горького привкуса этого июля; вид пляжа, похожего на пышное тело цветущей женщины, угнетал меня.
Мне вовсе не нравилось грустить, я не любила душевной смуты. К тому же мне только что стукнуло двадцать…
Этот год проскользнул, как обычно, похожий на все предыдущие: в привычном ритме нечастых походов нашей компании в кино и по разным казино Алжира, в домашних вечеринках дождливыми воскресеньями, в бешеных гонках на открытых автомобилях, похожих на молодых, норовистых породистых лошадей, когда мчишься, подставив лицо ветру… А теперь внутри у меня была какая-то пустота.
Мне и раньше случалось просыпаться вялой после бурно проведенной ночи. Сколько таких ночей незаметно пронеслось в радужном веселье, под звуки джаза, в сигаретном дыму! А наутро голова была тяжелой, руки и ноги ломило от усталости и рассвет казался серым, безрадостным. Что-то похожее я испытывала и сейчас, ощущая такую же тошноту, словно опускалась, судорожно глотая воздух, в глубокий колодец…
Отец, уезжая во Францию по делам и подлечиться, оставлял меня с неохотой. Он принял одолевавшую меня скуку за отчаяние — ведь я двумя месяцами раньше отказала своему жениху без всяких на то видимых причин.
Я снисходительно улыбнулась. Уж отец-то вполне мог бы понять, что я вовсе не тороплюсь выйти замуж и мне нисколечко не жаль моей неудачной помолвки, — он вообще ни разу не видел, чтоб я лила слезы из-за любовных огорчений…
Но беспокойство его обо мне не позволяло ему видеть вещи в истинном свете, а я ему все прощала. За то лишь, что только он один был ласков со мной и эта его отцовская ласка и нежность так согревали меня. Мирием, на попечение которой он меня оставил, единственная из сестер проявлявшая обо мне материнскую заботу, была снова беременна и озабочена предстоящими родами — ей было не до меня. Мне не нравилось отсутствующее выражение, которое появлялось вдруг на ее прекрасном лице. Ее шумные дети, мальчики двух и пяти лет, безжалостно досаждали ей своей беготней. Я находила в них сходство с их отцом, чью суетность и притворство просто ненавидела. К счастью, он возвращался со службы из города поздно ночью. И мне казалось, что в этом большом доме я совершенно одна со своей усталостью и тоской.
Лето было жарким и душным, и, когда ближе к вечеру густой и влажный воздух постепенно редел и наполнялся запахом эвкалиптового леса, росшего неподалеку, я брала себе в сообщницы свою машину и сбегала на ней в спокойствие дорог, освещенных ярко-красными лучами заходящего солнца.
Мне нравился грустный хмель тихого вечера; я любила свое одиночество и с удовольствием погружалась в спокойное море в маленькой, неприметной бухточке, берег которой с блестящей галькой казался особенно пустынным и диким на закате.
Вода была прозрачной и холодной, как моя юность.
С мокрыми волосами, с солоноватыми от моря губами и возвращалась домой. Это и был единственный миг моего блаженства, миг умиротворенности — иначе и не назовешь ту приятную тяжесть, разливавшуюся в моем теле и одновременно приносившую ясность мысли. Хотя я опасаюсь, что не совсем точно определила свое состояние. Скорее, это была просто гармония медленно угасавшего в своем великолепии дня и томительной лености, которая обволокла тогда мою жизнь.
А жизнь эта была, в общем-то, хоть и безмятежной, но поверхностной и пустой. Было отчего почувствовать себя разуверившейся и разочарованной во всем в свои двадцать с небольшим лет.
В таком вот состоянии возвращалась я как-то со своей одинокой прогулки. Я вышла из машины в последнее время я стала уставать даже от нее. Скорость — это опьянение, которое быстро утомляет.
Так вот, в тот вечер я долго бродила по дороге — в брюках и сандалиях на босу ногу. Еще не стемнело, когда я медленно вышла на тропу, которая вела к сероватого цвета вилле в глубине огромного парка, что был рядом с нашим. И тут я увидела ее прямо перед собой, когда она выходила из калитки, — в освещенном солнцем облачке пыли, поднятой ее ногами. Это было ее лицо, ее тонкое, с царственными чертами лицо с продолговатыми глазами под густыми ресницами. Прерывистым от волнения голосом, как это бывает, когда вдруг нахлынут воспоминания, я позвала ее:
— Джедла!
Она медленно, как бы нехотя растянула в улыбке губы. Я не видела ее четыре года, однако в эту минуту поняла, что ее темный взгляд всегда жил в глубине моей души, смутно волновал меня. Я почувствовала, как заколотилось мое сердце.
Мы обменялись ничего не значащим рукопожатием, и между нами воцарилось неловкое молчание. Потом она заговорила, и мне стало не по себе: я снова слышала ее низкий грудной голос, который в те времена, когда ей было восемнадцать, звучал для меня всегда сдержанно и важно. А теперь в нем слышалось плохо скрываемое желание поскорее все рассказать о себе, и блеск ее глаз, казавшихся еще более темными на фоне бледного лица, выдавал это нетерпение.
Оказывается, она десять месяцев назад вышла замуж за журналиста. Теперь они уехали из Парижа, решив обосноваться в Алжире. Пока отдыхают в М. на вилле своего приятеля. Она говорила все это с какой-то отрешенностью. Я слушала, впившись взглядом в ее лицо.
«Джедла…» — шептал во мне голос, звучавший как жалоба, как укор. Я вспоминала наш последний школьный год, наш пансион, наш лицей в маленьком провинциальном городке, дружбу Джедлы, ее необходимое для меня присутствие и тот ее взгляд, которым потом посмотрела она на меня, когда крикнула в темноту, стоя в дверях лицея, что больше не хочет дружить со мной; а я в это время пряталась в объятиях моего первого мальчика, которого считала красивым… Я запомнила этот взгляд тяжелый, жесткий, словно ей хотелось выплеснуть на меня всю свою боль, а может быть, и ненависть. Я с вызовом посмотрела на нее и улыбнулась, не сказав ни слова. Но ее холодность и особенно ее презрение ко мне так и не исчезли до самого конца этого прекрасного года — прекрасного уже только потому, что она была рядом, со светом своих глаз, со своим молчанием, со своими мечтами. И со своей тайной…
Сейчас она не пригласила меня зайти к ней и, даже узнав, что наши дома рядом и мы соседи, ничего не пообещала на будущее. Я же просила ее приходить в гости. Я была счастлива уже только тем, что снова встретилась с ней; она это знала, но ответила на мое приглашение лишь сухим «может быть». Мы расстались, обменявшись какими-то банальностями. Но я уносила теперь с собой ее хрупкий образ и груз воспоминаний о прошлом, с которым, как мне казалось, давно распростилась…
Шумный ужин закончился; в ночной прохладе растворялись последние обрывки разговоров, и наконец все отправились спать, а я одна осталась на веранде, чтобы помечтать и темноте. Невольно мой взор устремился туда, где за разделявшей нас камышовой изгородью стояла серая вилла.
Я часто в последнее время слышала голоса наших соседей, когда вопреки своей привычке шла полежать в тени какого-нибудь чудом уцелевшего дерева, чья листва еще не успела сгореть в летнем зное. У меня было теперь излюбленное местечко около камышовой изгороди, под старым лимонным деревом, на узловатых ветвях которого я когда-то, еще в далеком детстве, раскачивалась как на качелях. Но ветви спилили, и остался только один ствол, прямой, как деревянная нога. Я устраивалась под ним и дремала часами, ловя каждое дуновение ветерка.
Горло перехватывало от истомы, и мне было так хорошо, так хорошо в этом сонном оцепенении, в этом теплом мареве!.. Я даже стонала от удовольствия. За изгородью часто раздавался смех, громкие голоса, заставлявшие меня вздрагивать. Я не обращала на них особого внимания, пока один звонкий мужской голос не привлек меня. Накануне я была и вовсе удивлена, когда услышала, как он зазвучал по — арабски, на том гортанном наречии, на котором говорят жители юга страны. Мое удивление было законным: на этом модном побережье, в основном посещаемом семьями колонов и изредка чиновников, во всяком случае только европейцами, мы были единственными мусульманами. Но светлый цвет моих волос и кожи, весь мой эмансипированный облик и поведение вводили всех в заблуждение, те же, кто меня знал, не забывали напомнить, что моя мать была француженкой и, хотя она умерла, как только я появилась на свет, мой отец сумел меня воспитать, как они утверждали, «на европейский манер»… Я могла сколько угодно их всех презирать, но я была одной «из них». Я это знала, и муж моей сестры тоже и поэтому косо посматривал на мои брюки и всегда догадывался, что курю именно я, если видел в темноте на веранде огонек сигареты…
Мне действительно нравился этот немного жестковатый, твердый голос, и оттого, что я знала теперь, что он обращается к Джедле, я чувствовала себя в полной растерянности.
Да, этот голос соответствовал ей, чистым чертам ее лица, которое сохранила моя память таким, — таким оно было в памятный год моей юности, нахлынувший на меня теперь тяжелой волной воспоминаний. Они готовы были захлестнуть меня и сейчас, но я воспротивилась им, устало рассмеявшись.
Когда я вернулась к себе, вошла в свою комнату, тишина, царившая в доме, наполнила мою душу покоем. Это был какой-то особенный покой, доселе не знакомый мне. И прежде чем заснуть, я все поняла.
Лето теперь могло продолжаться дальше, катиться себе вперед, словно полый шар, подобный моей пустой жизни, ничем, кроме сонного дурмана жары да леденящей сини моря, не заполненной. Достаточно было обжигающей немоты одного взгляда Джедлы, чтобы все вдруг — и мои любимые часы отдыха на теплом песке, и мои одинокие прогулки по летним дорогам, — все вдруг внезапно оказалось ненужным, никчемным. Я поняла, что скука и тоска кончились, что одиночества больше нет.
Глава II
На следующий день я встретила их обоих. Солнце уже стояло высоко, и я отправилась на пляж; я приметила их еще издали на той самой дорожке, что шла вдоль ограды их парка. Джедла чуть впереди, за ней высокий, немного сутулый мужчина. Я пошла быстро, стараясь пройти незамеченной, потому что почувствовала вдруг, что смущена их появлением. Однако я успела поймать скользнувший по мне взгляд Джедлы и тень легкой улыбки на ее лице. Вот и все. Но я уже знала, что буду потом долго вспоминать об этой паре, которая медленно приблизилась ко мне и так же медленно повернула в сторону с тем отрешенным видом, какой бывает у посетителей музея, которые проходят перед экспонатами, не замечая ничего вокруг. А я подумала о счастье. Именно таким я его и воображала: глубокая сосредоточенность на самих себе, молчаливая погруженность в свои думы, как у Джедлы и Али, увиденных мной на повороте дороги.
То летнее утро было зябким. Нетерпеливые порывы ветра гнали по сине-зеленому морю мелкие барашки волн. Вода была холодной, и после освежающего купания мне захотелось забыть об этой встрече. Мне было противно мое любопытство, я находила в нем что-то нездоровое. Я насмехалась над этой жадной завистливостью одиноких женщин. И любила свое гибкое тело, которое бросала навстречу искрящимся под ярким солнцем волнам.
К обеду я вернулась домой, отдохнувшая, в достаточно хорошем настроении, чтобы выслушать болтовню моей сестры. Мирием была очень возбуждена в последнее время. Она то и дело рассказывала о каких-то очередных размолвках со свекровью. Ее муж обедал у своей матери, в Алжире. И без того никогда не любившие друг друга, женщины видели в этом еще один повод для взаимной ревности. Я знала, что на самом деле моя сестра — человек мягкий и добрый, и если она немного эгоистична, то уж, во всяком случае, не зла. Ей не хватало для этого упрямства. И откуда у нее вдруг брались эти колкие словечки, это жесткое выражение лица? Неужели ее любовь к близорукому мужу, к его сутулым чиновничьим плечам могла родить столько желчи? Однако все эти слишком оскорбительные нападки Мирием на свою свекровь мне пришлись по душе: они словно пробудили меня от моего оцепенения, от моих неопределенных мечтаний. Я решила вновь облачиться в холодное безразличие. У меня вдруг возникло желание прокатиться на машине или помечтать о возлюбленном.
Я росла ребенком избалованным не только отцом, но и судьбой. Она была ко мне всегда милостива. Достаточно мне было чего-нибудь только захотеть, даже о чем-то лишь смутно подумать, как все складывалось именно так, как я желала.
Вот почему я не удивилась в тот день, когда мне встретился Хассейн. Я возвращалась после купания босая, с мокрыми волосами, и вдруг какая-то машина притормозила возле меня. Я радостно улыбнулась Хассейну-мне всегда было приятно его видеть. Несколько минут спустя мы уже сидели за столиком на открытой террасе кафе у моря.
— Вы похорошели, — сказал он. — А ваши светлые, мокрые волосы делают вас похожей на… русалку.
Я прервала поток его комплиментов, хотя мне и нравился их дружески насмешливый, открыто иронический тон. Уже давно между нами повелось так, что я разыгрывала из себя кокетку, а он — человека разочарованного, уставшего от женщин. Этим мы облегчали себе общение. И всякий раз, когда мы встречались, мы были довольны своими хорошо сыгранными ролями и тем, что нам удалось достойно ответить на недобрые взаимные выпады. Это действовало возбуждающе. Вот и сейчас Хассейн поддразнивал меня, и я хохотала от всего сердца, даже не пытаясь ему возражать.
— Я сказал «на русалку»? Да нет! Вы похожи, скорее, на колдунью, очаровательную, конечно, колдунью!
— Отпускайте комплименты хотя бы увереннее! А еще лучше — расскажите-ка мне о себе. Как жизнь?
— Моя адвокатская контора вполне процветает. Так что можно было позволить себе две недели отдыха. Но особо удаляться от Алжира я все-таки не могу, вот и приехал сюда. И надо же такому случиться: как только вышел из отеля, первого, кого встречаю, — это вас! Нужно ли говорить, как бешено забилось мое сердце!
Мы рассмеялись. Я была счастлива, что Хассейн оказался здесь. Одной мне уже становилось скучно, и я искренне призналась ему в этом. При Хассейне я могла говорить о чем угодно, все высказывать вслух, даже то, что полагала циничным. С ним все становилось просто, и простота эта вселяла покой. Однако это не помешало мне отметить его манеру избегать со мной серьезного разговора. Его ирония прекрасно служила ему, с ее помощью он ускользал от меня так же легко, как вода утекает сквозь пальцы…
Я мечтательно смотрела ему вслед, когда он пошел купить сигареты. Он не был красив — слишком смуглый, черноволосый, немного приземистый. Его массивной коренастой фигуре недоставало элегантности. Однако мне нравился пронзительный взгляд его глаз, в глубине которых вспыхивал огонек, придававший им настороженное выражение. А тонкие губы делали его улыбку жесткой, ироничной.
— О чем задумались, Надия? — спросил он меня, вернувшись.
— О вас!
Я по старой привычке взглянула на него полными невинности глазами. Отметив про себя фальшивость своего поведения, я решила прекратить игру. Мы еще немного поболтали о каких-то пустяках, как вдруг Хассейн неожиданно спросил:
— Я узнал, что вы разорвали помолвку…
Я почувствовала себя так, словно меня насильно заставили оглянуться назад. А мне этого очень не хотелось. Я уже было обрела то внутреннее безразличие, с которым привыкла говорить об этом «деле», как выразился бы муж моей сестры. Теперь же в глубине моей души словно открылась черная бездна, я сама вдруг задумалась над тем, что произошло.
— И вы были причиной тому! — сказала я Хассейну.
Бесцеремонность иногда была для меня удобной, но мои вольности всегда смущали людей, и моя откровенность казалась им вызывающей. Хассейн принял серьезный вид и произнес с трагической интонацией:
— Каким же это образом мне выпала такая высокая честь — проникнуть, даже не подозревая этого, в вашу жизнь, овладеть вашими чувствами?..
И по тому, что в голосе Хассейна скрывалась ирония и взгляд его по-кошачьи хитро и остро следил за мной, я поняла, что он во власти игры и все между нами по-прежнему. Скука, вновь овладевшая мной, поднималась из глубин нашего прошлого, которое снова надо было ворошить и снова думать о том, чем станут наши отношения: стоит ли все время прикидываться, надевать на себя различные маски — словом, делать вечно одно и то же. И тогда я, как бы прислушиваясь к самой себе, начала ему рассказывать, спокойно и вроде бы даже равнодушно:
— Когда после пасхальных каникул я с отцом вернулась из Парижа в Алжир, вся семья моего дорогого жениха — бог знает, откуда ей было это известно, — уже проведала о том, что я с вами провела вечер, ходила танцевать в ночной клуб. Это оказалось просто замечательным поводом для злых сплетен и едких насмешек моей будущей свекрови. Словом, вспыхнул типичный скандальчик, как это водится в буржуазных семейках. Потом явился Саид. Как всегда, рассудительный. Попросил меня никогда ни с кем больше никуда не выходить, не развлекаться, даже с вами, хотя вы и друг семьи. Он говорил, что понимает меня, вовсе не ревнует, но надо же уметь идти на уступки тем, кто нас окружает, учитывать обычаи нашего общества… В общем, он хотел от меня его же благоразумия и призывал к благопристойности в поведении. Может быть, сам-то он и был благоразумным, но, пожалуй, чересчур. Я бы предпочла…
Я остановилась, сама удивленная тем, что выпалила.
— Вы бы предпочли?.. — терпеливо напомнил Хассейн.
— О нет!.. Ничего. Я и сама не знаю.
На какое-то мгновение мне захотелось быть искренней, открыться ему, себе самой, оставить свою позу. Но я только пожала плечами. Зачем это? Искренность была бесполезной.
— Да я уже все давно позабыла… И незачем об этом вспоминать. В конечном счете я счастлива, что порвала с ними со всеми: и с женихом, и со всей этой богатой и скучающей молодой братией — со всеми этими безмозглыми распутниками…
Мне вообще всегда было неинтересно то, что отошло в прошлое, что уже умерло для меня. А сейчас мне как бы предлагали заняться самоанализом, заглянуть к себе в душу. Это наводило тоску. И мне захотелось вдруг хоть разочек увидеть перед собой мужчину сильного, уверенного в себе, внушающего спокойствие, нежность, доверие. Я взглянула на Хассейна. Он был тем самым человеком. Ну конечно же, он. Я не только не презирала его, даже наоборот, он мне нравился. Пусть он смотрел на меня с этой тонкой своей усмешкой, без всякого снисхождения. Но он был исполнен той особой, мужественной теплоты, той внушающей покой уверенности, о которой я и мечтала.
Я снова посмотрела на Хассейна. Мне уже надоели его подтрунивания, во всяком случае, сейчас я не была расположена их выслушивать.
— Вы мне нужны просто так, без брачных обязательств… — Он скорчил смешную гримасу. — И как подумаю, что вы чуть было не вышли замуж… — Он шумно вздохнул.
— И что дальше?
Я поняла вдруг неловкость вопроса, которым невольно провоцировала его, и мне стало неприятно.
— Что же дальше? — повторил он.
Он произнес эти слова, как-то вдруг вскинув брови, с игривым выражением, в котором было еще что-то такое, неопределимое, не могу даже сказать что. Он наклонился ко мне:
— Дорогая Надия, вы никогда не замечали, какой ужасно глупый вид бывает у новобрачных, а?..
И пока он поднимался из-за стола, довольный своей шуткой, я подумала — в первый раз за много дней — о Джедле, об этой гордой собой паре, повстречавшейся мне на дороге к морю, об их счастливом смехе в саду. И ничего не ответила.
Потом мы встречались с Хассейном каждый день, были с ним неразлучны. Мне нравилась его спокойная дружба. Раньше, в юности, все мои увлечения сводились лишь к двусмысленности флирта, а теперь я с удовольствием предавалась веселому ребячеству, мне была по душе и открытость нашего с ним общения, и серьезность бесед; я уже больше не валялась в безделье на пляже посреди других таких же вялых тел, безмятежно жарившихся на солнце. Хассейн был хороший пловец, и мы далеко заплывали вместе. Первая неделя после его приезда была для меня счастливой и радостной. Я снова обрела нормальные желания, заново наслаждалась морем, музыкой, звуками джаза в шумных кафе, быстрой ездой… Дни летели незаметно. Я чувствовала свою молодость, красоту. И была признательна Хассейну за возвращенную мне беззаботность. Мне даже хотелось иногда стать мужчиной, чтобы быть его настоящим другом, товарищем, — я признавалась ему в этом, особенно на крутых поворотах дороги, когда мы неслись в машине с головокружительной скоростью, опьянявшей меня. А он еще чуть-чуть нажимал на акселератор и возражал мне ворчливо, что всему предпочитает мои длинные волосы…
Я воспринимала его ответ как очередное поддразнивание и порой прикидывалась, что обижаюсь. Так было проще. Потом мы оба хохотали, и взрывы нашего смеха тонули в необъятной голубизне неба.
Когда я заметила ту пару на дороге, то подумала, что они опять пройдут мимо, погруженные в свое молчание и мечты… Хассейн шел рядом со мной. Но произошло непредвиденное.
Мужчина пошел нам навстречу, и Хассейн радостно приветствовал его. Потом все быстро друг другу представились и отправились посидеть на террасу в кафе. Джедла все улыбалась мне загадочной улыбкой, а мужчины оживленно болтали.
Я разглядела получше Али Мулая. Его красота не казалась мне вызывающей, напротив, я даже увидела в нем нечто изысканное, не лишенное благородства. Меня ничто не смутило в нем, не показалось странным, разве что немигающий, устремленный куда-то вдаль взгляд. Джедла не произнесла почти ни слова. Правда, она успела наскоро рассказать своему мужу о том, как мы с ней познакомились. И я услышала тогда впервые, как она говорит по-арабски, не очень уверенно, с сильным акцентом. Со мной она никогда не разговаривала на нашем языке, и теперь это еще более отдалило ее от меня. Я чувствовала себя с ней весьма напряженно.
Когда мы разошлись, Хассейн заговорил об Али, хотя я вовсе не хотела ни о чем его расспрашивать. Он рассказывал о том, какой Али талантливый журналист, какой умница, какой порядочный человек. Хассейн считал, что они прекрасная пара. По тону Хассейна, по тому горячему энтузиазму, с которым он говорил об Али и Джедле, я поняла, что он испытывает неожиданное для меня в нем уважение к их серьезности, красоте, счастью. И мне вдруг стало одиноко и грустно.
Глава III
Я ушла в тот день подальше от дома, в глубину сада, и устроилась под моим любимым деревом, чтобы поразмыслить как следует о нашем последнем разговоре с Хассейном.
Мы обедали в одном из тех приморских ресторанчиков, фасады которых едва видны с дороги, но к которым можно подъехать, свернув с шоссе, и найти убежище в тени их террас, словно бросающей вызов яркой, слепящей, пьянящей синеве водной глади и неба.
И теперь, лежа в саду, я вспоминала о злом блеске глаз Хассейна, ставшем особенно заметным, когда солнце начало клониться к горизонту. Хассейн сначала много говорил о себе, с какой-то наигранной горечью, потом обо мне — и довольно бесцеремонно, даже нахально, что в конечном счете начало меня злить. Вообще надо признать, что в то время меня ужасно раздражало, если кто-то пытался закамуфлировать свое страдание. Я бы, наверное, искренне растрогалась, если бы мне довелось увидеть, как по-настоящему страдает человек. Вот и тогда, слушая Хассейна, я думала только о том, что он излишне выпил, и мне было довольно противно смотреть на его бокал с шампанским. Сейчас же в этом саду, лежа на благоухающей траве, высушенной летним зноем, я чувствовала, как мной снова овладевает грусть. Дружеские отношения наши были нарушены. И мне так хотелось подобрать осколки этой дружбы, чтобы любоваться ими вволю, с тоской вспоминая, как нам было легко и хорошо. Но в памяти всплывали только слова глупые, ничего не значащие, или же злые, циничные. Слова, которые меня уже даже не трогали, хотя они все еще и мельтешили у меня в голове, как жалкая ярмарочная мишура. И слышался голос Хассейна, который вдруг неожиданно мне сказал:
— Я бы мог вас так любить, так сильно любить… как свою любовницу… Мы могли бы любить друг друга два, три, четыре года, пока мы молоды, пока мы молоды… Вас это не прельщает?..
Пока он продолжал в том же духе, я думала о той сцене, которая могла бы здесь разыграться: войдя в роль холодной, благородной девственницы, я даю ему пощечину, решительно называю его «негодяем», а затем, сохраняя свое достоинство, удаляюсь…
Конечно же, ничего такого я не сделала. Я искала себе оправданий: и высказал он, дескать, все это в условном наклонении, да и сама-то я при этом румянцем залилась… Но вероятнее всего, что я никак не прореагировала на его слова из-за своей лени; мне просто не хотелось подниматься со стула — так приятно было сидеть, вытянув ноги, подставив их лучам солнца.
Море спокойно и важно подкатывало к берегу. И так было хорошо…
А Хассейн все говорил:
— Несмотря на эту вашу эмансипированность и свободу, из-за чего вам завидуют все девушки, я думаю, что на самом-то деле это далеко не так…
Я подумала про это его «не так». Мне стало смешно. «Только мужчинам и рассуждать о нашей эмансипации!» — хотела я ему сказать, выходя из себя. И ведь этот человек мог без особого труда стать моим любовником, вместо того чтобы тратить попусту время на глупую и злобную болтовню! Но я не сказала ему ничего. Солнце добралось уже до моих коленок. После такого вкусного обеда, да еще в залитый светом, разнеживающий полдень, когда веки тяжелели сами собой, хотелось только спать, погрузиться в блаженство…
А он все говорил и говорил, наводя на меня скуку. Да еще этот его тон — о господи! — такой вдруг важный, такой значительный:
— К тому же вам не по себе, вы не находите себе места! Ну да будьте же искренни, признайтесь: вам не по себе!
«О господи, — подумала я. — Как же мне сейчас хорошо с этим солнцем, с этим летом!»
— Признайте это! продолжал он. — На этом рубеже между двух цивилизаций вы просто не знаете, что вам делать! Вы несчастный продукт совместного производства! Всё толчетесь на одном месте и не можете набраться храбрости, чтобы найти хоть какой-то выход! Да вы и не знаете, куда вам идти! Какой выход для вас приемлем!
Внезапно его смех показался мне диким. Словно он не смеялся даже, а выл, ухал, как сова, и это его уханье просто надрывало мою душу, нарушало мой покой, мое блаженство.
— Да замолчите вы! Замолчите же! — тихо сказала я ему, но в голосе моем был призвук рыдания. И я убежала, вдруг став несчастной.
Руки мои, вцепившиеся в руль, еще долго дрожали. Дома я с любопытством рассматривала в зеркале мое новое лицо: по нему текли слезы. Надо было принять холодный душ, чтобы погасить эту мою смятенность.
Потом я долго спала, глубоко погрузившись в забытье. Я быстро уставала от проблем, которые мне кто-то создавал, и старалась не думать о них. Но на этот раз речь шла о Хассейне, а он мне был небезразличен. И все-таки я не любила проблем.
Я все еще дремала, когда из-за изгороди донеслись голоса, разбудившие меня. «Это они!» Я не осмелилась подглядывать через камышовое плетение, но чувствовала, что они стоят совсем рядом, где-то тут, поблизости от меня.
— Послушай, — говорил он, — не будь дурочкой! Я же тебе уже много раз объяснял, как это все произошло. Зачем тебе будоражить все это снова? Зачем?
Она отвечала медленно, с упорным терпением:
Я напрасно простила тебя, я не могу забыть. Нет! Я не могу забыть и не могу не думать об этом! И поэтому я сержусь на тебя.
Но ведь с этим давным-давно покончено, да и случилось-то все это до нашей с тобой свадьбы!
Однако как, оказывается, прекрасно умел его спокойный и ровный голос горячо молить, зажигаться огнем!
А Джедла продолжала говорить все с той же неумолимостью и непреклонностью:
— Ну и что? Я считала себя твоей женой все эти годы. И когда мы были еще только помолвлены, пока оставались женихом и невестой в течение трех лет, я все это время верила тебе. Ты же мне сам обещал…
— Да, — подтвердил он, и голос его стал печальным и тихим.
— Я бы с тебя ничего не спрашивала, если бы ты сам не обещал мне!
Воцарилось молчание. Потом она снова начала — холодно, с раной в душе:
— Видишь ли, Али, с тех пор, как умер в родах мой ребенок, я не могу выбросить из головы неотвязную мысль о «другой», о той твоей женщине. Подумать только, что где — то живет ваш ребенок!..
Джедла, но ты же прекрасно знаешь, что я не любил эту женщину, что я всегда любил одну тебя! Ты же знаешь, как ты меня заставляла страдать и что я вообще хотел все порвать, но у меня не хватило сил! Тогда я нарочно решил запятнать себя, чтобы было проще освободиться от тебя.
— Запятнать себя! — Раздался ее нервный и тихий смешок. — Запятнать себя! Если бы ты хотел запятнать себя, точно, как ты говоришь, ты бы бросился тогда к первой встречной, только для того, чтобы переспать с ней. Но ведь оказывается, та женщина была красавицей, как ты сам в этом признался. И я знаю, что она была желанной тебе. Я прекрасно представляю себе, как ты ей овладел. Вот почему она до сих пор шлет тебе эти прелестные открытки. У вас есть о чем вспомнить… О! Я больше не могу! С меня хватит!
Прерывающийся от волнения голос разразился рыданиями, похожими на истерику ребенка. Потом воцарилось молчание. Прошло несколько напряженных минут, похожих на тревожное ожидание. Наконец мужской голос тихо, страстно и нежно прошептал:
— Джедла, Джедла!
Мне стало стыдно, что я подслушиваю, что я присутствую при всем этом. И я убежала потихоньку домой, так и не понимая, что меня беспокоит.
Потекли пустые, скучные дни. Хассейн уехал в Алжир, и я сердилась на него за этот отъезд. Соседний дом погрузился в тишину. На душе стало тревожно, смутно, я уже не предавалась ленивым грезам. И не знала, куда себя деть. Только море, его спокойный простор, было моим утешением. Лежа на спине, затылком чувствуя глубину, с распущенными по воде волосами, я, закрыв глаза, отдавалась свободному течению. Небо, раскрытое надо мной, как огромное ложе, слепило меня. Я выжидала, пока пляж опустеет, освободится от разложенных на песке, как на выставке, тел, и подплывала к берегу, чтобы окунуться в его сонную лень и пустынность.
В тот вечер мы уже заканчивали ужин. В доме все было тихо и даже казалось мирным, как вдруг к нам ворвался, как ураган, Али с перекошенным лицом.
— С моей женой случилось несчастье. Я поеду за врачом, побудьте с ней!
Он говорил, повернувшись в мою сторону, но я не могла какое-то мгновение сдвинуться с места, не в силах отвести глаз от его дрожавшего лица.
Несколько минут спустя моя сестра и я уже были в соседнем доме. Мирием присоединилась к старой служанке, которая сидела рядом с Джедлой. О том, что происходило в последующие часы, у меня сохранилось смутное воспоминание, как о чем-то черном, нарушаемом иногда то вспышками просветления, то отчаяния. Помню безумный взгляд Али и эту закрытую дверь, неприступную, как судьба.
Мне ничего не оставалось делать, кроме как наблюдать за невыносимым отчаянием Али, полностью парализовавшим его. В порыве чувств, выйдя из своего оцепенения, я подошла к нему. Он был всегда для меня олицетворением силы, поддержки. И теперь эта сила рушилась у меня на глазах. Он посмотрел на меня. Я не знала, что сказать ему, мне хотелось только положить руку на его плечо. Но я не осмеливалась. Его лихорадочно горящий взгляд даже не задержался на мне, и он, заикаясь от волнения, в то время как мое сердце сжималось болью и состраданием к нему, проговорил:
Я нашел ее на полу в ванной комнате, неподвижную, почти почерневшую. Как только возвратился домой… Это она просила меня пойти купить хлеба. Это она…
И он скрючился, снова погрузившись в свой кошмар.
Пришел врач и сказал, что Джедла вне опасности и что ей лишь необходимо несколько дней покоя и отдыха, но я видела перед собой только сжатую руками голову Али, содрогавшегося от немых рыданий. Огонь сжигал мое сердце, я хотела кричать, умолять, заклинать, ругаться, лишь бы прекратить эти мужские рыдания, это страдание.
Повернувшись к двери, которая закрылась за жизнью женщины и за которой была спасена эта жизнь, жизнь Джедлы, я подумала, что она, возродившись, получит еще не остывшие угли этого страдания, коснется их обжигающего жара. Я пристально посмотрела на дверь, потом быстро ушла из дому. Ненависть просочилась в мою душу, холодная, липкая. И мне стало страшно.
Однако, когда я увидела ее, вытянувшуюся на кровати, бледную, похудевшую, я разволновалась, как при виде больного ребенка. Я знала ее всегда гордой, невозмутимо спокойной. И, только слыша временами из-за изгороди ее взволнованный голос, чувствовала ее душевные терзания. Теперь же ее словно вдавленная в подушку голова с прилипшими к мокрым вискам завитками волос, весь ее измученный вид, которые могли растрогать кого угодно, вызывали у меня нежность.
Я посмотрела на хрупкие очертания ее тела под простыней. И мне захотелось, хотя я все еще колебалась, обрести смелость и заговорить с ней, найти какие-то нужные слова, шепнуть их, наклонившись к этим почти прозрачным, прикрывающим глаза векам. Я хотела, чтобы она взглянула на меня. И она посмотрела, не улыбнувшись, а потом отвернулась. Однако мне показалось, что она вполне спокойна.
Тишина, царящая в комнате больного, всегда угнетает и быстро становится невыносимой. Я решительно нарушила ее, ничуть не заботясь о том, что произношу банальности:
— Ты отдохнешь, наберешься сил. И все пройдет, развеется, как дурной сон. Все уже позади.
Она окинула меня жестким взглядом. И я смолкла и снова стала бояться ее, поняв, что она всех нас держала на привязи своих неласковых глаз, своего тела, утонувшего в необъятной постели, своего упрямого лба, своего нежелания, отказа общаться с нами. Сама оставаясь недоступной. И снова воцарилось молчание, тяжелое, как смерть. И снова мой страх и моя ненависть странно смешались воедино, бились во мне, как два крыла над обрывом в черную бездну. Я не осмеливалась взглянуть на тот, другой край этой пропасти, на лицо Джедлы. Да еще это наше молчание, которое становилось уже невыносимым, которое должно было лопнуть, как слишком туго натянутая резинка, которое уже… И тут до меня донесся ее тихий голос. Она говорила, словно декламировала стихи, как-то тускло и мрачно:
— Я не знаю, что со мной произошло. Еще под душем я внезапно почувствовала сильную головную боль, голова стала тяжелой, такой тяжелой… Больше ничего не помню…
Ну вот, все и кончилось. Теперь она лежит здесь, и Али вошел к ней, лицо его разгладилось, остались только круги под глазами. Я оставила их вдвоем и пошла помочь Мирием, которая приводила в порядок дом после всего происшедшего. Но сначала я вошла в ту самую ванную, где все это случилось и куда никто из нас так и не удосужился зайти до сих пор. Автоматически, не думая ни о чем, убрала там. Взглянула, в каком состоянии подводка газа к водонагревательному аппарату — это ее надо было незамедлительно ремонтировать, как сказал мне Али, — их предупреждал в свое время владелец виллы, просил обратить внимание на шланг, он уже давно, как и вся проводка, был ненадежен. Около умывальника я машинально подобрала валявшуюся на полу смятую картонную коробочку. Я расправила ее и задумалась, увидев этикетку: это же была упаковка из-под гарденала!..
Рука моя еще блуждала по шлангу, где надо было обнаружить место утечки газа, чтобы показать его Мирием — она обещала позаботиться о ремонте. Потом я потихоньку вышла из ванной, рассеянно сжимая в руке кусочек картона, и пошла к себе домой. По дороге я остановилась, раскрыла ладонь и внимательно посмотрела еще раз на коробочку из — под снотворного. Потом выбросила ее подальше. Смятение, овладевшее мной, пронявшее меня до самого нутра, было похоже на панический страх.
Глава IV
Джедла выздоравливала медленно. Казалось, что она никак не могла проснуться после глубокого сна, прийти в себя после долгого путешествия. Она возвращалась к нам с отсутствующим, чужим взором. И тело ее неподвижно лежало под ослепительно белой простыней, и в ее зашторенной спальне можно было разговаривать только шепотом. Темные ее глаза были открыты, но их отсутствующий взгляд уносился куда — то вдаль через распахнутое окно.
С удивлявшей меня естественностью я исполняла роль и сиделки, и преданной подруги. И по дому ходила так, словно все в нем было мне привычным, своим. Я была скромна, стыдлива, даже целомудренна и вздыхала про себя: «О господи, зто-то мне зачем?!» Когда прежде я встречала Джедлу и Али на улице, то их близость, их нежность друг к другу приводили меня в бешенство, я вся съеживалась, ощетинивалась, готовая броситься на них, перегрызть им горло. И вдруг она теряет сознание… Казалось, бы, такой пустяк, но он был тенью снедавшей Джедлу смутной тоски…
И вот теперь она лежит здесь, ушедшая в себя, молчаливая. Не больная, но какая-то потерянная. И ничего не хочет — никаких изъявлений внимания, нежности; ничего не слушает и не слышит, не внемлет никаким увещеваниям. Али угрюмо бродил, опустив голову, по пустым комнатам или надолго уходил из дома и возвращался после своих прогулок уставшим, покрытым пылью, с угасшим взглядом. Он не замечал меня, не разговаривал со мной, и его рассеянность казалась мне, как это ни странно, признаком его полной беспомощности. Когда он входил в спальню к Джедле, а я сидела там, я немедленно поднималась, чтобы оставить их вдвоем. Но он меня задерживал каким-то усталым, утомленным жестом, на который я отвечала, не придумав ничего другого, согласием. Рядом с ней он хмурился немного, но в глубине его глаз вспыхивал теплый свет, они загорались бесконечным к ней вниманием, а когда он к ней обращался, то слова слетали у него с губ с обеспокоенной, взволнованной нежностью, чтобы коснуться ее слуха, чтобы заставить ее внять им.
Али тихо говорил:
— Тебе лучше?
Забывая о моем присутствии, он клал руку на ее загорелый лоб. Она отвечала ему ровным, ясным голосом:
У меня больше не болит голова. Только чувствую себя немного усталой.
— Ты поела?
Она поворачивалась ко мне, но не улыбалась, вынуждала меня вмешиваться, сообщать ему какие-то сведения о ее состоянии, но он не слушал, потому что непрерывно смотрел на Джедлу. А во мне при взгляде на нее поднималась волна холодной враждебности, зависти к ее одиночеству, так облегчаемому всеми нами. Она была свободной, думала я. Нет! — противилась закипавшая во мне злость. Не свободной, а черствой, эгоистичной, бессердечной. И как только умудрялась она не замечать эти две новые морщинки, что пролегли теперь на лбу Али? Эти две морщины, которые превратили внезапно его лицо во что-то такое ранимое, до чего и дотронуться-то было страшно и обращаться с которым надо было ох как осторожно. Для меня вообще лицо мужчины, искаженное болью, было знаком всех несчастий мира, всеобщей беды. И мне хотелось, протянув к нему руки над этой кроватью, приласкать его, смягчить его боль и печаль… Я подумала внезапно о смятом пакетике из-под снотворного, валявшемся в слишком чистой ванной комнате, и он мне показался такой ерундой. Потом я посмотрела на лежавшую в кровати Джедлу, разделявшую нас, неподвижную, одинокую. Ее дыхание становилось иногда неслышным, замирало, будто падало куда-то в глубокую бездну, потом снова поднималось и растворялось бесследно в нашем молчании — в нашем ожидании.
Наконец Али вставал и как-то неуверенно, запинаясь, говорил, что он должен уйти, чтобы она поспала. Слова были какие-то жалкие, словно он пытался убедить себя, что не пасует перед несчастьем, не бежит в страхе от этого упрямого, ожесточившегося детского лица, которое ему представлялось совсем другим, когда оно отдыхало.
И эта его хитрость, его такая очевидная уловка, сближала меня с ним.
Так прошли три дня — в полном молчании. Тихий шепот озабоченных голосов, сводящая с ума тишина затемненной комнаты, где находилась больная, всегда распахнутое, но зашторенное окно, за которым царило лето, сияло небо… Окно, как бы раскрытое для прыжка. И эти хрупкие очертания тела под простыней, черноволосая голова, вмятая, будто навсегда, в подушку.
Время застыло, словно гладь мертвой воды. И мне казалось, что я живу здесь давным-давно, в прохладном полумраке этих комнат, в этом вечном бдении у постели больной…
Но каждый вечер я возвращалась к себе, в соседнюю виллу, и снова соприкасалась там с другими людьми, со своими родственниками, с той жизнью, которая уже теперь для меня ничего не значила.
Конечно же, я не могла ненавидеть Джедлу, в то утро я отметила это про себя. Она предстала передо мной вставшая с постели, одетая в яркое платье, с блеском в глазах. Только бледность лица напоминала о том, как она провела эти четыре кошмарных дня, да ее тонкие губы, которые не могли еще улыбаться. Я была счастлива, что вижу ее такой. Душевный порыв толкнул меня к ней. Я хотела сдержаться, но было слишком поздно. Я обняла ее, опустив свои руки на ее хрупкие плечи, обняла искренне, не в силах совладать с радостным чувством, охватившим меня. Я знала, что кажусь ей смешной. Она не сопротивлялась. А я испугалась, как будто встретилась взглядом с пустыми глазницами. Хотя она смотрела на меня спокойно, почти с любовью. Причиной тому было ее сегодняшнее состояние, а вовсе не я. Я поняла это, как только она заговорила. В голосе ее звучала растерянность.
— Когда я сегодня проснулась, то почувствовала вдруг, что вся моя усталость прошла, болезнь исчезла. И мне захотелось двигаться, пойти погулять, небо было таким прекрасным, оно звало меня, соблазняло выйти.
Джедла облегченно вздохнула и посмотрела на меня, потом прибавила:
— Я больше не больна. Я выздоровела.
И она засмеялась, засмеялась каким-то острым, пронзительным смехом, который неприятно поразил меня. Потом она обхватила меня за плечи, и мы пошли по дому, обнявшись, как родные сестры. Вместе приготовили обед. Она отдавала короткие приказания прислуге, быстро ходила по комнатам, преображая все вокруг. Я молчала и думала о том времени, когда пришел конец нашей первой дружбе с ней. С тех пор уже пролетело четыре года. Но я всегда мечтала о том, что наступит вот такой день, как сейчас, и мы снова обретем доверие друг к другу, что снова воцарится между нами мир.
Однако этому не суждено продлиться, я это знала. И вот настал для меня миг, когда я должна уйти, оставить их с Али одних.
Джедла вернулась в комнату, отдав распоряжения по хозяйству, и я смущенно начала:
— Ну вот, теперь во мне нужда отпала…
— О, нет! Ты останешься с нами на весь день. Сейчас мы будем обедать, а потом пойдем погуляем.
— Боюсь, что буду вам только мешать…
Но она отрицательно мотнула головой, и я заметила знакомую мне упрямую гримаску, которая мелькала на ее лице в былые времена и многое для меня облегчала. Воспоминания о прошлом, казалось, захватили и ее.
Мы втроем пообедали на прохладной террасе их виллы. Она выходила в росший за домом совершенно дикий сад, о существовании которого я и не знала. Напротив меня сидел Али с сияющими, счастливыми глазами. Джедла захотела сама приносить блюда из кухни и угощать нас. Она ходила взад и вперед, хозяйничала за столом. И, видя ее умеренные движения, ее гордую осанку, ее серьезность, казалось невозможным вообразить, что она побежала в ванную покончить с собой, а потом, больная, лежала неподвижно в своей кровати и не замечала никого вокруг.
Али строил прожекты, куда отправиться подышать воздухом, и мне, конечно, отводилось место рядом с ними в этих прогулках. Когда я слушала его, то все представлялось простым и естественным. Мы шутили, от души хохотали. Время от времени наш общий смех, казалось, лился из одного источника. Мы были молоды, нам было легко вместе, и мне была так приятна дружба этих людей…
Мы условились, что поедем прогуляться на моей машине, которая стояла без дела все это время. Да и к морю пора уже было выбираться, снова окунуться в него, поплавать. Когда я сказала об этом, Али не возразил, но посмотрел на Джедлу.
— Да, — ответила она ему, — мы будем ездить все вместе, каждое утро. Сама я, — добавила она, — купаться не буду, но на пляже посижу, посмотрю на вас.
Интуиция подсказывала мне, что здесь, возможно, все не так-то просто, как кажется. Но Али уже с увлечением говорил о целом месяце настоящего отдыха, который ожидал нас.
— Ведь потом, — заметил он, — мне надо будет уехать на какое-то время, и я Джедлу оставлю на вас.
Он взглянул мне прямо в глаза. И как будто какая-то ниточка связи протянулась меж нами. Мы встали из-за стола. И в этот момент я осмелилась подумать без всякого стыда, что не голос Джедлы, не их с Али совместность, которую я почувствовала, повстречав их случайно на дороге, удерживали меня здесь. Нет. Только он, один он, Али, с его спокойным, хоть и со следами усталости лицом, с его прямым и ясным взглядом. Он говорил со мной, я ему отвечала. Джедла принесла кофе. Теперь я была в числе их друзей. Я думала об Али, о том, какой он пленительный мужчина и что я уже почти влюблена в него, во всяком случае любуюсь им и не чувствую никакой двусмысленности во всем этом. Я знала, что могу без всякого труда прикинуться совсем другой и беззаботно стерпеть эту ложь.
Джедла включила радио. Нас обволокла чудесная печальная мелодия, та самая, которой наслаждаются все арабы, когда пьют после обеда ароматный, обжигающий кофе. Они называют ее «андалузской» музыкой. Мужской голос звучал все громче, чистый и красивый, он уносился куда-то в глубь сада, летел легко, словно парил в небе. Я слушала печальную песню, и ее красота наводила на меня грусть. У Али, сидевшего напротив меня, было все то же благородное, спокойное, бесстрастное лицо. В тенистом сумраке я различила и сузившиеся глаза Джедлы. Но как я не понимала слова арабской песни, медленно кружившей над нами, оплетавшей нас своими волшебными золотыми нитями, так я не понимала и этого пронзительного взгляда Джедлы, как будто созерцавшей какую-то неведомую нам цель.
Когда музыка смолкла, она сбросила с себя свое оцепенение, как смятую вуаль. И вновь оживилась, стала без умолку болтать. Но мне показалось, что эта легкость ее — наигранная, а смех какой-то нервный. Как будто она пыталась обмануть нас. Скрыть от нас свою обреченность на вечное одиночество…
Я наблюдала за ней не без зависти. Ведь, думая о том, что я люблю Али и мечтаю о нем, я не чувствовала себя предательницей по отношению к Джедле. Потому что она из тех женщин, которых никогда не обманывают, которые никогда не будут обмануты. Она была гордой.
Глава V
Али был красив. Той красотой, которая волновала меня и которую, как хрупкий, драгоценный предмет, хотелось осторожно подержать в руках.
Я думала о его лице, пока раздевалась в пляжной кабинке. В машине, которую он вел сам, я сидела рядом с ним и смотрела на его профиль, полуопустив ресницы, чтобы чувствовать на своем горячем лице прохладу скорости, с которой мы неслись, и не замечать гнетущего внимания, с которым Джедла, сидевшая сзади, наблюдала за мной. Вот уже два дня прошло, как мы стали выезжать на прогулки вместе, и я постоянно ощущала ее взгляд, устремленный на меня. Она за мной наблюдала, я это сразу отметила, но зачем ей это было надо? Какую цель она преследовала? — в раздражении спрашивала я себя. Отчего это так участились ее приглашения? Почему она теперь стала такой болтливой и даже остроумной?
В пору нашей с ней юношеской дружбы она редко когда снисходила до любезного обращения со мной, а разговаривала и вовсе мало — у нее не было в этом нужды. Мне вполне достаточно одного ее присутствия, полагала она. А теперь она пыталась сама добиться моего расположения и прибегала для этого ко всяким хитростям.
Вздохнув, я отогнала от себя неприятные мысли. Надела купальник; как всегда, по привычке, хотела было натянуть на голову и купальную шапочку, но на этот раз пренебрегла ею, кинула прочь. И вышла из кабинки с распущенными по плечам волосами. Они были длинными, теплого, золотистого цвета, и я ими очень гордилась. Босая, обжигаясь горячим пляжным песком, я направилась туда, где расположились Джедла с Али.
Я сразу их увидела: Джедла сидела в шезлонге, как и положено выздоравливающей больной, прячась от солнца. На ней было белое платье, и она казалась в нем хрупкой и беззащитной, как отставшая от стаи птица. Она издали махнула мне рукой, подзывая меня. Али беззаботно сидел у ее ног. Когда я приблизилась, она воскликнула так искренне, что не могла не растрогать меня:
— О Надия, как ты прекрасна! Какая же ты красивая!
Как зачарованная, она глядела на меня и от всей души, даже как-то наивно повторяла мне эти слова. Али оглянулся, посмотрел в мою сторону, прищурившись от солнца, и я почувствовала внезапное смущение. Сказав, что ужасно хочется в море, я побежала к воде, оставив их.
Пока бежала по пляжу, чувствовала устремленные на меня мужские взгляды. И мне было так хорошо, так счастливо от того, что я такая красивая, молодая, и я так гордилась своим загаром…
Море было прозрачным. Я плавала без устали, стараясь заплыть подальше. Радовалась упругости своих мускулов, гибкости своего тела, легко скользившего по этой голубой бесконечной глади… Я забыла обо всем. Поворачиваясь время от времени на спину, я наслаждалась покоем и отдавалась во власть воде, которая несла меня, ласково обтекая по бокам. Глаза тонули в глубине неба.
Когда, усталая, я подплывала к берегу, голова Али вдруг вынырнула рядом со мной. По лицу его струилась вода.
— Я вас напугал? — засмеялся он, искоса поглядывая на меня; прилипшие к голове мокрые волосы и сузившиеся от морской воды глаза делали его похожим на хитрого мальчишку. Мне захотелось рассмеяться вместе с ним, подразнить его. И я брызнула ему в лицо водой, вступая с ним в игру. Он больше меня не смущал. И я хохотала от всего сердца.
— Ну, погодите-ка! Я вот сейчас вас заставлю наглотаться водички! — пригрозил он мне. И я снова засмеялась, хотя на этот раз явно нервничая. И на самом деле, все кончилось тем, что я наглоталась воды и у меня потемнело в глазах. Конечно, я сопротивлялась изо всех сил, но крепкая рука сильно сжимала мое плечо. Мне показалось даже, что он сжимал меня всю и слишком долго, так вдруг напряглось мое тело, а плечо онемело. Он отпустил меня. Я нырнула и отплыла от него. Мне больше не хотелось смеяться. А когда я вынырнула и посмотрела на него покрасневшими от соленой воды глазами, то увидела, что его слегка огорчило это недоразумение. И он заговорил со мной, словно нашей игры и не бывало:
— Вы действительно хорошо плаваете! Я видел, как далеко вы заплывали. Мне даже казалось, что у вас не хватит сил вернуться…
Голос его звучал тихо. И я не восприняла его слова как комплимент. Я избегала его взгляда. Я любила его.
— Я уже привыкла, — отвечала я ему. — И вообще я люблю уплывать далеко, и одна. Люблю море.
Так, разговаривая, мы подплывали к золотым пескам нашего пляжа. Я подумала о сидевшей на берегу Джедле, о ее кажущемся спокойствии, скрывавшем то душевное напряжение, в котором, как я предполагала, она находилась. Мы с Али одновременно вышли из моря, и струйки воды, которые стекали с наших тел, слились в одну общую лужицу. Молча мы пошли в сторону Джедлы. Она пристально разглядывала нас издали. Мне вдруг показалось, наверное от усталости или от того, что солнце слепило глаза, что я вижу нас как бы со стороны: как мы вдвоем идем но пляжу, утомленные морем, идем медленно, оставляя за собой глубокие следы на песке… А на самом деле я шла прямо к Джедле и улыбалась. Я не смотрела на Али. Хотя чувствовала его рядом и легко могла догадаться, что он абсолютно спокоен. Джедла не улыбалась нам. Она просто смотрела на нас, и ее темный взгляд проникал в меня, как лезвие ножа. Али растянулся у ее ног на песке, и его длинное тело окружило, защитило ее своей силой, нежностью, доверием, как ограда. Я отметила про себя, что страдаю. Мне бы хотелось говорить, нарушить эту тягостную напряженность. Но слова не шли. Да Джедла к тому же и отвернулась от меня. Ее профиль показался мне спокойным и ясным. Я поняла, что она решила оставаться такой, вовсе не показывая мне своей враждебности. Я пожала плечами. Мне вдруг стало все равно. И я ушла от них, не сказав ни слова; пошла переодеваться, ни о чем не думая. Солнце пекло вовсю. Надо было остерегаться только одного: не дать обгореть носу.
Мы молча возвращались с этого далекого пляжа, расположенного километрах в двадцати от того, на котором мы отдыхали обычно. Я медленно вела машину. Али и Джедла, сидевшие на заднем сиденье, задремали. После испытанного мной смятения мне хотелось побыть в одиночестве.
Я вспомнила о том мгновении страдания, которое причинил мне брошенный на меня взгляд Джедлы. Вообще-то я не умела страдать, испытывая лишь что-то такое неприятное, темное, непроизвольно поднимавшееся во мне. Задумывалась на минутку и старалась отогнать от себя это ощущение. А в тот миг, сама не знаю почему, я определила состояние смятения, которое пережила, как страдание. Я посмеялась над собой, над этим моим преувеличением. Я, видимо, излишне все драматизировала.
Посмотрев в зеркало над рулем, я увидела, что они сидели каждый в углу заднего сиденья. Их разделяло пустое пространство. Но если бы я их увидела сидящими рядышком, держащими друг друга за руки или прижавшимися друг к другу, я все равно не позавидовала бы так их взаимному согласию, я не осмеливалась сказать себе — счастью…
Я присмотрелась внимательнее к выражению лица Джедлы. И с удивлением отметила, что она выглядит утомленной, осунувшейся, как после бессонной ночи. И испытала даже прилив нежных чувств к ней. Но когда я вдруг смутно ощутила, как во мне зашевелились угрызения совести, то невольно тяжело вздохнула, понимая, что и со мной не так — то все просто. Я подумала еще, улыбнувшись, что это не столько из-за сложности моей натуры, сколько из-за моего легкомыслия. Да, я ревновала их, страдала из-за Джедлы, любила Али, любила и Джедлу и одновременно ненавидела ее.
Однако Джедла была единственным существом, связанным с моим прошлым, с воспоминаниями, которые обволакивают меня теперь, как сонная истома послеполуденного отдыха, овладевают мной, наполняя душу видением того утраченного, единственного в моей жизни года. И та же, только что испытанная мной, горькая нежность снова возвращается ко мне…
В тот год в нашем лицее появилась Джедла, похожая на иностранку. Я находила ее красивой и полюбила ее. Придумывала тысячу всяких предлогов и поводов, чтобы сблизиться с ней. А она долгое время слегка презрительно реагировала на все мои попытки и изящно ускользала от меня. Впервые случилось, что кто-то мне оказывал сопротивление. К тому же я ничего подобного за всю свою юную жизнь, обычную жизнь школьницы, раньше не испытывала — ничего, похожего на эту волнующую душу потребность общения с ней. Я и сама не понимала, что так меня к ней тянет.
Но вот однажды она подпустила меня к себе. Это было накануне каникул, когда настал момент проститься перед отъездом домой. Я не любила никому говорить слова прощания, даже расставаясь с людьми чужими. Это было одной из моих слабостей: я старалась думать, что покидаю человека на день, на час и скоро вернусь. Вот и с Джедлой было так же.
Я всем, кому могла, пожала руки, раздарила улыбки, что-то пожелала на дорогу, что-то пообещала — словом, сделала все, чтобы как-то смягчить минуты прощания. И вдруг она возникла передо мной.
Все произошло мгновенно. Я ей было машинально протянула руку, как и всем остальным. И вдруг увидела ее лицо рядом с моим. Потом услышала, как произношу, волнуясь:
— Я хотела бы тебе писать, встретиться с тобой…
Она впервые улыбнулась мне. И улыбка ее была такой же ободряющей, как и рукопожатие.
— С удовольствием, — ответила она мне. — Я буду счастлива и видеть тебя, и переписываться с тобой.
Мы остались с ней одни, сама не знаю, как это случилось. Обменялись адресами. Мне казалось, что это сон. И когда я вернулась вечером к себе, то все никак не могла успокоиться, испытывая такое же ощущение счастья, как после первого свидания.
Долго я еще была во власти воспоминаний о первых моих девических волнениях, об испытанном мной тогда смятении чувств. Я вдруг ощутила себя старухой — такое случилось со мной впервые. Мне стало ужасно грустно. Машина ровно катилась по шоссе. Мои друзья сидели сзади тихо, словно оцепенели оба. Я больше ни о чем не размышляла, погрузившись в покойную тишину пустынной дороги, в прохладу летнего вечера. Что-то во мне оборвалось, рухнуло. Я остановила машину около двери их дома. Они собирались уже выйти, как вдруг Али радостно вскрикнул: прямо перед нами стоял Хассейн, видимо давно поджидавший нас. На лице его блуждала вечно ироничная улыбка. А я-то о нем уже совершенно забыла.
Он посмотрел на меня, и в его взгляде вспыхнули злые огоньки. Я поняла тогда, что близится развязка, что-то ждет своего разрешения. Возможно, тому виной была всего лишь золотая леность этих летних дней, их сонная одурь и смутная радость надежды, охватившей меня…
Часть вторая
Глава VI
И действительно, дальнейшее развитие событий было бурным, хотя внешне приезд к нам Хассейна вроде бы ничего не изменил в нашей жизни. Я снова взялась за свою дипломную работу. Сама по себе она меня не очень-то интересовала, но это было способом убедить отца, что мне лучше всего быть в Париже, чтобы защититься и получить диплом. Я садилась теперь каждое утро за письменный стол и зевала от тоски. После обеда я иногда заходила к Джедле, мы проводили время с ней вдвоем или же всей нашей компанией отправлялись на какой-нибудь дикий пляж; возвращалась домой я поздно, и Хассейн меня провожал. Мирием в связи с этим не стеснялась меня расспрашивать, как идут его адвокатские дела и приносят ли они ему доход; а ее муж только презрительно смотрел в мою сторону.
Я на какое-то мгновение испугалась, увидев Хассейна, внезапно появившегося тогда перед нами. Испуг этот быстро прошел, и я даже не поняла, в чем дело. Подумала, что это все из-за стеснительности, которую я стала испытывать к нему, когда наши отношения утратили былую ясность. Я не забыла, как внезапно и резко он со мной расстался. И я решила с тех пор вести себя с холодным высокомерием. Я не боялась его. В конце концов, ведь это он вернулся, значит, я была сильнее.
И когда впервые после его возвращения мы остались наедине, меня озадачило и смутило его новое настроение. Обычно он злословил, и я уже привыкла к его цинизму. Это придавало нашим разговорам особую остроту, резкость, подхлестывавшую меня, превращавшую наш диалог в некое подобие дуэли. А теперь все наоборот, он был молчалив, угрюм. Я даже не знала, что и подумать об этой его немоте. Единственное, что осталось от прежнего, — его откровенность.
— Вы можете торжествовать победу, ибо я вернулся, дорогая моя Надия, — сказал он мне дерзко. — Но ваша победа легко вам досталась. В Алжире царит такая же скука, как здесь, когда идет дождь. Да я и не знаю к тому же никакого другого побережья, где бы можно было так приятно провести время. Хотя и не думаю развлекаться, — быстро добавил он, увидев, что я готова возразить ему. — Мне не привыкать жить в скуке и безразличии к окружающему. Буду смотреть только на вас. Может быть, меня ждет увлекательный спектакль!
Я не уловила в его взгляде никакого вызова, он вроде бы и не хотел провоцировать меня, тем не менее я его сразу же возненавидела. А он продолжал все тем же тоном:
— В глубине души, мой ангел, — (так называл он меня раньше, когда бывал в особенно хорошем расположении духа, то есть когда выпьет или когда, как это я поняла после, хотел обладать мной), — в глубине души я возмущаюсь вами. Вы как я, вас ничего не угнетает, у вас трезвый ум и холодное сердце. И однако вы богаче меня: вам удается развлечься, посмеяться. Когда-нибудь вы поделитесь со мной, надеюсь, вашим секретом.
Его голос стал развязным.
— У меня нет никакого рецепта на этот счет, — сухо ответила я ему. — Это зависит от тех, с кем я общаюсь.
— Я нахожу их общество слишком серьезным для вас. Как вы можете развлекаться с людьми, совершенно на вас не похожими?
— Не знаю, что вы подразумеваете под «развлекаться»…
Я старалась показать ему, что вовсе не разделяю его желания казаться моим сообщником и плюю на его советы. Эта его новая манера разговаривать со мной была просто способом оскорбить меня. Он не ответил, но внимательно посмотрел мне прямо в глаза, без всякой иронии. Агрессивность его куда-то исчезла, это было очевидно. И то, что он впервые отказался отвечать на мой выпад, даже как-то покоробило меня. Что это с ним стряслось? Он изменился. А я предпочитала его злым. Я ему все это высказала, когда он провожал меня. И хотя уже темнело, я увидела на его лице какую-то странную улыбку, которую не могла понять. Мне даже показалось, что его тонкие губы дрожали. Я стояла перед ним, не зная, что делать. Глаза его блестели в опускавшейся над нами светлой ночи. И не могу понять, каким образом я вдруг очутилась в его объятьях, прижатой к его груди. Я и не пыталась сопротивляться. Мною овладела покорность; какая-то истома, которой я не ведала ранее, разлилась во мне. Он поцеловал меня в губы так страстно, что я даже испугалась. И продолжал сжимать меня в своих объятьях. Я словно окаменела. А он схватил мое лицо, зажал его в своих дрожащих ладонях и все смотрел на меня, смотрел, не улыбаясь, почти враждебно, прямо в глаза, и лунный свет озарял нас. Потом так же внезапно он отпустил меня. Не сказав ни единого слова, повернулся и канул во мрак. А я осталась стоять на пороге дома. Глаза мои следили за его удалявшейся могучей фигурой, пока ночь не поглотила ее. И тогда волна гнева поднялась во мне. Я вошла в дом в раздумье, недовольная собой.
Спала в эту ночь я плохо, мне снились страшные сны. Будто я бегу, задыхаясь, по каким-то темным и длинным улицам; и что какой-то незнакомец преследует меня, отвратительный, как змея. Я проснулась от ужаса и в слезах. Ледяной душ успокоил меня и вернул голове обычную ясность и трезвость. Я натощак выкурила сигарету. Надо было все взвесить и поставить точку. Я пришла к выводу, что Хассейн меня любит и не хочет в этом признаться самому себе. Я улыбнулась, польщенная. Мне были знакомы подобные случаи, и я знала, чем все это кончается. Бесполезно было и спрашивать саму себя о собственных чувствах. Не их в настоящий момент надо было принимать в расчет. Я давно привыкла владеть собой, управлять своей «чувствительностью» и справлялась с этим весьма успешно не потому, что не хотела рисковать или из-за какой-то там осторожности, но скорее инстинктивно. Я не любила всех этих странных трепетаний, и мне было жаль смотреть на «умиравших от любви» девиц, на их экзальтацию в присутствии мужчин. Я же видела в мужчинах только наивное и тупое самомнение, которое и было их единственным оружием. Общаясь с ними, я забавлялась, а потом потихоньку всех их повергала к своим ногам, и они становились рабски покорными и преданными. Но именно тогда я и не знала, что с ними делать дальше. Вообще-то они мне не очень были нужны, а уж когда я видела, как разгорались их глаза, как поспешно расправлялись их плечи и делались властные попытки обнять меня, то я, пытаясь выйти из затруднения, просто прогоняла их, отталкивая от себя. И если они называли меня кокеткой, то ведь ничего другого, кроме кокетства, они и не заслуживали, потому что сами не умели мне ничего дать, ничего, кроме лжи и фальши.
Мужчины хотят обладать женщиной потому, что им холодно и одиноко. Только поэтому все они постоянно жаждут наслаждений. Они как несчастные червяки, возомнившие себя в один прекрасный день богами! А я не люблю богов.
Решив, что я сделала прекрасный для себя вывод, я позвала Мирием, чтобы сообщить ей о своем решении. Она вошла ко мне, и я увидела ее утомленное, с тенью усталости под глазами, хотя и светящееся довольством лицо. Я внимательно вгляделась в него и все поняла. Мне захотелось потрясти ее за плечи, крикнуть ей и всем женщинам сразу, что истинная радость и счастье тихи и неприметны и лучше бы было, если б они научились скрывать следы своих убогих ночных наслаждений и не выставляли их бесстыдно напоказ всему миру по утрам…
— Зачем ты меня позвала? мирно спросила она.
— Хотела тебе сказать, что Хассейн влюблен в меня, он просто без ума от меня, но я думаю, что…
— Ты должна бы подумать над этим серьезно. Уже пора поразмыслить о замужестве.
— О замужестве? Я нервно рассмеялась. — О моем замужестве? Да с меня хватит твоего сегодняшнего вида, да — да, я вот смотрю на тебя сейчас, и у меня пропадает всякое желание выходить замуж.
Она глядела на меня скорее озадаченная, чем обиженная. Потом улыбнулась той довольной улыбкой, которая не могла, даже если бы этого и хотелось Мирием, скрыть ее приятные, еще свежие воспоминания. Было очевидно, что она сегодня утром чувствует себя счастливейшей из женщин. И не понимает, что именно поэтому я и…
— О! Знаешь, моя свекровь, в сущности… Плевать мне на нее… Лишь бы она не жила с нами и не мешала мне!
«Ну конечно, — хотелось мне ей сказать, — ты бы на все согласилась: даже если бы твоя свекровь жила с тобой или пусть сам черт даже или господь бог поселились в твоем доме-лишь бы они оставили тебе твои ночи, лишь бы они не мешали тебе в потемках заниматься любовью!» Я молча отвернулась от нее. Мне было и противно, и жалко ее. Как — никак я показала ей, что знаю ее постыдные секреты.
Меня научили делить женщин на три категории: на умных, на средних и на самок, таких, как Мирием, с жадной, ненасытной плотью. Если бы спросили меня, к какой категории я себя отношу, то, посмотрев в зеркало, я бы, наверное, ответила: к холодным, бессердечным, с неопределенными намерениями.
От нечего делать я снова принялась анализировать ситуацию: да, конечно, Хассейн влюблен в меня. Ничего не скажешь, крупная добыча. Еще одна моя победа. И я, повеселев, оделась, снова довольная собой, хотя и сознавала, какая ж я все-таки противная. Ведь, в сущности, какая разница? Мирием наслаждалась своей жизнью, я радовалась своей победе… Победе? Но разве это было единственной моей целью во всей этой охоте на людей? Мне хотелось углубиться в существо дела, чтобы не вспоминать о том, чем кончались все мои прежние флирты, моя помолвка, все эти бесконечные мелкие бои, которыми было полно мое уже мертвое прошлое. Что осталось мне от него? Груда сброшенных масок, и ничего более, ничего…
Усевшись за письменный стол, где ждали меня книги и словари, я поняла, что не смогу заниматься: мне не хватало Хассейна. Мне нужен был он, чтобы испытать его, узнать о нем всю правду и снова одержать над ним победу. Но как это сделать? К какому способу прибегнуть? А почему бы не к самому простому, банальному? К ревности, например? Я вспомнила афоризм: «Дороги всегда одни и те же; это люди, идущие по ним, разные». Да, вот именно. Добиться того, чтобы он ревновал, повергнуть его в отчаянье, дать ему помучиться, узнать, что такое тоска одиночества. И человек есть подходящий для этой цели. Али! Али с его красотой, с его серьезностью, мужественностью. Али, которым я восхищалась, в которого даже, как мне казалось, была влюблена или любила на самом деле. Какая разница! Как же все-таки может обман уживаться с частицами правды! И я уже воображала, какие разыгрываются сцены, любовные романы и фильмы приходили мне на помощь. Я разыгрывала бы роль невинной девочки, вызывающей к себе интерес тем, что она увлечена женатым мужчиной… Хассейну, конечно, не полагалось ничего знать о моей хитрости. Он просто увидел бы меня в этой роли: как я провоцирую неверность мужа, как я обманываю доверчивую подругу детства… И он оскорблял бы меня, ненавидел. Ведь он был из тех мужчин, у которых любовь смешана с горечью ненависти. Вот так, в состоянии брожения, я и начала переводить строки Сенеки о воздержании и умеренности. И встала из-за письменного стола с уверенностью, что Хассейн одержимый. Но если разобраться по существу, то это было куда менее скучным, чем все остальное. Может быть, я даже сохраню его для себя впоследствии. Так или иначе, но по-своему он был вполне искренним.
В последующие дни Хассейн, с которым я избегала видеться наедине, озадачил меня. Казалось, что ему непременно хочется показать Али и Джедле нашу с ним близость. Во время прогулок по побережью, вдоль маленьких бухточек, которые следуют здесь одна за другой, словно бусинки бесконечного ожерелья, случалось, что он брал меня за руку. Обычно это было тогда, когда мы шли с ним вдвоем впереди Али и Джедлы. Но, словно стыдясь, он быстро спохватывался и отстранялся от меня. По его улыбкам я также могла угадать, что он счастлив, но в глазах видела только застывший вопрос, только иронию. Чего хотел он? Я знала, что он не настолько тщеславен, чтобы придавать особо большое значение тому единственному нашему поцелую. И в общем-то ценила его деликатность. Но вот однажды он вдруг фамильярно обхватил меня за плечи, и я тотчас сердито высвободилась из его объятий и возмущенно посмотрела на него. Когда я обернулась, то увидела глаза наблюдавшей за нами Джедлы. Али же беспечно шел за ней, ни на что не обращая внимания. Наша группа как-то вся переформировалась, словно все перессорились. Но не прошло и получаса, как мы уже вместе спускались к морю. Вода казалась холодной. Только один Хассейн захотел искупаться. Может быть, и я бы тоже решилась, потому что любила плавать в ледяной воде, а потом, дрожа, согреваться в летнем тепле на берегу. Но тогда я старалась избегать Хассейна. Али предпочел прогуляться вдоль пляжа и предложил нам присоединиться к нему. Я тотчас согласилась. Джедлу же больше прельщал теплый песок, она решила полежать, отдохнуть и просила нас оставить ее в покое.
Мы с Али долго шли по тропинке через светлый эвкалиптовый лес, окаймлявший пляж, и эта тропинка казалась бесконечной. Мне нравилось идти рядом с ним. Он был высоким, и мне приходилось задирать голову вверх, чтобы, глядя на него, слушать, когда он говорил. Я внимательно смотрела на него широко раскрытыми глазами. Я угадала, что он любил, когда его слушали. И он пространно рассуждал, сдерживая пафос и возбуждение, а я внимала его низкому голосу, вибрирующему от волнения.
— Это точно, — говорил он. — Наша пресса давно прогнила. Но это меня не обескураживает, ведь предстоит так много сделать в нашей стране. Я доволен, что вернулся в Алжир. Газета, которую я хочу издавать, будет выходить и на французском, и на арабском языках. Я знаю, что меня ждут немалые трудности, и не питаю никаких иллюзий. Но если даже мне удастся поначалу только привлечь на свою сторону молодежь, то я уже смогу продержаться. Джедла боится провала. Но провал еще ничего не значит. Худшее — это летаргия, всеобщий сон! Только кругом и слышно, как говорят о колонизаторах, о колониализме. А зло-то сидит в нас самих, в самих колонизованных, в нашей «колонизуемости». В том, что мы сами даем себя колонизовать. Вот что надо потрясти до основания, с чем надо бороться, о чем надо всем рассказать понятно, на нашем языке.
Мне нечего было ему возразить, да это его и не заботило, ему просто нужна была аудитория, чье-то присутствие. Он говорил мне о вещах от меня далеких; но я им любовалась. И мое восхищение не знало границ, со мной такое было в первый раз. Глаза его блестели, и я подумала, что могу вполне искренно увлечься им и вести свою игру без всякого ханжества. Когда тропинка сужалась, то, чтобы не пораниться о колючий кустарник, я теснилась к Али, иногда касаясь его боком. Воображала тогда, что он волнует меня.
Я понимала и это его молчание, и погруженность в свои мысли, и чистоту помыслов. Даже сама его невинность, непричастность к моим планам должна была мне помочь. Теперь все мне казалось таким простым и все мои намерения легко осуществимыми. Ну конечно же, я буду действовать именно так, как решила тем утром. Потом я подумала о Хассейне, который, наверное, уже вылез из воды и нашел на берегу только Джедлу, одинокую и спокойную.
Когда мы вернулись к ним, она и в самом деле была абсолютно спокойна. Правда, как-то особенно размеренно и медленно произнося слова, спросила нас:
— Ну что? Вы хорошо прогулялись?
Хотя в словах ее не было ничего особенного, да и тон их был вполне нейтральным, Али отвечал рассеянно, как будто он все это время провел в объятиях и поцелуях со мной. Я подумала об этом не без удовольствия, но и не без горечи. Она окинула нас быстрым взглядом. Внезапно мной овладела нервозность. Нет, нет, она нас вовсе не ревновала! В ней даже, казалось, звучал какой-то внутренний смех, жило чувство победы. А вовсе не ревности, перекосившей злой усмешкой губы Хассейна, смотревшего на нас жестким, сухим взглядом. Но что же случилось с Джедлой? Что задумала она сама? Было очевидно, что в этом жарком летнем дурмане завязывалась какая-то неясная игра, которая опутает нас своими тонкими нитями, оплетет, и Джедла, казалось, следила за их рисунком, рождавшимся перед ее глазами в спокойном и чистом воздухе.
Предчувствования такого рода меня всегда поражали. На этот раз я даже решила, что хватит мутить воду, что надо нормально вести себя с Хассейном, стать простой, спокойной и милой.
Али был наивным, вечно погруженным в свои мысли, словно отсутствующим. Хассейн же всегда был откровенен, все говорил напрямик; он был моложе, хотя и саркастичнее. Наверное, он умел быть и нежным. Во всяком случае, мне понравился его горячий, страстный поцелуй, немой жар, который полыхал в его объятьях, и даже его вспышки гнева. Тогда, в тот вечер, он так сильно, до боли, прижал меня к своей груди… Теперь же он был далеким, совсем далеким и холодным. И хмурый взгляд, который он бросил на меня, не обещал ничего хорошего…
Хассейн стал чужим, а для Джедлы и ее тайных замыслов, я это чувствовала, я превращалась в игрушку, возможно даже в жертву. Джедла ведь была существом решительным, безжалостным…
Когда мы возвращались домой, Али сел в машине рядом со мной. Я ощущала совсем близко его плечо — мне не надо было повертывать голову, чтобы убедиться в этом. И я отогнала от себя все свои страхи, подставив лицо освежающему ветру скорости. Я думала о том, что мне нравилась близость мужского плеча. Мне было все равно, чье оно. А может быть, сама судьба распорядилась так, чтобы это было именно плечо Али? Так хотелось быть фаталисткой…
Глава VII
С той поры я почувствовала, что мне нравится разыгрывать из себя интриганку. Мне по душе была эта одинокая роль. Ведь интриганки не должны ни на кого рассчитывать или кого-то использовать в своих целях. В общем, это персонаж довольно определенный и четкий; как говорится, с ним все ясно. Я заранее упивалась этой ролью. С удовольствием строила образ, хотя до полного его воплощения было еще далеко. Нет, думала я, уверенная в своих силах, сомневаться здесь нечего, эта роль по мне и я вполне справлюсь с ней. Вот почему я так огорчилась и почувствовала себя униженной, когда вдруг увидела, что с самого начала Джедла, как будто разгадав мои намерения, готова оказать мне помощь. Потихоньку. Ничего мне об этом не сообщая. На первых порах я еще надеялась на то, что она это делает бессознательно. Но слишком уж легким оказывалось осуществление моего замысла. Лучше было не думать, что это Джедла протянула мне руку помощи. Да и о какой «душевной щедрости» с ее стороны могла идти речь? Чтобы лишний раз убедиться в этом, достаточно было случайно заметить, как она меня разглядывает. Ее взор никогда ни о чем не вопрошал и почти всегда ничего не выражал. Лишь сверкал бесстрастно, как холодный алмаз.
Когда же в то утро она вдруг предстала перед нами на пороге дома, вся одетая в черное, что делало ее совсем худой, чужой, похожей на старуху, мне бы следовало быть поосторожней. Али уже устроился на заднем сиденье машины. А Хассейн, сидевший рядом со мной, живо спросил:
— Вы что? Не едете с нами? Передумали?
Она посмотрела на меня, только на меня. И мы вместе с ней одновременно подумали, что, отвезя Хассейна по делам в Алжир, я буду возвращаться из города с Али. Она улыбнулась немного печально, лишь уголками губ. Глаза ее были потухшими, и лицо казалось бледнее обычного.
— Я очень устала и плохо себя чувствую, — объявила она.
Эти ее в общем-то обычные слова вызвали у всех какую — то неловкость. Она почувствовала это и сразу сменила тон, что смутило меня окончательно. Я отвернулась и успела заметить в зеркальце над рулем, как озабоченно нахмурился Али. Хассейн же внимательно слушал Джедлу, как будто все, что она сейчас щебетала, его и в самом деле интересовало. Он действительно ее очень уважал. Но все равно я никогда бы не подумала, что он способен на проявление такого внимания. А Джедла продолжала:
— Похожу по магазинам и сделаю нужные покупки на следующей неделе. Я решила отложить пока все свои дела, не так уж они важны. К тому же Али сегодня будет, наверное, очень занят и не сможет мне помочь. Так что до вечера!
Мы ехали всю дорогу молча. У Али совсем не было настроения разговаривать. А я вспомнила лицо Джедлы с темными кругами под глазами. И стала думать о том, как они провели вдвоем эту ночь, завидовать всем тем, кто, как Али, осторожно нес в себе драгоценный груз такой ночи. С тоской вспомнила о своих пустых, одиноких ночах, похожих на антракты, когда ничего не происходит и которые, как передышки в ходьбе, лишь восстанавливают дыхание, возвращают жизни ее привычный, монотонный ритм… И все это из-за моей невинности, решила я. Я даже хотела произнести это вслух, так, чтобы голос у меня дрожал, и пусть бы смеялся надо мной Хассейн, меня бы это не смутило, но в присутствии Али…
Я остановила машину в самом центре Алжира около свежепокрашенного в белый цвет здания почты. Хассейн спросил, где мы встретимся. Он, конечно же, решил изменить планы и, сделав дела, успеть сегодня же вернуться с нами на море. Когда Али ушел, Хассейн посмотрел ему вслед, потом повернулся ко мне и иронически присвистнул. Он и не пытался скрыть своих намерений. «Я вам не дам возможности воспользоваться удобным случаем!» — говорили его глаза.
Я, сухо простившись, села за руль и уехала. По идее, я должна была быть довольной такой его реакцией, которая в целом соответствовала моим планам, облегчала их, и должна была бы торжествовать, заранее радоваться победе. Но хотя я это понимала, однако чувствовала себя не в своей тарелке.
Посидев немного над книгами в университетской библиотеке, я пошла перекусить, а потом отдохнуть к моей старшей сестре Лейле. Она прекрасно выглядела в свои тридцать лет, была очень энергичной и не скрывала своего возраста. Я находила ее красоту немного жесткой, да и весь облик ее был весьма волевой. Она за всех все решала: и за себя, и за своего мужа, и за своих детей, и даже за свою свекровь. Только со мной она советовалась, считала меня человеком свободным, независимым, даже, может быть, опасным, от которого неизвестно чего ждать. Я любила ее, хотя она и утомляла меня.
Она продемонстрировала мне свои новые платья, позлословила насчет своих подруг, посудачила о тех, кому пора замуж, и наконец дошла до меня. Я ей рассказала, с кем приехала. Она расспросила меня о Джедле, о ее муже. Но когда узнала, что Джедла живет затворницей и не любит наряды, что стала худой, нелюдимой, казалось, потеряла к ней всякий интерес. Но я прибавила, что Джедла и ее муж приехали из Парижа и что Али работает в журналистике.
— Если он настоящий журналист, то тем лучше; а то все нынче хотят быть врачами или адвокатами…
Она любила прибегать к назидательному тону, всех поучать и полагала, что весьма оригинальна, повторяя изречения своего собственного мужа. Я же ограничилась тем, что передала мнение Хассейна об Али: он считал, что у такого журналиста есть будущее. Еще я добавила, сама не знаю почему, что Али очень любит свою жену. Но Лейла не страдала чувствительностью в отличие от Мирием, которая бы, наверное, услышав это, глубоко вздохнула и потребовала бы подробностей, скрывая свое жадное любопытство за милой безразличностью тона.
Лейла прямо-таки подпрыгнула, услышав имя Хассейна. Ведь она однажды во всеуслышание заявила, что Хассейн единственный, кто мог бы стать для меня настоящим мужем. «Это-мужчина!»- подчеркивала она для пущей убедительности. Я вообще-то доверяла ей в этом вопросе. Она, подобно нашим крепким старухам, обладала здравым смыслом.
— И давно ты с ним снова встречаешься?
Я сказала, что он отдыхает там же, где я.
— Я всегда думала, что Хассейн блестящая для тебя партия: прекрасно обеспечен, из хорошей семьи. Да и на вид он человек с твердым характером…
И, глядя в задумчивости на меня, она добавила: «И ему лучшего не пожелать…»
Она считала, что, вступив со мной в брак, Хассейн приобрел бы не только жену-красавицу, но и немалое состояние. Однако Лейла не была столь циничной, чтобы высказать мне все это вслух.
Я смотрела на нее с некоторым даже восхищением. Ее уверенность в себе, умение в любых обстоятельствах найти выход действовали на меня ободряюще. А ее ограниченность, не особенно широкий кругозор давали мне возможность чувствовать себя увереннее. Я считала, что в ней говорит кабильская кровь, которую она унаследовала от своей матери ведь Лейла, как и Мирием, была моей сводной сестрой. Их мать после развода с нашим отцом жила в своей деревне, откуда была родом. «На своей сторонке», как говорят у нас. Она почти никогда не приезжала в Алжир; говорила по-арабски с местным акцентом и одевалась в просторные галабеи, как истинные селянки. Я видела ее однажды, на какой-то свадьбе.
Когда жара немного спала, Лейла потащила меня за собой по магазинам. Я уже совсем отвыкла от праздной толпы, от молниеносных взглядов, которые бросали на меня прохожие мужчины, и неохотно следовала за Лейлой, с трудом входя в ритм городской жизни. Я едва поспевала за ней. Лейла вечно куда-то торопилась, вихрем врывалась то в одну, то в другую модную лавку и тоном, не терпящим возражений, просила показать ей сразу несколько вещей, а потом не знала, какую выбрать.
По ходу дела она рассказывала мне о неприятностях с ее новой служанкой, испанкой.
— Я плачу ее лишних десять тысяч франков за одно лишь удовольствие иметь прислугу европейского происхождения! — резко говорила она мне по-арабски.
В нашей семье она была единственной, кто со мной разговаривал на родном языке. И она была мне настоящей сестрой.
Из-за Лейлы я опоздала на свидание со своими спутниками. Когда я с ними встретилась, они о чем-то оживленно спорили. Хассейн улыбнулся мне. Я поняла, что возвращение наше обещало быть нескучным.
Мы отправились в путь около шести. Легкий ветерок омывал нас волнами морской свежести. Нам было хорошо. Я вела машину не торопясь, и она была мне послушна, как добрый зверь. С прибрежной дороги видно было, как затихает, засыпая, море. В наступившем вечере питало предпраздничное настроение. Когда при выезде из города Хассейн предложил нам зайти в казино, что располагалось невдалеке у обочины, я с удовольствием согласилась. Али тоже не возражал. Он казался спокойным, несколько даже безразличным, говорил мало. Хассейн ввел нас в казино, как к себе домой, словно был здесь завсегдатаем. Я видела его вновь таким же непринужденным, как и раньше, будто повстречала своего старого знакомого, и мне была приятна эта встреча.
Народу в зале было немного. Мы просидели по крайней мере час, приятно расслабившись. Казалось, что никуда дальше ехать не надо, что музыка будет звучать вечно. На дорожке между рядами столиков танцевало несколько пар. Я рассеянно смотрела на сильно накрашенные лица женщин. Ни одна из них не показалась мне красивой.
Али сидел с отсутствующим видом, в задумчивости. А Хассейн, как только мы вошли и сели, беспрерывно пил. И когда он пригласил меня потанцевать и прижал к себе, я почувствовала сильный запах алкоголя и увидела пьяный блеск его глаз. Я сказала ему об этом. Он молча улыбнулся. Танец окончился, и он оставил меня, шепнув на ухо, что пойдет играть: может быть, на этот раз он выиграет, если, конечно, я ему принесу удачу…
Пожав плечами, я вернулась к столику. Поняв, что Али наблюдал за нами, пока мы танцевали, я почувствовала, что краснею. Внезапно мне захотелось поговорить с ним, высказаться, освободиться от какого-то внутреннего отвращения, пробуждавшегося во мне, шевелившегося где-то в глубине души. И я стала говорить, вполне искренне:
— Временами мне становится тошно от всего, что я вижу, от этих людей, которые окружают меня. Как будто внутри меня пустота. И я ощущаю такую горечь, словно прожила на свете много лет и давно состарилась. Но сожаления бесплодны. А где выход, не знаю…
Я и в самом деле чувствовала себя усталой, но старалась не упустить из виду реакцию Али, мне было интересно, что он обо мне подумает после таких слов. Али сидел рядом со мной и слушал. А я говорила ему, что мечтаю о спокойной жизни, о тишине, о солнце, о забвении. Я говорила о том, что постоянно ищу настоящих людей, а не гоняюсь за призраками. Я говорила о тщете и суете, о том, что танцующие перед нами пары тешат себя пустым тщеславием, и, если ноги их еще движутся в такт музыке, то глаза давно потухли, словно они уже видели ад. Но все-таки нельзя забыть о том, как волнуется кровь, как трепетно бьется сердце, как сладостна лихорадка человеческих страстей и наслаждений. Жаль только, что все это недолговечно…
— Вот так я и живу, — продолжала я. — Обычно не замечаю, как быстро бегут дни. Но время от времени их бег замедляется. И тогда мне так тяжело просыпаться. Я предпочитаю спать и не ведать ни о чем. Однако знаю, что есть совсем другое…
Я понимала, что моя патетика попахивает дурным вкусом. И Али должен был бы испытывать неловкость. Вот почему я не ожидала от него никакого ответа. Но он слушал меня с глубоким вниманием! У меня было ощущение, что я заблудилась в огромной и холодной пещере, где меня забыли… Когда я перестала говорить, он посмотрел на меня своим прямым и ясным взглядом, который проник мне прямо в сердце, — будто протянул мне руку над этим столиком, где стояла бутылка из-под шампанского, выпитого Хассейном. Мне хотелось сказать Али спасибо, поблагодарить его от всей души.
Возвратился Хассейн. Вид у него был весьма сумрачный — он был похож на древнеарабского «князя пустыни». Глаза у него стали огромными, как две черные бездны. Я его никогда таким не видела.
Кивнув в сторону танцевальной дорожки, он пригласил меня на танец. Я хотела было отказаться: мне не нравилась его развязность, особенно теперь, в присутствии Али. Но уже с этого момента я начала побаиваться его. Его вид, его глаза были, несомненно, тому виной. И я, поколебавшись немного, пошла с ним танцевать, взглядом умоляя Али простить меня.
Хассейн крепко сжал меня. От него пахло вином еще больше. Я спросила его, много ли он проиграл, ведь я никогда не приносила удачи. В ответ он лишь неопределенно улыбнулся. А когда заговорил, то его глухой и низкий голос поразил меня, как рокот моря в часы отлива. Он обращался ко мне на «ты»:
— У тебя такой вид, словно ты хочешь понравиться Али Мулаю. Я наблюдал за вами. Ты долго разглагольствовала.
— Али Мулай умеет слушать и не бросает меня одну. И не пьет и не играет в карты.
— Али Мулай женат.
— Простите, не понимаю что-то…
— Все ты прекрасно понимаешь. Я повторяю, что Али Мулай женат, что он любит свою жену и что его жена была твоей подругой. Это, правда, остается для меня загадкой, потому что ты не стоишь ее, она куда лучше, чем ты.
Я попыталась высказать ему свое презрение:
— Вы слишком много выпили!
— Нет!
— Нет, выпили! Вы сами не знаете, что говорите!
— Нет. Я все прекрасно вижу, говорю тебе. И я среди вас единственный, кто все прекрасно видит. Али Мулай — наивный человек, а его жена — порядочная, честная женщина. А тебя я хорошо знаю. Ты и бывшего жениха своего сумела увести от другой. Это тебе доставляет удовольствие.
— Неправда. Его родители только пообещали его в женихи кузине. А сам он этого никогда не хотел.
Но Хассейн не слушал меня.
— Ты его увела от другой, а потом отказалась от него. Я тебя знаю: тебе надо, чтобы мужчины валялись у твоих ног, даже если они не нравятся тебе. Не все ли равно, лишь бы это были мужчины! Ты просто жаждешь власти над ними! Этот-то, может, и интересен тебе, но ведь он женат! Ты ревнуешь его к жене, значит, ты не остановишься ни перед чем, чтобы удовлетворить свой каприз. Тебя ничто не смущает. Но я предупреждаю, смотри, пока я здесь, я помешаю твоим пакостным замыслам.
Он говорил тихо, быстро, и голос его дрожал от волнения. Хотя внешне он не выглядел особенно возбужденным. Он стал мне противен. Может быть, и даже наверное, он был прав. И скорее всего, именно его правота была противна мне. Ну и пусть, какая разница?! Я ненавидела его.
— Замолчите! — сказала я.
Он внезапно затих. Я даже не смела и думать, что он послушается меня. Лицо его смягчилось. Он еще сильнее прижал меня к себе. Мне было так неловко. А он становился все нежнее, все ласковее. Но страх мой не проходил. И он сказал мне требовательно, с настойчивостью:
— Поцелуй меня! Поцелуй при всех!
— Вы с ума сошли, оставьте меня! Оставьте!
Я вся одеревенела.
— Поцелуй меня, — повторил он. — Поцелуй так, чтобы видел Али Мулай.
Мне было стыдно. Захотелось убежать куда-нибудь, скрыться. Но он, распаляясь, все бормотал, все твердил одно и то же, и в голосе его уже звучал гнев:
— Поцелуй меня!
Но тут танец кончился. Я пошла к нашему столику, пытаясь скрыть волнение, успокоиться. Хассейн шел за мной нетвердой походкой. Потом остановился, покачиваясь, перед Али. И, еле ворочая языком, произнес, показывая на меня пальцем, в то время как я не смела поднять глаза:
— Она не хочет…
Я резко встала, прервав его:
— Поехали!
Хассейн спал всю дорогу. Мы с Али молчали. Я ехала быстро. Спешила вернуться домой, поскорее остаться одна. Я чувствовала, как подступает злость, как ярость душит меня, несмотря на спокойную синеву слившихся, казалось, навеки воедино дороги и моря в уже опускавшихся сумерках.
Я остановила машину около отеля, где жил Хассейн, в ста метрах от въезда в наш приморский поселок. Отвернулась, когда Али стал будить его, чтобы проводить до номера. Мне хотелось рыдать от злости; это были бы, наверное, единственные слезы, которые бы меня утешили.
Когда Али вышел из отеля, я заметила, как удивленно вспыхнули его глаза: он уже не рассчитывал застать меня здесь. Вначале он доехал со мной до гаража, а потом мы прошлись вместе по дорожке, спускавшейся к морю, туда, где на краю поселка, на скалистом берегу, расположились наши дома. Ночь была светлой, лунной, и только наше молчание источало мрак… Но мы думали об одном и том же. Я сказала:
— Мне стыдно за него, стыдно! Из-за вас, из-за Джедлы, потому что вы оба такие чистые! Мне стыдно за саму себя!
Он тихо и ласково заговорил со мной, и его голос, звучавший в ночи, казался мне полным нежности. Я так хотела увидеть его лицо, но не смела посмотреть на него. Он говорил, что готов оказать мне любую помощь; что мне надо быть сильной; что у меня светлый ум, за что он меня и уважает, но этого недостаточно, и я должна действовать, что-то предпринять. Джедла и он мне обязательно помогут, он это обещает…
Он говорил долго; мрак сгущался. Когда мы проходили мимо его дома, я увидела свет в окне. Я сказала, что Джедла давно его ждет.
Он остановился у моей двери. Светивший неподалеку фонарь отбрасывал желтоватый свет. Али посмотрел на меня и невольно улыбнулся. Меня охватил какой-то внезапный порыв. Я и до сих пор не пойму, что со мной произошло в ту секунду. Я сказала ему: «Спасибо!», сказала горячо, взволнованно, и вдруг, схватив его руку, быстро поцеловала ее. А потом убежала, вся дрожа, сгорая от стыда. В моем жесте было столько униженности…
Когда я легла в кровать, все мои планы вылетели из головы, оставалось только ощущение какой-то потерянности, разброд в чувствах да смута в сердце. И все из-за того, что я поцеловала Али. Из-за аромата ночи, развязного голоса пьяного Хассейна, желтого света фонаря. Мне вспомнилось светившееся в ночи окно Джедлы. И как мы с Али прошли мимо него, не остановившись… Потом я уснула и спала, как обычно, глубоким сном.
Глава VIII
На следующий день в присутствии Джедлы я смело, без всякого стеснения взглянула на Али. Он же избегал смотреть на меня, но я знала, что он ничего не рассказал своей жене. Али, таким образом, становился моим сообщником, сам того не желая. А я вела себя как ни в чем не бывало, и наша общая тайна не мешала мне хохотать и перешептываться с ним. Может быть, я просто-напросто лишена угрызений совести, во всяком случае чувствовала я себя неплохо, а это было для меня главным. Сегодня-то я удивляюсь, как это я умудрилась ни на минуту не задуматься о том, что он подумал обо мне, об этом моем поцелуе, вообще о моем поведении. Но в то время мое полное безразличие, пренебрежение мнением других и было, как мне казалось, моей силой. Если что-то в людях меня тогда и интересовало, то только они сами, их присутствие рядом, но уж, во всяком случае, не суждение их обо мне. Меня могла взволновать лишь чья-то улыбка, задеть чей-то взгляд, я была чувствительна к тому, как звучал чей-то голос. Вот почему, когда я в то утро увидела ненависть в сузившихся глазах Джедлы, я внутренне похолодела. До сих пор она чаще всего демонстрировала свое равнодушие ко мне. Ну, иногда презрение, еще реже — грубость. Однажды в ее взгляде прозвучало даже возмущенное «нет!», брошенное мне в ночь с порога нашего лицея, уже забытого нами. Но все-таки ее поступки по отношению ко мне никогда не были продиктованы чистой ненавистью, скорее каким-то слепым бунтом ее души или, попросту, бурным ее смятением. У ненависти же был особенный, холодный, ледяной отблеск, сродни тому мрачному свету, который застывает в глазах тех, кто терпит поражение. И я увидела его по — настоящему впервые только сегодня утром во взгляде Джедлы.
Я привела к ним моего маленького племянника. Рашиду шел пятый год, он не был красивым мальчиком, но мне он нравился, нравились его капризы, его плохой характер, его насупленность и хмурость. Иногда у него случались приливы нежности ко мне, и тогда я оказывалась у него в плену, беззащитной, не в силах скрыть моих к нему чувств. Я горячо его целовала, и он вдруг становился необычайно послушным, прищуривал, будто от резкого ветра, глазки и корчил такую чудную рожицу, что становился поистине прелестным ребенком. Только его я и любила.
В тот день он взял меня за руку и приказал: «Возьми меня с собой». Мирием умоляла немного освободить ее, ей сейчас дела не было до детей, она вся была поглощена лишь тем ребенком, который шевелился в ее чреве. Я сказала ей об этом с ехидным смешком, который мне самой резанул слух. Я вдруг показалась себе недоброй, хотя и не почувствовала за собой никакой вины, когда Мирием с сожалением вздохнула, услышав мои слова. Я взяла Рашида с собой.
Али, увидев его, пришел в восторг. Они сразу же подружились и ушли в сад. Их смех доносился к нам на веранду, где мы сидели с Джедлой. Она была все так же бледна, как и накануне, и казалась нервозной. Едва слушала мой рассказ о нашей поездке, о том, как я провела время в Алжире.
Рассказала я ей и о том, что произошло с Хассейном. Сам он у нас пока не появлялся.
Я должна была вернуться с Рашидом домой к обеду. Джедла хотела, чтобы мы остались у них, но я не могла. Али и Рашид спокойно направлялись к нам из сада, как старые добрые друзья, проделавшие длительное совместное путешествие. Джедла была теперь сама любезность. Желая казаться ласковой, она настойчиво предлагала Рашиду скушать кусочек торта, который она сама утром испекла. Когда она появилась из кухни с тарелкой в руках, то выглядела почти счастливой. С какой-то несмелой улыбкой она протянула пирожное ребенку. А Рашид вдруг насупился, как это случалось с ним дома, когда он бывал в плохом настроении. Он опустил голову и попятился от нее. Джедла ласково упрашивала его, говорила, чтоб он не смущался. Опустилась даже перед ним на колени, все так же улыбаясь, и снова предложила ему взять тарелочку с пирожным. Мальчик отказался от угощения вторично, и нам с Али стало как-то не по себе. Рашид все так же упрямо молчал, смотрел недобрыми глазами на Джедлу. А она все так же терпеливо и ласково, все с той же улыбкой упрашивала его.
Он попятился от нее и стал льнуть к моим ногам, как бы ища укрытия. Джедла снова, в третий раз протянула ему пирожное, и я увидела в ее смущенном взгляде мольбу, смешанную со страхом. Но Рашид отрицательно тряхнул головой и еще плотнее прижался ко мне. Джедла готова была разрыдаться, глаза ее вдруг заволокли слезы, и она, торопливо поставив тарелочку на стол, побежала в кухню.
Мы с Али с беспокойством переглянулись. Я поднялась и пошла за Джедлой. Она стояла, прислонившись лицом к стене. Нельзя было не растрогаться, увидев ее прямую, гордую спину, вздрагивавшую сейчас от плача, — это зрелище взволновало меня больше, чем вид ее беспомощно распростертого на кровати тела. Джедла, казалось, слилась навеки с каменной стеной. Я смогла только в утешение опустить ей руку на плечо и тихо позвать:
— Джедла! Джедла!
Она резко обернулась ко мне.
— Уйди! — закричала она. — Убирайся! Оставь меня! Оставьте меня все в покое!
Да, точно. Я не ошиблась. Даже сквозь слезы я прочла в ее взгляде именно ненависть.
Когда я вышла на веранду, я поняла, что Али все слышал. Он захотел проводить меня до дому, боясь, наверное, показываться сейчас на глаза Джедле. Я печально улыбнулась ему.
Перед моей дверью он отчетливо произнес, будто заранее взвесил слова, пока мы шли молча:
— Надия, не надо сердиться на мою жену, надо ее извинить…
Я пожала плечами. И почувствовала вдруг, что могу разыграть с ним прекрасную сцену, изобразив этакую усталую снисходительность.
— Надо ее понять, прошу вас, — продолжал он тем временем. — Она очень нервничает вот уже несколько месяцев, после своих неудачных родов. Теперь она думает, что уже никогда не сможет иметь ребенка. И когда она увидела, что Рашид боится ее, ей стало невыносимо тяжко.
Он сжал мою руку, словно умоляя меня понять; и я уверила его, что вовсе не сержусь на Джедлу, обещала скоро вернуться к ним и улыбнулась даже для пущей убедительности.
Остаток дня я думала только о том, что у меня сейчас есть гораздо больше оснований радоваться, чем расстраиваться: ну что мне Джедла, если я теперь завоевала расположение и доверие самого Али! Только его дружба могла теперь служить моим целям вплоть до того момента, когда Хассейн от угроз перейдет действительно к делу. Хотя само «дело» в конечном-то счете, вздохнув, подумала я, оставляло меня весьма равнодушной…
А вот дебют этой сложной игры, затеянной мной, чтобы удовлетворить самолюбие и чем-то развеять безделье, — дебют меня волновал и увлекал. Но я совсем не умела, была просто неспособна довести игру до конца. Слишком нравился мне Али, слишком много находила я в нем очарования, слишком опасалась Джедлы и совсем забывала о Хассейне, когда его не было рядом… Наверное, я в конечном счете сама попадусь в сети, которые расставила для других. Да разве могла я представить, что Джедла возненавидит меня! Или возьмется мне «помогать», что было, впрочем, одно и то же.
В последующие дни Али и Джедла были предельно милы, любезны и предупредительны со мной — словом, сделали все, чтобы заставить меня забыть о неприятном инциденте. Было куда проще отнести все случившееся на счет нервного состояния Джедлы, уверить меня в том, что она просто — напросто «комплексует» после своих неприятностей, и, таким образом, скрыть ту истинную причину, из-за которой она по-настоящему страдала. Мне оставалось объяснить себе самой, что все наши прошлые размолвки и недоразумения были всего лишь проявлением естественной для бесплодной женщины ревности. Словом, я с легкостью вернулась к роли друга семьи.
Правда, временами сверлили воспоминания об устремленном на меня полном ненависти взгляде Джедлы, ее залитом слезами лице и о голосе, которым крикнула она мне: «Убирайся!» Но я гнала от себя эти неприятные, всплывавшие в памяти образы и повторяла слова Али. Мне так хотелось верить в искренность их дружбы. Мне было с ними хорошо.
С Хассейном я виделась потом один или два раза, но лишь в присутствии Али и Джедлы. Он все старался поймать мой взгляд, хотя был подчеркнуто молчалив. Но я делала вид, что игнорирую его. Однажды ночью мне показалось, что он бродит возле нашего дома. И действительно, под фонарем долго виднелся неподвижный мужской силуэт. Он стоял там потому, что оттуда меня хорошо было видно в освещенное окно. Он знал, что это окно моей комнаты. Я задумалась над тем, что, вероятно, всего еще каких-нибудь несколько дней назад я бы выбежала к нему тайком, не размышляя. Но в эту ночь, посмотрев в окно, я тотчас пошла спать. И больше не увиделась с Хассейном. Он даже не приехал проводить Али, когда тот уезжал в Париж, хотя и знал, что Али будет отсутствовать две-три недели. В последнее время они с Джедлой решили, что до тех пор, пока окончательно не устроятся в Алжире, ей лучше оставаться на море. Али попросил одну из своих сестер приехать из города и побыть с Джедлой в его отсутствие. Я же обещала ему уделять Джедле, по возможности, все мое свободное время. И он уехал вполне спокойным за нее.
В день своего отъезда он мне повторил почти серьезно, что доверяет мне свою жену. Мы проводили его в аэропорт Алжира. Когда он пожал мне на прощанье руку, посмотрев в глаза, я даже почувствовала гордость за то, что сумела завоевать его доверие.
Это был не такой уж и плохой результат. Но уже в этот момент, наверное, мне стало очевидно, что только им я и удовольствуюсь.
Золовка Джедлы, Айша, была угрюмой старой девой с давно сморщившимся, как печеное яблоко, лицом. Все дни она только и делала, что бродила по комнатам, что-то потихоньку бормоча себе под нос, как безумная. И Джедла умолила меня поселиться на время у нее. Я охотно приняла ее предложение, тем более что Мирием, снова помирившись со своей свекровью, пригласила ее пожить с ними. Весь дом теперь звенел от их бурных излияний. Я предпочитала молчание Джедлы. Она была теперь со мной не только днями, но и вечерами, которые приобрели для меня особую новизну. Двойственное чувство овладевало мной: она была всегда рядом, и это возрождало во мне знакомые ощущения, навеянные воспоминаниями юности, и в то же время я видела ее уже совсем другой и поэтому чужой. Время текло медленно. Жизнь словно замерла, только слышались осторожные шаги Айши, бродившей в задумчивости в пустынном и чистом доме.
Я ходила по утрам на пляж и плавала в море. Но и тогда я ощущала присутствие Джедлы, оставшейся там, у себя, в глубине сада. Я возвращалась с пляжа, еще не обсохнув, храня в мокрых волосах и коже запах морской воды и водорослей. Джедла приветствовала меня с легкой полуулыбкой, которая заставляла меня забывать обо всем. Мы садились завтракать и ели с завидным аппетитом; я открыла для себя, что Джедла умеет смеяться и смех ее звенит, как капли весеннего дождя на молодой траве. Все удивляло в ней, будило воображение. За столом мы часто шутили, и даже Айша, не понимавшая по-французски, порой снисходительно улыбалась, глядя на нас.
Иногда Джедла соглашалась проводить меня на пляж. Она садилась где-нибудь в тени в шезлонге, а я валялась на песке у ее ног и уговаривала ее пойти искупаться. Она же всегда отказывалась и, в зависимости от настроения, приводила разные доводы. Я так и не знала, какому же верить. Она говорила, например:
— Не хочу обнажаться перед другими.
Или:
— Я слишком худа для того, чтобы надевать купальник.
Я вспоминаю теперь, как кончались такие дни. Мы сидели на веранде, и опускавшиеся сумерки несли успокоение. С наступлением ночи мы, словно растворившись в ее тишине, засыпали в одной комнате, как две сестры. Наши кровати мы поставили рядом и, прежде чем заснуть, частенько подолгу шептались в темноте. Казалось, что очарование проведенного вместе времени будет длиться вечно. Тогда я принадлежала только морю и Джедле, ее теплому голосу, навстречу которому летела моя душа. Отныне только ее дружба что-то значила для меня. Если бы тогда я поняла, что она хитрила со мной, то я бы немедленно сбежала, скрылась в ночи, чтобы никогда больше к ней не возвращаться…
Глава IX
В тот день она получила письмо из Парижа и уединилась с ним в своей комнате. Я воспользовалась этим, чтобы навестить Мирием. Ее свекровь ненавидела меня и не скрывала этого, с вызовом рассматривая меня своими глазищами с тяжелыми веками. Я же равнодушно отвечала на ее назойливые расспросы, с безразличием воспринимая хитрое женское любопытство.
К Джедле я вернулась уже вечером, после ужина. И меня поразило ее лицо: обычная бледность исчезла. Но что особенно впечатляло, так это широко распахнутые глаза, как в минуту опасности у газели, готовой вот-вот спастись стремительным бегством в пустыню. Выражение глаз, пожалуй, и делало Джедлу похожей на человека, которому все здесь чужое, — такой отстраненный и словно бы удивленный вид был теперь у нее. По обыкновению мы с ней посидели в темноте на террасе. Айша ложилась спать рано, как крот.
Я привыкла уже к молчанию Джедлы, но на этот раз оно было совсем не то, что раньше. Оно раздражало меня. Все время, пока я жила у нее, она была неразговорчива, но это не мешало мне. А нынче я чувствовала, что Джедла как бы отсутствует. Словно куда-то исчезла. Я резко встала, нервно закуривая сигарету. Она искоса взглянула на меня, встревоженная моим поведением. Я сердилась на нее. Пошла включила радио. Звуки джаза заполнили все вокруг.
Но Джедла не шелохнулась, не промолвила ни слова. Гнев мой еще не прошел, но уже где-то в глубине души шевелилась укоризна самой себе. И я прогнала прочь свое недовольство. К тому же грохотавшая музыка мне нравилась, ее бешеный ритм просто срывал с места. Веселье само собой захватило меня. Какое, в сущности, имело значение то, что оно не настоящее?!
Потом я побродила от нечего делать по комнатам, в голове моей все еще звенела музыка, и на душе было легко. Я разделась, влезла в пижаму, но поняла, что заснуть не смогу. Тогда я вышла на веранду. Джедла сидела в темном уголке, но ее профиль был различим в луче света, упавшем из распахнутой двери.
Она улыбнулась, и я ей все простила. Устроившись на полу у ее ног, я положила голову ей на колени. Сейчас я снова ее любила странной своей любовью. Она больше не молчала, оставила свое уединение, и вот результат: моего гнева как не бывало… А она все говорила и говорила. И ее слова будто опускались на мои веки, смыкая их. Она рассказывала мне об Али, дела которого в Париже шли самым лучшим образом. Теперь он уже был совершенно уверен, что ему удастся издавать свою газету в Алжире. Джедла говорила долго. Но я помню только ее волнение, ее возбужденный голос, когда она завершала свой рассказ:
— Я счастлива. Теперь все будет проще. Будет так хорошо…
Я до сих пор все слышу ее глуховатый, исполненный надежды голос и те слова, прозвучавшие в ее устах словно жалоба:
— Я так счастлива!
Я тоже была счастлива. И думала теперь только о Джедле, только о ней одной. Потому что она вся светилась, вся сияла. Я прекрасно понимала, что этой ночью так светло от дерзкой луны, разлившей на небе свой огромный желтый ореол, повисшей над садом, над чернильной бездной моря. Понимала, что свет льется к нам и из комнаты, мягко падая на нежный и бледный профиль Джедлы. Но все равно мне казалось, что светилась именно она сама. Что это от нее исходило сияние.
Я подняла глаза, посмотрела на нее умоляюще: останься такой всегда, возбужденной, счастливой, и тогда, может быть, будет хорошо и мне. И моя жизнь, может быть, будет полной…
Мне тоже захотелось говорить, умолять Джедлу простить меня, высказать ей вслух все, что давно накопилось у меня на душе, облегчить себя от терзавших угрызений совести. А может быть, попросту попросить ее посмотреть мне в глаза, обратить на меня, наконец, свой взор, так часто улетавший куда-то вдаль, вернуться ко мне.
И я заговорила. Сказала ей, как я люблю ее, как я любила ее всегда, только ее одну, как любовалась и восхищалась ею и как боялась в то же время. Как нравился мне их с Али союз, их семья. Я говорила возбужденно, с пылом и не могла остановиться. Я сказала, что меня трогает их чистота, что я даже смущаюсь в их присутствии. Словом, я высказала ей всю свою беспредельную преданность, готовность отдать весь жар своего сердца. И так радовалась, что нашла нужные слова, так хотела доказать их искренность, что рассказала и о том, как, не сдержавшись, в благодарность Али поцеловала ему руку. И тут весь мой пыл разом угас. Воцарилось молчание. Опустилась беспросветная ночь. И я поняла, что даже ночь не простила бы мне то, в чем я сейчас призналась Джедле. В наступившей тишине страх охватил меня. Все было потеряно… Джедла вдруг вздрогнула, затем спокойно обратилась ко мне, но я уже чувствовала, как слегка дрожит от волнения ее голос:
— Я всегда знала, что между вами что-то произошло. Я это знала. И с тех пор, как ты живешь здесь, я все искала подходящий повод, чтобы сказать тебе об этом. Но сегодня вечером… — и здесь она усмехнулась, — сегодня вечером я совсем на это не рассчитывала…
Она усмехнулась еще раз, и усмешка эта длилась долго и больно ранила меня. Но я ничего ей не сказала. Мы поднялись и молча отправились спать. Как мне хотелось в эту ночь сбежать из ее дома.
Это случилось вечером. С самого утра она нервничала, хотя по лицу этого не было заметно. Можно было только догадываться о том, как она стискивала зубы от душившей ее злобы. Я заметила даже, что кожа в уголках ее глаз собралась в складки, как у старух или детей, когда те вот-вот заплачут.
Чувствовалось, что она сопротивляется своему настроению. Она много говорила за столом, шутила и смеялась, смеялась громко, развязно, как будто этот смех исторгало чужое горло.
Лицо ее в эти мгновения искажалось гримасой. Обращалась она преимущественно к Айше на своем гортанном арабском. Иногда повертывала голову ко мне и инстинктивно переходила на обычный наш французский.
Вечером, почти сразу же после ужина, мы пошли спать. Меня охватило беспокойство. Я уже знала, что потом в душе моей снова разольется океан безразличия. Что я снова погружусь в его глубину…
Джедла не раздевалась; она выжидала момент, когда я лягу в кровать, и села у меня в ногах. А я выжидала, когда она заговорит. Я уже была готова к этому разговору.
— Ты любишь Али?
Голос ее звучал нейтрально, без всякого выражения, как будто ей было безразлично. А во мне все взбунтовалось, закипело. Я ждала от нее чего угодно, только не этого! Пусть укоряет, обвиняет, пусть плачет, но только не этот ее холодный тон, как на допросе. Да и вообще, как можно так говорить со мной после всего, что я ей рассказала! Я задыхалась от гнева. Хватит! Я буду сражаться с ней, освобождаться от ее власти надо мной!
— Ты угадала! — ответила я. И сразу же посмотрела на нее. Мне хотелось увидеть, каким стало ее лицо. Мне хотелось быть жестокой с ней, помучить ее. Но ни одна жилка на ее лице не дрогнула. И тогда я прибегнула к обычному своему цинизму. — Ну, в общем-то, про любовь эту мою сильно сказано. Он нравится мне, и только. Я нахожу его красивым. В нем есть какая-то сила, которая не может оставить меня бесчувственной, сила, к которой я не привыкла и которой не замечала ни в ком из окружавших меня прежде юнцов. Вот почему я могу сказать, что почти люблю его. Да, может быть, я и сама волную его…
Я надеялась еще на то, что моя развязность и наглость образумят Джедлу, но она сидела с непроницаемым видом.
— Ну и что же, по-твоему, будет дальше? — спросила она.
Только глаза ее как бы угасли, а выражение лица стало еще жестче. Глядя на нее, можно было сказать, что перед вами — деловая женщина.
Я заставила себя рассмеяться. Но меня уже начала утомлять вся эта фальшь.
— О! — отвечала я ей, — Пожалуйста, не волнуйся. Я прекрасно знаю, что он любит тебя. И это нормально. Видишь ли, Джедла, — сказала я уже более мягко, — правда, он мне нравится, я даже думаю, что, наверное, люблю его. Но я ведь не могу сбросить тебя со счетов. До сих пор мне казалось, что я способна (и буду еще, видимо, способна) на любую измену, на любую хитрость, лишь бы завоевать того мужчину, который мне нравится. Но в данном случае замешана ты. И я не нахожу в себе сил сделать то, что хочу. Да, в общем-то, мне и незачем особенно стараться — ведь я знаю, как он привязан к тебе, как любит тебя. Даже если бы у меня и был малейший шанс заполучить Али, я ничего бы не стала предпринимать такого, что могло бы повредить тебе. Я это точно знаю, хотя и не понимаю почему. Может быть, это и есть чувство дружбы? Хотя не думаю. Ведь сама-то ты ни с кем не дружишь; но если бы даже ты считала меня своей подругой, я и тогда бы, наверное, не особенно церемонилась с тобой. Так испокон веков водилось между женщинами, даже сестрами. Следовательно, если это не дружба, тогда что же? Восхищение тобой? Может быть… Хотя все это уже ни к чему, не стоит доискиваться причин, — сказала я, вдруг почувствовав ужасную усталость, готовая вот-вот расплакаться то ли от того, что растрогалась, то ли от сознания своего бессилия, — Словом, не знаю почему, — продолжала я. — Во всяком случае, ничего не опасайся и ни о чем не думай.
Я натянула на себя простыню и хотела уже повернуться к Джедле спиной. Мне стало так одиноко, я ощутила такую беспомощность, словно внезапно ослепла. Только бы оставила она меня одну поплакать, только бы не говорила больше ни о чем! Я уже собиралась закрыть глаза, отдаться во власть ночи, как снова раздался голос Джедлы, поразивший меня необыкновенной серьезностью, значительностью даже, за которой что-то, конечно, таилось. Я смотрела на нее со смутным страхом. Она дважды повторила фразу, прежде чем я расслышала ее. Видимо, она заметила мою невнимательность, но решила довести дело до конца: набралась терпения, которое изматывало ее саму и которое она испытывала теперь на мне, так что душа моя изнывала. Но она, словно одержимая своим терпением и упрямством, втолковывала мне:
— Послушай меня. Все совсем не так, как тебе кажется. Ты выбрала ложный путь.
Она умолкла, тяжело дыша. Как будто сама испугавшись того, что решила сказать во что бы то ни стало. И все-таки повторила еще раз:
— Ты идешь по ложному пути.
Я слушала ее, не думая ни о чем, лишь ужасаясь словам, которые она произнесла.
Глава X
— Я даю тебе полную возможность завоевать Али. Делай что хочешь, понимаешь? Оставь все свои сомнения. Более того, я готова тебе помочь. Да-да, я просто тебе его дарю! Пусть это будет нашим с тобой договором, сообщничеством.
Может, и в самом деле заполучишь себе Али. Ну а я… Впрочем, это уже тебя не должно касаться…
С первых ее фраз, видя неистовый блеск ее взгляда, с мрачной экзальтацией нацеленного на меня, я поняла, что должно произойти что-то невероятное. Я смотрела на нее, как на сумасшедшую, широко раскрыв глаза от внезапно охватившего меня страха. Можно было подумать, что ей не терпится высказать все то, что она передумала, выносила в себе за этот месяц, все эти накопившиеся мысли, которые распирали ее и которые она с жадной страстью, дрожавшим от волнения голосом выговаривала теперь вслух. Я же не могла вымолвить ни слова — словно разверзлась меж нами огромная бездна и Джедла стояла одна на другом краю.
— И вообще, — продолжала она, — почему мы не можем поговорить с тобой откровенно? Хотя бы для того только, чтобы ты потом не забыла, кто тебе его подарил! Знаешь, после моих неудачных родов я поняла, что больше никогда не смогу иметь ребенка, хотя мой врач и не высказался столь определенно на этот счет. Али все пытается меня убедить, что не такое уж это несчастье и что он легко переживет это.
Джедла на мгновение умолкла, но потом продолжала в задумчивости:
— Но я прекрасно вижу все последствия: он постепенно отдалится от меня, а так как он добрый, то никогда не захочет признаться себе в этом. И его любовь ко мне превратится в жалость. А я не хочу жалости! Вот почему мне надо избавить его от такого испытания. И у меня нет другого способа, как только прибегнуть к уловке. Соблазни его! У тебе для этого есть все. А если что-то не будет удаваться, то я помогу тебе, дам кое-какие советы. Он напрасно станет сопротивляться, цепляться за меня, за свою верность и преданность мне, за свою порядочность и честность. Ты такая красавица! Я действительно считаю тебя очень красивой, и у тебя нет, как у меня, изъянов. Может быть, он не устоит перед тобой. И тогда я смогу оставить его. Это один-единственный выход. Конечно, будет трудно, но давай постараемся!
Это было чудовищно. Джедла говорила так, словно мы уже с ней заключили союз, подписали договор, по которому мне предназначалась сатанинская роль.
Я пыталась прервать ее робкими возражениями — вроде того, что еще ничего не известно и, может быть, она еще сумеет родить и что даже если и нет, то все равно, ведь Али любит ее… Да и вообще, у нее нет права одной распоряжаться их жизнью, их общей с Али жизнью. Ведь ее муж — не вещь какая-нибудь в ее руках, но свободное существо, и что даже в том случае, если мы с ней и заключим такой договор, все равно все будет зависеть только от Али…
— Конечно, придется рисковать, — прервала она меня. — Но, рискуя, ты ничего не теряешь или выигрываешь его.
Она меня едва слушала, ее хмурый взгляд был устремлен в никуда. Потом она посмотрела на меня с ироничной улыбкой, открыто насмехаясь над моей щепетильностью и чистосердечностью. Ей бы хотелось видеть во мне коварство, она предпочла бы иметь дело с бессовестной кокеткой.
И когда она снова заговорила, я поняла по ее решительному и одновременно усталому виду, что никогда не смогу переубедить ее. Она обращалась в моем лице не ко мне.
— Я помню тот день, — говорила Джедла, — когда все резко изменилось, повернуло в другую сторону и стало постепенно выбиваться из привычного русла. В сущности, ни для меня, ни для него не так уж и важно, можем ли мы иметь детей. Дело в другом.
Речь ее стала медлительной, словно она говорила во сне. И я вдруг все поняла. Вспомнила тот самый день, когда мы забавлялись с Али в море и когда впервые я увидела, что он красив; когда, подойдя с ним к Джедле, с непроницаемым видом сидевшей на пляже и наблюдавшей за нами, заметила, с какой враждебностью посмотрела она на меня.
— Что-то внезапно вдруг переменилось, — все повторяла она теперь, вспоминая о том залитом солнцем дне. — Я почувствовала что-то такое, похожее на удар кулака в грудь, противное, как скрежет зубов. И поняла, что это ревность заговорила во мне.
Я смотрела на ее напряженное лицо и видела, как она страдала.
— Это было все, что осталось от любви, — продолжала она. — Этот обрушившийся на меня удар, это поражение.
Она, оказывается, долго не хотела сдаваться, выслеживала нас, наблюдала по ночам за выражением лица безмятежно спящего Али; отмечала, если я вдруг похорошела, или громко смеялась, или вела себя развязно, или, наоборот, вкрадчиво и ласково, как кошка. А потом она испугалась, пришла в ужас от этой поселившейся в ней ревности, этой немой боли, которая исподтишка, медленно точила и грызла ее своими острыми клыками. Джедла говорила еще, что спохватилась слишком поздно. Теперь оставалось только взбунтоваться против самой себя. Не терпеть же ей эти муки!
— У меня еще есть гордость! — произнесла она в заключение, стиснув зубы. — Вот поэтому я сама и предлагаю тебе Али. Ты или другая-какая разница? Если ты способна не упустить случая, тем лучше для тебя! Даже если я сейчас и не права, то все равно я предпочитаю идти, пусть даже бесполезно, на этот риск. Я не хочу больше такого счастья, когда надо все время следить, терпеть, как на него, на его красоту заглядываются другие женщины, словно сама я уродка какая-нибудь. Не хочу больше думать об этом, с меня хватит. Задаюсь только вопросом, отчего это столько женщин, влюбленных, как принято говорить, в своих мужей, могут сносить всю жизнь это унижение, смиряться с этой вечной тревогой, вечным своим опасением за то, чем они обладают… Я так желала, чтобы мы с Али остались вечными спутниками жизни, так хотела бы всегда идти рядом с ним! Но это было всего лишь моим заблуждением.
Она грустно улыбнулась. Я слушала ее, и удивление мое постепенно исчезло. Я припоминала теперь их спор, невольной свидетельницей которого оказалась, лежа у изгороди в своем саду. Тогда уже шла между ними речь о какой-то другой женщине…
Потом я подумала о пакетике из-под снотворного, о ванной комнате, молчаливо хранившей тайну. Вначале — газ, а теперь вот другой способ избавиться от своего несчастья, и помощницей в этом она избрала меня. Значит, сама по себе я не существовала для нее. Она смотрела на меня лишь как на молоденькую кокетку. Впрочем, сейчас эта догадка ничуть меня не обидела. Ведь то, что происходило с Джедлой, было похоже на пытку, и никто, даже Али, не смог бы вытащить ее из того кошмара, который терзал ее душу.
Я попыталась еще раз разубедить ее, но напрасно. Она, как и ее красота, оставалась непроницаемой, пронять ее было невозможно.
В разговоре она даже произнесла, будто испытывая садистское наслаждение, странную фразу:
— К тому же мне так хочется увидеть, понаблюдать, отметить тот миг, когда Али рухнет, сломается или же сам разрушит все, что у меня на душе. Я так хочу увидеть, как он отступает, как сдается, вот тогда-то, возможно, я и одержу свою победу…
Ее тонкое, узкое лицо было искажено теперь выражением свирепого вызова. И я печально подумала о той паре, которую встретила когда-то на повороте тропинки, — как смутила она тогда мне душу своим счастьем… Не счастье то было, а скрытая дуэль, цепи, которые безжалостно сковывали двух противников. Я должна была бы еще тогда услышать их крики, чтобы иллюзии не разбились сейчас вдребезги.
И еще я поняла, что мной играли, как хотели. Джедла не имела права так пользоваться мной. Ведь я любила ее и Али.
А она все говорила об Али, о том, какой он умный, какой добрый. Она пыталась искушать меня, и то, что со мной обращались столь низменно, вселило ненависть в мою душу. Меня охватила усталость. И когда Джедла, завершая разговор, сухо обратилась ко мне: «Ну так, что же, ты согласна?», — я ответила ей с наигранной легкостью, пожав плечами: «Может быть, и согласна, почему бы и нет?!»
Сдавшись, я вся ушла в свои собственные переживания. А Джедла торжествующе улыбнулась, довольная собой. Она казалась даже почти счастливой.
Ночью я плакала, уткнувшись в подушку. Я была унижена, предана, продана. Что-то невероятно мерзкое, чему я должна была способствовать, заваривалось вокруг меня…
Спала я плохо, мало. Всю ночь неясный страх сжимал мне сердце, душил меня. Я проснулась на рассвете. Потихоньку выскочила из кровати и убежала, приняв окончательное решение.
Из дому я выбралась так, чтобы никто не слышал. На пороге остановилась, ослепленная светом зари, никогда еще я не поднималась в такую рань. Я дрожала от холода, зато дурные сны прошедшей ночи растаяли в бледных лучах поднимавшегося солнца.
Глубоко, с облегчением вздохнув, я пошла к своей забытой машине и села за руль. Я неслась по пустынной дороге и чувствовала себя свободной.
В девять утра я уже была в Алжире. Ни о чем не думая, ни в чем не сомневаясь, я подъехала прямо к адвокатской конторе Хассейна. Попросила вызвать его. Он появился в дверях, подошел к моей машине. Он ничуть не был удивлен, увидев меня с утра пораньше в таком виде — непричесанную, бледную, решительную.
— Можете освободиться и провести сегодняшний день со мной? Это очень важно для меня. Умоляю вас согласиться. Садитесь в машину. Поедем куда-нибудь. Мне необходимо с вами поговорить.
Через полчаса мы уже ехали, сами не зная куда.
Он не задал мне ни одного вопроса. Мы остановились возле какого-то пустынного пляжа, который, казалось, давно нас поджидал. Искупавшись в море, мы легли рядом погреться на песке. Вчерашний вечер, проведенный с Джедлой, ее глухой голос — все ушло куда-то, и сейчас я едва вспоминала об этом. Под жарким солнцем, возле человека, излучающего уверенность и надежность, мне было так спокойно и хорошо, что происшедшее растворилось, исчезло, как ночной кошмар.
Когда Хассейн склонился ко мне, я взяла в ладони его немного растерянное лицо и приблизила к себе; я уже не боялась больше его губ. И в первый раз, еще смущаясь, прошептала: «Я люблю тебя». Я помню его обжигающие поцелуи, его горящие глаза, в которых сияло опрокинутое небо, помню приятную тяжесть его тела, которое заставило меня забыть все на свете…
Еще я помню о том блаженстве любви, в которое погрузилась, об овладевшей мной истоме, которую я ощущала как пустоту и усталость после хорошей работы…
До сих пор поцелуи других мужчин оставляли мне лишь привкус скуки. Может быть, поэтому я их всех и гнала от себя так скоро. Но в тот день мне вдруг стало так легко с Хассейном, что я ничуть не стыдилась смотреть ему прямо в глаза, говорить ему, что он прекрасен, прекрасен, прекрасен…
Я закрывала глаза и наслаждалась. Может быть, это и было то, о чем я всегда мечтала, — счастливая усталость, телесная утомленность… Сейчас он тоже, как и я, молчал. Я положила голову на его заросшую густыми волосами грудь. Я любила его.
Мы пообедали в каком-то маленьком придорожном ресторанчике. Как и положено влюбленным, мы много ели, дружно смеялись; Хассейн жал мне руку под столом, и мы не скрывали от официанта нашего счастливого сообщничества. Все было легко и просто.
На обратном пути я уступила руль Хассейну, сделав вид, что мне хочется спать, — мне так хотелось положить голову ему на плечо! И тут он меня, наконец, серьезно спросил о том, что же я намеревалась ему сказать утром. Но я сумела скрыть свое смятение.
— Да ничего особенного, — ответила я, — Просто хотела побыть с тобой.
Потом я несколько дней жила в Алжире у моей сестры Лейлы. Хассейн работал по утрам и являлся за мной после обеда, чтобы ехать на море. Я быстро привыкла к нему, к его поцелуям, к его присутствию. Он был веселым, нежным и казался просто созданным для счастья. И я забыла и не вспоминала больше ни об его злой иронии, ни о его давешних угрозах. Иногда, правда, во время наших ласк он брал мое лицо в ладони и серьезно, вопрошающе смотрел мне в глаза. Тогда я пугалась его молчания, он вдруг становился мне чужим. Успокаивая себя, я думала, что он просто немного нервничает. Быстро целовала его глаза, лоб, волосы и говорила: «Я люблю тебя». Я любила повторять ему это. Но он никогда мне не отвечал. Ни разу не произнес этих простых слов. Правду сказать, я и не нуждалась в них. Иногда он опускал голову мне на грудь, сжимал меня так крепко, будто я вот — вот убегу от него, и лежал, закрыв глаза, тихо, как ребенок.
Меня умиляло это его забвение, но я предпочитала его страсть, его неистовость. Они защищали меня.
Мне ничего не хотелось рассказывать Лейле по возвращении, и я с трудом выслушивала ее сплетни. Во мне все было так покойно, так полно, так значительно, словно море раскинулось в моей душе. Прошли четыре дня, четыре дня, которые оставили во мне пьянящую свежесть, напоминавшую осенние вечера, когда природа вдруг затихает и словно бы растворяется в неизъяснимом, мерцающем свете опускающихся сумерек…
Потом однажды Хассейн заехал за мной — замкнутый, неулыбчивый, и я стала тонуть. Он долго держался так, отчужденно, почти враждебно. Во мне все замерло, оцепенело. Я посмотрела на него, и он мне показался совсем чужим и совсем некрасивым. Мне хотелось положить руку ему на плечо, смягчить его как-то, растрогать, а самой закрыть глаза, потихоньку заплакать и снова обрести его таким, как прежде. Но я даже не могла протянуть к нему руку.
Я остановила машину. Однако он не собирался выходить. Отрывистым голосом спросил, как я провела время перед своим приездом сюда. Наверное, полагал он, Али уехал. Ну а я осталась одна с Джедлой. И, конечно же, начала скучать: ведь интерес мой к пляжу после отъезда Али пропал. Ну и прекрасно сделала, что приехала!..
Я больше не могла выносить его иронию. Я высадила его на какой-то улице, потом уехала, стиснув зубы, понеслась с бешеной скоростью по дороге. Не хотелось ни о чем думать только о ветре, который хлестал меня по щекам и стучал в виски, только об этой вечной гонке моей жизни. Джедла презирала меня, Хассейн ненавидел. Ну а Али его не было больше со мной, и я забыла его.
Все было кончено с этой моей несчастной жаждой нежности, с поисками тех, кто мог бы утолить ее. Жизнь — это нечто совсем другое, это неистовство людей, это их оскорбления, это насилие. И надо бы мне стать сильнее! И сделать то, что ждут от меня, чего хочет от меня Джедла.
Решив так, я действительно стала свободной, а может быть, окончательно потерянной…
Часть третья
Глава XI
Дома меня ждало письмо. Увидев конверт с парижским штемпелем, я почувствовала, как забилось мое сердце. Почерк был разборчивый, с удлиненными буквами. Я быстро прочитала:
Дорогая Надия! Я очень обеспокоен, так как вынужден задержаться в Париже. Боюсь, что Джедла, которая перед моим отъездом плохо себя чувствовала и, главное, была в подавленном настроении, сейчас страдает от того, что меня долго нет. Конечно, она меня уверяет, что все в порядке, и просит, чтобы я занимался только своими делами.
Я подумал о Вас, о Вашей дружбе. Хотелось бы, чтобы Вы мне честно рассказали, как там Джедла. Я имею в виду прежде всего ее душевное состояние, ее нервы. Рассчитываю на Вашу искренность и очень прошу не оставлять ее, по возможности, одну! Хочу сказать, что бесконечно Вам благодарен, и пользуюсь случаем выразить Вам признательность за Ваше сочувствие и помощь в том, что случилось тогда. Мы с Джедлой были очень тронуты. Я написал Вам не только как другу детства моей жены, но и моему другу тоже, которому я полностью доверяю.
С дружескими чувствами,
Али Мулай
P. S. Не стоит рассказывать моей жене об этом письме. Она не хочет признаться себе, что больна, и ей будет неприятно знать, что я забочусь о том, чтобы с ней постоянно кто-то находился рядом. Спасибо.
Я дважды перечитала постскриптум и задумалась, нахмурившись. Не все в этом письме было для меня ясно. Он заботится о своей жене, как о больном, как о ребенке, которого надо избавить от беспокойства и тревоги? Но ведь он знает, какая она ревнивая. Даже, может быть, боится ее подозрений? Тогда ему не следовало мне писать. А может, он действительно волнуется за нее? Тогда надо просто-напросто вернуться домой, и только! Не Джедле, а мне становилось не по душе все это.
Я долго размышляла тогда. Теперь же, когда уже все кончено, могу чистосердечно признаться, что думала я только о том, как бы мне самой избавиться от одной темной мыслишки, которая казалась просто ужасной, но, однако, с самого начала не давала мне покоя.
Джедла, скорее всего, все поняла правильно и, вероятно, рассудила по справедливости. Ведь как убедительно звучал тогда ее голос: «Я считаю, что ты просто красавица!» Может быть, Али и в самом деле влекло ко мне? Его разговоры со мной, его доверие, его поведение в казино, когда произошла эта неприятная для меня история с Хассейном, да и все, что случилось после, — мой поцелуй, ночь, которую он поберег для себя, не захотев сразу возвращаться домой. Теперь вот это письмо, как бы укреплявшее наше с ним сообщество. Ведь если он так часто повторял слово «дружба», то, наверное, хотел и сам себя убедить в этом…
Когда я думаю сегодня о том, как я прореагировала на письмо, то спрашиваю себя, как же я смогла забыть в тот миг обо всем остальном: о серьезности этой супружеской четы, чья гармония меня очаровала поначалу; о том, как меня потрясли рыдания Али у постели умирающей Джедлы и настроили против нее. Как не подумала я об их ночах любви и их долгих днях, полных супружеского счастья; о накрепко сковавших Али и Джедлу цепях страдания?..
Однако в первый раз мужчина протягивал ко мне руку за помощью. И я путала его доверие с чем-то другим. Видно, слишком часто мне говорили о том, какая я красивая, о роскошных золотых волосах и загорелой, как персик, коже. Видно, слишком рано избаловал меня Хассейн своими страстными поцелуями. И теперь я уже не могла различить то, к чему стремилась в действительности всю жизнь, что мечтала увидеть: простой дружеский взгляд. Видно, слишком жарко пылало в то лето солнце, слишком опьяняли меня простор дороги и скорость езды, слишком остро было воспоминание о теле Хассейна, о его губах, его груди…
Теперь же, после письма Али, мне оставалась только Джедла, взгляд ее черных глаз, от которого мне становилось не по себе, ее голос, который снова мучил меня, смущал душу затаенным пылом и даже, не боюсь сказать этого слова, чарами. Она снова предстала передо мной как слишком чистое воспоминание детства. И снова я только и думала что о ней, всецело отдавшись во власть обуревавших меня страстей.
Джедла встретила меня так, как будто мы расстались накануне, — ничуть не удивившись. Сказала просто и ясно:
— Я знала, что ты вернешься.
И у меня возникло ощущение, что я — как ребенок, сбежавший из дома и возвратившийся назад. Это было смешно и нелепо — вечно чувствовать себя рядом с Джедлой девчонкой, вечно ощущать ее превосходство, вечно быть униженной.
Она казалась лишь немного холоднее обычного. Все время что-то делала по дому, хозяйничала, словно боялась неподвижности. А вот Айша изменилась. Она встретила меня долгим, внимательным взглядом, в котором таилось беспокойство. Она молчала, и это скорбное молчание было как траурная одежда. Айша казалась теперь похожей на испуганное животное: она не спускала глаз с Джедлы, полностью игнорировавшей ее. Я почувствовала симпатию к этой старой деве, недоверчивой и молчаливой, — она любила Джедлу.
Весь день я провела в этом доме, где было уже не так светло, как раньше. Джедла говорила тихо, и наш разговор с ней был тоже каким-то скучным и тусклым. Глядя на нас, можно было подумать, что мы бесцельно убиваем время, как две подруги, которые, встречаясь каждый день, вынуждены перебрасываться пустыми банальностями.
Куда делась ее ненависть, ее неистовство? Тогда я еще не знала, какие страсти могут таиться в тихих озерах ее покоя, в вечном однообразии установленного ею в доме порядка, в бесконечных глубинах ее молчания…
Для меня же замедленность бега жизни означала лишь забвение прошлого, лишь начало обновления. Поэтому, когда вечером я собиралась уходить, а Джедла, повернувшись ко мне, почти властно сказала: «Я хотела бы, чтобы ты осталась! К тому ж нам надо поговорить», — меня снова охватила усталость. Я с такой охотой забыла бы сейчас обо всем. Но я всегда имела дело с людьми упрямыми, добивавшимися от меня того, что им хотелось, и я осталась. Я помню, как, снова вооружаясь привычным своим цинизмом, подумала тогда: «В конце концов, она по собственному почину работает на меня!» И мне ничего не оставалось, как ответить ей согласием. Я вспомнила также о письме Али, которое как бы скрепляло наш союз. Только бы сам Али не запутался во всем этом…
Вскоре мы остались вдвоем на террасе. Ночь опустилась над садом; мягкий покой, который она несла нам, напомнил мне о других вечерах, когда я любила усаживаться у ног Джедлы, класть голову ей на колени. И если бы тишина, стоявшая сейчас вокруг нас, не была столь глубокой, я бы, наверное, горько рассмеялась. Уж слишком все выглядело смешным: в то время как я обретала кошачьи повадки, с радостью откликалась на малейшую ласку, на малейшее внимание со стороны этой четы, она плела вокруг меня сеть серьезной игры, постепенно заманивая в ловушку. А я-то еще думала поймать их в свою! Да, недаром мне хотелось посмеяться над собой, похохотать над собой, похохотать всласть в тишине этой ночи… Я взглянула на темный, прямой силуэт Джедлы, которая заговорила со мной ровным голосом. Я слушала ее и не слышала, потому что поняла вдруг, что ненавижу только саму себя.
— Раз уж мы пришли с тобой к согласию, — говорила Джедла, то нам нужно вместе обсудить наши возможности. Али приедет дней через десять. И к этому моменту надо все уже подготовить.
Оказывается, пока я отсутствовала, она разработала план действий. Я приняла это сообщение совершенно спокойно. Ночь разливала вокруг восхитительный аромат — это благоухала герань, и я подумала, как хорошо сейчас влюбленным гулять в этой струящейся душистой свежестью ночи, как уютно отдыхать сейчас в семейном кругу на террасах, вести спокойные беседы. А я пыталась разглядеть сидящую передо мной женщину с лицом королевы, с глазами газели, внезапно вспыхивавшими в ночи каким-то странным огнем… Она тщательно описывала средства, с помощью которых я должна была отбить у нее мужа. Все это казалось неправдоподобным. Джедла рассуждала с методической четкостью. С ее точки зрения, было просто необходимо окружить Али со всех сторон, исключить для него возможность отступления. Первый шаг — заставить его предельно уважать меня. Он должен проникнуться особым доверием ко мне, а для этого, сказала Джедла, усмехнувшись, я должна буду демонстрировать ему свою невинность и особенно свое несогласие с той средой, которой принадлежу. Тогда, может быть, настанет такой момент, когда мне придется обратиться к нему за моральной поддержкой против… Хассейна, ибо она кое о чем уже, видите ли, догадалась. Али должен будет почувствовать себя ответст венным за мое спасение. Он вообще охотно помогает людям…
— Вот тогда-то ты и должна будешь пустить в ход свои чары! — (Джедла показалась мне сейчас похожей на генерала, готовившего сражение.) — Может быть, — продолжала она, — мы еще будем находиться здесь. И ты будешь еще красивее. А я со своей усталостью и недомоганием, да и со всем прочим…. буду только увядать все больше и больше. И вот однажды, когда развязка будет уже близка, я позволю себе появиться на пляже в купальнике. В солнечном свете моя худоба покажется ему уродством, а ты-тут как тут, рядышком… Со всеми своими прелестями. Ну и посмотрим тогда, устоит ли он! Только одно условие должно быть оговорено между нами. — Она замолчала на минутку. — Ты должна будешь мне все рассказывать. Мы ведь с тобой настоящие заговорщицы! Я хочу знать все, абсолютно все! Конечно, я вас буду оставлять вдвоем как можно дольше.
Я ответила согласием. И подумала о письме, которое получила из Парижа и которое лежало сейчас на моем письменном столе. Но ничего не сказала о нем. Я уже начала жульничать в этой игре. Наверное, мне никогда не удастся сыграть ее честно. Мне стало страшно…
Прошло несколько дней; у меня сохранилось о них воспоминание как о чем-то унизительном в моей жизни. Нити заговора между мной и Джедлой постепенно становились прочнее. Вечерами она не позволяла мне уходить от нее. С каждой ее улыбкой я готова была растаять, поддаться ей, все забыть, говорить как с родной сестрой и даже, если бы она захотела, просить у нее прощения. Но она требовала от меня только согласия с ее планами, хотела видеть во мне только свою союзницу.
Это было также время наших взаимных исповедей. Вообще-то я ненавидела фальшивую интимность, когда женщины шепчутся о своих несчастьях и грехах. Но Джедла словно толкала меня на этот мерзкий путь. И я должна была без конца рассказывать ей о своем прошлом, которое сама для себя считала уже безвозвратно ушедшим, которое было уже как бы и не моим.
Много ли было у меня любовников? интересовалась она. Кто из них мне нравился? Я их, несомненно, презирала всех, но ведь целовалась с ними. Ну, конечно, она хорошо все понимает…
Пришлось даже рассказывать о том первом моем поцелуе, после которого я увидела ее искаженное ненавистью лицо. Как же это так случилось, недоумевала Джедла, что она не помнит имени того мальчика? А почему я отказалась от помолвки?
— Сама не знаю…
Ну да, понятно, наверное от усталости и скуки… Мне, видимо, нужна постоянная смена мужчин, полагала она.
Я, конечно, должна была отвечать ей немного холодным тоном, с этакой дозой горечи в голосе, как бы слегка саркастично. Когда я мешкала с ответом, колебалась, она сама подсказывала мне его.
Она не удовлетворилась только сведениями обо мне. Ей надо было все знать и про моих сестер. Ее удивило и как-то даже разочаровало то, что они совсем были на меня не похожи. Может быть, именно потому, что они вышли замуж очень рано. Я их одобряла. Но у Мирием, рассказывала я, любившей и боявшейся своего мужа, сохранился тем не менее привкус, как говорила мне она сама, своей загубленной молодости. У нее не было времени воспользоваться ей. «Воспользоваться ей», — подхватила мечтательно Джедла…
Лейла же, рассказывала я, никогда не была сентиментальной. У ее мужа было прекрасное положение, приличное состояние, и она с самого начала приручила его родителей, став полновластной хозяйкой дома, а это было главным для нее…
Зло душило меня; Джедла плохо скрывала свое разочарование: все эти «мелочи» не волновали ее. Тогда я выплеснула ей семейную «подноготную», которую она и ждала от меня. В прошлом году, рассказывала я, одна из моих кузин сбежала из дому с молодым человеком. И тихо добавила: «С европейцем!» Ее родители все уверяли нас потом, что она уехала лечиться за границу. А одна моя подруга, у которой была безупречная репутация только потому, что она умела удачно и незаметно устраивать свои похождения и подбирала себе, дождавшись случая, только «хорошие партии», жила в свое удовольствие… Я приводила Джедле и другие подобные забавные «примерчики», которые волновали моих жадных до сплетен сестер. Так, я рассказала о своей молодой тетке, непорочной и наивной, которая вышла замуж в глубинке и попала в богатую семью одного местного святого. И была постоянно беременна. Пять раз рожала она девочек, а на шестой раз муж, отчаявшись, заставил ее избавиться от ребенка. Она приехала в Алжир, и ею занялась потихоньку Лейла. И надо же было так случиться, что именно на этот-то раз родился бы мальчик…
Постоянная обязанность будоражить душу Джедлы, насыщать ее тем, что ей хотелось узнать, измотали меня вконец за те несколько дней, что я рассказывала ей все эти глупости. Но вместе с безразличием привычки я обрела и свою былую трезвость, и горькую ясность ума. Зачем, думала я, сюсюкать с ней о моем отце, например? Или о том, что Мирием покорна своему мужу? И о том, что Лейла испытывает странное удовольствие от того, что содержит прислугу европейского происхождения, что она хочет убедить саму себя, что деньги, свобода, «европейское» образование всех нас испортили, а уж меня-то больше всех других? Зачем Джедле вообще знать, что, конечно же, Лейла права?
Глава XII
Я ответила на письмо Али. В нескольких словах успокоила его, что Джедла никогда еще не была такой спокойной, в таком хорошем расположении духа. И отправила письмо, без всяких угрызений совести. В тот момент у меня и мысли не было поторопить его с возвращением, дабы уберечь свою жену — и меня тоже — от того, что мы затеяли.
Я была уже готова на все. Хотя, по правде, временами мне было больно и трудно переносить наше заговорщичество и точившую меня изнутри ненависть. Я искала спасения в общении с Мирием, но напрасно. Потому что уже не могла больше находиться вдали от одинокого жилища и дикого сада, где обитала Джедла.
Отрешенность и сосредоточенность Мирием на самой себе и на предстоящих родах, ее сияющее довольством лицо раздражали меня, действовали даже как-то оскорбляюще. В придачу ко всему ее муж меня теперь попросту игнорировал. Я даже уже грустила о том времени, когда он испытывал ко мне презрение и я, по-детски стараясь спровоцировать его, закуривала в его присутствии сигарету, ходила в брюках, вызывающе вела себя, а он демонстративно молчал. Единственно, с кем он смеялся, позволял себе расслабиться, были его дети. Тогда я видела на его неприятном лице выражение счастья, которое смущало меня. Каждый вечер он уходил после ужина погулять перед сном с Рашидом, и я почти ревновала их друг к другу, видя, как они идут вдвоем по дорожке сада в молчаливом согласии. От нечего делать я много спала или дремала. Забыла и о море, и о машине, и о своих одиноких прогулках. Все утешала себя тем, что эта серая жизнь помучает меня еще недельку, а потом приедет Али и необыкновенные события обрушатся водопадом.
Расслабленная, вялая, утомленная, я целыми днями валялась в кровати и все мечтала о том, когда же я начну играть свою роль в готовившемся спектакле. Словно иная, полная драматизма жизнь должна была раскрыться передо мной, и я чувствовала себя созданной для нее.
Время текло в приятной томительности ожидания. Медлительная истома долгих летних дней была пропитана близящейся развязкой. Я заставляла себя подняться, чтобы пойти повидаться с Джедлой. Хотя не испытывала в этом особой нужды — она как бы всегда была рядом со мной.
Я помню день, когда я прервала это свое ожидание. Мирием попросила меня исполнить кое-какие поручения в Алжире и привезти к нам Лейлу. Накануне мне передали, что Джедла собирается ко мне присоединиться. И мы поехали вместе. Она молчала всю дорогу. Взгляд ее снова блестел, пылал каким-то внутренним светом. Я не осмелилась ее ни о чем расспрашивать. Я знала уже по опыту проведенных с ней в полном молчании дней, что в такие минуты она становится совсем недосягаемой и чужой.
В Алжире она меня покинула, ушла по своим делам. Но когда, возвратившись, она все так же безмолвно села в машину, даже не заметив там с любопытством смотревшую на нее Лейлу, я начала злиться. Мне вдруг показалось, что Джедла решила нарушить наш с ней договор. Перед самым своим домом она с холодной вежливостью попрощалась с Лейлой, а мне, поколебавшись, быстро сказала:
— Надо будет тебе зайти ко мне на днях.
Голос ее дрогнул при этом. Но я решила все-таки выждать два-три денька, прежде чем удовлетворить свое любопытство: кто знает, думала я, не обратится ли вновь моя тревога, которую я смутно тогда уловила в своей душе, в очередное разочарование?
Но Джедла сама прибежала ко мне на следующий день, что случилось с ней впервые. Она, правда, не захотела ни войти в дом, ни выпить кофе, как ни уговаривала ее Мирием. Попросила меня найти какой-нибудь предлог, чтобы уйти с ней. Мы сели в машину и уехали подальше. Я не хотела задавать ей вопросов. Вела машину на большой скорости и ждала, когда она заговорит. Джедла сидела рядом, закрыв от ветра глаза. Казалось, что она сейчас вся во власти скорости и не думает ни о чем.
Я остановила машину неподалеку от дикого пляжа, уже вовсю залитого солнцем, где мы не раз бывали с Али и Хассейном. И вот теперь я, повинуясь чувству, приехала снова сюда, потому что мне хотелось напомнить Джедле о нашем с ней договоре. Я все спрашивала себя, пока мы укладывались загорать на песке, зачем она пришла ко мне, может быть, чтобы от всего отказаться? Наверное, у нее теперь не хватает смелости. Я думала также о том, что уже скоро должен приехать Али, что еще постоят такие же прекрасные деньки, как сегодня, и что мы, конечно, и Джедла тоже, опять встретимся, а там видно будет…
Наверное, я пролежала так, задумавшись, довольно долго. Потому что вздрогнула от неожиданности, когда Джедла заговорила со мной.
— Я беременна… — сказала она просто, без обиняков.
Говорила она долго, но ни словом не обмолвилась о том, что между нами произошло, о том, чем наполнена была моя жизнь в эти последние дни. Ее сейчас волновало только это событие. Али, говорила она, будет так счастлив. «Мы все начнем сначала». Она несколько раз повторила это, как будто для самой себя, чтобы убедиться, поверить в сказанное. Она говорила, что Али должен приехать дня через четыре, ну через пять; и она не будет поэтому извещать его письмом. Да к тому же надо бы еще разок сходить к врачу в Алжире. Ей хотелось подтверждения своего положения.
Я внимательно смотрела на нее. Черты ее лица словно пришли в движение — так она была воодушевлена. А меня душил гнев, я просто не могла видеть ее такой — сияющей, довольной. Ну как Мирием, как все бабы! Ведь то, что я любила в ней до сих пор, так это именно ее протест, ее несмирение, ее неизвестно чего жаждущую душу… А теперь она стала всего-навсего обычной счастливой женщиной. Она даже не казалась мне больше красивой. И я не хотела привыкать к ее новому лицу.
Что же ей от меня понадобилось? Ведь она стала теперь похожей на других, так быстро утолила себя, так быстро сдалась и теперь вот, не стесняясь говорить вслух о своем счастье, раскрылась перед всеми, как ядовитый цветок, бесстыдно распустивший свои лепестки…
Я бы еще допустила, если бы она мне сказала просто: «Не будем больше говорить обо всем этом! Я изменила свое решение».
Но она ко всему прочему еще и добавила:
— Али любит меня. Я знаю это. Я просто была идиоткой. Все, что мы с тобой затеяли, было бы напрасным. Я верю в его честность и преданность.
Я могла бы взорваться от ненависти, но я знала, что она говорит правду. Давно следовало закрыть глаза на все и уехать. Но Джедла предпочла поделиться со мной сокровенным, значит, хотела чего-то от меня?! Может быть, надеялась, что я протяну ей руку дружбы, что порадуюсь вместе с ней или что, может быть, скажу просто: «Я счастлива за тебя. Али сойдет с ума от радости! Вот увидишь, как ты заблуждалась на его счет!» А может быть, она самой себе не верила? Своему счастью? Уж столь шатким оно было!.. И я услышала, как говорю ей:
— В сущности, все это было абсурдно затевать. — Надо же, с какой легкостью я говорила ей — «все это»! — Ты была просто расстроена, угнетена тем, что не можешь иметь детей, страдала от одной этой мысли. Но ведь все сомнения твои теперь позади… Я поколебалась минуточку, а потом рассмеялась: — Вообрази, что я уже собиралась поверить в то, что ты была права! Ну да. Али ведь написал мне, чтобы я побольше уделяла тебе внимания, последила за твоим здоровьем. Его это так волновало. И он просил меня уверить его, что все в порядке. Но ты мне сумела внушить совсем другое, и я уже готова была усомниться в его намерениях. Да еще он попросил меня не рассказывать тебе об этом его письме! Он все говорил там о дружбе, и я подумала, не вынашивает ли он планов на мой счет и не пытается ли приблизить к себе таким вот образом?..
Я сделала вид, устало тряхнув головой, что отгоняю от себя черные мысли.
— Мы обе сошли немножечко с ума! Давай выкинем все из головы, забудем! — сказала я.
Я сказала это как бы между прочим, а потом повторила, настойчиво подчеркнув, что лучше бы «все забыть». Теперь уж я не помню, ни что она мне ответила тогда, ни выражения ее лица. Помню только, что, когда мы с ней расстались в тот вечер, я подумала, зло усмехнувшись, что теперь она сама прибежит ко мне за помощью.
Вечером среди своих сестер я почувствовала себя как-то особенно спокойно. И все было хорошо вплоть до того момента, когда вдруг Лейла недовольным тоном обратилась ко мне:
— Кстати, я только что узнала, что Хассейн собирается обручиться. Его родители уже приехали в Алжир, кажется, они готовят ему в жены одну из его кузин. Это вроде бы уже давно у них решено, но он все до сих пор не давал согласия на свадьбу. Надо думать, что теперь он изменил мнение!
Я с безразличным видом пожала плечами. Но конец нашего разговора помню как в тумане. У меня словно пусто стало на душе и сжалось сердце. Хотелось поскорее остаться одной. Когда я добралась до своей комнаты, то сразу же легла в постель и стала размышлять.
Несмотря на то что нервы мои были в порядке, я чувствовала, что долго так не продержусь-я отмечала уже в себе приметы наползавшего душевного смятения. С тех пор как я вернулась сюда, я больше не думала о Хассейне. Я была абсолютно уверена в том, что рано или поздно снова увижусь с ним, если захочу. Я настолько привыкла считаться лишь со своими желаниями, что одной Джедле позволяла располагать мной, как она хотела. И вдруг Хассейн ускользал из моих рук!
Я вскочила с кровати. Ну нет! Я просто так не сдамся! Не только раненое самолюбие бушевало во мне. Я любила Хассейна, хотела, чтобы он был рядом. Я помнила, как тогда на пляже я нежно сказала ему: «Я люблю тебя», как смятенное его лицо склонилось надо мной…
Мне безумно хотелось плакать. Но я собралась с духом. Села за письменный стол и быстро, не раздумывая, написала:
Хассейн! Пишу Вам не потому, что мне скучно.
Я пыталась Вас забыть. Но сейчас узнала, что Ваши родители собираются Вас женить. По той боли, которую мне причинило это известие, я поняла, что и в самом деле люблю Вас. Я не стыжусь своего унижения, отправляя это письмо. Но если Вы действительно испытываете ко мне хоть малейшую привязанность, то простите меня, умоляю Вас! Я не хочу Вас терять. Я люблю Вас. Я люблю Вас. Я тебя жду.
Надия
Я бросила письмо в почтовый ящик. Хассейн получит его завтра. И, возможно, вечером или же, скорее, послезавтра утром приедет сюда. Мне ни капельки не было стыдно, что я его сама позвала.
Прежде чем заснуть, я все думала о приезде Хассейна, о том, как он меня поцелует. Я уже была готова стать его женой, любить его. Я была счастлива. Я подумала и о Джедле, которая тоже была счастлива. Вспомнила, какое у нее было лицо сегодня утром, и оно мне не казалось больше вульгарным, тупым в своем довольстве. Она была женщиной, такой же, как я сама, моей сестрой. Потом появилось смутное беспокойство. Мне стало страшно, что меня будут терзать угрызения совести за то, что я говорила Джедле, за то, что я бросила ее. Завтра надо будет с ней объясниться, поддержать ее. Я приду к ней с искренней улыбкой и дружбой.
Глава XIII
Весь следующий день я никуда не выходила из дома. Малейший шум на улице, шуршащий звук шагов по усыпанным гравием дорожкам в саду, скрип ворот все заставляло меня вздрагивать. Дважды бегала я навстречу почтальону, но напрасно. Ночью спала плохо и даже во сне прислушивалась к звукам за воротами. Я была разочарована. Но все еще надеялась на завтра. Хотя надо было бы смириться с очевидностью: Хассейн не приедет. Меня бесило то, что он даже не соблаговолил ответить. Несколько раз у меня появлялось желание немедленно сесть в машину и ехать в Алжир, чтобы услышать «нет» от него самого. Пусть даже оскорбительное, саркастичное. Но я сдержалась: невозможным казалось унижаться перед ним дважды.
Плакать я не могла. Лежа на кровати, я презирала то, что называла своей «судьбой», и прокручивала в голове ворох всяких глупых предположений и планов. Они сдерживали мой гнев и отчаяние. Да, именно так я и поступлю, думала я, буду лежать в кровати и ни есть, ни пить до тех пор, пока он не приедет. Но уже через несколько минут я вскочила, чтобы посмотреть в окно. Я пыталась молиться, давала самой себе обеты. Клялась, божилась. Такое было со мной впервые. В какой-то момент я даже подумала о самоубийстве и вообразила, как лежу, спасенная от смерти, а Хассейн стоит рядом со мной. Впрочем, напрасно я воображала себе эти страсти, смерть всегда казалась мне чем-то далеким, безликим, ко мне не относящимся. То было просто мое полное бессилие. На третий день я, успокоившись, поднялась с постели. Стиснув зубы, написала отцу, который был в это время в Париже. Извинилась за то, что долго не давала о себе знать, что мне уже осточертело и это бесконечное лето, и эта жара, и что я просто задыхаюсь здесь во всех смыслах. Просила его, чтобы он разрешил мне уехать в Париж в октябре. Потому что теперь меня интересует только учеба. Что я люблю его, только его одного. И это было правдой. «Отныне надо все выкинуть из головы, — думала я. — Обо всем забыть». Ни Джедла, ни Али больше не интересовали меня. Я была готова бежать от этого слишком уж жаркого солнца, от летнего зноя, от своих неудач.
Когда Джедла в тот день вошла ко мне в комнату, я не тронулась с места. Едва повернула голову в ее сторону. Неподвижно лежала в кровати, в то время как она устраивалась на краешке стула у двери. Я закрыла глаза. Хотелось плакать или вечно лежать здесь, как лед холодной и безгласной. Джедла была мне совершенно безразлична. Зачем она явилась? Я не хотела выслушивать ее. Все просто: я любила Хассейна, позвала его к себе, но он не откликнулся, не приехал и не приедет, наверное, никогда, а никто больше мне не нужен. Прежде я думала, что окружающие сами по себе исчезнут из поля моего зрения, лишь только захочу. Но теперь я видела, что бежать от них надо мне самой, бежать от моих старых привязанностей, от моих идолов, от тех, кого я опасалась, любила, боготворила, кого считала недосягаемыми. Теперь они сами цеплялись за меня. И мне надо было избавиться от них, остаться одной, совсем одной. Я переживала любовную неудачу, училась отныне жить, а не играть в жизнь. Я твердила про себя имя Хассейна, когда Джедла нарушила молчание. Я повернулась к ней с полным безразличием и была удивлена, как сильно она изменилась с последней нашей встречи.
Несмотря на царивший в комнате полумрак, я видела так хорошо знакомое мне, упрямое выражение ее лица, ее сумрачный взор. То была прежняя Джедла, которой я когда-то восхищалась, которую любила и ненавидела. Но теперь меня не трогало ничто и я ни о чем не хотела думать.
…Она решила, рассказывала мне Джедла, что все переменится из-за ее беременности и что она сможет почувствовать себя счастливой. Но она проанализировала свое душевное состояние и увидела, что былые подозрения ее так и не исчезли и не исчезнут никогда. И вдруг каким-то лихорадочно возбужденным голосом она спросила меня, нет, не спросила — взмолилась:
— Ну будь же искренней со мной, хоть раз в жизни! Что думаешь ты об Али? Ну разве не права я, полагая, что он не устоит перед тобой, что его уже тянет к тебе, что он тобой увлечен, просто потому хотя бы, что ты красивая?
Я слушала ее, но мысли мои были далеко. В какой-то миг мне показалось, что это не я, а кто-то другой отвечает Джедле:
— Да, в каком-то смысле ты права. Но мужчины ведь все одинаковы.
Я остановилась, поняв, что говорю ужасные пошлости. Но я была довольна тем разочарованным, вполне трезвым тоном, каким я это произнесла. Поколебавшись немного, я взглянула на Джедлу, думая, как лучше нанести удар, хотя и не испытывала сейчас к ней ни ненависти, ни ревности:
— Пойми, что разумнее всего для тебя было бы принять Али таким, каков он есть. И не надо его любить как нечто исключительное. Ты должна его понять… Я буду с тобой совершенно искренна, как ты просишь. Да, это правда, я кокетничала с ним, хотела обратить на себя его внимание. Поначалу я восхищалась им на самом деле. И даже почувствовала, что он не остается безразличным к знакам моего восхищения. Ну и тогда… Помнишь, в тот вечер, о котором я рассказывала тебе, — все было так внезапно, сама не знаю даже, как это случилось, я не смогла помешать себе поцеловать ему руку, — так вот, в тот вечер я, подняв голову, увидела, что он как-то странно смотрит на меня. Мне даже кажется, что он склонился ко мне. Но я вдруг, испугавшись, убежала. Рассказываю все это только потому, чтобы доказать тебе, что любой мужчина, даже Али, может проявить слабость.
Я замолчала, сама не зная больше, что говорю, правду или ложь. Я уже столько раз мысленно проигрывала всю эту сцену с поцелуем, представляла ее так, как мне хотелось, что уж теперь, наверное, и не могла бы вспомнить, как то было в действительности. Я посмотрела на Джедлу. Мне было понятно, что злоба так же несовместима с ненавистью, как и с любовью. Так нет же. Мне понадобилось в ту минуту, вооружившись равнодушием, увидеть другого человека лишь как цель, отчетливо и ясно, чтобы точнее поразить ее. И я снова обратилась к Джедле:
— Не будь гордячкой! Бери пример с других женщин. Ну и что в том, если твой муж будет иногда питать к кому-то слабость или даже изменять тебе? Какая тебе разница, если он твой? Если ты его будешь иметь всегда? Твой-то лучше, чем другие… Я увлеклась и рассуждала уже только для себя: Вот все говорят, что я, в сущности, человек без родины, без корней. Однако сейчас я ощущаю себя такой же, как другие женщины этой страны, как наши матери, бабушки. Мне, как и им, ничего другого не надо, кроме семейного очага, дома, где можно заботиться о близких, слушаться своего мужа, — ведь, собственно, только это и надо женщине… Мужчина может иметь что-то и на стороне, но жену он всегда при этом будет уважать, не забывать о ней, а этого вполне достаточно. Женщины здесь знают, что когда состарятся, то мужья их могут взять себе другую жену, молоденькую девушку, и они не будут его ревновать к ней. Они спокойны, мудры, покорны. И, наверное, именно они-то и правы.
Джедла слушала меня с ненавистью и презрением. И вправду, что-то я уж очень живописно изобразила ей, как надо жить. То, что сейчас было написано на ее лице, ничем другим, как протест, назвать было нельзя. Смутная жалость поднялась во мне, но я знала, что именно этого бунта, этого протеста я и добивалась.
Ты мне говорила, что он писал тебе, — обратилась ко мне Джедла, опять замкнувшись, став снова непроницаемой. Я сделала жест, словно собиралась встать с кровати, чтобы принести ей письмо, и небрежно, якобы не придавая этому никакого значения, спросила:
— Хочешь прочитать?
— Нет! — воскликнула она, вскинувшись. — Мне совсем этого не нужно!
Она оставалась гордой. Мне так стало ее жалко и так захотелось ей сказать, что это письмо не что иное, как выражение любви к ней, беспокойство за нее, что это письмо свидетельство его искренности, его чистоты и преданности. Одновременно я с грустью подумала о том ненужном им густом тумане, который заволок их отношения, собрался, как туча, над ними и над всеми теми, кто был создан друг для друга, соединен, чтобы жить и любить, а не доказывать что — то, плакать в одиночку и выть от боли своего одиночества. Ну где оно, это счастье?
Я опять внезапно почувствовала себя ужасно усталой, мне захотелось снова остаться одной. Но я ей ничего не сказала.
Джедла поднялась, прямая и гордая, — она несла свое горе и свою боль так, как будто внутри у нее застряла шпага, которой пронзили ее сверху донизу. Она подошла ко мне и остановилась в нерешительности. Я закрыла глаза, потому что не хотела видеть ее задрожавшего лица. Когда Джедла заговорила со мной, я поняла, что она едва сдерживает слезы. Голос ее стал глухим:
— Нет, ребенок, которого я ношу в себе, ничего не изменит. Наоборот! И надо мне избавиться от этого соблазна, от этого дарованного мне шанса. Я не могу не видеть последствий, я не могу не знать того, что будет дальше. Только это имеет для меня смысл.
Тяжелая тишина сковала нас. Я напряженно ждала, как натянутая струна, несмотря на то что пыталась быть безразличной и безучастной. Джедла положила мне руку на плечо. Я чувствовала, как она вся дрожит.
— Ты мне как-то говорила о твоей сестре Лейле… — лихорадочно зашептала Джедла. — Она помогла какой-то вашей родственнице освободиться от ребенка…
Так вот оно что, оказывается! Я не почувствовала ни страха, ни возмущения. Я поняла наконец, что кто-кто, а Джедла не разочарует меня.
Послушная моим рукам, машина катила быстро. Около меня сидела бледная от волнения Джедла. А я смотрела только прямо перед собой, только на убегающую ленту дороги. И думала о Хассейне. Словно какая-то волна поднималась в глубине меня и заглушала другие мысли. Но я не грустила. Чувствовала, что Джедла рядом. Мне бы хотелось посмотреть на нас обеих со стороны, увидеть наши лица — лица покинутых женщин…
С тех пор как я познала терпкий вкус злости, я привыкла к нему, это оказалось нетрудно. И вот, невинным голосом, я спрашиваю Джедлу:
— А ты подумала о том, что аборт — это преступление? Убивать таким образом своего ребенка…
Я, наверное, выглядела вполне искренней в это мгновение мне и в самом деле было невыносимо отвратительно само это слово-аборт. Я даже чувствовала себя придерживающейся, хотя и не слишком последовательно, определенных моральных принципов. И прямо сказала ей об этом, спросив, словно мы сейчас болтали на отвлеченные темы, почему она сама не придерживается этих принципов. Я уже не помню, что там она мне отвечала, помню только, что это были какие-то глухие, отрывистые слова, которые уносил ветер. Я думала о Лейле, которая дала мне адрес, недоверчиво поглядев на меня и не скрывая своего недоверия. Я утешила ее: это надо Джедле, а не мне. Лейле не стоило беспокоиться о моей девственности. Я подумала про себя и даже пошевелила губами: «Я-девственница!» Это звучало несерьезно и казалось насмешкой. Тогда я произнесла по-другому: «Я невинна». И вспомнила горячее тело Хассейна на теплом песке пляжа, его губы, обжегшие меня поцелуями. Разве все остальное имело значение? Сколько же во мне было теперь фальши… И я снова заговорила с Джедлой противным «светским» тоном:
— Было бы все-таки лучше, если бы ты подождала Али, поговорила бы с ним…
Она лишь отрицательно мотнула головой и упрямо уставилась на дорогу. А я все продолжала разглагольствовать, усыпляя свою совесть, хотя прекрасно знала, что рано или поздно она проснется:
— Знаешь, это все слишком серьезно. Ты бы подумала хорошенько! Потом ведь можешь пожалеть об этом!
Она даже не удостоила меня ответом. И я вспомнила, что все, что сейчас происходило, началось однажды с ее вопроса: «Ты любишь Али?» А теперь я везла ее на встречу со смертью (разве то чудовищное слово, которое я не выносила, не означало то же самое?). Но сама я думала только о Хассейне. И любила его. И я нисколько не смутилась, рассмеявшись вдруг в присутствии Джедлы, рассмеявшись громко и горько.
Глава XIV
Не знаю точно, когда я начала испытывать страх. Немой и холодный, как могила. Приехав по адресу, который дала мне Лейла, я вдруг почувствовала отвращение от одной только мысли, что сопровождаю сюда Джедлу, для этого мерзкого дела…
Я вся одеревенела тогда — может быть, ужаснувшись вида женщины, принимавшей нас. Я охотно вообразила бы себе ее какой-нибудь беззубой старухой, грязной и неопрятной, как колдунья. Эта же была неопределенного возраста, с эффектным лицом, с накрашенными губами, подведенными глазами. Женщина сухо взглянула на нас и слегка улыбнулась, дав понять, что она в курсе дела. Повернувшись к Джедле, прищурилась, как бы изучая ее. Я уже готова была остаться с Джедлой, чтобы защитить ее от этой женщины и от всех, подобных ей, чужих людей, от всего мира. Но меня попросили удалиться: девицам здесь было не место. Но даже на улице я все еще чего-то боялась, сама не знаю почему. Может быть, потому, что мне вдруг приоткрылся мир, о котором я не имела никакого представления и в котором теперь пребывала Джедла? Мир «институтов красоты» — клиник, где все происходило под тусклым взглядом таких вот женщин, где все решалось с помощью хирургического ножа и наркоза. Там не принимались в расчет ни нежные чувства, ни ненависть, ни капризы, ни даже совершенные в жизни ошибки. На их языке это все называлось по-другому: «особый случай», «осложнения» и в заключение «решительное средство» — аборт…
Когда Джедла вышла оттуда обычной своей походкой, лишь немного подавшись вперед, я заметила, что, хотя глаза ее, как всегда, блестели, лицо было бледнее обычного, а голова слегка наклонена набок, словно у сломавшейся куклы. Она села на заднее сиденье и закрыла глаза. Меня снова охватил страх, когда я увидела, как она стиснула зубы. Ей оставалось только мужественно терпеть.
Я вела машину осторожно, стараясь избежать толчков. Она дважды просила меня остановиться — когда чувствовала себя особенно плохо. Во второй раз, помогая ей получше устроиться на сиденье, я обхватила ее за хрупкие плечи, чтобы уложить поудобнее, и мне вдруг захотелось попросить у нее прощения. Но она не обращала на меня внимания. Ее лицо, искаженное гримасой боли, отвернулось от меня. Я поняла, что ничем не смогу ей помочь, что вообще все кончено. Таковы были мои предчувствия, которые я и называла страхом…
Джедла умерла ночью. Как только мы приехали, Лейла взяла ее под свою опеку. Меня же с привычной по отношению ко мне твердостью отправила к Мирием. Лучшее, что я могу сделать, только и сказала она, — это идти спать. Я покорно послушалась ее.
У себя в комнате я испытала внезапный ужас перед надвигающейся ночью. Там волновались, бегали, суетились у постели больной женщины, Джедлы. А здесь находилась я — одна, никому не нужная, бесполезная. От сознания этого я долго плакала, повалившись на кровать. И слезы мои становились тем обильнее, чем больше я испытывала стыд, ярость и одновременно жалость к самой себе…
Ночь внушала мне страх — в ней было что-то угрожающее, бездонно темное, как чрево женщины… Но в конце концов я устала от слез. И уснула.
Прошло немного времени, и меня разбудили. Ничего не понимая со сна, я слушала Мирием, которая все повторяла мне с заплаканными глазами, что Джедла умерла. Какая-то тяжелая, давящая пустота заполнила меня, и в нее, как в бездну, обрушилось имя: Джедла! Джедла… Джедла… Все мое существо твердило его, ставшее внезапно чужим и далеким. Я осторожно произнесла его вслух, подчеркивая арабское звучание первых букв: «Джедла!» Голова моя была тяжелой, невыспавшейся. Люди что-то делали вокруг, суетились, двигались. Все походило на кошмар. Я должна была пойти к Рашиду, успокоить его — он плакал, оставшись в комнате один, без матери. Я взяла его за руку, и он постепенно затих и уснул. Я смотрела на него, на его мирный, спокойный сон. Джедла! Джедла!
Из всего того, что было потом, я помню только устремленный на меня злой, инквизиторский взгляд Лейлы и жалобное отчаяние Мирием, которая жутко боялась за свои роды — нынешняя обстановка была катастрофически неподходящей для нее. Ее муж взял на себя тяжелую миссию предупредить Али о случившемся. Когда через день утром он нам объявил, что Али приехал, я вдруг посмотрела на этого человека другими глазами: мне открылись в нем скрытое достоинство, скромность, такт. И мне стало стыдно. Потом в мою комнату, из которой я почти не выходила, зашла Лейла, чтобы сказать, что Али хочет со мной поговорить. Я струсила. Обернулась к ней в панике, и она показалась мне большой, сильной, благородной. Мне захотелось спрятаться в глубоких складках ее платья. Я умоляюще посмотрела на нее. «Нет, я не пойду к нему! Это я, — хотелось мне крикнуть, — я убила Джедлу! Я разжигала в ней огонь ревности, возмущала ее душу! И все только потому, чтобы чем-то заняться, позабавиться, не остаться одной, без внимания мужчин!» Я посмотрела на Лейлу и увидела, что нет в ней никакого ко мне сострадания, нет ни следа былой нежности. А как мне хотелось, чтобы она сейчас обняла меня, успокоила, утешила, погасила во мне смятение! Но она только молча и даже как-то презрительно наблюдала за мной. Нет, никогда я не смогу заставить себя раскаиваться на глазах у всех, никогда не позволю себе распуститься и безвольно лить слезы перед другими и высказывать вслух, облегчая душу, все, что гнетет меня…
Когда я шла к Али, у меня было такое чувство, словно иду к судье. Но я ошиблась. Передо мной находился человек подавленный, угнетенный горем, жалкий от обрушившегося на него несчастья. И я поняла наконец, что люди могут жить, сносить свои беды, только сочувствуя в горе друг другу, только сердечно откликаясь на боль другого. Вот и Али вовсе не вызывал меня для допроса, но лишь затем, чтобы поговорить со мной. Ему, как и мне, хотелось простого человеческого общения. И, слушая его, я впервые испытала настоящий стыд, тот самый, когда твоим глазам предстает чужое горе. Постепенно я заставила себя вслушаться в исповедь его несчастья, в те жалкие слова, которые он наконец смог произнести своим упавшим, надтреснутым голосом. И даже обнаружила в них для себя слабый проблеск надежды на собственное спасение.
Да, говорил мне Али, он сам во всем виноват. И я поняла наконец, о чем это он твердит. Как же я могла забыть об их споре, невольной свидетельницей которого как-то оказалась? И вот теперь Али рассказывал мне, что до женитьбы на Джедле у него уже был ребенок от другой женщины, его любовницы в Париже. Это была какая-то актрисуля, которую Джедла почему-то сразу вообразила себе красавицей. Ребенок был вначале отдан кормилице, потом покинут своей матерью, решившей устроить заново свою жизнь и вышедшей замуж где-то в провинции. Она позаботилась только о том, чтобы сообщить Али письменно о своих намерениях. Джедла, на которой тогда только что женился Али, узнав все, была потрясена. После своих неудачных родов она только и думала об этом живущем где-то ребенке Али. И сама потом предложила признать его-то ли из гордости, то ли из какой-то необъяснимой потребности причинить себе боль, помучить себя. Но Али согласился. А Джедла, едва Али уехал в Париж, чтобы устроить судьбу ребенка и одновременно заняться своими делами по изданию новой газеты, словно зациклившись на своем самопожертвовании, нашла еще один повод, чтобы разжечь свою ревность.
Я не должен был соглашаться на ее предложение и уезжать, оставляя ее в таком нервном возбуждении. Она прекрасно знала, что я обязан повидаться с матерью ребенка, чтобы оформить документы. И вот тогда, когда, казалось, все уже устраивается наилучшим образом, когда и для самой Джедлы появилась надежда иметь собственное дитя, она вдруг решила, что счастье приходит к ней слишком поздно — раз уж я решился поехать и привезти домой малыша, которого родила другая.
Али все время прерывал свой рассказ, останавливался. Голос его дрожал, спотыкался, говорил он сбивчиво, терял иногда мысль, уходил в себя, захваченный горькими воспоминаниями, подавленный отчаянием.
Я смотрела на него, но думала только о себе. О том, что мне не скоро придется забыть пережитое, спокойно подумать о том, что случилось и что могло бы быть, если бы все пошло по-другому. И что напрасно буду я утешать себя, повторяя: «Это не я! Это не я! Я ни в чем не виновата!» И что я никогда больше уже не смогу стать такой же беззаботной, как прежде…
Передо мной сидел человек, который во всем винил только себя. А перед ним — я, со смятением в душе и сердце, со стыдом за то, что произошло, за то, как я жила до сих пор. Так кто же из нас двоих был прав, утверждая свое «mea culpa»?[2] И что значили мои сомнения, что могли они изменить теперь? Ведь Джедла была уже мертва. И ее смерть не была подвластна никому из нас, она принадлежала только ей, только ей одной, и никому больше.
Глава XV
Я рассталась с Али навсегда. Джедла умерла, и мне необходимо было все забыть. Но на этот раз я почувствовала, что обрести забвение мне будет не так-то легко.
У дома меня ждал Хассейн. Увидев его еще издали, я не испытала никакой радости. На сердце была пустота, к душе прикипели смута и стыд. Но теперь хотя бы появился шанс, что все прояснится и что отчаяние мое прорвется наконец наружу. Перед Хассейном, под его злым взглядом и ироничной улыбкой я, конечно, не устою, признаюсь во всем, буду плакать. Главное — облегчить душу. А он будет, наверное, испытывать удовлетворение от того, что оказался прав, как всегда…
Но я быстро поняла, что ничего такого не произойдет и я не избавлюсь от своего смятения. Когда он заговорил со мной, мне сразу стали ясны его намерения. В голосе его не было ни упрека, ни агрессивности. Он тихо сказал:
— Я получил твое письмо только сегодня утром, когда вернулся домой. И тотчас приехал к тебе. Надия, я прошу тебя…
Я посмотрела на него и с удивлением увидела беспокойство в его глазах. Я даже внутренне усмехнулась: Хассейн приехал выпрашивать у меня счастья слишком поздно. Вот именно, он приехал слишком поздно! Я сказала ему:
— Давай пройдемся немного!
Дорога была пустынной, и мы долго шли по ней. Мерный звук наших шагов отчетливо раздавался в полной тишине. Наши тени бежали за нами в лучах еще ярко светившего солнца. И были похожи уже на двух влюбленных. Хассейн ждал. Он надеялся. Он молча умолял меня дать согласие. Теперь речь шла только о моем счастье. «Судьба» этого человека, если использовать конечную формулу подобных историй, была в моих руках. А я, внешне спокойная, мысленно взывая к уже мертвому женскому лицу, моля его о прощении, изо всех сил старалась сбросить с себя тяжкий груз прошлого, делала жалкие попытки избавиться от угрызений совести, от терзавшего меня чувства ответственности за случившееся, мучилась, путалась в словах, рассказывая обо всем Хассейну. Еще несколько минут назад я так надеялась на его сарказм, на его беспощадность, чтобы прийти в себя, встряхнуться, обрести ясность. А теперь вот он сам умолял меня, ждал моего решения. Когда, мгновение спустя, он спросил, согласна ли я стать его женой, я долго смотрела на уходящее за горизонт солнце. Я сидела на песке рядом с Хассейном. Осторожно взяла его за руку, грустно улыбнувшись. И сказала «да». Он спросил меня, люблю ли я его. Я еще раз ответила «да». Он молил меня повторить, и я тихо и нежно повторяла: «Я люблю тебя». Потом я лежала в его объятьях. Он целовал меня, а я закрыла глаза и чувствовала, как поднимается внутри тяжелая, горячая волна, словно растопилось, расплавилось во мне само лето. И я все повторяла это трудное, простое и такое весомое слово: «Да». Так вот она, значит, какая любовь. Глухо обрывается куда-то сердце, и остается только улыбка, с которой даруешь счастье… Теперь я была настоящей женщиной.
Я уехала из М. через несколько дней, уже официальной невестой Хассейна. С Али я больше не виделась. Услышала о нем как-то, много времени спустя. Рассказывали, что он вернулся во Францию и вел там бродячую жизнь, все время разъезжая, и пристрастился к вину. Его называли теперь «мечтатель»…
Прошел первый год после моей свадьбы, наш брак все вокруг считали удачным и счастливым. И вот я все чаще вглядываюсь в Хассейна, смотрю с любопытством на своего мужа. Неужели это тот человек, который иногда внушал мне страх, а иногда и возмущал меня или, наоборот, приводил в смущение? Я кладу руку на его плечо и думаю, что сегодня его присутствие рядом со мной внушает мне только уверенность. Я люблю гладить его жесткие волосы, его невысокий лоб, я стараюсь делать его жизнь приятной, и если я слышу утром его счастливый смех, то весь мой день озарен его радостью. На сердце у меня теперь всегда нежность пополам с заботой — чувство, которое охватывает вас при виде слепого ребенка.
И я думаю о счастье. Я мечтала о нем как о каком-то пышном расцвете или как о ленивой гармонии и неге. Но сегодня я испытываю только покой удовольствия видеть Хассейна рядом, наслаждение быстротекущей жизнью, которую испиваешь до дна, капля за каплей. Конечно, меня больше не кружит вихрь моих двадцати лет, как прошлым летом. Теперь на сердце у меня затишье, и я не чувствую даже больше того стыда, который жег меня тогда. Думаю, что я забыла прошлое. Правда, время от времени в памяти всплывает имя Джедлы и, словно лилия, распускается белыми лепестками. И тогда я замечаю, что невольно шепчу его. Но горечи в душе моей больше нет, оно звучит мне, затерявшееся, откуда-то из далекого далека…
Да, я думала, что смогла победить прошлое. Но оно попросту опустилось в глубь моей души, осталось где-то там, как подземные воды. Отчего, например, сегодня ночью я внезапно проснулась в тревоге? Ведь Хассейн рядом. Спит доверчиво и спокойно, как всякий мужчина после любви. А я вдруг услышала, как в ровном ритме его тихого дыхания пульсирует пустота моей души…
И снова, на сей раз в широкой супружеской постели, мной овладевает страх. Отчего же осаждают меня призраки прошлого? Ведь я поверила уже, что влилась наконец в эту отару удовлетворенных и не скрывающих своего довольства и счастья женщин. Я думала, что научилась добродетели, то есть постигла премудрость надежного покоя. Мне было уже так легко и радостно встречать каждый вечер Хассейна, разыгрывать перед ним те роли, которые пленяли его: то превращаться в невинную кокетку, то становиться упрямой ревнивицей, то изображать глубину и серьезность чувств, то, как вот только что сейчас, терять голову в немом опьянении от его ласк. Но отчего теперь, когда он спит, я одиноко сижу с открытыми глазами и смотрю в темноту?
Мужское тело шевельнулось сбоку. Его ноги искали мои, его рука блуждала по подушке и искала моего плеча, хотела погладить мои волосы. Я как-то слишком уж быстро отодвинулась на край кровати. Хассейн пробормотал сонным голосом:
— Что с тобой?
— Ничего.
Я нарочно ответила ему так, чтобы он окончательно проснулся и обратил на меня внимание. Мне не понравилось его сонное бормотанье, он только хотел удостовериться, что все в порядке. А мне было плохо, в сердце подрагивала, покалывала какая-то непонятная боль, и я не знала, что мне с этой болью делать. Это бродило где-то рядом мое прошлое…
Мне хотелось плакать, кричать, что я хочу забыть этот целый год несчастного счастья. Да-да, думала я, надо разбудить Хассейна и уже в новом свете поведать ему все, что произошло прошлым летом на берегу моря, рассказать ему эту уже ставшую далекой, но еще такую близкую мне историю, в которой мной воспользовалась чужая мне женщина, чтобы свести свои счеты с жизнью, найти свою смерть. И я в последний раз повторила имя Джедлы. И все поняла наконец. Эту смуту, которая вползала в меня, покрывая душу плесенью, я окрестила уж слишком просто как угрызение совести. На самом-то деле, оказывается, все было и определеннее, и ужаснее. «Ничего», — ответила я Хассейну. Ну конечно же, ничего, кроме всплывшего вдруг снова имени Джедлы, кроме имени, похожего на само бегство из жизни.
Хассейн внезапно зажег свет. Я зажмурилась, ослепленная, но успела увидеть его спутанные волосы, немного припухшие, лоснившиеся со сна черты лица. Я резко погасила лампу. Мне было достаточно светившего в его взгляде беспокойства. Он терпеливо и настойчиво спрашивал меня, что со мной. И мне была приятна эта его напористость, с которой он осаждал меня вопросами.
— Ну что же это все-таки с тобой? — повторял Хассейн. — Что случилось? — Голос его звучал почти гневно.
Я усмехнулась каким-то коротким неестественным смешком.
— Да ничего особенного! ответила я ему. — Так, ерунда, бессонница немного мучает.
Что же заставило меня лгать — жалость ли к нему, или любовь, или, может быть, трусость? Какое это все имело значение? Главное было убедить себя, что странная моя жажда, мучившая меня в то лето, о которой напомнило мне мертвое лицо Джедлы, исчезла навсегда, испарилась, как легкий туман, из моего неверного сердца. Мне только надо теперь быть осторожной и не смущать покой людей, не тревожить их души… Я почувствовала, как ко мне в последний раз потихоньку подкрадывается страх. Но я прошептала Хассейну, умоляя его:
— Дай мне скорее твою руку!
Он понял только, что мне нужна его теплота, чтобы не бояться холодной тьмы ночи и смело выйти навстречу жизни.