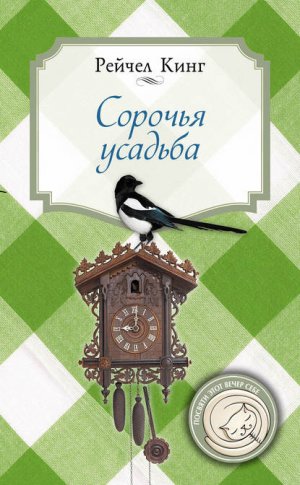
Розмари
Жизнь моего прапрадедушки, Генри Саммерса, была окружена двумя легендами: согласно первой, у него был шкаф, полный всяких диковинок, которые в конце концов и свели его с ума; вторая гласит, что он убил свою первую жену. Не знаю, правда ли это, зато мне известно, что сразу после его смерти шкаф тот куда-то пропал, а тело бедной женщины так и не было найдено.
После Кентерберийского землетрясения 1888 года он приобрел на Южном острове[2] небольшое имение с полуразрушенным домом. Отремонтированный и перестроенный, дом получился грандиозным, даже слишком: большие стрельчатые окна с витражами, множество башенок и одна большая башня. Короче говоря, миниатюрный готический замок, будто чудом перенесенный из Европы в пейзажи Новой Зеландии. Генри назвал свое имение Сорочьей усадьбой из-за того, что в округе обитало множество сорок; они постоянно сидели на трубах дома, словно специально нанялись нести там караульную службу. После того как жена Генри, Дора, как все полагали, утонула в реке, он снова женился, а ее исчезновение так и осталось лежать на истории семейства темным пятном, с годами постепенно бледнеющим.
Это все, что мне было известно про Генри и Дору, пока я не повзрослела. Воссоздать историю их жизни мне помогли некоторые обнаруженные в доме предметы, кое-какие смутные воспоминания, а также письмо от дедушки, которое он оставил мне незадолго до своей смерти.
В средневековых готических романах всегда присутствует какая-нибудь величественная усадьба, где живет юная, простодушная девушка, нередко сирота, которую буквально или в переносном смысле преследует призрак некогда жившей здесь прежде женщины. Немаловажную роль также играют письма, библиотека, разумеется, заброшенный чердак, ну и какое-нибудь потаенное место, где томится узник. И, конечно, некая тайна, которую должны разгадать двое будущих влюбленных: красавица, наделенная умом и сердцем, и молодой человек, как правило, весьма трезвого ума, с тяжкой думой на челе и ранами на теле. Исцелить их способна только женщина, впрочем, далеко не всякая, а именно такая, которая требуется. Иногда приплетается пожар, что-нибудь типа свирепой и очищающей геенны огненной, из которой герой с героиней выходят очищенные душой и телом, страшное прошлое остается позади, а впереди их ждет счастливое будущее.
Я знаю, о чем говорю: викторианскими романами я увлекаюсь давно, а сейчас пишу по этой теме диссертацию. Явившись в Сорочью усадьбу, чтобы предъявить права на свое наследство, я надеялась найти вдохновение, но, увы, вместо этого мне пришлось иметь дело с запутанной историей, в которой участвовали наши семейные призраки, да еще отягченной моими собственными ошибками и неудачами, от которых мне так хотелось сбежать подальше.
В своем изрядно потрепанном автомобильчике марки «Субару» два часа под дождем я мчалась по прямым, как нитка, дорогам равнинной местности в глубь острова, пока впереди не показались холмы вперемешку с известняковыми скалами. В багажнике машины тряслись коробки с чахлыми листами моей диссертации (множество страниц бессвязных заметок, никуда не годных предисловий и путаных рассуждений), стопки романов и научных трудов, а также видавшие виды ноутбук с принтером. Затрудняюсь сказать, в какой момент любовь к викторианским романам стала для меня тяжким бременем.
Дотащить до машины весь этот груз мне помогал Хью, мой научный руководитель; он был против моего отъезда, но мне срочно нужен был свежий воздух, иначе я бы здесь задохнулась. В университете проходило сокращение штатов, и длинные коридоры кафедры английского языка опустели. Сидя на стуле в своем тесном кабинетике, я слышала, как хлопнула дверь и раздались негромкие шаги, но, высунув голову за дверь, никого не увидела. Сокращения нервировали персонал, все попрятались в своих кабинетах. Иногда за желтой стенкой слышалось негромкое бормотание, кто-то разговаривал, а однажды до меня даже донеслись чьи-то рыдания, но, чтобы отгородиться от звуков чьих-то рассыпающихся карьер, высокие, от пола и до потолка, полки я заставила книгами. Неудивительно, что в такой обстановке каждому хочется найти утешение друг в друге.
Хью был везунчик, до сих пор его все это не коснулось. Когда я сообщила, что уезжаю, он попытался обнять меня, и я позволила, хотя и жестко уперлась в его жирную и мягкую грудь.
— Боже мой, — захныкал он, — а как же я? Господи, как от тебя пахнет, с ума сойти.
Он с шумом втянул в себя воздух, уткнувшись носом в мою прическу.
— Да и сама ты сводишь меня с ума, — продолжал он, прилипнув ко мне, как крыса, спасающаяся от наводнения.
— Не пропадешь, — ответила я, оторвала его от себя и по-матерински похлопала по руке, гордясь своей непреклонностью. — С тобой останется Глория.
На этом мое терпение иссякло.
— Считай, что тебе повезло. По крайней мере, у тебя есть работа.
Он горько, если не сказать злобно, засмеялся.
— Ну, да, преподавать сопливым недоноскам, которым диплом нужен только для карьеры. Повезло, нечего сказать.
Ему этого мало. Всегда ему чего-то не хватало. Мало жены, женщины намного моложе его, преданной ему и душой, и телом, родившей ему двоих детей; мало приличной и надежной работы. Ему подавай еще и меня. И не взамен семьи, хотя в самом начале он намекал на что-то в этом роде, но как довесок к ней. Однажды он даже заговорил о том, что возьмет меня с собой в Уэльс и мы целый год вдвоем будем жить среди холмов в каком-то коттедже. Там мы завершили бы работу: я — диссертацию, а он — большую книгу, с которой возится уже десять лет и все боится закончить, потому что тогда она выйдет в свет и ее станут читать и критиковать. А Хью терпеть не может критики, он только сам обожает критиковать других.
А я-то, дура, ему поверила.
В постели с ним я старалась не думать о его жене; обычно мы занимались этим у меня в квартире, расположенной прямо над салоном татуировок, я снимала ее пополам с одной эстрадной танцовщицей. Пару раз было и у него в кабинете, прямо на полу. Жену его я видела однажды, когда она зашла к нему с младшим сынишкой, одетым в шерстяной коричневый костюмчик. Он уже умел ходить, неуверенно переставляя ножки. Мальчик вдруг оступился и чуть не упал на пол; улыбнувшись мне, она подхватила его за руку, и в душе у меня сразу что-то оборвалось. Казалось, она чем-то встревожена, щеки ее покраснели, из прически в виде конского хвоста выбились несколько прядей, но ей все же хватило сил улыбнуться незнакомой женщине в коридоре, которая разглядывала ее, разинув рот.
После этого случая я бросила Хью в первый раз, но он немедленно явился ко мне под дверь с бутылкой пива и с букетиком скорбно поникших головками тюльпанов, умоляя вернуться. Обещал бросить ее, как только подрастут дети. С ней все будет нормально, говорил он, она полностью обеспечена, и он оставит ей дом. Этот дом все равно ему никогда не нравился. А мы с ним уедем, правда, не сразу, а потом.
Вот тогда я и возненавидела себя. Это было как раз незадолго до смерти дедушки, ведь я не допускала мысли о том, что этот Хью просто мерзавец.
Смерть близкого человека способна подтолкнуть на решительный шаг — и вот я уезжаю. Уезжаю от Хью, от душных коридоров английской кафедры со всеми ее интригами. Нагруженные книгами и бумагами, мы шли с ним по вестибюлю первого этажа, и под ногами у нас летали и кружились красные и желтые листья, принесенные с улицы потоком спешащих на занятия студентов.
Я дождалась, когда Хью закончит укладывать коробки в багажник, села за руль и, ни слова не говоря, тронулась с места. В зеркальце видно было, как он поднял руку, словно ждал, что я помашу ему в ответ. Так и стоял с поднятой рукой, пока я не завернула за угол.
Окна в ожидании надвигающейся зимы были закрыты ставнями, и на крыльце меня встречал призрак дедушки, при моем появлении быстро смешавшийся с окружающими дом тенями. Дождь остался где-то позади, и лучи неяркого осеннего солнца пробивались сквозь облака и скользили по земле, отражаясь от скал и изумляя причудливой игрой света и тени. Было так тихо, что мне даже стало немного страшно. Всю жизнь я приезжала сюда в гости, и мое прибытие всегда сопровождалось шумной суетой: на крыльце стоял дедушка и махал мне рукой, подбегала собака, отчаянно виляя хвостом, обнюхивая и приветствуя меня радостным лаем, в земле ковырялись куры, а рядом, подбоченясь, гордо ходил петух, то и дело срываясь с места или голося свое «кукареку». Этот переполох забавлял меня, отвлекая от чувств, которые я испытывала сейчас, — смутной тревоги, пугающего сознания, что на этой ферме есть места, которых в течение двадцати лет мне удавалось избегать, но всегда оставалось ощущение, что кто-то смотрит мне в спину, словно хочет, чтобы я повернулась.
В этом громадном доме, как тень, таилась некая угроза. Солнце уже успело спрятаться за башни и печные трубы, и остроконечными зубцами тень протянулась далеко, закрыв собой ближайшее огороженное пастбище. Цветы давно увяли и осыпались, уступив место осеннему тлену, спутанные побеги карабкающегося по серым каменным стенам плюща обнажились. Опавшие листья слипшимися влажными кучами лежали на земле, и даже заросли макрокарпуса вдоль ближайших выгонов для скота, казалось, придвинулись ближе.
На ближайшей печной трубе сидела сорока. Повернув ко мне голову и вытянув шею, она внимательно разглядывала меня, хитро кося то один глаз, то другой. Я постояла немного на посыпанной гравием дорожке, тоже глядя на нее, потом отвернулась и принялась распаковывать вещи. Когда я поднимала что-нибудь тяжелое, немного побаливала свежая татуировка на внутренней стороне левого запястья. Дверцу машины я захлопнула ногой — резкий звук раздался в вечереющем воздухе, как выстрел, и сорока возмущенно захлопала крыльями.
Дедушкины старые резиновые сапоги, как забытые на своем посту часовые, все так же стояли перед парадным входом. Я поставила рядом стопку книг и сунула руку в один из них: ключи, как всегда, оказались на месте.
В обшитой панелями прихожей было прохладней, чем на улице. Когда-то это был пышный парадный вестибюль, но теперь его загромождали предметы, свойственные деревенской жизни: навытяжку стояло еще несколько пар резиновых сапог, плащи с капюшонами горбатились по три штуки на каждом крючке, тут же стояли зонтики и валялись поленья дров. В углу мирно приютился топор. Проходя мимо, я случайно задела и с грохотом опрокинула ведро со шваброй. Вошла в гостиную, раздвинула занавески, подняв тучу пыли, которая стала медленно оседать. Здесь стоял густой запах псины, плесени и невыветриваемый аромат угольной пыли из камина, который обычно топили здесь круглый год. К этим запахам прибавлялся еще запах вощеной мебели, сработанной из дуба и красного дерева. Тяжелые бархатные портьеры, закрывающие окна, почти не пропускали света; обои с ворсистым рисунком местами отклеились, и пол покрывал толстый ковер с темным узором. Тишину нарушали только старые дедушкины настенные часы, что было странно: значит, недавно кто-то здесь побывал, и этот кто-то завел их.
Порядки в Сорочьей усадьбе резко отличались от заведенных в доме моих родителей: здесь нам никто не делал замечаний, мол, вечно таскаем в дом грязь с улицы и всюду оставляем отпечатки своих грязных пальцев. Мать терпеть не могла пыли и паутины, где попало брошенных книг и тому подобного. Она всегда с огромным облегчением отправляла нас сюда на каникулы: привезет, оставит у двери, торопливо поцелует в щечку и поскорей возвращается в городской дом, где у нее царит идеальная чистота и порядок.
— Их глаза действуют мне на нервы, — сказала она мне однажды.
Ну да, на самом верху книжного стеллажа, протянувшегося во всю стену, возвышаясь над всем вокруг, неподвижно застыли фигуры птиц: сороки, вороны средних размеров, растопыривший в полумраке свой гребень какаду. Голова козла — единственное, что осталось от провалившейся коммерческой операции. Старые дедушкины друзья, а теперь и мои тоже. Я пощелкала языком, ожидая, — а вдруг они сейчас зашевелятся, с любопытством станут вертеть головами; но они оставались недвижимы, только смотрели на меня блестящими бусинками глаз. В углу комнаты, вытянувшись всем тельцем к свету, на тоненькой веточке сидела гуйя[3] с длинным и тонким изогнутым клювом, желанный дедушкин трофей. На ее черных, с радужными разводами перьях лежал толстый слой пыли, и никто не удосужился ее стереть.
Прежде всего надо спасти бедную птичку от пыли. Из полутемной столовой я притащила стул и вскарабкалась на него. Поднялась на цыпочки и тут же едва не свалилась, на мгновение потеряв равновесие, но ухитрилась удержаться, до боли вытянув пальцы, достала чучело и мягко, как кошка, спрыгнула на пол. Дунула на покрытые пылью перья, и густое облачко пыли вместе с высохшими остовами насекомых с ближайшей паутины стало оседать на пол. Я поставила птицу на придвинутый к стенке стол и, решив заняться ею позже, отправилась осматривать свои владения.
Сорочью усадьбу собирались отремонтировать и перестроить. Отодрать палас и начистить паркет; сломать перегородки и сделать свободную планировку, чтобы по дому мог легко циркулировать свежий воздух. Оборвать обои, заново оштукатурить и покрасить в какой-нибудь модный цвет стены. Я видела план реконструкции.
Не думаю, что дедушке план понравился бы. Дом он оставил в наследство своим трем детям: моему отцу и его брату с сестрой, а еще, как ни странно, моему брату. Похоже, дедушке пришла в голову фантазия, что Чарли как первенец старшего сына продолжит семейное дело, на которое моему отцу было наплевать, женится и благополучно передаст ферму следующим поколениям Саммерсов. Но брат всей душой был привязан к городу, городской жизни, здесь его ждала многообещающая карьера врача. Уж лучше дедушка оставил бы дом мне. По крайней мере, я не стала бы потрошить его. Оставила бы все так, как было всегда.
Но мое мнение ничего не значило. Меня пригласили на семейный обед, устроенный после чтения завещания, и на нем никто почти ни слова не говорил по этому поводу. Все уже твердо знали, чего они хотят, и родители, и тетя с дядей, только бледный Чарли, сжимая в руке бутылку пива, насупившись, сидел в углу. Он чувствовал себя виноватым, я это знаю, его терзала совесть, что он унаследовал так много, а вот его сестра и другие родственники не получили почти ничего. Сделав еще несколько глотков, Чарли, слегка покачиваясь, встал.
— А что, если я захочу стать фермером?
Все дружно рассмеялись. Но я понимала, что в ту минуту он нисколько не шутил. Мне кажется, на какое-то коротенькое мгновение мой брат даже представил себе, как он заживет новой жизнью.
За огромным обеденным столом родителей было решено разделить ферму — и это после того, как она принадлежала семье уже несколько поколений — и продать, оставив себе только дом. Из него сделать гостиницу, предоставляющую постояльцам ночлег и завтрак; так, по крайней мере, можно будет оплатить его содержание. Мы никогда не были бедны. И я не могла понять, зачем нам еще деньги, если они у нас и так есть, но эту мысль оставила при себе. Кто его знает, какие у них были резоны. На этой ферме прошло счастливое детство отца и его брата с сестрой, но с тех пор много воды утекло, было много всяких событий, и они предпочли об этом не вспоминать. Да и все остальные тоже. Но я никак не думала, что они захотят прежде всего расправиться с домом.
Я ходила по пыльным комнатам, по коридорам, увешанным старыми акварельными пейзажами и натюрмортами, и понимала, что для меня это последняя возможность прочувствовать дом таким, каков он есть, что скоро наследие семьи измененится до неузнаваемости или вовсе будет уничтожено, исчезнет навсегда.
Впрочем, кое-что из старинной мебели останется для создания, так сказать, «атмосферы», но все остальное выбросят или отправят на чердак. И прежде всего эта участь ждет чучела животных и птиц; кабинет, где хранилась их большая часть и где дедушка занимался таксидермией, мы называли «зверинцем». Но коллекцию всех эти птиц, горностаев, оленей, над многими из которых дед провел много часов, собирал не только он один, часть ее досталась ему от прапрадедушки Генри, а это значит, что в ней имеются очень редкие, старинные образцы как местных, так и экзотических птиц и животных, включая и чучело той самой гуйи. Родственники были бы не прочь подарить их какому-нибудь музею или, еще лучше, продать куда-нибудь в частную коллекцию, и вот здесь мое слово тоже имело вес. Потому что всю коллекцию дедушка завещал единственному члену семейства, который интересовался искусством таксидермии, то есть мне.
Мне тогда было десять лет. Чарли был на два года младше; он стоял над неподвижно лежащей сорокой и с резким звуком дергал за резинку рогатки. Услышав мое приближение, спрятал оружие за спину.
— Что ты тут делаешь? — спросила я.
Один глаз птицы заплыл кровью, но других видимых ран не было. Я опустилась рядом с ней на колени.
— Ничего. Случайно попал. Глупая птица.
Он засмеялся и убежал, высоко поднимая в высокой траве худущие ноги.
— Засунь ее себе в задницу! — прокричал он издалека.
Я легла на живот и приблизила лицо к сороке, пытаясь определить, жива она или нет. Дотронулась, потом взяла ее тельце в ладони. Оно было мяконькое и еще теплое. Головка безвольно свесилась в сторону.
— Ай-ай-ай, бедная птичка.
Я прижала птицу к груди и поцеловала, желая хоть как-то ее утешить. Близость настоящей смерти взволновала меня. Эта птичка казалась мне изящнейшим, прекраснейшим существом на свете. Мне захотелось, чтобы она всегда была со мной.
И я поняла, что надо с ней сделать.
Дедушка был в своем «зверинце», наводил порядок.
— Ну, что ты мне принесла?
Взяв у меня птичку и видя мое озабоченное лицо, он отнесся к делу даже более серьезно, чем требовалось.
— Да-да, — сказал он. — Прекрасный экземпляр. Gymnorhina tibicen hypoleuca.[4] Причем, заметь, эта птица не местная. Ее привезли сюда в шестидесятые годы прошлого века, чтобы она уничтожала вредных для посевов насекомых. Ты знала об этом?
Я отрицательно покачала головой.
— И они прижились. Стали нашими друзьями. Ну-ка, давай посмотрим, что можно с ней сделать.
Однажды, когда мы были совсем маленькие, на нас напали сороки. Мы шли себе по огороженному полю к реке купаться, как вдруг целая стая принялась пикировать на нас, а одна клюнула меня прямо в голову, я даже не успела поднять рук, чтобы защититься, и с отчаянными криками побежала домой.
И дедушка научил нас, как надо вести себя с этими птицами. Он отломил от дерева две тонкие веточки и показал, что надо шагать с уверенным видом, подняв их над головой. Кроме того, он нашел где-то четыре бумажных стаканчика из-под мороженного и несколько перьев для письма. Яркими красками мы нарисовали на донышках глаза, и все вместе отправились к реке, вышагивая, как маленькие генералы, и держа стаканчики на головах; нарисованные глаза завораживали зловредных птиц, заставляя держаться от нас подальше. Пруд на другой стороне этого поля мы прозвали сорочьим. После этого случая Чарли провозгласил себя сорочьим королем, и я совсем не удивилась, когда один из его снарядов попал точно в цель.
Генри Саммерс, должно быть, очень любил сорок, если в их честь назвал свой дом. А может быть, они настолько естественно вписывались в окружающий ландшафт, что название само просилось на уста.
Дедушка взял у меня птицу и положил на стол, и меня охватило странное чувство тяжелой утраты. Я тяжело вздохнула, он поднял голову и посмотрел мне прямо в лицо. Слегка подвинулся на скамейке, взял меня за руку и притянул к себе.
— Хочешь сделать это сама? Хочешь дать этой птичке новую жизнь?
Естественно, я кивнула, хотя страшновато было смотреть на скальпели, лежащие на верстаке, представлять, что ими можно сделать с птицей, столь красивой и после смерти.
Дедушка прежде всего сделал надрез от горлышка сороки до хвоста («Воздуховод к заднему проходу», — пробормотал он) а потом, осторожно сняв шкурку, дал мне в руки ножнички, которыми я перерезала у основания кости ног, крыльев и шейку. И птица просто сбросила с себя свой наряд и теперь лежала перед нами совсем голая.
Делали чучело мы с ним вместе. Мы занимались ею все оставшиеся дни каникул: специальной ложечкой вынули содержимое черепа, с помощью соли просушили кожу, ежедневно проверяя, как идет процесс сушки, а когда было готово, набили тельце глиной с опилками, выбрали стеклянные бусинки для глаз, где надо, подшили и заклеили; мне очень интересно было наблюдать, как она постепенно возвращает свой первоначальный вид. Установили ее с распростертыми крыльями, и птица получилась как живая: настоящая, дерзкая, нахальная сорока. Мы уселись плечом к плечу на высокие табуретки возле верстака, любуясь работой. Огромные, мозолистые руки дедушки с коричневыми, как желудь, костяшками так часто в процессе работы касались моих рук, что я привыкла к их запаху и жесткой поверхности и знала не хуже, чем собственные маленькие, бледные ручки, рядом с его лапищами казавшиеся лапками кролика.
Когда каникулы кончились, я взяла эту сороку с собой домой. Мать пыталась уговорить меня поставить ее где-нибудь в сарае, но я отказалась наотрез. Птица осталась в моей комнате, она охраняла мои сны. Однажды я отнесла ее в школу, показала всем и рассказала про нее, и во время большой перемены все подходили и трогали ее. Подходили робко, с опаской поглядывая на меня: никто не знал, как к этому относиться, осуждать меня или уважать. Впрочем, за время учебы такая проблема возникала постоянно.
«Зверинец» выглядел так, словно дедушка вышел на минутку на кухню выпить чаю. Большой рабочий стол высотой чуть ниже пояса занимал почти всю середину комнаты, и вокруг него стояли высокие табуретки, на которых я когда-то любила раскачиваться. Инструменты лежали в идеальном порядке, хоть сейчас бери и работай: скальпели, щеточки, ложечки. Тут же были и коробочки с искусственными глазами самых разных размеров: от больших, как шарики из детской игры, до совсем крошечных, как глазки мышонка. У стен стояли стеклянные витрины с какими-то склянками и мелкими животными.
До меня вдруг дошло, что все это добро теперь принадлежит мне. Это моя собственность. Все эти попугайчики и колибри, каждый горностайчик с оскаленной пастью — это теперь мое.
За окнами смеркалось. Порыв ветра закрутил и поднял в воздух кучу опавших листьев и разбросал их по широкой лужайке.
Не знаю, как долго дедушка хорошо себя чувствовал и мог работать в этой комнате. Мои родители пытались уговорить его переехать к нам, особенно в те последние несколько месяцев, когда он серьезно заболел, но дедушка наотрез отказался. Он сказал, что будет дураком, если последние несколько месяцев жизни будет жить в городском доме и не сможет по ночам любоваться звездами. А у нас у всех были дела, ведь неизвестно, как долго пришлось бы ухаживать за ним в Сорочьей усадьбе.
В этом доме он вырос, как и его отец; здесь умерла его жена. Здесь он растил детей, сюда к нему каждый год приезжали внуки. Дом был слишком большим для одинокого старика и его экономки, тем более что в окружности полумили не было ни единого жилища, кроме коттеджей для рабочих, где с женой и маленькими детьми жил Джошуа, управляющий фермой. Дом строился не для такой одинокой жизни. В его пустых комнатах теперь постоянно звучало эхо, и я сознавала, что впервые в жизни нахожусь здесь одна. Понятно, почему дедушка оставил дом Чарли; он лелеял надежду, что дом будет восстановлен для жизни нового поколения, что Чарли, дай бог, заведет здесь семью и жизненный цикл продолжится снова. И хотя дедушка собрался прожить здесь до самой смерти, с тех самых пор, как я подросла и перестала ездить сюда, а это было уже много лет назад, в доме воцарилось молчание, дом как-то притих, словно утратил жизненные силы. Бродя по его огромным помещениям, нельзя было не чувствовать некоей жалости. Прежде такой импозантный, дом теперь потускнел, и красота его поистрепалась.
Но мы все же довольно часто навещали дедушку, пока он не заявил, что предпочитает, чтобы за ним присматривал кто-нибудь чужой, и родственники, в конце концов, решили нанять сиделку. Дедушка не хотел, чтобы домашние видели, что он не может самостоятельно помыться или дойти до туалета. Сказал, что это унижает его достоинство.
После смерти бабушки я вернулась в родной город, чтобы продолжать занятия в университете и быть поближе к дедушке. Я выросла в лучшей части города и училась в хороших школах. Днем это было красивое и вполне безопасное место, где летом на клумбах росли цветы, а зимой все было покрыто инеем. Здесь в огромных колониальных домах жила старая финансовая аристократия, за живыми изгородями и кирпичными стенами укрываясь от всего мира. Но по ночам город преображался: в реке вылавливали трупы проституток, на улицах насиловали и убивали девочек-подростков, юношу могли избить до полусмерти только за то, что на нем розовые туфли, прямо на городской площади резали туристов (говорят, видите ли, не по-нашему), а любители быстрой езды, как хищные акулы, гоняли на автомобилях по периметру, визжа на поворотах так, что шины дымились, и могли схватить и увезти в неизвестном направлении любого, кто попадется на пути. Добропорядочные граждане носу не высовывали из домов и с нетерпением ждали, когда встанет солнце. Повзрослев, я сразу уехала отсюда, поклявшись никогда не возвращаться, а когда все-таки вернулась, решила поселиться как можно дальше от центра, за холмами, в районе порта.
Теперь освещенные одинокой лампочкой чучела животных отбрасывали на стены резкие тени. Под стеклом, тускло отсвечивая крылышками, сидели экзотические бабочки и жуки. Дедушка рассказывал, что они из громадной коллекции Генри, он охотился на них в Африке, в Австралии и в Бразилии. И это было самое удивительное: Генри не приобрел их, а поймал собственными руками. Кто знает, сколько потребовалось усилий, чтобы изловить каждый экземпляр, сколько денег и пота, сколько риска? И вот теперь они здесь, совсем как живые.
Я перевела взгляд на стеклянные шкафы. В детстве у меня было с ними связано ощущение преступного удовольствия. В школе мне никто не верил, когда я рассказывала про их содержимое: тут были не только чучела животных, но и банки с какой-то жидкостью, как я полагаю, формальдегидом или спиртом, и с побледневшими от времени этикетками, подписанными старинными чернилами; в одной, например, была свернувшаяся спиралью тонкая белая змея, и на этикетке написано: Zamenis hippocrepis[5]; Egypt, 1882; в другой сидел кальмар, завитые щупальца которого присосались к стеклу: Squid, Aegean[6], 1875. За ними стояло еще несколько банок, три довольно большого размера. На черно-белой коже одной змеи, Dipsas dendrophila[7] из Суматры, были крупные чешуйки, что придавало ей сходство с плывущей в воде рыбой. Думаю, дедушка понятия не имел, сколько времени я провела в этой комнате, когда он уходил из дома по делам фермы. Я знала, где у него лежат ключи от шкафов с коллекцией Генри, и пряталась в его «зверинце», в то время как остальные забывали о моем существовании. Я открывала дверцы, переходила от банки к банке, доставала одну из стоящих позади: ничего интересней я в жизни не видела. И ни за что не показала бы своему младшему братишке то, что держала в руках: в тяжелой жидкости плавал утробный плод человека. А рядом с ним на полке стояла банка с крохотными ножками. Ножками ребенка, подошвы их были прижаты к стеклу, вокруг пальчиков — розовая кайма. Надпись на этикетке гласила: Smallpox[8], 1885.
Я старалась не думать о том, что случилось с бедняжками, не думать о горе родителей, о том, сознательно ли они пожертвовали конечностями своего ребенка на благо науки. Оставили ли они и себе что-нибудь на память, чтобы не забывать о смерти: memento mori. Наверное, это ужасно — потерять ребенка и не оставить у себя ничего, что бы о нем напоминало.
Приходить сюда снова и снова, разглядывать эти банки меня заставляла мысль о том, что все эти существа, и люди, и животные, жили больше сотни лет назад, а вот теперь я держу их в руках. Человек, который сберег их, обладал силой даровать им бессмертие.
Я вынула письмо, которое мне вручил поверенный во время чтения дедушкиного завещания. Я успела прочитать его только раз, а потом отложила, была слишком расстроена его кончиной, да и своих проблем хватало. Но именно это письмо и было главной причиной, почему я теперь здесь; я села на табуретку и снова принялась читать:
«Моя дорогая Розмари!
Я диктую это письмо Сьюзан, своей сиделке, поскольку в последнее время мне трудно писать, руки дрожат. Когда получишь его, ты уже будешь знать, что я завещаю тебе свою таксидермическую коллекцию и все остальное содержимое моего „зверинца“. Твоим близким, возможно, это покажется странным, но ты — единственный человек в семействе, которого интересует таксидермия, и совершенно естественно, что коллекция достанется тебе. Большая часть ее, как ты знаешь, принадлежала моему деду Генри Саммерсу. Он обучил меня искусству таксидермии, а я обучил тебя. Я знаю, что ты больше этим не занимаешься, но, надеюсь, став хозяйкой коллекции, ты захочешь продолжить.
В коллекции, дорогая моя, ты найдешь кое-какие довольно неприятные образцы. Я никогда их тебе не показывал, потому что считал тебя маленькой, ты еще не все понимала, но, повзрослев, увы, ты перестала задавать мне вопросы. Чтобы понять, зачем они здесь, зачем я их так долго хранил, ты должна хотя бы немного знать о жизни своего прапрадедушки.
Тебе известно, что он приехал сюда в восьмидесятые годы девятнадцатого века, что он купил и восстановил этот дом. Он был родом из весьма уважаемой в Англии семьи, джентльменом с блестящим будущим и не менее блестящими друзьями, включая, как я понимаю, самого Эдуарда VII.[9] Не могу сказать, что этот мой дедушка был человеком добрым, во всяком случае, по отношению ко мне, вот почему я всегда старался проявлять к тебе больше доброты. Он многому меня научил, но я никогда не чувствовал, что он это делает из любви ко мне. Да, он не был добр, но человек он был удивительный, поэтому я всегда гордился тем, что я его внук. Ты знаешь, что он был коллекционер и побывал в самых разных странах в поисках всего необычного и редкостного. В отличие от других людей с его положением в обществе, моего дедушку не удовлетворяла возможность просто тратить деньги, чтобы приумножать свою коллекцию диковинок, он не хотел сидеть и ждать, когда ему привезут из дальних стран тот или иной редкостный экземпляр. Он отправлялся добывать их сам. Именно такой образ жизни и привел его в Новую Зеландию: он отправился на поиски моа[10] и гуйи, а возможно, еще и не со столь возвышенной целью, на поиски артефактов аборигенов маори. Не рассчитал только одного: он встретил здесь женщину, которую полюбил, женился на ней и тем самым решил свою судьбу, а также судьбу всех нас, для которых Новая Зеландия стала родиной.
Женщина, которую он полюбил, не моя бабушка, бабушкой мне стала его вторая жена. А первая утонула в реке. Тело ее не было найдено. Думаю, он был очень привязан к моей бабушке, но здесь и речи не может быть о большой и глубокой любви. А вообще-то, я полагаю, она просто побаивалась его, как и все мы. Нрава он был весьма крутого и был способен впадать в такую ярость, что домашние прятались от него по всему дому. К концу жизни приступы совершенно беспричинной ярости сделались еще сильней, и, если можно умереть от гнева, я бы сказал, что именно он его, в конце концов, и доканал. Он часто запирался от всех в комнате, где помещалась его коллекция, в своей кунсткамере, куда он никого никогда не пускал. Иногда, стоя у двери, я подслушивал, как он разговаривал сам с собой, а однажды услышал, как он плачет, снова и снова повторяя одно слово: „Дора, Дора“. Дорой звали его первую жену.
Я так до конца и не понял, почему он прекратил собирать свою коллекцию. Когда пропала Дора, он больше не покидал нашей страны и все силы отдавал ферме, которая потом перешла к моему отцу и ко мне.
Свою кунсткамеру мой дед завещал Британскому музею. Когда он скончался, отец нашел все упакованным в коробки и ящики и готовым к отправке по морю с указанием ни в коем случае не открывать, пока они не окажутся в музее. К несчастью, в пути все куда-то затерялось, и мы так и не узнали, что случилось.
Я хочу сказать, дорогая моя внучка, что тебе теперь принадлежат не только чучела животных, но и вся коллекция этого великого исследователя и великого человека. К сожалению, тебе не досталось лучшей части коллекции, что бы там в ней ни содержалось, но если ей суждено отыскаться, она по праву будет принадлежать тебе. Или, возможно, Британскому музею, тут я не вполне уверен. Поэтому, когда ты будешь смотреть на некоторые не очень привлекательные артефакты этого собрания, вспоминай о Генри Саммерсе. Я верю, что ты будешь знать, как с ними надо поступить.
И еще одно: я никому об этом не говорил, но теперь, после разговора с твоим отцом, знаю, что тебе это будет интересно: когда я был еще мальчишка, однажды подсмотрел, как мой дед купался в Сорочьем пруду. Увидев меня, он быстро оделся, но я успел заметить, что грудь и руки его были сплошь покрыты татуировкой. Меня это страшно потрясло, потому что татуировки в то время носили матросы и уродцы, выступающие в цирке. Но только не джентльмены. Возможно, теперь все по-другому, твой отец сообщил мне, что у тебя тоже есть подобные украшения на теле. Старики не всегда понимают молодежь, это в порядке вещей, поэтому не стану больше говорить об этом.
Не могу передать, что для меня значит иметь возможность оставить все это тебе, передать в твои руки. В те часы, которые мы с тобой провели у верстака, ты доставила старику много радости. И мне жаль, что дела не сложились для нас более благополучно.
Желаю тебе прожить долгую и счастливую жизнь, моя дорогая внученька. И да принесет тебе эта коллекция столь же много радости, сколько она принесла и мне.
Твой старый дедушка».
У меня было чувство, будто он стоит рядом в этой комнате, дышит одним со мной воздухом.
Кто-то сказал однажды, что невозможно до конца преодолеть постигшее тебя горе, ты просто продолжаешь жить, примирившись с ним. Иногда, оставаясь одна, я ни с того ни с сего начинала плакать, и так же быстро беспричинные слезы вдруг прекращались.
Теперь слезы прекратились не сразу, но я рукавом вытерла лицо и решила снова взглянуть на письмо. Почему оно такое коротенькое, почему дедушка не начал писать его раньше, почему он так мало рассказал мне про Генри? Теперь, когда все здесь находилось под угрозой исчезновения, мне вдруг страстно захотелось узнать как можно больше и об этом доме, и о человеке, который его построил, и о женщине, для которой он предназначался.
Но письмо сообщало мне четыре чрезвычайно важных факта. Первый: Генри потерял жену, тело ее не было найдено, и это породило слухи о том, что он просто избавился от нее. Не знаю, почему, но мне казалось, что они очень любили друг друга, что о такой любви можно только читать в книгах; сама я такой любви не знала. У меня на этом фронте были одни только неудачи.
Второй факт говорил о том, что он был очень вспыльчив. Третий — что у него была кунсткамера с диковинками и редкостями, которых никто никогда не видел. И четвертый — что он носил татуировку. И этот последний факт как бы скреплял мою связь с человеком по имени Генри Саммерс, моим предком.
Первую свою татуировку я сделала в семнадцатилетнем возрасте: на мягкой, эластичной коже с внутренней стороны моего предплечья курсивными буквами было выколото имя: Тесс. Над ним — лошадиная подкова, а внизу два слова: memento mori — помни о смерти. Моя бедная, худющая мама, разодетая в кашемир и увешанная золотом, не простила мне этой первой татуировки. Она назвала ее отвратительной и всегда требовала, чтобы я в ее присутствии прикрывала наколку; но для меня она была напоминанием о том, что все смертны, поэтому надо брать от жизни все, что можно. Разумеется, маме не нравились и последующие мои татуировки, но именно эта первая раздражала ее больше всего. Она просто хотела забыть.
«Безобразие», — ворчала она, натыкаясь на мертвых животных, которых я держала в домашней морозилке: звонаря,[11] которого нашла мертвым в бассейне, воробьев и мышей, которых приносила мне кошка. На них я тренировала и оттачивала свое мастерство таксидермиста. Мать говорила, что от меня за версту несет смертью, что ей порой страшно на меня смотреть.
Последнюю татуировку, уже десятую, я делала незадолго до приезда сюда. Это была сорока, простая сорока с расправленными крыльями. Роланд склонил свою тощую спину над моим запястьем, натягивая кожу между большим пальцем с надетым резиновым колпачком и указательным, а я ощущала только тихое жужжание, покалывание иголки и острый запах собственного пота, смешанный с всепроникающим запахом метилированного спирта. Между искусством татуировки и таксидермией есть нечто общее, а именно запах. Мастер-татуировщик пользуется этим спиртом для стерилизации инструмента. Таксидермисту он нужен для подсушки последних, неподдающихся кусочков плоти, чтобы отделить их от кости. Может быть, этот запах, сопровождавший меня в детстве, теперь заставляет меня снова и снова приходить в мастерскую татуиста.
Из письма дедушки с очевидностью выходило, что он ничего не знал о том, о чем и я узнала совсем недавно: в конце девятнадцатого века среди британской аристократии татуировки были в большой моде. И мужчины, и женщины толпами стекались в ателье татуистов Лондона, где, возлежа со всеми удобствами, отдавали свою кожу в распоряжение художникам иглы и туши. Принц Уэльский делал свою татуировку в Израиле, потом еще одну в Японии; своим сыновьям он посоветовал посетить того же японского мастера, и те были очень ему благодарны.
Меня часто спрашивают, больно ли делать татуировку. У меня на этот счет только один ответ. Конечно, черт побери, больно. Но это длится недолго, зато результат получаешь навсегда, поэтому последующее удовольствие с лихвой покрывает боль. Многие говорят, что это и не боль вовсе, что очень скоро слабая боль сменяется приятным щекотанием — кайф, да и только. Но я всегда ощущаю настоящую боль и все равно это делаю. Хуже всего, когда процесс проходит близко к кости, как, например, было, когда мне накалывали изображения альбатросов над грудью или где под кожей имеется пучок нервных окончаний. Некоторые доверчивые девушки делают татуировку на ягодицах, но там всегда процесс идет так больно, что тебя может стошнить. Одна моя знакомая решила сделать наколку на бритой голове и во время сеанса потеряла сознание. А потом опять отрастила волосы и никогда больше ее не видела.
Почти все наколки делал мне Роланд, он же почти задаром сдал мне квартиру над своей мастерской. Он рассказывал мне байку про девиц с голыми животами, которые полчаса стояли перед его витриной, хихикая и споря по поводу рисунков: ну никак не могли что-нибудь выбрать. А потом все заказали чуть пониже поясницы один и тот же рисунок, что-то абстрактное, словно племенное клеймо, и ему пришлось работать, как на конвейере. Роланд назвал эту наколку «шлюхина печать». Еще он не любил делать татуировку, когда человек не продумал как следует, чего он хочет; Роланд считал, что такой человек, скорей всего, пожалеет об этом и захочет потом уничтожить ее. Он отдавал должное кельтским татуировкам в виде нарукавных повязок в расцвет стиля «грандж» в девяностые годы, но предпочитал работать, когда ему приносили оригинальный рисунок, который можно было несколько упростить, стилизовать, или человек приходил к нему, зная, чего ему хочется, и они вместе, порой не одну неделю, сначала на бумаге вырабатывали окончательный вариант, пока не находили идеальный образ.
Лично мне хочется, чтобы мои татуировки производили впечатление ярких, живых, энергичных картинок и без какой бы то ни было «готики» или «тяжелого металла». Я предпочитаю либо уникальные композиции самого Роланда, либо старомодные «нашивки», какие делали себе матросы в самом начале двадцатого века: сердечко, трилистник, ленточка. Обожаю дух времени, который несут с собой подобные наколки, когда никто из женщин, кроме цирковых дам, татуировками не щеголял. Некоторые из моих татуировок откровенно женственны — летающие чашечки, яркие цветочки.
Роланд говорил, что ателье татуировок существовало здесь еще в те времена, когда дом только построили, то есть в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Дом стоял совсем рядом с портом, и каждое утро я просыпалась под стон и скрежет огромных кранов, которые склонились над водой, как огромные насекомые-богомолы, разгружая стоящие у пирса корабли или нагружая их углем и бревнами, доставляемыми по железной дороге с западного побережья. В девятнадцатом веке таких кранов не было, но в порту все так же кипела работа, а моряки сходили на берег и отправлялись по кабакам и публичным домам в поисках приключений, которые хоть на краткий миг могли скрасить их однообразную жизнь. Когда Роланд вселился в это помещение, бывшее прежде лавкой скобяных товаров, и стал отдирать со стен обои, он нашел там слой, весь покрытый нарисованными от руки образцами татуировок, популярных в то время, например, корабли и якоря, морские чудовища и английские розы. Он хранил эти рисунки в специальном альбоме под прозрачной пленкой и однажды показал мне. Они выцвели от времени, бумага, на которой они были нарисованы, потемнела и засалилась, но все равно рисунки были прекрасно видны. Мне очень хотелось их потрогать, понюхать бумагу, которая, как мне казалось, была пропитана лампадным маслом и табачным дымом. Но надо мной стоял Роланд, и как только я перелистнула последнюю страницу, он забрал у меня альбом. В нижнем углу одного из рисунков он показал мне подпись. Для меня это были просто какие-то каракули, но он с уверенным видом заявил, что там написано «Макдональд».
Закончив с черным контуром сороки, он перешел к ее раскраске, и на этом этапе у меня пошла кровь. Он продолжал трудиться, вытирая ее тряпицей. Выколов бока птицы белыми чернилами, Роланд закончил работу. Даже на бледненькой, синеватой коже моего запястья птица смотрелась очень ярко. Линии рисунка вспухли и покраснели, но через несколько дней все должно пройти, нужно только два раза в день смазывать специальным кремом, чтобы не образовались струпья.
— Да знаю я весь этот ритуал, — сказала я в ответ на его инструкции, когда он закутывал мне запястье специальной пленкой.
— Все равно, я должен это сказать, — отозвался он. — А вдруг ты забудешь и придешь жаловаться, когда струпья отвалятся, и вся работа будет коту под хвост.
Он взял меня за локоть и поднес запястье к глазам.
— Неплохо получилось. А почему именно сорока?
— Потому что одна сорока — символ печали, — ответила я, выкладывая его гонорар за работу.
Чтобы перетаскать всю бакалею на кухню, а вещи — наверх, мне понадобилось сделать три рейса. Рука сильно побаливала, но сорока на ней осталась неповрежденной. Красную комнату я определила себе как спальню, а остальные пять оставила в покое. Комнатка была не из самых больших, прежде она служила спальней для дедушки с бабушкой, и в ней стояли две односпальные кровати с продавленными пружинами, зато она была самая теплая: здесь имелся свой камин и окна выходили на северную сторону, так что ее освещали лучи зимнего солнца.
Я распаковала ноутбук с принтером, папки с бумагами и выложила все на дубовый стол, стоящий подальше от окна. Глядя на романы, что мне предстояло проанализировать, я мысленно заверила себя, что я сделала все правильно. Вот Джейн Эйр, например, ни за что не согласилась бы стать любовницей Рочестера, как и не согласилась бы выйти замуж за Сент-Джона Риверса. Она была бы счастлива и одна, если бы, к счастью, не случился пожар, покончивший с Бертой. Что подобное может случиться с женой Хью, я не могла себе представить, а даже если бы и могла, то не желала бы ей такого.
Я повесила одежду в шкаф — пару платьев и тяжелое пальто, которое мне случайно попалось в магазине Сент-Винсент де Поль рядом с университетом. Закрыв дверцу шкафа, я увидела себя в большом зеркале: глаза запавшие, личико бледное, губы сморщились от обезвоживания. Ну и видок. Слава богу хоть на щеках не видно следов туши от заплаканных глаз — приняв решение переехать сюда, я не очень заботилась о том, чтобы чистить перышки. Черная челка на моей короткой, круглой стрижке, вместо того чтобы после сушки феном лежать на лбу ровненько, торчала во все стороны. А одетая с ног до головы в черное, я выглядела так, словно только что вернулась с похорон. Я пощипала себя за щеки, чтобы на них появился какой-никакой румянец, дыхнула в сложенную чашечкой ладонь, проверяя запах изо рта с нечищеными зубами. В принципе, не смертельно.
Ко мне уже начал подбираться знакомый холод, всегда царивший в этом доме. Я включила старинный панельный электрообогреватель с облицовкой под дерево, он щелкнул и загудел. Потом легла на кровать, натянула на себя пахнущее плесенью стеганое пуховое одеяло и стала ждать, когда закончится этот длинный день.
Генри
Он коллекционирует чудеса, сновидения, а иногда настоящие кошмары. Малых какаду с зеленовато-желтыми хохолками, зеленых кузнечиков, экзотические морские раковины, морских звезд и бабочек с красивым названием Морфо менелай.[12] В коллекции его полно сокровищ, собранных им во время путешествий по всему свету. Оружие дикарей, фантастические драгоценные камни, радужные змеи, хранящиеся в специальных банках. Животные, растения, минералы. У него даже есть русалка: высушенная, мумифицированная, ростом ему по пояс. Он, конечно, не столь глуп и прекрасно понимает, что это подделка, смонтированная каким-то жуликом из останков обезьяны и рыбы, но она настолько похожа на настоящую, что ей тоже нашлось место в его удивительной кунсткамере.
Коллекцию свою он собирал всю жизнь. Он давно не помнит о том, что надо делать карьеру, заниматься, как говорит отец, реальным, полезным делом; но какой в этом смысл, считает он, когда он вносит столь огромный вклад в дело познания человеком мира и самого себя, когда его путешествия доставляют ему огромное удовольствие и новое знание, понимание значительности своей личности во вселенной, как, впрочем, и собственной абсолютной ничтожности?
Его кунсткамера расширилась и изменила вид, она теперь включает в себя и его собственное тело. Теперь он коллекционирует настоящих, нежных и женственных русалок, драконов и фей — невиданных прежде существ. Чернила, вбитые ему под кожу острой иглой.
Первую татуировку он приобрел в Японии, поддавшись уговорам друга и товарища по путешествиям, Джорджа Нортона, которому прежде всего хотелось своими глазами увидеть работу мастера, делавшего татуировку принцу Уэльскому, а потом и его сыновьям. Генри ярко и во всех подробностях помнит этот день: обнаженный по пояс, он лежит на полу, ощущая спиной прохладу шелковых подушек. Фонарики освещают помещение мягким светом, это теплое, карамелевое освещение как бы окутывает его полуобнаженное тело со всех сторон. Хори Чио, мастер своего дела, крепко держит его за руку, пальцами натягивая кожу там, куда наносит рисунок. Боль успокаивает его. Ярость, охватившая его — неожиданная, до белого каления, чуть было не прорвавшаяся, ему едва удалось ее подавить, когда Джордж протиснулся впереди него и рассмеялся прямо ему в лицо, при первом уколе иголки эта ярость улеглась. Раз, раз, раз, укол за уколом, размеренно, как бой метронома, Чио знай только меняет иголки, как того требует толщина линии или цвет. Да эти иголки сами вполне достойны попасть в его коллекцию — из слоновой кости, украшенные искусной резьбой, — и когда Чио заканчивает работу и отворачивается, Генри потихоньку кладет одну из них в карман; потом он забудет про нее и проткнет большой палец, и будет много крови, зато воспоминание об этом навсегда останется ярким. Он станет сгибать руку, и дракон будет шевелиться, двигаться. И он будет любоваться им, двигая рукой, этим живым, раскачивающимся драконом.
Высадившись на берег Новой Зеландии, первым делом он находит мастера татуировки, о котором рассказали ему на корабле. В нерешительности стоит у двери в его студию, проверяя адрес, записанный на бумажке. Он называет это место студией, потому что так подобное заведение называется в Лондоне, хотя заведение больше похоже на сомнительного сорта лавчонку. Внутри царит полумрак, он едва различает очертания предметов. В углу шевелится и вздыхает, как морской слон на скале, чья-то огромная фигура. В комнате накурено, хоть топор вешай, и в темноте горят красные угольки, неожиданно вспыхивая и лишь на мгновение освещая лицо лежащего, снова канущее в темноту.
— Здравствуйте…
Левиафан неуклюже поднимается на ноги, кивает и берет в руки лампу. Это мужчина, он протягивает лампу вперед, освещая пространство между ними. Удивление на его лице сменяется ожиданием, он пожимает плечами.
— Да?
Он сплевывает на землю.
— Сэр, мне сказали, что здесь делают татуировки.
— Кому?
— Гм… мне.
Мужчина делает неверное движение корпусом вперед, и обеспокоенный Генри шаг назад. У этого парня огромные, заросшие седеющей щетиной щеки, круглый живот и распухшая нижняя губа, словно он только что с кем-то дрался.
— Плата почасовая. Я сделаю вам собственный рисунок, — широким жестом он обводит комнату, — или покажите мне свои, и я посмотрю, что можно из этого сделать.
Голос у него тусклый, словно он весь день уже стоит на углу улицы, продавая завалящий товар — какие-нибудь апельсины.
Генри решает сначала посмотреть его рисунки. Татуировщик зажигает еще одну лампу, и Генри видит, что покрытые плесенью стены украшены пришпиленными листками бумаги, покоробившимися от влажного воздуха. Некоторые наброски очень просты, всего несколько линий, от других дух захватывает — настолько они сложны и замысловаты. Много образов, связанных с морем: якоря и корабли, рыбы, дельфины и морские чудища. В этом порту, куда каждый день заходят корабли, выгружая на берег грузы и своих обитателей, видимо, основные клиенты — матросы. Но есть и другие изображения: цветы, лица красавиц, которые смотрят прямо тебе в глаза. Может быть, лица возлюбленных, давным-давно покинутых на родине, которым суждено либо ждать, либо выходить замуж, кто знает?
Дальше — мотыльки, зеленые, желтые… черные бабочки папилио и бабочки-белянки… впрочем, вряд ли клиентам есть дело до их названий. Потом библейские сцены: распятие Христа и Тайная вечеря.
Этот человек — настоящий художник. Дураку понятно с первого взгляда. Ему бы сидеть в лондонском ателье или студии, не в темном полуподвале, в атмосфере, пропитанной запахом пота и заплесневелого табака, а в интерьере с пальмами в бочках и персидскими коврами, ярко освещенном электрическими лампами, с шелковыми подушками и шезлонгами. Он мог бы пользоваться покровительством настоящих джентльменов, да-да, даже титулованных, да и дам тоже. Господи, перед тем как покинуть Англию, он видел татуировку на запястье леди Уэнтуорт, и она не прятала ее, наоборот, подняла браслет повыше, чтобы все видели ее маленькую птичку счастья, порхающую на коже ее руки. И если его работа на живом материале так же хороша, как и его рисунки, он мог бы иметь огромный успех. Уж кто-кто, а Генри знает, сколь высоко должно быть мастерство, чтобы перенести произведение искусства на человеческую кожу.
— Как тебя зовут, дружище? — спрашивает Генри.
— Макдональд, — отвечает татуировщик.
— Ты настоящий художник, ты хоть сам это знаешь? Ты не просто татуировщик.
Человек что-то мычит, смеется, сплевывает.
— Это называется татуист. Художник, татуировщик. Татуист.
— Да, — говорит Генри. — Начнем?
Он достает из кармана карточку с нарисованной розой. Сколько бы он ни путешествовал, в каких странах ни побывал, Англия всегда останется его родиной.
Этот человек нетороплив, зато педантичен. Когда попадает слишком много розовой туши, он тщательно ее вытирает. Каждый укол продолжает предыдущий, и скоро вся грудь Генри ликует и поет.
— Таких, как вы, у нас тут мало, — говорит Макдональд.
За работой он непрерывно курит. Инструмент его выглядит неказисто, кусочки металла, скрепленные вместе, чтобы загонять тушь под кожу, но он держит его так, словно у него в руке самая дорогая авторучка.
— Таких, как я?
— Джентльменов. То есть были у нас тут несколько, все из Лондона. Все уже не по первому разу. Дракон укусил.
— Дракон? Не слышал такого выражения.
Он усмехается.
— Это потому, что я сам его придумал. Заказали по одной наколке, может, просто на память, теперь это, понимаешь, модно. Все слышали про принца и про дракона, которого тот сделал в Японии. И для начала все тоже хотели такого. И только потом хотели еще. Как зараза какая-то. Впрочем, стоит только в Новой Зеландии зацепиться, осесть, обратно никто не возвращается. А здесь это не очень-то в моде. Местные были бы в трансе.
— Спасибо, что предупредил. Но мода меня теперь мало интересует.
— Тогда зачем вам это? — Макдональд на секунду прерывает работу, держа на весу кисть.
— А тебе? — парирует Генри.
Татуист снова усмехается.
— Это уж у меня к крови. Мой папаша был моряк, и он привез татуировки из далеких романтических земель на юге Тихого океана. Я в жизни не видел ничего красивее, я говорю про эти наколки. Я понял, что хочу сам научиться делать такое. Чтобы хорошо получалось. И вот приехал сюда.
Он сплевывает на пол.
— Не совсем то, чего я ожидал, — говорит он, — но я так думаю, теперь это мой дом. Теперь ваша очередь.
— Мне это нужно, чтобы помнить, — отвечает Генри.
Позже он кладет руку на грудь, чувствует, как она придавила его розу, цветущую как раз на сердце. Держит руку на груди, а сам смотрит в окно на вылизанную лужайку и сад мистера Коллинза, который предложил познакомить его с местным обществом. У него такое чувство, будто его обманули. Его привела сюда надежда, что его встретит страна дикая, неосвоенная, где он познакомится с удивительной природой и потрясающими аборигенами, но этот город — жалкая копия обыкновенного английского городишки. Он любит Англию и хочет когда-нибудь туда вернуться, но стоило ли ехать на край света, чтобы увидеть здесь точно такие же деревенские праздники и шикарные магазины, точно такую же ровно подстриженную травку и такие же клумбы? Где же здесь искать необыкновенных приключений?
Он подавляет в груди вспышку раздражения и, положив на стекло окна другую свою, узловатую, морщинистую руку, внимательно разглядывает на ней борозды и шрамы. Потом резко убирает ее, оставив на затуманенном дыханием стекле морскую звезду отпечатавшейся ладони. Сквозь него ему видна поразительно яркая зелень сада после дождя, немного смазанная дефектом стекла. В тот день, два месяца назад, когда он двинул кулаком по стеклу, лужайки были вылизаны и подстрижены, а равно и кустики с деревьями; теперь же, казалось, вид из окна немного другой.
Он был тогда на приеме, который отец его устроил в честь его сестры. Он выпил много вина, пожалуй, слишком много, и ярость охватила его неожиданно, как, впрочем, и всегда. Он физически ощущает ее приближение, когда она пробегает по телу, так что в глазах становится темно. Реакция всегда выражается телесно: ударом кулака или ноги, но иногда и словесно, работает только язык, извергая такие слова и выражения, что он и сам не подозревал, что на это способен.
К боли он относился спокойно — чего только ни приходилось выносить прежде. Грубо сшитые раны на руках казались ему удивительно красивыми. Кожа вокруг заживших шрамов становилась желтовато-багровой.
Стоя у окна и зажав пальцами запястье, где сквозь рукав проступала кровь, он поймал на себе взгляд мисс Прингл, и она отвернулась, покраснев от злости. Гнев его сразу испарился, прошел, одновременно прекратилось и кровотечение. Он едва ли помнил, что именно вывело его из себя, понимал только одно — что потерял мисс Прингл навсегда, но это уже мало его волновало.
На следующий день отец позвал его в свой кабинет и, не глядя ему в глаза, протянул чек.
«Я решил профинансировать твою следующую экспедицию, — сказал он. — В Новую Зеландию. И пока ты там остаешься, будешь продолжать получать деньги».
Больше он ничего не сказал, но в словах его Генри послышалась явная угроза. Отец не намерен больше терпеть его образ жизни. И если Генри хочет получать содержание, он должен забыть, что Англия — его родина.
Это все, что он пока знает про Новую Зеландию. Что с временами года здесь все происходит наоборот (август — зимний месяц!), что здесь грязный порт, в котором живет татуист, что до города добираться недолго — на поезде через тоннель, что сам городишко построен по кальке с английских городов, с плакучими ивами вдоль петляющего ручья (его называют рекой, но на самом деле это узенькая струйка воды), новехонькими деревянными домами вперемешку с традиционными — из камня и кирпича, что здесь растет много дубов и что здесь на удивление добродетельное общество с непременным вечерним чаем, танцевальными вечерами и церковной службой. Цветочки, с маниакальным оскалом распустившиеся в городских и частных садах, названы в честь английских графств.
А сейчас морская звезда отпечатка руки на оконном стекле и прием в его честь. Он должен вести себя благовоспитанно. Надо завести знакомство с важными, нужными людьми, мистер Коллинз пригласил директора музея, который в свою очередь познакомит его с местными коллекционерами и таксидермистами. Если повезет, директор захочет купить кое-что из его образчиков, что он привез с собой, а может быть, будет приобретать и те, что он добудет, путешествуя по стране, по этой труднопроходимой земле, которую он должен увидеть своими глазами и убедиться, что она все-таки существует.
Прибывают гости, слуга объявляет их имена, и он отходит от окна. Кажется, все жаждут познакомиться с ним, услышать новости с родины; особенно поражают дамы, довольно вульгарные, но им так хочется узнать, не отстают ли их наряды от лондонской моды. У него не хватает смелости сказать им правду, и, добившись от него комплиментов, дамы одна за другой, сияя, отходят.
Он дает себе слово мужественно стерпеть все, и после того как вторая порция бренди благополучно ложится на стенки желудка, он чувствует себя развязнее. А когда к нему подходит мистер Коллинз с юной дамой под руку, он даже испытывает удовольствие.
— Позвольте познакомить вас с моей дочерью Дорой, — говорит хозяин.
— Мисс Коллинз. Очень приятно.
Генри секунду держит ее руку в своей. На ней длинные перчатки, почти до локтя, прохладная ткань. Она не похожа на остальных женщин. Не говорит глупостей и банальностей, не хихикает, и взгляд ее, кажется, проникает до самого сердца и заливает краской его лицо, будто ей сразу стало известно про его последнюю татуировку. Темно-серые глаза и светлые локоны, похоже, не завиты, а наоборот, слегка даже расправлены.
— И как вам понравился наш городок, мистер Саммерс? Боюсь, после Лондона вам здесь покажется скучно.
— А вы бывали в Лондоне? — спрашивает он.
Она смотрит на отца, и тот отвечает вместо нее:
— В прошлом году я свозил Дору в Англию, тогда и познакомился с вашим отцом. Путешествие туда и обратно длилось не меньше, чем все наше пребывание здесь. Мы от него сильно устали. Лондон Доре очень понравился, но, признаюсь, в моем возрасте Новая Зеландия нравится мне все больше.
Ему еще не больше сорока пяти, прикидывает Генри.
— Не сомневаюсь, — обращается он к мисс Коллинз, — что вы идеально вписались в тамошнее общество.
— Не надо мне льстить, мистер Саммерс. У меня нет никаких иллюзий, я знаю, что меня, как и должно, принимали за обыкновенную девушку из колоний.
Она искоса смотрит на отца, который сейчас отвернулся, чтобы перекинуться парой слов с каким-то вывернувшимся у его локтя человеком. Дора хитренько улыбается, словно ей удается ловко совершить какой-то проступок, наклоняется к нему и понижает голос.
— Простите, — почти шепчет она, — у вас вот здесь что-то прилипло.
И прикасается к своей губке, одновременно опуская глаза, будто ей неловко смотреть на его лицо в тот момент, когда он снимает с губы крошку еды.
— Спасибо, — говорит он. — Люди обычно столь деликатны, что я мог бы ходить с этим часами.
Она краснеет. Он мысленно казнит себя за то, что неловко выразился: она может подумать, что он считает ее неделикатной, тогда как он, напротив, хотел сказать ей комплимент. Да-да, вдруг осеняет его, из всех женщин здесь только ей хотелось бы искренне сказать комплимент. Он открыл было рот, чтобы оправдаться, но она останавливает его, делая пальчиками так, будто брызгает на него водой. Святой водой.
Мистер Коллинз уводит ее, и к нему подводят Герца, директора музея; после официальных представлений они углубляются в долгий разговор о путешествиях и искусстве коллекционера. Пару раз он поднимает взгляд и видит, что Дора смотрит на него, но оба раза быстро раскрывает веер и заслоняет лицо, делая вид, будто обмахивается. В этой тесной зале становится невыносимо жарко.
Вопреки сомнениям, прием оказался исключительно плодотворным. Герц обещал организовать путешествие по Южному острову с проводником по имени Шлау, немцем, набивающим для музея чучела местных животных и птиц, которых уже собралась приличная коллекция. Генри заранее волнуется, предвкушая приключения, возможность узнать подробности жизни птиц, которых он никогда не видел. Он ощущает в некотором роде жажду крови, и рот его наполняется слюной.
Про Дору он уже и не помнит, как вдруг, спускаясь в свою комнату, сталкивается с ней на лестнице. Она поднимается навстречу и испуганно прижимается к стене — куда девалась та уверенная в себе юная дама, с которой он недавно познакомился.
«Доброй ночи», — тихо говорит он, проходя мимо, но она только кивает, не отрывая от него взгляда.
Наутро он находит от мистера Коллинза письмо. Все семейство срочно вызвали в загородное имение. Он должен чувствовать себя как дома и не стесняться, если захочет их посетить. Надо только сообщить, и за ним пришлют коляску. Он старается вспомнить, не натворил ли он чего, не выпил ли лишнего на приеме, не брякнул ли чего неподходящего. Нет, кажется, ничего такого не было. Возможно, и в самом деле там у них возникли какие-то неотложные проблемы. И он может не церемониться и изучать страну, как ему захочется.
Розмари
Я проснулась от страха. Сны мои сопровождались каким-то назойливым звуком, мучительной нотой, доносящейся со стороны ближайшего огороженного пастбища, он снова и снова дергал меня, этот звук, он часто звучал у меня в ушах, с тех пор как я много лет назад поняла, что он значит. Лежа сейчас в кровати, я пыталась еще раз расслышать его, но он пропал, словно растворился в тумане. Нет, это не призрак прошлого явился мне, в этом, как всегда, виновато мое богатое воображение.
Занавески на окнах все еще оставались не задернуты, ночь была ясная. Снаружи слышалось, как кто-то ерзал, шаркал, стонал. Да таких звуков много в деревне по ночам, сказала я себе. Дом ведь, словно живое существо, шевелится, дышит. В нем всегда что-то скрипит, жалуется. Вот и тогда тоже… но ведь тогда я была не одна. Всегда кто-нибудь был рядом, можно было всегда узнать, что это за звуки, если они принимали враждебный оттенок. Я встала с кровати и подошла к окну. Лунная ночь была тиха. Лучи ночного светила освещали заброшенные грядки, детский домик на дереве. Вдалеке сквозь деревья мерцала река. Было такое чувство, будто за домом кто-то наблюдает, как бы поджидая, что кто-нибудь в нем, хотя бы я, например, пошевелится. Я услышала звук: словно какой-то человек ступил на посыпанную гравием дорожку, ступил и остановился. Я прижалась лицом к стеклу, всматриваясь влево, но чтобы что-то увидеть, мне пришлось бы высунуться из окна.
Тогда это и случилось. Я положила руку на стекло и вдруг ощутила ею какой-то глухой шум. Он прошел сквозь пальцы вверх по руке и по телу до пальцев ног. Комната мягко качнулась, еще раз и еще, словно дом был великаном, а я разбудила его, и он раскачивался из стороны в сторону, и сердце мое забилось так сильно, что я чувствовала, как кровь пульсирует на щеках. Звук, встревоживший меня больше всего, приплыл с равнин, он на секунду накрыл меня и отправился дальше, словно некая тихая волна.
«Это ручей», — подумала я и снова легла на кровать.
Я понимала, что это землетрясение, но не могла избавиться от чувства, что причина его — наш дом.
В последний раз я видела дедушку, когда мир для него сжался до пределов спальни и смежной с ней ванной комнаты. Он больше не читал любимых книг, болели глаза, но часто засыпал при включенном телевизоре или радио. По ночам, сидя в своей комнате в другом конце дома, я слышала эти звуки. Просыпаясь и желая узнать, который час, он включал телевизор и снова засыпал, а в это время продолжали мерцать новости вперемешку с рекламой, навязывающей свои тренажеры с кухонными принадлежностями, которые ему уже никогда не понадобятся.
Иногда я читала ему отрывки из его любимых романов Диккенса и Толстого, но, подозреваю, слышал он едва ли половину читаемого; кроме того, постоянно напрягая голос, я быстро утомлялась, как, впрочем, и он уставал слушать.
Меня поразило, как быстро старость изменила его. Окруженный в своей кровати взбитыми подушками, он был теперь совсем крошечный, запястья и руки его истончились и покрылись старческими пятнами. А уши, наоборот, вдруг словно выросли, все лицо пожелтело, как оставленные на солнце хлопчатобумажные простыни. Больно было на него смотреть, и он понимал это. Я сидела, держа его руку в своей, и лицо его казалось озабоченным, но он думал не о собственном здоровье, он беспокоился обо мне.
— Ты только не волнуйся за меня, детка, — сказал он. — Я прожил долгую и счастливую жизнь, и все такое. Ты же это прекрасно знаешь, верно?
Я кивнула в ответ.
— По лицу твоему вижу, что выгляжу я хреново.
Я попыталась возразить.
— Ладно, ладно, не спорь, — улыбка разрезала лицо его надвое. — Тебе повезло, ради тебя я вставил свою челюсть. Сьюзан лишена такой привилегии, скажи, Сьюзан?
Сидящая на стуле у окна сиделка и головы не подняла от кроссворда.
— Что и говорить, Перси, — невозмутимо сказала она. — Вы — настоящее чудовище.
Он усмехнулся. Одним из последних удовольствий в жизни его была возможность дразнить эту женщину, оба они то и дело задирали друг друга, прямо как муж и жена. Сьюзан была невысокого ростика, полненькая, дети ее давно оперились и покинули родное гнездо, так что она могла позволить себе посвящать ему даже больше времени, чем требовалось. У деда была специальная кнопка, и он мог нажать ее всякий раз, когда она нужна была ему ночью, а жила она всего в двадцати минутах на машине. А порой, когда он, казалось, уже отходит, она оставалась в доме и на ночь, спала в соседней комнате на простой кровати. Ухаживая за дедом, она не знала усталости, но когда я попыталась выразить ей свою благодарность, нашу благодарность, она пожала плечами и ответила, что всего лишь исполняет свою работу, что ей хорошо платят и она всем довольна.
Мое увлечение таксидермией доставляло ему величайшую радость. Я продолжала заниматься ею, когда закончила школу, а потом — когда оказалась в Лондоне одна без единого пенни в кармане и принялась изготовлять всяких диковинных тварей и модные аксессуары, сдавая их в антикварный магазин в Гринвиче. Дедушка то и дело просил рассказать, что я делала тогда: шляпки, украшенные воробьишками, чирикающими в своих гнездышках, брошки, которые я мастерила из крошечных мышат (вместо хвостов у них были серебряные цепочки, а вместо глаз сверкали драгоценные камни). Я создавала странные гибриды животных: кошек с голубиными крыльями, кроликов с рогами молодого оленя. Дедушка поистине наслаждался, когда я рассказывала, как меня вдруг увидели соседи по квартире, когда я в одной пижаме отпиливала на кухонном полу голову мертвой лисице, а потом, забыв распри, объединились с одной целью добиться моего выселения. Крови от той операции было немного, но все были уверены, что я убила ее собственными руками. На самом деле я нашла ее мертвой, хотя целой и невредимой, позади дома. Ее морда была испачкана какой-то дрянью из соседских мусорных баков. Скорей всего, чем-то отравилась.
— Я рада, что ты относишься к этому с юмором, — сказала я, когда он в очередной раз расхохотался. — А мне жить было негде, и в карманах ветер гулял.
Но я всегда находила выход из самого сложного положения. В конце концов пристроилась к одной молодой паре, державшей собственный магазин. Они ничего не имели против, когда я приносила домой дохлых животных и хранила их в морозилке.
— Расскажи еще раз, Рози, — сказал дед, закрывая глаза. — Что мы с тобой сделали с той сорокой, помнишь, в первый раз?
— Разрезали, выпустили воздух через задний проход, все, как ты мне говорил.
— А потом?
Он был похож на ребенка, который слушает давно знакомую сказку на ночь. Я рассказывала ему о том, как сразу после школы я работала в профессиональной мастерской, изготовляя чучела из охотничьих трофеев, главным образом, для американских туристов — оленей, за убийство которых они заплатили уйму денег. А когда я решила изготовить чучело дикого кабана не свирепого вида, как было приказано, а с веселенькой, дружелюбной мордашкой, меня уволили, и подобного рода таксидермией, когда животное убивают лишь для того, чтобы сделать из него чучело, я больше никогда не занималась. После того случая я набивала чучела только животных, сбитых машиной, или почивших домашних любимцев, даже занималась реставрацией старых чучел, давая им новую жизнь, а когда дедушка умер, я уехала из Лондона, вернулась домой и поступила в университет, решив посвятить свою жизнь науке; времени на таксидермию у меня больше не оставалось.
Наутро я проснулась рано. При свете дня трудно представить себе всю жуть подземных толчков в тихую, залитую лунным сиянием ночь. В комнате было столько пыли, что голова шла кругом. Спала я одетой, только сбросила обувь, и все. Впервые за долгое время не нужно было сразу вставать и куда-то бежать. Я привыкла просыпаться одна; Хью лишь один раз остался у меня до утра, это было, когда он вернулся с какой-то конференции раньше времени, а жене, естественно, не сообщил. Рита, с которой я снимала квартиру, столкнулась с ним за кухонным столом, он был в моем розовом халате, который он едва натянул на свое толстое пузо, и она с извинениями ретировалась, словно мы оба сидели перед ней совершенно голые. Ей про него я ничего не рассказывала, но, думаю, она инстинктивно понимала, что мы встречаемся тайно, потому что в тот вечер меня избегала, а потом никогда о нем не спрашивала.
Мне уже тридцать три года, а я до сих пор сплю одна, хотя и были у меня и любовники, и романы я крутила, и не один и не два. Мужчин, с которыми я целовалась или даже спала, было не счесть, но всякий раз, когда я влюблялась по-настоящему, у меня появлялась новая наколка. Не понимаю, в чем тут дело. Сколько раз я ни влюблялась, все романы продолжались недолго и заканчивались ничем. Мне почему-то и одной было неплохо, хотя я никогда не оставалась одна надолго. Я, конечно, мечтала бы пожить вместе с Хью в нашем коттедже в Уэльсе, но когда эта мечта померкла, взамен у меня ничего не осталось. Почти всех хороших, интересных мужчин разобрали, все они обзавелись семьями, в том числе многие мои друзья. И я понимала, что, если буду с Хью, пока это хочется ему, у меня вообще не останется никаких шансов. Я бы не сказала, что без мужчины была бы несчастна, дело не в этом. Просто прежде я считала, что мне все равно, есть у меня дети или нет, а сейчас призадумалась. Не то чтобы я терзалась этими мыслями, нет. Так, некое смутное чувство. Должен же быть у меня хоть какой-то выбор.
Я спустилась по лестнице вниз, по пути разглядывая галерею семейных портретов: фотографии детей, собак, общих сборищ, увеличенные и, как картины, забранные в рамы; студийные портреты, заказанные к сорокалетию свадьбы дедушки с бабушкой, со странными прическами, в странных, в обтяжку одеждах, которых больше никогда не надевали. Это были последние фотографии, словно, когда мне было тринадцать лет, жизнь семьи кончилась. Думаю, в каком-то смысле так оно и было. В Сорочьей усадьбе после этого больше не было шумных и веселых семейных сборищ; время от времени, правда, кто-нибудь наезжал в гости, но мать всегда норовила найти предлог, чтобы не ехать. Во всяком случае, когда потом я сама приехала сюда, то не стала предаваться ностальгическим воспоминаниям о прошлом, а целиком посвятила себя уходу за дедушкой.
Ниже, по мере того как я спускалась по ступенькам, шли черно-белые фотографии моих бабушек и дедушек со своими детьми на пикниках и во время свадебных церемоний. Мой отец с братьями, еще мальчишки, в шапках, как у Дэви Крокетта,[13] улыбаются, на плечах винтовки, а на палке между ними — целая гроздь убитых диких уток. Моя тетя, Хелен, безмятежная и красивая, в белом подвенечном платье, и ее муж, на добрых два дюйма ниже ее ростом.
Дальше фотографии шли уже зернистые и пожелтевшие. Портреты застывшего перед объективом мальчика, которым когда-то был дедушка, в комбинезончике и с большим луком, его обнимает мать, женщина с суровым лицом и стрижкой под Луизу Брукс,[14] очень, кстати, похожей на мою теперешнюю; с другой стороны отец, Эдвард Саммерс. И в окружении множества дочерей, с которыми мы давно утратили всякие связи, все они повыходили замуж и разъехались по стране, растворились среди родственников своих мужей.
Большинство фотографий снято на фоне дома, незыблемого и неизменного. Это мне и нравилось в них, дом был как бы некоей константой жизни всех нас, всего семейства. Мне приятно было думать, что даже мебель во многом оставалась все той же и расположение комнат сохранялось с тех пор, как дедушка был еще маленьким, а может быть, и с более раннего времени, с детства его отца; что дедушка ухаживал за бабушкой точно так же, как и мой отец за моей матерью — приводил ее в этот большой дом, показывал сад, грядки, реку и свой диковинный таксидермический кабинет. И женщины сами влюблялись во все это, дом становился частью их самих, как и всех прямых потомков Генри Саммерса, хотя, чем больше он ветшал, тем холодней относилась к нему моя мать.
В самом низу лестницы висели две очень старые и поблекшие фотографии в тяжелых дубовых рамках. На одной — большая группа женщин с велосипедами, в жакетах и длинных юбках Викторианской эпохи и в соломенных шляпках. Я узнала эти ведущие из парка, в котором я часто играла, обсаженные деревьями широкие аллеи, хотя деревья были намного меньше, чем сейчас.
На другую фотографию я много раз мельком смотрела, когда пробегала мимо, но никогда не останавливалась, чтобы как следует разглядеть ее. Это был постановочный студийный портрет коллекционера Генри Саммерса за работой. Одет он довольно просто: в твидовые брюки, кожаные ботинки и краги. Без шляпы, хмуро смотрит прямо в объектив камеры. Прямой, крепкий нос, тонкие брови, напряженный взгляд темных глаз. В руках у него винтовка, собака сидит у ног и смиренно держит в пасти убитую птицу. Не вполне уверена, но, похоже, это пукеко[15] или такахе.[16] Высокого роста, с длинными руками и ногами, смотрит с врожденной самоуверенностью, как и полагается человеку его положения и жизненной карьеры. Сложно определить, когда сняли эту фотографию. До или после гибели его жены? Но по его лицу здесь трудно сказать, что он убит горем. У этого человека, скорее, горизонты чисты, он полон надежд на будущее и готов принять любые вызовы судьбы.
Я попробовала представить себе, какой он был человек, мой прапрадедушка Генри, со всеми его татуировками, спрятанными под костюмом Викторианской эпохи, что за человек была его жена, и как она погибла, и что за сокровища успел он собрать, позже бесследно исчезнувшие. С таким трудом собранная коллекция животных и банок, которую я получила в наследство, странным образом устанавливала между нами крепкую связь, я это чувствовала, тем более что я узнала про нашу общую с ним любовь к татуировкам, и это только обостряло чувство близости. Мне вдруг захотелось побольше узнать про Генри и Дору, прежде чем этот дом отскребут от всего, что может напомнить о них и о дедушке Перси. Впрочем, теперь мне нужно было поскорей выйти на свет и свежий воздух.
На мне все еще было старомодное креповое черное платье и колготки, в этом я и спала. У двери на кухню я надела резиновые сапоги и серый твидовый пиджак для верховой езды. Сунула руки в карманы, в которых, слава богу, было пусто. Не знаю, каково мне было бы, если б я наткнулась в них на какие-нибудь личные вещи человека, который уже умер, — грязный носовой платок или конфетный фантик.
Было тихо, слышались только звуки моего дыхания да шлепки болтающихся на ногах резиновых сапог по дорожке; в прохладном воздухе изо рта шел пар. С тополей, растущих по периметру ближнего пастбища, листья почти облетели, оголив ветки, и когда я проходила мимо, с ближайшего тополя поднялась туча возбужденно чирикающих воробьев. Рядом стояла ветрозащитная полоса, плотная стена макрокарп. Здесь вили свои гнезда сороки: чтобы построить себе дом, они собирали сухие травинки, солому, а еще куски колючей проволоки и битого стекла. Дедушка показывал мне одно такое гнездо, и выглядело оно, мягко говоря, очень неуютно.
Я остановилась, глядя через поле на реку. Старая дедушкина лошадь по кличке Джимми подняла голову, протяжно фыркнула, выпустив облако пара, и продолжила щипать травку. Вокруг нее с гордым видом, как часовые, расхаживали две сороки. Подальше двигалась темная фигура кобылы, которую звали Милашкой. Было время, когда лошади на этом лугу, только завидев меня, сразу бежали навстречу, вытягивали морды, ища угощения и отталкивая друг друга, но эти две не проявили никакого интереса. Надеюсь, подумала я, что кто-то здесь за ними приглядывает.
Я дернула за проволоку ограды, но звук был совсем другой, ничего общего с до сих пор звучащим в ушах, назойливым мелодичным звуком, который мне послышался ночью и который я услышала в то утро много лет назад. На секунду мне показалось, что я вижу вдалеке фигуру еще одной лошади, поменьше, но моя лошадка-пони, на которой я училась ездить верхом в детстве, давно погибла. Еще один призрак, из тех, что я изо всех сил хотела забыть.
Я повернула к саду, окруженному стеной, где изо дня в день почти все свое время проводила бабушка, ковыряясь в нем с вечной тонкой сигаркой в уголке рта; длинные седые волосы ее всегда были безукоризненно зачесаны наверх. Своей прическе она уделяла внимания больше, чем всему остальному, а дом зарастал пылью все то время, пока она присутствовала в нем собственной персоной. Для работы в саду и на огороде бабушка всегда надевала широкие штаны, резиновые сапоги и рубаху цвета пейсли,[17] застегнутую на все пуговицы, с жемчужной брошкой под воротником. Когда я была маленькая, она иногда разрешала мне посидеть с ней, пока она работала, но после того, как я повыдергивала половину ее лекарственных трав, никогда больше не просила меня помочь; а я тогда была уверена, что орегано и тимьян — сорняки.
Чем бы бабушка ни занималась, она всегда держала себя с элегантным достоинством. Мне всегда казалось, что на всех нас она смотрит как бы слегка свысока, особенно это было заметно, когда она выпивала немного лишку бренди и давала всем почувствовать остроту своего язычка. Проявление нежности с ее стороны я видела только тогда, когда ей казалось, что они с дедушкой остались наедине. Я замечала то взгляд между ними, то ласковое касание рук, но в остальном, казалось, она всегда была полна решимости не допустить, чтобы остальные члены семейства увидели проявление нежности, словно она считала ее признаком слабости характера.
Сад совсем зарос, а местами, где цветы, не срезанные ласковой рукой, завяли и поникли, побурел; все остальное пространство заполонили буйные заросли сорняков. Там, где некогда цвели яркие и высокие, выше меня ростом, подсолнухи, остались только засохшие обрубки. Когда откроется их гостиница, все это можно было бы посадить заново, но я отчетливо понимала, что дядя с тетей захотят сломать стену и превратить сад в теннисный корт или бассейн, в общем, чтобы меньше было расходов и больше приманок для туристов. Я уже видела эти потные тела, попирающие землю, где у бабушки росли георгины. Я заглянула себе в душу в поисках хоть какого-то чувства. Бабуля умерла пять с лишним лет назад от рака легких, что, впрочем, неудивительно, и горько мне было не столько от ее утраты, сколько смотреть на то, как дедушка привыкает жить один.
По дорожке я пробралась к бельведеру, вскарабкалась по лестнице наверх и уселась на деревянную табуретку. Отсюда, заслоняемый настоящими джунглями сада, дом выглядел так, будто сама природа возвращает его в свое лоно. Казалось, еще мгновение, и земля со вздохом восстанет и потащит его вниз, погребая под себя. Башня одиноко торчала на фоне серого неба. В детстве я часто забиралась в нее на самый верх, представляя себя Рапунцелью[18] или другой принцессой, которую в ней заточили. Оттуда все было видно как на ладони, и я наблюдала за тем, что делают другие дети, чем занимается бабушка в саду, видела лошадей, укрывшихся от солнца или от ветра в тени деревьев, и дедушку, где бы он ни находился. Перестала я туда ходить, когда мне было тринадцать лет.
Вдруг длинные побеги травы закачались, и из зарослей показалась чья-то фигура. На мгновение мир передо мной качнулся, и я снова очутилась здесь, в саду, и вспомнила, что я не единственный человек на земле.
— Господи, как ты меня напугал!
Сэма, местного рабочего фермы, я не видела уже два года, да и тогда мы лишь приветствовали друг друга взмахом руки, когда он ехал мимо на своем квадроцикле вверх по склону холма к сараю для стрижки овец. Я встала и сделала несколько шагов навстречу. Он протянул мне контейнер с яйцами, шесть штук, коричневых и белых, одно в крапинку.
— О, спасибо, — сказала я и взяла у него коробку.
— Да, я еще хотел принести кролика, но Джош сказал, что вы вегетарианка.
— Да, это правда. Откуда у тебя кролик?
— Попался в ловушку для опоссума. Совсем еще свежий. Утром дело было.
Он сощурил глаза: странно, с чего бы это вегетарианка интересуется мертвым кроликом.
— А что?
— Ты-то сам что с ним сделаешь, съешь?
— Не-а. Повар из меня никакой. Шкуру еще снять могу, но все эти кости… Бр-р-р… Отдам собакам.
— Ну, так принеси, ладно. Я из него чучело сделаю.
— А-а, ну, хорошо. Да, Джош и об этом рассказывал. Значит, пошли по стопам старика? Странное занятие для девушки. Особенно вегетарианки.
— Может, присядешь?
Я указала на скамейку и села сама. Сэм остался стоять, переминаясь в резиновых сапогах с ноги на ногу. Волосы его стояли на голове почти дыбом, а закрепителем ему наверняка служил собственный пот и овечий жир. Клетчатая куртка была ему велика, сидела мешком и доставала до колен.
— Не-а, я уж лучше пойду, — сказал он. — Вы тут на этой скамейке похожи на даму из какого-нибудь старинного романа.
— Интересно, какого именно?
— Не знаю. Из «Таинственного сада»,[19] например. Вы такая старомодная с этой стрижкой. И платье тоже! Очень идет к резиновым сапожкам, просто здорово. Если б я не знал, что так не бывает, я бы подумал, что вы привидение, которое явилось из другого мира.
— Может, я и вправду привидение.
Сэм вынул кисет с табаком и молча принялся сворачивать сигарету.
— Ты вроде собирался идти.
— Ага, — лениво ответил он и отвернулся от ветра, прикуривая. — До встречи.
— Пока. Спасибо за яйца.
Он пошел прочь, а я смотрела на его удаляющуюся сгорбленную спину. Она скользила по заросшему саду, словно составляла с ним одно органическое целое. Я взвесила на руке коробку с яйцами и потрогала одно из них. Оно было еще теплое.
Сумки с припасами валялись на кухонных скамьях, там, где я оставила их накануне. Яйца напомнили мне о том, что с самого прибытия у меня маковой росинки во рту не было. В помещении было холодно и пусто. У миссис Грейнджер, экономки, давно бы уже пылала печь, и она носилась бы взад-вперед, словно на колесиках, что-то пекла бы, что-то готовила, чайник уже кипел бы. Она хорошо присматривала за дедушкой, благодаря ей дом сохранял тепло и казался гостеприимным, как раз в этом дедушка так остро нуждался. Иногда мне казалось, что миссис Грейнджер смахивает на дедушкину жену даже больше, чем сама бабушка. Конечно, после смерти бабушки экономка в доме для дедушки была огромным благом. Я подозревала, что к концу жизни она стала ему куда ближе, чем просто экономка, но когда завела об этом разговор с родными, все пришли в ужас. Когда он заболел, то позволял ей ухаживать за собой больше, чем всем нам, членам семьи, говорил, что ей за это не платят. В завещании дед оставил ей кругленькую сумму, и она призналась, что за тридцать лет жизни в деревне, где не на что тратить деньги, у нее скопились неплохие сбережения. Во всяком случае, у нее были свои дети, и они могли о ней позаботиться, в общем, она была в хороших руках, и мне не было нужды о ней беспокоиться. Впрочем, я все равно скучала по миссис Грейнджер, по маслянистому запаху овсяной каши, приготовленной в печи и подаваемой не с бастром,[20] а с кленовым сиропом.
Я положила яйца на широкую скамейку и неожиданно почувствовала, что умираю с голода. Сварив парочку, я тут же их съела, нигде не найдя тостера, прямо со свежим хлебом, убрала остальную еду и вернулась в свою комнату.
Диссертация лежала на письменном столе, словно насмехаясь надо мной. Я совершенно не укладывалась в график, мне и так было не по себе от мыслей о дедушкиной болезни и смерти, оттого что отношения с Хью предстали передо мной в истинном свете, в общем, на душе было тошно. Я собрала материалы, привела в порядок мысли; теперь излагать их на бумаге надо всерьез и без дураков, это должна быть совсем не та пачкотня, которую я продуцировала до сих пор.
Я села за письменный стол и принялась перечитывать свои заметки, как вдруг услышала внизу какой-то шум. Я вскочила и двинулась к лестнице гораздо смелее, чем это было ночью.
— Есть кто-нибудь? — послышался голос с кухни.
— Входите!
Я совсем не испугалась, но на этот раз решила: как только избавлюсь от посетителя, сразу запру дверь на замок.
Посередине кухни стоял Сэм с мешком в руке. Похоже, он не собирался двигаться дальше, и я оценила это. Резиновые сапоги он снял возле двери; сквозь один из толстых серых носков торчал большой палец.
— Извините, — сказал он, и хотя извиняться ему особых причин не было, мне это тоже понравилось. — Вот, принес вам кролика.
Он протянул мешок, и я его приняла.
— Спасибо.
Мы постояли, глядя друг на друга, потом он повернулся и двинулся к двери.
— Ладно, — сказал он. — Ну, так я пошел.
Теперь извиняться настала моя очередь.
— Я сейчас работаю.
Я качнула в руке мешок.
— А за кролика спасибо.
— Ага.
Он подошел к двери и повернул ко мне голову.
— Мне было очень жалко вашего дедушку. Всем нам. Хороший был человек.
— Спасибо. Да, хороший был человек.
— А что будет с фермой? Когда его не стало?
— А разве не знаешь?
Странно, что ему никто ничего не сказал.
— А что я должен знать?
— Ее продают. Каждый продает свою долю наследства. Я думала, Джошуа тебе сообщил.
Впрочем, и сам Джошуа, возможно, ничего не знал. Кажется, я вляпалась.
Сэм смотрел на меня и молчал, видно было, что он переваривает информацию. Дыхание со свистом вырывалось сквозь его зубы.
— Черт возьми, вот это да… — сказал он, взял сапоги и, не надевая, вышел, с силой хлопнув за собой дверью.
Большую, глубокую морозилку, чтобы положить туда мешок, я открыла с таким чувством, будто поднимала крышку гроба. С тех пор, как дедушка умер, никто в нее не заглядывал, и она была полна. Там были вперемешку навалены пакеты с мясом, с овощами, какие-то жидкости в контейнерах без этикеток, что-то похожее на компот. Я уже собиралась ее закрывать, как на глаза попалось две вещицы: это были прозрачные пластиковые коробки с нетронутыми замороженными животными. Трудно было сказать, какими именно, надо было размораживать: маленькие и пушистые, возможно, горностаи. Впрочем, тот, что побольше и потемней, возможно, опоссум, хотя мне было известно, что попавшиеся в капканы опоссумы, как правило, отсылаются моему дядюшке, хозяину компании по выделке шкурок этих животных.
Проходя по коридору, я мельком заглянула в гостиную. На боковом столике чего-то не хватало… да-да, не было гуйи. Я смотрела туда, куда сама недавно ее поставила, и пыталась вспомнить: может, это я ее куда-то перенесла, но так ничего и не вспомнила. Стул оставался на месте, где я его оставила, сняв чучело птицы с высокой полки; я подняла глаза: гуйя снова сидела на своей жердочке.
Интересно, кто это шутит тут со мной свои шуточки? Сэм? Не похоже, кажется, дальше кухни он проходить не осмеливается. Но если не Сэм, то кто же? Мне стало не по себе, словно, кроме меня, в доме есть кто-то еще и он наблюдает за мной.
— Кто здесь?
Голос мой прозвучал глухо, поглощенный толстым ковром на полу и тяжелыми шторами; никто не ответил. Тогда я вспомнила о ранее принятом решении, вернулась на кухню и закрыла дверь на ключ. Сэма нигде не было видно. Если кто и есть в доме, то он (или они) заперт вместе со мной. Все это довольно рискованно. Мобильной связи здесь нет, но, насколько мне известно, обычный телефон все еще работает. То есть, если понадобится помощь, всегда можно позвонить.
Вернувшись в свою комнату, я постаралась выбросить из головы мысли о непрошеном госте. Возможно, это и вправду был Сэм; подумал, что я хотела поставить птичку на место, но не достала. Решил помочь. Я снова взялась за свои заметки и попыталась с головой окунуться в мир Хитклиффа с Кэтрин,[21] чтобы избавиться от заполнившего голову тумана. Но потом подумала про кролика, которого принес Сэм. Интересно, большой или маленький? Самец или самка? В каком состоянии шкурка? Я уже так давно не набивала чучел, в последний раз это было, когда мне перевалило за двадцать. Представила себе дедушкин «зверинец», инструменты, лежащие там втуне. Вспомню ли я, как это делается? Прошло столько лет, помнят ли руки весь этот непростой процесс? Чтобы ответить на все эти вопросы, существовал только один способ.
Генри
Однажды он освежевал тигра. Для этой работы требовалось не менее пяти человек. Генри сделал надрезы в нужных местах, а четверо жилистых помощников из аборигенов растягивали окоченевшие конечности. Когда они с усилием откидывались назад, лица их ничего не выражали.
От тигра исходил запах тлена, мочи и яркого солнца. Генри работал не торопясь, стараясь не надрезать слишком глубоко, чтобы не испортить. Солнце так пекло, что казалось, волосы на затылке могут задымиться и вспыхнуть.
Остро заточенный и заново подправленный нож входил в мясо, как в масло; Генри резал, медленно отползая на коленках назад. Пока добрался до заднего прохода, руке уже было больно. Воздух вдруг наполнился резким зловонием, даже перехватило дыхание: должно быть, он проткнул мускусную железу.
От запаха кружилась голова. Даже мертвое, животное старалось пометить территорию, словно еще оставалось чуть-чуть живо. Он проверил, подняв его морду: голова откинулась назад, из открытой пасти безжизненно вывалился синий, как кусок тухлой ветчины, язык.
Разрезав туловище от гортани и до хвоста, он принялся за передние лапы, сначала обработал одну, потом другую. Теперь зверь лежал на спине, словно распятый. Мясо под складками было жилистое и темное, напоминающее по цвету интимное место женщины. Оно влажно блестело и чмокало, когда он отделял его от костей. Потом можно было снимать шкуру. Для этого потребовалась вся его сила. Шкура отделялась медленно, очень медленно; ассистенты его, что-то бормоча между собой, усердно тянули за кости. Ему еще не приходилось снимать шкуры с такого крупного животного, и по мере того, как работа продвигалась, странные мысли приходили ему в голову, например: «Ах, если бы меня видел сейчас отец». Еще бы, весь перепачканный, одежда в крови и в грязи, пропитанный запахом мускуса, он сдирает шкуру с великолепного зверя, далеко от тех гостиных, где подобие этого животного обретет новую жизнь, кстати, за неплохие денежки.
Он оголил живот тигра и с большой осторожностью, чтобы не повредить пальцев, лапы, все вместе они подняли тушу, и он стал стаскивать шкуру со спины. С головой надо было работать особенно аккуратно, и когда он, затаив дыхание, наклонился над зверем с ножом, казалось, время замедлило ход; он осторожно обрезал кожу вокруг глаз и ушных раковин, совсем близко к черепу, и, стараясь не торопиться, отделил все до конца.
Самое трудное было позади. Они обнажили кости и оставили мясо лежать в пыли; теперь шкуру осталось просолить, просушить, смазать терпентиновым маслом и усадить на место.
Он понимал, что шкура — это еще не тигр. В ней нет его истинной сущности, чувственной напряженности мышц живой твари. Но он максимально приблизился к истинному обладанию этим животным, к осязаемому напоминанию о том, что они неразрывно связаны, как охотник и его жертва, зверь и его хозяин. С этой шкурой тигр останется с ним навсегда.
Музей стоит на самом краю ботанического сада, настоящий Кью[22] в миниатюре, с фонтанами и прудами, где плавают и разгуливают вокруг откормленные утки. Здание построено из темно-серого камня в готическом стиле. Внутри всегда прохладно, даже холодно. Когда Герц приветствует его рукопожатием, он чувствует, как холодны его пальцы. Проводя экскурсию по музею, он рассказывает Генри, что в основе всей коллекции лежат кости птицы моа, огромной нелетающей птицы, которая вымерла еще до того, как ее смог увидеть европеец. Генри на минуту смущается, думает, что Герц имеет в виду, что под музеем в качестве фундамента буквально лежат спрессованные кости и перья; нет, конечно, он хочет сказать, что одно открытие на болоте дало столько костей исчезнувшей птицы, что, продав их, музей позволил себе купить все остальные экспонаты своей коллекции.
Этот небольшой музей производит на него впечатление. Особенно его восхищает птица моа: он смотрит на возвышающийся над ним огромный скелет, и у него руки чешутся поскорей найти такие кости для собственной коллекции. Посередине помещения преобладают такие скелеты, но в стеклянных витринах по периметру выставлены другие местные птицы, каких он прежде не видывал: ярко-зеленый попугай кеа; бескрыл со своими необычными пропорциями, тоненьким, как тростинка, клювом, которым он достает насекомых из поваленных стволов деревьев, и бесполезными зачаточными крылышками, торчащими по бокам, как прутики. Зато ноги у него толстые и крепкие, а яйца он несет невероятно большие. Ему попадается на глаза еще одна птичка размером с небольшую курицу и гладкая, как кошка, черного цвета, только кончики перышек на хвосте белые, и с дугой изогнутым клювом. Это гуйя. О, да, в этой стране ему много еще предстоит открыть для себя, и ему не терпится поскорее начать.
Покинув музей, он выходит на свежий воздух, и ему хочется прогуляться по саду, где уже прогуливались рука об руку парочки и вокруг старика на скамейке толпой собрались толстые утки. На мгновение ему кажется, что он в Гайд-парке или в Кенсингтон Гарденс, и он снимает шляпу перед проезжающей мимо коляской с дамами, катающимися без сопровождения кавалеров. По водам речки тихо скользит лодка, джентльмен на веслах, дама опустила руку в прохладную воду. Настроение сегодня гораздо лучше, он даже с удовольствием любуется яркими весенними цветами. Генри знает, что скоро уедет, оставит этот совершенно английский городок, поэтому пользуется моментом, чтобы насладиться броской красотой нарциссов и тюльпанов.
Впереди, не доехав до него, останавливается целая толпа велосипедистов. Когда он подходит, толпа распадается на отдельные личности; не меньше пятнадцати, прикидывает он, и все женщины. Они стоят, крепко вцепившись в велосипедные рули руками в перчатках, небрежно прислонив их к бедрам и о чем-то между собой разговаривая. Одеты все почти одинаково: шляпки канотье, блузки или жакетки с широкими рукавами. На большинстве юбки из плотной ткани, но несколько вырядились в широкие брюки.
А действительно, думает он, кто ж надевает юбку для езды на велосипеде? Неудобно и, вероятно, ветром продувает, подол волочится по земле, а то еще и в цепь может попасть. Ведь велосипед — не лошадь, дамское седло не поставишь. Однако на лицах проходящих мимо мужчин он видит легкое раздражение, а некоторые откровенно шокированы. Только вот непонятно, вызваны ли эти чувства тем, что женщины гуляют без сопровождения мужчин, их экстравагантными брюками или велосипедами; впрочем, последние, кажется, злят их больше всего.
Пощебетав между собой, сколько требовалось, дамы снова садятся в седла и трогаются в направлении города. Когда они проезжают мимо, взгляд Генри падает на лицо ближайшей: это Дора Коллинз.
«Мисс Коллинз!» — окликает он.
Она поворачивает голову, но руль ее начинает вилять, она не успевает ни улыбнуться, ни поприветствовать его и снова отворачивается, сосредоточившись на дороге.
Он быстро шагает по тенистым улицам за ними, стараясь не потерять из виду. Они исчезают вдали, однако он продолжает идти в надежде, что они снова где-нибудь остановятся. На большой площади перед кафедральным собором Генри снова видит тех, кого догонял: женщины положили велосипеды в кучу прямо на землю и разворачивают транспарант. Не замеченный ими, он ждет, что будет дальше, пока они не сбиваются в кучку. Две из них высоко поднимают развернутый транспарант. На нем написано: «Международный женский союз трезвости». Остальные надели какие-то кушаки и, оживленно щебеча, распределяют между собой пачки бумаг. Одна из них коротко что-то произносит, и все умолкают. Она стоит спиной к нему, и Генри не слышно, о чем она говорит, но дамы слушают внимательно, не отрывая от нее глаз, и энергично кивают. Без сомнения, она говорит о вреде алкоголя, убеждает их на благо всего человечества опустошить шкафы с напитками своих мужей.
Он уже хочет отвернуться, мисс Коллинз разочаровала его, как вдруг некоторые из дам начинают подходить к собравшимся зевакам и совать им в руки свои листки. Генри ждет, интересно, какая будет реакция. Мужчины вежливо отклоняют листовки, а один демонстративно рвет пополам и шагает прочь, обрывки бумаги неприкаянно порхают на землю, и покрасневшая агитаторша наклоняется, чтобы поднять их. Остальные мужчины остаются на месте, слушают, кивают, но Генри подозревает, что они это делают ради жен, вцепившихся им в локти и преданно поглядывающих на своих мужей, словно ожидая указаний, как надо на все это реагировать.
Любопытство пересиливает, и он подходит к толпе. Пробегает взглядом по лицам и видит Дору; она говорит что-то пожилой женщине, но та в ответ только качает головой. Похоже, Дора о чем-то ее просит; когда Генри подходит ближе, старуха поднимает руку, снова качает головой и отворачивается.
— Мисс Коллинз, — говорит он.
Дора поднимает глаза, снова опускает и делает шаг назад; у нее такой вид, будто он застал ее за каким-то стыдным занятием.
— Я… вы меня стесняетесь? — спрашивает он.
Она, кажется, смиряется и готова говорить с ним, в лице ее появляется твердость, она смотрит на него даже с некоторым вызовом. Непокорный белокурый локон падает ей на глаза, и рукой в перчатке она отбрасывает его.
— Нисколько, мистер Саммерс. Я очень рада снова вас видеть.
Голос ее выдает, что она лжет.
— А позвольте спросить, чем это вы тут занимаетесь? — говорит он.
— Ничем мы таким тут не занимаемся, сэр. Мы обращаемся к людям с петицией.
— О чем же?
Он протягивает руку, и она с неохотой дает ему листовку.
Интересно. Он смотрит на листок бумаги с отпечатанным в типографии текстом и читает заголовок:
ДЕСЯТЬ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ДЛЯ ЖЕНЩИН.
Бумагу, пачку которой она держит на изгибе руки, украшают четыре неразборчивые подписи.
— Так, значит, вы не призываете к трезвости? Ничего не понимаю. Но я же видел ваш транспарант.
— А разве непонятно, что одно вытекает из другого? Миссис Джонсон считает, что как только женщины получат право голоса, правительство предпримет шаги, чтобы запретить продажу спиртных напитков, которые разрушают наши семьи.
— Значит, вы не считаете, что женщины должны иметь право голоса сами по себе, независимо от посторонних причин? Но лишь потому, что спиртные напитки должны быть запрещены, и иначе эту проблему не решить?
— Нет, считаю.
Она запинается, и на лице ее проступает неуверенность.
— То есть… — пытается продолжить она, но снова спотыкается и умолкает.
— Если честно, трезвость мало меня интересует. Для меня главное — избирательное право.
Генри усмехается.
— Да вы не смущайтесь, мисс Коллинз. Я не собираюсь вас тут допрашивать. Я желаю вам только добра. Это прекрасная цель, и лично я не вижу причин, почему женщины должны быть лишены избирательного права. А мужчина, который с этим не согласен, скотина. Может быть, вас ждет успех, и вы преподадите хороший урок своим английским сестрам по борьбе.
— Вы надо мной смеетесь? — спрашивает она. — А мы говорим и действуем совершенно серьезно. У миссис Джонсон большие связи. В парламенте. Ее обязательно услышат.
— А которая она, эта миссис Джонсон?
Он поворачивает голову вслед за ее указующим пальчиком и видит полную женщину, где-то под сорок, оживленно разговаривающую с тремя из тех, кто помоложе.
— Да. И в данный момент я ее поддерживаю. Они с мужем пригласили меня участвовать, потому что отцу неожиданно надо было поехать в деревню.
— Интересно, а почему вы с ним не поехали?
Она вздыхает.
— Я упросила его, и он позволил остаться. Неохотно, конечно, и совсем ненадолго. В конце следующей недели он ждет меня там.
— Мисс Коллинз, вы простите меня, — говорит Генри, — но мне кажется, вам сейчас неприятно меня видеть. Когда вчера мы с вами познакомились, я подумал, что мы с вами стали друзьями, и мне очень жаль, если я как-то обидел вас. Кажется, вы совсем изменились ко мне.
— Мистер Саммерс, разве я сказала вам что-нибудь грубое?
— Нет, конечно.
— Когда мы встретились с вами вчера вечером на лестнице, я еще издалека, не видя вас, ощутила ваш запах. От вас так и несло бренди, и это было ужасно. Вы споткнулись на ступеньках и сами смутились. И меня тоже смутили. Я, конечно, не столь пылкая поклонница борьбы за трезвый образ жизни, но этого было достаточно, чтобы я изменила о вас мнение.
— А ваш отец, ведь он уехал так неожиданно…
— О, на его счет вам нечего беспокоиться, — говорит она. — Я ему ничего не сказала. Да он и сам любит выпить. А теперь простите меня, мне нужно работать.
Она едва заметно кивает и поворачивается к нему спиной.
Генри стоит как громом пораженный. Мгновение он даже не помнит, где он и что должен делать. Но потом улыбается. Англичанка ни за что не осмелится так разговаривать с джентльменом. Ему приходит в голову, что эту страну, пожалуй, можно любить.
Розмари
Каникулы в Сорочьей усадьбе мне всегда вспоминаются в ярких, насыщенных красках, как в любительских фильмах, которые дедушка снимал на кинопленке супер-восемь. Я вижу себя со стороны: худенькая девчушка с мальчишеской стрижкой, кривыми передними зубами и сплошь усыпанная веснушками; глядя прямо в объектив камеры, она широко улыбается. За мной всюду ходит хвостом Чарли. Или еще — может быть, это тоже было на пленке — верхом на своих маленьких лошадках без седел, мы спускаемся к реке, лица наши сосредоточенны. Вспоминая те счастливые дни, я не слышу звуков, только проектор негромко трещит, и все происходит в слегка ускоренном темпе; глядя в камеру, мы машем руками, и они становятся смазанными пятнами.
В Сорочьей усадьбе тогда вечно было полно народу, в том числе и детей; они бегали всюду в одних купальных костюмах, катались с пластмассовых горок, стоящих на лужайке; то и дело праздновались чьи-то дни рождения, и все наряжались в остроконечные шляпы и дудели в дудки. Взрослые в шортах и сандалиях на босу ногу, с большими бутылками пива в руках. Пикники и прогулки верхом, скачущие кругом собаки, костры. Частенько всем семейством мы отправлялись в известняковые пещеры в холмах. Нам запрещали играть в них, потому что сверху всегда мог упасть какой-нибудь камень, а нам казалось, что где-то там, внутри, лежат спрятанные сокровища. В те дни дедушка всегда был с нами, водил туда-сюда объективом кинокамеры, снимал, но сам никогда в кадр не попадал. Возможно, он смотрел на все как бы через видоискатель, а сам лично уже перестал что-либо чувствовать, поэтому и воспоминания его всегда были приторны и чрезмерно красочны, все полутона и серые краски были безжалостно вычеркнуты. Понятно, почему я любила вспоминать свое детство именно таким.
В то лето, когда дедушка начал обучать меня искусству таксидермии, все уже было не совсем так, яркие краски смягчились и потускнели. Почти все время теперь я проводила в доме, искала какой-нибудь темный уголок и предавалась новому занятию. Набивка чучел стала моей страстью, объяснить которую я не могла. Все началось с того, что к нам в курятник случайно залетела овсянка. Я загнала ее в одну из клеток, где куры высиживали яйца, хотела поймать и отпустить. Намерение благородное, но вдруг меня охватила странная дрожь, какую, наверное, испытывает кошка, когда видит свою жертву, непроизвольная, всем телом. Одной рукой я нащупала и поймала овсянку, но когда вытащила и открыла ладонь, птичка лежала, сжав крошечные, похожие на нераспустившиеся бутончики лапки, и глазки ее были закрыты. Она умерла у меня в руке от страха.
Разогнав кошек, я похоронила птичку в саду и после этого только и думала о том, что я виновата в ее смерти, хотя всего лишь старалась помочь бедняжке. Страстное желание сблизиться с ней, вызвать в ней ответное чувство стало, в конце концов, причиной ее гибели.
Если б я умела тогда набивать чучела, скорей всего, я бы с ней это и сделала, и птичка осталась бы со мной навсегда, но я даже дедушке не рассказала, что произошло, мне было слишком стыдно.
Однажды летом, когда мне было одиннадцать лет, я попросила деда рассказать про странную птицу в гостиной, ту самую, с кривым клювом, красной бородкой и белыми кончиками хвостовых перьев.
Дедушка повел меня в библиотеку и достал толстую, покрытую пылью книгу, она называлась «Птицы Новой Зеландии», автор Уолтер Буллер. В ней было множество подробнейших рисунков и богатых цветных иллюстраций: птичьи пары выглядели на них, как живые. Он нашел нужную страницу и протянул книгу мне.
— Это гуйя, — сказал он. — Теперь ее не увидишь даже в зоопарке, она вымерла.
— Как динозавры?
— Точно. С той разницей, что в этом виноваты мы.
— Мы с тобой?
Смущение и чувство вины охватило меня, но тут же прошло.
— Нет, вообще люди. Понимаешь, когда в Новую Зеландию прибыли европейские поселенцы, они привезли с собой и коллекционеров, людей, которые ловят птиц, убивают и делают из них чучела, как и мы с тобой.
— Но мы же с тобой не убиваем просто, чтобы сделать чучело.
— Да. Но эти люди везут чучела местных птиц в Англию, каких продают в музеи, каких — в частные коллекции, да и здесь тоже находятся покупатели. Знаешь, что заявил однажды автор этой книги, Буллер? Мол, поскольку гуйя вымирает, он должен поймать и убить этих птиц как можно больше, пока они совсем не исчезли.
Даже в том возрасте я смогла понять порочность такой логики.
— Но это же глупо, — сказала я.
— Да, но не забывай, тогда было совсем другое время. Люди иначе представляли себе, что такое охрана природы. Они это делали во имя науки. Считали, что делают важное дело… в каком-то смысле так оно и есть. Но последний гвоздь в гроб бедняжки гуйи загнал один из вождей маори, когда подарил очень дорогое перо гуйи посетившему нашу страну принцу Уэльскому, и тот воткнул его себе в шляпу. И сразу всем захотелось носить в шляпе такое перо; цена гуйи резко подскочила, и всякий, кто убивал эту птицу, мог рассчитывать на большие деньги. И получал их. Последние экземпляры погибли в начале века.
Я посмотрела на гуйю, стоящую на книжном шкафу, и мне вдруг стало стыдно.
— А эта у нас откуда?
Дедушка глубоко вздохнул.
— Эту поймал твой прапрадедушка, мой дед. Еще раз говорю, не забывай, что тогда все было по-другому. Откуда ему было знать, что они вымрут? А что касается меня, то я рад, что он поймал одну из них, чтобы она всегда была в нашей семье и напоминала о том, как хрупка жизнь на земле. И чтобы мы всегда помнили о гуйе. Он сделал все, чтобы она жила вечно. Мне приятно думать, что у него все же была совесть, не то что у других коллекционеров.
Три года подряд в каждые школьные каникулы мы с дедушкой вместе работали. Все свое свободное время я проводила с ним, даже перестала кататься верхом, и моя лошадка растолстела на сочной весенней травке. Оглядываясь назад, я не могу не удивляться: ведь все могло быть по-другому, если бы я уделяла ей больше внимания, почаще бы на ней выезжала, если бы дедушка не занимался со мной так много и обращал бы больше внимания на то, чем заняты остальные. В смерти Тесс дедушка, думаю, винил самого себя, считал, что он плохо за ней смотрел. После этого случая гостей в доме поубавилось; дети повырастали, каждый пошел своей дорогой, и было нелегко снова чувствовать себя там так уютно, как прежде. Я убедила себя в том, что мальчики теперь интересуют меня больше, чем лошади, что я хочу проводить лето с друзьями, а не в огромном доме, занимаясь набивкой чучел в компании старика и нескольких собак. Я скучала по дому, очень скучала, но все было уже не то.
На следующий день, уже к вечеру, я стояла в красной комнате и, глядя в высокие стрельчатые окна, наблюдала, как удлиняются, закрывая собой ближнее пастбище, тени. На горизонте, пробиваясь сквозь ветки деревьев, пылало солнце. Казалось, стены дома вокруг меня дышат, и я представляла себе дедушку, каким бы он сам хотел остаться у меня в памяти: в своей любимой серой шерстяной фуфайке и резиновых сапогах; он собирает грецкие орехи (их много падало с дерева, растущего под окном), время от времени выпрямляется, чтобы кинуть мне орех, и, обнажая вставные зубы, хрипло смеется.
Когда я слушала тишину дома, когда стояла рядом с ним, в тени или на солнце, мне всегда становилось удивительно покойно на душе. Дедушкино присутствие я ощущала в каждой комнате. Как только архитекторы и строители закончат свое дело, он умрет окончательно. Особенно остро его присутствие чувствовалось в «зверинце». Накануне вечером, снимая шкурку с кролика, обрабатывая ее солью и раскладывая для сушки, я все время чувствовала, что он где-то рядом, что он дышит мне в ухо и направляет движение моих рук. Во время работы я разговаривала с ним, приводила тысячи поводов своего приезда, уверяла, что не хочу обновлять этот дом и навсегда изгнать отсюда его дух.
Грецкие орехи теперь никто не собирал, они валялись кучками в траве, отсыревая в вечерних сумерках. По гравию дорожки на квадроцикле медленно катил Сэм. Должно быть, он заметил меня, потому что остановился и помахал рукой. Повинуясь внезапному чувству, я открыла окно и высунулась так, что чуть не вывалилась.
— Эй, — закричала я, — ты во сколько кончаешь работу?
— Скоро! — прокричал он в ответ.
— Заходи, чего-нибудь выпьем!
Он поднял оба больших пальца вверх и дал газу. И через несколько секунд пропал за поворотом дороги, а вместе с ним и две собаки. Вдалеке из печных труб деревенских домиков поднимался дым, смешиваясь с вечерним туманом.
Я вернулась к письменному столу и с удовлетворением посмотрела на то, что успела сделать. От темы я отклонилась, но мне не хотелось прерывать работы, и, подняв голову от стола в следующий раз, с удивлением увидела, что в комнате становится темно. Ну, для одного дня вполне достаточно. Я включила принтер и распечатала все, что наработала, и теперь еще оставалось время, чтобы принять душ и приодеться. Успела как раз, когда раздался звонок в парадную дверь.
— Пробовал зайти через кухню, да там было закрыто, — хмуря брови, словно это задело его лично, сказал Сэм.
— Да, извини. Это я закрыла, так, на всякий случай.
Он криво усмехнулся.
— Сразу видно, городская. Здесь у нас никто не запирает дверей.
— Кто знает, может, и стоило бы.
Кажется, на щеках моих проступил румянец.
— Ладно, не обижайтесь.
Волосы его были влажные, от него пахло дезодорантом. Вместо свитера он надел фланелевую рубашку, а вместо резиновых сапог — кеды.
Мы уселись за круглый кухонный стол, который стоял в эркере. Я налила ему пива из бутылки, обнаруженной в холодильнике, а себе красного вина, которое нашла в кладовке.
Тени постепенно густели, а с последним лучом солнца совсем исчезли, а мы с Сэмом все сидели и болтали о том о сем. Солнце село, и нежно-голубое небо окрасилось золотом и багрянцем. В комнате становилось все темней, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы включить свет. В окне за его спиной видно было, как сороки совершают по лужайке последнюю прогулку, словно они наблюдали за домом и чего-то ждали. Когда мы умолкали, наступала полная тишина, и бормотание холодильника лишь подчеркивало ее.
Стаканы опустели, и я налила по второй. Мы рассказывали друг другу о себе, и мне было даже интересно. Он работает здесь уже три года и стал правой рукой Джоша, у него теперь больше обязанностей, но и свободы больше. Один зуб у него сломан, упал с мопеда, и когда он умолкал, видно было, как кончиком языка он ощупывает дырку. Я в свою очередь сообщила, что приехала поработать над диссертацией, но о чем моя диссертация, он не спросил, поэтому я добавила, что просто хочу пожить здесь, пока дом еще не перестроили, вспомнить время, когда дедушка был еще жив.
— Понимаю, мне бы тоже на вашем месте захотелось бы приехать, — сказал он. — Перемены всегда переносишь трудно.
Я спросила, говорил ли он с Джошем о продаже фермы, знает ли об этом Джош.
— Знает. И радости для него от этого тоже мало.
— И что он сказал?
— Да так, ничего особенного.
Но по лицу его я видела, что это не так, что на самом деле управляющий наговорил много. Еще бы, он начинал здесь двадцать с лишним лет назад простым рабочим, проработал на этой ферме всю свою сознательную жизнь, здесь у него выросли дети. Что станет с его семьей, когда продадут ферму? Я боялась ненароком столкнуться с Джошем, боялась встретить его осуждающий взгляд. Наверняка он думает, что во всем виновата я.
— Думаю, скоро останусь без работы.
Лицо Сэма снова помрачнело, таким я видела его вчера.
— Вовсе не обязательно, — сказала я. — Тот, кто купит ферму, скорей всего, оставит все, как было.
— Да ладно, пусть будет, как будет, — сказал он и осушил свой наполовину полный стакан. — Я еще молодой. Не собираюсь оставаться здесь навсегда.
— А кстати, сколько тебе лет?
— Двадцать четыре.
Я улыбнулась и молча наполнила его стакан. Он уже немного опьянел — на небритых щеках появилось два розовых пятна, — да и я тоже. Он уже не сидел, как раньше, напряженно подавшись вперед и ссутулив плечи, а откинулся назад и лениво разглядывал меня, словно прикидывал, чем закончится наша вечеринка.
— Что-то я проголодалась, надо что-нибудь приготовить, — сказала я и встала из-за стола. — Ты не против?
Он кивнул, и я засуетилась вокруг плиты, чтобы приготовить макароны с простым соусом из магазина. Я снова забыла сегодня про еду и с утра ничего не ела. За домом совсем стало темно, вершины холмов утонули во мраке, но небо над ними все еще было багровым. Стоя к Сэму спиной у плиты, я чувствовала на себе его глаза, но всякий раз, встречаясь со мной взглядом, он отворачивался, смотрел в окно или оглядывал комнату, делая вид, что его интересует пылящаяся над камином старая дедушкина коллекция заварочных чайников.
Ели мы оба жадно, видно было, что он тоже голодный. На пустой желудок вино ударило мне в голову. Сэм крепко держал вилку в руке и наматывал на нее спагетти так, будто мешал в кастрюле. Пока не съели все, оба не сказали ни слова.
— Неплохо, даже без мяса.
Сэм откинулся на спинку стула и заложил руки за голову.
— Но если всегда так питаться, маловато будет. Я бы умер с голода.
— Не сомневаюсь, — отозвалась я.
Я убрала со стола миски и сунула их в раковину.
— Слушай, хочешь посмотреть на своего кролика? Я возвращаю его к новой жизни.
— Это кто, самец или самка? Я не посмотрел.
— Самка, и очень красивая.
Кивком головы я пригласила его следовать за мной и вышла в коридор. Он шел, не отставая, дышал в спину. Интересно, хорошо ли он знает дом, был ли когда-нибудь наверху, насколько близко знал дедушку. Впрочем, что-то мешало меня спросить, я не хотела, чтобы он понял это как приглашение. Когда я открыла дверь в «зверинец», он протяжно присвистнул.
— Так, значит, ты никогда не видел этой коллекции?
— Нет. Господи, я слыхал про нее, но не думал, что она такая… Потрясающе…
Он пошел по комнате, то и дело протягивая руку и трогая по дороге то одно, то другое. Потом вдруг остановился и посмотрел на меня.
— Извините, а это можно трогать руками?
— Ничего, можно. Это не музей. Пока еще.
— Что значит — пока еще?
— Ничего, не обращай внимания. Теперь это все мое.
— Серьезно? Так это вы — та самая девочка, которая любит мастерить чучела?
— Набивать… правильнее — «набивать чучела». Девочка, которая любит набивать чучела.
Он громко расхохотался, я тоже.
— Вы от этого, наверное, кайф ловите, — сказал он.
В комнате было темно; за нашим разговором молча наблюдали неподвижные чучела животных. Шкурка кролика сохла на подоконнике, там, где я ее вчера оставила. Кристаллики соли были похожи на иней. Я включила свет, и Сэм наклонился поближе, чтобы получше разглядеть.
— Отличная работа, — сказал он и погладил шерстку. — Мягкая. А разве это не странно, что вы мастерите… ой, извините, набиваете чучела, а сами не едите мяса?
— Как бы тебе объяснить… Тут есть свои причины, конечно, но долго рассказывать, ночи не хватит.
Он улыбнулся.
— Может, потом когда-нибудь.
Пока он оглядывался, стоя на одном месте, я вспомнила про птицу в гостиной.
— Кстати, это ты поставил обратно на полку гуйю?
— Гуйю? Где?
Он повернулся вокруг собственной оси, осматривая комнату.
— А разве они не вымерли? Интересно посмотреть, какие они были.
— Она не здесь, в другой комнате. Я думала, это твоя работа, ну, когда ты приносил кролика.
— Не-а. А что?
— Но кто-то же это сделал. Это меня немного тревожит. Кто-то заходил в дом.
По виду его нельзя было сказать, что он за меня очень обеспокоился.
— Да не волнуйтесь вы. Это, наверно, Элси или…
— Кто такая Элси?
— Джошова хозяйка. Занятная баба, скажу я вам. Настоящая мегера. Думаю, Джош сам ее боится. А может, и сам Джош. В общем, кто-нибудь из них, захотел для вас немного прибраться. Вы ведь не одна любите этот дом, есть и другие.
Странные вещи он говорит, подумала я, но промолчала.
— Ладно, возможно, у меня мания преследования. Городская, как ты говоришь.
— Наверно.
Похоже, эта тема его не интересовала, он явно не хотел ее продолжать.
— Интересно, а из человека вы могли бы сделать чучело?
В комнате становилось невыносимо холодно, но Сэм, похоже, этого не замечал.
— Можно было бы попробовать. Впрочем, смотрелось бы не очень-то. Без меха. В голом виде, одна кожа, странновато как-то.
— М-м-м… Думаю, стоило бы попробовать. И стать бессмертным.
— Можно и так сказать… Вообще-то лучше завещать свое тело для пластинации.
— А что это такое?
— Что-то типа бальзамирования. Такое делают в Германии. Я сама подумывала об этом. Почему бы и нет? Я делаю это с животными, а почему бы не сделать это со мной?
— А потом что? Вас станут показывать публике?
— Да, верно. Выставят в музее.
— Голую? — он взметнул брови.
— Не знаю. Может быть.
— Интересно было бы посмотреть…
— Пожалуйста.
О чем я думала? Ни о чем не думала. Нет, думала, конечно. Хотелось вычеркнуть из головы мысли о Хью, как и прежде, когда хотелось вычеркнуть из головы все мысли об очередной неудавшейся любви. А для этого нужен хороший секс. Горячее, крепкое мужское тело, непохожее на пухлое, дряблое тело моего последнего любовника. Нужен мужчина, о котором знаешь, что к нему не возникнет никакого чувства.
Сэм придвинулся ко мне вплотную, но голову откинул назад, чтобы видеть мое лицо. Я ободряюще улыбнулась — ему надо было ободряюще улыбнуться. Губы у него были шершавые и горячие, а рука, обнявшая меня за шею, вся в мозолях. Я сунула руки ему под рубашку и пальцами провела по его гладкой пояснице. Было такое чувство, будто когда мы с ним еще встретились в саду, уже знали, чем это все кончится.
— Ты действительно этого хочешь? — спросил он.
— М-м… да, — кивнула я, и он принял это за сигнал немедленно продолжать.
Губы его дрожали, прижимаясь к моим, пока он неуклюже возился с пуговицами на моей блузке. На секунду он отпрянул, чтобы посмотреть, как у него получается.
— О, господи…
Он замер, уставившись на татуировку у меня под блузкой: над каждой грудью парит маленькая птичка, а между ними по воздуху плывет ленточка.
— Это что у тебя, наколка?
Он продолжил расстегивать блузку, и она свалилась с моих плеч.
— Мама моя, сколько их у тебя?
Теперь я, голая по пояс, сидела на верстаке, куда он посадил меня, как куклу. На мне оставался только лифчик, но у него была возможность разглядеть большинство татуировок, в том числе и самую новую, мою сороку, все еще красную и припухшую. Он обошел вокруг стола, чтобы посмотреть на мою спину. Еще одна пара глаз в комнате, где отовсюду на тебя смотрят звери. Сама я теперь уставилась на оскалившую зубы лисицу.
Не слезая со стола, я выпрямилась. Снова ритуал, который я исполняла с мужчинами много раз: удивление, желание и, наконец, горячая сексуальная страсть. Но в такой странной обстановке у меня еще ни с кем не было.
— Всего десять, — ответила я. — Пока. По одной на каждое убийство.
Он нерешительно засмеялся и, сделав полный круг, снова оказался передо мной. Пальцем провел по цветку георгина на левом плече, коснулся русалки на правой руке. В ледяном воздухе комнаты кожа моя покрылась пупырышками.
— Пошли отсюда, — вдруг сказал он и накинул мне на плечи блузку. — Пойдем в гостиную, разожжем камин. Ты же вся замерзла.
Момент страсти прошел, теперь зубы мои отбивали дробь. Я кивнула и спустилась на пол.
Мы пошли в гостиную, он впереди, я за ним, там я устроилась на потертый диван, а он сноровисто развел огонь. Пружины дивана впились в бедра, от него пахло псиной. Но мне было все равно. Меня охватило знакомое чувство дома со всеми его запахами; я сняла со спинки дивана старое вязаное одеяло, завернулась в него и стала ждать, когда в комнате станет тепло.
Я думала про Хью, про то, что он сейчас сидит дома с женой. Они укладывают детей в постель, остаются одни, устраиваются на диване с бокалами вина, а может, книжками в руках. Наступает уютная тишина, какая бывает между людьми только после нескольких лет совместной жизни. Я смотрела на спину Сэма, согнувшуюся над камином — он подкладывал кусочки растопки, — и на минуту представила, как бы жила с ним в деревне. Он уходил бы каждый день на полевые работы, я бы оставалась дома с детьми и передавала бы им фамильное искусство Саммерсов, искусство таксидермии. Может быть, даже в этом доме, если б можно было уговорить родственников и они разрешили бы нам здесь жить. Я бы восстановила бабушкин сад, огород, стала бы выращивать овощи.
Чушь собачья. Но я мысленно проделывала это с каждым мужчиной, с которым у меня был даже мимолетный роман: спала с ним, выходила за него замуж, разводилась, и все за одну ночь.
— Зачем тебе наколки? Ведь ты, похоже, приличная девушка.
Сэм закончил возиться с камином, пламя разгорелось, и он сидел на корточках, протянув к нему руки.
— А что, разве приличным девушкам нельзя носить татуировку?
— Не знаю. Я думал, что она бывает только у байкеров. А у тебя такая красивая стрижка, и сама ты красивая, а тут на тебе — наколка. Странно как-то.
— Ничего странного. Сейчас многие девушки делают татуировки.
— Да, может, какую-нибудь маленькую, где-нибудь на лодыжке или над попкой, но не на всю же грудь, да еще и на руках.
— Каждый день узнаешь что-нибудь новенькое, разве нет, деревенский ты парнишка?
— Да ладно. У тебя есть еще что-нибудь выпить?
— Подожди минутку.
Я встала и подошла к дедушкиному шкафу с напитками. В нем всегда хранилось приличное количество джина и бренди, а в самой глубине стояла старая бутылка виски.
— В самый раз, — сказала я.
И, отвернув крышку, сделала большой глоток. Огонь побежал у меня по жилам. Сэм сел на диван рядом со мной и взял у меня бутылку.
— Покажи еще раз свою сороку на руке.
Я обнажила плечо.
— Похоже, недавно делали. И кого это ты убила?
Он дотронулся до татуировки, и мне даже стало немного больно.
Я ничего не сказала, просто убрала руку. В том месте, к которому он прикоснулся, пульсировала кровь.
— Наверно, дедушку, признавайся! Раз — печальный…
— Ишь ты, догадливый.
Лицо его потемнело, и он снова отхлебнул из бутылки.
— Хочешь сказать, для деревенщины, да? Ну, давай, говори.
— Я не это имела в виду.
— А я не такой глупый, понятно? Я много читал. Может, даже больше, чем ты со своим высшим образованием. Давай, спроси меня, сколько книжек я прочитал.
Начинается, со вздохом подумала я. Этого только не хватало.
— Тысячи, — сказал он и снова сделал глоток.
Я не знала, что говорить, боялась, собьюсь на покровительственный тон, поэтому молча взяла у него бутылку.
— Да, да, я уже опьянел. Ну и что? До дому ехать недалеко. Из моих знакомых всего только трое погибло за рулем по пьяни.
Он засмеялся.
— Ты это серьезно? О, господи.
А он все хохотал, словно нет ничего на свете смешнее, когда погибают друзья. Хохотал истерически: ясно было — он уже на рогах. Впрочем, увидев мое испуганное лицо, он сразу умолк, хотя, скорей всего, именно этого и добивался. Теперь он смотрел на меня, как и два дня назад, когда его ветром сдуло из дома.
— Разве ты можешь понять, зараза, что такое жить в деревне? У тебя там в городе и у всех твоих гребаных друзей есть такси. Для вас работают театры и картинные галереи. А у нас что? Пивная. Или вечеринки. На которые ехать надо за несколько миль от дома.
Я крепко вцепилась в горлышко бутылки.
— Извини.
Я положила руку на его рукав, стараясь его успокоить, и он озадаченно уставился на нее.
— Не веришь, спроси Джоша. Он прожил здесь целых… сколько, двадцать лет? Он тут совсем свихнулся, это сразу видно. Думаю, его спасло только то, что он женился и нарожал детей. Здесь у нас так одиноко, так хреново, не с кем даже словом перекинуться.
Про Джоша мне говорить не хотелось.
— Значит, думаешь, долго здесь не протянешь?
— Не знаю. А что мне еще делать?
Я передала ему бутылку, он сделал еще глоток и уставился на огонь.
— Я понимаю, что значит терять людей, — сказала я.
— Да ладно, чушь это все, извини. Джош рассказывал мне про… ну, ты сама знаешь, про кого.
— Джош?
Интересно, много ли он наговорил, во многом ли он признался своему наемному работнику? Но мне очень не хотелось искать ответа на этот вопрос.
— Давай поиграем, — сказал он. — Давай на одну ночь забудем, кто мы такие, представим себе, что я — не какой-нибудь идиот-деревенщина, а ты не самодовольная богатая сучка из большого города.
Я рассмеялась.
— А кто же тогда?
— Ну, не знаю. Равные.
— Ты думаешь, что мы не равны?
— Это ты так думаешь.
— Это неправда.
— Послушай, ты просто подыграй, и все, договорились?
Он взял меня за руку и изящным жестом поднес мои пальцы к губам.
В комнате уже было довольно тепло. Я сбросила одеяло.
— Сделаешь для меня, о чем я тебя попрошу?
— Смотря о чем.
— Разденься, чтобы я на тебя посмотрел. На твои татуировки.
Наверно, это тоже входило в нашу игру, по крайней мере, я в этом себя убедила. Не думаю, что мне очень хотелось предстать голой перед этим парнем. Но образ Хью вместе с его женой все еще маячил у меня в голове, и стоило мне представить лицо моего бывшего любовника, я уже знала, что делать.
Я сбросила туфли и стянула колготки. Нет, не для того, чтобы устроить для него сеанс стриптиза. Потом сняла юбку, не торопясь, расстегнула пуговицы рубашки и осталась в одном белье.
В отсветах каминного пламени я медленно повернулась перед ним, все время ощущая на себе его взгляд. От камина шло тепло, а с той стороны, которая оставалась в тени, тянуло прохладой, и я ощущала себя планетой Земля, которая вращается вокруг Солнца. Тишина нарушалась лишь треском поленьев в камине и нашим дыханием. Он изучал мое тело, как делал совсем недавно на кухне, а я демонстрировала свое обнаженное тело перед едва знакомым мне человеком. Он попросил рассказать, по какому поводу я делала каждую татуировку, но я отказалась. Он не настаивал.
Дом простонал и стряхнул с себя призрачную кисею музыки, звучавшей в моих снах. Серые пальцы дневного света провели по краям штор. Стеганое одеяло гагачьего пуха ночью сползло и упало на пол, но мне было тепло: тело, лежащее рядом, пылало, как печка.
Похмелье. Пить хочется до смерти. Я посмотрела на Сэма, увидела татуировку на его лопатке, которую он с гордостью показал мне ночью, как некий символ, связывающий его со мной, уравнивающий нас. Она была некрасивая, сделанная неумелой рукой, какой-то непонятный знак, смысл которого он не смог растолковать мне, как и объяснить, что он значит для него лично. Линии успели расплыться, черный цвет позеленел, а ему было трын-трава. Когда я сказала ему и о цвете, и о корявых линиях и формах, он пожал плечами и пробурчал, что ему все равно не видно, поэтому, какая разница?
Зато приятно было смотреть на упругие мышцы под изуродованной кожей, так не похоже на рыхлый лунный ландшафт спины, который я созерцала у Хью. Меня подташнивало. И все же я очень скучала по этой спине. Господи, что же я делаю?
Я перевернулась и посмотрела в другую сторону. Что-то цепляло меня в той ситуации, в которой я оказалась. Не вполне дежавю, но мне было известно, что я не единственная из Саммерсов, кто получал такую «помощь» в постели. И ничего хорошего в этом нет. История, кажется, повторяется, но совсем неожиданным образом.
Сэм пошевелился, протянул ко мне руку, втащил мое хрупкое тело к себе между ног и уложил на себя. Как грелку.
— Который час? — пробормотал он мне в прическу.
— Семь.
— Черт!
Он сбросил меня и скатился с кровати.
— Мне надо бежать.
Быстро оделся, потом посмотрел на меня.
— Ты как?
— Худо. Надралась как свинья.
— Сейчас принесу попить.
Он вышел, скоро вернулся с большим стаканом воды и поставил его на прикроватный столик. Присел рядом.
— Выпей. Сразу станет лучше. Скоро вернусь проведать.
Этого я и боялась.
— Не надо, Сэм. Не приходи. Сама справлюсь.
Тело его сразу напряглось.
— Понимаю.
Он встал и повернулся к двери:
— Спасибо за трах, дорогая леди Чаттерли.[23]
Тяжелые шаги застучали вниз по лестнице, с грохотом захлопнулась входная дверь.
Генри
Он посылает записку мистеру Коллинзу о том, что собирается отправиться в экспедицию по сбору местных редкостей и навестит его в деревенском доме позднее. Этот немец, Шлау, много раз уже проделывал этот путь и будет его проводником. Генри понимает, что нашел идеального товарища для путешествия: Шлау почти не раскрывает рта, похоже, совсем не способен к человеческому общению, и тем не менее в природных условиях этой страны чувствует себя как рыба в воде. Заглянув как-то к Шлау в музей за несколько дней до отправления, он находит таксидермиста сидящим на полу мастерской; брови его озабоченно нахмурены.
— Что станется с моими друзьями, когда меня не будет, — тревожно говорит немец. — Боюсь, они все погибнут.
Генри подходит ближе. Шлау сидит, прижавшись спиной к стенке, а перед ним в куче грязи на полу ковыряются три больших зеленых попугая. Перья их как бы слегка припорошены снегом, лицевые диски придают им сходство с совой. Генри делает еще шаг ближе, они вздрагивают, но, с опаской поглядев на него, продолжают прежнее занятие.
— Что это за птички? — спрашивает Генри.
— Какапо.[24] Днем они обычно спят, вон там, в углу, прячут голову под крыло и спят. Я поймал их во время своей последней вылазки, хотел за ними понаблюдать, но теперь, думаю, узнал все, что хотел знать. Мертвые, они принесут мне больше пользы. За них можно получить хорошие деньги.
— Неужели вы к ним не привязались? Они же у вас совсем ручные.
Шлау пожимает плечами.
— Да нет, не очень. Ну, да, ручные, но особенной привязанности ко мне сами не демонстрируют. Я для них — просто существо, которое снабжает их кормом. Нет той преданности, как, например, у моей собачки.
Словно отвечая на вопрос Генри, одна из птиц прыгает на спину другой и начинает царапать ее; обе издают крик, который больше похож на верещание зайца, а уж никак не птицы. Шлау кое-как поднимается на ноги, отступает назад и любуется ими. Жертве удается скинуть противника, и они начинают драку, наскакивая друг на друга и стараясь нанести удар довольно острыми и крепкими когтями. Одна из них падает на спину и в этой позиции отбивается от агрессора, но тот скоро теряет к ней интерес и снова принимается ковыряться в грязной куче. В комнате опять воцаряется тишина.
— Поразительно, — говорит Генри.
Он чувствует, что ему оказали честь, позволив наблюдать, как общаются эти птицы, которые совершенно естественно ведут себя в этой полутемной комнате.
— Сами видите, я не могу просто так взять и бросить их здесь, — говорит Шлау. — Не дай бог, поубивают друг друга, что тогда делать с их трупами? Никакой пользы. Уж лучше я убью их сейчас, пока мы не отправились, так они хоть не пропадут. Заткните-ка уши, сэр.
И с этими словами он берет ружье и стреляет в своих не подозревающих опасности питомцев. Наповал.
Выезжают они верхом, город остается позади, они долго едут по равнинной местности. Как и ожидалось, Шлау всю дорогу молчит, разве только с собакой своей по кличке Брут, черного окраса лабрадором, который весело бежит рядом, перекидывается парой слов. Когда они устраивают привал, чтобы отдохнуть и перекусить, Шлау крепко обнимает собаку и что-то шепчет ей на ухо. Интересно, думает Генри, сможет ли он так же спокойно и холодно пристрелить эту собачку, когда она постареет и станет ему бесполезна. Нет, пожалуй, вряд ли. Шлау рассказывает, сколько собак он перепробовал, гончих пород, которые пожирали птичек, которых им положено было приносить, или убегали и никогда больше не возвращались. А вот Брут, что ни говори, уже тысячу раз отработал свое содержание, отыскивая трофеи и принося их хозяину, защищая хозяина от грозящей опасности. Генри и сам чувствует себя с ней спокойнее: он не подумал о том, что экспедиция может подвергнуться угрозе. Он ведь знал, что в этой стране нет опасных животных, а вот человека во внимание он не принял.
Как хорошо, думает он, путешествовать на лошади. Поскрипывает седло, животное шагает уверенно, несмотря на груз, который она несет на себе: небольшую палатку, одеяла, плащ-палатки от дождя, запасную пару крепких сапог для лазания по скалам и другое снаряжение — компас, часы, барометр, скальпели, химические реактивы. Генри захватил запасную теплую одежду, поскольку они будут проходить через горы, вершины которых покрыты снегом. В его дорожных сумках оставлено место для образчиков живой природы, которые он намерен отыскать. Животных и птиц, которых он найдет, придется освежевать и обработать на месте, чтобы сохранить для дальнейшей обработки, а заодно снизить вес груза. За спиной у него винтовка, а в патронташе заряды самых разных калибров.
Первый день путешествия подходит к концу, солнце клонится все ниже, вокруг вздымаются горные вершины; Генри погружен в свои мысли. Оказавшись вдали от цивилизации, он ощущает то острое волнение, которого ждал: перед ним раскинулась новая, неизведанная страна, необъятная, с огромным небом над головой. Большая часть земель здесь очищена для сельского хозяйства, но до сих пор остается пустынной, незаселенной, крупного рогатого скота здесь нет, и подножия гор снова зарастают местным кустарником. Неподалеку шумит водопад, низвергаясь в темные воды озера. Их приветствует разноголосый птичий хор, таких странных криков прежде он не слыхал. Шлау указывает удобное место для ночевки, и они сворачивают с маршрута.
Ночь настолько ясная, что, несмотря на прохладу, Генри предпочитает спать без палатки. Шлау говорит, что он сошел с ума, но в столь экзотическом ландшафте Генри впервые в жизни, здесь нет зверей, которые могут напасть и сожрать человека, нет ядовитых насекомых и змей. Он лежит на плащ-палатке, подстелив под себя еще одно одеяло и накрывшись другим, а сверху просто накинув брезент палатки. Рядом горит, потрескивая, костер, свежий воздух омывает легкие и холодит лицо, он смотрит на яркие созвездия, обрезанные черными силуэтами окружающих гор. Некоторые созвездия он видит впервые, и этого одного достаточно, чтобы заснуть с блаженной улыбкой на губах.
Он просыпается, когда рассвет еще только брезжит на небе, его будит пугающая какофония незнакомых звуков. Лицо мокро от росы, мышцы одеревенели. Шлау и Брут все еще спят в палатке, но Генри решает встать и развести погасший костер, чтобы выпить чашку чая и согреться. Он слушает это странное птичье пение, в котором звучат и колокольные звоны, и звонкие переливы голоса, и даже некий ритмический треск. Он пытается представить себе этих птиц и надеется скоро увидеть их собственными глазами. И почему-то вспоминает Дору Коллинз, какой он видел ее в последний раз, тоненькую, прямую, как струнка, в вызывающей позе сжимающую в руке листовку. Ах, как хочется поскорее снова встретиться с ней.
Он сидит и пьет чай, как вдруг из кустов выходит птица и, ловко прыгая с камня на камень, приближается к нему. Светло-серое оперение, оранжевая бородка и черные ободки вокруг глаз, словно маска разбойника; она с любопытством смотрит на него, вероятно, прежде никогда не видела человека. Скоро к ней присоединяется и другая, она тоже скачет к нему, но уже опустив к земле крылья; самец, догадывается Генри, хотя обе птицы почти не отличаются друг от друга. Вторая кричит, крик ее похож на звук флейты, и чтобы не спугнуть их, Генри сидит, боясь пошевелиться.
Вдруг за спиной грохочет выстрел, он в испуге вскакивает и проливает горячий чай на колени. Обернувшись, видит, как Шлау стреляет еще раз, а когда снова смотрит туда, где только что были эти чудесные птицы, обнаруживает, что они неподвижно лежат на камнях. Брут бросается вперед, хватает обеих птиц и, осторожно сжимая их челюстями, несет хозяину.
Забыв про обожженные чаем ноги, Генри ощущает знакомое стеснение в груди. Кровь бросается ему в лицо. Кулаки невольно сжимаются, и, изрыгая проклятия, он идет к немцу. Собака бросает птиц к ногам хозяина и, оскалив зубы, прижав передние лапы к земле, злыми глазами смотрит на Генри. Услышав злобное рычание, Генри застывает на месте.
— Черт бы вас побрал, что вы наделали?
Голос Генри теперь звучит не так громко, он боится собаки.
Шлау опускает руку на ее ошейник и с вызовом смотрит на Генри.
— В чем дело, мистер Саммерс? Мы ведь идем собирать образцы живой природы. А вы сидите и любуетесь птичками. Кто-то ведь должен работать. Кокако[25] теперь встречаются редко, особенно те, что водятся на Южном острове, у них оранжевая бородка, видите?
Он поднимает птиц и показывает Генри, словно тот сам этого еще не заметил.
— На Северном острове их больше, но там у них бородка синяя, — продолжает Шлау. — Вот теперь в моей коллекции будут и эти.
Объяснить что-то этому человеку Генри не в силах. Тогда он наклоняется и хватает с земли крупный камень. Шлау застывает как парализованный, Бруг отчаянно лает, но остается на месте. Генри с силой швыряет камень в костер. Красные уголья летят во все стороны и падают на его ложе, от которого идет дым. Он снова выкрикивает проклятие, еще раз видит, какой урон он нанес своему ложу, хватает котелок, чтобы залить тлеющие одеяла, понимая, что ведет себя глупо, и злясь на свое бессилие. Пламя гаснет, он поворачивается на каблуках и шагает к озеру. Обожженные горячим чаем ноги болят. Чтобы охладить ожоги, да и самому охладиться, он стаскивает одежду и бросается в ледяную воду озера. Долго стоит по пояс в воде и трет покрытое татуировками тело.
Макдональду он говорил, что татуировки ему нужны для того, чтобы помнить, и вот именно в такие минуты ему необходимо вспомнить свое прошлое, на мгновение забыть о том, где он находится и что с ним происходит. Вот здесь, на руке, изображен тигр, которого он поймал и свежевал сам; он уверен, что Шлау никогда не имел дела с таким зверем. Этот человечек занимается только птичками да мирными млекопитающими, какими-нибудь там горностаями и ласками или, как простой таксидермист, набивает чучела зверей, ради которых рисковали своей жизнью другие люди. Этот человек — эта немчура — пустое место, ноль без палочки. Он не знает, что такое палящее африканское солнце, он не выходил навстречу крокодилу или анаконде в джунглях Амазонки лишь для того, чтобы поймать хрупкую бабочку. Несчастный торгаш, что с него взять.
Кожа Генри посинела от холода, но ему не хочется показывать, что он замерз. Он оборачивается и смотрит на своего проводника. Шлау сидит на бревне, курит и наблюдает за ним. Видно, что он с любопытством разглядывает татуировки Генри, возможно, он прежде никогда не видел человека с картинками. Генри выходит из воды и поворачивается к нему спиной, твердо решив не отвечать ни на какие вопросы. Но немец молчит, он занят тем, что потрошит убитых кокако и бросает куски мяса своей чертовой собачке.
Они продолжают путь в глубь Южного острова, но переходы теперь делают более короткие, чем в первый день: подъем становится круче, а воздух по ночам все холоднее. Облака опускаются ниже, превращаются в густой туман, который, в свою очередь, превращается в проливной дождь. После неудачного начала Генри теперь способен собирать свою коллекцию. Однажды утром он просыпается и видит двух кеа,[26] зеленых горных попугаев, которые нахально прорвали в его палатке дырку, чтобы добраться до еды. Он довольно долго за ними наблюдает, а потом выстрелами из винтовки убивает. Еще ему удается подстрелить двух птичек-пасторов, или туи,[27] как называют их аборигены, и маленького зеленого медоноса-колокольчика. Ночью он слышит пение киви,[28] но его слепые поиски в темноте ничего не дают. Они со Шлау почти не разговаривают. Генри раздражает абсолютное отсутствие любознательности этого человека, а Шлау продолжает демонстративно разглядывать татуировки Генри, когда тот моется.
— Может, у вас есть какие-то вопросы? — спрашивает однажды утром Генри, обращаясь к Шлау, который сидит напротив и чистит винтовку. — Про татуировки?
— В общем-то, нет, — отвечает Шлау. — Я видывал и поинтересней.
— Здесь?
— Ну, да, у маори. Я знаю великих воинов, у них лица сплошь в татуировке, у них это называется «моко». У женщин тоже, только женщины делают татуировку на подбородке и губах. Но для них она имеет символический смысл. Не просто украшение, как у вас.
— Да что вы знаете о том, почему я делал эти татуировки? Что вы знаете о том, что я претерпел ради них?
Шлау смеется.
— Претерпел? Несколько крохотных уколов иголкой? А вы видели, что претерпевают маори, вы видели инструменты, которыми они это делают? Тут вам не ваши иголки, а настоящие резцы. Рисунок вырезают на лице, как на дереве. Вот где настоящая боль.
— Да что вы-то знаете про эту боль? — фыркает Генри.
— Ничего не знаю, дружище, совсем ничего. Я только видел инструменты и великолепный результат. Эти люди, что мужчины, что женщины, если у него на лице «моко», он и смотрит на тебя как бы свысока. Я это видел собственными глазами.
Шлау встает и идет к лошади, которая уже оседлана и готова в дорогу. Он роется в сумке и достает мешочек, перетянутый крепкой ниткой.
— Вот вы назвали себя коллекционером, верно? — говорит немец. — Посмотрите, не станет ли это прекрасным прибавлением к вашей коллекции?
Он передает полотняный мешочек Генри, тот осторожно открывает его и достает содержимое. Это вручную сделанные артефакты, прекрасные образчики, изготовленные умелыми, талантливыми руками, — отличный крючок для ловли рыбы, тесло из нефрита с таким острым режущим краем, что он сразу ранит палец. Достает и длинную кость с острыми зубьями по краям.
— Вот это, — говорит Шлау, — и есть инструмент татуировщика. Окунают в тушь, приставляют и стукают деревянной колотушкой.
— Где вы их достали? — спрашивает Генри.
Он вспоминает про иголку, которую похитил у Хори Чио в Японии, и думает, что этот инструмент маори действительно украсил бы его коллекцию.
— О, в моей коллекции много таких предметов, — говорит Шлау. — Кое-что выторговал у маори. Кое-что нашел в заброшенных «па». Так у них называются погребальные пещеры. Это было не очень трудно. Кстати, вас интересуют кости?
— Кости? Смотря какие. Я бы хотел добыть для своей коллекции кости моа.
— А человеческие? Древних людей. У меня есть две мумии и много разных костей.
— Где вы их взяли? Из захоронений?
— Пришлось повозиться, не дай бог. Между прочим, радость коллекционера заключается еще и в том, что он может бесконечно рассказывать про свои находки, как вы считаете?
Генри становится неловко, он ерзает на своем бревне. Шлау сейчас рисуется перед ним, пытается поставить себя на одну доску с Генри. Пускай потешится, думает Генри.
— Вижу, вам не терпится рассказать, как вы все это добывали, сэр. Продолжайте, пожалуйста.
Шлау пускается в долгое и путаное повествование с многочисленными отступлениями, которые никак не связаны с его рассказом. Генри удивлен: скажи-ка, этот немец так немногословен, но стоит его раззадорить, становится даже болтлив. Он уже ловит себя на том, что постукивает подошвой и нетерпеливо кивает, когда Шлау начинает размазывать, то вспоминая про красивую птичку, которую он увидел по дороге, то, путаясь и сбиваясь, пересказывая биографию человека, не имеющего отношения к теме разговора.
Вкратце рассказ его сводится к тому, что, закончив набивать чучела для коллекции музея и успев как раз к торжественному открытию, Шлау отправился в путешествие по Северному острову. Там он втерся в доверие к некоторым местным фермерам, у которых останавливался, а также кое к кому из племени маори, с которыми фермеры его познакомили.
— Понимаете, эти маори, — пренебрежительно говорит Шлау, — они доверяли мне, потому что я не англичанин.
И голос его при этом противно дрожит.
У них он купил кое-какие предметы, и по хорошей цене, но когда стал задавать вопросы про заброшенные в окрестностях «па», спрашивать, можно ли туда наведаться, маори явно насторожились.
— Они говорили, что это «тапу». Вы знаете это слово?
Нет, Генри не знает этого слова, хотя догадывается о его значении.
— Это святое место, его нельзя трогать. Они говорили, что тот, кто нарушит «тапу», заплатит ужасную цену.
— Цену? — переспрашивает Генри.
— Да, собственной жизнью. Ну, конечно, для суеверных маори этого достаточно, чтобы носа туда не совать, но такого человека, как я, это не остановит.
И вот Шлау решил нанести визит мертвым один, но случайно спугнул стаю речных птиц, и маори что-то заподозрили и стали прочесывать территорию. Чтобы спрятаться от них, он взобрался на дерево, а Брут залег в подлеске. Ему пришлось ждать до самой ночи, он знал, что маори с суеверным страхом относятся к темноте.
В захоронениях он добыл много драгоценных артефактов, которые, по его словам, просто валялись рядом с мертвыми телами — подходи и бери. Набрал и спрятал в лесу кости скелетов, в том числе несколько черепов и украшенную резьбой берцовую кость, а в ранец уложил найденные орудия труда и оружие, собираясь на следующий день, чтобы как можно скорей избавиться от улик, отправить все пароходом. Еще он отпилил вырезанную из дерева голову татуированного вождя со столба у одного из захоронений, тщательно собрав и выбросив в реку опилки.
Но на следующее утро его разбудил фермер, у которого он остановился. Из ближайшей деревни маори к нему явились вождь с колдуном и высказали перед смущенным фермером свои подозрения. Они попросили проверить сумку Шлау, но тот успел подготовиться. Как-то раз фермер случайно рассказал ему об одном поверье маори, будто бы ящерицы, а также некоторые насекомые являются защитниками мертвых, и маори их очень боятся. В жестяные банки для образцов он набрал пауков, сороконожек и ящериц, положил их в ранец, а потом незаметно открыл их, и кое-что из содержимого упало прямо под ноги колдуна. Насекомые поползли по нему, и оба маори в страхе бежали. Разъяренный фермер немедленно выгнал Шлау из дома, но немец был доволен своей добычей и отправился себе дальше.
— Вот вам результаты только одной экспедиции, — говорит Шлау. — Черепа, красивая берцовая кость и деревянная голова принесли мне кругленькую сумму, и с тех пор я не упускаю возможности разжиться подобным образом.
Генри потрясен рассказом о жульнических аферах этого человека, но вместе с тем не может не восхищаться его находчивостью. Возможно, он его недооценивал. Как раз таким хитрым и коварным и должен быть честолюбивый коллекционер, если хочет достичь успеха, особенно это касается артефактов, сделанных руками человека. Но для Генри понятия чести — не пустой звук. Ему было бы стыдно рассказывать подобную историю про себя, и он прямо говорит об этом Шлау.
Немец пожимает плечами.
— Вы так считаете? Ну, это ваше личное мнение.
Он с жалостью смотрит на Генри, и тот видит, что в глазах его испаряются последние остатки уважения к нему.
Розмари
Я выпила пару таблеток парацетамола и встала под душ. За грязным окном над холмами висели черные дождевые тучи. Над фермой прокатился удар грома, и я поняла, что хорошая погода простояла всего один день. Душевая кабина совсем обветшала, по стенам ползла плесень, шпоновая обшивка местами вспучилась. Нужен был вентилятор или хотя бы сквозняк, чтобы влажный воздух вытягивало, и вода была только двух видов: холодная или горячая, смеситель отсутствовал. Я неохотно признала, что ванная комната нуждается в капитальном ремонте; впрочем, все остальные тоже. Не понимаю, как мы могли допустить, чтобы дедушка так долго жил в этой сырости. Почему не настояли, чтобы он оборудовал современную систему отопления? Якобы из экономии печку на кухне у него топил дровами нелегальный иммигрант, но зачем это было нужно, я не знаю. Уж лучше бы потратил деньги на себя, а не складывал в копилку, чтобы оставить детям.
Сэм ушел, и мне даже думать о нем теперь не хотелось, не говоря уже о том, чтобы сделать его своим очередным любовником. В постели он был неплох, слегка неуклюж, правда, и больше думал о себе, но это от молодости и неопытности. Двигался слишком быстро, меня это не очень устраивало, но я ничего ему не сказала. Лень было попросить, чтобы он делал это помедленней. Уж очень хотелось поскорей переспать с ним, так что все остальное было не в счет. Он спросил, сколько мне лет, а когда я ответила, очень удивился.
— Странно, у тебя такая гладкая кожа, — сказал он, будто женщина, которой за тридцать, должна непременно иссохнуть, как мумия, и превратиться в старую каргу.
После сорокалетнего с хвостиком Хью тело Сэма казалось мне совсем юным, с упругими и эластичными мышцами; впрочем, у него все еще впереди. Смена уже стареющего мужика на образец помоложе принесла мне странное чувство удовлетворения, я даже поняла, почему мужчины средних лет заводят интрижки с секретаршами и покупают спортивные автомобили. Но Сэм для меня был только развлечение, ничего больше. И сейчас мне как никогда нужно было побыть одной; впрочем, я часто советовала это себе самой и всякий раз игнорировала этот мудрый совет.
Я долго стояла под холодным душем, неожиданно почувствовала, что замерзла, выругалась и выключила воду. Дрожа, как осиновый лист, я торопливо вытерлась и стала одеваться, чтобы скорей согреться.
Наскоро позавтракав и прихватив чашку кофе с собой, я снова уселась за письменный стол и включила ноутбук, но слова в появившемся на экране тексте расплывались, и все попытки преодолеть глубокое похмелье сочинением новых заканчивались ничем. Впереди маячил совершенно пустой, никчемный, к тому же дождливый день. Я уже раздумывала, а не собрать ли вещички и не уехать ли обратно в город.
Но у меня здесь много дел, их надо закончить. Я встала и побрела по дому, слоняясь из комнаты в комнату. Заглянула вверх по спиральной лестнице, ведущей в башню, но так и не смогла заставить себя подняться наверх. Тогда я исследовала курительную комнату и библиотеку, расположенную с южной стороны дома на первом этаже; в ней всегда царил полумрак, предохраняющий книги, которых тут были тысячи, от губительных лучей солнца. На нижних полках стояли бабушкины и дедушкины книжки в бумажной обложке, ряды романов Колина Маккаллофа,[29] Джеффри Арчера[30] и прочая дребедень, а также книжки с картинками, которые родственники дарили им для меня, посвященные истории Новой Зеландии, ее животному миру. Здесь стояла и книга «Птицы» Буллера, с яркими иллюстрациями, которые я помнила с детства, с прекрасно сохранившимися вклейками, где были изображены птицы кокако и какапо, а еще книги, которые я читала дедушке вслух в его последние месяцы. Именно в этой библиотеке я открыла для себя книги, которые сделали из меня то, чем я теперь являюсь. Юной девочке-подростку нетрудно представить себе наш дом Торнфильд-холлом[31] или Вутеринг-хайтс,[32] и, разумеется, героиней везде была я сама, я грезила, что тоже когда-нибудь в жизни встречу великую, страстную любовь. И, может быть, именно в этой самой комнате меня постигло первое разочарование, а потом уже они пошли одно за другим.
Я поднялась наверх, побродила по спальням, бесцельно открывая дверцы шкафов и выдвигая ящики комодов, сама не понимая, чего я ищу. Возможно, хотелось еще раз посмотреть на все эти вещи, пока мои брезгливые тетушки не повыкидывали их отсюда, зорким оком высмотрев все, что стоит денег; остальное можно раздать беднякам или сжечь. В большей части шкафов хранилось то, что копилось здесь в течение шестидесяти лет: белье, полотенца, бесчисленные запасы оберточной бумаги, конверты. С самого дня своей свадьбы бабушка с дедушкой не выбрасывали ничего. Всякий раз, покупая новую вещь, старую они просто отодвигали на задний план: тут были старинные пылесосы, костюмы, а один шкаф был забит под завязку синими пижамами. В их комнате в шкафу висели дедушкины костюмы от Сэвилл Роу, совсем почти ненадеванные, и гора дамских шляпок изящнейших моделей, которые я тут же отнесла к себе в комнату.
Я попыталась навести хоть какой-то порядок: вытерла пыль между предметами и книгами, собрала, чтобы выбросить, старые газеты и журналы. На каждой горизонтальной поверхности что-то лежало: стопки книг на каминной полке, одежда на стульях. Оборвав на полуслове очередное ругательство по поводу царившего беспорядка, я вдруг подумала, что придет время, и кто-то будет делать то же самое и в моем доме и точно так же поразится количеству собранного мною за всю жизнь барахла.
Впрочем, скопидомкой я себя не считала. Коллекционер — вот подходящее слово. Я коллекционировала не только татуировки, но и старинную одежду, аксессуары, старинный фарфор, книги, ракушки, птичьи гнезда — это далеко не полный список. Целая стена моей спальни была увешана фотографиями татуированных циркачек прошлого. Они гордо смотрели прямо в объектив камеры, демонстрируя рисунки на теле, среди них были и красавицы, и простушки; у меня хранилось несколько рекламных плакатов, на которых художник изобразил их невероятно живописные, богато иллюстрированные тела и где вкратце излагались связанные с ними легенды. Вся моя квартирка тоже была битком набита всякой всячиной, все вертикальные площади увешаны, а горизонтальные уставлены предметами. Они окружали меня со всех сторон, среди них я чувствовала себя маленькой и защищенной. Страшно было подумать, что Роланд когда-нибудь возьмет и закроет свое ателье, и мне придется упаковывать эту прорву вещей и переезжать на новое место.
Рита, девушка, с которой я снимала эту квартиру на двоих, вечно жаловалась на беспорядок, но я-то знала, что именно это заставило ее влюбиться в квартиру с окнами прямо на порт и поселиться со мной. Нигде еще прежде она не чувствовала себя так уютно, как здесь. Она работала совсем рядом, в небольшом баре, где было кабаре, два вечера в неделю — прежде, еще в тридцатые, там был кинотеатр. Все остальное время она, похоже, спала. Небольшие деньги, которые Рита зарабатывала, она тратила на сигареты и чай, который пила непрерывно целыми чайниками. Воскресными вечерами мы с ней распивали бутылочку красного вина, и своим певучим голоском она рассказывала мне о происшествиях, случившихся в выходные. Кабаре было излюбленным местом художников, живущих возле порта студентов и юнцов, приходивших по вторникам из-за холмов пообщаться и потанцевать, одетых так же, как одевались их дедушки во время Второй мировой войны. Еще в нем любили бывать иностранные моряки, среди которых было много русских.
У Риты была роскошная белая кожа, и она лениво слонялась по квартире, полуприкрытая одним только шелковым кимоно, которое было почти всегда распахнуто. На спине у нее, от плеча до плеча, была татуировка в японском стиле: синие волны с белоснежными гребешками, в которых плещутся черные рыбки. Перед работой она стягивала свое роскошное тело корсетом; днем же, когда делать было нечего и можно было бездельничать вволю, Рита одевалась как официантка пятидесятых годов или роковая блондинка из фильмов Хичкока в туфлях на высоченных каблуках и тесном шерстяном костюме, с безупречно завитой прической.
После работы Рита порой кого-нибудь с собой приводила. Постоянного дружка у нее не было, и она приглашала «поклонников». Поклонники эти нередко оказывались перелетными птичками с корабля, стоящего в порту, и это ее прекрасно устраивало. Даже мне перепал однажды дружок из тех, кого она привела, посулив веселую вечеринку. Целую неделю длился наш роман с этим русским матросом, на толстом бицепсе которого было выколото сердце, пронзенное кинжалом, и с каплями крови из раны. Внизу было написано: «Татьяна». Однажды утром, когда мы лежали с ним в постели и слушали гудки пароходов, я спросила про нее.
— Она разбила мне сердце, — сказал он.
Слово «разбила» он произнес так, словно рубанул ножом, и больше про нее не сказал ни словечка.
Михаил со своим приятелем заглянул как-то и в ателье к Роланду, но тот наотрез отказался делать им традиционную наколку маори, которую им очень хотелось иметь. Когда он попытался объяснить, что ее нужно заслужить, они посмотрели на него так, будто он вешает им лапшу на уши, хотя не вполне понимали, зачем и почему. Они вышли на улицу и, остановившись на тротуаре напротив, сердито прокричали что-то по-русски.
— Твои дружки? — спросил Роланд.
По правде говоря, я была рада увидеть спину Михаила, а после этого случая Ритиных новых друзей старалась избегать. Поменяла простыни и забыла.
Сырость дождливого дня уже просачивалась в дом, поднимаясь из подвалов и проникая сквозь стены. Я даже чувствовала во рту ее вкус.
За узенькой дверцей в коридоре второго этажа я увидела такую же узенькую лестницу на чердак. В детстве нам не разрешали туда лазить из-за пыли и множества трупов бабочки-поденки, но мы все равно при любой возможности тайком проникали туда и устраивали игры: будто бы мы сбежали из сиротского приюта и ищем сокровища. За сундуки с сокровищами больше всего могли сойти кожаные чемоданы, все еще хранившие по бокам наклейки, оставшиеся от путешествий, совершенных в прошлом дедушкой с бабушкой и их родителями, но там не оказалось ничего интересного, снова белье, фотографии и еще какой-то хлам. Теперь же, глядя на скопившиеся на чердаке вещи, я уже не ощущала прежней их таинственности и обаяния, они стали тем, чем и были на самом деле: частичками жизни моей семьи, рассованными по коробкам.
Что-то тревожило мне память… да, был дождливый день, мы с Чарли сидим здесь, на чердаке. Помню огромную картину, на которой изображена женщина в белом платье, прижавшаяся щекой к стене, словно она от кого-то прячется. Сундук, наполненный старыми платьями, заботливо завернутыми в синюю бумагу, в которые мы наряжались во время набегов на чердак, бабушку, вечно гоняющую нас — а ну, кыш отсюда! — с садовой вилкой в руке. Брат, нахлобучив на голову цилиндр, сбегает по лестнице вниз, хихикает, а я вслед за ним, спотыкаюсь и кубарем падаю по ступенькам, получив синяк на бедре. Кто-то сзади подхватывает меня и несет, а бабушка с грохотом спускается вслед за нами.
Я прошла дальше в глубь чердака, сдвигая в сторону некоторые коробки. Кое-какие опрокидывались, и из них на пыльный пол вываливались рождественские украшения, мишура. Двигая коробки, я постепенно добралась до прислоненного к стене большого портрета. Тяжелая рама, покрытая дешевой позолотой и шершавая на ощупь, потускнела от обилия осевшей на ней пыли. Чихнув, я подняла картину и подтащила ее поближе к лестничному колодцу, где было больше света.
С живописного полотна на меня смотрела женщина, лицо спокойно-сдержанное, но во взгляде чудилась какая-то тайна. Да и не только во взгляде, в положении рук тоже: они были сложены вместе, левой рукой она сжимала запястье правой, держащей открытый веер. Длинные перчатки почти полностью закрывали ей руки. На ней было белое платье конца Викторианской эпохи, явно вечернее, открытое, что было бы неуместно для дневной одежды, но декольте скрывалось за веером, словно она пыталась как бы спрятаться за ним или, по крайней мере, продемонстрировать притворную скромность. Зрителю была видна только красивая, длинная шея и бледное лицо. Щеки были обрамлены свисающими светлыми кудряшками.
Неужели это Дора, первая жена Генри? Очень может быть. Как мне хотелось, чтобы это было именно так, но почему бы и нет? В конце концов, портрет хранится на чердаке, а не висит где-нибудь на стене для всеобщего обозрения, наверняка его много лет назад изгнала туда ревнивая вторая жена Генри.
Я открыла один из чемоданов, и у меня перехватило дыхание; я всегда волнуюсь, когда захожу в магазин старинной одежды. А тут целая сокровищница: мех лисицы с элегантно сложенными передними лапками, платья из крепа сороковых годов с изящной вышивкой бисером, траурно-черного и будничного розовато-лилового цветов, женские сорочки, нижние юбки, корсеты. Плотные шелковые перчатки с перламутровыми застежками.
Я всегда знала, что неспроста уродилась маленькой, худенькой и стройной, это потому, чтобы можно было надевать старинные платья. Многим моим подругам повыше ростом приходилось исхитряться, шить самим наряды в старинном стиле, а вот я всегда могла носить подлинные вещи. На самом дне чемодана лежало шелковое платье. Я достала его — господи, настоящая парча — и приложила к плечам, прикидывая, как на мне будет сидеть это чудо с тончайшей талией. А что, кажется, вполне, подумала я. Изгибаясь всем телом, я кое-как влезла в него. Тесновато, но мне это было к лицу. Приподняв подол, я спустилась в свою комнату, где изнутри в дверце платяного шкафа было встроено зеркало в полный рост.
Без сомнения, это то самое платье, которое я видела на картине. Должно быть, Дора была одного роста со мной, но на этом наше сходство заканчивалось. Мои коротко стриженные, всклокоченные волосы намного темнее, а на руках дрожали яркие наколки — цветы, сорока, подкова, русалка, надпись курсивом. Вырез достаточно большой, чтобы демонстрировать птичек на груди, несущих в клювиках ленточку. Я надела перчатки. Они оказались не столь длинны, как на картине, но все равно выше локтя. Вспомнила, что в ящике бабушкиного туалетного столика видела веер. Я сбегала за ним и снова вернулась к зеркалу. Приняла позу Доры на портрете, внимательно разглядывая, что получилось. Веер закрывал птичек на груди, а если перчатки надеть подлинней, они закрыли бы и единственные видные теперь наколки на предплечьях. Пиши с меня портрет хоть сейчас, никто и не догадается об этих знаках у меня на теле.
Долго стояла я перед зеркалом, разглядывая себя и воображая себя Дорой. В комнате было довольно холодно, я вся покрылась гусиной кожей и дрожала. Я представила, как сквозь меня проходит призрак Доры; странное, должно быть, чувство, быть призраком и обитать в доме, который должен был бы наполниться ее потомками, но, увы, всегда оставаться первой женой, которой так и не удалось нарожать детей… быть убитой или, в лучшем случае, утонувшей в реке.
Я думала о женщинах, живших здесь до меня, умерших здесь, в Сорочьей усадьбе. Все же я правильно сделала, что приехала сюда; в конце концов, смогу поработать над диссертацией: в качестве персонажей дом предоставит мне своих призраков, а свои помещения — в качестве места действия, и если не это даст мне толчок вдохновения, поможет разобрать и понять любимые мной великие романы девятнадцатого века, тогда что же?
В комнате становилось все темней, дождь лил не переставая, словно пальцы сказочного великана барабанили по крыше. Я бы не услышала, как к дому подъехала машина, если б не обратила внимание на звуки разбрызгивающих лужи шин.
Спускаясь по широкой лестнице вниз в платье Доры, я вообразила себя Ребеккой, новоиспеченной миссис де Винтер, когда она появляется на приеме, нарядившись, как на старом портрете, и не подозревая, что это портрет первой жены ее мужа. Я представила, как ко мне устремляются глаза присутствующих, представила потрясение и смущение на лице Максима. И миссис Данверс, домоправительница, стоит у двери, ведущей в западное крыло, и, глядя на меня, презрительно усмехается.[33]
Это был Хью. Когда я открыла парадную дверь, он уже вышел из машины и, накрыв голову от дождя газетой, разглядывал дом.
— Девочка моя! — закричал он сквозь струи дождя. — Что ты здесь делаешь?
— Занимаюсь своим делом и не сую нос в чужие. А что ты здесь делаешь?
Я застряла в дверях, наполовину спрятавшись за ней, не давая ему понять, чтобы он проваливал, но и не выходя, чтобы поприветствовать его. Интересно, для кого он так вырядился, уж не для меня ли? Черный костюм и белая рубашка, галстук, ни дать ни взять владелец похоронного бюро. На плечах костюма быстро расплывались темные пятна.
— Я к тебе прямо с похорон.
Прошла секунда, во время которой я пережила одновременно и страх, и, к своему стыду, надежду.
— Чьи?
— Старого товарища. Ты его не знаешь. Это было давно.
Он отошел от заляпанной грязью машины японской марки и поднялся на первую ступеньку крыльца. Пятна грязи покрывали и его еще недавно начищенные до блеска ботинки.
— Может, пригласишь войти? Тут как-то немного мокровато.
— Так зачем ты здесь, а, Хью?
Он взошел на крыльцо, где не капало, поправил сбившийся галстук и шмыгнул носом.
— Ты так неожиданно уехала. Надо поговорить.
— Я работаю.
Он улыбнулся какой-то неожиданно подловатой улыбкой.
— Ну, да, вижу. В маскарадном костюме.
Я вздохнула.
— Черт с тобой, заходи.
Я вошла в дом, оставив для него открытой дверь. Подол платья волочился по полу, путаясь под ногами. Я направилась на кухню, подошла к столу и вылила себе в бокал остатки вчерашнего вина. Хью вошел следом, уверенно, будто он и выше ростом, и привлекательней, чем на самом деле, и уставился на меня с такой тревожной влюбленностью на лице, что на глаза у меня навернулись слезы. Я повернулась к нему спиной и сделала вид, что закручиваю пробку на бутылке.
Он подошел вплотную и положил руки мне на плечи.
— Ну, в чем дело? — прошептал он.
Не поворачиваясь и глядя в окно, за которым бушевала непогода, я покачала головой. Вдали показался брызгающий по лужам квадроцикл. Господи, подумала я, не хватало только, чтобы еще и Сэм заявился.
На похоронах дедушки Хью хотел присутствовать вместе со мной. Впрочем, нет, разумеется, не со мной, но для меня. Я ему не позволила: было слишком рискованно. Не хотела видеть его там и не иметь возможности говорить с ним или брать его за руку, не хотела, чтобы родители видели нас вместе, не хотела потом отвечать на лишние вопросы. Они ведь знали, кто он такой, я рассказывала о нем и показывала его еще до того, как у нас с ним все началось. Но он знал, как близки мы были с дедушкой, и я была тронута тем, что он хотел сделать мне приятное. Тем не менее его отсутствие, в то время как все остальные родственники были с женами или кавалерами, уязвляло меня. Тогда я поняла, что с Хью всегда будет так, он всегда будет маячить где-то рядом, но целиком в мою жизнь так и не войдет, а меня это никак не устраивало.
Я налила вина и ему. Он взял стакан и пальчиком другой руки поиграл украшением на лифе платья, но я сделала шаг назад.
— Где ты его откопала? — спросил он. — Ты похожа на привидение, явившееся со старинной свадьбы.
— Ты думаешь, это платье подвенечное?
Он пожал плечами.
— А кто его знает?
— Я нашла его здесь, на чердаке. Не знаю, конечно, но мне кажется, что оно принадлежало женщине, которая когда-то здесь жила.
Он отхлебнул из стакана, все еще не спуская с платья глаз, видимо, пользуясь предлогом, чтобы смотреть на меня. А скорей всего, возможностью бесстыдно разглядывать мое тело.
— Ты сказала, что работаешь, или мне это послышалось? Впрочем, для тебя и это работа. Наверное, пытаешься перевоплотиться в своих персонажей. Сочиняешь варварские сюжеты про тех, кто давно уже отошел в мир иной?
— Ты все равно ничего не поймешь.
Я прошла мимо, слегка коснувшись его локтем, и он поплелся за мной в гостиную.
Мы уселись на диван и продолжали пить вино, до вечера еще было далеко, и казалось, что у нас каникулы и делать ничего не надо. Прежде мы никогда не оставались с ним в каком-нибудь доме совершенно одни, встречались в кабинетах, в домах, где жили другие люди, которые могли появиться в любое время, и я утратила бдительность. Хью подвинулся ко мне поближе, провел пальцами по моему декольте, по птичкам наколки, я ощутила головокружительную дрожь, каким-то ветром из головы выдуло все трезвые мысли. Он взял у меня стакан, не торопясь, осторожно поставил его на столик. Я закрыла глаза и уступила. Через секунду он уже целовал меня, гладил щеки, проводил по волосам, а я говорила себе, что это надо немедленно прекратить, но сил никаких не было. Впрочем, легкое отвращение я все-таки чувствовала, ведь прошло совсем немного времени с тех пор, как я целовалась тут, на этом же диване, с Сэмом. Как по-разному от них пахло: от Сэма землей и ланолином, а от Хью только что вылезшей из принтера теплой бумагой. Территория была ему знакома, он знал, как надо меня ласкать, знал, что мне нравилось больше всего: сначала мягкие поглаживания с поцелуями, потом энергичней, еще энергичней, по мере того как разгоралась во мне кровь и вожделение охватывало все мое существо.
Мы не стеснялись издавать громкие звуки, они разлетались по всему дому, здесь нас никто не мог подслушать, и это раскрепощало, я совсем забыла о том, что ему не положено быть здесь, в Сорочьей усадьбе, на дедушкином диване, проникать в меня.
Я легла, уткнувшись лицом ему в грудь, а он губами мне в волосы. Перчатки сползли, но на мне все еще оставалось платье Доры. Мне было хорошо в этом платье, но я понимала, что так нельзя, что то, чем я занимаюсь сейчас, — мерзость. Я взяла себя в руки, выжидая момент, когда можно сказать себе: все, пора это дело кончать.
— Потрясающий дом, — пробормотал Хью. — Я и не знал, что он такой великолепный. Надо быть безумцем, чтобы выстроить посреди Новой Зеландии такой замок.
— Это не замок. Так, слегка смахивает.
— Ты что, думаешь, я смеюсь? Нет, мне он нравится, ей-богу, очень нравится. Но здесь чертовски холодно. И еще, посмотри на потолок, там такие пятна… он что, протекает? Тут нужен серьезный ремонт. В таком виде он практически нежилой.
Я села.
— Он хорош такой, какой есть.
Я ни слова не говорила ему про грядущий ремонт, и вот, пожалуйста, он тоже на их стороне.
— Но если он совсем развалится, какая будет потеря, ты представляешь?
Он взял меня за плечи и заглянул в глаза.
Я сбросила его руки.
— Тебе надо уйти.
— Ну, ладно, ладно. Не хочешь говорить об этом — не будем. Мне все равно надо возвращаться.
— Я не об этом. Я тебя бросила. Здесь тебя не должно быть.
— Ты что, это серьезно?
— Вполне. Черт побери, Хью, ты совсем не уважаешь меня? Являешься сюда, когда захочешь, и ждешь, что я вот так сразу упаду в твои объятия?
Он ухмыльнулся.
— Ага.
Потом обнял меня за талию и попытался снова втащить на себя.
Я уперлась руками ему в грудь и вскочила на ноги.
— Господи, ну какая же я идиотка! Уходи. Выметайся!
Я отвернулась, и взгляд мой случайно упал на окно. И вдруг я увидела в нем чью-то фигуру, которая тут же исчезла. Сердце мое так и прыгнуло.
— Черт возьми, ты это видел?
Хью тут же вскочил с дивана: должно быть, услышал нешуточный испуг в моем голосе и увидел мое лицо.
— В чем дело?
— Там кто-то подглядывает за нами.
Он быстро подошел к окну и, не успела я даже и представить себе, кто бы это мог быть и долго ли он там стоял, открыл его. Мне стало не по себе. Трудно было сказать, мужчина ли это был или женщина. Не разглядела как следует, какая-то темная фигура, тень, была — и растворилась в воздухе. Но не успела я открыть рот, как Хью вылез в окно и исчез.
Я села, скрестила руки на животе и сжалась в комок. Слава богу, в горячке страсти мы не успели раздеться, не считая, правда, моих трусиков, одиноко валяющихся на полу, как жалкий обрывок, все, что осталось от нашей любви. Дрожащими руками я снова надела их.
Скоро через кухню вернулся Хью.
— Никого нет. Ты хорошо их видела? Не догадываешься, кто это мог быть?
Я встала, хмуро покачала головой.
— Даже представить не могу.
— Ладно, ладно, успокойся, — он вытянул обе руки, призывая меня снова сесть. — Представить-то как раз можешь. Романов начиталась. Что-то похожее было, кажется, в «Повороте винта».[34]
Противно было признаться, но он был прав, поэтому я промолчала.
— Послушай, — он сел на диван рядом со мной, обнял и снова стал поглаживать. — Может, кто действительно и был там, но теперь никого нет, даже следов под окном не осталось. Может, и были, да дождиком смыло.
По тону его нельзя было понять, смеется он надо мной или говорит серьезно. Я чувствовала себя круглой дурой. Может, и вправду я просто боковым зрением увидела, как мелькнул локон моей прически. Или птица пролетела. Сорока.
Он перестал меня поглаживать и обнял крепче.
— Впрочем, кто-то все-таки был. Ты только не пугайся.
Сердце у меня снова забилось.
— На ступеньках перед кухней лежит мертвый опоссум. Странновато.
Я секунду молчала, пытаясь понять, о чем он говорит, и соображая, что ответить.
— Думаешь, кто-то нарочно оставил его там?
Не знаю, почему, но я говорила шепотом.
— Не говори глупостей. Кому это может быть нужно? Просто пришел больной и умер на пороге. Или собака придушила.
Не стану же я рассказывать, что Сэм приносил мне кролика, пришлось бы что-то сочинять, выкручиваться. Однажды Хью сказал, что мужчин я коллекционирую, как татуировки, но я не удостоила его ответом.
Сейчас меня мучил другой вопрос: этот опоссум — подарок мне, чтобы я сделала из него чучело, или некий знак, причем недружественного характера? Для моего душевного спокойствия лучше принять первое, но я плохо знала Сэма и не представляла, на что он способен. Может, попросить Хью остаться? Нет, это минутная слабость, сама мысль о том, что я нуждаюсь в нем как в защитнике, мне отвратительна. Да и ему тоже надо будет скоро возвращаться, так что спокойствие будет недолгим.
— Наверно, ты прав, — сказала я. — И мне, скорей всего, все-таки показалось, никого там не было. Извини. Я просто испугалась. Не надо было этого делать, ничего хорошего из этого не выйдет.
— Поехали со мной обратно, — вдруг сказал он, хватая меня за руки и прижимая их к своей груди. — Я отвезу тебя домой. Здесь так пусто. Ты здесь сойдешь с ума.
Он улыбнулся.
— Окончательно.
Я резко оттолкнула его.
— Пошел ты к черту. Что ты за мной гоняешься? Примчался, высунув язык. Еще неизвестно, кто из нас сошел с ума.
Улыбочка его сразу слиняла.
— Делай как знаешь. Просто я беспокоюсь за тебя, вот и все.
— Да ладно гнать волну. Хотел переспать со мной, ничего больше. Если б ты действительно думал обо мне, мы не попали бы в то дерьмо, в котором теперь оказались.
— Это не дерьмо.
— Ах-ах, извини, — сказала я с горечью в голосе. — Для тебя это не дерьмо. Ты весь чистенький и удобно устроился, верно? Ну а я не могу больше гадить твоей жене и детям.
— Да ладно тебе, Розмари, не строй из себя мученицу, ты прекрасно знала, на что идешь, когда связалась с женатым человеком. Ты все прекрасно понимала, а теперь выходит, я во всем виноват. Может, хватит?
— Вот и я об этом думаю. Хватит.
И собрав в кулак остатки воли, я вытолкала его за дверь.
Генри
Когда он приезжает в Редстрим,[35] имение Коллинзов с окруженным холмами довольно большим деревянным домом, идет дождь. Коляска едет по аллее, обсаженной молодыми дубками, и на мгновение ему вдруг кажется, что он снова оказался в Хирфордшире; кругом пастбища и возделанные земли, будто здесь никогда не было диких, заросших кустарником пустошей, по которым он совсем недавно путешествовал. Он рассчитывал, что его экспедиция продлится дольше, но через две недели наступили холода, и им со Шлау пришлось повернуть обратно и вернуться в город. Но для изучения этой страны еще будет время, когда придет настоящая весна и станет совсем тепло. Со Шлау он расстался без всякого сожаления, хотя тот удивил его тем, что, прощаясь, горячо пожал ему руку и пожелал всего доброго.
Созерцая раскинувшийся перед ним пасторальный пейзаж, Генри с трудом подавляет разочарование: вместо интереснейших местных птиц его встречают стада неопрятных овец, ближе к дому на лугу пасутся лошади, и всюду разгуливают утки с утятами. Скучный пейзаж скрашивают только скалы в отдалении; судя по цвету, это известняк, прикидывает он, и уже предвкушает, что там можно будет поискать ископаемые останки животных или кости.
Дом окружен ухоженным садом, на фоне зеленой травы выделяются яркие пятна рано расцветших рододендронов. Экипаж подъезжает к дому, и на крыльце появляется сам мистер Коллинз в сопровождении двух слуг, которые забирают и уносят багаж Генри. А мистер Коллинз, явно возбужденный больше, чем обычно, протянув руку, устремляется навстречу.
— Из Англии прибыли ваши контейнеры, сэр, — говорит он. — Мне пришлось бороться со страшным искушением открыть их и посмотреть, что за чудеса вы с собой привезли!
Генри ничего не понимает.
— Кроме тех, что я привез с собой, — говорит он, — не должно быть никаких контейнеров.
Умильная улыбка исчезает с лица мистера Коллинза, он смотрит на Генри с сомнением.
— Но… уверяю вас, мистер Саммерс, они адресованы вам. Может быть, это ваш батюшка распорядился прислать их?
Ну, конечно, думает Генри. Это отец. Как он мог быть таким слепцом? Все это время он говорил себе, что он приехал сюда, чтобы собрать коллекцию и отвезти ее в Англию, где он собирается жить постоянно. Но что сказал ему в тот день отец? «И пока ты там остаешься, будешь продолжать получать деньги». Эти контейнеры — напоминание, что угроза отца — не пустые слова.
Он стоит у окна своей комнаты, из которой видно крыльцо дома и ведущую к нему длинную дорожку. Он ушел к себе рано, сославшись на головную боль. Ему надо побыть одному, смочить лицо и голову прохладной водой.
Глядя на уходящий вдаль пейзаж, он думает: «Смогу ли я жить здесь? Смогу ли я прожить здесь достойно?»
Нелепая мысль. Конечно, не сможет. Вдали от Королевского научного общества, от Европы, от друзей. Он не рожден для жизни в колонии; остаться навсегда в этой далекой стране, влачить здесь существование, тщетно мечтая снова вернуться домой. Да и как он вернется, огромный Тихий океан разделяет его с домом. Об этом не может быть и речи.
И все же, как он предполагает здесь жить? Отец обеспечивает его очень даже приличным содержанием. Без этих денег ему не прожить. Он пытается представить себя, низведенного до положения такого человека, как Шлау, например, набивающего чучела для местных второсортных музеев и отчаянно пытающегося продать образчики местной фауны и артефакты, которые он добыл таким путем, который, мягко говоря, не совсем согласуется с правилами морали. Пока у него порядочная коллекция, которая дает неплохой доход, но что будет, когда все это кончится? Как коллекционеру Генри отвратительна эта мысль — если он продаст коллекцию, то больше никогда не увидит этих сокровищ, не вспомнит об опасностях, которым подвергался, добывая их. Останется лишь полный карман звякающих монет. Только наколки напомнят ему обо всем, что было, только их у него никому не отнять.
Легким галопом к дому приближается лошадь. На ней женщина, она сидит в дамском седле и, подъехав ближе, резко останавливает животное и спрыгивает на землю. Даже отсюда видно, как раскраснелись от быстрой езды ее щечки; он замечает, что юбки ее — разделенные, как штаны — мокры, словно она только что переплыла верхом через протекающую поблизости речку. Выбегает слуга, чтобы взять повод и увести лошадь, но, махнув рукой, она отправляет его обратно, сама берет за повод и ведет животное на конюшню. Вытирает рукавом лоб. Проходит у него под самым окном, слишком близко, и Генри ее уже не видит.
Настроение сразу поднимается, но после долгого путешествия его вдруг охватывает усталость. Он ложится на мягкую кровать и засыпает.
За обедом он спрашивает о Доре, но, похоже, они с мистером и миссис Коллинз будут обедать без нее. Грустно, думает Генри, несмотря на веселую оживленность мистера Коллинза. Кажется, тот совсем недавно женился на этой застенчивой женщине, ей где-то тридцать с небольшим, в личике ее есть что-то воробьиное. Дора — его единственный ребенок, она никогда не знала матери, умершей во время родов. Генри думает, что новая миссис Коллинз еще вполне молода, чтобы подарить мужу детей, хотя трудно представить себе, что у них получится красивое потомство. Коллинз — лысеющий человек плотного телосложения, когда он улыбается, лицо его покрывается морщинами и становится похожим на печеную картофелину. Дора, должно быть, пошла в мать.
Разговор за столом заходит о контейнерах Генри и о том, что в них может лежать. Генри машинально отвечает на вопросы; он способен рассказывать истории о своих приключениях в любом обществе, и в Коллинзах находит внимательных и благодарных слушателей, но еще не успели принести сладкое, а он уже чуть не зевает. Как хочется поскорей посмотреть, что прислал ему отец; скорей всего, упаковал все, что было в кабинете Генри, — все его шкафы с диковинками, а может, лишь самое лучшее из коллекции, и в таком случае у Генри будет предлог вернуться. Но с контейнерами можно подождать и до утра.
— Ну, что вы решили, долго задержитесь в Новой Зеландии? — спрашивает мистер Коллинз.
Генри подозревает, что он хочет что-то разнюхать, может, чует какой-то скандал; все это дело с контейнерами и реакцией Генри на их посылку наверняка раззадорило старого сплетника.
— Сам еще не знаю, — отвечает Генри и делает еще один глоток вина.
Алкоголь слегка туманит ему голову, и он уже даже рад, что Дора не видит его.
— А что, если я здесь останусь? Как вы считаете, чем тут может заняться человек моего положения?
Коллинз сияет и потирает руки.
— Ну, — говорит он, — даже не знаю, что сказать. Не петь же дифирамбы нашему маленькому здешнему обществу. Я сам вырос, как вам известно, в Суррее,[36] а большую часть юности провел в Лондоне. Меня привлекли сюда слухи про «шерстяных королей» Южного острова, о том, как они фантастически здесь разбогатели. И скажу вам, сэр, я не был разочарован. Здесь можно делать деньги, если, конечно, этого вы, — тут он сделал паузу, чтобы подобрать словечко поучтивее, — желаете.
Не сказал «в этом нуждаетесь», — отмечает про себя Генри.
А Коллинз продолжает:
— Мы здесь создали такое общество, что у нас есть все, что нам надо. Деньги, комфорт. Слуги, хорошая еда, прекрасная одежда. Мирная сельская жизнь, активная общественная деятельность, положительно много развлечений в городе, с балами, оперой, театром и даже с ипподромом — в общем, все, что может пожелать джентльмен.
Он искоса смотрит на жену, но она, похоже, не замечает подтекста последних слов. Впрочем, Генри и сам не знает, понял ли, что тот имеет в виду, хотя, скорей всего, это означает только одно. Он уже успел воспользоваться услугами, в которых нуждается джентльмен, это происходило в тускло освещенном доме на одной из улиц, названной в честь какого-то английского графства.
— Короче говоря, сэр, — продолжает Коллинз, — здесь можно устроить себе великолепную жизнь, а возможно, даже еще более великолепную, чем в самой Англии, если только по-умному вкладывать свои деньги. Здесь мы построили новую Англию. Я понимаю, все мы только и говорим о нашей родине, о том, как страстно мы хотим туда вернуться, но мне рассказывали о людях, которые на старости лет отправлялись туда доживать последние годы и потом до самой смерти тосковали по здешней жизни. Так и померли, мечтая о Новой Зеландии.
Вульгарные разговоры о деньгах Генри не по вкусу, он так воспитан, что к деньгам привык относиться, как к воздуху, который всегда есть, о них в семье никогда не говорили, но слова Коллинза дают немало пищи для размышлений. Вечером он уходит к себе. Когда ложится в постель, в голове уже начинает вырисовываться план действий. Ах, если бы самому сколотить богатство, он смог бы обойтись без денег отца, остаться здесь на несколько лет, снова начать путешествовать по свету, там, где не ступала нога человека, и по-настоящему обрести свободу.
Коллинз приказал отнести контейнеры в библиотеку, которая расположена в южной стороне дома, где всегда прохладно и темно. Он топчется вокруг и не уходит, надеясь стать свидетелем появления сокровищ из присланных ящиков, но Генри просит, чтоб тот оставил его одного. Пока контейнеры еще не открыты, жизнь его не обернулась к нему своей худшей стороной. Его коллекция — это все, что дает смысл его существованию. И если она теперь здесь, в Новой Зеландии, значит, эта страна автоматически становится его новой родиной. Нельзя сказать, что Генри очень этого хочется.
Он долго сидит в полумраке один, уставившись на деревянные контейнеры — здесь вся его жизнь, уместившаяся в несколько ящиков, лежащих на ковре чужого дома, в чужой стране. Комната окружена по периметру книжными полками, книги в одинаковых кожаных переплетах, без сомнения, скупленные оптом, чтобы гости знали: здесь живут образованные, начитанные люди. Интересно, кто-нибудь из них снимал с полки хоть одну книгу?
Он встает и с молотком в руке обходит ящики. Со стоном отрывается первая доска, на ковер падают опилки. Слава богу, хоть хорошо упаковано. Ага, в этом ящике коробочки с насекомыми и небольшими рептилиями, все до единой, и чтобы достать их, приходится потрудиться. Он не торопясь открывает одну за другой, чтобы убедиться, что с образцами ничего не случилось, а заодно и полюбоваться ими. Вот очень редкая бабочка, цитериас аврорина, с ярко-розовыми пятнышками на прозрачных крылышках. Он вспоминает, как подвернул ногу на корневище дерева и, не замечая боли, продолжал преследовать ее, пока не поймал в сачок. А вот и ящерицы, достаточно большие, чтобы набить из них чучело, но вполне помещающиеся в коробке. Будь они хоть немного меньше — пришлось бы хранить их в банке со спиртом. Арахниды,[37] как ядовитые, так и безвредные, колеоптеры[38] с твердыми крылышками и растопыренными лапками; кажется, вот-вот побегут, и Новая Зеландия станет и им второй родиной. Все в целости и сохранности.
В другом контейнере одна из банок разбилась: как только он открывает его, в нос ударяет тошнотворный запах формальдегида. Он поднимает липкое тельце гадюки и кладет его на голый дощатый пол рядом с ковром, потом осторожно разворачивает остальные банки и выстраивает их рядом. Тут есть и кальмар, еще другие ящерки, а еще отвратительные и страшные диковинки: утробный плод и стопа ребенка, другие части его тела. В мягком освещении библиотеки они кажутся почти прекрасными. Он никогда не испытывал к ним брезгливого чувства, они кажутся ему удивительными, достойными восхищения; когда Генри уговорил своего друга-хирурга, и тот достал их для него, он был просто в восторге.
Дверь неожиданно открывается, и он вздрагивает. Быстро заслоняет собой свои банки, оглядывается. В библиотеку входит Дора Коллинз и в полумраке не сразу замечает его.
— О, простите, — говорит она. — Я не знала, что вы здесь.
Она протягивает ему три книжки, в тех же самых кожаных переплетах, что и все остальные.
— Я просто хотела поставить их на место. Я сейчас уйду.
— Нет-нет, пожалуйста, — откликается Генри. — Проходите, прошу вас.
Он торопливо укладывает образчики человеческого тела обратно в ящик и закрывает крышку.
По самому краю комнаты Дора проходит в самый дальний ее конец, не отрывая от него взгляда, словно боится повернуться к нему спиной. На ней простенькое белое муслиновое платьице, которое придает ей свежесть и очарование юности, как и копна буйных светлых волос.
— Пожалуйста, не обращайте на меня внимания, — говорит она, поворачивается спиной, чтобы достать специальную лесенку; установив ее, она собирается подняться наверх.
— Можно, я вам помогу? — спрашивает Генри.
— Нет, спасибо. Она довольно устойчивая.
Дора поднимается на три или четыре ступеньки и ставит книжки на место.
Генри продолжает свое занятие, непрерывно сознавая, что, двигаясь вдоль полок и выбирая книги, Дора то и дело с любопытством поглядывает в его сторону. Скоро обнаруживается, что не хватает одного из ценнейших предметов коллекции — тигровой шкуры. Генри тяжело вздыхает. Она лежала на полу, и, возможно, отец просто не обратил на нее внимания, это легко могло случиться, но Генри подозревает, что ему очень хотелось оставить ее себе, и теперь весь пот, который Генри пролил, трудясь над ней, коту под хвост. Еще одно оскорбление. Слава богу, у него осталась татуировка, теперь только она будет напоминать ему о тигре.
Фальшивая русалка здесь; впрочем, довольно омерзительная, и Генри оставляет ее лежать в контейнере. По правде говоря, ему больше нравится та, что выколота у него на бицепсе, на нее уж точно смотреть приятно, она такая женственная со своими округлостями, с пышной грудью, скрывающейся под водопадом длинных, золотистых волос. Но желание иметь эту подделку в своей коллекции слишком велико, хотя бы для того, чтобы любоваться, до чего может дойти человеческое нахальство.
Он уже забыл, что в комнате он не один, как вдруг слышит сдавленный крик и, обернувшись, видит, как она падает на пол.
— С вами все в порядке?
Он подает ей руку, и она поднимается.
— Как глупо, — говорит она. — Простите меня, мне очень стыдно.
— Но вы не ушиблись?
— Нет, нисколько, — уверяет она; впрочем, к стулу идет, слегка прихрамывая, и не садится, а буквально падает на него.
— Вы не могли бы…
Она протягивает руку в сторону рассыпавшихся по полу книжек. Передавая их ей, он смотрит на названия: «Замок Отранто»,[39] «Тайна Удольфского замка»,[40] «Нортенгентское аббатство».[41] Сентиментальная чушь, дальние страны, замки, в которых сидят красавицы и ждут прекрасного рыцаря, который придет и освободит их.
— Я вижу, вы любите читать романы.
Дора вспыхивает и пытается спрятать книги в складках юбки.
— Так, просто для развлечения, — говорит она. — Я и другие книги читаю. Просто иногда… иногда я люблю мечтать, что живу где-нибудь в другой стране, не в Новой Зеландии, и жизнь моя состоит не из одних балов и пикников, и что вокруг не одни и те же лица. Иногда я здесь просто задыхаюсь. Вы ведь можете это понять, сэр, правда?
— О, больше, чем вам может показаться.
Он усмехается.
— Мы так далеко от всех, от всего. На корабле до Лондона плыть несколько месяцев. Не говоря уже о Европе и других континентах, на которых я мечтаю побывать.
— Вполне понимаю вашу стесненность с географической точки зрения, мисс Коллинз. Вообще-то, в некотором смысле, я и сам до сих пор пребывал в точно таком положении.
— О, простите, — говорит она, — но ведь перед вами открыт весь мир, я уверена в этом. Когда-нибудь вы обязательно должны рассказать мне про свои путешествия. Как, наверное, это было удивительно и чудесно! Сколько удивительного вы видели, сколько привезли с собой!
Дора оглядывается и смотрит через плечо, глаза ее с надеждой пробегают по ящикам, и вдруг взгляд ее застывает, словно на что-то наткнулся.
— А это что там такое, змея?
Она закрывает ладонью свой изящный ротик.
— Мне так хочется посмотреть на настоящую змею! Она у вас как живая.
Генри совсем забыл про змею, которая лежит, свернувшись кольцами, на голом полу, действительно, совсем как живая; в приглушенном освещении чешуя на ней тускло поблескивает. Ее любопытство производит на него впечатление; любая из лондонских дам при виде змеи, неважно, живой или мертвой, сейчас бы завизжала и, зарыдав, бросилась к двери.
— Боюсь, она уже начала разлагаться, — говорит Генри.
Забыв про ушиб, Дора встает со стула и идет к змее.
— Ближе не подходите, — говорит он.
Она нерешительно останавливается.
— Может, хотите посмотреть еще что-нибудь? — спрашивает Генри.
Она кивает.
Генри не может не думать о том, что с тех пор, как он встретился с ней на площади возле кафедрального собора, отношение ее к нему изменилось, а тот факт, что она не вышла к обеду, только подтверждает его догадку: она его избегает. Но теперь Дора общается с ним не только охотно, но даже тепло. Интересно, думает он, имеет ли эта перемена отношение к его сокровищам или, что более вероятно, к романами, которые она принесла в библиотеку, точнее, к героям этих романов?
— Посмотрите на этих бабочек, — говорит он. — Настоящие бриллианты джунглей. Погодите минутку.
Он достает коробки из первого контейнера и выбирает коллекцию с бабочками-морфами,[42] которых он поймал на Амазонке. Под стеклом они сверкают, как сапфиры.
— Какие красивые, — вздыхает она. — Никогда таких не видела. Здесь у нас бабочки маленькие и такие невзрачные. Вы говорите, поймали их на Амазонке? Наверное, было очень опасно?
— В общем-то, да, — признается он. — Впрочем, не опасней, чем здесь, просто опасностей больше.
— А какие?
— Дайте подумать. Ну, во-первых, насекомые. Потом змеи. Крокодилы. Рыбы-людоеды.
С каждым его словом глаза Доры раскрываются все больше. Он продолжает, входя в роль отважного путешественника и искателя приключений:
— Местные жители не всегда были дружелюбны. Потом, болезни. Холера. Желтая лихорадка. Я подхватил малярию, она до сих пор меня беспокоит. Но не бойтесь, она не заразная.
— А зачем вам так много?
— Простите, не понял?
— Бабочек. У вас тут больше сорока, и все одинаковые. Зачем надо было убивать так много? Для продажи?
— В общем-то, я…
Секунду он раздумывает, что ответить.
— Цель коллекционера не в том, чтобы копить все больше и больше.
— Правда? Но я не понимаю. То, что я вижу перед собой, говорит о другом.
— Трудно объяснить. Это как голод. Дело не в количестве, а в разном качестве. Для вас эти бабочки на одно лицо. Но я вижу сорок совершенно разных созданий. Одной всегда не достаточно, коллекционер ищет образец, который еще лучше, в котором в совершенстве выразился весь вид.
— Значит, сколько ни лови, все будет мало?
— О, поначалу действительно можно подумать, что вы правы. Но когда видишь еще одну, и она крупней или более симметрична, или ярче расцветкой, то понимаешь, что поиски только начались. Вы сами, мисс Коллинз, когда-нибудь поймете, если найдете что-то такое, что вам захочется собирать, коллекционировать. Вам все будет казаться мало.
— Могу только надеяться, мистер Саммерс, — она загадочно улыбается. — Но что касается этих бабочек… Мне они очень понравились, все до одной, так что, возможно, я уже на пути к цели. Хотя с гораздо большим удовольствием смотрела бы, как они порхают по джунглям, а не видела бы их мертвыми совсем в другом полушарии. Но, полагаю, мне остается об этом только мечтать.
— Если очень сильно мечтать, все сбудется, — говорит Генри.
— Вы так думаете?
Тут их разговор прерывается: мимо полуоткрытой двери проходит мистер Коллинз и, не утерпев, просовывает в щелку голову.
— Дора!
Его дочь вздрагивает. Он жестом зовет ее к себе, она повинуется. Коллинз закрывает дверь, но Генри слышно, как он выговаривает ей. «Верх неприличия», — доносится до его ушей.
Через секунду дверь открывается снова.
— Приношу свои извинения, мистер Саммерс. Надеюсь, моя дочь не очень докучала вам своей праздной болтовней. Боюсь, она слишком много читает романов. Я знаю, что вам хотелось побыть одному.
— Ничего страшного, — говорит Генри. — Я уже заканчиваю.
Коллинз просачивается в комнату.
— Хорошо все дошло?
— По большей части, — отвечает Генри. — Не желаете ли взглянуть?
Лицо Коллинза расплывается в широченной улыбке. Этого приглашения он только и ждал.
Мистер Коллинз — безукоризненный хозяин. Относительно дальнейших намерений Генри он задает мало вопросов, и ему доставляет огромное удовольствие знакомить его с вереницей посетителей. Образ жизни здесь как две капли воды похож на образ жизни в любой английской деревне: соседи могут нагрянуть в гости в любой день недели, таща с собой на буксире кучу родственников и слуг, и хозяева должны занимать их, кормить и предоставлять ночлег. Время они проводят так же, как и везде зажиточные слои общества, которым не нужно трудиться ради куска хлеба: пикники, охота, игры, праздные разговоры, как правило, это сплетни о том, что происходит в городе.
К его большому разочарованию, он не встретил еще здесь ни одного человека маори. Шлау подогрел его интерес к этим людям, и ему очень хочется с ними познакомиться, чем-нибудь обменяться, посмотреть на их знаменитые «моко». Такое впечатление, будто их вообще изгнали с острова. Возможно, ему больше повезет на севере.
Редстрим не похожа на настоящую ферму, где люди занимаются сельским хозяйством; жизнь рабочих, забота о поголовье скота не касается будней этого дома, и вид какой-нибудь отбившейся от стада овцы может вызвать у дам обморок. Каждое утро Коллинз садится на лошадь и куда-то уезжает и возвращается через несколько часов, но мало говорит о своих проблемах: для того чтобы решать их, у него есть управляющие. Единственный намек на переживаемые трудности Генри улавливает, когда за обеденным столом с соседями заходит разговор о нашествии кроликов, угрожающих уничтожить пастбища.
— Но это поразительно, — говорит Генри. — Кроликов ведь привезли из Англии, разве не так? И на них здесь не оказалось хищников? Следовательно, колонисты нарушили в этой стране естественный порядок вещей.
Он очень хочет завести разговор на темы естественной истории, но собравшиеся молчат, будто воды в рот набрали, пока кто-то не решается сменить предмет разговора. Очевидно, на кроликов тут жаловаться можно, но только не на вероятную причину этой проблемы. Но ведь это смешно. Никто не смотрит ему в глаза, все избегают его взгляда. За исключением Доры. Она улыбается ему и слегка кивает, словно говоря: «Я с вами согласна». Это производит на него мгновенное действие. Дыхание успокаивается, краска с лица уходит. Поразительно, что эта женщина, да и вообще любая женщина, способна одним взглядом успокоить его. Надо как следует присмотреться к ней, он уже не сомневается в том, что эта девушка не простая, в ней есть что-то особенное. Он улыбается ей в ответ, и еще минуту они не отрываясь смотрят друг на друга.
Дора
Дора испуганно просыпается: кровать ее, дрожа, едет по полу. Она еще не вполне проснулась, ей кажется, что они с отцом плывут на корабле, на котором в прошлом году возвращались из Англии, но через несколько секунд она понимает, что это не так. Земля, которая накануне вечером волновалась и вздыхала, к ночи совсем разгневалась и швыряет деревянный дом из стороны в сторону. Дом скрипит и стонет: таз для умывания падает и разлетается вдребезги. Она сворачивается клубочком, сжимает коленки и ждет, пока все не утихает.
Тишина, которая наступает после, кажется, длится вечность. Она вдруг чувствует, как ей сейчас не хватает матери, которой она никогда не видела, но к ней прибегает отец, он врывается в комнату с криком: «Дора, Дора, ты не ранена, с тобой все в порядке?»
Он садится на край ее кровати, и она скрепя сердце позволяет ему обнять себя; спустив ноги на ледяной пол, она чувствует, как здесь холодно, как комната выстыла за ночь, а все ее простыни от землетрясения сползли на пол. Отец обнимает ее, как обнимал, когда она была еще совсем маленькой девочкой, пока Дора совсем не перестает дрожать; и все время за открытой дверью маячит чья-то тень. Это ее мачеха.
Ужасно, что у нее есть от отца тайны, но прошлым вечером, когда закончился бал и последние гости откланялись, он сразу ушел, они с Генри остались одни, и Генри пообещал на следующее утро с ним поговорить.
Все произошло накануне вечером. На балу она наблюдала за Генри через всю комнату: все местные дамы, казалось, из кожи лезли вон, демонстрируя перед ним свои прелести, используя любую возможность пройти мимо него. С несколькими он говорил и даже успел их очаровать, и, отходя от него, они, прикрываясь веерами, перешептывались. Но когда начались танцы, он твердо встал у стены и стал всех разглядывать с таким видом, будто сам еще не решил, что делать: любоваться происходящим или со скукой отвернуться.
Вдруг он заметил ее, глаза их встретились, и она не отвела взгляда. Вот уже две недели он гостит в доме отца, и она достаточно хорошо изучила его и знает, что он не выносит жеманства. Поначалу она избегала его, это правда, но теперь понимает, что была глупа, этакая глупенькая гордячка, а все из-за того вечера, когда он много выпил. И зачем она слушала советы своей подруги, Кейт Джонсон? И только случайная встреча в отцовской библиотеке заставила ее переменить о нем свое мнение. Ни один из мужчин, которых она встречала у соседей или в городе, не произвел на нее такого впечатления. Все они только талдычат о родине, но кто из них был хоть раз в Англии? Хорошо, если половина наберется. Они вполне довольны жизнью здесь, у всех есть дом в городе и дом в деревне; лица у них темные от загара, смех похож на лошадиное ржание, они заняты только тем, что сколачивают капиталы, ходят по гостям и на скачки.
А мистер Саммерс совсем другой человек. Прежде всего, он говорит только тогда, когда ему есть что сказать, в его словах есть смысл. В тот день в библиотеке, когда он распаковывал свою удивительную коллекцию, он не вертелся перед ней, не старался завести учтивый разговор о погоде, как делают ее поклонники, он вообще не обращал на нее внимания. Казалось, он поглощен своим занятием, бережно вынимал каждый предмет и смотрел на него так, словно переносился в прошлое, когда приобрел его. А какая у него поразительная коллекция! Ей самой страстно захотелось хоть немного узнать о том, что он видел и с каким трудом добыл свои сокровища. А гадюка, открыто лежащая на голом полу — на ее полу, в доме, где она выросла, — произвела на нее такое впечатление, что ей захотелось опуститься перед ней на колени, взять ее в руки и обернуть вокруг себя, словно это не ядовитая змея, а шелковая шаль.
С того самого дня они стали чаще встречаться и проводить время вместе. Отец сначала это не очень одобрял, но потом смягчился и уже позволял ей гулять с мистером Саммерсом, и она показала ему заросшее кустарником местечко на берегу реки, где можно было, стоя на корточках возле поваленных стволов, ковырять маленькой лопаткой плодородную землю и искать насекомых. Отец считал, что ей повезло, теперь у нее есть кавалер, ведь в Англии юные дамы не ходят без сопровождающего.
Мистер Саммерс пару раз присоединялся к семейству, когда они с соседями выезжали на пикник, и те безжалостно выпытывали из него подробности его жизни в Англии, путешествий. Он вежливо отвечал, лишь вздувалась вена на шее и выступали скулы, когда он сжимал зубы. Ей казалось, что сейчас он огрызнется и ответит какой-нибудь грубостью, но он встречался с ней взглядом и сразу успокаивался.
Интересно, думала Дора, уж не смотрит ли он на собравшихся на балу гостей, как на стадо диких животных, скажем, стаю гиен, пришедших на водопой, а заодно покопаться в грязи в поисках лакомого кусочка. Она попыталась увидеть происходящее его глазами: вот миссис Йейтс, как всегда вырядившаяся не по годам, словно юная девица; в прическе ее торчат желтые перья, она то и дело прихорашивается, как какаду. В углу сидит старый мистер Доддс; с выдающимся лбом, он похож на огромного носорога, то и дело сует в рот бутерброды с ветчиной и ни на кого не смотрит. Сестры Уиттер, собравшись в тесный кружок, о чем-то возбужденно шепчутся, стреляя по сторонам глазками; они похожи на газелей с тонкими длинными конечностями, почуявших присутствие льва.
К ней подошел мистер Саммерс, и она спрятала улыбку.
— Вижу, вам весело здесь? — спросил он.
Она кивнула.
— Все идет как обычно, ничего нового. Эти балы похожи один на другой как две капли воды: те же люди, те же наряды, та же музыка. И разговоры одни и те же.
— Вы отсюда все время смотрели на меня. Думаете, я не заметил? Наверно, считаете меня красавцем, да?
— Вовсе нет, сэр, — ответила она.
— Мисс Коллинз, вы вонзили кинжал в мое сердце.
Для наглядности он положил ладонь на воображаемую рану, откуда якобы хлестала кровь.
— Зато остальные дамы считают, что вы неотразимы. Почему вы ни с кем не танцуете? Пожалейте бедняжек.
— Не люблю танцевать. Вы ведь меня знаете, я человек слишком серьезный для столь легкомысленных занятий.
Она собиралась что-то сказать в ответ, но вдруг заметила, что стоящая рядом на каминной полке ваза с цветами мелко дрожит. На мгновение пол ушел у нее из-под ног, и, чтобы не упасть, Дора схватилась за руку мистера Саммерса.
— Вы обратили внимание? — спросила она, покраснев и убрав руку.
Она оглядела зал: кажется, ничего не изменилось, танцы в самом разгаре, нетанцующие гости стоят, сидят и разговаривают как ни в чем не бывало.
— Да, — ответил он, и она с облегчением вздохнула. — Небольшие толчки. Уверен, что беспокоиться не о чем.
И все же она встревожилась, ей стало невыносимо жарко.
— Вам нехорошо? — спросил он. — Вы так покраснели. Может быть, вам нужно на воздух?
Он проводил ее на террасу в задней части дома. Стояла ясная и пронизывающе холодная ночь. Кругом было тихо, лунные лучи падали на каштан, выделяя на коре его резкие борозды. В детстве она могла лежать в его тени часами, разглядывая узоры на листьях и на стволе. Трудно было представить, что несколько мгновений назад земля сама по себе шевелилась и двигалась, хотя и довольно лениво.
— Приходится признать, что здесь очень красиво, — сказал Генри.
— А вы как думали? Я выросла здесь, мистер Коллинз, и была очень счастлива.
— Но вам этого мало.
— Может быть, да, хочется того, что есть у вас.
— А если я скажу, что хотел бы иметь то, что есть у вас, что подумываю остаться здесь навсегда?
— Я бы ответила, что ваши слова меня удивляют.
Она умолчала о том, что они еще и радуют ее, даже очень.
— На днях я познакомился на почте с одним человеком, вы, наверное, знаете его, это мистер Ист. Он здешний директор школы, но, как и я, родился в порядочной семье в Англии и… сам решил начать здесь новую жизнь. Он очень тонкий знаток ботаники и частенько отпускает своих учеников домой пораньше, чтобы отправиться собирать гербарии. Порой и детей берет с собой на природу, знакомит их с местной флорой.
Дора молча слушала и не понимала, к чему он клонит. Она слышала про этого мистера Иста, но лично с ним не была знакома — говорят, он застенчив, избегает общества, хотя и не женат.
Генри, между тем, продолжал:
— Так вот, мистер Ист рассказал мне, какие тут богатые возможности для изучения природы, даже в этих местах, не говоря уже про другие районы страны, которые я хочу исследовать в будущем. Он говорит, что тут можно без труда отыскать кости птицы моа, а ведь кости вымерших животных высоко ценятся, особенно в Англии. Он предложил познакомить меня с местными энтузиастами и брать с собой в любую экспедицию, стоит мне пожелать, совсем недалеко отсюда есть много очень любопытных мест.
От волнения он заговорил громко. А Дора слегка разочаровалась: конечно, она счастлива, что он остается, но как жалко, что он не планирует полных приключений экспедиций куда-нибудь подальше от этих мест. Еще бы, разве Новая Зеландия может сравниться с Африкой или Бразилией? Впрочем, она надеялась, что он остается не из одной возможности найти несколько древних костей.
— И ради этого вы решили навсегда отказаться от Англии?
— Нет, зачем навсегда? Англия никуда не денется. Просто я решил купить здесь кусок земли, построить дом и пожить здесь пока, сколько потребуется.
— Сколько потребуется?
— Чтобы стать независимым.
Дора смутилась.
Генри вздохнул и закрыл лицо руками.
— Это все так запутанно, — простонал он. — Мне стыдно пересказывать вам все мои обстоятельства. Но, мисс Коллинз…
Она удивилась, когда он взял ее за обе руки.
— Не сомневайтесь, мне очень хочется, чтобы исполнились все ваши желания. Мы поживем здесь немного, каких-нибудь несколько лет, а потом будем свободны, отправимся, куда захотим, станем изучать и исследовать мир со всеми его чудесами.
Ее вдруг охватила дрожь.
— Мистер Саммерс, — сказала она. — Что это такое вы мне говорите?
— Я говорю, что, если смогу найти подходящее место, которое можно будет назвать моим домом, я бы хотел, чтобы вы разделили его со мной. Будьте моей женой.
— Ну-ну, — говорит отец, устраивая ее поудобней и подкладывая под спину подушку.
— Который час? — спрашивает она. — Кажется, я больше уже не засну.
— Где-то половина пятого, — отвечает он. — Светать начнет еще через три часа, а ты ведь совсем не выспалась.
— А ты что будешь делать?
— Посмотрю, как там наши слуги и гости. Хорошенький прием в новой стране для мистера Саммерса!
— Я пойду с вами, — говорит она.
— Ни в коем случае, я запрещаю.
Отец тверд в своей решимости, и она снова ныряет под простыни.
— Прекрасно, — говорит она, — но спать я все равно не буду.
Он уходит, и Дора слышит его шаги по дому, его голос. Генри не может сейчас прийти к ней, она понимает это, но в доносящихся звуках не слышно тревоги, значит, он цел и невредим. Вопреки собственным прогнозам, она погружается в неглубокий сон, а когда в спальню просачивается рассвет, быстро встает и подходит к окну посмотреть на окружающую местность.
Меньше чем в двадцати футах от дома в глаза сразу бросается глубокая трещина в земле. Она проходит как раз по тому месту, где растет ее любимый каштан; ствол его разорван пополам.
Розмари
Я прислушивалась к звуку мотора, пока он не слился с шумом дождя и отдаленным ревом разбушевавшейся реки. Целых два дня я не выходила из дома, и, хотя я очень его любила, с отъездом Хью его большие пространства и темные комнаты, в которых к тому же стоял невыносимый холод, выбивали меня из колеи. Хью был прав: я погрязла в материале своей диссертации, слишком много размышляла о наших семейных призраках, Генри и Доре, а тут еще чья-то рожа в окне; хоть пиши сценарий для фильма ужасов.
Дождь все не переставал, но пора уже было выйти прогуляться. Я втиснула ноги в резиновые сапоги, стоящие у черного входа, и надела дедушкину большую непромокаемую куртку, которая доставала мне до колен.
Про опоссума я совсем забыла и, открывая дверь, чуть не споткнулась о него. Но заниматься с ним не хотелось, я оставила его лежать там, где он лежал, и вышла навстречу ненастью. Пробежавшись по грязи и лужам, спотыкаясь о пучки травы, выросшей на жирной почве, я пошла куда глаза глядят, и ноги сами принесли к утоптанной тропинке через луг, мимо Сорочьего пруда к реке и дальше с добрый километр вдоль берега. По ней мы когда-то любили ездить верхом, а летом снимали с лошадей седла и купали их в пруду.
От нескончаемого проливного дождя река поднялась и вспухла. На тропинке легко было поскользнуться и упасть в стремительный поток. А упадешь — закрутит и унесет к черту на кулички. Я представила, как в этом потоке тонет Дора, как холодная рука ее в последний раз поднимается над водой и исчезает навсегда.
Я шла вверх по течению, спотыкаясь о скользкие кочки. Капли дождя, падая на лицо, бодрили, а этого мне и надо было. На огороженных пастбищах под деревьями жались друг к другу овцы, и с важным видом прохаживались стайки сорок. Господи, сколько их тут, этих черно-белых представителей семейства врановых! Выглядели они зловеще и не спускали с меня своих блестящих глазок. Я стала считать, дошла до семи и бросила. Подошла ближе, и они забеспокоились, взволнованно заходили взад-вперед, остановились, словно советуясь друг с другом, и попрыгали от меня подальше. Несколько птиц, захлопав крыльями, взмыли в воздух.
Я остановилась: мне стало не по себе. Потом повернулась и по той же дорожке двинулась обратно, но было уже поздно: сороки меня опередили. Капюшон сполз, и непокрытой головой я ощутила ветер от крыльев, услышала противное карканье: они пикировали прямо на меня и только в самый последний момент резко сворачивали в сторону. Я снова поскользнулась на мокрой траве и на этот раз упала. Одна из сорок набралась смелости и решила атаковать, и рука моя оказалась ненадежным прикрытием. Сильный удар в голову и острая боль заставили меня вскочить на ноги и сделать попытку бежать, но когти злобной птицы увязли в моих влажных волосах и больно царапали череп. Я закричала, скорее от испуга, чем от боли, но мне удалось оторвать от себя эту тварь, и она улетела. Но не угомонилась и, сделав круг, приготовилась к новой атаке; вдруг поблизости раздался громкий выстрел, он прокатился по всей долине и растворился в шуме реки.
Сороки ретировались. Я стояла на месте, вытирая лицо испачканной грязью рукой. Оглянулась и увидела шагающего ко мне по траве Сэма с дробовиком в руке.
Я не побежала к нему, боже упаси, повернулась к нему спиной и ждала, пока он сам подойдет, чувствуя себя полной идиоткой.
— С тобой все в порядке?
Он взял меня за руку и развернул лицом к себе.
— Все нормально. Спасибо.
Из-за рева разбушевавшейся реки нам приходилось кричать. Я перевела взгляд на его руку, которой он все еще держал меня, и он отпустил.
— Эти сволочи бывают очень опасны. Черт возьми!
Он смотрел на мою прическу, я ощупала ее и посмотрела на свои окровавленные пальцы.
— Здесь тоже поцарапано.
Он указал на мой лоб, и я машинально вытерла его.
— Ты просто все размазала. Давай отведу тебя домой, осмотрю как следует. Скорей всего, ничего страшного, из головы всегда идет много крови. Но на всякий случай надо обработать.
Что тут скажешь, он прав. Сама себе осмотреть голову я не могла. Без него тут никак не обойтись.
— А что ты тут делаешь с ружьем? Господи, ты что, стрелял, когда они на меня напали?
Он фыркнул:
— Конечно, нет. Что я, дурак, что ли? Выстрелил в воздух, чтобы испугать. Проделал дырку в небе, как говорил мой папаша. Чтоб дождика выпало больше.
Несмотря на жгучую боль в голове, я невольно улыбнулась.
— А на кого охотился? На опоссумов?
— На кроликов. Когда дождик кончается, они вылезают из нор. Вот сволочи! Хочешь, принесу? У меня их завались. Наделаешь чучел, будут защищать тебя от сорок.
Ума не приложу, почему он показался мне опасным. Воплощение веселья и дружелюбия. Не скажу, конечно, что он мой рыцарь, но как-никак он спас меня от врагов.
— Спасибо тебе, — сказала я.
Он взял меня за руку и пожал ее, и, хотя мне было очень неловко, я не отнимала руки до самого дома. Мы прошли вокруг дома к заднему крыльцу, где все еще лежал опоссум. Я молча ждала, что он на это скажет. Но Сэм спокойно открыл дверь, переступил его и только тогда оглянулся.
— Что, будет еще одно чучело?
Я остановилась посреди кухни и посмотрела прямо ему в глаза.
— А разве не ты положил его там?
— Не-ет, — ответил он.
— И не ты в окно заглядывал перед этим?
— В окно? Ты что думаешь, я слежу за тобой?
Я не ответила, но челюсти мои сжались.
Он засмеялся, но как-то не очень весело.
— Черт возьми, так ты это серьезно? За кого ты меня принимаешь? Зачем мне за тобой следить, когда ты не прячешься?
— Ладно, забудь. Давай лучше осмотри мне голову.
Он усадил меня на стул возле стола и включил свет.
— Ну-ка, посмотрим…
Пальцы его раздвинули мои мокрые волосы.
— Да нет, кажется, ничего страшного. Несколько царапин…
— Ой! — я отдернула голову.
— Извини. Здесь рана поглубже. Похоже, она тебя клюнула. Но не думаю, что нужно сшивать. Хотя промыть как следует надо. Мало ли какая зараза. Сейчас сделаем.
Сэм оставил меня сидеть, а сам отправился в ванную. Похоже, он неплохо ориентируется в этом доме, словно родился и вырос в нем. Скоро он вернулся с куском ваты и чем-то дезинфицирующим.
Промыв рану, Сэм удовлетворенно оглядел свою работу. Потом снял плащ и, не спрашивая позволения, развел огонь. Я молча наблюдала за его передвижениями, не зная, что делать, попросить остаться со мной или отправить домой.
— Господи, в этом доме холодно, как в погребе, — сказал он. — Почему ты не топишь камин?
Я пожала плечами.
— Много работы. Да и лень.
— У твоего дедушки постоянно горел камин. По крайней мере, когда он хорошо себя чувствовал. К концу он в этом не очень нуждался.
— Ты приходил к нему?
— Ну да, иногда.
Он повесил плащ на спинку стула и придвинул поближе к огню. Я все еще оставалась в плаще. Платье было безнадежно испорчено, все в грязи и нескольких розовых пятнах крови пополам с дождем. Ну и дура же я была, и зачем только пошла в этом платье, испортила фамильную вещь. Меня била дрожь.
— Послушай, — сказала я, — мне надо пойти переодеться, я вся мокрая.
Он бросил взгляд на мое платье.
— Думаю, мудрое решение. У тебя хоть есть во что? А то напялила на себя невесть что. Разве городские носят такое? Тем более на ферме, радость моя. Подвенечное платье это уж совсем круто.
Я ничего не сказала, просто стояла и ждала, что он поймет намек и уйдет, но он не двинулся с места, стоял перед огнем и грел руки.
— Так что… — продолжила я.
— Есть что-нибудь выпить? — вдруг спросил он. — Виски, например, как в тот раз, а? Надо согреться. Тебе, кстати, тоже.
Я сложила руки на груди. Очень хотелось поскорей снять мокрый плащ, но ему незачем видеть мой наряд во всей его красе.
— Мне надо работать. Читать. В общем, спасибо тебе. За помощь.
— А что ты читаешь?
Он не двигался с места.
Я вздохнула.
— Ну, «Джейн Эйр», тебя это устраивает?
— Про сумасшедшую на чердаке, что ли? Думаю, это как раз про тебя написано. Очень похоже, особенно в этом платье.
Ему очень хотелось в очередной раз блеснуть передо мной своей начитанностью, но мне эта игра уже стала надоедать. Кроме того, мне не понравился его намек, мол, знаю, что ты лазила на чердак. Так что я пропустила его слова мимо ушей. Мое молчание обеспокоило его. Он стоял передо мной в одних носках, переминаясь с ноги на ногу.
— В общем, давай, уходи. Нет времени с тобой болтать.
Он схватил меня за руку, но я вырвала ее.
— А что, твой дружок еще здесь? — вдруг спросил он. — В этом, что ли, проблема?
Он стоял совсем близко, и я поняла, чем от него пахнет. Застоявшимся табачным дымом и глиной после дождя.
— Так, значит, ты видел, что у меня кто-то есть! Значит, это ты подглядывал в окно! А как насчет опоссума? Твой подарочек?
Кровь ударила мне в голову.
— Да я же сказал, это был не я. Просто видел, как подъехала машина. Вышел парень в модном костюме. Для тебя небось вырядился?
Мне не нравился его тон, и я попятилась.
— За один день с двумя, это в твоем стиле, да? Один погрубее, другой поласковей?
Глаза у него налились кровью, и я подумала, уж не хватил ли он лишнего перед охотой на кроликов. Я сложила руки и молча смотрела, что будет дальше.
— Ну, извини, — прохрипел Сэм.
Но в голосе его совсем не чувствовалось, что он просит прощения, наоборот, в нем звучала угроза.
— Я уйду. Больше от меня тебе не будет хлопот. Веселись тут с сороками одна.
Он повернулся кругом и вышел за дверь, потом вернулся, за холку держа опоссума.
— А этого советую сунуть в морозилку, а то скоро мух не оберешься.
Он швырнул его мне под ноги, и мертвое животное с выпученными глазами со стуком упало прямо к моим ногам. Он сунул ноги в резиновые сапоги и за дверью, наверно, пнул ногой какой-то предмет, который с грохотом покатился по ступенькам вниз.
Я закрыла дверь на ключ, повесила плащ на крючок, прошла по комнатам первого этажа, проверяя, все ли шторы задернуты и все ли двери заперты. И только услышав рев квадроцикла, удаляющегося вверх по склону холма, села на стул и заплакала. Ну и дебил, думала я. Впрочем, сама дура, зачем пригласила. Может, позвонить Джошу? А если информация о том, что я переспала с Сэмом, дойдет до родителей, тогда что? Если Джош станет задавать много вопросов? По правде говоря, я и его не хотела видеть. Уже много лет я с ним не общалась, а тут придется говорить от имени всей семьи, очень надо, будет смотреть на меня осуждающим взглядом, хотя я ни при чем, если ферму решили продать. Прожила много лет, не встречаясь с ним, и еще проживу.
Яркие, зловещие закаты последних нескольких дней сменились сегодня горизонтом, затянутым тоскливыми тучами, и ночь наступила быстро. Я сидела на темной кухне, освещенной только горящими в печке дровами, и пыталась взять себя в руки. Когда дрова стали прогорать и огонь почти погас, я пошевелилась, сунула еще пару поленьев и поплелась наверх, чтобы переодеться во что-нибудь сухое и теплое.
Вернувшись за письменный стол, я несколько часов писала; меня вдруг охватило страстное желание работать. Я работала, завернувшись от холода в толстое одеяло. Бегающие по клавиатуре пальцы совсем замерзли. Часа в два ночи я встала, соорудила себе бутерброд и согрела чай; не столько хотелось пить, сколько погреть о горячую чашку руки. На окне, возле которого стояла раковина, не было занавесок; я всматривалась в темноту, но видела только свое отражение: на голове воронье гнездо, на плечах одеяло — ни дать ни взять бродяжка какая-то. Пожалуйста, сумасшедшая на чердаке, и искать долго не надо. Даже посреди ночи мысль о том, что кто-то снаружи за мной подглядывает, не выходила из головы, и, под пение чайника напряженно прислушиваясь к отчетливым звукам за окном, я выключила свет и осталась сидеть в темноте.
Скоро я совсем устала, пальцы не попадали на нужную клавишу; я собрала на кровати все одеяла и под звуки дождя, барабанившего по подоконникам и крыше, уснула. Где-то по стенкам дома стучали ветки каштана. А за всем этим, издалека, доносился шум взбунтовавшейся реки.
Эти звуки заполонили мои сны, мне снилось что-то до того странное, что я и сама понять не могла. Я лежала в кровати, слушала, как каштан гладит щеки дома, и вместе с тем понимала, что сплю: комната была полна какими-то диковинными, нелепыми фигурами и тенями, откуда-то лился свет, но я понимала, что на самом деле ничего этого нет. Удары ветки слышались то громче, то тише, и вот раздались совсем близко, уже под самым окном. Эти звуки сводили меня с ума; я встала и пошла, надо было что-то сделать, чтобы они прекратились. Но шпингалет на окне не сдвигался с места, и тогда я в безумном желании прекратить стук локтем разбила стекло и протянула руку в темноту ночи, пытаясь ухватить ветку. Но чьи-то пальцы, холодные как лед, вцепились мне в руку. Я отдернула было, но ничего не вышло: пальцы не разжимались. Передо мной из мрака выплыло девичье лицо; не успела она и рта раскрыть, как я уже знала, что она сейчас скажет, потому что много раз перечитывала этот эпизод.
— Пусти меня в дом, пусти меня! — всхлипывала девушка.
Лицо ее было бледно, сквозь струи дождя на меня щурились ее темные глаза.
— Кто ты? — спросила я, несмотря на то, что прекрасно знала, что она мне ответит: Кэти Эрншо.[43]
— Ах, Рози, — проговорила она, еще крепче сжимая мне руку, — неужели ты меня не помнишь? Неужели ты успела меня забыть?
Я во все глаза смотрела на девушку, плавающую во мраке в одной ночной сорочке, и после всех этих долгих лет это казалось мне невозможным. Пытаясь вырваться, я стала с ней бороться, но, в конце концов, приняла единственное решение: подтянула ее руку к себе и стала перепиливать ей кисть торчащим из рамы обломком стекла; из запястья ее брызнула кровь и полилась в комнату, смешиваясь с каплями дождя.
Но девушка даже не вскрикнула.
— Пусти меня в дом, Рози, здесь так холодно, — продолжала она умолять меня.
Я закричала. Еще никогда в жизни мне не было так страшно. Я ненавидела себя за то, что делала с ней, но продолжала пилить и уже чувствовала, что добралась до кости, уже слышала этот ужасный звук.
— Отпусти меня! Пожалуйста! — вскричала я.
Пальцы ее разжались, и она исчезла в темноте, словно ветер подхватил ее и унес с собой. Но вернувшись в кровать, я еще долго слышала ее голос:
— Пусти меня, пусти меня в дом!
— Убирайся! — кричала я в ответ. — Ни за что не пущу, пускай даже прошло уже двадцать лет!
— Да, прошло двадцать лет, — взывала она. — Двадцать лет, как я скитаюсь по свету…
Снова раздался настойчивый стук в стену. Я взревела, бросилась лицом на подушку… и проснулась.
Я лежала на спине. Меж грудей сочились струйки пота. Я посмотрела на окно, но оно было цело, и в стену действительно отдавался стук, но это стучала ветка каштана. Я тяжело дышала, мне очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь был со мной рядом.
Я вздрогнула и проснулась; сквозь занавески пробивались лучи солнца. На мгновение мне показалось, что снова произошло землетрясение, что именно оно так меня беспокоило во сне. Но лежа в кровати и собираясь с духом, я вдруг услышала, как внизу хлопнула дверь. Чьи-то низкие голоса. Гортанный смех.
Я выскочила из постели, подбежала к окну, отдернула шторы и выглянула. Внизу на солнце сверкал задний бампер внедорожника. Я подкралась к ведущей вниз лестнице и прислушалась. Голоса мужские, их, кажется, двое, доносились они со стороны кухни, незнакомые. Я колебалась, не зная, что делать — выйти к ним сразу или сначала узнать, кто эти незваные гости. В конце концов, решила не трусить.
На кухне действительно оказалось двое, и когда я появилась перед ними, они замолчали и вытаращили на меня глаза. Один, небольшого росточка, с загорелым и обветрившимся лицом, даже вздрогнул, словно увидел перед собой привидение. Впрочем, кажется, я и в самом деле выглядела не совсем обычно, это мягко говоря: все еще в старомодной одежде черного цвета, лицо помятое оттого, что я почти не спала и вдобавок плакала.
Другой, ростом повыше, в дубленой куртке поверх белой рубашки и брюк, заговорил:
— Простите, мы не знали, что здесь кто-то есть. А вы, м-м-м…
— Кто вы такие?
— Я — Эндрю Престон. А это Билл. Нас попросили приехать сюда владельцы этого дома.
Он смотрел на меня так, будто видел перед собой бродяжку, которая переплыла реку, прокралась сюда тайком и укрылась от дождя. В руках он держал большой рулон бумаги, а за его спиной, на кухонной скамейке, лежал портфель.
— Я хозяйка этого дома. Чем могу служить?
В вопросе моем звучало не вежливое предложение, а, скорее, угроза.
— Послушайте, здесь, видимо, какое-то недоразумение.
Он шагнул ко мне. Билл остался стоять, все еще подозрительно меня разглядывая.
— Мы приехали осмотреть дом. Я — архитектор, меня наняли, чтобы произвести реконструкцию дома. Билл — менеджер проекта. Мы должны начать через неделю, и нам надо посмотреть, что и как, мисс…
Он сделал паузу, не зная, как ко мне обратиться.
— Розмари.
Известие оглушило меня — я не думала, что все произойдет так быстро.
— Очень приятно. Вы чья дочь, Джо? Или Байана?
— Джо.
— Простите, но он не сказал, что вы будете здесь.
Я никому не сообщила, что поеду сюда.
— Сейчас не совсем подходящее время, — сказала я. — Я здесь работаю. Вам придется приехать как-нибудь в другой день.
Билл разразился коротким, нервным смешком и тут же умолк. Эндрю обернулся, посмотрел на него и снова повернул голову ко мне.
— Мне кажется, вы не совсем понимаете, — сказал он. — Я приехал из города. Это два часа на машине. Я с самого утра за рулем.
— А я тут при чем?
Он выпучил на меня глаза, не зная, что я могу выкинуть в следующую минуту. Я заметила, что он обратил внимание на наколку, сороку у меня на запястье, и прикрыла ее ладонью.
— Послушайте, — нашелся он, — давайте я сейчас позвоню Джо, и мы все выясним.
Он вынул из кармана мобильник, открыл крышку, посмотрел на экран, и я не могла не улыбнуться. Он вздохнул и обернулся к Биллу:
— У тебя принимает?
Билл проделал со своим мобильником то же самое и покачал головой.
— У вас тут есть обычный телефон?
— Очень жаль, нет, — невинным голосом нараспев ответила я.
Немая сцена. Они смотрели на меня, а я на них. Эндрю двинулся вперед. Я сделала шаг в сторону, и он прошел в коридор. Билл воспользовался возможностью и принялся разглядывать стены и потолок, потом обернулся и посмотрел туда, где должна быть стеклянная створчатая дверь.
— Ну, хорошо, — сказал он, увидев, что я не спускаю с него глаз.
Словно помимо воли, мясистый кулак его вылез из кармана, и костяшкой пальца он постучал по перегородке. Потом присоединился к Эндрю в коридоре, и я провела их до самой парадной двери. Слышно было, как они переговаривались вполголоса.
— Тут работы черт ногу сломит, не знаю, по зубам ли она нам, — сказал Билл, — а тут еще эта прикатила. Все подлинное?
— Почти. Некоторые комнаты в тридцатые перепланированы, перегородки надо сносить. Чтоб было больше света.
Эндрю оглянулся через плечо и понизил голос, но мне все равно было слышно все до единого слова.
— Он же совершенно непригоден для жилья. Не понимаю, как можно было жить в таких условиях.
— Я все слышу, — громко сказала я. — Убирайтесь к чертовой матери.
Я уже не владела собой и перешла на крик:
— Не смейте рассуждать об этом доме, вы ничего о нем не знаете! Вы все испортите, вы убьете его, вам совершенно наплевать на тех, кто жил в нем. Проваливайте! Вон!
Они мгновенно оказались возле машины и все никак не могли справиться с дверцами. Дрожащими руками Эндрю снова вытащил мобильник, и я было подумала, ага, сейчас вызовет полицию, но у него снова ничего не вышло. Он сунул аппарат в карман, прыгнул за руль и с ревом дал газу, только куски гравия полетели из-под колес.
Генри
Сорочья усадьба — так он назовет его в честь белобоких птиц, которые прячутся в разрушенном углу дома. Это будет знаменовать начало, новую жизнь и для дома, и для самого Генри.
Найти этот дом ему помогло землетрясение. Часть его обрушилась, убив хозяина, а оставшиеся родственники, собственно, его замужние дочери, продают его за хорошую цену. Он написал отцу об этой возможности.
«Если вы изыщете средства и купите для меня этот дом, могу уверить вас, что я не стану делать попыток вернуться в Англию».
Он рисковал, конечно, письмо могло не дойти, но, в конце концов, от отца пришел ответ: на этих условиях он согласен.
Теперь он стоит перед ним: дом небольшой, как раз в тех стандартах, к которым он привык в Англии, всего в два этажа, но комнаты просторные, и места для двоих и нескольких слуг хватает с лихвой; да, в конце концов, он не собирается оставаться здесь надолго или срочно заводить детей.
Своими грандиозными планами он хочет сделать ей сюрприз. Перестроит разрушенную часть дома, укрепит как следует и стены, и печные трубы. Никакое землетрясение больше ему не будет грозить. Кирпичная облицовка стен идеально подходит к готическому стилю архитектуры, которым он всегда восхищался, а зная, как Дора любит готические романы, он превратит этот дом в миниатюрный замок. В нем будут стрельчатые окна, добавится круглая башня; он закрывает глаза и видит прилепившиеся к стене дома и устремившиеся к небу маленькие башенки. Он соорудит для нее окруженный стеной сад с бельведером, как раз такой, какой у его матери на родине, где он подолгу пропадал в детстве, прячась от нее и собирая жуков и гусениц для своей еще совсем маленькой коллекции.
Персонал фермы останется прежним. Он навел справки и обнаружил, что ферма в хороших руках. Земля приносит прибыль. Но лучшее в этом имении — известняковые пещеры на самой вершине холма. Он уверен, что раскопки принесут много диковинок как животного, так и минерального происхождения. А может быть, и человеческого. Когда он расспрашивал об этом дочерей покойного хозяина, они только пожимали плечами и отвечали, что никогда их не видели, поэтому кто знает, когда в последний раз там бывал человек, если бывал вообще.
Через поместье протекает река, он уже нашел превосходное место для купания, совсем близко от дома. Дочери хозяина с ностальгией вспоминали о пикниках, которые они устраивали на ее берегах, о том, какой бешеной становится река в ненастную погоду. В доме есть водопровод, несмотря на то что известняк способствует засорению труб, так что ему придется тщательно следить за этим. Но, в общем, это все мелочи.
Да, он уверен, что они с Дорой будут здесь счастливы.
Сначала у него и в мыслях не было делать предложение, но чем больше он проводил с ней времени, тем больше убеждался, что лучшей спутницы жизни ему не найти. Он очарован ее живым и пытливым умом, ее страстью к путешествиям, а также тем, что она способна не только достойно держаться в приличном обществе, но и стрелять из винтовки (отец заставил ее научиться, чтобы она всегда могла защитить себя). Такой женщины он еще не встречал на своем пути, ни в Лондоне, ни в Новой Зеландии, где дамы глупы как курицы и интересуются только модами и сплетнями. А Дора, его Дора, совсем, совсем другая. И ее присутствие рядом всегда действует на него успокаивающе. Неконтролируемые вспышки гнева теперь всегда будут под ее благодатным контролем.
В тот вечер, когда он сделал ей предложение, Генри был счастлив и немного увлекся, выпил лишнего, но после землетрясения понял, что ни о чем не жалеет. А тот факт, что в настоящее время она является единственной наследницей состояния ее отца, нисколько не уменьшил его пыла.
Он собирается уходить и спугивает сорок, собравшихся в стаю, чтобы выяснить, кто вторгся в их владения. Они отличаются от любопытных птиц с блестящими перьями и длинными хвостами, которых он знал на родине. Эти птички — наглые твари, они похожи, скорее, на белобоких ворон, и от их присутствия здесь, надо признаться, ему даже немного не по себе. Но их сообразительность восхищает его. Они вечно ковыряются во всяком мусоре, отыскивая блестящие предметы, чтобы отнести к себе в гнездо, но, кажется, открыто заявляют о своих правах на дом и территорию. Они чем-то похожи на него самого. Надо не забыть застрелить одну для коллекции, когда будет возможность.
Дора
Волосы ее украшают сделанные из шелка белые и оранжевые цветы. Когда они произносят свои обеты перед лицом всех людей, собравшихся пожелать им счастья, солнце прорывается сквозь тучи, и лучи его озаряют витражи церкви, пляшут на нарядном свадебном платье, и она кажется еще красивее.
И вот они одни в доме, который он восстановил для нее. В нем две смежные спальни: одна для нее, другая для него.
С какой гордостью он показывал ей свое имение, реставрированный дом.
«Ты только посмотри, Дора», — говорил он, осторожно придерживая ее за талию и показывая рукой на башню.
В огороженном стеной саду трудилась группа садовников; летом он оживет цветами и наполнится гудением насекомых.
Когда она поднималась по узенькой винтовой лестнице на самый верх башни, он шел вслед за ней, ступенька в ступеньку, и, довольный собой, стоял рядом, когда с просветленным лицом она любовалась открывающимися со всех сторон видами. Вдали сквозь деревья поблескивали воды реки.
«Мне очень здесь нравится», — сказал он.
Ей тоже очень понравилось. Особенно то, что ради нее он вложил сюда столько труда. В доме было жутко холодно, но она была уверена, что как только слуги разожгут камины и уйдут к себе, в комнатах станет так же жарко, как и в их сердцах.
Он приводит ее в спальню и оставляет одну, чтобы она приготовилась ко сну. Она сидит перед новым туалетным столиком и смотрит на себя в зеркало; лицо ее в искусственном освещении бледно. Она вынимает из волос булавки, пальцы дрожат и не слушаются, булавки то и дело падают. Она берет гребень, проводит по локонам, они разлетаются во все стороны и падают на лицо. Это рутинное действие успокаивает ее, ночь уже не кажется какой-то особенной. Рядом терпеливо дожидается горничная, и, повинуясь кивку хозяйки, подходит, заплетает ей волосы и помогает снять подвенечное платье. Скользя через голову, платье шуршит, и, избавившись от его тяжести, она чувствует себя легкой как пушинка. Горничная расшнуровывает корсет. Дора делает глубокий вдох и садится на стул; у нее вдруг кружится голова.
— Спасибо, Мэри, — говорит она. — Дальше я сама.
Дора снимает и кладет на стул нижнее белье. На кровати лежит новенькая ночная сорочка. Она натягивает ее через голову и снова глубоко вздыхает; сорочка благоухает, как весенняя лужайка. Дора проскальзывает под одеяло.
Натянув простыни до самых ушей, она прислушивается к звукам в соседней спальне, где остался муж. Слышно, как он на что-то натыкается и сам над собой тихо смеется; она тоже улыбается. Можно было подумать, что он пьян, но она знает, что это не так, за весь день и вечер он не выпил и капли. Ожидая его, она оглядывает спальню, по стенам которой пляшут тени. Генри приказал оформить эту комнату именно так, как ей хотелось: стены оклеены ярко-бордовыми обоями с растительным узором, на высоких стрельчатых окнах тяжелые бархатные шторы — для моей невесты выбрал самые красивые, сказал он. На стенке коллекция красивых бабочек. Они все разных размеров, а крылья их на свету сияют и переливаются, как струи водопада под лучами солнца. Рядом со шкафом стоят сундуки с ее имуществом, еще не распакованные. Теперь это ее новый дом.
В дверь, соединяющую обе спальни, раздается тихий стук.
— Войдите, — говорит Дора почти шепотом. — Войдите! — повторяет она громче.
Дверь отворяется, и в комнату просовывается голова Генри.
Она видит, что он тоже взволнован, и чувствует облегчение, но он ходит взад-вперед по комнате, не снимая шелковой куртки, и курит. Запах дыма раздражает ее. Ведь он мужчина, он должен руководить ею в первую брачную ночь, избавить ее от смущения, успокоить.
— Будьте добры, уберите отсюда эту дрянь, — приказывает она, и он прекращает мерить шагами комнату и застывает на месте как столб.
Генри удивленно смотрит на нее и вдруг начинает смеяться.
— Слушаюсь и повинуюсь, госпожа моя! — восклицает он и исчезает за дверью, но всего на секунду, и тут же возвращается с пустыми руками.
Она разбила лед между ними, раздражение исчезло, как не бывало. Оба улыбаются.
Он садится на кровать с противоположной стороны.
— Дора, любовь моя, — говорит он. — Я хочу кое-что показать тебе.
Она прикусывает нижнюю губу. Неужели это какая-нибудь болезнь или страшный дефект? Он так не похож на других мужчин. Неужели он евнух? Но все эти мысли отлетают как дым, когда он расстегивает куртку, а за ней воротник ночной рубашки. Сдвигает ее на сторону, и она видит на груди его картинку: это роза.
— Что это? — спрашивает она.
Она наклоняется к нему ближе.
— Татуировка?
Он кивает.
Прежде она не видела татуировок, только слышала про них.
— Можно потрогать?
Она протягивает руку. И роза, и ее стебелек выступают на коже едва заметным рельефом, но, в общем, кожа остается гладкой, будто там ничего и нет.
— Ты не сердишься? — спрашивает он.
— Сержусь? Нет. Я думаю… Мне кажется, это очень красиво.
Она не лжет, говорит совершенно искренне. Красный цветок на бледной коже смотрится поразительно, как настоящая, живая роза, лежащая на снегу.
— Вот и хорошо, любовь моя.
Он приподнимает одеяло и проскальзывает в постель рядом с ней. Ведь эта татуировка у него не единственная.
Он долго возится под простынями, стаскивает через голову и бросает на пол ночную рубашку.
Она открывает рот.
Почему она прежде об этом не знала? Вокруг предплечья его обернулся дракон — рисунок сделан со всеми подробностями, из пасти пышет пламя. А вот русалка с длинными золотистыми волосами, руками она прикрывает свою наготу; какое-то насекомое, она в жизни таких не видела, с длинным хвостом и клешнями, как у краба; прыгающий тигр. Генри медленно поворачивается перед ней на кровати, и в золотистом освещении они являются ей, как персонажи сказочного театра. Она проводит рукой по змее на его спине, и от прикосновения ее пальцев кожа мелко дрожит.
Вдруг до нее доходит, что Генри лежит перед ней совсем голый, и она резко отдергивает руки.
— Такой красоты я в жизни своей не видела, — говорит она, сама удивляясь своим словам.
Он поворачивается к ней лицом, притягивает к себе, обвивает сплошь татуированными руками, и она не противится. Он целует ее, и еще раз, и еще, и еще.
Они не спят всю ночь. Он с ней очень нежен, но в первый раз ей все-таки очень больно. Он обнимает ее, и они лежат и разговаривают, пока сквозь щели в портьерах не просовывается первый утренний лучик света. Она расспрашивает его о татуировках, пытается понять, откуда они взялись. Он рассказывает, как в первый раз пришел к Хори Чио в Японии, сгибая руку, показывает, как пляшет дракон.
— Но ведь тебе приходится это все время прятать, — говорит она.
— Это совсем не трудно. Моюсь я всегда один. Их могут видеть только… — он нерешительно замолкает.
Женщины, думает она. Его другие женщины.
— Татуировщики. Но в Англии наколки никто не скрывает. У многих моих друзей есть татуировки. Даже у принца Уэльского и его сыновей, кстати, им делал их тот же мастер, который выколол моего дракона. А уж как только они себе сделали, остальным тоже захотелось. Забавно смотреть, как теперь они щеголяют татуировками, стараясь друг друга переплюнуть. Даже дамы.
Дора садится на постели.
— Дамы? — удивленно переспрашивает она.
Он смеется.
— Ну, да, дорогая. У дам английского высшего света это теперь модно. Сама увидишь. Как-нибудь мы с тобой съездим туда. Там есть известная лондонская красавица, леди Черчилль. Вокруг запястья у нее выколота змейка.
— А если ей не захочется ее показывать?
— Надевает перчатки или браслет. Но ей не нужно прятать ее. Женщины… они всегда подражают друг другу.
Дора секунду думает, гладя яркие рисунки на его руках.
— Я бы тоже хотела такую, — говорит она.
— О, нет, перестань, милая, к этому нельзя относиться легкомысленно.
— Но если те лондонские дамы носят татуировки, почему я не могу себе позволить? Ты что думаешь, мы тут в колониях недостаточно утонченные люди?
— Ш-ш-ш… Успокойся.
Он гладит ее волосы, целует их.
— Нет, что ты. Но подумай, ведь это навсегда. Если тебе вдруг захочется, чтобы ее не было, что-то не понравится, избавиться невозможно.
— Но мне очень нравится. Твои татуировки мне понравились сразу, с первого взгляда. Они для меня как часть самого тебя.
Она могла бы еще добавить: «они возбуждают меня», но промолчала. Они говорят ей о том, какой он опытный, повидавший свет и какая она еще вся домашняя. Ей до него расти и расти.
Они помолчали, наслаждаясь теплотой своих тел, гладкостью кожи.
— Ну, хорошо, — говорит он. — Если через месяц ты не передумаешь, я возьму тебя с собой, будет тебе татуировка.
И тогда, думает она, помимо обетов, они свяжут нас еще крепче, и мы будем вместе, покуда смерть не разлучит нас.
Наступает вечер, они садятся в поезд, идущий в порт. Генри не хочет рисковать, нельзя допустить, чтобы их кто-то видел, боится за ее репутацию.
До жилых кварталов недалеко, надо всего лишь перейти через мост. На каждом углу попадаются гостиницы; по дороге она заглядывает в витрины и видит внутри неярко освещенных помещений вьющийся трубочный дым, темные движущиеся фигуры матросов и других мужчин. Она крепче сжимает руку Генри. Совсем близко проезжает экипаж, брызгаясь грязью, но Генри вместе с ней проворно успевает отскочить. Кучер снимает перед ними картуз и усмехается, в свете своего фонаря оскалив желтые зубы, и пропадает во мраке. Дора успевает увидеть прижатое к окну экипажа встревоженное женское лицо.
Ее буквально накрывает волна сложных запахов: древесного дыма, протухшей рыбы, фонарного масла. Низко опустив головы, мимо них куда-то спешат мужчины, неся под одеждой весьма подозрительные пакеты и свертки; во всяком случае, Доре кажется, что они подозрительные, в них, наверно, лежат мертвые животные или части расчлененного человеческого тела. Женщина, затянутая в бархатное платье, и с перьями на голове, рукой останавливает какого-то мужчину и вполголоса что-то ему говорит, но он отбрасывает ее руку и продолжает идти своей дорогой, а она ему вслед приставляет к носу растопыренные пальцы. Увидев Дору, смеется и подмигивает.
— Здрасьте, сэр, — обращается она к Генри. — Рада снова встретиться с вами.
— Какую хорошенькую отхватил, радость моя! — кричит она им в спину. — Настоящий джентльмен. Знает, как доставить даме удовольствие.
Генри еще крепче прижимает Дору к себе.
— Не слушай ее, — говорит он. — Я ее совсем не знаю. Она дурачит тебя.
Они поворачивают за угол и идут по пустынному переулку. Проходят мимо закрытых магазинов и лавок: мясная лавка, с огромной тушей свиньи в витрине, типография, магазин тканей со штуками батиста в витрине; а вот и витрина, за которой горит свет. На ней краской написано только одно слово: «Татуировки».
— Мы пришли, — говорит Генри. — Ты еще не передумала?
Дора отрицательно качает головой, поднимается на ступеньку к тяжелой двери и с трудом распахивает ее. Сердце ее бьется так сильно, что толчки крови чувствуются на щеках и в руках.
Внутри никого нет. Пол скрипит под ногами. В дальнем углу горит единственная лампада, освещая ближайшие к ней рисунки на стене; остальные тонут во мраке.
Они заранее обсудили, в каком месте выколоть татуировку. Сначала Генри предложил на спине, там никто не увидит, но Доре хотелось иметь возможность любоваться ею. Если выколоть на спине, ей понадобится зеркало, она никогда не сможет смотреть на рисунок непосредственно. Неплохо было бы выколоть бабочку на груди, между бюстом и шеей, симметрично, здесь бы очень красиво смотрелось, но в конце концов она согласилась сделать на ноге, повыше колена.
Из недр помещения, вытирая руки тряпкой, появляется огромный человек. Голос его так же груб, как и окружающая обстановка.
— Так, значит, пришли, — говорит он, обращаясь к Генри. — А это, значит, та самая юная дама.
— Моя жена, — говорит Генри.
— Понятное дело, — кивает человек. — Ну, тогда проходите, мадам.
Она чувствует к нему благодарность хотя бы за то, что он почтительно с ней разговаривает.
— А вы… вы когда-нибудь делали татуировки женщинам? — спрашивает она, входя за ним следом за занавеску, в хорошо освещенное помещение, где стоят видавшая виды кровать и кресло; рядом расположен столик с инструментами.
— Было дело, несколько раз, — отвечает Макдональд. — Есть такая девушка, Люси ее зовут, работает в цирке братьев Квирк. Почти все наколки ей делал я. Когда они приезжают, она всегда ко мне заглядывает.
Дора нерешительно смотрит на Генри.
— В цирке? — переспрашивает она. — С разными уродцами?
Генри берет ее за руку.
— Ты же не станешь выставлять себя напоказ, — говорит он. — Что у тебя общего с той женщиной? У нее наколки с головы до ног, я это знаю.
Он смотрит на Макдональда, ища поддержки.
— Верно, — кивает он. — Не на лице, конечно, и не на голове, но все остальное в татуировках. И сама она очень красивая. Ну, а теперь, мадам, устраивайтесь поудобнее в этом кресле. Принесли рисунок?
Это изображение бабочки Морфо ретенор,[44] сделанное рукой самого Генри; он поймал ее в Бразилии. Генри вручает рисунок Макдональду, тот смотрит и качает головой.
— Что-то не так? — спрашивает Генри.
— Сами видите, она синего цвета. А синей туши, которая хорошо сохраняется, еще не изобрели. Линяет. Жаль, конечно. Но мы пользуемся только пятью цветами.
— Какими? — спрашивает Дора.
— Ну, черный, конечно. Зеленый, коричневый, красный и желтый. Вам надо сделать желтую бабочку или зеленую. Будет красиво.
Неудача, как это неожиданно. В детстве она обожала синих бабочек, они часто садились ей на руку, и она наблюдала за ними. Ей хотелось, чтобы татуировка напоминала ей о том времени.
Генри берет ее за руку.
— Есть очень красивые желтые и черные бабочки. Я покажу тебе. Они тебе наверняка понравятся.
Пытаясь подавить чувство разочарования, Дора кивает. Вот не знает только, решиться ли на процедуру прямо сейчас; но с другой стороны, она проделала такой большой путь.
— Ну, хорошо, — соглашается она.
— Прекрасно. А что мы решили, где будет сидеть ваша бабочка?
Она краснеет и, не глядя на него, заставляет себя назвать это место.
— Вот здесь, — говорит она и указывает пальчиком сквозь юбку туда, где заканчивается бедро, чуть повыше колена.
— Прекрасно, — повторяет он. — А теперь подготовьте это место для работы и, прошу вас, не торопитесь.
Она сидит в кресле ни жива ни мертва; Генри подвигается к ней ближе и ободряюще кладет руку ей на плечо. Она робко поднимает юбку, приспускает чулок, обнажая нужное место. Кожа на ноге сияет белизной, как старинный костяной фарфор, и ее охватывает желание быстро натянуть чулок обратно и выбежать из мастерской на улицу. Но рука Генри на ее плече тверда, он словно читает ее мысли и знает: чтобы оставаться на месте, ей нужна поддержка.
Макдональд подвигает низенькую табуреточку, усаживается рядом, окунает перо в чернильницу и начинает рисовать. Он работает легкими касаниями и вынужден положить руку ей на колено. Левой рукой туго натягивает кожу бедра, его толстые пальцы уверенно держат ее обнаженную ногу, словно он проделывал такое с дамами не раз и не два, и это для него сущий пустяк. И странное дело, она совсем не чувствует себя оскорбленной, ее даже волнует, когда этот медведь обращается с ней, как с простым матросом. Руки его тоже, как ни странно, чисты, если не говорить о нескольких чернильных пятнах; она ожидала худшего. Он сидит к ней так близко, что она ощущает его запах: сложную смесь трубочного табака, пота и алкоголя. Правда, не совсем понятно, откуда алкоголь: от того, что он выпил перед работой, или от того, что стерилизовал ей ногу и инструменты? Как не хочется, чтобы бабочку ей выкалывал пьяница; но руки его на удивление тверды и движения уверенны. Большую, лысую голову его покрывает лишь легкий пушок, под которым проступают прозрачные, как бриллианты, капельки пота. Ей и самой становится жарко, а сам процесс нанесения татуировки еще и не начинался.
— Вас это устраивает, мадам?
Он закончил рисовать, поднял голову и посмотрел ей в глаза. Она бросает взгляд на ногу, на которой все еще покоятся его лапы. Черная бабочка выглядит очень красиво; будто этот человек и сам специалист по бабочкам и зарисовал свое последнее приобретение.
Она кивает.
— Ну, тогда мы начнем.
Генри подвигает стоящий неподалеку стул и усаживается рядом с ней. Берет ее за руку. Старается успокоить, утешить, но она чувствует, что пальцы его напряжены: он очень за нее волнуется. Сжимает ей руку так, что становится даже больно.
— Не надо, милый, — говорит она, освобождает ладонь и треплет его по руке.
Макдональд выкладывает в ряд свои иголки и берет одну из них. Окунает в крошечную чернильницу.
— Вы готовы? — спрашивает он.
Дора кивает и делает глубокий вдох. Совсем не так она представляла это себе; впрочем, откуда ей знать, как делаются татуировки? Иногда ей снилось, что эту работу выполняет человек в изящном фраке с цепочкой карманных часов и в нарукавниках. А порой просыпалась в холодном поту: во сне какие-то похотливые матросы валили ее на землю и явно не бабочку хотели запечатлеть на ней, а сделать что-то совсем другое. Она все еще ощущала на себе их жесткие пальцы, крепко вцепившиеся ей в руки и в ноги, и жгучую боль иголок, словно ее клеймили каленым железом.
А здесь все иначе: она сидит в кресле, а рядом трудится этот странный человек, такой на вид грубый и неотесанный, такой пугающе огромный, но весьма учтивый и мягкий, и руки у него чистые.
Она воображала, что на коже останутся глубокие раны, что он станет грубо втыкать и царапать иголкой по телу, как пером по бумаге. А он только легонько втыкает иголку в кожу, укол за уколом, раз, раз, раз. Уколы похожи на горячие укусы пчелки. И совсем не так больно, как она себе представляла.
Он останавливается, вытирает лишние чернила и снова окунает иголку в чернильницу.
Дора сидит, затаив дыхание, потом с облегчением вздыхает и смотрит на Генри.
— И совсем не так больно, как я думала, — говорит она.
Он снова берет ее за руку, на этот раз нежно; впрочем, она чувствует, как повлажнела его ладонь.
— Ну, вот и хорошо, любимая, — говорит Генри.
Однако, по мере того, как увеличивается площадь исполненной татуировки, поначалу слабая боль не уменьшается, но, напротив, растет. Видно теперь, когда Макдональд вытирает чернила, что нога в этом месте покраснела и налилась кровью. Но если не пытаться не замечать боли, а наоборот, сосредоточиться на ней, она становится похожей на жар, на ощущение, будто на ногу ей положили тяжелый, горячий предмет; усилием воли ей удается притупить это чувство. Ведь это столь малая плата, зато каков результат! С ней теперь будет любимая бабочка, которая еще более крепкими узами свяжет ее с мужем. Она вспоминает о первой с ним ночи, о том, как она провела рукой по его обнаженному телу и как он ответил на это прикосновение. Дора уже видит, как он гладит ей бедра, и рука его задерживается и ласкает хрупкие крылья бабочки. Нет, ни на мгновение она не пожалеет о том, что сделала.
Розмари
Прошло полчаса, как отбыли непрошеные гости, я безуспешно пыталась уснуть, и вдруг зазвонил телефон. Старинный механический звонок аппарата, стоящего внизу, трезвонил на весь дом, и ему вторил более современный, электронный звонок из дедушкиной спальни. Он звенел мрачно и раздражительно, звенел и звенел, а я представляла себе две пустые одиночные кровати, между ними аппарат, и никого, чтобы взять трубку. Я лежала и считала: пять раз прозвенел, десять, двадцать… пока звонки не умолкли.
Трубку снимать я не собиралась; не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что звонит один из родственников, чтобы отругать меня за архитектора. Пусть трезвонят, думала я. Не стану отвечать, и все. В конце концов я успокоилась и заснула. Мне приснился какой-то насыщенный событиями сон, но, проснувшись, вспомнить я ничего не смогла. Что-то такое мелькало в голове, но ничего конкретного, словно кто-то в другом конце дома играл на фортепьяно, но вместо цельной мелодии доносились только отрывочные звуки.
Весь день, вытянув ноги к обогревателю, я работала. Сама изумилась своей работоспособности. К вечеру, однако, почувствовала некоторую усталость. День выдался тихий, и после суток непогоды это было особенно жутковато; лишь издалека, с фермы, доносились какие-то звуки: лай собаки, блеянье овец, шум мотора, но это лишь подчеркивало мертвую тишину в доме. Шум речного потока снова затих, даже солнце выглянуло и светило на небе почти весь день. Но, сидя за письменным столом, я не могла избавиться от чувства, что в атмосфере дома произошли перемены. Сорочья усадьба всегда была наполнена скрипами и глухими стонами, это как раз меня не удивляло и не беспокоило, но теперь я слышала совсем другие звуки. Словно кто-то скребется. Тихонько постукивает. И даже вполне согревшись, я чувствовала странный поток холодного воздуха, будто позади, совсем близко, кто-то влажно дышал мне в затылок.
Я потихоньку встала и высунула голову в дверь. Почти наверняка звуки доносились из другого конца дома; я пошла по коридору в том направлении, прошла мимо спален и лестницы, ведущей на чердак. Коридор повернул под прямым углом направо, здесь были бывшие помещения для слуг, когда-то отделенные от остального дома комнатушки; теперь, после того как передвинули стенку, они составляли с домом единое целое. Здесь были устроены крохотные спаленки, с узенькими, продавленными односпальными кроватями, на которых мы спали в детстве. В одной вот из этих комнат однажды туманным утром меня разбудила странная, жутковатая музыка, идущая со стороны ближайшего пастбища, словно струны арфы, усиленные неподвижным воздухом. До сего дня я не знаю, как она добилась столь задушевного звучания; много раз я пыталась повторить его, но у меня не получалось.
Дверь в помещение с винтовой лестницей, ведущей в башню, была слегка приоткрыта. Я распахнула ее и попала в чистое, тихое местечко: всюду книжные полки, а на стенах рамки с насекомыми под стеклом. Здесь не было беспорядка и хаоса, как в других комнатах. Я иногда думала, правда, не имея на это ни одного подтверждения, уж не здесь ли стоял некогда шкаф с диковинками Генри. Что-то было странное в этой прячущейся за дверью, больше похожей на дверцы посудного шкафа, комнате с ее несоразмерностью и полукруглой формой. Дедушка рассказывал, что он якобы слышал, как Генри подолгу мерил ее шагами, что-то бормоча себе под нос; комната и в самом деле казалась самым подходящим местом для сумасшедшего, который, терзаясь раскаянием, вслух вспоминает свое прошлое. Как и башня, конечно, эта комната меньше всего подходила для хранения ценных вещей: окна со всех сторон, насквозь продувается ветрами и просвечивается солнцем.
Снова послышались звуки, уже ближе, где-то прямо над головой: что-то тихо позвякивало, пощелкивало. Я почувствовала покалывание в висках. И вместо того чтобы ретироваться, я решила подняться наверх, впервые за двадцать лет. Даже если я ничего не обнаружу, башня будет для меня прекрасным наблюдательным пунктом. Оттуда я смогу видеть Сэма, убедиться, что он далеко и все эти звуки мне просто почудились. Возможно вполне рациональное объяснение — птичка, например, залетела и никак не может выбраться.
Винтовая лестница спиралью уходила наверх, ступеньки такие узенькие, что у меня свисали пятки. Дверь наверху была закрыта, и на лестнице было совершенно темно. Чтобы открыть ее, пришлось приналечь всем телом. Я ожидала, что меня ослепит поток света, но там оказалось довольно мрачно. Окна были закрыты ставнями. Было промозгло, холодно и чем-то пахло. Дымом. Да, дымом залежавшегося табака. Я медленно обошла вокруг колонны, образованной продолжением лестничного колодца; в ушах послышался приглушенный шум. Я закрыла глаза и сделала еще несколько шагов.
Она снова была там, под дальним окном. В сумеречном свете виднелась ее бледная спина, безжизненно повисли блеклые волосы. Напряженная спина сосредоточенно сгорбилась над каким-то предметом: она не слышала, как я вошла. Над лопатками возникла и зависла птичка, порхая крылышками; казалось, еще секунда, и она сорвется с места и улетит. В помещении было совершенно тихо, слышалось только мое дыхание. Еще немного, и она услышала меня и, не вставая, настороженно выпрямилась; плечи ее начали разворачиваться ко мне. Сейчас я увижу ее лицо. Все происходило точно так, как и в тот день, много лет назад. Возможно, она и не покидала этой комнаты, все это время ждала, когда я вернусь. Я закрыла глаза. Прошла бесконечная минута, вдруг в спину мне ударил резкий порыв холодного ветра, и дверь на винтовую лестницу с грохотом захлопнулась. Я инстинктивно обернулась, чтобы узнать, кто это сделал, и как раз успела увидеть, как, дрожа, опускается штора. Ясно: открытое окно, сквозняк.
Я снова повернулась к ней, но ее уже не было. По спине побежали холодные мурашки, не поворачивая головы, одними глазами я посмотрела направо, потом налево…
— Эй! Есть тут кто-нибудь?
Единственным ответом было шуршание шторы на сквозняке. Я отдернула ее, чтобы впустить в комнату свет и закрыть окно. Хотя прежней фигуры нигде не было видно, комната не была пустой. В одном из окон торчала подзорная труба. Вдоль стены, где только что сидела она, лежал, весь покрытый пятнами, комковатый матрас, а рядом сбитое в кучу серое армейское одеяло. На полу — пепельница, переполненная окурками сигарет-самокруток; вот откуда этот противный запах. Я подошла и пнула ногой матрас; невозможно узнать, давно ли он здесь и когда на нем лежали в последний раз? Был ли здесь кто-то все это время? Спал здесь? Жил? Мне стало не по себе, было еще более страшно, чем несколько минут назад. С призраками я бы еще справилась, но вот с непрошеными гостями, которые курят самокрутки, — это вряд ли.
Да-да, это уже, пожалуй, слишком. Вряд ли мои дела в Сорочьей усадьбе закончились, но пора сматывать удочки. Этот дом всегда мне казался местечком жутковатым, но теперь я по-настоящему испугалась.
Я попыталась открыть дверь на лестницу, но она не поддавалась. Я толкнула сильней. Стала отчаянно дергать ручку, пока у меня не заболело плечо. Нет, эту дверь не заело, она заперта!
— Помогите! — закричала я и забарабанила в нее кулаками, но услышать меня мог разве только тот, кто закрыл дверь, если, конечно, мне это все не снится.
Нет, надо успокоиться и попробовать найти другой выход. Я поискала взглядом, чем ударить по ручке двери, но ничего подходящего не нашла. Подошла к открытому окну. Оно выходило на север, на реку, отсюда были видны ее извилины, и теперь, когда закончились дожди, она снова превратилась в мирную, тихую речку. На западе садилось солнце, облака пылали золотистой каймой. Я перешла к западному окну, где стояла подзорная труба. По одному из огороженных пастбищ на склоне холма кто-то ехал на квадроцикле, и с обеих сторон бежали собаки. А перед ними волнистым потоком спускалось вниз овечье стадо. Я быстро заглянула в окуляр трубы: да, это Сэм, впрочем, может, и Джош, отсюда не разобрать. Нет, все-таки Джош, он человек крупный, гораздо шире Сэма в плечах, волосы темнее, и осанка более солидная. У калитки стоял еще кто-то и смотрел на стадо, не понять, мужчина или женщина, в дождевике и в шляпе, хотя интуитивно я чувствовала, что это женщина или девушка. Она была невысокого роста и опиралась на калитку, не горбясь.
Но они слишком далеко и моих криков не услышат, да и увидеть меня не смогут в башне на таком расстоянии. Я знала, что на самом верху башни была небольшая площадка и к ней вела железная лестница. Добраться туда было довольно легко, хотя прежде я никогда этого не делала. Отец одной из моих детских подруг однажды сорвался с крыши и сломал себе позвоночник, и это надолго отбило у меня охоту к подобным приключениям. Но сегодня надо было действовать решительно. Я шире распахнула окно, задрала юбку, заткнув ее за пояс, поднялась на цыпочки и закинула ногу. Крепко вцепившись руками в оконную раму, перегнулась через подоконник. До лестницы оставалось несколько футов, и я понемногу стала вытягиваться к ней, забыв о том, что смертельно боюсь высоты. Руки мгновенно вспотели и стали скользкими, я едва дышала от страха. В конце концов мне удалось ухватиться за нижнюю перекладину, и, отдохнув, я приготовилась к короткому восхождению.
Добравшись до верха, я спрыгнула на площадку и села на корточки, чтобы отдышаться. Юбка немедленно намокла в грязной луже, наполненной желтыми листьями, и мне опять пришлось встать.
Зрелище отсюда было великолепное. Неужели я никогда сюда не влезала? Здесь, на самой верхотуре, казалось, что ты — парящая над фермой птица, так далеко было видно вокруг. Мое хрупкое тело обдувал резкий, пронизывающий ветер, но холода я почти не чувствовала, не до того было: я все вертела головой, осматривая крыши дома, дымовые трубы, башенки на стене и всю территорию фермы, до самого горизонта. Землю, принадлежавшую моему семейству в течение пяти поколений, которая теперь, очень скоро, будет потеряна для нас навсегда.
Послышалась какая-то возня, я посмотрела налево и на одной из печных труб увидела удивленно разглядывающих меня парочку сорок: откуда это, интересно, на такой высоте взялся человек? Они о чем-то между собой потрещали, снялись и улетели, предоставив меня моей судьбе.
На далеком пастбище все еще виднелись человеческие фигуры, но было совершенно ясно, что привлечь их внимание — напрасная трата времени. Я на всякий случай пару раз помахала руками, но они были слишком далеко.
Делать нечего, надо решать, как спуститься с крыши самостоятельно. Солнце опустилось уже совсем низко, следовало поторопиться. Скоро стемнеет, а мне бы очень не хотелось оставаться здесь всю ночь, я бы замерзла до смерти.
Я никогда не считала себя везучей. Слишком много на мою долю досталось несчастий. И стоя на этой башне, тщетно стараясь найти местечко на крыше, по которому можно было бы спуститься вниз, не поскользнувшись на черепице и не убившись насмерть, я так была поглощена этим занятием, что не сразу обратила внимание на звук; на это я уже не смела и надеяться.
Он доносился с востока, откуда как раз дул ветер; я повернулась туда и увидела, что его порывы обрывают с тополей последние листья и несут их к дому, чтобы потом собрать в сточных канавах. Это было низкий рокот мотора, звучащий то громче, то тише, когда машина делала поворот, карабкалась вверх по склону или катила вниз в холмистой местности фермы.
Я стояла и ждала. И вот в поле зрения показался старый, светло-желтый «Мерседес» Чарли. Я радостно засмеялась. Впервые в жизни мне вдруг стало так легко на душе, никто еще одним своим видом не приносил мне столько радости. Я подпрыгивала от нетерпения и махала рукой, но он, конечно, меня не видел; сидит, наверное, сгорбившись за рулем, и осторожно объезжает лужи, чтобы не пачкать свой любимый, свой образцовый автомобильчик. Машина подъехала к дому, и мне ее стало не видно. Оставалось только ждать и надеяться, что он услышит мои отчаянные крики, надо только кричать погромче, чтобы их не унесло ветром.
Хлопнула тяжелая дверца машины, и послышался скрип подошв по гравию дорожки. Я сделала полный вдох и что было силы закричала.
На мгновение скрип гравия стих, но потом возобновился. Я слышала, как открылся и закрылся багажник машины.
— Чарли! — снова заорала я.
Шаги затихли. Это было отчетливо слышно.
— Роза?
Насколько хватило смелости, я перегнулась через ограждение башни.
— Я здесь! На башне!
На этот раз он не отозвался. Слышно было, как он поднимается по ступенькам крыльца.
Ветер доносил до моих ушей каждое его движение, но, видимо, по той же причине он меня не слышал. Вот он постучал в парадную дверь.
— Чарли! — снова закричала я. — Я здесь, наверху!
Снова раздались его шаги по гравию. А, вот он, стоит на газоне и смотрит вверх, прямо на меня.
— Какого черта ты туда залезла?
Я рассмеялась. Ах, если бы можно было прыгнуть прямо к нему в руки!
— Меня тут кто-то запер. Поднимись в башню и отопри дверь. Пожалуйста, — добавила я.
— Хорошо, только парадная дверь тоже заперта.
Проклятье. Это я ее заперла. Как же теперь ему войти в дом?
— Придется разбить окно. Пожалуйста, поскорей. Я здесь до смерти замерзла.
Я села на корточки, сжалась и, чтобы укрыться от ветра, обхватила себя руками, ожидая услышать звон бьющегося стекла; но так и не услышала. Зато пять минут спустя прямо подо мной раздался его голос; я испуганно вздрогнула.
— Роза!
Когда я добралась до самого низа лестницы, он высунулся как можно дальше из окна, протянув мне руку, я ухватилась за нее и кое-как, стараясь не сорваться, доползла до него. Он втащил меня в окно, и я обняла его — крепче я в жизни никого не обнимала.
— Слава богу, — промычала я ему в шею. — Не представляешь, как я рада тебя видеть. Я думала, мне конец.
— Ну, ладно, — сказал он, сам, видимо, ошеломленный. — Расскажешь после, что ты там делала, но дело в том, что дверь в башню была не заперта. Даже была слегка приоткрыта. Тебя там никто не держал.
Щеки мои запылали.
— А как ты пробрался в дом?
— Легко. Дверь на кухню была открыта. Как всегда.
— Но я же ее заперла!
— Оказывается, нет. Да и с чего бы вдруг?
Я ничего не ответила.
Чарли у нас в семье пошел в отца и его родителей: он был высок и худ. Его гибкое тело легко и быстро скользило вниз по ступенькам до самого низа, а я торопливо перебирала ногами сзади.
— Что здесь у тебя творится?
Его лощеный вид явно не вписывался в обстановку; он с удивлением оглядывал пыльные углы, оборванные, висящие обои и прочие признаки запустения.
— Господи, да тут холодно, как на Северном полюсе. Почему ты не включила обогреватель или еще что-нибудь?
— Ты что-то сегодня не в духе, — отозвалась я, хотя прекрасно понимала, в чем тут дело: предстоит разговор и про архитектора, и про телефонный звонок, на который я не ответила.
— А чего ты хотела? Ты даже не сказала, что ты тут делаешь.
Я кивнула.
— Ладно, считай, ты меня застукал: я незаконно влезла в твой дом, захватила его. Подай на меня в суд.
Он вытаращил глаза.
— Что ты мелешь? Сама знаешь, ты имеешь право сюда приезжать, когда захочешь, он такой же твой, как и мой.
— Откуда мне знать.
Он шлепнулся на диван, подняв облако пыли и собачьей шерсти.
— Послушай, Розмари, — жалобно проговорил он.
Даже когда он ругал меня, обидеть его было — раз плюнуть. Он хотел, чтоб его любили, даже сестренка, и даже когда она наделала столько глупостей. В детстве он был совсем не такой, мой маленький братишка, мой драчливый, кусачий, брыкучий и надоедливый маленький братишка.
— Слушаю.
— Папа очень о тебе беспокоится. Утром ему позвонил этот архитектор и сказал, что ты вышвырнула его вон. Это так?
— Ну, не совсем…
— Но зачем? И скажи, в конце концов, что ты тут делаешь?
— Работаю. Клянусь, пишу здесь диссертацию. А они приехали, устроили шум, мешали работать.
— Не говори ерунды. Он сказал папе, что ты вела себя как чокнутая. Папа попросил его вернуться, но тот наотрез отказался. Мне кажется, ты его сильно напугала.
Я улыбнулась.
— Ничего смешного. Папа сразу позвонил мне, он сильно перепугался. Спрашивал: все ли в порядке, как у тебя дела?
— И что ты сказал?
— Сказал, что у тебя вроде все нормально, но откуда мне знать? Я прыгнул в машину и примчался, чтобы увидеть своими глазами.
Он помолчал.
— И чтобы быть здесь, когда эти люди приедут еще раз в выходные. Мама с папой очень расстроились. Но, думаю, вряд ли они приедут. Очень нужно снова встречаться с теткой, которая явно не в себе.
— Не в себе, значит.
А я-то думала, им всем наплевать, как я живу, что со мной происходит.
— Вот и прекрасно.
Я скинула его сумку на пол и села рядом.
— В общем-то, я рада, что ты приехал. Без тебя я бы там замерзла.
— Ничего не замерзла бы, надо было просто вернуться обратно. Ты бы увидела, что дверь открыта.
— Послушай, Чарли, тут творится что-то очень странное. Разве ты не видел там наверху матрас с одеялом? Похоже, здесь живет кто-то чужой.
Я не смотрела на него.
— Чужой, понимаешь?
Немного поколебавшись, я рассказала ему и про Сэма, и про то, что тут было, когда ни с того ни с сего примчался Хью. Не упустила ни одной подробности, с детства привыкла не скрывать от брата ничего.
Но сочувствия от него так и не дождалась.
— Господи Иисусе, Розмари! Ты посмотри на себя. Бестолочь. Дура несчастная, на кого ты похожа?
Он сделал жест, видимо, имея в виду мой покрытый грязью и шерстью наряд.
— Вечно ищешь на свою попу приключений.
Он был совершенно прав, хотя я его не слушала. Однако он продолжал:
— Как у тебя ума хватило выставить утром этих двоих?
— Не хотела их здесь видеть, и все. Противно было, что они всюду суют здесь свой нос.
Он поднял глаза к потолку, словно искал там поддержки. Что-то недовольно проворчал. Потом снова уставился на меня.
— Ну, знаешь, не тебе это решать.
Он произнес это тихо и строго, словно воспитывал собаку.
— Значит, не мне. Ладно, — кивнула я. — А кто только что говорил, что этот дом такой же мой, как и твой?
— Ну… — Он поднял обе руки вверх и пожал плечами.
— Замечательно. Я все поняла.
Я встала и вышла вон из комнаты, а потом бегом побежала вверх по лестнице.
— Ну, и прекрасно, иди-иди! — крикнул он мне в спину. — Это в твоем духе!
Кажется, была пятница. Я совсем потеряла счет дням. Чарли взял отгул и собирался остаться на выходные, чтобы прибраться в доме после меня, и постоянно теперь мне об этом напоминал. Он не знал, когда снова приедет архитектор, но, похоже, собирался на обратном пути на всякий случай забрать меня с собой. Я долго ждала в своей комнате, не работала, вообще ничего не делала, только ходила взад-вперед, поглядывая на портрет Доры, который притащила с чердака к себе и повесила на стену. Брат тоже поднялся в комнату рядом и пару раз ложился на продавленную кровать со скрипучими пружинами и снова вскакивал. Слышно было за стенкой, как он что-то бормочет сам себе.
К счастью, Чарли привез с собой еды; у меня уже почти все кончилось, а молоко скисло. Заботливый братец. Сам он обожает мясо, а привез только вегетарианское. И много вина.
В конце концов мне показалось, что он слишком уж долго меня игнорирует, и я спустилась вниз. Оказалось, у него почти готов обед. Я села за стол; он молча налил мне в бокал красного вина. В гостиной пылал камин, а на кухне — печка, и впервые за эту неделю мне стало по-настоящему тепло.
— Как хорошо, что ты приехал, — сказала я, не уверенная, что он отзовется.
Он поднял глаза от кастрюли, где что-то помешивал, и улыбнулся.
— Да, давно не виделись.
Я кивнула.
— Мы с тобой даже не поговорили. О завещании. О дедушке. О том, что ты собираешься делать дальше.
— И о тебе. О твоем «зверинце».
Он засмеялся, но сразу осекся, увидев, что я даже не улыбнулась.
— Ты скучаешь по нему? — спросила я.
— Что за вопрос! Конечно.
— Но ты ведь не видел его целую вечность.
— Знаю. Но я же всегда занят, — пытался защищаться он. — И для нас было нелегко приезжать сюда. Он понимал это.
— Да, наверное. Но все равно, тебя он любил больше всех.
Он хмыкнул.
— Нет, тебя. Думаю, сама скоро убедишься.
— Если б меня, оставил бы и мне часть дома.
— Может быть… но тогда всем остальным двоюродным надо выделять долю. Думаю, что он как раз это имел в виду, когда оставлял тебе своих зверей. Смотри, когда умрут мама с папой, ты все равно получишь их долю. Он знал, что рано или поздно она достанется тебе.
— Пожалуй, ты прав. У меня такое сейчас чувство…
— Беспомощности?
Я поставила бокал на стол и, кивнув, закрыла лицо руками.
Он снял кастрюлю с конфорки, подошел и сел рядом.
— Ты была ему ближе, чем я, это правда. Мне стыдно, что он оставил дом мне. Тяжело на душе, веришь? Чувствую себя виноватым. Он хотел, чтобы я взял на себя ферму, чтобы у меня здесь родилось много детишек.
— А у тебя вообще не будет детишек.
— Кто знает?
— Как так, это же очевидно, разве нет?
— Иметь детей — дело нехитрое, сестренка. Смотри на эти вещи шире. Если я не хочу спать с женщинами, то это вовсе не значит, что я не хочу когда-нибудь стать отцом.
— Ну, ладно, извини. Но ты бы никогда не поселился здесь. Не стал бы фермером.
— Зачем мне это? Я часто думаю, уж не написал ли дедушка свое завещание, когда мне было пять лет? И что плохого в том, что в нашей семье есть свой врач?
— Да не в этом дело. Тут все связано с понятием первородства. Я много думала о Генри. Ведь с него все это началось. В общем, как только от нас уйдет этот дом, все наши связи с прошлым будут обрублены. Дедушка думал, что Генри был великим человеком. И я уверена, что это так и есть. Я хочу как можно больше узнать о нем.
Тут я вспомнила про письмо, извинилась и быстро сбегала за ним. Чарли читал его, продолжая помешивать рисотто.
— Ого, — сказал он.
Он положил письмо на стол и, пока раскладывал еду по тарелкам и разливал вино, не сказал ни слова.
— Ну и что ты молчишь? — спросила я, когда он сел.
Мне не терпелось обсудить с ним письмо, все эти откровения насчет Генри и Доры.
Он поднял голову и посмотрел на меня, сидя совершенно неподвижно.
— Оно такое, очень… очень приятное. Я даже завидую.
— Извини. Но я не затем показала его тебе.
Меня снова охватила обида на родственников, исключая, конечно, Чарли, которые не посчитались с пожеланиями дедушки, и мне нужно было, чтобы он знал это.
— Не думаю, что это имеет к тебе отношение. Конечно, ты подчинишься тому, что скажут старшие. И сомневаюсь, что они послушают тебя, если ты станешь с ними спорить.
Он просто пожал плечами и принялся за еду.
— Ты пойми, надо хотя бы осознать, он хотел, чтобы семья продолжала жить здесь. А теперь, когда все переменится, ты уверен, что, как только дом перестанет давать доход, они не захотят продать его?
Чарли положил вилку.
— А что в этом плохого? Зато денег всем перепадет, и немало.
— Да при чем здесь деньги!
— Нет, правда. Мама с папой терпеть не могут этот дом, и есть за что, разве ты так не считаешь?
— Дом в этом не виноват.
— Может быть, для тебя это так. Но все-таки подумай: какой великолепный прощальный подарок — ты смогла бы сама купить себе дом, продолжать трудиться на благо науки, да и вообще, делать все, что захочется… А кстати, чем бы ты хотела заняться?
Я пожала плечами. Не время было для такого разговора.
— Я бы хотела иметь возможность привозить сюда своих детей. Дать им то, что было и у меня, обучать их таксидермии, ходить с ними купаться на Сорочий пруд. Может, даже научить их ездить верхом.
— Правда? Ты бы этого хотела?
— Мечтать не вредно.
— Рози, продажа фермы — это единственный способ сохранить дом. А если дом станет обузой, его тоже надо продать. Боюсь, тебе придется успокоиться, не переживать и посмотреть на проблему с практической точки.
— С практической? То есть с холодным сердцем. Хочешь, чтобы я мыслила рационально. Что ж, я рада за тебя, ты способен сортировать свои чувства. Но ты совершенно прав: я на это неспособна.
Я понимала, что лгу. В моей жизни всякое бывало, просто все, что мне не хотелось вспоминать, я успешно спрятала от себя.
— Послушай…
Он умолк, наполняя бокалы. Голос его в большом пространстве кухни звучал тихо и очень спокойно:
— Не знаю, говорил ли кто тебе, но на самом деле ферма медленно, но верно становится все более убыточной. Вот почему мы ее продаем, это главная причина. После уплаты долгов останется совсем немного, и большая часть средств будет вложена в дом. Неужели ты думаешь, что дедушка хотел бы оставить нас с такой обузой? Не думаю, он был не дурак.
Я не отвечала. Новость слишком потрясла меня. Я понятия не имела, что ферма убыточна. Почему мне об этом ничего не сказали? Как такое могло случиться? Не хотелось думать, что дедушка разорил ее. Я ни разу не слышала, чтобы он жаловался на Джоша как на управляющего, но тогда кто в этом виноват? А главное, ведь я понятия не имела, как надо управлять фермой. Я знала только одно: здесь много земли, много овец и целая армия работников, благодаря которым все идет как по маслу. Но теперь я подумала, что никого на ферме не видела, одного Сэма, разъезжавшего туда-сюда на своем квадроцикле. Не было привычной суеты, это с самого начала чувствовалось, с первой минуты приезда, но я не обратила внимания, думала только о доме. Только теперь до меня дошло, что на ферме как-то непривычно тихо.
— Давай завтра прогуляемся, — сказала я.
— На машине?
— Нет. Верхом.
— Ты это серьезно?
— А что? Почему не доставить себе это удовольствие?
Он смотрел на меня скептически, даже немного испуганно.
— Интересно, давно на этих лошадей садились верхом? Да и я с детства не сидел в седле. Боюсь, у меня не получится.
— Чепуха, ты всегда ездил, словно родился в седле.
Это была правда. Чарли почти всегда побеждал меня в скачках вокруг пастбища, он не упускал ни одной охоты, тогда как я сидела дома и дулась, считая охоту жестокой забавой.
— Съездим к пещерам. Кто знает, когда придется еще там побывать. Не поедешь — я поеду сама.
Минуту он думал, по капле цедя вино. Потом вздохнул, словно сдаваясь.
— Ну, хорошо, — сказал он. — Думаю, ты сошла с ума, но это все-таки лучше, чем отпускать тебя одну. Так и быть, поеду.
Напряжение между нами рассеялось, мы снова были прежние брат и сестра, болтали о том, о сем, обменивались последними сплетнями. Я дождалась от него того, чего хотела: он сочувственно похлопывал и гладил мне руку, хвалил, что я бросила Хью, говорил, что уж теперь наверняка мне встретится нормальный мужик. Про Сэма больше не спросил ни слова, а я сама не осмелилась касаться этой темы.
Совсем уже поздно, к ночи, я повела его наверх и показала Дорино платье и ее портрет, висящий на стене моей спальни.
— Думаешь, он ее убил?
Мы сидели на моей кровати, глядя то на шелковое платье, то на портрет. Казалось, этой женщине здесь уютно; интересно, думала я, может, когда-то эта комната была ее спальней? Она спала здесь, одевалась, расчесывала волосы…
— Вряд ли, — отозвался Чарли. — Слишком уж пикантный скелет в семейном шкафу. Ты что, все сидела здесь и фантазировала?
Он наклонился и всем корпусом толкнул меня в плечо.
— Похоже, у тебя от этой диссертации крыша поехала.
Я пожала плечами.
— Может быть. Все равно, очень хочется знать, что с ней на самом деле случилось. Какие мы были дураки, что не расспросили деда, когда он был живой. В истории нашей семьи столько легенд, что правда, а что нет — неизвестно, хотелось бы раскопать. Теперь уже поздно.
Вдруг дом тихонько качнулся. Глядя на меня круглыми глазами, Чарли схватил меня за руку. Мы настороженно вскинули головы и ждали. Раздался скрип, словно мы плыли на старинном деревянном паруснике, а кругом бушевал шторм; но все прекратилось так же быстро, как началось.
— Пар выпускает, — сказал Чарли.
Я кивнула; мне снова стало не по себе.
Дора
Переступая порог, она сразу понимает: что-то переменилось. Пол под ногами гладок и чист, в воздухе все так же пахнет табаком, но его заглушает густой аромат сирени. Здесь светлее, но свет мягче: абажуры на лампах из прохладного матового стекла. На окнах и на двери, ведущей в глубь дома, бархатные портьеры. Приколотые к стене булавками, выцветшие и свернувшиеся бумажки с рисунками исчезли, теперь образцы рисунков нанесены прямо на обои: несущиеся на всех парусах по волнам корабли и прочее, словом, все, что придется по душе настоящему морскому волку.
Портьеры дрожат и расходятся. Между ними проскальзывает молодой человек и, опустив глаза в пол, кланяется.
— Мистер Макдональд готов нас принять? — спрашивает Генри.
— Да, сэр. То есть он просит вас пройти и немного подождать. Он говорит, что юной леди кое-что может быть любопытно.
Мальчишка опять исчезает за портьерой.
— Но здесь все так изменилось, — говорит Дора.
Генри берет ее за руку.
— Это все твоими стараниями? — спрашивает она.
— Я хочу, чтобы все было так, как в Лондоне. Чтобы тебе делали татуировку не в грязной мастерской, а в приличном помещении. Макдональд был очень любезен и не отказал мне, когда я предложил оплатить перемены. Пойдем?
Пропуская ее вперед, он отодвигает портьеру, и она входит в заднюю комнату.
Макдональд работает — они пришли, как раз когда он делает татуировку. Но не матросу, как можно было бы ожидать, а даме. В кресле с прямой спинкой сидит женщина, локоть ее покоится на подлокотнике, подбородок уперся в запястье. В другой руке сигарета. Она лениво наблюдает, как входит Дора; взгляды их встречаются. На ней только панталоны и нижняя рубашка, спущенная так, что плечи и верхняя часть груди обнажены, как и руки тоже. Макдональд наклонился над ее спиной, он сосредоточенно орудует иголкой. Женщина делает глубокую затяжку и струей пускает дым вверх, не отрывая пристального взгляда от Доры. Лицо ее неподвижно, но Дора видит, что глаза ее смеются.
Дора никогда в жизни не видела такой красавицы. Если хоть на минуту забыться, можно подумать, что очутился в каком-то ином мире. Волосы у нее цвета патоки, губы натурального ярко-розового цвета. Вся верхняя часть груди и руки покрыты татуировками, но не как у Генри, отдельные изображения и каждое само по себе; наколки сделаны сплошь, впритык, почти не осталось свободного кусочка ее натуральной кожи цвета сливок. Ноги, невероятно длинные и мускулистые, она вытянула вперед; панталоны задраны до бедер, обнажая множество декоративных ленточек, мотыльков, цветочков и прочие изображения. Такое впечатление, что под одеждой тело ее скрывает еще один наряд. Дору влечет в комнату, поближе к этой женщине, поближе к кружащимся, кувыркающимся, трепещущим рисункам, ей самой хочется пуститься с ними в пляс. Вдруг кто-то берет ее за руку и тянет назад.
— Ради всего святого, — говорит муж, — зачем вам понадобилось показывать это моей жене?
Макдональд прекращает работать и поднимает голову.
— Я подумал, может быть, ей захочется посмотреть, как наносят татуировку еще одной даме.
Лицо его спокойно и безмятежно, на нем не видно ни раскаяния, ни дерзости.
— Пошли, Дора, — говорит Генри. — Мы подождем в той комнате.
Дора хочет протестовать, хочет сказать, что ничего не имеет против того, чтобы посидеть здесь. Что ей хочется подойти к этой женщине, потрогать ее наколки, заговорить с ней. Но она послушно идет за мужем. Она чувствует, что в жилах его закипает кровь.
— Генри, дорогой…
Жестом он заставляет ее замолчать. Когда говорит он сам, голос его звучит тихо и нарочито спокойно:
— Какая наглость, и это после того, что я сделал для этого человека. Предположить, что у тебя может быть что-то общее с этой… бабой, с этой балаганной шутихой.
— Но я совсем не такая, как эта женщина. Мы знаем это. И я не прочь поглядеть на нее, что тут такого? Она мне показалась очень… любопытной.
Дора скрывает истинные свои чувства: зрелище длинных, татуированных рук и ног этой женщины волнует ее, и это волнение сродни с вожделением к ней и желанием самой стать такой, как она.
Проходит несколько минут молчаливого ожидания; Дора чувствует, что Генри больше не сердится. Наконец снова появляется мальчик, а за ним следом та женщина, только теперь одетая. Она в перчатках, на ней закрытое платье, шея скрыта кружевным воротничком. Выглядит совершенно респектабельно, если не говорить про истоптанные и грязные ботинки. Шляпка тоже, пожалуй, не скажешь, что элегантная: безвкусная и вычурная, с фальшивой виноградной гроздью и яркими шелковыми цветочками.
Доре хочется заговорить с ней, но слова застревают в гортани. Генри не смотрит, уставился в пол, но, когда женщина подходит к двери, Дора видит, как он вскидывает глаза, и ей кажется, во взгляде его тускло горит волчий голод.
Подойдя к двери, женщина оборачивается.
— Надеюсь, до скорой встречи, — говорит она, глядя на Генри, а потом переводит взгляд на Дору.
И, сделав едва заметный книксен, исчезает, лишь треньканье дверного звонка говорит о том, что она только что здесь была.
— А что эта женщина, — обращается Дора к Макдональду, когда тот, уже склонившись над ее рукой, выкалывает ей на запястье золотисто-зеленую змейку, — это вы про нее нам рассказывали?
— Ее зовут Люси, — отвечает татуист. — Да, это она. Настоящая красавица, вы не находите? Скоро к нам приезжает цирк братьев Квирк. Советую сходить на представление. Это очень… — он умолкает, стараясь подобрать нужное слово, и когда произносит его, Дора догадывается, что он пытается говорить языком, понятным ей, языком не порта, а гостиной, — …увлекательно.
Дора молчит, она прислушивается к ощущению боли колющих иголок. На этот раз ей куда более комфортно; она сидит, свободно откинувшись в шезлонге, рука ее покоится на маленьком столике рядом.
Генри тоже не скучает: он позволил ученику Макдональда сделать ему наколку на ноге, маленького паучка, и у мальчишки неплохо получается; муж и жена лежат бок о бок, и время от времени руки их находят друг друга. Дора чувствует, как по ним проходит ток — одинаковые ощущения порождают искры и потрескивания, словно статическое электричество. Макдональд тоже это чувствует, она уверена в этом. Он ерзает и вздыхает на своем месте, поглядывая на их переплетенные пальцы. Он считает их чудаками, но ничего не говорит, да ему и не положено. Генри хорошо ему платит, он должен держать себя в рамках.
В экипаже, несущем их обратно в гостиницу, они глаз не могут оторвать друг от друга: Доре кажется, что взгляд его насквозь прожигает ей платье. Генри кричит вознице ехать быстрее, но дорога в холмах опасна, много резких поворотов и отвесных обрывов прямо в бушующие воды океана. Но за окошком виден один только мрак; до самых островов далеко на юге, покрытых льдами, нет ничего, кроме черной ночи.
Добравшись до своего номера, они бросаются в постель и неутомимо предаются любви; засыпают лишь под утро.
Первую наколку она сделала из любопытства, вторая — это уже сознательный шаг. А теперь она сама не своя: хочется еще. Ей уже не хватает уколов, жалящих укусов иголки. Она обожает наколки, которые у нее есть, но ей этого мало. Всегда можно найти более совершенный рисунок, которому найдется подходящее место, надо только поискать.
— Ты это имел в виду, — спрашивает она мужа, — когда говорил о коллекционировании?
Он соглашается.
Теперь ей нужна не только сама татуировка, ее увлекает весь ритуал: они одеваются в платье попроще и, как стемнеет, садятся в поезд или заказывают экипаж, который везет их через крутые холмы, сбегающие прямо к порту. Потом шагают по многолюдным улицам; кругом подозрительно крадущиеся фигуры, у некоторых, выползающих из опиумных притонов, мутные, шальные глаза; доносится пение дерущих глотки матросов, выходящих из баров. Генри с Дорой научились проходить незаметно, сливаясь с тенями.
И вот они входят в ателье, где помощник Макдональда, поджидая их, пьет чай и курит, и они удобно располагаются на шелковых подушках.
У Доры больше нет проблем с выбором изображений для своего тела. Стоит заглянуть в шкаф с сокровищами Генри: выбирай все, что душа пожелает. Теперь она больше чувствует собственную значимость для него, и он поощряет ее, нашептывая, что может настать день, и он все потеряет, а ее наколки будут с ними всегда.
Раковина моллюска, найденная на одном из островов Тихого океана; усыпанные крапинками, как кварц, яйца крачки и пустельги, закутанные в вату, которую она разворачивает осторожно, как конфетный фантик; крохотная птичка колибри. Все эти предметы с предосторожностями доставляются в порт, где Макдональд умело срисовывает их на бумагу, а потом под наблюдением Генри переносит на кожу Доры. С каждой татуировкой она чувствует, что становится ему ближе, словно врастает в его жизнь, в его прошлое и в его будущее. Они не говорят об этом ни слова, но оба понимают, что сплошь покрытая татуировками дама, с которой они случайно встретились в мастерской Макдональда, послужила для них не примером того, как не надо делать, но источником вдохновения.
Горничной своей Дора не позволяет прислуживать, если она не до конца прикрыта одеждой. Она не стыдится своего нового убранства, вовсе нет, напротив, ей кажется, что татуировки под одеждой волнуют ее, просто для нее они — вещь интимная и касается только ее и Генри. Вот когда они переедут в Лондон, она сможет вздохнуть свободней и позволить себе показать краешек наколки под перчаткой или рукавом, но здесь это невозможно. Здешнее общество ее не поймет.
Что касается коллекции Генри, она уже привыкла к ней и относится как к своей собственной. На нижнем этаже башни у него есть особая комната, в которую ведет незаметная дверца, хитроумно замаскированная под дверцу шкафа. В этой комнате находятся стеклянные витрины и специально встроенные полки, где хранятся самые разнообразные сокровища. Таксидермическая мастерская, где он держит менее экзотических животных, набивает чучела пойманных птиц, некоторые оставляя себе, остальные отсылая в Англию или продавая в музей Герца, расположена отдельно, в другом месте. С верхней полки в этой комнате, растопырив в стороны крылья, смотрит на всех сорока. Со своей коллекцией Генри обращается щедро, но ту особую комнату не показывает никому, кроме жены. Доре кажется, что можно ослепнуть, проводя здесь слишком много времени, разглядывая «русалку», которой он ее одурачил, табуретку, сделанную из стопы слона, стеклянные банки в три ряда с такими причудливыми морскими тварями, что ей хватает зрелища первого ряда. Когда она впервые набралась храбрости поглядеть на них, Генри остановил ее; красивые предметы, сказал он, доставят ей гораздо больше радости. А здесь много красивых предметов: раковины, яйца, статуэтки, сработанные рукой мастера далекой, чуждой культуры. Бабочки, конечно. Попугаи из тропиков, колибри и местные птицы, обитающие только в Новой Зеландии. Всякий раз, когда она попадает сюда, эти богатства ослепляют ее, но входит в эту комнату она, только когда позовет Генри.
А он регулярно исчезает вместе со своим другом-учителем мистером Истом, они пропадают в холмах по несколько дней подряд, но она не завидует ему, особенно когда видит его сияющее лицо, когда он преподносит ей давно желанную добычу: кости вымершей птицы моа. Когда ей становится одиноко в его отсутствие, она предается мечтам о приключениях, которые их ожидают в будущем. Еще она пользуется возможностью отправиться с отцом в город, где навещает подругу, Кейт Джонсон, ходит в оперу или в театр.
Только одно слегка омрачает ее счастье. Только раз они говорили с Генри о детях. Лежа с ней в постели, Генри тихонько щекотал ее, гладя пальцем колибри на ее животе, и рассказывал про джунгли, где он поймал эту птичку; когда-нибудь он снова отправится туда и возьмет ее с собой, ей очень понравится. Она не удержалась от этого вопроса.
— А как же дети? Что с ними будет, когда мы уедем?
Он перестал ласкать ее и положил руку за голову.
— Дети…
Он глубоко вздохнул.
— Дети, дорогая моя, все только усложняют.
Она села на постели.
— Как тебя понимать, ты что, не хочешь детей?
Она представить себе не могла, чтобы в замужестве у нее не появилось ребенка, и не одного; обязанности жены в ее сознании всегда были тесно связаны с обязанностями матери.
— Я просто хочу сказать, что надо быть очень аккуратными. И пока не закончатся наши путешествия, было бы… целесообразно детей не иметь.
— А как же мой бедный отец? Он ждет не дождется внуков!
Он взял ее за руку.
— Тут уж ничего не поделаешь.
На этом разговор и заканчивается, и Дора понимает, что заводить его на эту тему больше не следует. Теперь только тщательней моется всякий раз, как они предаются любви, и молится о том, чтобы он не разочаровался в ней. Это все, что в ее силах.
— А ферма-то наша, — радостно сообщает он ей, — процветает.
Он нанял работников, они исполняют все до малейших деталей, что касается производства и управления, и она это видит, только когда выезжает прокатиться по своим владениям; рабочие живут далеко на холме, в специально построенных каменных коттеджах, в доме же ничто не напоминает о ферме. Жизнь идет своим чередом, как она всегда шла в сельской местности: осень сменяется зимой, и в новом доме сам воздух, кажется, промерзает насквозь, потом приходит весна, а за ней и лето, и так далее. Она нетерпеливо ожидает, когда же наступит день и Генри скажет, что пришло время оставить все это. И только поездки в порт вносят в жизненную рутину приятное разнообразие; когда же Генри объявляет, что он должен предпринять длительную экспедицию на Северный остров, поймать быстро исчезающую птицу гуйю, Дора совсем отчаивается найти во время его отсутствия хоть какое-то развлечение.
— Возьми меня с собой, — просит она.
— Не сейчас, — отвечает он. — Может быть, в следующий раз.
Наступают мрачные дни, когда она чувствует себя одиноким кораблем, плывущим в тумане. Когда Генри долго нет рядом, дом превращается для нее в тюрьму. Она меряет шагами его многочисленные комнаты, и в ушах слышится только эхо стучащих каблуков. «Он ведь обещал», — думает она. Обещал, что спасет от светской жизни, а вот что вышло, она сидит в четырех стенах, а он неизвестно где, он путешествует, у него жизнь полна приключений, и все это без нее. Она мирилась с этим, когда он отправлялся недалеко от дома; когда она была моложе, они с отцом тоже частенько отправлялись в путешествие по окружающим холмам. Но на Северном острове она еще не бывала; конечно, с Африкой или, скажем, с Перу сравнивать смешно, но ей тоже хотелось бы своими глазами увидеть эту землю, посмотреть, как Генри выслеживает и ловит загадочную гуйю. Если он уже сейчас не исполняет своих обещаний, что может помешать ему заставить ее сидеть дома, когда он отправится странствовать по свету?
Она не в силах больше сидеть дома одна, надо хоть как-то развеяться. Экипаж везет ее в город, она проезжает мимо цветущих парков, и при виде этого буйства красок на душе становится легче. Кейт встречает ее на крыльце и немедленно замечает, что Дора чем-то опечалена; ей кажется, что с подругой случилось что-то ужасное.
— Пустяки, — отвечает Дора на ее вопрос, — и не спрашивай, пожалуйста. Давай вечерком куда-нибудь сходим, и все снова встанет на свои места, обещаю. Это все дом на меня влияет, он такой большой и такой холодный, в нем невозможно быть одной. И так далеко от города. Господи, как я рада тебя видеть.
Она заставляет себя улыбнуться и целует подругу в щечку.
Дора и сама не знает, с чего это ей вдруг пришло в голову отправиться в цирк. Всякий знает, что цирк, хотя он и пользуется большим успехом у публики, посещать не совсем прилично, и то, что ей удалось уговорить Кейт пойти с ней, граничит с чудом. Наверное, подействовало ее настроение, нигилистическое состояние духа, заставляющее бросаться навстречу опасности. Впрочем, может быть, она просто надеется снова увидеть Люси, женщину с татуировками.
Прижавшись друг к дружке, Дора и Кейт пробираются сквозь толпу. Кого здесь только нет: продавщицы цветов, зажавшие в одной руке букетик ирисов или нарциссов и с надеждой протягивающие другую; коробейники, тычущие своим негодным, убогим товаром прямо в лицо; изнуренного вида женщины с выводками оборванных ребятишек, катающих наперегонки дребезжащие обручи; джентльмены под руку с безвкусно одетыми дамами, явно не их женами, отводящие взгляд, когда Дора проходит мимо; несколько пар вполне респектабельного вида, привлеченных сюда, скорей всего, любопытством, но явно чувствующих себя здесь не в своей тарелке.
Огромный шатер, как башня, возвышается прямо посередине парка, маня публику трепещущими на ветру, разноцветными флагами. Все дорожки до самого огромного купола забиты возбужденной толпой.
Они берут билеты и входят под купол. Оказавшись внутри, Дора поражена резким запахом навоза, других экскрементов и сырой земли; дальше воздух пропитан испарениями человеческих тел. Какой-то мужчина с тростью в руке легонько трогает ее за плечо и манит к себе. Быстро взглянув на Кейт, она идет за ним, и он приводит их в передний ряд, указывает на места, с табличками «забронировано». Она не знает, нужно ли быть польщенной или беспокоиться; у нее такое чувство, будто все на них обращают внимание.
Скамейки твердые и неудобные, и они скоро чувствуют, что отсидели зады. Арена покрыта жухлой травой, копытами животных смешанной с грязью, опилками и испражнениями, но, несмотря на эти обескураживающие условия, зрелище обещает быть интересным.
— Даже не верится, что я пришла сюда, — говорит Кейт, разглядывая весело болтающую толпу, детишек, которые едва сдерживают избыток чувств, предвкушая удовольствие. — В детстве я всегда мечтала сходить в цирк, но мама не разрешала. Думаю, она боялась, что я убегу с цирковыми!
— Я рада, что тебе здесь нравится, — успокоенно отзывается Дора; уж если ее подруге здесь хорошо, то ей и подавно.
Представление начинается. Сначала выступают какие-то облезлые, грустные животные, их гоняют по арене для удовольствия публики, не исключая и медведя, который идет на задних лапах и переминается на месте, изображая какой-то нелепый танец; дрессировщик таскает его за собой на цепи, прикрепленной к ошейнику. Дору охватывает отвращение, слыша, как публика встречает это низкопробное зрелище радостными криками.
Но от выступления акробатов перехватывает дыхание. Высоко под куполом они перелетают с трапеции на трапецию, в своих сверкающих костюмах сияя, как метеоры. Гибкие их тела изгибаются и вертятся в воздухе спиралями, ловко подхватывая друг друга. А когда на канат выходит канатоходец и вдруг спотыкается, Дора вскакивает на ноги, сердце ее готово выскочить из груди; но он с легкостью оправляется, и она снова садится, ощущая даже некоторое разочарование, поскольку начинает подозревать, что все это было задумано заранее. Артисты спускаются с небес на землю, кланяются публике, и она видит, как на руках и ногах акробатов перекатываются упругие мышцы, а поверх грима стекают ручейки пота. Их четверо, четыре черноволосых брата; с накрашенными лицами и в одинаковых костюмах, они кажутся близнецами, даже нет, одним человеком, просто магическая игра света и тени порождает его двойников. Они приветственно кричат что-то публике на незнакомом языке и бегом исчезают, а Дора все аплодирует, до боли в ладонях.
Наездники тоже не разочаровывают ее. Эту пару представляют как брата с сестрой, но Дора подозревает, что это не так; скорей всего, нарочно придумали, чтобы сохранить респектабельность этой женщины, одетой в столь легкий наряд, что ноги ее полностью обнажены, а партнер во время выступления трогает ее за всякие интимные места. Они прыгают с лошади на лошадь, обе лошади без седел, женщина порой сидит у мужчины на плечах, и лицо его отделяет от ее бедер лишь тоненький слой хлопчатобумажной ткани. Лошади встают на дыбы перед публикой и кивают головами, а в финале номера всадники, сидя верхом, жонглируют ножами.
— Мне кажется, я больше не выдержу, — признается Кейт. — Бедное мое сердце!
Потом свет ламп приглушается, и на арену выходит одинокая фигура, завернутая в плащ с капюшоном. Конферансье призывает публику к тишине, и шум быстро умолкает.
— Леди и джентльмены! — начинает он. — Позвольте представить вам юную даму, которая поведает вам о своей трагической судьбе. Еще совсем девочкой она попала в плен к дикарям, и они подвергли ее одному из своих священнейших обрядов: все тело ее украсили татуировками!
Луч прожектора падает на безмолвную фигуру; она поднимает голову. У Доры сжимается сердце. Несмотря на плащ, укрывающий ее с ног до головы, она узнает черные блестящие волосы и изящные черты Люси, той самой женщины, которую они с мужем видели в ателье Макдональда. Губы ее теперь украшены синим рисунком, а подбородок спиралями, и на мгновение Софи потрясена, но вовремя вспоминает, что у Макдональда нет синей краски. Этот узор наверняка нанесен обыкновенной кисточкой.
Тем временем конферансье продолжает:
— К счастью для нее, и для нас тоже, ее спас один отважный солдат, но теперь она вечно должна носить на себе эти татуировки, эти знаки ее пребывания среди дикарей. В конце концов она полюбила их, теперь они — часть ее самой, они для нее как платье, которое невозможно скинуть! Леди и джентльмены… представляю вам… Артемизию!
Люси сбрасывает плащ и делает шаг вперед. Публика в изумлении замирает, потом по цирку прокатывается ропот; Дора не совсем понимает причины его: оттого ли, что тело этой женщины покрыто татуировками, или потому, что одета она столь вызывающе-соблазнительно: на ней лишь корсет и совсем коротенькие панталоны; верхняя часть груди, шея, руки и ноги выше колен совершенно голые. Впрочем, не совсем так: тело Люси словно закрыто сплошной татуировкой, красочные рисунки заменяют ей одежду. Она стоит на арене гордо, даже вызывающе, подняв голову и вскинув вверх руки; она теперь похожа на оперную певицу, которая вышла на прославленные подмостки.
Широко раскрыв глаза, Дора с нескрываемой завистью смотрит на нее. Прежде, в заведении Макдональда, у нее не было такой возможности. А теперь, когда Люси идет по арене кругом, Дора может разглядывать ее со всех сторон, видеть эти цветы, переплетающиеся стеблями с фигурами животных, перекрывающие друг друга, как кусочки мозаики, от розочек на ее стройных ножках и до лошади, во весь опор скачущей по ее спине.
Кейт ерзает на скамейке рядом.
— Бедняжка, — бормочет она. — Как ей, наверно, было страшно!
— Но они это все придумали, — шепчет Дора подруге. — У маори совсем не такие татуировки, это чисто европейские рисунки. И сделали их не резцом, а иголкой.
Кажется, она проговорилась. Кейт поворачивается и смотрит на нее во все глаза.
— Откуда ты все это знаешь?
Но, прежде чем Дора дает ответ, происходит нечто невероятное, немыслимое. Люси замечает ее в первом ряду. Маска на лице ее куда-то исчезает, вместо нее появляется улыбка. Зубы ее тоже покрашены синей тушью. Дора отворачивается, в подмышках сразу проступает горячий пот, но Люси продолжает приближаться, направляясь прямо к ней.
Доре кажется, что она сейчас не выдержит и закричит. Ее охватывает ужас при мысли, что Люси с ней заговорит. Она хватает Кейт за руку, вскакивает и заставляет подругу сделать то же самое. Сидящие поблизости зрители умолкают, ей кажется, они обшаривают пытливыми взглядами всю ее фигуру, пытаясь заглянуть под одежду.
— В чем дело, Дора?
Кейт не может скрыть своего смущения.
Дора хочет бежать, но все проходы забиты людьми, и ей приходится пробиваться сквозь толпу, ее толкают руками, дышат в лицо алкоголем и табаком и еще бог знает какой заразой. Но Кейт идет за ней следом, крепко держа ее за руку; общими усилиями женщины проталкиваются к выходу и вырываются на свежий воздух, где светит яркое солнце.
Она падает духом, ей кажется, что она гибнет. Кейт не просит у нее объяснений случившемуся в цирке, но и поддержать не проявляет желания. Просто избегает ее, Дора уверена, что это так. Когда Дора входит в комнату, Кейт всегда находит предлог, чтобы уйти, или старается на нее не смотреть.
Сославшись на нездоровье, Дора ложится в постель, и это дает обеим некоторую передышку. Она и в самом деле чувствует себя нехорошо. Вставать у нее нет ни сил, ни желания, и она остается в постели, пока на стене не меркнут последние лучи солнца. День отлетает прочь. Служанка приносит ужин, но Дора едва притрагивается к нему. Несколько раз ее тошнит, охватывает приступ рвоты, и приходится делать это в ночной горшок; служанка выносит его, не задавая вопросов и не проявляя особого сочувствия. Оставшись одна, она поднимает ночную рубашку, смотрит на татуировки и пытается анализировать свое состояние. Почему ей так плохо? Но она нисколько не сожалеет о том, что сделала татуировки. Можно было бы даже показать их Кейт. Впрочем, нет, Кейт не поняла бы ее. Здесь нельзя оставаться самим собой и как таковым быть принятым обществом.
Как ей сейчас не хватает Генри!
Совершенно обессиленная, она возвращается домой и находит там письмо от Генри. Он пишет, что Северный остров — изумительное место, что он познакомился с удивительными людьми, увидел много настоящих чудес. Пишет про дерево похутукава с яркими, как пламя, цветами, которые осыпаются при ветреной погоде и покрывают землю, словно кровавым снегом; при этом нельзя не вспомнить, что в это время в далекой Англии идет настоящий снег, а он совсем не скучает по нему. Сообщает о щедрости и великодушии людей маори, с которыми он познакомился: они отдавали ему свои орудия труда и оружие, даже рубахи с себя снимали; ему и в голову не приходило хитрить с ними и обманывать их, как это делал его коллега Шлау, когда воровал кости их предков. Ему выпал случай своими глазами видеть великолепные «моко», маорийские татуировки на лице, и не только у мужчин, но и у женщин тоже, которые носят их на губах и подбородках. Взамен он показал им свои, и им особенно понравился дракон на его предплечье. Они называли его «Танивха» и с восхищением смотрели, как Генри заставлял его плясать перед ними. Они тоже весьма высоко ценят птицу гуйю за ее перья, иссиня-черные с ярко-белым кончиком, и обещают показать ему, где ее можно поймать. На этом он должен заканчивать письмо и поскорее отправить, чтобы оно пришло к ней раньше его самого. Он ужасно по ней скучает и порой сожалеет о том, что оставил ее дома, поскольку это путешествие оказалось не столь опасным, как он предполагал. Он жаждет снова видеть ее тело. Теперь она для него — кладезь чудес, собрание редкостей. И кроме нее, ему больше ничего не нужно.
«Я привезу тебе гуйю, — пишет он, — чтобы ты убедилась, как сильно я тебя люблю».
В ту ночь Доре снятся женщины маори и их «моко». Снится, что они решили и ей нанести татуировки, но она боится резца, с которым они к ней приближаются. Им нужно покрепче держать ее. Даже во сне Дора ощущает удары резца на лице и мучительную боль, когда он прорезает ей плоть до самой кости.
Лето в самом разгаре, а в доме смертельно холодно. Она постоянно поддерживает огонь в каминах, но комнаты остаются мрачными в эти не по сезону угрюмые и дождливые дни. Ее никто не навещает, все соседи уехали в город, где настала череда праздников, и ей остается только читать, спать и ждать.
Приезжает отец, он потрясен, увидев, как она изменилась: щеки запали, кожа иссохла, в глазах стоят слезы.
— Немедленно собирайся, и едем ко мне, — говорит он. — Поживешь у меня. Ты совсем больна.
— Нет, отец. Я жду Генри, он должен приехать со дня на день. Я должна его встретить.
— Будь он проклят, что оставил тебя в этой дыре одну! Пусть только приедет, я поговорю с ним по-свойски, честное слово!
— Нет, только не это… — Дора протягивает к нему руки, и он успевает ее подхватить: она теряет сознание.
Дора приходит в себя в постели, переворачивается на другой бок и засыпает, но скоро ее будят: пришел врач.
Причина страхов ее, о чем она не позволяла себе даже и думать, теперь понятна: она беременна. Отцу ничего не остается, как забрать жену и пожить какое-то время с Дорой. Он ходит вокруг нее на цыпочках и говорит шепотом, словно она тяжело больна; он и слышать не хочет о том, чтобы она вставала, даже в погожие дни, когда ей гораздо лучше. Дора видит, что за его озабоченностью скрывается гордость, плечи его расправляются, он даже становится выше ростом и теперь постоянно с рассеянным видом мурлычет мелодии каких-то колыбельных песен.
Ей кажется, что ее мачеха, принеся суп, косится на нее, словно Дора ее чем-то обидела, и даже нарочно проливает его, обжигая Доре пальцы. Она бормочет, что Дора должна благодарить Бога за счастье, которое Он ей даровал, но Доре хочется сказать ей только одно: «Забирайте ребенка себе, он ваш. Мне он совсем не нужен». Но она ест суп и не произносит ни слова.
Розмари
Моя лошадка погибла в августе, когда мне исполнилось тринадцать лет. Рано утром меня разбудил какой-то грохот и громкий крик, потом донеслось ржание лошадей, которые перекликались в утреннем тумане, чавканье копыт по грязи. Я выглянула из окна своей крохотной спальни и увидела их плывущие сквозь туман силуэты. Потом донесся другой звук, словно кто-то дергал струны; эта жуткая мелодия плыла по воздуху к дому, повторяясь снова и снова. Понять, что это такое, было невозможно.
Я выскочила из дома в одной пижаме, сразу за мной, натягивая пальто, выбежал дедушка. Я даже не стала задерживаться, чтобы надеть резиновые сапоги, гравий больно колол босые ступни, и от холода и сырости пальцы на ногах быстро замерзли. И только возле ворот я заметила в руках у дедушки винтовку.
Моя маленькая лошадка Лили, которую я обожала, на которой училась ездить верхом, которую каждое лето, что проводила здесь с семилетнего возраста, холила и лелеяла, лежала передо мной бесформенной массой, запутавшись в натянутой на столбы ограждения проволоке. Бока ее судорожно поднимались и опадали, ей было страшно. Опираясь на одну ногу, она пыталась подняться, но вместо этого снова и снова натыкалась на проволоку, и это движение было исполнено какого-то жуткого ритма. Так вот что вызвало этот красивый и вместе с тем тревожный звук, эту мелодию, которая вот уже двадцать лет снова и снова звучит у меня в ушах и снится в кошмарах. Мы с дедушкой смотрели на нее, как парализованные. Потом Лили издала мучительное ржание и сдалась. Задняя нога ее была надсечена, из нее текла кровь, она развернулась под неестественным углом, словно была вывихнута. Она подняла гнедую головку, и ее глаза с белыми ободками печально посмотрели на нас.
До сего дня мы не знаем, почему Лили пыталась перепрыгивать через ограду, поскользнулась ли она, отталкиваясь от земли, или просто не взяла высоту. Порасспросить бы об этом сорок, неторопливо прогуливающихся вокруг, пока мы пытались ее успокоить. Неистовые, безумные рывки нанесли еще больше вреда ее израненному телу, и в конце концов дедушка приказал мне отвернуться.
Грохот выстрела эхом прокатился по накрытой серым туманом долине. С громкими криками взлетели сороки, и это сочетание звуков словно накрыло меня с головой, сопровождаемое повторяющимся в тишине эхом. Обхватив руками окоченевшее тело, я закрыла глаза. Облепленные грязью ноги совсем окоченели. Дедушка схватил меня в охапку, поднял и понес, стараясь держать так, чтобы мне не было видно затихшей лошади. Грубая шерсть его пиджака царапала мне лицо. От него пахло ланолином и бабушкиными сигарками.
На этом можно было бы считать этот эпизод исчерпанным, если бы не то, что произошло потом. Дедушка приказал Джошу, который был тогда еще только рабочим фермы, взять заступ и похоронить лошадь. В тот день, как частенько и раньше, я вышла пройтись вверх по склону холма, мимо псарни, чтобы сверху полюбоваться закатом. Дедушка считал, что это занятие развивает во мне меланхолию, но как мне нравилось наблюдать за людьми из башни, так и подглядывать сверху за жизнью дома, видеть, как они ходят там внутри, любоваться дымом из труб, висящим в неподвижном воздухе. А в тот день мне позарез нужно было где-нибудь побыть одной.
Приблизившись к псарне, я увидела, что с другой стороны на маленьком грузовичке к ней подъезжает Джош. Съехав с дороги, он помахал мне рукой и подал назад, туда, где отчаянно лаяли собаки, которые в своих загончиках словно с ума посходили. Что-то заставило меня остановиться и посмотреть, что будет дальше.
Джош вышел из кабины и подошел к кузову. Он принялся вытаскивать из него и бросать на землю какие-то большие, тяжелые куски. Собачий лай перешел в пронзительный визг, они бешено бросались на двери своих клетушек. Закончив разгрузку, Джош выпустил собак, а сам отступил в сторону, и они жадно бросились на мясо, с рычанием вгрызаясь в него. Джош стоял рядом, уперев руку в бок и сгорбившись, словно держал на плечах тяжелый груз. Потом он медленно поднял голову и увидел, что я стою неподалеку. Безрадостно махнул рукой в сторону собак, у меня на глазах рвущих на части и пожирающих мою лошадку. Умирать буду — не забуду довольного выражения на его узеньком лице.
Вот после этого случая я и перестала есть мясо. Всякий раз, глядя на него, я вспоминала Лили и отвратительную сцену, как ее труп скармливают собакам. Она не заслужила этого, как и любое другое животное. С таким же чувством я стала относиться и к таксидермии: она для меня — дань уважения, проявление любви к объекту моей работы, дело, которое возвращает животному его достоинство после смерти, к тому же я всякий раз погребала останки в землю и сажала на могиле дерево. Какая я была идеалистка!
Потом я слышала, как дедушка кричал на Джоша, угрожая уволить его. Сидя в своей узенькой комнатушке, из которой я отказывалась выйти, пока не приехала мама и не уговорила, сказав, что мы немедленно уезжаем, возвращаемся в город. В следующий раз я приехала в Сорочью усадьбу через много лет и с Джошем больше не разговаривала.
Лошади, казалось, удивились, увидев нас, но стояли смирно, жуя морковку, пока мы надевали на них уздечки. Я выбрала себе Джимми, мне показалось, что Чарли для него будет тяжеловат; брат поедет на Блоссоме. Копыта животных были порядком запущены, но, слава богу, подкованы. Я дала себе слово напомнить кому-нибудь из фермерских рабочих, что лошадям надо обязательно почистить и обрезать копыта и перековать; похоже, после смерти дедушки про них совершенно забыли.
Утро было туманное, в детстве я любила такие утра. Я снова представила себя в то время, когда все было проще, когда прогулка верхом казалась столь же естественной, как и пешком. В холодном воздухе от дыхания лошадей над конюшней висел пар; мы с трудом пробрались к ней по тяжелой от росы траве, чтобы быстренько почистить и оседлать животных. К полудню туман рассеется, и день будет прекрасный. Не говоря ни слова, лишь слушая стук копыт по сырой земле и позвякивание удил, мы вывели их из конюшни. На душе у меня было уже не так тревожно, как в последние дни, я ни о чем не думала, кроме предстоящей прогулки, — ни о Хью, ни о Сэме, ни о дедушке, ни о незваных гостях. За эти годы я совсем забыла, насколько благотворно для нас общение с лошадьми.
Как следует почистив животных, убрав грязь и камешки из их копыт, мы оседлали их и отправились по дороге вверх по склону холма. Миновали пустой вольер для собак. Была суббота, но на ферме выходных не бывает, всегда найдется работа. Я представила себе, как Сэм верхом на своей тачке свистит и кричит на собак на непонятном пастушьем языке.
— Господи боже, я совсем забыл, что у меня здесь есть мышцы, — сказал Чарли, встав на стремена и потягиваясь. — Завтра все кости будут болеть.
Я молча кивнула. Мышцы у меня на бедрах тоже явно ослабли, я это почувствовала, когда попыталась управлять лошадью коленями. Руки горели от холода, из носа потекло. Я вытерла его рукавом.
Дорога, извиваясь, шла в гору мимо деревенских домиков из известняка. Семья Джоша жила в самом большом, остальные дома занимали стригали и рабочие. Перед домом Джоша стояли детские велосипеды, но он казался бы необитаемым, если б не дым, вьющийся над трубой.
— Думаю, надо остановиться и поздороваться, — сказал Чарли, разворачивая Блоссома на подъездную дорожку. — Заодно спросим, может, видели, кто рыскал вокруг нашего дома.
— Давай не будем, — отозвалась я. — Я с ними еще не разговаривала, а Сэм сказал, что Джош очень расстраивается насчет фермы. Поговори с ним, конечно, если хочешь, но позже. Сейчас мне бы очень не хотелось.
Чарли не возражал и снова поехал прямо. Поравнявшись с домом, мы заметили в кухонном окне чью-то высокую фигуру с всклокоченными черными волосами на голове. Кто-то смотрел, как мы проезжаем мимо. Чарли помахал свободной рукой, рот до ушей, а я просто подняла руку, так, на всякий случай. Джош — а это, конечно, был он — казалось, и бровью не повел. И даже рукой не махнул в ответ, просто повернулся спиной и отошел от окна.
— Может, просто нас не заметил, — сказал Чарли.
— Да брось ты, он прекрасно нас видел, — ответила я.
Проехав еще немного в гору, мы свернули с дороги и выехали на одно из огороженных пастбищ. Чарли пустил Блоссома в карьер, я последовала его примеру, немного беспокоясь, что старина Джимми не сможет за ним угнаться. Но он вытянул уши вперед и мгновенно сорвался с места; мне с трудом удалось удержать его, чтобы он не перешел в галоп. Овцы бросились врассыпную, ветер свистел в ушах и приятно холодил горячие щеки. Чарли с гиканьем мчался вперед. Подъехав к следующей калитке, я тяжело дышала и с трудом заставила Джимми слушаться, но настроение у меня было отличное.
— Вот это да! — воскликнул Чарли, спрыгнул с Блоссома и открыл калитку. — Поверить не могу, что так давно не ездил верхом. И где я был все это время?
— Где-где, в большом городе, конечно, ты же там важная шишка, дорогой врач.
Он пожал плечами, подождал, пока я проеду сквозь калитку, закрыл ее и снова вскочил на лошадь.
— Ты помнишь дорогу к пещерам? — спросил он.
— Думаю, да. Надо проехать еще несколько пастбищ, а потом — мимо церкви.
— Эх, сейчас бы яичного пирога с беконом, как готовила миссис Джи, — мечтательно сказал он.
Да, подумала я, и я бы не отказалась, несмотря на то, что теперь вегетарианка. Неплохая верховая прогулочка, аппетит вон как разыгрался. Утром мы съели всего по паре бутербродов, как бы не помереть с голоду.
Когда мы добрались до небольшой каменной церквушки, стоящей возле самой вершины холма, туман уже поднялся, и ветер гнал по небу плотные белые облака и пробирал сквозь куртку до самых печенок. Это небольшое строение было еще цело, только слегка покосилось на непрочном фундаменте, но крыша уже провалилась, и теперь остатки храма служили приютом для птиц и мышей. Грустное зрелище, но мне нравилась эта грусть, она пробуждала мысли об Англии, о ее долгой истории. Эта церквушка была построена еще первыми хозяевами нашего дома, у которых купил его Генри после землетрясения, ее посещало все их семейство, а также домочадцы и слуги, рабочие фермы. В те дни, наверное, она всегда была полна народу.
— Давай на минутку здесь остановимся, — попросила я.
Чарли кивнул.
Мы спешились, привязали лошадей к столбику ограды и прошли через небольшие железные ворота, едва державшиеся на петлях. Неподалеку ржавел старинный водяной насос. Чарли направился к церковной двери, но меня заинтересовали торчащие из земли могильные камни.
Они заросли успевшей пожухнуть чахлой травой, вокруг валялись шарики овечьего помета; покрытые лишайником и совсем маленькие, с незнакомыми именами — возможно, давно забытые слуги или предки первоначальных владельцев. На некоторых камнях надписи говорили о том, что под ними лежат рано умершие младенцы или дети постарше.
Под усыпанной яблоками яблоней, поодаль от остальных, торчал еще один камень. Это был обработанный, слегка покосившийся кусок мрамора.
Я подошла ближе, Чарли тоже встал рядом.
— Дора Саммерс, — прочитал он. — Кто это?
— Ты должен знать, — ответила я. — Первая жена Генри. Та самая, которая утонула.
— Но я считал, что тело ее не нашли. И что это он убил ее.
— «В память о трагически погибшей Доре Саммерс», — прочитала я надпись вслух. — Думаю, это просто памятник. Вряд ли она похоронена здесь. Видишь, большинство могил здесь с оградками. А тут просто надгробие, и все.
— Интересно, а где тогда могила Генри? И когда тут перестали хоронить?
— Думаю, когда закрылась церковь и прекратились службы. Впрочем, не знаю.
Мы постояли еще немного, глядя на мраморный памятник. По земле бежали тени облаков.
— В общем-то, и наш дедушка должен лежать здесь, разве нет? — сказала я. — И Тесс тоже.
— Ты что, смеешься? — отозвался Чарли, беря меня за руку. — Мама ни за что не позволила бы хоронить ее здесь. Особенно после того, что случилось.
— Пожалуй, ты прав. Я сказала глупость. Извини.
Он сжал мою руку. Имя Тесс неожиданно выскочило между нами, но мы оба не захотели продолжать темы. Я первая нарушила молчание:
— Знаешь, а я бы хотела, чтобы меня похоронили здесь. Ты можешь это устроить?
Он сразу как-то обмяк, отпустил мою руку и сделал шаг в сторону.
— А я думал, что ты давно решила подарить свое тело науке. Чтобы сделали чучело или еще как употребили, уж не знаю.
— Ах да, я и забыла. Спасибо, что напомнил.
— А есть еще одна возможность, — сказал Чарли. — Можно собрать твой пепел и спрессовать его под высоким давлением, получится бриллиант. Твой возлюбленный сделает из него перстень и будет носить тебя на себе всегда.
— Ну да, memento mori, чтобы всегда помнить о смерти. Мне нравится эта идея. Осталось только обзавестись возлюбленным.
— Ну, уж этого добра у тебя хватает. Только выбирай.
— Да толку-то от них, — проворчала я.
— Твоя проблема в том, что ты слишком разборчива. Начиталась романов и впустую тратишь время, ожидая своего Хитклиффа.
— Может быть. Не хочу об этом больше думать.
Мы покинули печальное маленькое кладбище и въехали на вершину холма, с которого были видны пещеры. В детстве нам не разрешали ходить сюда одним, дедушка говорил, что пещеры могут в любой момент обрушиться. Вход в одну из них был завален камнями, когда он сам еще был ребенком. Мы бывали здесь всего несколько раз, во время семейных прогулок, и мне было жаль, что нам так и не удалось поиграть в них как следует. Когда мы с Чарли подъехали ближе, мне пришла в голову странная мысль: а ведь в этих пещерах очень удобно прятать сокровища. Вход в пещеру завалили, когда дедушка был маленьким, как раз в то время, когда Генри упаковал свои шкафы с редкостями и приготовил их к отправке в Британский музей. Но коробки эти туда так и не дошли. Может быть, они спрятаны где-то на территории имения? Я исключала возможность того, что они находятся в доме, ведь за все годы, которые дедушка прожил в нем, он их так и не нашел. Возможно, поэтому нам и приказывали держаться подальше от пещер, значит, в них что-то спрятано. Может быть, дедушкин отец пошел против воли Генри и спрятал ящики здесь, предупредив об опасности посещения пещер своего сына и все последующие поколения?
Эта мысль так меня взволновала, что я немедленно поделилась ею с Чарли.
— Да-а, чего-чего, а фантазии у тебя хватает, — сказал он.
Пещеры лежали в тени известняковых утесов. Мы стреножили лошадей, позаботясь о том, чтобы им хватило пощипать травки.
— Ты помнишь, как мы однажды сюда приезжали? — спросила я.
— Конечно. Дедушка рассказывал, что в этой долине когда-то водились моа. И я почему-то был уверен, что разыщу хоть одну из них живьем. И был очень разочарован, когда пришлось возвращаться домой, а я ни одной так и не нашел.
— Что бы ты с ней стал делать? Застрелил бы из рогатки?
— Ну, да, конечно. Все еще помнишь про ту сороку, да?
— Но ведь это было ужасно. Зато благодаря этому случаю я стала заниматься таксидермией, так что я должна еще благодарить тебя.
— Всегда пожалуйста.
Он сел на камень и закурил.
— А я разве не рассказывал, что мы с мальчишками из деревни часто приезжали сюда, несмотря на запреты? Мы здесь покуривали.
Он с сомнением посмотрел на свой дымящийся окурок.
— Есть вещи, которые со временем не меняются.
— А меня это вовсе не удивляет.
— Вы с дедушкой вечно поднимали шум по поводу мертвых зверей. А обратить на это внимание у него не было времени. Вечером мы возвращались, и всем было плевать, где я пропадал, никто не спрашивал.
— Ну, извини.
Он пожал плечами.
— Ты-то тут при чем? Мне это нравилось. Мальчишки маори рассказывали, что в этих пещерах есть наскальные рисунки их далеких предков. Мы пробовали сдвинуть некоторые камни, чтобы пролезть в закрытую пещеру, но их было слишком много. Думаю, когда-то там хоронили умерших. Они говорили, что эти пещеры «тапу», было страшно залезать далеко.
Теперь я была рада, что та пещера недоступна. И мне по душе пришлась мысль о рисунках; закрытые каменным оползнем от света и праздного любопытства, они дольше сохранятся. А если там и в самом деле погребали умерших, то мне не хотелось тревожить их прах. Я зашла в неглубокую полость и прошла немного вперед. Здесь было тихо, слышался только приглушенный звук где-то падающих капель, и время от времени в расщелинах посвистывал ветер.
— Дора! — крикнула я, но ответа не получила, только ветер что-то шептал в расщелинах.
Мы вернулись, когда уже вечерело и по небу клубились серые тучи. Я была совершенно измотана, ноги дрожали, когда я ходила вокруг Джимми, снимая сбрую и убирая ее на место. Я быстренько поскребла его щеткой и повела на пастбище. Он не торопился, повиновался мне неохотно, но как только рядом с ним оказался Блоссом, они легли и принялись валяться в грязи. Мы с Чарли постояли немного, любуясь на них, а потом отправились к дому.
Оказавшись перед дверью черного хода, мы сразу увидели сороку. Я заметила ее первой: крылья были неестественно вывернуты, будто она делала жалкую попытку взлететь, голова безвольно повисла на мягкой шее. Тело ее было проткнуто огромным гвоздем, как раз там, где должно биться ее крохотное сердечко. По белой краске стекала алая кровь, местами испачканная грязью, словно кто-то делал это второпях. Я повернулась к Чарли и успела заметить, как изменилось его лицо, когда он увидел, что перед ним. Он испуганно отпрянул и поднял руку к лицу, словно хотел защититься.
Через несколько минут мы сидели за кухонным столом; я плакала, а Чарли, сам не менее потрясенный, пытался меня успокоить.
— Что мы такого сделали, разве мы это заслужили? — всхлипывала я.
Но, несмотря на слезы, ситуация странным образом не казалась мне серьезной. Мертвая птица, приколоченная гвоздем к двери, — слишком зловещий знак, чтобы быть реальной угрозой, это наверняка шутка, которую мог бы сыграть со мной и Чарли, когда был мальчишкой. Я рассказала ему про опоссума на крыльце перед дверью, обнаруженного после того, как я увидела в окне чье-то лицо, и про то, что я заставила себя не видеть в этом ничего плохого.
— Почему ты мне не сказала сразу? Господи, давно уже надо было вызвать полицию.
— Не сказала, потому что не знала, угрожают мне или нет. Подумала, что кто-то принес мне его в подарок.
— Какой такой подарок?
— Ну, чтобы я сделала из него чучело. На днях, например, Сэм принес мне кролика, и я даже успела снять с него шкурку.
— Ты думаешь, это сделал Сэм? Вот скотина.
Он решительно встал.
— За такие дела надо его немедленно уволить.
— Не знаю, — ответила я.
Я и вправду не знала. Сэм казался наиболее вероятным подозреваемым. Я его прогнала, и он разозлился, но вот способен ли он на что-то подобное, это еще вопрос.
— Позвоню Джошу. Пускай с ним разберется.
Я безропотно поплелась за Чарли в гостиную, где у стенки на телефонном столике стоял старинный аппарат, еще с наборным диском. Нельзя же вечно избегать управляющего фермой. Я села все на тот же диван и натянула одеяло на колени. Слушая звук с трудом вращающегося диска, я вдруг увидела, что в саду кто-то стоит и смотрит на нас. Высокий, прямой, с квадратными плечами, уперев руки в бока и с бесстрастным лицом, но голову набычил, и густые брови почти совсем закрывают глаза. Он увидел, что я на него смотрю, но даже не пошевелился, оставался стоять неподвижно, как стоял.
— Чарли, смотри… ты видишь, кто там стоит?
Мне надо было сперва убедиться, что мне опять не почудилось от избытка воображения.
Чарли со стуком положил трубку на место.
— Прекрасно вижу. Что ж, значит, теперь не надо ему звонить.
Генри
Крошечные ящерки, сворачивающиеся в его ладони, словно ленточки. Странные непуганые птицы с зачаточными крылышками: смелая и нахальная уэка,[45] застенчивая киви, ведущая ночной образ жизни. Болотная курочка, или пукеко, с голубыми перьями и красными лапками; испуганно тряся хвостиком и показывая ему свои беленькие нижние перышки, она перед тем, как он стреляет в нее, подает сигнал опасности другим птицам. Многоножки с красивыми лапками и великолепная гигантская уэта[46] с длинными, усеянными колючками задними лапками, которыми она ловко отбивается от врага, с усиками, длина которых в несколько раз превышает длину ее тела; она отчаянно сопротивлялась, но он в конце концов поймал ее целой и невредимой; она едва уместилась в банке, где он и усыпил ее. И единственное млекопитающее, для которого Новая Зеландия является родиной, футлярокрыл — летучая мышь, из которой сделать чучело оказалось трудней, чем ожидалось, но он постарался, и получилось прекрасно; несмотря на малые размеры, выглядит очень свирепо.
Ну и, конечно, гуйя.
Всю свою добычу Генри тщательно упаковывает к отправке, но гуйю последние несколько часов путешествия держит в руках. Он хочет подарить ее Доре. Это первое, что она должна увидеть, когда он приедет. Пусть знает, что разлука стоила того, что он вернулся к ней не с пустыми руками.
Под легким моросящим дождиком его экипаж едет по дороге. Впереди на фоне прекрасного пейзажа красиво маячит Сорочья усадьба. Он не устает любоваться своим домом, когда дорога переваливает через небольшой холм и сворачивает от реки, несущейся сейчас быстрей, чем обычно, да и уровень воды выше; должно быть, пока он был в отъезде, здесь шли дожди.
Он спрыгивает на землю, бережно держа гуйю в руках.
— Дора! — кричит он, глядя на окна.
В одном из них на мгновение, как призрак, мелькает ее лицо и сразу исчезает. Она встречает его внизу, у самой лестницы; он едва успевает поставить гуйю на боковой столик, как она бросается к нему на шею.
— Дай хоть посмотреть на тебя, — говорит Генри.
Он пытается оторвать ее руки, но она вцепилась в него, как клещ. Щеки ее пылают, прижимаясь к нему, дыхание влажное. Ему хочется поднять ее на руки и немедленно отнести наверх. Он отступает на шаг и, держа ее за руки, всматривается ей в лицо. Однако она прячет глаза. Он потрясен тем, что видит: Дора страшно исхудала, волосы нечесаные, жирные и полны перхоти. Глаза красные, словно она целую неделю плакала.
— В чем дело? — спрашивает он, снова беря ее за руки.
Она молчит, только всхлипывает. Он ведет ее в гостиную и усаживает в кресло; она судорожно держится за живот, сжимая в пальцах его носовой платок.
Генри опускается рядом на стул и ждет.
Дора горестно качает головой.
— Ни в чем, — отвечает она. — Просто я очень скучала по тебе, вот и все.
Она краснеет, словно признание смущает ее. Его самого тоже охватывает смущение.
— Не может быть, — говорит он. — Должно быть что-то еще.
Она начинает сердиться.
— Ты что, принимаешь меня за дурочку? За все это время я получила от тебя только одно письмо! Ты совсем обо мне забыл!
Он вскакивает и смотрит на нее сверху вниз. Глаза ее широко раскрываются, она закусывает губу. Плечи его начинают трястись. Надо скорей выйти из комнаты, уйти от нее подальше: тело его содрогается, и остановить эти судороги можно, только собрав всю силу, бушующую у него в груди, в единый кулак и обрушить ее на что-нибудь. Или на кого-нибудь.
В передней Генри видит свою гуйю и хватает ее. Он смотрит на нее, на свои вцепившиеся в нее дрожащие пальцы, невероятным усилием воли заставляет себя поставить эту великолепную птицу обратно на столик, и изо всей силы кулак его наносит сокрушительный удар в стену над ней.
— Прости меня, — говорит Дора, перевязывая ему руку.
Суставы пальцев его блестят и распухли, глубокие раны, наверное, очень болят. Сам виноват.
— Я совсем на тебя не сердилась, — продолжает она. — Я правда очень по тебе скучала. Сама не знаю, что на меня нашло. Ты вернулся, это главное, и теперь все хорошо.
Она жмет его здоровую руку, улыбается, но глаза ее все так же печальны. Нет, он не станет задавать ей вопросов. Сама расскажет, когда придет время и если захочет.
Гнев его куда-то совсем испарился. Как всегда, он даже не помнит, как это все случилось, что на него нашло; теперь он только рад, что все прошло. Слава богу, нанес вред только себе, не гуйе и не, боже упаси, Доре.
Они сидят в его комнате. Пылает камин, за окнами смеркается, наступает осенний вечер. Сырые дрова трещат на огне и дымят, дым щиплет глаза, но все равно ему очень спокойно и уютно. Дора убедила его подняться наверх и отдохнуть после трудного путешествия; соблазнительно, конечно, забыться в мягкой постели. Но он теперь слишком взволнован, ему не терпится показать свои трофеи.
Чтобы поскорей закончить с перевязкой, она зажигает лампу и подносил его руку поближе к глазам.
— Вот так, — говорит она, — теперь будет держаться крепко.
— Пойдем-ка со мной.
Генри встает, берет ее за руку и ведет вниз. Стараясь не смотреть на порванные ударом обои — руке его досталось еще больше, — он преподносит ей гуйю.
Она не знает, что с ней делать, но потом лицо ее проясняется и глаза теплеют.
— Значит, ты все-таки поймал ее, — шепчет она.
— Для тебя.
— Для меня, — повторяет она.
Она смотрит на птицу, на ее красивый изогнутый клюв, которым так удобно пить цветочный нектар, на иссиня-черные перья. На хвост с ярко-белыми кончиками. Птица сидит на ветке тотары,[47] а та, в свою очередь, прикреплена к деревянной стойке, которую она держит в руках, словно боится притронуться к самой птице.
— Ну, рассказывай, — говорит она. — Рассказывай все.
Они идут в гостиную, уютно устраиваются перед камином, и он рассказывает, как поймал эту удивительную птицу. Как много дней искал ее и не мог найти, и уже совсем было впал в отчаяние. Но однажды утром его разбудил проводник; приложив палец к губам, он молча указал на густые заросли кустарника, где с ветки на ветку порхала гуйя, ловя насекомых, и, похоже, совсем не замечала внизу людей. А может, просто была непуганая.
— Ах, Дора, — говорит он, — как бы мне хотелось оказаться там на сотню лет раньше, когда в этих зарослях раздавались их крики, когда охота на них еще не привела к почти полному их исчезновению. Наверняка они водились и на Южном острове. Теперь совсем вымирают. Ты сейчас держишь в руках одну из последних птиц. Это самка, видишь, у нее длинный клюв? У самцов короче. Но мне хотелось только ее. Одну только ее.
Голос его мечтательно смолкает; он снова видит эту картину перед глазами. Вот он быстро встает, стараясь не шуметь, тянется за ружьем, которое почистил и зарядил накануне. Подкрадывается, стараясь ступать легко, чтобы ни одна веточка не хрустнула под ногой. Он словно плывет над землей вслед за гуйей, порхающей над кустами. Прицеливается. Ему отпущен только один выстрел. И он не упускает своего шанса.
— Получилось все просто прекрасно, — говорит он, рассказав все это Доре. — Выстрел был такой точный, что даже крови почти не было. Сама видишь, образец получился удивительный.
— Да, удивительный, — говорит она.
Потом они лежат в постели и смотрят на колеблемый легким сквозняком язычок пламени единственной свечки. Он знает, что доставил ей удовольствие подарком, но все же в ее лице сохраняется странная неподвижность, словно за время его отсутствия молодость ее как-то поблекла. Он чувствует, что она хочет что-то ему сказать, она то и дело вздыхает, старается заглянуть ему в глаза и тут же быстро отворачивается.
Тогда Генри приподнимается на локте и нежно берет пальцами ее подбородок.
— Тебя что-то беспокоит, — говорит он.
Она отвечает не сразу, а когда открывает рот, взгляд ее, который она прятала с самого его прибытия, становится совсем беззащитным.
— Я бы хотела… — начинает она. — Нет, мне просто необходимо съездить к Макдональду. И как можно скорей. Можно?
— Ну, конечно. Что это тебе пришло в голову?
— Я все думаю о своей спине. Мне кажется, что она… совсем голая. Надо, чтобы на ней что-нибудь было, что-нибудь такое… прекрасное.
Он не просит от нее объяснений, он все понимает. Он и сам через это прошел, он уже испытывал эту жажду, которая привела его в Лондон в то время, как он был нужен отцу для какого-то важного дела, жажду, которая заставила его покрыть рисунком голую кожу левого бицепса.
— Завтра же напишу ему, — говорит он, — чтоб был готов к нашему визиту.
На этот раз они смело приехали утром. В дневном свете хорошо видно, как от просоленных ветров потрескалась штукатурка домов в порту; переулки залиты лужами мочи, оставленной ночными гуляками. Теперь активная жизнь порта переместилась на пристань и корабли — сверху, с городских улиц хорошо видны крохотные фигурки людей, бегающих с тюками на плечах, перенося грузы с кораблей в док и из дока на корабли.
Макдональд сидит в мастерской, глаза его мутны, он поджидает их, окутанный облаком табачного дыма. В комнате пахнет спиртным, но Генри знает, что татуировщик сейчас не пьян. Движения Макдональда чопорно-напряженны, проводя их в заднюю комнату, он ворчит, зачем они явились в такую рань.
— Вы прекрасно знали, что мы придем в это время, — говорит Генри, — поэтому, прошу вас, попридержите язык, сэр. Мы не виноваты в том, что вчера вы позволили себе слишком расслабиться.
Макдональд усмехается и сплевывает в ближайшую плевательницу.
— Ваша правда, сэр, — отвечает он. — Ну, и что мы хотим на этот раз?
Генри кладет коробку, которую все время держал в руках, на ближайший столик.
— Эта вещь представляет для нас большую ценность; до сих пор нам удавалось транспортировать ее в целости и сохранности, поэтому, прошу вас, будьте с ней осторожнее.
Он вынимает из коробки гуйю и ставит рядом.
Макдональд от удивления даже присвистывает.
— Ого, вот это птичка! И как она называется?
— Гуйя. С Северного острова. Я бы хотел, чтобы вы срисовали ее и татуировку с рисунка сделали на спине миссис Саммерс. Достаточно большую, именно поэтому мы назначили вам пораньше.
Брови его взлетают вверх. «Теперь, значит, на спине?» — хочется спросить ему. Но он молчит, понимая, что этот вопрос ему обсуждать неуместно.
Дора нетерпеливо теребит сумочку и ходит по комнате взад-вперед. Она часто дышит, и Генри беспокоится: не дай бог, с ней случится обморок.
— Сядь же, — говорит он, может быть, слишком резко: вздрогнув, она останавливается и смотрит на него большими глазами.
— Посиди, тебе надо отдохнуть, иначе будет больно, — говорит он гораздо мягче, подводя ее к стулу, и обращается к Макдональду: — А где же ваш мальчишка? Не подадите ли чаю? И сколько мы вам должны заплатить?
Интересно, думает он, что стало с дорогим чайным сервизом, который он специально привез для заведения: цел ли он или, может, разбился, а то, и того хуже, просто стоит немытый.
— Скоро придет, — отвечает Макдональд, разглядывая птицу со всех сторон и пытаясь найти самый выгодный для рисунка ракурс.
Генри не понимает, почему он так нервничает. Нет, он не осуждает процедуры, которой должна подвергнуться Дора, но все-таки очень за нее беспокоится. Какая-то она скучная; а вдруг, когда все закончится, жена пожалеет о том, что сделала, или ей надоест долгий процесс, и на всю жизнь она останется с незаконченной татуировкой на спине.
Если татуировка не приносит ей радости, а, похоже, это именно так, когда совсем угаснет ее желание покрывать свое тело тушью? Где будет последняя ее татуировка? На руке? Или на шее? Или она будет счастлива, лишь восхищаясь новой татуировкой?
Но он обожает ее тело и так. И татуировки не делают его менее красивым, наоборот, лишь подчеркивают его прелесть. Тем более что он — единственный человек в мире (Макдональд не в счет), который имеет возможность созерцать их. Несмотря на все его страхи, ее татуировки вызывают в нем чувство, что она принадлежит только ему и никому больше, как самая изысканная музейная диковинка в мире. Ни один коллекционер не может похвастаться, что в его коллекции есть нечто подобное Доре.
— Вот, — говорит Макдональд, вручая рисунок Генри, и Дора склоняется к нему, чтобы тоже посмотреть. Татуировщик допустил некоторые вольности, лишь подчеркнув изящную кривую ее клюва изгибом спинки.
— Думаю, надо нанести рисунок по всей спине, — говорит Макдональд, — включая лопатки. Он будет прекрасно гармонировать с ее женственными формами, видите?
Дора вспыхивает и отводит глаза, но кивает в знак согласия.
— Как долго продлится вся процедура? — спрашивает она.
— Не очень долго, не беспокойтесь, — говорит Макдональд. — Вообще-то у меня есть для вас сюрприз.
Он поворачивается и достает какой-то аппарат. Что-то щелкает, и аппарат с тихим жужжанием оживает.
— Что это? — спрашивает Генри.
Похоже, какой-то электрический механизм, но сделан грубо — из металлических деталей, дерева и резины. Макдональд подносит его ближе, и Генри видит маленькую иголочку, которая движется так быстро, что ее почти не видно.
— Электрическая татуировочная машина, — с гордостью говорит Макдональд. — Запатентована неким мистером Рейлли, но над конструкцией работал я лично. Он просто опередил меня с патентом. Она совершит революцию в татуировочном деле, помяните мои слова. С этого момента все будет по-другому.
Дора вздрагивает.
— Даже и не знаю, — неуверенно говорит она. — Страшновато как-то. Вы думаете, это безопасно?
Макдональд выключает инструмент, и в комнате наступает тишина.
— О, мадам, совершенно безопасно. И линии она делает гораздо тоньше, да и намного быстрей. Вы совсем не почувствуете разницы, разве что сидеть придется не так долго, и ощущение будет такое, будто у вас по коже рисуют пером. И куда более аккуратно и точно. Результат вам очень понравится, сами увидите.
Чтобы подтвердить свои слова, он закатывает на левой руке рукав и показывает наколку: корабль, выполненный в мельчайших деталях, как рисунок пером. Раздутые паруса дрожат на ветру, волны пенятся на гребнях. Действительно, прогресс налицо.
— А давай я первым его испробую, — говорит Генри, касаясь ее локтя. — Хочешь?
Она облегченно вздыхает.
— Да. Пожалуйста.
— Ну, вот и отлично.
Генри снова откидывается на шелковые подушки. Развязывает галстук, расстегивает и распахивает рубашку, обнажая грудь, и с серебряного подноса берет сигарету.
— Вот здесь.
Он похлопывает по груди, как раз под розочкой, которую выколол ему Макдональд в первый визит.
— До Англии мне теперь дела нет. Я хочу, чтобы вы выкололи у меня ее имя, вот здесь, где сердце. Всего одно слово: «Дора».
— Прекрасно.
Макдональд выбривает нужный участок и тщательно протирает его спиртом. Окунает иголку в тушь, и, хрюкнув, машина снова оживает. Генри кладет руки на колени и закрывает глаза. Грудные мышцы его напрягаются в ожидании боли. Когда машинка начинает работать, он сжимает кулаки, но не от боли, а от нового ощущения, довольно странного. Это не тонкое покалывание, когда мастер держит иголку в руке, а как бы слабое жжение, проникающее под кожу и распространяющееся по мышцам. Он открывает глаза и видит Дору; она не отрывает от него глаз, ловя каждое его движение.
Генри расслабляет мышцы, и теперь жжет гораздо слабее. Он улыбается жене.
— Да, — говорит он. — Очень хорошо, тебе понравится. Нисколько не хуже, чем раньше, просто другое ощущение.
Равномерная вибрация машинки даже несколько приятна, думает он, как жужжание крыльев колибри, когда она зависает над цветком, чтобы полакомиться нектаром.
— Колибри, — говорит он жене. — Это как колибри.
Она смущена, но не говорит ни слова, только внимательно смотрит, как на груди его одна за другой возникают буквы, причем очень быстро. Через пять минут все закончено. Макдональд вытирает струйку крови. Для человека столь грубого его каллиграфическое искусство выше всяких похвал: буква Д исполнена жирно, с изящным наклоном, от нее отходит завитушка, соединяясь с буквой «о», которая меньше размером, ну, и так далее. Линия действительно чище, чем прежде, и ровнее. Лучшего и ожидать не приходится.
Дора улыбается, напряжение ее спадает. Он видит в глазах ее желание поскорее начать.
— Ты готова? — спрашивает он.
— Готова.
Она усаживается на его место.
— Ты совершенно уверена, что хочешь этого? — снова спрашивает он.
— Да, — отвечает она. — Только, Генри, — она разворачивается в кресле и с неожиданной силой хватает его за руку. — Я немного боюсь. Скажи, что все будет хорошо.
— Конечно, милая, все будет хорошо, — уверяет он Дору; но что-то еще ее беспокоит, он чувствует это, уж больно крепко она вцепилась ему в руку, уж очень настойчиво просит его поддержки.
— Все будет просто чудесно, — добавляет он.
Дора
Для завершения татуировки потребовалось два сеанса: первый для того, чтобы черной тушью нанести контуры гуйи и основные линии, а через несколько дней уже исполнить все в цвете. Ей бы очень хотелось увидеть татуировку своими глазами, но приходится смотреть с помощью нескольких зеркал, и Дора не уверена, видит ли она рисунок так, как он выглядит на самом деле, или изображение зеркальное, то есть обратное. Но ясно одно: татуировка великолепна. Гуйя у нее на спине как живая, кажется, сейчас взмахнет крыльями и слетит, и вместе с тем изображение, несомненно, стилизовано. Макдональд позволил себе некоторые художественные вольности, и это лишь подчеркнуло естественную красоту птицы, она совершенно органично смотрится на ее спине и лопатках.
Спина у нее болит, и пока она спит только на боку и на животе, но результат стоит этих маленьких временных неудобств. Проходит несколько дней, как приехал Генри, тоску, вызванную долгим его отсутствием и известием о ее беременности, как рукой сняло. Словно введенная под кожу тушь пробуждает в ней жизненные силы, и они, пульсируя, проникают в кровь, которая гонит их до самых кончиков пальцев. Она постоянно находится в возбужденном состоянии, словно ожидает какого-то чуда, и каждый поступок ее кажется ей важнее и значительней предыдущего. Плечи ее будто светятся, она это ясно чувствует. Интересно, думает она, похоже ли это на опьянение?
Они остаются в городе, ходят в театр и на скачки. Энергия бьет в ней ключом, каждую ночь они предаются любви с таким самозабвением, словно у них эта ночь последняя. Она снова хочет ехать к Макдональду, ей не терпится еще раз услышать пение электрической иголки на своей коже, но Генри говорит: в другой раз, он должен вернуться на ферму, проверить, как идут дела; они отправятся через месяц.
Целый месяц. Экипаж с грохотом мчится в сторону имения; Дора кладет руку на живот, прикидывая его объем и размышляя о том, когда нельзя уже будет скрывать эту новую, растущую в ней жизнь. Генри отчего-то в дурном настроении, это случается с ним в последнее время все чаще. Говорит, что с ней это никак не связано, просто с утра чувствует на душе какой-то мрак и ничего не может с этим поделать. Но он явно не хочет на нее смотреть, и ее преследует чувство, что она ему противна. Неужели он догадывается о ее положении и злится на нее? Она понимает, что он уже устал от домашней жизни и страстно желает снова отправиться в путешествие, в горы или на Северный остров, на поиски новых сокровищ. А может быть, он устал от нее и хочет вообще покинуть эту страну, вернуться в Англию и его здесь удерживают только обязательства перед фермой?
Подъезжая к Сорочьей усадьбе, она чувствует, что жизненные силы, которые ей подарила тушь, иссякают. Она любит этот дом, ведь Генри восстановил его для нее, но он такой большой и такой холодный. Наверное, вот в таких домах должны водиться привидения, да, они любят подобные дома, а может, просто там заблудились и плутают в бесконечных закоулках и потайных комнатах, не в силах найти выход в мир иной.
Генри с утра до вечера пропадает на ферме, и она целиком посвящает себя домашним делам. Управляющий слегка даже напуган ее рвением, но терпеливо выслушивает ее бесконечные вопросы о расходах на еду и дрова, на челядь, об усердии слуг и садовников. Дора понимает, что занимается этим только потому, чтобы меньше думать — мрак на душе, о котором говорит Генри, проникает и к ней в душу, словно дом влияет на них обоих.
Однажды утром она просыпается довольно поздно; в апреле солнце встает уже не так рано, и листья на деревьях начинают желтеть. Генри еще спит, обнимая ее во сне и прижавшись к ней всем телом, и ей приятно ощущать его тепло.
Он открывает глаза и бормочет ей в ухо что-то неразборчивое.
— Доброе утро, — повторяет он более отчетливо и, сладко потягиваясь, отпускает ее.
— Что ты сегодня делаешь? — спрашивает она.
— Встречаюсь с управляющим, но это совсем не долго. А потом я в твоем распоряжении. Хочешь, устроим пикник на берегу реки, если погода будет хорошая?
Дора с сомнением смотрит на занавески.
— А ты не слышал, как ночью по крыше стучал дождь? — спрашивает она. — Да что там, тебя и землетрясением не разбудишь.
В полумраке она едва разбирает цифры и стрелки на часах: десять минут восьмого, а еще так темно, сквозь щели в шторах едва сочится какая-то серость. Она выскальзывает из постели, подходит к окну и слегка раздвигает их.
Дождь все еще идет, глухой и безнадежный. Зарядил, думает она. Если открыть окно, станет слышно, как шумит река.
— В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит из дома.
Она шире раздвигает шторы и поворачивается к нему.
— Ну, что ж, дела есть дела, — говорит он. — Надо кое-что закончить на ферме. А потом давай устроим себе что-нибудь приятное, Дора. Можно в город съездить, если хочешь. Даже договориться о какой-нибудь экспедиции. Если ты не против.
— Я, против?
Она смеется и бросается к нему на кровать.
— Да вы просто осчастливили меня, мистер Саммерс.
Но когда Генри, позавтракав, уезжает, к ней снова возвращаются слабость и тошнота. Горничная, кажется, слишком туго затягивает на ней корсет, Дора беспокоится, не раздавит ли он ребенка, и приказывает ослабить шнуровку. Пупок торчит больше обычного — неужели Генри обратил внимание? С недавнего времени она раздевается в темноте, а то, что не видят его глаза, руки не чувствуют.
Ну как в таком состоянии путешествовать, подвергаться опасностям?
Она отправляется в комнату, расположенную в нижней части башни, где хранится коллекция Генри. Здесь она дышит воздухом дальних стран — Африки, Южной Америки, Индии, Японии, южных островов Тихого океана. Комната постепенно наполняется, вещи сдвигают теснее, нужно место для костей птицы моа, для новых насекомых, для искусно набитых ее мужем птичьих чучел. Они смотрят на нее: сидящие на тоненьких веточках большие зеленые попугаи с крепкими и острыми когтями, изысканными веерообразными хвостиками, сорока, вытаращившая на нее свои глазки, совсем как живая, как и те, что прогуливаются вокруг дома и строят гнезда в дымовых трубах.
Она всматривается сквозь стекло шкафа, разглядывая плавающих в жидкости змей; а это что там такое… неужели? Да это же двухголовый котенок, словно висящий в луче света. От неожиданности она делает шаг назад. Она и не догадывалась, что Генри настолько психически нездоров… но ведь это просто диковинка, такая же, как и более экзотичные, хотя и одноголовые создания. Интересно, почему она не замечала его прежде? Не отдавая себе в этом отчета, Дора снова подходит ближе, чтобы рассмотреть внимательней. Она ничего не имела против, когда Генри отговаривал ее заглядывать сюда, ей было достаточно смотреть на яркие хохолки птичек, на злые глаза млекопитающих, на сверкающие крылышки насекомых за стеклом, повешенных в рамках на стену. Банки же эти незаметны, ничем не выделяются. Их содержимое бледно, и только вглядываясь, начинаешь различать формы. Человеческая рука. Сердце ее бьется все сильнее. Как это отвратительно! Похожа на руку пугала, вырезанную из репы.
Она пробует открыть дверцу шкафа, ожидая, что он заперт на замок, но она легко открывается. Она отодвигает банку с человеческой рукой в сторону, шарит позади нее и вытаскивает первую, к которой прикасается.
— О, господи, — произносит она вслух.
Руки ее начинают дрожать, когда она видит то, что она сначала приняла за морскую актинию; в свете лампы оно медленно поворачивается перед ней внутри банки. Это человеческий детеныш. Только он очень мал, и ей становится ясно, что это еще не родившийся ребенок. Голова его по сравнению с тощим тельцем непропорционально велика, глаза огромны, под кожей густая сетка кровеносных сосудов.
Внутри ее тоже что-то шевелится: уж не просится ли уже на свет божий зародившаяся в ней жизнь… или это ее внутренности переворачиваются при виде утробного плода.
Но это еще не все, она чувствует, это далеко не все. Она вытаскивает еще одну банку, видит в ней крохотную ножку ребенка и не может сдержать слез; ей очень жалко и этого ребенка, и его мать. И себя тоже жалко. Руки ее тянутся к полкам независимо от ее воли, отодвигая в сторону угрей и прочих заспиртованных животных, пока в самом конце шкафа не натыкаются на банку, откуда на нее смотрит чье-то лицо… это лицо ребенка. Она осторожно, держа двумя руками, извлекает ее и видит на этикетке одно слово: «Оспа». В банке плавает отделенное от головы студенистое рябое лицо, маска с дырами вместо глаз. Бывшее лицо ребенка. Это уже не какая-нибудь диковинка, предмет страстных желаний заполучить его в свою коллекцию, чтобы потом любоваться. Это было когда-то маленьким ребенком.
Банка выскальзывает у нее из рук и вдребезги разбивается о пол. Жидкость заливает ей платье, ноги, и детское личико шлепается на пол, как мертвая рыбина. Ей кажется, что она собственной кожей ощущает его холодную плоть.
Дора кричит, отшвыривает его ногой и отскакивает в дальний угол комнаты. Так вот почему он не хочет детей. Вот что происходит с ними, когда они заболевают или умирают, — они становятся трофеями подобного шкафа. Надо сделать все, чтобы защитить ребенка, которого она носит в себе, а это значит, она должна оставаться дома и делать все, чтобы уберечь его от любой опасности. К черту Генри и его дикие приключения. Она опускается на пол, кладет голову на колени и рыдает.
Всего через несколько минут в таком положении ее находит Генри.
Он бежит к ней, но под ногами его хрустит стекло, и он застывает на месте как вкопанный.
— Что это? Что тут случилось?
Он опускается на корточки и смотрит на детское личико, лежащее на полу, на лужу и стеклянные осколки.
— Это отвратительно! — кричит она. — Как тебе пришло в голову хранить у себя такое?
Она ждет, что он подойдет к ней, обнимет, успокоит. Но он молча выпрямляется, оставаясь на месте.
— Не болтай глупостей. Ты что, думаешь, это я убил его? Это просто медицинский экспонат, ничего больше.
— Но где ты его взял?
— В больнице.
Он смотрит на шкаф и видит, что порядок в нем полностью нарушен.
— А-а, вижу, ты нашла и другие мои образцы. Все они получены мной в больнице. Их должны были сжечь.
— А как же матери этих детей?
— Они от них отказались! Господи, женщина, что это на тебя нашло?
— Но это же были живые дети! — кричит она.
Плечи ее так и ходят, она безуспешно пытается удержать рыдания.
Генри переступает через лужу на полу, усеянную осколками битого стекла, и подходит к Доре. Наклоняется к ней. Она чувствует на лице его горячее дыхание, видит пылающие щеки и суровую складку губ. Он хватает ее за плечи, с силой ставит на ноги и начинает трясти до тех пор, пока она не чувствует, что сейчас ее вырвет прямо ему на костюм.
— Возьми себя в руки! — кричит он ей в лицо.
Слюна его брызжет ей прямо в глаза.
Собрав все силы, Дора толкает его и сама изумляется, как эффективно у нее получается. Он отлетает назад, падает прямо на шкаф, который от сильного удара шатается, однако не падает; злость на лице его вдруг сменяется удивлением. Дора поднимает юбки и стремглав бежит к двери, не забыв перепрыгнуть через осколки на полу. Бежит она не от страха, совсем иное чувство движет ею — горе, отчаяние, разочарование. Теперь она знает: нужно как можно скорей бежать из этого дома, прочь из этих сырых комнат, с полутемными углами и душными стенами.
На дворе все еще идет дождь. Он омывает ей лицо; волосы и платье ее промокают насквозь, платье прилипает к телу, но она все бежит и бежит по направлению к реке. Отдаленный рев разбушевавшейся реки приближается, становится громче. Она подбегает к калитке ближайшего к дому пастбища, пальцы нащупывают запор, она оставляет ее открытой и бежит дальше, не останавливаясь и не оглядываясь, не желая видеть, догоняет ли ее Генри. Ей кажется, ветер доносит до слуха ее имя, но трудно сказать наверняка из-за шума воды. Вот и берег, она останавливается, чтобы перевести дыхание. Делает несколько глубоких вздохов; воздух настолько сырой, что становится больно в легких.
Дора сворачивает налево и идет по течению, к холмам. Вода бурлит совсем рядом, покрытая клочьями коричневой пены; уровень так высоко, что ей приходится обходить на пути огромные замоины. Длинная трава цепляется за юбки, ботинки промокают насквозь от дождя и раскисшей почвы. Там, где растут уже желтеющие плакучие ивы, река делает поворот. Дора проходит мимо них; в воздух медленно поднимается сорока, с пронзительным криком зависает на месте, потом летит вслед за ней.
Она с трудом бредет дальше куда глаза глядят, зная только то, что ей необходимо побыть одной. Генри, должно быть, потерял ее, ведь он давно мог бы ее догнать; на секунду она представляет себе, как он обнимает ее своими большими, теплыми руками, прикрывая ее от дождя. Защищая от ее собственной глупости.
Вдруг она начинает обращать внимание на звуки вокруг: шуршание ног по мокрой траве, чавканье ботинок в грязи, шуршанье дождя, поглощаемого бешеным потоком реки. Она наклоняет голову, прислушивается и все еще не замечает подстерегающей ее опасности.
К первой сороке присоединяются другие. Они обходят ее, беря в плотное кольцо. Ей хочется повернуть и бежать обратно, но они уже окружили ее, смотрят и не расступаются. Она останавливается и ждет. В какофонии их криков тонут все остальные звуки, даже рев бурной реки. Дора закрывает ладонями уши.
— Прекратите! — кричит она. — Хватит! Прочь с дороги!
Птицы поднимаются в воздух, но летят не прочь, а прямо к ней. Она вскрикивает и приседает на корточки, закрыв лицо руками, но они бросаются на нее и по очереди клюют в шею, в спину, запускают когти ей в волосы. Не видя ничего перед собой, Дора вскакивает и бежит к реке, а та уже ждет ее.
Розмари
Как и во всяком добром готическом романе, в этой истории полным-полно привидений. Они скитаются по страницам книг, которые я изучаю: давным-давно умершие женщины, разлученные влюбленные, вновь соединяющиеся после смерти, призраки, явившиеся мне во сне или привидевшиеся от развитого воображения в результате чтения слишком большого количества романов или неустойчивого рассудка. Все эти источники ненадежны.
Я никогда не говорю про свою сестру Тесс. И, насколько получается, стараюсь не думать о ней, но не Дора, а именно она подлинный призрак этой истории. Она — моя Берта, моя Ребекка, моя Кэтрин. Это благодаря ей я стала тем, кто я есть в этой жизни, это она скатертью выстелила мне мою жизненную дорогу. Что бы со мной ни случилось, она всегда рядом; и здесь, в Сорочьей усадьбе, она ни на минуту не покидает меня — и на чердаке, и в спальне, и в моих снах, и в башне. Особенно в башне. Настало время выпустить и ее на сцену. И рассказать о том, какую роль я сыграла в ее смерти.
Возможно, мне нужно вернуться немного пораньше, к майским праздникам, когда мне только исполнилось тринадцать лет. Родители снова на две недели отправили нас в деревню. Зима пришла в тот год рано, по ночам температура опускалась ниже нуля, лужи замерзали, и мы прыгали по ним, растрескивая ледяные корки; нередко шли грозы с градом, и небо было затянуто мрачными низкими тучами. Мы с дедушкой чаще всего сидели в рабочем кабинете, с закрытой дверью и с включенным на полную мощность калорифером и слушали радио.
Тогда я не замечала всех проказ Чарли, мальчик он был изобретательный, и бабушке с ним было не справиться. Теперь, конечно, я знаю, что он частенько верхом на лошади ездил с деревенскими мальчишками к пещерам, там они тайком от взрослых курили. Чарли всегда легко заводил друзей. Он привлекал их умением бесконечно над кем-нибудь подшучивать, причем совершенно добродушно и беззлобно, а также готовностью рисковать.
А вот Тесс, напротив, изнывала от скуки. Ей скоро должно было исполниться шестнадцать, и она злилась оттого, что ее оставили на двух стариков и младших брата и сестренку. Она спала до полудня и не ложилась далеко за полночь, смотрела по телевизору фильмы ужасов, старые детективы и боевики. Со мной она почти не разговаривала. Пряталась где-нибудь в укромном уголке с «Грозовым перевалом»[48] в руках, тоненькая, высокая девочка, которая все больше становилась похожа на настоящую женщину. Она для меня была загадкой. В городе она тусовалась с музыкантами, сама играла в оркестре. Она часто говорила родителям, что уходит к друзьям на вечеринку, но я знала, на самом деле она была в каком-нибудь пабе, пила спиртное, играла на гитаре, крутила любовь. Домой всегда возвращалась не раньше полуночи, но я не раз слышала: через час стукает задвижка ее окна, и она снова исчезает. Я наблюдала за ней, я слушала ее, но разговаривать мы почти не разговаривали.
Тесс называла меня извращенкой. Говорила про дедушку за его спиной всякие гадости, смеялась над его фальшивыми зубами, над его неопрятностью, его одержимостью мертвыми животными. Она никогда не входила в его рабочий кабинет, и я видела, как она ускоряет шаг, проходя мимо птиц в гостиной и стараясь на них не смотреть; Тесс как будто боялась, что они вдруг оживут и бросятся на нее. Дедушка, похоже, сам не знал, как с ней общаться. Мы с ним нашли общий язык в таксидермии, но между ним и Тесс была пропасть, и тут сказывалась не только разница в возрасте. Это сводило меня с ума: то, как она говорила о нем, как кривилось ее лицо, когда она снимала с одежды собачий волос. Я очень хотела, чтоб она поскорее уехала и оставила нас с нашими занятиями одних.
Однажды вечером мы собрались все вместе на кухне обедать. Тут было уютней, чем в столовой, она была слишком велика, не протопить как следует. Бабушка стояла возле кухонной скамейки, чем-то помогала миссис Джи и вдруг раздраженно заворчала:
— Интересно, кого это принесло? Перси, там в саду кто-то есть. Пойди, посмотри.
Она покачала головой, и ее жемчужные серьги звякнули.
— Ей-богу, стоит там и смотрит в окно, как бродячая собачонка.
Дедушка вышел и через минуту вернулся вместе с рабочим фермы Джошем.
— И слушать ничего не хочу. Здесь, конечно, не намного теплей, но подкрепишься и согреешься.
Джош опустил голову и пожал плечами.
Бабушка сложила руки на груди.
— Ну, и что ты там делал, парень, признавайся?
— Простите, миссис Саммерс. Просто проходил мимо, и мне понравился вид у вас в окне, как вы сидите все вместе на кухне. Я вовсе не хотел подглядывать.
Миссис Джи поставила на стол еще один прибор и, похлопав его по плечу, усадила на скамью.
— Ладно, не болтай, Джош, — сказала она. — Тебе здесь рады. Думаю, ты давненько не ел домашней стряпни.
— Все тушеные бобы, — пробормотал он и умолк.
Места за столом Джошу понадобилось больше, чем всякому нормальному человеку, да и не удивительно. Ростом он был футов шесть с лишним и здоровенный — «как шкаф», сказал бы дедушка и еще что-нибудь при этом прибавил бы, не будь рядом бабушки. От одного взгляда на него я почувствовала себя совсем крохотной и вся съежилась на своем месте. Чужой человек — по крайней мере, для меня он был чужой — сразу изменил атмосферу за столом, все продолжали есть молча, кроме Чарли, который пытался произвести на Джоша впечатление какими-то ужасными анекдотами (и где он только таких нахватался), с набитым ртом говорил на разные голоса и болтал ногами. Я сжала зубы и внутренне только постанывала. Джош из вежливости смеялся. Тесс ковырялась в тарелке и бросала кусочки мяса на пол собаке. Она открыто пялилась на Джоша. Он через некоторое время тоже стал на нее поглядывать.
— А с кем вы там живете? — вдруг спросила она.
Вопрос застал Джоша врасплох с куском во рту, но, перед тем как ответить, ему удалось его проглотить.
— Один… иногда еще кое-кто из парней, — ответил он. — Стригали.
— И вам там одному не скучно?
Тесс демонстративно не обращала внимания на бабушку, мечущую на нее предостерегающие взгляды. Одно дело получать от них помощь на кухне, а совсем другое — устраивать им такой допрос.
— Да нет, вообще-то.
— У вас бывают вечеринки, танцы?
Джош затравленно посмотрел на дедушку, словно это старик загнал его в ловушку.
— Да нет… иногда только.
Он откинул черные волосы со лба, открыв густые, кустистые брови.
— Так, соберемся иногда, пивка попьем. Не больше.
— Ничего, сынок, — сказал дедушка. — Имеешь право и повеселиться иногда. Знаю, порой там бывает скучновато и одиноко, и у вас у всех много работы. Но вы молодцы.
Он улыбнулся, и я подумала, интересно, заметил ли кто еще, кроме меня, как затряслись у него во рту фальшивые зубы.
После обеда дедушка достал игру-викторину, в которую мы играли так часто, что все ответы знали наизусть.
— Останешься? Поиграем… — сказал дедушка.
Бабушка фыркнула и вышла, прихватив свою пачку сигарок; миссис Джи убирала пустые тарелки.
— Нет, я лучше пойду, — сказал Джош. — Рано вставать и все такое. Спасибо, мистер Саммерс, за обед. Было очень вкусно.
— Пожалуйста, — ответил дедушка. — А знаешь, Джош…
Джош уже стоял у двери и совал ноги в резиновые сапоги. Он оглянулся.
— Я давно к тебе присматриваюсь. Ты хорошо работаешь, очень хорошо. Продолжай в том же духе. У меня есть на тебя кое-какие виды, сынок.
На смуглых щеках Джоша проступила краска. Он еще раз благодарно кивнул, бросил последний взгляд на мою сестру — ссутулившись над столом, она накручивала на палец прядь своих длинных, темных волос — и вышел.
— Бедный парень, — сказал дедушка, садясь. — Родители умерли. Молчаливый больно, но мне кажется, мальчик он неплохой.
Оглядываясь на прошлое, помню, как я была озадачена, когда дедушка назвал его мальчиком. Ему ведь уже было за двадцать. Теперь-то я понимаю, что к чему: люди дедушкиного поколения и общественного положения всегда, не задумываясь, так обращались к представителям низших классов, так уж это сложилось.
Это случилось в следующие школьные каникулы, в августе. Август — месяц окота овец, и дедушка редко бывал дома. Однажды утром он взял всех нас с собой, и я, помню, очень удивилась, что и Тесс с большим удовольствием отправилась с нами. Шел дождь, всем нам выдали плащи и резиновые сапоги. Накрашенные ресницы Тесс раскисли и поплыли. Нас усадили в кузов «Лендровера» вместе с собаками; Чарли был спокоен и немного бледен, на этот раз его неиссякаемый фонтан шуток и острот не работал. Я стояла, ухватившись за перекладину, подпрыгивая на колдобинах дороги, как серфер на волнах, и подставив лицо каплям дождя.
Джош стоял над овцой; готовая вот-вот родить, она едва шевелилась. Как только «Лендровер» остановился, Тесс подбежала к нему, и они что-то успели сказать друг другу; потом она шагнула в сторону и уступила место дедушке, склонившемуся над страдающим животным.
— Считай, мы ее потеряли, — сказал он.
Он внимательно осматривал ее со всех сторон, особенно сзади, откуда показался какой-то красный шарик. Чарли постоял-постоял с отвисшей челюстью, развернулся, побежал обратно к машине, залез в кабину и больше не вылезал. Тесс же стояла на месте, лицо ее было скрыто огромным капюшоном, она вертела на пальцах серебряные колечки, чуть ли не по нескольку на каждом пальце.
Я присела рядом с дедушкой, чтобы видеть все ближе. Он крепко ухватился за шарик и потянул на себя. С громким хлюпаньем (так хлюпает под ногами грязь) на траву выпал ягненок, окруженный месивом крови и пуповины. Овца в последний раз глубоко вздохнула и замерла.
— А что будет с ягненком? — спросила Тесс.
Глаза ее покраснели. Джош быстро двинулся к ней и встал рядом, и она прислонилась к его большой фигуре. Он погладил ее по спине, но, заметив, что дедушка смотрит, отдернул руку и шагнул в сторону так резко, что Тесс чуть не упала. Дождь все не переставал, непрерывно шелестя по капюшону моего плаща.
Ягненка в конце концов спасли. Его подсунули к овце, потерявшей собственного ягненка. Поначалу боялись, что она не примет его, но, должно быть, слишком велико было желание кормить, и скоро она уже вылизывала приемыша и давала ему сосок.
Когда настало время возвращаться домой, дедушка приказал Тесс сесть на переднее сиденье рядом с ним. Не знаю, о чем они там говорили, но догадываюсь. Я наблюдала за ними через заднее стекло. В основном говорил дедушка. Свои слова он сопровождал оживленной жестикуляцией. Тесс сидела сгорбившись и сложив руки. Один раз только возвысила голос.
— Да, ладно, хватит уже! Я все поняла!
После этого, кажется, они не проронили ни слова. Она уставилась в боковое окошко, а дедушка только один раз протянул руку и потрепал ее по плечу. Когда машина остановилась возле дома, Тесс выскочила и побежала прямо в свою комнату, где провела остаток дня, пока дедушка ездил обратно на ферму, а я работала с горностаем, которого принесла домой одна из наших собак.
Через пару дней, уже после полудня, я вышла из рабочего кабинета и обнаружила, что в доме никого нет. Я прошлась по всем комнатам, пытаясь найти хоть кого-нибудь, но везде было пусто. Даже миссис Джи на кухне не было. Я выглянула в окно и увидела, что ее машины во дворе тоже нет, должно быть, она уехала в город; но куда подевались все остальные? Не было в своей комнате даже Тесс, и в библиотеке тоже, и я понятия не имела, где ее искать.
Тогда я решила забраться на башню и посмотреть сверху, оттуда все кругом отлично видно. Я сразу увижу, удрал ли Чарли с местными мальчишками кататься верхом, на каком лугу дедушка. Дожди кончились, и все успело подсохнуть, и, хотя в небе нависали серые тучи, от которых всего можно было ждать, бабушка тоже, вероятно, возится в саду с весенними цветами, которые уже успели расцвести.
На лестнице, ведущей на самый верх башни, было, как всегда, тихо и темно, я нащупывала ногой в носке каждую ступеньку и медленно, очень медленно продвигалась все выше. Мне почему-то всегда казалось, что когда-нибудь я обязательно поскользнусь и упаду вниз, и буду неподвижно лежать на полу, пока меня не найдут, поэтому старалась ступать как можно более осторожно.
Открыв дверь, я с удивлением обнаружила, что все ставни на окнах закрыты. Я подошла к ближайшему окну, чтобы впустить свет, как вдруг услышала негромкий звук, словно кто-то сглатывал слюну и едва слышно дышал. Я обернулась на звук.
В полумраке неожиданно проступила бледная фигура с пышными бедрами и тонкой талией. Распущенные, длинные и темные волосы падали на плечи, а на спине, чуть пониже шеи, виднелся рисунок. Это был повторяющий изгибы спины рисунок птицы с длинным дугообразным клювом, коготками вцепившейся в тонкую ветку. Крылья расправлены. А под ней силуэт большой, загорелой руки, лежащей там, где начинались ритмически вздымающиеся и опадающие ягодицы. Но эта рука не была татуировкой. Она едва заметно двигалась, лаская нагое женское тело.
Я стояла там всего несколько секунд, стараясь сообразить, что все это означает. Наверное, мое присутствие почувствовалось: изогнувшись всем телом, женщина повернулась в мою сторону, и я смогла различить ее голую грудь прежде, чем глаза наши встретились. За ней — и под ней — виднелась большая фигура затаившегося Джоша.
— Пошла вон, Розмари, — сказала Тесс. — Убирайся, слышишь?
Не знаю, почему, но я застыла на месте, как громом пораженная. Не знаю, что меня потрясло больше: зрелище голой Тесс, лежащей на Джоше, или огромная татуировка у нее на спине? Возможно, до меня вдруг дошло, что она больше не ребенок. Мой организм еще только-только стал меняться, в теле едва наметились перемены, а у нее оно уже обрело все формы взрослой женщины. Я стала все это понимать гораздо позже, когда мне попались в руки книги, которые она тогда читала. Она настолько глубоко прониклась атмосферой «Грозового перевала», что, увидев Джоша в саду, а потом за обеденным столом, Тесс подумала, что перед ней явился сам Хитклифф. И ее роман с Джошем, как и роман тех несчастных любовников, был под запретом, поэтому они встречались тайно, украдкой в башне, когда никого не было дома. Кроме меня.
Она скоро спустилась вниз и разыскала меня.
— Попробуй кому-нибудь рассказать, — пригрозила она.
Я сидела в кровати, закутавшись в одеяло, и старалась согреться, я почему-то очень замерзла. Чего нельзя было сказать про Тесс: щеки ее пылали.
— Это ты о чем? — спросила я. — О татуировке или о том, чем вы там занимались с Джошем?
Она тяжело опустилась на мою кровать и закатила глаза в потолок.
— Ты все равно ничего не поймешь. Ты еще маленькая.
— Нет, не маленькая, — ответила я.
Но рядом с ней, как ни крути, я чувствовала себя маленькой. Глаза ее были густо подведены краской, в ушах серебряные кольца, на пальцах тоже. А я все еще коротко стригла волосы, чтоб не мешали, и упорно отказывалась признавать, что скоро мне понадобится лифчик. А тут еще татуировка. Я представить себе не могла такого надругательства над собственным телом. Я вспомнила, как она насмехалась над дедушкой, старалась не смотреть на птичьи чучела, а вот, оказывается, изображение одного из них она носит на спине. Она не заслуживала чести жить в этом доме.
Когда дед вернулся, я все ему рассказала. Никогда не забуду, как он при этом на меня смотрел. Лицо его словно провалилось. Он пришел домой радостный, и вот вся радость его в один момент испарилась. Он ничего не говорил, просто слушал, но у него было такое лицо, что, мне казалось, он сейчас меня ударит. Я испугалась и убежала наверх. Сидела в своей комнате, обхватив руками колени, и плакала, слушая крики Тесс. Хлопнула дверь. По коридору прогрохотали тяжелые шаги и замерли у моей комнаты.
— Долбаная сучка, Розмари, вот ты кто! — прокричала она за дверью. — Ненавижу тебя, до конца жизни буду ненавидеть!
Она не спустилась к обеду, который прошел почти в полном молчании. Даже Чарли не проронил ни слова. Он только изредка поглядывал на нас, то на одного, то на другого. Чарли понимал, что-то случилось, но понимал также, что лучше не задавать лишних вопросов. Пообедав, дедушка вытер губы и встал.
— Завтра первым автобусом Тесс уезжает домой, — сказал он. — Кто хочет отправиться с ней?
Мы с Чарли сидели, не говоря ни слова, но сердце мое стучало все сильней. «Только не я», — повторяла я про себя снова и снова. Удовлетворенный, дедушка вышел из кухни.
У меня много причин чувствовать себя виноватой. Выезжай я почаще кататься верхом, вместо того чтобы сидеть в четырех стенах, пытаясь дать новую жизнь мертвым животным, у Лили бы в то утро не вскружилась голова от весенней травки, она бы не испугалась и не бросилась бы через ограждение пастбища. Попридержи я язык, дедушка ничего бы не узнал, а значит, не рассердился бы на Тесс и не заставил бы ехать на утреннем автобусе в город. И она не вскочила бы ни свет ни заря, не помчалась бы к Джошу прощаться, а заодно рассказать, что младшая сестренка продала ее.
Я пытаюсь связать в единое целое события того рокового утра, воссоздать то, чего не видела. Я знала, что Тесс провела беспокойную ночь. Я слышала, как она металась за стенкой по комнате. Плакала. Я уснула, мне снилась ее голая спина, с которой срывается таинственная птица и бросается на меня, и я бегу к винтовой лестнице, спотыкаюсь и падаю вниз.
Как только на горизонте появляется серебристая полоска, она встает, потеплей одевается, натягивает на уши вязаную шапочку. Крадется в ванную комнату, чтобы сходить в туалет и накрасить глаза — прежняя краска осталась вся на подушке. Выходит через черный ход, убедившись, что миссис Джи еще не встала затапливать печь, надевает высокие бабушкины резиновые сапоги; своих у нее нет. На дворе густой туман, в ветвях тополей птицы еще робко подают голоса. Она идет на конюшню, хватает уздечку, но забывает прихватить морковку, чтобы угостить лошадей. Лошади ждут, когда она подойдет поближе, поворачиваются к ней задом и, взбрыкнув, убегают. Только Лили подпускает ее к себе, кроткая, добрая Лили, и, значит, на Лили надевается уздечка, на ее гнедую головку; Тесс ведет ее к мостику через ограду, чтобы забраться на ее неоседланную спину. Не знаю, почему Тесс не проводит ее через калитку и не садится на нее уже потом. Могу только догадываться, что она не хочет ехать этим путем, боится, что топот копыт Лили по гравию всех разбудит. Она знает, что дедушка всегда встает рано, крестьянский труд не позволяет спать до полудня, все в деревне встают с петухами.
Может быть, она хочет пройти через дальнюю калитку, которая ведет прямо к реке? Не тогда ли Лили пугается и, закусив удила, бросается на изгородь? Или сама Тесс заставляет ее это сделать, потому что прыгать через калитку слишком высоко для такой маленькой лошадки, привыкшей перепрыгивать только через стволы поваленных деревьев? Как бы там ни было, Лили прыгает, но безуспешно. Ее передние ноги попадают в проволоку, запутываются в ней, и она всем весом обрушивается на задние ноги. Не удержавшись на голой спине лошади, Тесс летит вперед, падает на землю и головой ударяется о камень.
Я знаю, что уже рассказывала про это, но тогда я говорила только про смерть Лили. Я понимаю, что в тот раз я опустила важную деталь — по другую сторону ограждения лежала мертвая Тесс. Но я не смогла еще раз пережить весь этот ужас: ведь в то утро сестра вышла из дома по моей вине! Хватит того, что все эти годы меня преследовал звон проволоки, в которой запутались копыта Лили.
Я не знаю, стало ли известно Джошу, что я выдала их тайну и Тесс в то утро должна была уехать. Разумеется, дедушка не догадался, что рабочий фермы тоже страдал от утраты любимого человека, и пока не собралась вся семья, приказал ему похоронить Лили. Я видела горе Джоша, об этом говорили не только его опущенные плечи: с большой неохотой он взялся исполнять дедушкино поручение, зато уж отомстил бедной лошадке за свою утрату. Или это он мстил мне, зная, как я любила свою Лили?
Дедушка корил за случившееся себя, это я тоже знаю. А когда мы перестали к нему приезжать — думаю, такое моя мать придумала ему наказание, — жизнь из Сорочьей усадьбы ушла, как ушла из дедушкиных узкопленочных любительских фильмов. Я очень скучала по Сорочьей усадьбе. Скучала по дому, скучала по дедушке, по таксидермии, поэтому, думаю, и занялась снова чучелами, когда закончила школу. Скучала и по Тесс и в память о ней сделала себе первую татуировку — подкову, а под ней ее имя, ту самую, что мать посчитала столь отвратительной. Я не могла воскресить ни Тесс, ни Лили, как это сделала с сорокой в тот первый раз, а потом и с другими животными, много их было, так что татуировка для меня явилась единственным способом хоть как-то сохранить их в живых. И это всегда служило мне напоминанием: memento mori. Я знаю, Тесс пришлось бы это по душе, как пришлось бы по душе и все остальное: мои татуировки, мои книги, мои любовники. С тех пор всю свою жизнь я стараюсь, чтобы это было именно так.
ГЕНРИ
Сороки. Он перебил этих мерзких птиц, всех до единой. Он не собирается делать из них чучела; одни разорваны в клочья и все в крови, другие закрыли глаза, сложили крылышки и словно спят. Но они появляются снова. Сколько бы он ни стрелял, через несколько дней вместо прежних являются новые и занимают их территорию. Захватчики. Прежде ведь их здесь не было, как и кроликов и других тварей, они прибыли сюда без приглашения местных птиц и зверей. И несут в сердцах своих смерть.
Дора лежит на высоком столе. Платье ее совсем высохло, но в волосах все еще сохранились влажные завитки; лицо синее, как яйца малиновки. Ему так хочется накрыть ее одеялом, согреть, подложить под нее что-нибудь мягкое, но он понимает, что лучше оставить ее в этой комнате с давно погасшим камином и запереть дверь. На холоде, который обеспечит ему еще какое-то время.
Он не в силах оторвать от нее глаз. Кажется, на нее смотрят и все остальные: млекопитающие, рептилии, птицы — все они не отрывают глаз от его жены и ждут, что будет дальше.
Он берет ножницы и начинает разрезать ее платье. Плотная шерстяная ткань режется легко, от низа юбки вдоль ног к талии и дальше к лифу. Здесь приходится потрудиться, мелкие сборки, придающие платью форму, поддаются плохо, но он скоро справляется и с этим; теперь платье можно распахнуть.
Он поднимает ей руку, режет рукав. На бледной коже запястья ярко проступает обвившаяся вокруг змейка. Он подносит ее руку к губам и целует татуировку, задержав губы на холодной, как рыба, коже.
На память ему приходит утро, когда Дора в лучах утреннего солнца лежала на кровати, с восторгом смотрела на свое тело, нисколько его не стесняясь.
— Как это красиво, какие яркие краски, — говорила она. — Интересно, они когда-нибудь побледнеют?
— Нет, если будешь закрывать, — отвечал он. — На солнце они бледнеют.
— А когда я постарею, — спрашивала она, поглаживая татуировки, — они станут дряблыми? Покроются морщинами?
— Все мы постареем, любовь моя, — отвечал Генри, протягивая руку и лаская ее. — Твое красивое тело тоже изменится, и эти рисунки вместе с ним.
Она перевернулась на живот и засмеялась.
— Тогда я не хочу стареть, — сказала она. — А когда умру, ты поставь меня на полку, рядом с твоими птицами, и я всегда буду с тобой, юная и гладенькая, и мои наколки будут всегда яркими и красивыми.
Как больно теперь вспоминать об этом. Дора, конечно, не могла этого предвидеть, ни в коем случае. А татуировки принадлежат только ей и ему, никому больше. Он знает, что стоит объявить о ее смерти, будет дознание, и ее разрисованное тело станет для всех притчей во языцех. Разразится скандал. Нет, он не станет порочить в здешнем обществе ее имени и ее репутации. Самому ему на репутацию наплевать, но она здесь родилась, и здесь навсегда останется память о ней. Надо подумать и о ее бедном отце; узнав о смерти своего единственного ребенка, он может не выдержать и умереть от горя.
Итак, решено. Он скажет всем, что она утонула, да-да, он собственными глазами видел, как ее смыло бурным потоком реки; он пытался спасти жену, но бешеная река не захотела возвращать ее. Он бежал за ней что было сил, но воды реки мчались слишком быстро, и он не смог догнать ее. Они поймут, все они теряли скот в подобных обстоятельствах. Потом находили их тела, раздутые и разложившиеся, зацепившиеся за какую-нибудь ветку дерева или плавающие где-нибудь в омуте со стоячей водой за много миль вниз по реке, но ведь бывало, что они исчезали без следа. Возможно, обглоданные угрями, их кости до сих пор лежат на илистом дне реки или унесены в море. Такой станет и судьба Доры.
С трудом он переворачивает ее тело, перерезает шнуровку и снимает корсет. Потом сорочку. Татуированная гуйя словно оживает, ее красные и черные пятна ярко выделяются на обескровленной коже. Это поистине настоящий шедевр. Он слишком хорош, чтобы закапывать его в землю. Он смотрит на татуировку, и в памяти его одна за другой всплывают картины, как он выследил и убил эту птицу, дал ей новую жизнь и привез домой, чтобы подарить Доре. Как гудела электрическая иголка, выводя рисунок на ее коже, как ударил в ноздри острый запах ее выступившего от волнения пота, когда он взял ее за руку. Как несколько дней после этого у нее кружилась голова, словно она вместо воды пила шампанское.
Он выловил ее тело на мелководье неподалеку от брода. Увидев, что она неподвижно лежит в воде лицом вниз, он утратил последнюю надежду. Сел рядом с ней прямо в ледяную воду, все еще не веря собственным глазам. Всего час назад она была живой и теплой, он чувствовал на себе ее горячее дыхание, когда она кричала на него. Как ей могло прийти в голову, что причина их смерти он, ведь это всего лишь медицинские экспонаты? Что хранил их в своей коллекции он потому, что у него злое сердце? Женщина, она просто не поняла — но почему он позволил ей убежать из дома, почему допустил это… как теперь ему жить? Одному. Без нее.
Когда она выбежала из дома, он пошел за ней, но не очень-то торопился. Он звал ее, кричал ее имя сквозь дождь, но если она и слышала его, то не остановилась. Ах, ему бы поторопиться, может быть, он помешал бы сорокам напасть на нее. Он видел, как целой стаей они кружили вокруг нее, беспомощно смотрел, как она упала в воду, как бурным потоком ее пронесло мимо. Но уже тогда ее легкие, скорей всего, были уже наполнены водой, и она потеряла сознание.
Дрожа, он вытащил ее из реки и погрузил на лошадь. Ему удалось незаметно внести ее в дом, никто ничего не видел. И вот теперь он стоит перед ней, держит в руках клочья ее платья, нагое, холодное тело ее лежит перед ним на рабочем столе.
Он снова переворачивает ее на спину и смотрит на ее обнаженный живот, на выколотую птичку колибри. И тут замечает в ней что-то странное. Непривычное для взгляда. Она очень исхудала, пока он был в путешествии, сейчас это особенно видно, но живот у нее выпирает, даже когда она лежит на спине, вздымается над ее бедрами, мягкий и полный. Не может быть! Споткнувшись, он делает шаг назад, оглядывается, шаря по комнате взглядом, чем бы прикрыть ее тело, и видит старую простыню, которую он рвал на тряпки. Набрасывает на нее эту простыню, и рука его невольно ложится ей на живот; он пытается представить себе эту новую жизнь, которая, возможно, еще недавно развивалась здесь. Глаза его застилают слезы.
— Что я наделал, — бормочет он.
Генри снова вспоминает, каким исполненным глубокого отчаяния было ее лицо, когда он пытался ей объяснить, откуда взялись его образцы в банках; можно было догадаться, что чувство ее во многом было продиктовано процессами, происходящими в ее собственном организме. Неудивительно, что она посчитала его чудовищем. Ах, если б знать, он бы сделал все, чтобы Дора ни за что не добралась до этих злосчастных банок.
Но теперь поздно. Теперь она мертва, как и ее ребенок. Сейчас ночь, и он понимает, что уже ничего не изменишь. Генри выходит из комнаты, предварительно проверив, что все шторы плотно закрыты, и запирает за собой дверь.
Сон его лихорадочен и прерывист, его бросает то в могильный холод, то в жар, от которого тело покрывается липким потом. Окно дребезжит от сильного ветра, словно кто-то пытается проникнуть внутрь; он просыпается, в испуге видит рядом пустую постель, и ему кажется, что это Дора стучит в окно и умоляет его впустить. Неверными шагами он подходит к окну, раздвигает шторы и распахивает окно.
— Дора! — кричит он в темноту, но ему отвечает один лишь ветер.
Он вдруг вспоминает, что в кабинете таксидермии лежит ее холодное тело с припухшим животом, тело беременной женщины, и грудь его сжимается от ужаса и жалости.
— О, Дора Коллинз, да не упокоится душа твоя, да будет она преследовать меня все мои оставшиеся дни!
Ветер отвечает ему долгим, заунывным свистом.
— Дора, — повторяет он, на этот раз тише.
Рука его ложится на оконную раму; помедлив, он закрывает окно и снова плотно задергивает шторы.
Он знает, что надо делать.
В церквушке на холме по Доре служится заупокойная месса, хотя тела самой усопшей при этом нет. Отец Доры принимает новость очень тяжело. Узнав, что она утонула, он отказывается верить в ее гибель, и, миля за милей, обследует каждый дюйм реки; он и не подозревает, как было все на самом деле.
Когда Коллинз спрашивает, знал ли он, что она беременна, Генри лжет, отвечает, что знал. А ведь могло быть все по-другому! Он отворачивается, не в силах смотреть на убитого горем отца.
Во дворе церкви устанавливают памятный камень, чтобы те, кого она любила, могли приходить и поминать ее, молиться о ее душе, отошедшей в лучший мир.
А в это время Дора лежит в рабочем кабинете Генри. Когда все ритуалы заканчиваются, отбывает последний гость (все сидели в гостиной и пили шерри, не подозревая о том, что она лежит за стенкой), Генри наконец-то может побыть с ней наедине.
Он не станет сохранять ее тело полностью, это было бы нелепо. На ней нет шерсти, как на зверях, или перьев, как на птицах, кожа ее на костях ссохнется, как у египетских мумий, потемнеет и станет жесткой, обтянет череп, и прекрасное лицо ее обезобразится. Но вот рисунки на ее коже… о, это совсем другое дело. Он похоронит ее останки вместе с неродившимся ребенком рядом с памятным камнем, и никто об этом не узнает. Но татуировки он сохранит, как она сама этого хотела, и она навсегда останется с ним. Он будет хранить это в тайне, хранить всю оставшуюся жизнь. Это будет жемчужина его коллекции диковинок. И, в конце концов, она сведет его с ума, в этом сомневаться не приходится. Что ж, пусть будет, как будет.
В холодной комнате, заперев дверь на ключ, он берет в руку скальпель и начинает работать.
Розмари
— Я пойду и поговорю с ним, — сказал Чарли, но еще долго не двигался с места, переминаясь у телефонного столика с ноги на ногу.
— Нет, — сказала я. — Пойду я. А ты оставайся там и не спускай с нас глаз.
Я отбросила старое теплое одеяло и кое-как встала с дивана.
Я знала, что эту битву должна выиграть я. Не желаю, чтобы меня вечно спасали, ни Чарли, ни Сэм, ни Хью. С этим противником я должна встретиться лицом к лицу сама.
Покачиваясь на каблуках, Джош наблюдал, как я иду к нему, и встретил меня молча, лишь шевеля бровями и плотно сжав потрескавшиеся губы. Вот уже двадцать лет я не подходила к нему так близко. Лицо его еще сохранило черты, знакомые мне с юности, но под воздействием времени и непогоды высохло и покрылось морщинами. Тронутые сединой волосы были все такие же густые. Ему теперь было уже под сорок, и в нем не осталось и следа былой неуверенности в себе, когда он был простым рабочим на ферме, юношей, потерявшим родителей. Теперь передо мной стоял человек, на плечах которого лежит ответственность и за большое хозяйство, и за себя, и за свою семью.
Я оглянулась и увидела в окне Чарли: он сидел на диване и наблюдал за нами. Неожиданно он показался мне совсем маленьким, я увидела в нем того веснушчатого мальчишку, который сидит и послушно поджидает свою сестру. Я не могла не думать о том, что он согласился отпустить меня так сразу, не споря и не задавая лишних вопросов. Интересно, думала я, что он знает о том, что случилось много лет назад с Тесс. Я его об этом никогда не спрашивала.
— Джош, — начала я, подойдя к нему, но сохраняя дистанцию.
— Розмари, — отозвался он.
— Ты видел, кто убил сороку?
Он оскалился, обнажив прямые зубы с налетом никотина.
— Да, видел, конечно.
— И ты скажешь мне, кто это был?
— Думаю, вы и сами знаете.
— Хорошо.
Было довольно холодно, и я сложила руки на груди. Солнце уже успело сесть за холмы.
— Так, значит, это все-таки был ты? Рыскал тут вокруг дома.
Он вдруг сплюнул на землю.
— Вы так говорите, будто я делал что-то дурное.
И тут я вышла из себя.
— Пошел ты к черту, Джош. А как еще это называть — мертвая птица, прибитая к двери, мертвый опоссум на пороге, а? Чего в этом хорошего, может, объяснишь?
— Пожалуйста. Я просто хотел попугать вас немножко. Это шутка, не больше.
— Интересно, зачем? Если без дураков?
Он старался не смотреть мне в глаза. Пялился на крышу дома, где за нами наблюдали, устроившись на дымовых трубах, сороки. Ответ его явился для меня совершенным сюрпризом. Он произнес это так тихо, что сначала я сомневалась, правильно ли его поняла:
— Вы знаете, я очень любил вашего дедушку. Он был для меня как отец.
— Что ты сказал? Ты любил дедушку?
Тут он все-таки посмотрел мне в глаза, и лицо его покривилось.
— Я тут с ним только один и остался. Вы ведь все бросили его на эту сиделку, Сьюзан. А я приходил к нему каждый день.
Он ткнул себе большим пальцем в грудь.
— Я, понимаете? Меньше занимался работой, конечно, но ведь он для меня был важнее всего. А вы все оставили его тут одного умирать.
Кровь ударила мне в голову.
— Это неправда, что ты несешь? Я была с ним очень близка.
— Да, вы были с ним близки, когда-то. Ведь он мне все об этом рассказывал. Про то, как вы с ним набивали чучела. Как перестали приезжать после того… после того, как она умерла. Вы и вся ваша семейка. Это разбило его сердце. Знаете, я наблюдал за вами со стороны… вы были большой и счастливой семьей. В тот вечер, когда вы меня пригласили, я не первый раз подглядывал за вами и не последний, конечно. Но когда она умерла, вы просто перестали сюда приезжать. И он стал приглашать меня, давал мне теплую одежду, кормил. И я вдруг перестал быть человеком, который смотрит со стороны. Вы просто все бросили. И его бросили.
— Разве не понимаешь, как это было для нас тяжело? Для моих родителей? А от меня мало что зависело. Но я все-таки вернулась в Новую Зеландию, чтобы быть рядом с ним.
— Да не очень-то рядом. Он говорит, что не узнает вас больше. Что он бы хотел, чтобы вы оставались маленькой девочкой и он мог бы с вами разговаривать.
Я вспомнила, что, когда я была с ним незадолго до его смерти, он то и дело заговаривал о прошлом, когда я была еще маленькая, еще до Тесс. Мы говорили и про мои занятия таксидермией в Лондоне, но как я там жила, он не спрашивал. А я не рассказывала: о чем можно было говорить? О своих неудачах в личной жизни? О татуировках? О том, что я винила себя в смерти Тесс, как, впрочем, и он тоже?
— А он когда-нибудь говорил про нее? Про Тесс?
Джош опустил голову.
— Нет, в общем-то, никогда. Он не сразу сказал мне, что в тот день отослал ее в город, прошло много времени, когда он сообщил мне об этом. Потому что винил во всем себя. Сначала он вообще не хотел говорить об этом, тем более со мной, но когда он понял, как сильно я ее любил…
— Так ты, выходит, любил ее.
Я не могла удержаться от насмешливого тона.
Он бросил на меня решительный взгляд.
— Да, любил, очень любил.
— Брось трепаться, она ведь была еще совсем ребенок. Ей было только шестнадцать лет… А ты был уже взрослый парень. Нашел с кем связаться.
Он смотрел на меня во все глаза и молчал. Потом пожал плечами.
— Действительно, нашел с кем связаться. Но не знаю… Она произвела на меня такое впечатление… Голова закружилась. Я очень в нее влюбился. Это было какое-то опьянение.
— Джош, это было двадцать лет назад. Теперь у тебя жена. Семья. Разве они для тебя ничего не значат?
— Конечно, значат, — проворчал он. — За кого вы меня принимаете? При чем здесь Тесс, вы что, ничего не поняли? Эта девушка… она для меня как наваждение. Я до сих пор вижу ее, как живую, все время, постоянно. Особенно с тех пор, как умер Перси и я узнал, что все вы хотите избавиться от фермы.
Он закашлялся.
— И от меня тоже.
Услышав это, я чуть не задохнулась.
— Что ты мелешь, ты хочешь сказать, что в самом деле видишь ее?
— Я хочу сказать, что видел, как она гуляла в холмах. Смотрела, как я работаю. Видел ее в башне.
— В башне, значит. И поэтому тоже суешь туда нос? Спишь там или еще чем занимаешься?
— Сплю? Не-е. Просто иногда поднимаюсь наверх и разговариваю с ней. Рассказываю про вашего дедушку. Про все, что он мне обещал, и про то, что, как приехали все ваши, все коту под хвост.
— А матрас? Это что, для тебя возможность предаваться ностальгии, устраивать себе вечера воспоминаний? О том, как вы там в последний раз…
Я не стала продолжать. Не хотелось говорить об этом.
— Ну, да, ведь здесь я в последний раз видел ее живой. Мы с ней были счастливы. Пока не пришли вы.
— А что там ты говорил про какие-то дедушкины обещания, что он тебе обещал?
— Что ферма останется, как она есть. Что у меня всегда будет работа. Что дом этот будет все равно что мой собственный. Но, думаю, на самом деле он и не думал ни о чем таком, когда писал завещание.
— Конечно, не думал. Не болтай чепухи. Это собственность нашей семьи, уже много поколений. С какой стати он будет оставлять его тебе?
Джош молчал.
— Ты заходил в дом, когда я была здесь, верно? Это ты переставил в тот день гуйю?
— Я просто следил за порядком. Заводил часы. Ну, и все такое.
— И заодно пытался запугать меня, чтобы я уехала, так, что ли?
Он снова пожал плечами.
— Я уже сказал, это была шутка.
В голосе его было все, что угодно, кроме веселости, и ни следа веселости в лице. Он был ужасно серьезен в эту минуту.
Больше говорить было не о чем. Дом отремонтируют и перестроят, ферму разделят и продадут, сохранит он работу или нет, неизвестно. Скорей всего, нет, когда родственники узнают, что он тут вытворял. И я здесь поделать ничего не могу. Я повернулась и собралась уходить, переглянувшись со стоящим у окна и наблюдающим за нами Чарли. Он помахал мне рукой.
— Вы не заслужили того, чтобы находиться здесь, одна с Тесс. Я хотел, чтобы вы уехали. Я хотел, чтобы она была только со мной. Поэтому и старался напугать вас, — проговорил он мне в спину.
Я остановилась, но оборачиваться не стала.
— В тот день она ведь хотела со мной повидаться, правда? — продолжал он.
Я все еще стояла к нему спиной и смотрела в сторону дома, на башню.
— Я-то откуда знаю?
— Она собиралась повидаться со мной, попрощаться, потому что вы на нее наябедничали и ее отослали в город.
Я повернулась и с удивлением увидела в его глазах слезы. Я старалась говорить как можно спокойней:
— Забудь об этом, Джош. Я была еще маленькая. Да и она тоже.
— Это все чушь собачья! — взорвался он. — Вы прекрасно знали, что делаете. И я знал все. Я в тот же день уже знал, что во всем вы виноваты.
— Прекрати, — сказала я. — Ни в чем я не виновата.
И тут я не выдержала и заорала, я бросала ему в лицо лживые слова, лгала Джошу, лгала себе самой:
— А ты нашел, с кем связаться! Взрослый парень, затащил в постель девчонку, ведь она была еще совсем девчонка!
Потом бросилась на него и отвесила ему пощечину. Он отпрянул, удивился и двинул меня кулаком по носу.
У меня потемнело в глазах, и я упала на холодную грязную траву. В лице пульсировала тяжелая, острая боль, и из носа хлестала кровь прямо мне на колени. Джош снова шагнул ко мне, и я подумала, что сейчас он добавит мне еще и ногой, но вдруг послышался топот быстрых ног по траве, кто-то метнулся к нему и сбил его с ног. Наверное, Чарли, подумала я, но чьи-то мягкие руки подхватили меня и подняли на ноги, и я оказалась в объятиях брата, в то время как Джош возился на земле, отбиваясь от кого-то еще.
Ну, да, это Сэм, кто же еще.
Руки их мелькали в воздухе, как крылья мельницы, и Сэм оказался сверху этого гораздо более крупного, чем он сам, мужчины. Чарли пытался отвести меня подальше, а они все катались по земле, обмениваясь ударами и меняясь местами, и, наконец, остановились, и Джош оседлал своего рабочего. Сэм брыкался, изгибая спину и стараясь сбросить его, но бесполезно.
— Хватит, хватит! — кричал Джош ему в лицо.
Сэм перестал сопротивляться. Он бросил на меня взгляд широко открытых глаз и резко повернул голову туда, откуда он прибежал. Я посмотрела в ту сторону. В нескольких метрах от лежащих на земле и уставившихся друг на друга мужчин валялась винтовка. Меня тошнило, кружилась голова, ноги казались странно легкими, но я освободилась от объятий Чарли, подошла и взяла в руки оружие. Наставила ствол на Джоша, хотя было страшно даже прикоснуться к спусковому крючку. Я молилась в душе о том, чтобы винтовка стояла на предохранителе.
— Отпусти его, — сказала я, обращаясь к Джошу.
Он медленно повернул голову и посмотрел на меня. Отпустил руки Сэма, но по лицу его было видно, что он нисколько не встревожился, скорее, это его забавляло.
Чарли, напротив, казалось, очень перепугался.
— Положи ее, Рози, — сказал он. — Что ты делаешь, черт возьми?
Освободившись от рук Джоша, Сэм перевернулся на бок и кое-как встал. Подошел ко мне и взял у меня винтовку, стараясь направлять ствол в сторону от людей.
— Ты в порядке? — спросил он.
Я кивнула. Но в рот все бежала кровь, а через несколько секунд в глазах заплясали звездочки.
— Все это дерьмо собачье, — сказал Джош, вставая.
Колени и руки его были перепачканы грязью. Он неуверенно посмотрел на меня.
— Простите меня, — сказал он, повернулся и зашагал прочь.
Мы смотрели, как его широкая спина удаляется в сторону посыпанной гравием дорожки и исчезает там, где в полумраке сумерек я заметила за деревом его припрятанный квадроцикл.
— О чем тут у вас сыр-бор? — спросил Сэм, но Чарли оттолкнул его и, подцепив пальцем за подбородок, приподнял мне лицо.
— Все это потом, — сказал он. — Думаю, сломан. Немедленно в больницу.
— Слушаюсь, доктор Саммерс.
Я посмотрела на Сэма.
— Спасибо тебе.
Он помог мне добраться до «Мерседеса» и сел рядом, пока Чарли собирал теплую одежду и кое-какие мои вещи. Я останавливала кровь полотенцем, и теперь оно все было в ярких роршаховских пятнах.[49] Смотреть становилось все трудней, и, заглянув в зеркальце заднего вида, я поняла, почему. Нежная кожа вокруг глаз побагровела и распухла. Я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Перед ними поплыли цветные пятна, пульсируя в одном ритме с волнами боли. Появился Чарли и неуклюже пожал Сэму руку.
— Можешь присмотреть за домом? — спросил он. — Я вернусь, как только смогу.
— Заявите в полицию? — спросил Сэм.
— Еще не знаю. Это надо обсудить с Рози.
Я опустила стекло со своей стороны и протянула руку. Сэм схватился за нее обеими руками. Моя ладонь была как ледышка, а его так и пылали, мне даже стало немного теплей.
— Можешь пожить немного в доме? За ним надо присматривать.
— Конечно, — ответил он, улыбнулся и сжал мне руку. — Не беспокойтесь об этом.
Двигатель «Мерседеса» заворчал. Чарли медленно стронул машину с места, и я снова подняла стекло. Было уже почти темно. Небо еще упрямо не желало менять красивый цвет индиго на черный, но холмы на его фоне уже горбились совершенно черными глыбами. За окнами мелькали силуэты голых деревьев с тоненькими острыми веточками, громада дома помаячила позади и скрылась. Сороки внимательно наблюдали за нашим отъездом.
Я понимала, что вижу Сорочью усадьбу в ее нынешнем состоянии в последний раз. Сидя в ярко освещенной больничной палате «Скорой помощи» и ожидая осмотра, я еще раз мысленно проходила по дому и по очереди прощалась со всеми его комнатами. Начала с прихожей, потом прошла по коридору мимо огромного обеденного зала с его немыслимо длинным столом, вокруг которого выстроились сделанные в том же стиле стулья с прямыми, высокими спинками, постояла в гостиной с ее пыльной, мягкой и облезлой мебелью и обвисшими обоями. Двинулась дальше по коридору, остановившись в курительной комнате с золотистыми обоями, на которых рядами выстроились рамки с бабочками и другими насекомыми, прошла мимо сырой ванной комнаты с ее покрытыми плесенью, как на вокзалах, плитками и пятнистой ванной, и оказалась на кухне, в сердце всего дома. Потом библиотека, где, как всегда, было тихо, и книжные стеллажи целиком закрывали по периметру стены. Задержалась немного в «зверинце», шепотом обращаясь к чучелам животных и к шкафам, заполненным диковинными образцами: я еще вернусь за вами, у вас у всех будет новый дом. Попрощалась с дедушкой: он поднял голову от кролика, над которым мы работали вместе, и обнажил фальшивые зубы, и я не удержалась от смеха. По черному ковру, такому толстому, что он не износился за много лет, я поднялась вверх по лестнице и по коридору прошла к красной комнате, спальне дедушки с бабушкой; кровати накрыты покрывалами с оборками, растительные узоры на шторах, закрывающих огромные стрельчатые окна, так что не очень заметно, что они такие большие, выцвели.
И везде беспорядок, который мне так и не удалось убрать до конца. Теперь пусть другие с ним разбираются и готовят дом к реконструкции. Наверняка большинство вещей отправят на склады Армии спасения, а то и на свалку. Я заглянула в каждую из спален; совсем скоро они превратятся в номера для постояльцев со смежными ванными комнатами и новыми кроватями; наконец дошла до конца коридора, делающего поворот под прямым углом к половине для прислуги, с ее крохотными комнатками и холодной ванной комнатой. Постояла немного у двери, ведущей в башню, не решаясь войти, но все-таки толкнула ее, поднялась по лестнице и оказалась в залитой светом комнате, где от вида, открывающегося за окнами, захватывало дух. Попрощалась с бабушкой, обрезающей розы в саду, и с юным Чарли, скачущим на лошади с другими мальчишками в сторону холмов.
Наконец, отвернувшись от окна, попрощалась с Тесс, которая сидела на матрасе, завязав узлом простыню над грудью и скрестив свои длинные красивые ноги. Она курила сигарету, которую ей скрутил Джош, и, увидев, что я смотрю на нее, пустила в воздух струю дыма и сняла прилипшую к языку табачинку.
— Ну, как, с тобой все будет нормально? — спросила я, но она ничего не ответила, только улыбнулась и повернулась ко мне спиной, в последний раз показав мне свою татуировку с птицей.
Как ни странно, нос оказался не сломан, хотя к этому было близко. Видок у меня был еще тот, настоящее пугало; меня отослали домой, прописав какое-то сильное обезболивающее, которое я немедленно приняла и мгновенно уснула в машине. Чарли, после нескольких моих, впрочем, довольно слабых протестов и жалобных просьб о том, что я хочу вернуться обратно в Сорочью усадьбу, что у меня там осталась незаконченная работа и все такое, отвез-таки меня в город. Но я-то знала, что работа завершена. Чарли обещал упаковать мои вещи и закинуть их мне как-нибудь на недельке вместе с моей бедной машиной.
— В общем, ты должна как следует отдохнуть, — сказал он. — Пока никакой работы.
Он высадил меня возле ателье татуировок, над которым была моя квартирка, и отбыл, а я еще долго сидела у окна, смотрела на огни порта, на рабочих, всю ночь грузивших контейнеры на огромные корабли, неясно вырисовывающиеся на фоне темной воды. Был субботний вечер, и я знала, что Рита сегодня придет поздно; я надеялась, что она вернется одна, не притащит за собой на буксире каких-нибудь матросов. С улицы внизу доносились крики и громкий смех, выходящие из паба на углу разглядывали витрину ателье Роланда. Возможно, в другие времена ателье оставалось бы открытым, чтобы подцепить клиента из матросни с кораблей или еще кого, какого-нибудь случайного джентльмена.
Когда действие обезболивающего закончилось, я села в постели: мне не спалось. Я включила лампу с розовым абажуром, которая осветила стену, где у меня были развешаны фотографии женщин с татуировками. Я посмотрела на свои наколки и подумала, насколько более красивы, более изящны стали они с развитием технологии. Я описывала татуировки Доры, назвав их утонченными и высокохудожественными, но если б они у нее в самом деле были, то оказались бы такими же грубыми и топорными, как и на висящих передо мной фотографиях, с толстыми и неровными линиями, отсутствием изящной штриховки, полутонов и тонких цветовых переходов. Интересно, думала я, что именно из того, что я навоображала себе, могло быть правдой? Ведь что я сделала? Просто собрала все наиболее яркие факты вместе и попыталась свить из них для Генри с Дорой уютное гнездышко.
Слышно было, как пришла Рита, цокая каблучками по деревянному полу. Она остановилась перед моей дверью и тихо постучала.
— Я увидела у тебя свет, — сказала она. — Можно войти?
В руке у нее была бутылка красного вина; она вошла и присела на край моей кровати.
— Господи! — воскликнула она. — Что это с тобой?
— Наконец-то заметила, — улыбнулась я, и мне сразу стало больно.
— Погоди-ка минутку.
Она поставила бутылку и вышла и снова появилась с двумя бокалами.
— Подруга, — сказала она, — если хочешь исповедаться, вся моя ночь в твоем распоряжении.
Она сбросила жакетку леопардовой расцветки и туфли.
Я начала с самого начала и рассказала все, что со мной случилось за последнюю неделю в Сорочьей усадьбе. Она требовала подробностей, и у нее это хорошо получалось: уже через полчаса она знала все, что можно, и про Сэма, и про Хью.
— Я догадывалась, что с тобой происходит что-то такое, о чем неловко рассказывать, — сказала она. — Ты изо всех сил прятала от меня своего Хью, а на тебя это не похоже. Надо было сразу все рассказать. Я бы не стала тебя осуждать.
Я пожала плечами и хлопнула еще две таблетки болеутоляющего.
— Ну и кто из этих двух подонков так тебя разукрасил? — спросила она. — Или ты упала вниз по ступенькам с башни?
Я глубоко вздохнула и стала рассказывать ей про Джоша, но на полдороге вдруг поняла, что придется рассказать и про Тесс, иначе она ничего не поймет.
— Я когда-нибудь говорила тебе, — начала я, заранее зная ответ, — про мою сестру Тесс?
— Про сестру? У тебя что, есть сестра? Нет, не говорила.
— Была сестра. Она погибла. Когда мне было тринадцать лет.
И тут я расплакалась.
Когда я все ей выложила, на душе стало гораздо легче. Я об этом никогда и ни с кем не говорила, даже с родителями или с Чарли. Такую возможность дал мне Джош, но я не воспользовалась ею. В конце концов я устала, захотелось спать, но, скорей всего, на меня подействовало вино и кодеин. Я положила голову на подушку, и Рита, ни слова не говоря, стала гладить меня по голове, пока я не уснула.
Реконструкция дома началась на этой неделе, словно родственники решили воспользоваться моим состоянием и поторопиться, пока я снова не стала им ставить палки в колеса. Не знаю, чего они от меня ждали, может быть, боялись, что я в знак протеста лягу на дороге, по которой двинутся грузовики. По правде говоря, для таких действий у меня уже не было сил, я слишком устала с ними спорить.
Меня там в это время не было, но картину я хорошо себе представляю: выносятся в беспорядке разбросанные вещи, разбираются стены, словом, царит разруха. Сдираются обои, возводятся новые перегородки, разбираются печи, в стенах кухни прорубаются дыры для французских дверей. Убираются все кухонные приспособления, делаются новые ванные комнаты. Ломаются старые перегородки, комнаты становятся просторней и выглядят современней. Теперь в них гораздо больше света.
Хотела бы я видеть их недоуменные и озадаченные лица, когда неожиданно обнаружилось содержимое кабинета Генри. Оказывается, его диковинки все это время оставались в доме, конечно, не в упаковочных ящиках — они давно пропали; обернутые в тряпки, эти редкости были спрятаны в стенах, как тайное жертвоприношение. Можно только предполагать, что дедушкин отец после смерти Генри поместил их там, воспользовавшись тем предлогом, что огромные помещения дома для большего удобства надо поделить на комнаты меньшего размера. Кунсткамера Генри так никогда и не попала в Британский музей, потому что сын его, Эдвард Саммерс, пришел в ужас от того, что увидел.
Строители ломали стены с помощью кувалды и лома, и обнаруженное заставило их на порядочное время приостановить работы, несмотря на отвратительную погоду, из-за которой пришлось брезентом закрывать отверстия во внешних стенах: шли непрерывные дожди с ветром, и это могло причинить дому немалый ущерб.
Там были человеческие останки. Я думаю, сын Генри поверил слухам и сплетням, поверил тому, что отец его зверски убил Дору и спрятал тело; и тогда он решил, в свою очередь, спрятать улики и навеки сохранить семейную тайну. Вероятно, он воображал, что дом всегда будет оставаться таким, каким он был при его жизни.
Я бы могла рассказать, что там нашли куски человеческой кожи, сохранившейся в прекрасном состоянии, которые сначала приняли за живопись по пергаменту: изображения птичьих яиц, бабочек, колибри и, самое поразительное, изображение гуйи, выполненное удивительно изящно и очень похоже: оно так и светилось проходящим сквозь кожу светом. И только после внимательного изучения открылось, что тушь нанесена не на кожу, а под нее, а значит, это не живопись, а татуировка. Что Генри сохранил прекрасную память о жене и хотел, чтобы изображение редкой птицы висело в самом знаменитом музее мира, таким образом даруя Доре в некотором смысле бессмертие.
Но это было бы неправда. О, человеческие останки в стенах Сорочьей усадьбе все-таки были, но это все были кости, а не изящный, разрисованный пергамент. Они вполне могли быть костями юной европеянки, и Эдвард вполне мог подумать, что отец его прячет следы страшного преступления; но тогда почему их было так много, разных размеров, вперемешку с костями большой нелетающей птицы; стукаясь одна о другую, они издавали странные звуки какого-то ударного музыкального инструмента. Были и черепа, даже несколько. И один совсем маленький, как череп ребенка.
В общем, вызвали полицию, понаехали специалисты, которые заявили, что, скорей всего, это кости из расположенной поблизости погребальной пещеры маори, взяты оттуда где-то в конце девятнадцатого века; но сами кости были, конечно, старше, вероятно, эти люди умерли еще до прихода европейцев. Артефакты, найденные с телами, объяснили многое — здесь были струги, рыболовные крючья, сделанные из нефрита, ритуальное оружие — и тут надо сказать, что Генри Саммерс предстал далеко не столь благородным джентльменом, каковым я его описала и каким его желал видеть дедушка, человеком, якобы не пользующимся бесчестными методами собирания своей коллекции. В общем, мой предок оказался обыкновенным гробокопателем, грабителем, разорявшим чужие могилы, нарушавшим «тапу» местных жителей и неразборчивым в средствах, помогавших ему пополнять коллекцию костями воинов, женщин и детей. Что еще тут можно про него сказать, когда собрание его диковинок открыло перед нами неопровержимую правду. Возможно, первая жена его на самом деле утонула в реке, и тело не было найдено. А может, он и вправду убил ее, как говорили злые языки. Истины мы никогда не узнаем. И хватит об этом.
Через несколько дней Чарли доставил мою машину и вещи.
— Вид у тебя уже гораздо лучше, — сказал он.
Я потрогала нос. Все еще больно. И лицо все еще, как после пьяной драки; я так и просидела все это время дома. Не хватало еще терпеть косые взгляды и отвечать на глупые вопросы. Я валялась в постели, спала, разговаривала с Ритой, таскавшей мне чайник за чайником со свежей заваркой, и прокурила всю спальню.
Чарли втащил вещи наверх, в гостиную. Достал распечатанную пачку бумаги и помахал у меня перед носом.
— Что это у тебя? — спросил он. — Я думал, ты пишешь диссертацию, а у тебя тут целый роман.
— Ты что, прочитал?
— Извини, да, прочитал. Ты что-то имеешь против?
Я пожала плечами.
— Откуда ты все это про него узнала? Про то, что случилось с Дорой?
Я не знала, что отвечать, и сначала хотела соврать, что в этой нашей семейной истории любви все до последнего слова истинная правда. Что я нашла свидетельства: дневник, фотографии. Собрание редких предметов, среди которых была и татуированная человеческая кожа.
— Ниоткуда, — ответила я. — Я все это выдумала.
— Однако… богатое у тебя воображение. Это же настоящий любовный роман. Но неужели у него было столько наколок? Тут ты, по-моему, слегка загнула.
— А вот и нет, — ответила я. — Как раз это все правда. Вспомни дедушкино письмо.
Не знаю, что именно подействовало на меня в доме в ту памятную неделю, что толкнуло написать эту историю, поверить в то, что Генри с Дорой были счастливы до тех пор, пока она не погибла, и что у меня с ней существует какая-то глубинная связь. Может быть, любовь к викторианским романам, может быть, желание верить, что в моем роду был человек, имевший счастье полюбить настоящей любовью, которой и я когда-нибудь хотела полюбить. Но пока я писала, дом стал терять для меня свое очарование, и, приближаясь к концу, я решила, что Сорочья усадьба была для Доры тюрьмой, да и для Генри тоже. Наверняка и Тесс в нем было душевно неуютно. А может быть, даже и самому дедушке.
Все это вполне могло быть правдой. В конце концов, были же у Генри татуировки. Об этом написано в дедушкином письме. Но, узнав правду о нем как о коллекционере, я поняла, что картина, которую я написала, рассыпается при малейшем к ней прикосновении. Возможно, с ума его свело не сознание того, что он содрал со своей жены кожу, но что он нарушил строгое «тапу», навлек на себя и на будущие поколения своих потомков проклятие. И именно Генри нужно винить во всех несчастьях рода.
В полицию на напавшего на меня Джоша мы заявлять не стали. В конце концов, потеря работы и так будет для него достаточным наказанием: родственники вышвырнули его, как ненужную тряпку, им было плевать на его долголетнюю верность ферме и дедушке. Ему предложили купить кусок земли, но он отказался. Впрочем, сомневаюсь, что он мог себе это позволить, и родители об этом прекрасно знали. Это был просто символический жест. Если б мое слово что-нибудь значило, может быть, я бы была более снисходительна к нему и подтвердила бы его право остаться при ферме, как и обещал ему дедушка, но, всякий раз глядясь в зеркало, я понимала, что это невозможно. Правда, жаль было его жену и детей. Интересно, думала я, является ли все еще к нему Тесс, но у меня было чувство, что она завершила все то, зачем к нему приходила.
В ту зиму я закончила диссертацию: «Любовь в готических романах Викторианской эпохи». Спрятавшись от людей в своей квартирке, где было тепло и уютно, я сидела и писала, и старалась как можно реже показываться в университете. Надо было поскорей покончить с этой работой, чтобы нормально жить дальше. Никаких отклонений в сторону, никаких прихотей сочинять прозу; страницы истории про Генри и Дору оставались спокойно лежать в ящике стола.
В следующий раз я приехала в Сорочью усадьбу весной, когда большинство работ по реконструкции было закончено. Мне очень не хотелось ехать одной, поэтому я пригласила с собой Чарли. Строители выполнили работу прекрасно, в доме были совершенно новые окна, а стены были гладкие, как яичная скорлупа. Комнаты стали просторнее и светлее; стены были утеплены, и, несмотря на холодный ветер и отсутствие каминов, в доме было тепло, как летом. Старый ковер, полный пыли и собачьей шерсти, исчез, теперь здесь были голые, навощенные черным воском деревянные полы, в тон всему стилю дома. Я изумлялась, почему мы не сделали этого раньше, почему позволили дедушке жить в такой вредной для здоровья обстановке. Если бы в доме было теплей и воздух был чище и суше, он, может быть, прожил бы дольше.
Родственники позволили мне оставить «зверинец» как есть, таким образом, дом получал еще одно преимущество для привлечения постояльцев, говорили они, но мне кажется, они понимали ценность коллекции, и им хотелось, чтобы она оставалась под их присмотром. Я не возражала. По крайней мере, в этой комнате сохранится живая память о дедушке.
Не успела я открыть дверь, как Чарли остановил меня, положив руку на круглую дверную ручку.
— Нашлось еще кое-что, — сказал он. — В стенах. Наши родственнички не знали, что со всем этим делать, и просто добавили к остальной коллекции. Дедушка оставил тебе все чучела, и мы решили, что все остальное тоже должно принадлежать тебе. Если, конечно, у тебя не будет по этому поводу других идей.
Я вошла в комнату и сразу обратила внимание, что здесь на несколько градусов холодней, чем в остальном доме. Конечно, неплохо для сохранности чучел, но это лишний раз говорило о разнице между старым домом и обновленным. Следующее, что поразило меня, — огромное количество птичьих чучел, громоздящихся на рабочем столе: их было здесь не меньше полусотни.
Не знаю, почему мне сначала показалось, что это сороки. Из-за множества черных и белых пятен, я думаю; может быть, сознание мое еще не вполне освободилось от сочиненной мной истории. Но скоро я поняла, что это за птицы. Их красные бородки побледнели и высохли, как цветочные лепестки; у всех были разные клювы — длинные и изогнутые у самок и более прямые, не столь эффектные у самцов. Красивые перышки на хвосте, черные с белыми кончиками, сохранили первоначальный вид. Птицы довольно крупные, но на столе они выглядели совсем беззащитно. Генри даже не позаботился о том, чтобы усадить их куда-нибудь, придать им живость и реалистичность. Он просто притащил этих птиц из дикой местности, как горсть камней, набил из них чучела со сложенными крыльями, пустыми глазницами и ножками, к которым были привязаны бирки с надписью аккуратным почерком Генри, вставленными в тело, как палки для удобства транспортировки. Они были похожи на кучу трупиков.
Одно чучело гуйи я взяла домой, то, которое так любила в детстве. То самое, что питало все наши неверные представления о Генри, заставляя нас думать, что он был не похож на людей своего времени, что он уважал птиц, находившихся в опасности исчезнуть с лица земли, а также право народа маори никому не позволять беспокоить их умерших. Остальная часть коллекции оставалась там, где была, но я понимала: мне не хочется оставлять в доме чучела этих птиц. Их надо отправить в музей, а сочиненную мной историю опубликовать. Возможно, даже будет сенсация, появится статья в местной газете о том, как они были найдены вместе с костями.
Свою гуйю я поместила на самую высокую полку в спальне; здесь она будет в безопасности от пьяных гостей Риты. Потом спустилась вниз к Роланду. Подождала, когда он закончит работу: он выкалывал череп на бицепсе какого-то дядьки с бритой головой.
— Ну и зачем ему череп? — спросила я, когда мужик ушел, зажав в руке обеззараживающий крем.
— Сказал, что это в память о товарищах, которых он потерял в автокатастрофах. Довольно грустно, надо сказать.
Я вспомнила про Сэма. Интересно, нашел ли он где-нибудь работу? Увижу ли я его еще когда-нибудь?
— А ты что принесла? — спросил Роланд.
Я протянула книжку, раскрыв на нужной странице.
— Можешь сделать что-нибудь в этом роде? Только чуть-чуть стилизовать?
Он стал внимательно разглядывать картинку.
— Конечно. Оставь на вечерок, поработаю. А завтра с утра приходи. У меня на утро никого нет.
На следующее утро я надела старинный сарафанчик пятидесятых годов в цветочек, что очень гармонировало с ярким весенним днем. В этом платье были прекрасно видны все мои татуировки. Я всегда выглядела чудно, когда так одевалась: противоречие между красивым, старомодным платьем и матросскими татуировками многих смущало. Потом завершила прикид, завив челку внутрь, подведя верхние веки, красной помадой накрасив губы и надев красные туфли на высоких каблуках. Громко стуча ими по лестнице, спустилась в ателье. Роланд сидел, освещенный солнцем, которое весь день будет светить в окна, пока не скроется за холмами. Когда я вошла, он потянулся всем длинным телом и вынул из кармана листок бумаги. Перед тем, как протянуть его мне, он еще раз прищурился на него сквозь маленькие круглые очки.
— Ну, как, сойдет?
Его рисунок идеально схватил именно то, что я и хотела выразить.
— Понадобится как минимум два сеанса. Сегодня начнем с контура, а потом запишешься на отделку и ретуширование.
Я сняла кофту и легла на обитый войлоком стол животом вниз, уткнувшись лицом в пахнущую лавандой подушку. Роланд выбрил на спине нужное место, повыше лопаток, смазал вазелином. Зашуршала бумага, это он расправлял у меня на спине рисунок, и я надеялась, что единственным моим ощущением будет что-то вроде поглаживания по спине. Я никак не могла привыкнуть к боли, хотя сделала уже десять наколок. Возможно, это будет последняя. Не могла себе представить, чего еще желать или где поместить очередную.
— Начинаем.
Я закрыла глаза и прижалась лицом к рукам, от которых вдруг пахнуло острым запахом внезапно выступившего пота. Сидя рядом со мной, Роланд уже окунал иголку в крохотный пузырек с черной тушью. Я слышала, как загудела татуировочная машинка, и стала ждать, когда она зажужжит, когда я почувствую первый обжигающий укол. И стала следить за дыханием, чтобы не вздрогнуть.
Роланд обычно работал молча, чтобы сосредоточиться, но мне больше нравилось, когда он разговаривал. Это отвлекало от боли, и я была рада, когда он заговорил:
— А знаешь, я хочу сказать тебе кое-что.
Делая вдох через нос, а выдох через рот, я ждала продолжения, пока боль не дошла до той точки, когда можно представить себе, что она превращается в легкое жжение и рассеивается.
Прибор выключился, он снова окунул иголку в тушь и вытер мне спину тряпкой.
— Я закрываю ателье. Переезжаю в Веллингтон.
Он продолжил работу, но я совсем забыла о правильном дыхании и вздрогнула, когда иголка вонзилась мне в спину.
— С чего это вдруг? — спросила я.
— Да с бизнесом здесь не очень-то. Место уже не то. Разве сама не заметила? Люди женятся, заводят детишек. Кафешки открываются, как грибы. Или как герпес, ты так не считаешь? Теперь тут не встретишь неудачников и двинутых.
— А что будет с этим домом?
— Извини, родная…
Он снова остановился и потрепал меня по плечу.
— …но тебе, вероятно, придется съехать.
Я молча кивнула, спрятав лицо в руки. Потом глубоко вздохнула.
— Что-нибудь не так? — спросил он.
— Все будет отлично, — ответила я.
Я думала про мою квартирку наверху, битком набитую бабочками-поденками. Нет худа без добра: сделаю отбор и повыбрасываю все лишнее. Упаковывать все и переезжать с такой прорвой немыслимо. А то, что Роланд сказал про порт, это правда. Плата за жилье страшно подскочила. Мне повезет, если я найду за старую цену комнату в доме, где живет полно народу.
— Все будет отлично, — повторила я.
Когда он закончил, я встала, и у меня закружилась голова. Роланд поддержал меня за руку и подвел к зеркалу, которое занимало всю стену. Вокруг висели фотографии его работ — покрасневшие и распухшие участки кожи со свежей наколкой, маслянистые от вазелина; здесь была и моя сорока, которая теперь словно приросла к моему запястью и стала частью моего тела.
— Готова? — спросил он.
Я кивнула, и он поднял за моей спиной второе зеркало, чтобы мне видна была его работа. Да, вот она, такой я себе ее и представляла, изгибающаяся вместе с изгибом спины, и кривой клюв захватывает лопатку. Осталось только окрасить изящные контуры сережек, и гуйя оживет и станет вечно распевать свои песенки у меня на спине.
Выражение признательности и благодарности
Я благодарна следующим людям: Джулии Де Вилле — за то, что для создания этой книги она позволила мне воспользоваться некоторыми сторонами своей жизни, а также за то, что поделилась со мной своим знанием о тонкостях таксидермии; Марку из Инк Грейв — за то, что он ответил на мои вопросы, касающиеся татуировки, и позволил понаблюдать за его работой; Джиллиану Арриги за информацию о цирковых представлениях в девятнадцатом веке; Гарету Кордери из Кентерберийского университета, который позволил мне присутствовать на его удивительных лекциях о романе девятнадцатого века и тем самым способствовал изменению хода данного романа; Новозеландскому писательскому сообществу и лично Лилиан Иде Смит Траст; Новозеландскому Союзу творческих работников[50] за его щедрый грант, и еще раз Кентерберийскому университету за предоставление мне в 2008 году творческой дачи в Центре имени Урсулы Бетель, в результате чего у меня появились свободное время, место и средства для работы; моим редакторам Гэрриет Аллан и Анне Роджерс, а также моему изумительному агенту Вивиен Грин; моим помощникам Кейт Дуигнан и Сьюзан Пирс за нелицеприятную критику и огромную любовь и поддержку; Ричарду Льюису, Полу Каннингэму и Хане Холборн, которые стали моими первыми и заслуживающими доверия читателями; Шарон Бланс и Бренс Когхилл; Брунетт Мафиа; руководству библиотек Крайстчерч-сити и хозяевам кафе «Под Красной Террасой» за то, что предоставили мне местечко подальше от дома; Росу Генри за его острый редакторский глаз, а также, как и Дэвиду Элуорти, за неутомимую помощь в домашних делах, позволившую мне заниматься писанием; Томасу Рутерфорду за его терпеливое участие и, самое главное, Питеру Рутерфорду, без него было бы невозможно написание этого романа, который я ему и посвящаю.