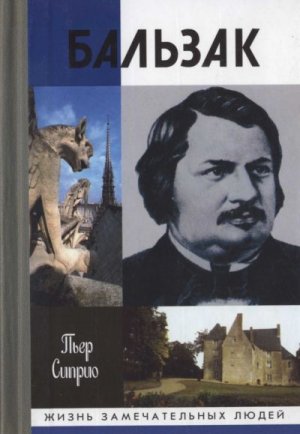
Сиприо Пьер
Бальзак без маски
КОМЕДИЯ МАСОК И ТРАГЕДИЯ ЖИЗНИ
Вступительная статья
У этой книги очень точное заглавие: «Бальзак без маски». Действительно, гениальный художник, показавший крупным планом «человеческую комедию», посвятивший свое необъятное творчество срыванию всяческих масок, сам всю жизнь прожил в маске, которую добровольно на себя надел и не мог снять, подобно тем несчастным, которых заковывали в глухие железные шлемы, дабы уморить голодом. Маска Бальзака — образ преуспевающего дельца, обладателя огромного состояния, блестящего светского льва, не отказывающего себе ни в чем, не хуже всех этих Нусингенов и иже с ними, созданных его гением. А под маской — совершенно иная, реальная жизнь. Как ярко показал автор книги, это каторжный труд, непрерывные поиски денег, побеги от кредиторов, тяжелые болезни и равнодушие тех, кому отдана вся душа.
Автор «Бальзака без маски» Пьер Сиприо широко известен во Франции. Журналист и издатель, неутомимый деятель «Франс-Кюльтюр», создатель многочисленных литературных радиопередач и руководитель ревю «Табль ронд», он особенно прославился двухтомной биографией Монтерлана и рядом других работ об этом писателе. Что же касается Бальзака, то здесь Сиприо, разумеется, не пионер: на его родине, да и вообще на Западе, литература о Бальзаке безбрежна. К нам же, в Россию, во времена оны просочились лишь два существенных произведения о великом писателе: книги С. Цвейга[1] и А. Моруа[2]. Обе эти принятые на ура читателями, модные в те годы «романизированные биографии» имели друг от друга то существенное отличие, что стиль Цвейга ближе к первой части этого определения, а Моруа — ко второй. Цвейг в «Бальзаке», как и в других своих произведениях, очень эмоционален, и образ создателя «Человеческой комедии» под его пером иной раз приобретает характер гротеска. Моруа же в первую очередь документалист, и при всей художественности созданного им образа главное у него — стремление приблизиться к жизненной правде.
По этому же пути пошел и автор предлагаемой книги, что не скрывает и он сам, отдав дань уважения Моруа в «Предисловии», а также постоянно ссылаясь на него в самом тексте. Главным своим достижением по сравнению с Моруа Сиприо считает учет и использование литературы, вышедшей за десятилетия после появления «Прометея». Но здесь он явно скромничает. Его «Бальзак» — совершенно оригинальное произведение, весьма отличное и по существу, и по стилю от трудов предшественников. У Сиприо мы не найдем обычного для бальзаковедов деления творчества великого писателя на отдельные «периоды». Его книга не имеет ни частей, ни глав: она состоит как бы из отдельных очерков разной величины и разного характера, каждый из которых имеет броское заглавие и самоценное значение. Одни из них посвящены истории, другие — событиям жизни героя, третьи — очередному роману или трактату, четвертые — сопутствующим лицам и обстоятельствам. Поэтому в процессе чтения книги, особенно поначалу, возникает впечатление некоей фрагментарности. И только вчитавшись и дочитав до конца, охватываешь мыслью целое и понимаешь замысел автора.
Сиприо начинает с того, что выясняет, сколько стоили в 30–40-е годы XIX века соотносительно с современным курсом продовольствие, предметы обихода, передвижение и т. п., и этим сразу вводит в экономику бальзаковского времени. Постоянно присутствует и чисто исторический фон. Читая книгу, знакомишься с важнейшими чертами истории Франции за целое столетие — с середины XVIII по середину XIX века. Перед нами чередой проходят абсолютная монархия Людовика XV и его преемника, Великая революция 1789–1799 годов, эпоха Наполеона, года Реставрации, революция 1830 года, Июльская монархия Луи-Филиппа, революция 1848 года. И для каждого из этих этапов Сиприо, иногда несколькими страницами, иногда несколькими строками, находит емкое и точное определение, выделив самое главное, как он себе его представляет. При этом факты истории даются не ради самих себя, а в тесном переплетении с жизненными судьбами Оноре и его отца.
Об отце мы упомянули не случайно. Сиприо уделяет ему в книге большое, на первый взгляд слишком большое место, гораздо большее, чем любой из его предшественников. Но это вполне оправдано. На примере карьеры Бернара-Франсуа Бальзака Сиприо показывает, как во Франции складывалась и пришла к господству буржуазия, та самая буржуазия, представители разных слоев которой станут главными персонажами «Человеческой комедии» и к которой у великого писателя сложится такое неоднозначное отношение.
Выходец из провинции, потомственный крестьянин Бальса пробирается в Париж и удачно пристраивается к администрации Людовика XV. Он тут же меняет свое родовое имя: чтобы оторваться от всех этих деревенских «Бальса», он вдруг становится «де Бальзаком», явно намекая на мифическую принадлежность к дворянскому роду «Бальзак д’Антрег». Он умело находит покровителей и ловко приспосабливается к каждой смене режима: начинается революция, и он, недавний королевский слуга, — ярый революционер; появляется Наполеон — и он преданный бонапартист, поющий осанну императору; приходит Реставрация — и он, напрочь забыв о недавнем прошлом, оказывается роялистом. Но вне зависимости от режима он всегда умеет пристроиться к «тепленькому местечку», связанному с администрацией и всевозможными поставками — здесь легче создать состояние и положение в обществе. Обстоятельства и возраст обрывают карьеру Бернара-Франсуа, но его ловкое восхождение — превосходный материал для будущего писателя, его сына!
Значительное место Сиприо уделяет детским и юношеским годам Оноре. И это не менее оправдано. Не знавший родительской любви, покалеченный школой, молодой Бальзак в мучительной борьбе с внешним давлением сам сформировал себя и, вопреки стараниям родителей, пробился к тому, что властно его призывало — к художественной литературе.
Первые неудачные опыты отнюдь не поколебали его, не сняли юношеского энтузиазма; преодолевая все препоны, Бальзак твердо шел по избранному пути, пока в конце концов не добился прижизненной славы. Но слава не принесла успокоения его мятущейся душе; он постоянно ставил перед собой сверхзадачи и рвался к недостижимому. Плебей, он хотел стать аристократом, труженик, он мечтал о сокровищах Монте-Кристо, беспомощный в практической жизни, он лез в дельцы, внешне непривлекательный и нескладный, он грезил о страстной любви. Естественно, все подобные «начинания» одно за другим проваливались. Литературный труд не сделал его богатым, попытки организовать свое «дело» чуть не привели в долговую яму, а стремление «выйти в знать», равно как и «страстная любовь», обернулись жестокой трагедией.
В основе уникальности Бальзака, полагает Сиприо, были изначально заложены три компонента: наблюдательность, фантазия и упорный труд. Все, что его окружало, вызывало в нем жадный интерес. Он видел, замечал, улавливал, чувствовал то, что большинству других было недоступно. Сиприо показывает — и это составляет основную часть его труда — как почти во всех произведениях Бальзака фигурируют он сам, его близкие, те, кого он видел, о ком слышал или прочитал. Но все эти персонажи не были прямо перенесены автором на страницы его романов — то было бы банально. Писатель обладал неукротимой фантазией, и она преображала увиденное и познанное настолько, что зачастую деформировала почти до неузнаваемости. И вот эта-то деформация, результат полета фантазии гения, и создавала тот сплав реального и идеального, который сделал образы Бальзака такими емкими и впечатляющими. Однако и наблюдательности, и фантазии было бы недостаточно, если бы их не сдабривал упорный труд. Мало можно найти писателей, которые были бы так строги к написанному ими, как Бальзак. Его никогда не удовлетворяли первые варианты; он без конца правил, добавлял, изменял и снова правил. Его ненавидели типографы, ибо не только гранки, но и верстки его романов были сплошь исчерканы исправлениями.
Все это вместе взятое и определило неповторимость творчества Бальзака. И если ранние его произведения грешили сентиментальностью, характерной для его эпохи, то начиная с 1829 года он отрывается от большинства писателей-современников, обретя черты того Бальзака, который обеспечил себе бессмертие. Это хорошо подметил Сиприо, приведя характерный диалог. Писателя спросили: что, его «Шуаны» — исторический, любовный или мистический роман? И Бальзак не задумываясь ответил: «Это правдивый роман». Так великий писатель впервые определил основную черту своего творчества, которая позднее заставит критиков признать его основоположником реализма в литературе и которая со всей силой и мощью раскрылась в 30–40-е годы в «Гобсеке», «Отце Горио», «Евгении Гранде», «Шагреневой коже», «Утраченных иллюзиях» и других гениальных произведениях, выстроенных им в цикл «Человеческой комедии», давшей подлинный облик политической, общественной и частной жизни Франции середины XIX века.
Огромную, часто определяющую роль в жизни и творчестве Бальзака — и это прекрасно выявил Сиприо — сыграли женщина и любовь. «Я таю в себе культ женщины и жажду любви», — признавался сам великий романист.
Сначала появилась сестра Лора, противовес отринувшей сына матери, затем — мадам Берни, и мать, и любовница, и сотрудница, и заимодавец, а рядом с ней — Зюльма Каро, верный друг и поверенный; после смерти мадам Берни ее отчасти заменила мадам Брюньоль; и, наконец, всех затмила и вытеснила «прекрасная иностранка», Эвелина Ганская. Но эти пять «основных» привязанностей не исключали и множества других; преклонявшийся перед аристократией Бальзак неизменно льнул к знатным дамам. В результате он добился полного или частичного успеха у таких титулованных аристократок, как герцогиня Абрантес, графиня Гидобони-Висконти и непреклонная хромоножка, маркиза де Кастри. И даже последняя, самая «страстная» и роковая любовь писателя в значительной мере была приправлена все тем же великосветским флером.
Женщина, женщина и еще раз женщина — вот, по мнению Сиприо, прямой путь к пониманию творчества Бальзака. «Женщина бальзаковского возраста» — расхожая фраза, которую повторяют даже те, кто никогда не читал Бальзака. Мать, оттолкнувшая сына, — и нежная мать, исполненная заботы о детях, преданная жена — и жена тайный враг, страстная любовница — и змея в облике возлюбленной, женщина-ангел — и женщина-дьявол, женщина — чистая душа — и женщина — кладезь коварства, покинутая женщина — и женщина роковая, женщина, одаряющая блаженством, — и женщина, убивающая любовь: таковы образы-антагонисты, переходящие из романа в роман. И даже мужские персонажи бальзаковской «Комедии» и других циклов немыслимы без связанных с ними женщин — матерей, дочерей, сестер, жен и любовниц.
Самые сильные страницы книги Сиприо — история «страстной» любви Бальзака и Эвелины Ганской. Здесь, работая по первоисточникам, автор поднял обширную переписку Бальзака, которую скрупулезно изучил и на которой в основном построил свои выводы. Собственно, выводов-то как раз и нет, и в этом сила повествования; выводы предлагается сделать читателю. Автор же ограничивается фактами, не педалируя и редко давая оценки. И факты впечатляют гораздо сильнее, чем самая пылкая агитация — ну как тут не вспомнить роман нашего соотечественника, украинского писателя Натана Рыбака![3] Постепенно вырисовывается печальная картина: гений, плененный очередным мифом, и своенравная, непостоянная и равнодушная эгоистка, думающая лишь об удовольствиях и благополучии своего клана…
«Роман» Бальзака с «иностранкой», по существу, результат плена у собственной маски, чисто «головной»; «страстность» его лишь в том, что несчастному «влюбленному» казалось, будто вот-вот и он достигнет вожделенной мечты своей жизни: станет богачом и «попадет» в аристократы. Да и не просто в аристократы, а в самые сливки знати — что там какие-то Абрантес или Кастри, если Ганская была дальней родственницей самой Марии Лещинской, супруги Людовика XV, а ее поместья и замки раскинулись по всей Украине! Такая женщина могла дать писателю и полную обеспеченность, и покой, и блестящее положение в обществе! Правда, был еще и господин Ганский, но он, к счастью, оказался стариком и должен был умереть со дня на день…
В дальнейшем выяснилось, что все это не совсем так. Ганский действительно умер, хотя и не столь уж быстро, но что касается «поместий и замков», то хозяйство Ганских оказалось сильно запущенным, после смерти мужа Эвелина увязла в земельных тяжбах и в конце концов совершенно разорилась. Но все это еще впереди, а пока…
…Началось с загадочного письма, подписанного «иностранкой» и содержавшего комплименты в адрес писателя. Бальзак воспрянул: его хвалили редко, а тут фимиам шел от «прекрасной иностранки» (в воображении писателя она не могла не быть «прекрасной»). Вскоре «иностранка» раскрыла свое инкогнито и в одном из следующих писем появились такие слова: «Ваша душа — века… По Вашему знанию человеческого сердца я чувствую в Вас существо высшего порядка… Читая Ваше произведение[4], я отождествляю себя и Вас… Ваш гений представляется мне вершиной…» (7 ноября 1832 г.). Наживка была брошена и проглочена: писатель оказался на крючке…
Следующие три года стали для него некоей фантасмагорией. До этого не покидавший Франции Бальзак стал метаться по Европе. Невшатель, Женева, Вена… И все для того, чтобы увидеть возлюбленную, пробыть с ней несколько дней, а то всего лишь и часов под бдительным оком мужа, и затем месяцами предаваться сладким воспоминаниям… Несмотря на то что прелести Эвелины уже поблекли, а вследствие излишней дородности она при ходьбе переваливалась с ноги на ногу, точно утка, влюбленному она показалась «идеалом божественной красоты». «Он настоящий ребенок», — решила в свою очередь Эвелина после первой встречи, а позднее прозвала его «бильбоке» — детской игрушкой. В 1834 году в Женеве она наконец допустила сгоравшего от любви писателя к «райскому блаженству», но затем оттолкнула, и в следующем году в Вене, несмотря на сетования несчастного, уже держала его на расстоянии. Так определилась вся дальнейшая тактика Эвелины, ее «двойственность», по выражению Сиприо: она то натягивала леску, то отпускала ее…
Следующая встреча произошла лишь восемь лет спустя, а переписка едва не заглохла — письма от возлюбленной приходили все реже. Бальзак жаловался, умолял, но тщетно. Он старался как-то отвлечься: вновь с головой ушел в работу, заводил короткие связи, утешался нежными заботами мадам Брюньоль, путешествовал. Но на каждую мольбу о новой встрече получал один и тот же ответ, равносильный приказу: «Не приезжайте».
«Ева не испытывала к Бальзаку любви в привычном смысле слова, — замечает Сиприо. — Похоже, она собиралась расстаться с ним». Однако и из далекой Верховни она пристально следила за «нравственностью» Бальзака, ревновала его и заставляла оправдываться. Вот уж воистину: «И есть тошно, и бросить жалко»…
29 ноября 1841 года Эвелина овдовела, о чем сообщила Бальзаку только через два месяца. Теперь она была свободна. Казалось бы, чего лучше для двух любящих сердец? Но нет. Игра продолжалась: «Не приезжайте». Он не выдержал и в июле 1843 года помчался в Петербург. Приняли его холодно. «Ева частенько оставляла его наедине с книгой». После его возвращения в Париж она написала ему, что собирается уйти в монастырь. Она утверждала, что «воплощает его несбыточную мечту». Он слег. Тогда было решено сменить гнев на милость: из Дрездена, где она находилась с дочерью и ее женихом, Эвелина написала в Париж: «Мне хотелось бы увидеться с тобой». Какое счастье! Бальзак, несмотря на недомогание, поспешил в Дрезден. Потом все завертелось, словно в калейдоскопе: Париж, Верховня, снова Париж, снова Верховня, беременность Эвелины, завершившаяся выкидышем… «Теперь главная мысль писем Евы к Оноре сводилась к следующему: видеться — да; выйти замуж — нет; жить в Париже — нет». Осенью 1848 года, убегая от новой, претившей ему революции, Бальзак снова поехал в Верховню и пробыл там 19 месяцев. Теперь болезнь окончательно свалила его. Он почти не вставал с постели. О литературной работе думать больше не приходилось. И тут вдруг Эвелина сделала новое антраша: отдав остатки своей недвижимости детям в обмен на ежегодную ренту, она согласилась… стать «госпожой де Бальзак» и жить в Париже. Свадьба была сыграна в 1850 году в Бердичеве, после чего «молодые» отправились во Францию. Бальзак возвратился в Париж только для того, чтобы там умереть на пятьдесят первом году жизни. Так он стал одним из самых ярких героев своей «Человеческой комедии» — куда более ярким, чем Люсьен Рюбампре или Рафаэль Валантен! Шагреневая кожа, все уменьшаясь, сморщилась до предела и, едва после всех танталовых мук он получил вожделенное, обратилась в прах…
Сиприо не остановился на этом и посвятил несколько строк последующей судьбе госпожи де Бальзак. Они интересны, поскольку бросают луч в прошлое, освещая подлинный характер отношения Эвелины к писателю. Она отнюдь не оказалась безутешной вдовой. Во время агонии мужа, в своих письмах к дочери, она почти не упоминала о «бедном бильбоке», зато подробно распространялась о том, как весело проводит время в Париже. Не успел еще прах Бальзака найти последний приют, а она уже флиртовала с молодым критиком, «малышом» Шамфлери; а когда он бросил ее, Эвелина тут же увлеклась художником Жаном Жигу, с которым пробыла до конца своих дней. После смерти Бальзака она здравствовала еще 32 года, пережив Вторую империю, Франко-прусскую войну и Парижскую коммуну.
На этой ноте, так отвечающей смыслу «Человеческой комедии», можно бы и закончить, если бы не осталось еще одной и немаловажной проблемы, которой бальзаковеды обычно занимаются в начале своих исследований, а Сиприо, в основном, оставил на конец: выяснить социальное и политическое кредо Бальзака, его место и роль в многообразных коллизиях своего времени и, соответственно, в мировой литературе.
Советское литературоведение решало эту проблему «не мудрствуя лукаво»[5]. Бальзак провозглашался «великим народным писателем», одним из основоположников «критического реализма», предшествующего «социалистическому реализму» советской литературы. Мировоззрение Бальзака и его творческий метод рассматривались как «следствие революционной ликвидации феодализма» и «результат широкого общественного движения», питавшего творчество писателя. Бальзак якобы объективно отражал интересы «трудящихся масс», «с глубоким пониманием той огромной роли, которую играют „низы“ в жизни общества». Смотря вперед, «он видел людей будущего, выступающих против буржуазии», и показал «преходящий характер ее власти». Его же так называемый «легитимизм» — всего лишь «оборотная сторона антибуржуазных настроений», форма оппозиции «царству банкиров», монархии Луи-Филиппа.
Как было бы все просто, если бы дело обстояло именно так! Но здесь, как убедительно показал Сиприо, все было значительно сложнее.
Идеология Бальзака столь же противоречива, как его жизнь и творчество. Действительно, он не жаловал буржуазию, хотя сам происходил из буржуазной среды. Но неприязнь его распространялась прежде всего на «паразитическую», непроизводящую буржуазию — на банкиров и финансистов. А главное, она шла у Бальзака не «слева», а «справа»: в противовес своим коллегам — либеральным демократам он превозносил аристократию и пытался баллотироваться от легитимистов — крайне правой монархической партии. «Бальзак был вечным оппозиционером из принципа, — утверждает Сиприо. — При Карле X, короле ультрароялистов, он был либералом, зато при Луи-Филиппе, короле буржуазии, стал монархистом-легитимистом». Что касается второй части этой фразы, то она не вызывает сомнений. Но вот говоря о «либерализме» Бальзака в период Реставрации, Сиприо противоречит сам себе, ибо на этой же странице указывает, что именно в 1825 году (то есть как раз при Карле X!) Бальзак опубликовал две «ультра-реакционные» брошюры — о праве первородства и о благости ордена иезуитов. Отсюда следуем, что отрицательное отношение к буржуазии сложилось у него раньше революции 1830 года; быть может, этому содействовали и размышления о карьере отца. Что речь здесь идет в первую очередь о буржуазии финансовой, показывает реплика писателя, приводимая Сиприо, о ненависти «к этой отвратительной буржуазии», поскольку она «подлинный удав, подмявший под себя все прочие слои». Скупив «национальные имущества» в результате революции 1789 года, эта буржуазия подменила собой и церковь и дворянство, лишив земли тех, кто ее обрабатывал. Она стремилась создать «демократию», которую Бальзак назвал «медиократией» — «властью посредственности». Его не прельщала «холодная свобода» Соединенных Штатов, этот «наряд Арлекина». «Общество, признающее человека знатным лишь благодаря его состоянию, предпринимателем лишь благодаря его власти над рабочими и земельным собственником, благодаря его власти над крестьянами — застывшее общество», — заключает писатель. Именно такое общество и представляло, по его мнению, государство Луи-Филиппа, короля, который «расточает ласки легитимистам, хранит супружескую верность бонапартистам и идет на небольшие уступки республиканцам», что не назовешь иначе, как «мошеннический трюк». При этом Бальзак издевается над лозунгами либеральных республиканцев, высмеивая «фатальную троицу»: свободу, равенство, братство. «У нас есть свобода умирать с голоду, равенство в нищете, братство с Каином, вот каково Евангелие Ледрю-Роллена».
И однако, критикуя «царство банкиров» с правых позиций, писатель идет иной раз на явное сближение с крайне левыми. Так, Сиприо показывает, что в начале 30-х годов он находился под несомненным влиянием сен-симонистов, а накануне революции 1848 года пророчествовал о некоей «крестьянской диктатуре» с отменой частной собственности, наподобие коммуны Бабефа. В подобных зигзагах — весь Бальзак.
Да, бесспорно, он был «народным писателем», он любил и отражал в своем творчестве «народ» в широком смысле этого слова. Он подчеркивал, что бедность обездоленных не причина для их третирования, что «способные представители этого класса должны иметь возможность проявить себя». Но при этом Бальзак отличал от народа его низы, «чернь», всю эту бунтарскую неукротимую толпу, безликую разъяренную массу, которая грабит дома и поднимает мятежи. Он не приветствовал современных ему революций и боялся их, как фактора, дестабилизирующего общество. «Три славных дня» июля 1830 года он обозвал «лаем собак в темноте», а к февральской революции 1848 года оказался еще более непримиримым. Сразу же после событий в Париже он писал: «Необходимо проводить безжалостную политику, чтобы государство твердо стояло на ногах. Я, как и прежде, одобряю и тюремные застенки Австрии, и Сибирь, и прочие методы сильной власти…»
«Сильная власть»… Вот, собственно, и ключ к пониманию легитимизма Бальзака. Неприятие беспорядков и мятежей приводило к идеализации авторитарного режима, требованию «сильной руки».
В качестве «классических образцов» Бальзак рассматривал Екатерину Медичи, Робеспьера и Наполеона. Что касается последнего, дело ясное: бонапартизмом страдало все поколение Бальзака. Но вот в отношении Екатерины, эгерии Варфоломеевской ночи… И, в особенности, Робеспьера, этого «исчадия революции»… Впрочем, в Бальзаке ничто не должно удивлять. Вот какие слова вкладывает он в уста Робеспьера: «Политическая свобода, спокойствие нации и даже наука — это подарки судьбы, за которые она требует уплаты налога кровью»… Таков силлогизм революции. Не июльской, породившей ублюдка Луи-Филиппа. И не февральской, результатом которой стало появление жалкой пародии на императора. Нет, той другой, Великой революции, что выковала в своем горниле Робеспьера и Наполеона. Да и самого Бальзака как гениального художника, открывшего необъятную панораму эпохи.
Бальзак увидел, разглядел и отобразил свое время во всех его ипостасях.
«Бальзак знал, что жизнь полна жестокостей, что вмешательство человека в природу не доведет до добра, что общество разделено на выскочек и жертв, но, осуждая многое в человеческой деятельности, он показал, насколько велик человек в своих устремлениях. […] В этом смысле Бальзак, как он сам говорил, принадлежит партии революции, которая является партией Жизни».
Эти заключительные слова Сиприо лучше всего синтезируют поток фактов и мыслей, заключенных в его фундаментальной и такой незаурядной книге.
А. П. ЛЕВАНДОВСКИЙ
БЛЕСК И НИЩЕТА СТРАСТЕЙ
Человек, сошедший в эту могилу, принадлежит к тем редким людям, в последний путь которых провожает общая боль… Господин де Бальзак являлся частью того мощного поколения писателей XIX века, что пришло вслед за падением Наполеоновской империи, подобно тому, как взошло после правления Ришелье блистательное созвездие писателей XVII века, словно в развитии цивилизации существует некая закономерность, в силу которой за владеющими мечом следуют властители умов.
Господин де Бальзак был первым среди великих, лучшим среди лучших. Его романы суть не что иное, как одна огромная книга, живая, яркая, глубокая, в которой приходит и уходит, возвращается, движется и живет поразительная и пугающая, и в то же время небывало реалистичная современная нам действительность; волшебная книга, которую автор нарек «Комедией» и которую с полным правом мог назвать «Историей»…
Виктор Гюго
Роже Пьерро, кропотливо собравшему, расположившему в безупречном хронологическом порядке и прокомментировавшему с глубоким пониманием трех тысяч обнаруженных писем, что сделало личность Бальзака ближе и понятнее для нас, чем для самих современников писателя, — от признательного поклонника, воспользовавшегося следующими публикациями:
Бальзак. Переписка. В пяти томах. Издательство Гарнье.
Письма Бальзака мадам Ганской.
В двух томах. Издательство Робер Лаффон.
Жан А. Дюкурно. Календарь Бальзака // Этюды о Бальзаке 1952–1960. Год Бальзака 1960–1979. Издательство Гарнье.
П. С.
ЧТО СКОЛЬКО СТОИЛО
«Увы, приходится признать, что я — прорва», — писал Бальзак Еве Ганской.
Даже имея за плечами тридцать лет литературного труда, Бальзак не прекращал писать ради заработка. «Сколько заботы о деньгах!» — воскликнет по этому поводу Флобер в 1876 году.
После краха своей типографии в августе 1828 года, задолжав более 500 тысяч франков, Бальзак продолжал жить широко, с некоторым даже блеском в расчете, видимо, на «взаимные» или, как их называли, «бронзовые» векселя. Он договаривался с издателями и главными редакторами журналов насчет романов и новелл. Тем не менее рукопись, подлежащую сдаче в определенный срок, ему случалось задерживать, а иногда он мог даже отказаться от издания книги, оплаченной авансом.
Начиная с 1833 года, одновременно с работой над «Этюдами о нравственности XIX века», Бальзак завершил разработку системы продажи рукописей, которая позволяла ему объединять в некое целое произведения, издававшиеся ранее, с теми, которые еще только замышлялись. Он начал перепродавать различным издателям свои таким образом дополненные труды. Эти следующие друг за другом серии привели к подписанию крупного контракта с издателями Фурном, Этцелем, Поленом и Дюбоше, предполагавшим публикацию «Человеческой комедии», проект которой был подготовлен Бальзаком в январе 1840 года.
«Будучи продуктом своего времени, я с уважением отношусь к деньгам», — скажет Бальзак устами одного из своих персонажей. Романы с продолжением в ежедневных газетах приносили Эжену Сю и Александру Дюма до ста тысяч франков в год. Бальзак стремился получать столько же, но и в самые благоприятные годы его доход едва ли достигал такой цифры. Он жил как стесненный в средствах богач, то ли потому что тратил больше, чем зарабатывал, то ли потому что с 1846 года занялся обустройством и меблировкой дома на улице Фортюне, приобретенного за 50 тысяч франков, который с учетом произведенных работ обошелся в 500 тысяч.
Всю жизнь его неотступно преследовал финансовый вопрос. Во франках 1992 года легко представить цены 1820–1850 годов, умножив их на двадцать. Такой коэффициент предложил Франсис Амбриер в своей книге «Мадмуазель Марс и Мари Дорваль в театре и в жизни».
Нельзя не учитывать также неравенство доходов: богатые были зачастую богаче, чем в наши дни, а бедные — по-настоящему нищими.
Так, у очень богатых людей годовой доход составлял от 150 до 300 тысяч франков. Приданое девушки из обеспеченной буржуазной семьи обходилось в 150–300 тысяч франков. В провинции семье вполне хватало годового дохода в 12 тысяч франков. Служащие зарабатывали от одной до трех тысяч франков в год. Жизнеобеспечение крестьян и рабочих поддерживала сумма в 300 франков в год. Бюджет их семей был прост: на жилье и топливо шло 100 франков, на хлеб, основной продукт питания — 15, на соль, масло и овощи — 50 франков.
В 1832 году в Париже 40 процентов населения жили ниже уровня бедности; это были неимущие.
В 1844 году Бальзак, живший в Париже с мадам де Брюньоль и служанкой, тратил 6 тысяч франков в год. В 1846 году эта цифра достигла 12 тысяч франков, при этом он содержал уже четырех слуг.
Путешествия стоили дорого. В мае 1835 года Бальзак запросил у своего издателя Верде тысячу франков на переезд из Вены в Париж. В 1847 году, когда Ева Ганская собралась на несколько недель в Париж, Бальзак посоветовал ей рассчитывать на расходы в сумме 7 тысяч франков «без особых излишеств».
Жилье стоило дорого. «Плата составит всего 5 тысяч франков в год», — писал Бальзак в 1844 году. На квартиру из трех комнат в Сен-Жермен-де-Пре в доходном доме уходило 1800 франков в год. В Пасси, на улице Басс (теперь улица Рейнуар) Бальзак снимал дом за 650 франков. Частный же дом обходился в 14–15 тысяч франков.
Купить дом стоило дорого. Цены зависели от квартала и от занимаемой площади. В теперешнем VII округе квадратный метр стоил в то время 100 франков. И если Бальзак купил за 50 тысяч франков ветхий дом на улице Фортюне, в Пасси частный дом стоил 120 тысяч франков.
В провинции деревенский дом, такой как Гренадьер, который Бальзак снимал в 1830 году, стоил 2 тысячи франков в год.
Очень высока была арендная плата за лавки, некоторые, где торговали предметами роскоши, можно было снять за 30 тысяч франков.
Товары широкого потребления, изготовленные в небольшом количестве вручную, стоили очень дорого:
— настенные часы — 120 франков;
— наручные часы — 110 франков;
— фонарь — 58 франков;
— подсвечник ручной работы — 8 франков.
В 1833 году Бальзак заплатил 4 тысячи франков за серебряные с эмалью столовые приборы и 1500 франков за столовое белье. Его знаменитая трость с бирюзой в набалдашнике обошлась в 730 франков.
Держать экипаж для выездов было весьма накладно. В 1831 году Бальзак по случаю приобрел лошадь, кабриолет, упряжь за 4 тысячи франков. Ливрейный лакей, ухаживавший за лошадью и коляской, стоил 40 франков в месяц, за ливрею Бальзак заплатил 225 франков.
Бальзак одевался у Бюиссона, самого элегантного портного в Париже. В 1831 году он потратил на него 630 франков, в 1833-м — 2 тысячи франков, из них 150 — на домашний халат. В то же время такие необходимые вещи, как полотенца, платки и носки для племянника, отправленного в пансион, стоили 68 франков.
В 1828 году Бальзак после банкротства своей типографии занял у родителей 45 тысяч франков, которые спасли его от долговой тюрьмы. Через 18 лет, в 1846 году он вернул матери 12 тысяч франков, в 1847-м собирался отдать еще 8 тысяч, но потом решил выплачивать по 100 франков ежемесячно, «чтобы она жила в покое и некотором довольстве»; эти деньги он и высылал «от всего сердца». После смерти Бальзака его вдова, мадам Оноре де Бальзак, продолжала платить указанную сумму своей свекрови.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Отец Бальзака был крестьянином, в 1776-м, к тридцати годам, ставший чиновником на королевской службе. Бернар-Франсуа Бальзак считал, видимо, что это произошло в результате тихой революции, совершенной его собственными руками. Его принимали в свете. В 1789 году великосветское общество кануло в Лету. Вчерашний выскочка и не думал тосковать по прошлому. Нет! Он решил делать карьеру на том, что было ему близко с крестьянского детства: на пропитании. Так же, как Грегуар Ригу, Мален де Гондервилль Феликс Гранде или отец Горио, Бернар-Франсуа Бальзак сколотил состояние, так сказать, «содействуя Революции».
Если я в этой биографии писателя отвел столь большое место Бернару-Франсуа Бальзаку, посвятив ему столько страниц в начале книги, то лишь потому, что он был человеком дальновидным и в высшей степени полезным. Это был сын французского крестьянина, бедного, но не нищего, который в эпоху Революции и Реставрации сумел стать «кормильцем» нации. В нем сконцентрировалось все истинное, вечное, нерушимое. Кроме того, мир семьи Бальзаков — это прежде всего карьера, преуспеяние. Бальзак-писатель был полной противоположностью лирическим авторам, эфемерным поэтам. В своем творчестве он показал целую эпоху, переживаемую человечеством, у которого было прошлое и которого, несомненно, ожидает великое будущее. Бернар-Франсуа — первый и основной персонаж романов Бальзака. Выгодная женитьба в пятьдесят один год (1797) на дочери парижских коммерсантов Саламбье стала блестящим завершением его карьеры. Его брак способствовал укреплению связей с королевскими чиновниками, начало которым Бернар-Франсуа заложил в 1776 году; позже, во времена Революции, а потом Реставрации, эти чиновники станут поставщиками продовольствия армии. Подобные настроения и действия были понятны Оноре де Бальзаку. Отношение отца к людям станет для него примером, так как и он в свою очередь мечтает разбогатеть.
Бернар-Франсуа ушел в отставку в 1819 году и до самой смерти (он умер восьмидесяти трех лет в 1829-м) покоил свою старость, смакуя чистый воздух и питаясь соками растений. Он лелеял мечту дожить до ста лет, чтобы получить «тонтину», странную пожизненную ренту, полагавшуюся старейшему из живущих.
Что лучше, умереть от того, что жил в полную силу, или не умирать, не живя? В конце жизни Бернар-Франсуа задал сыну этот вопрос, предопределивший замысел «Шагреневой кожи» (1831).
Бальзак рискнул умереть молодым, будучи большим любителем пожить. Темперамент заставлял его много работать, чтобы питать воистину ненасытное воображение, которое всегда оставалось неизменным, воображением одинокого заброшенного ребенка.
После своего первого романа «Стени», где речь шла о них с сестрой, Бальзак стал профессиональным писателем. Он четко понял, что читателей всегда будут увлекать сюжеты с кровожадными разбойниками, потерявшимися детьми и похищениями прекрасных дев.
Очень скоро история в духе Вальтера Скотта предстала перед ним как волшебный источник приключений, а естественная история Бюффона — живым изображением диких хищников и безобидных существ, помогающих определять характеры человеческих персонажей, наглядно представить их страсти и переживания. Сказать о человеке «настоящий тигр» или «трусливый шакал» — значит воочию увидеть его.
С 1822 по 1825 год Бальзак писал под разными псевдонимами, позже под именем Орас де Сент-Обен выпускал книжки на потребу невзыскательной публики. Он понял, что сойдет любой сюжет, даже и без намека на достоверность, если действие непрерывно развивается, одно несчастье влечет за собой другое, а умело закрученная интрига, как всякое воображаемое действие, волнует, потрясает и убеждает.
Даже в серьезных произведениях Бальзак продолжал выдумывать совершенно безвыходные ситуации, из которых герои выбирались лишь благодаря пылкой фантазии писателя.
Каким образом молодой Бальзак, стремясь увлечь читателя, умудрявшийся всюду видеть разбойников, монстров, оживших мертвецов и полубезумцев, сумел в «Шагреневой коже» передать истину или, по крайней мере, ту правду, которая соответствовала его чувствам?
Ролан Шолле и Рене Гиз в «Философских эссе» показали, как Бальзак, наряду со своим творчеством романиста, приобщался к философской логике таких мыслителей, как Мальбранш, Декарт, Спиноза, Гольбах.
Его творчество интересно как своими контрастами, так и с точки зрения эмоционального воздействия. Его должно рассматривать как особую целостную систему. Тибодо сопоставляет «Человеческую комедию» с сотворением мира Богом-Отцом. Сам Бальзак не сомневался, что создает мир, где есть место всему, «монолит, в котором сосуществуют» добро и зло, порок и добродетель, а также социальные условия и все слои населения: дворяне, буржуа, пролетарии и крестьяне; все они вдыхают подлинную жизнь в «Человеческую комедию». Они движутся, переходя из одной группы в другую, из одного класса в другой, не нарушая при этом структуры общества, состоящего из рабочих, служащих, банкиров, ростовщиков и торговцев… В развитии общества романист отмечает факты порой анекдотические, принципы, обычно соблюдаемые людьми честными и преданными, но не облеченными властью: судьями, нотариусами, врачами, священнослужителями; существуют и принципы, выступающие в роли законов, на которых зиждется общество и которые позволяют сильным пожирать слабых, но до определенного предела; и если теоретически некий лавочник может стать пэром Франции, это отнюдь не означает, что на деле каждый может им стать…
В мире, созданном Бальзаком, интересны все без исключения, даже преступники, без которых у людей отсутствовало бы и чувство собственности, и чувство справедливости, так как им не нужно было бы опасаться убийц и воров. Вор сам по себе явление восхитительное — и своим цепким взглядом, и хладнокровием, и ловкостью рук. Вотрен, например, — славный малый, дающий полезные советы молодым людям, готовым на все, чтобы преуспеть. Гобсек, этот образцовый скупец и в то же время тонкий психолог, манипулирующий судьбами так же легко, как своими несметными богатствами.
Современная Бальзаку критика обвиняла его в аморальности даже в таких великих его романах, как «Отец Горио» или «Старая дева». Но вседозволенность в романах Бальзака всегда наказуема. Право, законы, суды, институт полиции и даже привидение в «Урсуле Мируе» стоят на страже моральных устоев с большим рвением, чем следят за общественным порядком, так как необходимо, чтобы Авели были отомщены.
Бальзак никогда не остается равнодушным, поэтому его произведения всегда захватывающи. Но добро, которое остается «тайной основой, на которой покоится все», являет себя миру, и весьма красноречиво, тогда как порок гнездится в семьях, скрывается в бумагах нотариуса или стоит у изголовья умирающего.
Бальзак, конечно, не Бог, но к обществу он относился как если бы на него была возложена миссия сохранять его в неприкосновенности и в то же время воспитывать и улучшать. Он видит мир в свете историческом и конкретном, но также и в неконкретно-духовном. Описывая людские пороки, Бальзак стремится исправить общество, без которого человек не может существовать. Взглядам Руссо, который считал человека существом самодостаточным и под влиянием общества лишь деградирующим, Бальзак противопоставляет социум, стимулирующий созидательное начало в человеке. Он оплакивает всех одиноких людей и особенно брошенных женщин с их неудовлетворенной потребностью любить. Писатель мечтал о таком устройстве мира, при котором десять тысяч честных, умных и бескорыстных людей могли бы создать царство истинной справедливости и гармонии.
Бальзак незримо присутствует во всех своих произведениях. На каждой странице, в каждом персонаже распознаются его энергия, его желания, его пламенная страсть, прослеживаются его излюбленные идеи. Бальзака захватывают политика, биржа, а также воспоминания детства, его волнуют женщины, идиллия любви, деревня; увлекает журналистика, празднества, «внешняя благопристойность», коллекционирование.
Попав в водоворот парижской и международной жизни, но не всегда находясь в центре внимания, писатель часто находил женщин поверхностными, а ум мужчин бесплодным. В периоды растерянности ему случалось строить планы возвращения к земле. В 1847 году он предлагал Еве Ганской поселиться в замке в Турени, ни с кем не видеться, питаться овощами со своего огорода, а садовнику предоставить возможность приторговывать вином, чтобы ему было на что жить. Ева Ганская сделала вид, что такого предложения не получала.
Продолжить вслед за отцом восхождение по социальной лестнице, излечить общество посредством «Человеческой комедии» от его недугов или в случае неудачи вновь взять родовое имя деда-землепашца в Нугерье (Тарн), — вот одна из дилемм, мучивших Бальзака.
Перед ним стояла и другая проблема — одиночество творца, на которое обречен человек, по природе своей привязчивый и общительный. Уже в 1818 году, в девятнадцать лет, Бальзаку пришлось отдалиться от семьи, ибо поиски истины требуют от литератора и особенно от философа смелости выбрать собственный путь в жизни, не уподобляясь большинству молодых людей, избравших карьеру нотариуса или прокурора.
С самого начала Бальзак становится создателем фундаментальных произведений, охватывающих весь накопленный человечеством опыт. В противоположность Вальтеру Скотту, романисту-историку, Бальзак — историк-романист. Его интересует подоплека истории: инстинкты, страсти, эмоции, движущие миром, который писатель воспринимает как единое целое. Человечество — это огромное живое существо, непрерывно меняющееся и одолеваемое всякого рода конфликтами: бедные восстают против богатых, богачи в один прекрасный день становятся нищими: самые знатные могут впасть в полное ничтожество в погоне за удовольствиями, на которые испокон веков столь падки люди.
Бальзаковский роман — это комедия, оборачивающаяся трагедией. Нужно жить в полную силу, потворствовать своим желаниям, следовать своим пристрастиям, суметь выразить себя, но не забывать ни на минуту, что «острое лезвие истачивает ножны». Что бы мы ни делали, время разрушает нас, и к концу жизни мы приходим к полной отрешенности, которая есть не что иное, как переходная ступень к неотвратимому.
Любой жизненный путь свершается так же неизбежно, как расцветают и вянут цветы, как вьют гнезда и поют птицы. Невозможно ни прожить в одиночестве, которое защитило бы нас от других, ни ограничиться общественной жизнью, которая позволила бы нам забыть о человеческой нежности и привязанностях. И именно «Человеческая комедия» — произведение эпическое — повествует о бесконечной борьбе, порождаемой плодотворной энергией жизни и любви.
Живописец фундаментальных полотен, Бальзак не чужд и жанровой живописи. Подобно клиницисту, он изучает каждый человеческий характер и среду, его сформировавшую.
Бальзак — писатель-репортер, и романы его зачастую построены в форме репортажей.
На страницах его книг оживают все встреченные им когда-либо люди: журналист, издатель, химик, работающий над исследованием атома, банкир, «прожигатель жизни», врач-филантроп, считающий политику либо религией, либо полной ерундой. Склады ростовщика, погреб скупца, затеявшего выгодную банковскую операцию, смертная агония коллекционера — ничто не составляет тайны ни для него, ни для его читателя.
Гуго фон Гофмансталь мечтал об энциклопедии по произведениям Бальзака: «В этом труде было бы представлено все, от кулинарных рецептов и химических формул до банковских операций и биржевого курса… В нем можно было бы почерпнуть смелые предположения, намного опережающие грядущие открытия в сфере естествознания». Такая энциклопедия начала вырисовываться передо мной по мере того, как я изучал творения Бальзака, задуманные им как исчерпывающий исследовательский труд. Он рассказал обо всем: об исканиях молодого человека и одиночестве старости, об оставленных родителях и о влюбленной, но хранящий верность мужу женщине, о загнанном в угол коммерсанте и заговорщике, о мошеннике, изобретателе, о роскошно живущей женщине и о женщине, нуждающейся в любви и брошенной на произвол судьбы. Он не покидает своих героев и тогда, когда они остаются один на один с самими собой. Чем меньше эти люди понимают, что с ними происходит, тем больше Бальзак сочувствует им. Он не утешает советами, которые стоят не больше слов, он помещает их в безвыходные ситуации, из которых сам когда-то сумел выбраться. Клаэс, Саварус или Рюбампре — суть шаржи на самого Бальзака, то, чем он мог бы стать и от чего нашел силы избавиться.
Все, что он говорит, всегда поражает воображение, потому что Бальзак в совершенстве владеет магией неожиданной развязки и его романы подобны волнующему сну. Читая их, одинокий обретает врагов или добрых друзей, слабак и ленивец переживает немыслимые приключения, карьерист четко видит свой путь к успеху, а добродетельный вновь открывает для себя всю притягательность жизни.
В политике Бальзак — неугомонный памфлетист. Его убеждения зачастую полярно менялись, что случалось на протяжении работы над одной статьей или романом. Позиция сторонника абсолютизма служила ему убежищем от неких якобы грядущих «страшных времен», она охраняла не только его покой в потаенной сфере творчества, но и собственность, прежде всего — литературную, единственно достойную форму собственности.
Идея собственности занимала немаловажное место в семье Бальзаков, крестьян и торговцев, кровно связанных со своей землей и своими амбарами.
Бальзак не был демократом. Он не поддерживал Ламартина, Гюго, Токвиля, не веря в возможность плавного перехода от прежних идей к новым, в действенность полумер, таких, как хартии, выборная власть, демократизация избирательной системы и всеобщее образование.
Бальзак не верил, что человечество способно обрести некое равновесие и покой, поставив во главу угла общественное мнение, перераспределив министерские портфели и предавшись осмотрительному, велеречивому и двусмысленному администрированию. Будучи человеком циничным, он интересовался пролетариатом лишь потому, что его вообще интересовала тяга простого люда к зрелищам и порокам, которые неизбежно совращали его.
В частной жизни Бальзак представляется мне героем пьес Корнеля. К карьере он относился с азартом, как к охоте или рыцарским приключениям. В любви был честолюбив. Он становился верным сыном королевской Франции, жарко обнимая мадемуазель Берни, которая ребенком жила в Трианоне, при дворе Марии Антуанетты. Герцогиня д’Абрантес всю жизнь подтрунивала над Наполеоном, с которым была знакома с юных лет. Это она ввела Бальзака в высшее общество. Маркиза де Кастри, хромая и фригидная, отлучила Бальзака от партии легитимистов, которой он и не особенно сочувствовал. Роман с Евой Ганской явился своего рода «реваншем» Бальзака за все разочарования, постигшие его во Франции. Он восхищался этой женщиной, внучатой племянницей Марии Лещинской, свояченицей первого адъютанта Его Величества Императора Всея Руси, племянницей графини, фрейлины Ее Величества Императрицы, преклонялся перед любовью Евы к Украине, поселянам, святой Руси, мужикам, все больше пленяясь ею: она для него стала той вершиной, с высоты которой так явно обозначилась ограниченность французских женщин.
И если в жизни Бальзака, такой, какой мы ее знаем, остаются пробелы, которые нельзя восполнить, даже собрав все сплетни высшего света 1830–1850 годов, то, читая произведения Бальзака, мы получаем полное представление о работе этого «великого ума», его переживаниях и заблуждениях. Свою внутреннюю жизнь он отобразил с исчерпывающей полнотой в своем творчестве в образах различных персонажей. С большим мастерством тасовал он обстоятельства, возраст, пол и условия жизни героев, зачастую не изменяя сюжета. Основным содержанием его книг стал мир жадных завоевателей и их жертв. Он всегда ставил на оба эти стана.
Жан Дюкурно и Роже Пьеро в «Этюдах о Бальзаке» (1951–1960), а также в эссе «Год Бальзака» составили на материале проверенных знаменательных дат календарь, которому я следовал в своей книге. Мне очень пригодились пятитомная «Переписка», опубликованная Роже Пьеро в издательстве «Гарнье», и «Письма мадам Ганской», вышедшие в «Букене» в 1991 году.
Можно утверждать, что творчество Бальзака не подвластно времени. Когда-то в юности я покупал его книги на уличных лотках. С тех пор они стали выходить большими тиражами, когда Люк Этан и Пьер Ситрон издали их в «Интеграле» («Ле Сей», 1965), и когда с 1970 по 1974 год я выпустил серию «Ливр де пош» («Ашетт»). Познания о писателе расширялись с изданием серии «Классики» («Гарнье»). К 1992 году практически не осталось неизданных произведений Бальзака. Они появлялись в восхитительных изданиях, которые многое для меня прояснили. Например, издание Мориса Бардеша в «Клубе благовоспитанных людей», вышедшее под редакцией Жана Дюкурно, которому мы обязаны факсимильным изданием Фурна, переплетенным и исправленным самим Бальзаком («Любители оригиналов»). И наконец, нельзя не упомянуть то, что Мальро называл «изысканной библиотекой»: двенадцать томов «Плеяды», опубликованных Пьером-Жоржем Кастексом и его сотрудниками, предпринявшими комментированное издание «Человеческой комедии» и других произведений и в корне изменившими наше отношение к жизни и творчеству Бальзака.
Предлагаемая вниманию читателей книга учитывает все, что было наиболее ценного в бальзаковедении за те почти три десятка лет, что прошли со времени выхода в свет классических трудов Андре Моруа («Прометей, или Жизнь Бальзака», 1965) и Фелисьена Марсо («Персонажи „Человеческой комедии“», 1977).
ПО ЛИНИИ ОТЦА
Бернар-Франсуа Бальзак, отец Оноре, родился 22 июля 1746 года на ферме Нугерье, близ Канезака (департамент Тарн). Он был сыном Бернара Бальса (1684–1754), земледельца, и Жанны Нувиаль.
Из страха быть принятым неизвестно за кого (точнее, за Бальса — эту фамилию в Тарне носили многие) Бернар-Франсуа стал именовать себя «Бальзак».
Имя Бальзак воскрешает в памяти одну любовную историю. Мари Туше, фаворитка Карла IX, вышла замуж за Бальзака д’Антрег и родила дочь, на которой собирался жениться Генрих IV. Сюлли, отличный финансист, выступил против этого брака, предпочтя видеть женой своего короля Марию Медичи. При Людовике XV один из Бальзаков д’Антрег стал королевским сокольничим, он умер, не оставив наследника. Его дочь вышла замуж за графа Сен-При, ставшего в 1763 году послом Франции. В 1789-м Сен-При, уже министру иностранных дел, выпала честь, которая, однако, могла стоить и жизни, подать руку королеве Марии Антуанетте в роковой день 6 октября 1789 года. В этот день королева покинула Версаль под улюлюканье кухарок, явившихся за «булочником, булочницей и их подмастерьем».
Кому известна история Бальзаков д’Антрег? Почти никому. Во всяком случае, Оноре Бальзак в 1836 году в предисловии к «Лилии в долине» преподнес свою версию. Он гордился тем, что родился Бальзаком, что его настоящее, «родовое» имя, «его преимущество» перед многими аристократическими семьями, которые прежде чем стать Шатийонами, носили имя Оде; или Рике — прежде чем получить имя Караман и Дюплесси — прежде чем стать Ришелье.
Бернар-Франсуа считал себя галлом, как, впрочем, Лафайет, тоже урожденный овернец. Порабощенные Цезарем галлы остались на своих землях. Овернь стала тем незамутненным озером, которое тщетно осаждали римляне, поверхность которого баламутили франки и над которым гунны, бургунды и вестготы пищали, как комары.
Галльским племенам, в отличие от франков, не было известно, что такое чистопородные аристократические фамилии. Они были не чистокровными скакунами, но рабочими лошадками. У галлов были плоские ступни, приплюснутые носы, они были приверженцами крестьянской жизни, традиции которой, вплоть до кулинарных рецептов, бережно хранили. Они любили натертый чесноком хлеб, мясо с острыми приправами, солонину. От лука, лука-порея, артишоков их тошнило. И никогда ни один галл не поддавался искушению попробовать «те вонючие порошки, что вывезены из Америки: кофе, чай, шоколад».
Сам Бальзак злоупотреблял кофе только пока писал роман. Правда, иногда он писал их четыре сразу.
В своем «Трактате о современных возбуждающих средствах» Бальзак советует опасаться неумеренного потребления кофе, которое ведет к подагре. Он не переносит запаха табака и боится его действия. Тот, кто закуривает сигару или сигарету, изнуряет себя: «Существует несомненная связь между неудачами любви (бессилием) и употреблением табака».
Начиная со времен галлов, те, кто носит фамилию Бальзак, толкуют историю следующим образом: крестьянские восстания суть борьба классов. Жакерии вспыхивают время от времени с незапамятных времен. Последняя, ее прозвали «великий страх», породила 1789 год — разрушение замков, уничтожение привилегий сеньоров — она стала реваншем галлов, отвоевывавших свои земли.
Когда Бальзак напечатал в издательстве «Пресс» в 1844 году роман «Крестьяне», он был владельцем поместья «Жарди» в Севре. В сатирической газете «Шаривари» изобразили галльского военачальника Рупиярдовира, захватившего дом Бальзака. Чтобы попасть домой, писателю приходится сражаться. Атака очень опасна, ведь в распоряжении Рупиярдовира пушки с несметным количеством снарядов — тома полного собрания сочинений Бальзака.
Отец Бальзака, Бернар-Франсуа, использовал свою должность служащего в управлении земельной собственностью Короны, чтобы проводить изыскания в «Кабинете хартий». В созданном в 1762 году «Кабинете» хранились контракты на земельную собственность королевства начиная с 1762 года. «Кабинет» до сих пор существует — в Национальной библиотеке под именем «Моро», его основателя, адвоката по финансовым делам и историографа Франции. Бернару-Франсуа, пересмотревшему 21 758 документов, повезло. Он нашел упоминание о пожаловании семьей Бальзаков на постройку монастыря близ городка Бальзак, основанного в V веке. Бернар-Франсуа не растерялся, он подписал акт о пожаловании в парижском парламенте.
Так, благодаря отцу, Бальзак получил столь древнее дворянство, что он даже стеснялся подписывать романы своим именем. До 1830 года он подписывал их Вьейргле, лорд Р’Хун (Viellergle lord R’Hoon — анаграмма на Оноре), или Орас де Сент-Обен: ведь быть писателем означало уронить дворянское достоинство имени, выбранного его отцом.
МЫ, КОТОРЫЕ КРЕСТЬЯНЕ…
Бальса — семья земледельцев в Альбижуа и Руерге — принадлежала к общине Монтира со времен Генриха IV.
В 1745 году Бернар Бальса, оставшийся вдовцом после смерти Мари Бланке, обвенчался в церкви Сен-Мартен де Канезак с Жанной Гранье.
Бернар-Франсуа — их старший сын, всего детей у них было одиннадцать. Иметь много детей означало иметь надежду на лучшее будущее. Когда-нибудь они вырастут, начнут помогать отцу, и тогда Бальса увеличат свое поле, ибо смогут обрабатывать в 8–10 раз больше земли. Будучи старшим в семье, Бернар-Франсуа служил примером для братьев и сестер.
Департамент Тарн — отнюдь не райские кущи. Здесь полно невозделанной земли, леса, камней, а плодоносный слой тонок. Летом его добела выжигает солнце, зимой сдувает ветрами. Тем не менее Бальса были привязаны к земле, на которой жили и которую обрабатывали. Бальзак опишет это в романе «Крестьяне»: хотя земледельцы и «уступают друг другу клочки земли, они ни за какую цену и ни при каких условиях не выпустят ее из рук ради буржуа».
Так же относились Бальса и к своему дому: «ими владел животный инстинкт оберегать свое жилище, как птицы оберегают свое гнездо, а звери — нору».
Тем более что речь шла не о какой-нибудь хижине, а о настоящей добротной ферме. Ферма состояла из трех солидных строений: жилого дома и пристроенных к нему хлева и крытого гумна.
Но в доме, полном детей, где бесконечно слышался собачий лай и кудахтали куры, условия жизни трудно назвать комфортабельными. Кто-то из многочисленного потомства умер, другим грозила участь стать теми рахитичными отпрысками крестьян, чьи «кошачьи глаза» и «всклокоченные волосы» описывал Бальзак. Одеты они были в лохмотья: рваные штаны, едва доходившие до колен, такая же рваная рубаха, и все это держалось на веревках, выполнявших роль подтяжек. Наряд сельской девушки описан Бальзаком в романе «Возмутительница», когда Флора Бразье впервые появляется на сцене: неописуемая юбка, короткая и вся в дырах, которая «держится на булавке и напоминает тряпье».
Интересно было бы понаблюдать, как умудрялись дети без лишнего шума улечься на нары, расположенные одни над другими, как полки в шкафу.
С наступлением холодов семья перебиралась в хлев. Люди устраивались в ящиках из сосновых досок, застеленных соломой, вокруг которых укладывались овцы и ослы. Ложились спать с курами, вставали поздно, только затем, чтобы накормить скотину или трепать коноплю.
Когда погода совсем портилась, из хлева не выходили целыми днями. Родители пересказывали детям библейские сюжеты, местные легенды. Иногда играли в «загадки».
Весной и летом дети резвились на воздухе или лазали по деревьям, собирая фрукты; мужчины ловили рыбу и охотились, соблюдая предосторожности, чтобы их не схватили за браконьерство, или собирали урожай. Когда Оноре Бальзак, измотанный работой, ездил проветриться в деревню, в крестьянах, увиденных там, он не нашел ни малейшего сходства с дедом и отцом, какими помнил их ребенком. Вместо них он обнаружил «краснокожих индейцев Фенимора Купера. Незачем ездить в Америку, чтобы посмотреть на дикарей», — писал он позже.
Ребенком Бернар-Франсуа ни на шаг не отходил от матери. Потом заметил, что солнце всходит и заходит, что времена года сменяют друг друга, а вокруг столько интересного: множество разных вещей, которые необходимо понюхать, послушать, рассмотреть.
Как и все крестьянские дети, когда вырастет, он станет пастухом; это была самая приятная, «непыльная» работенка. Стадо переходило с места на место. Оно никому не мешало на не разгороженной еще на частные усадьбы земле. Если детям хотелось спать, они ложились и спали, под бдительной охраной собак волков можно было не бояться. В те времена убийцей считали мужчину, который ходил на охоту, или ребенка, разорявшего птичьи гнезда либо для игры, либо ради пасхального стола, либо чтобы слопать их сырыми на месте.
ЗАДАЧИ ШКОЛЬНИКА
Вольтер осуждал методы преподавания в сельских школах. Он считал, что совершенно незачем воспитывать будущих капралов вместо того, чтобы готовить рабочую силу, необходимую для обработки земли. Тем не менее Бернар-Франсуа пошел в школу. Руссо считал, что детей должны учить французскому языку, однако начальные знания сельские школьники получали на латыни. Латынь в Канезаке преподавал аббат Виалар. Чтобы лучше запомнить алфавит, школьники смотрели картинки: собака — это «С», «Д» — это дерево… Потом они учились нацарапывать латинские тексты. Латынь — язык Церкви, кроме того, это и праязык, зная его, можно постичь скрытый смысл слов.
Когда доходило дело до французского, оказывалось, что это совсем не тот язык, на котором говорят. Глаголы было принято писать в устаревшей форме, хотя произносились они так же, как и сегодня.
Лучших учеников поощряли. Им дозволялось подойти к столу учителя и лизнуть сахарную голову; по воскресеньям в церкви именно они дирижировали хором, читавшим молитву и исполнявшим церковные песнопения, мотеты. Причастившись, они получали право на «дополнительное причастие»: толстый круглый ломоть подсоленного белого хлеба.
Бернару-Франсуа везло: ему даже поручали звонить в церковный колокол. Позже, в 1793 году, обращенный в совсем другую веру, в письмах к брату он издевался над «болтавшимися колоколами», которые теперь переплавляли на пушки. Он писал, что «колокола бьют по мозгам живых, ничего не делая для мертвых». А тогда, подростком, он изо всех сил тянул за веревку, стараясь добиться того, чтобы голос у колокола звучал чисто и в то же время настойчиво. По окончании мессы Бернар-Франсуа четкими военными ударами созывал жителей деревни собираться вокруг синдиков, составлявших в ту пору муниципальный совет. В него входили сборщик податей, обязанностью которого являлось распределять налоги, пограничная охрана округа, уличные проповедники. Когда местные крестьяне обращались в муниципалитет за разрешением каких-либо спорных вопросов, бальи или его представитель старались все уладить; бальи исполнял функции нотариуса, а также мирового судьи. Крестьянский сход вершил почти все дела, шла ли речь о пользовании лесом, общинными землями или о распределении орудий труда. Часто не хватало лошадей. Поэтому, чтобы заплатить земельную ренту, крестьянам на время полевых работ приходилось объединяться.
Многие семьи, кому принадлежало лишь по клочку земли и у кого не было инвентаря и тяглового скота, присоединялись к таким же неимущим беднякам. Вольтер писал: «Пятеро-шестеро нищих вместе представляли одно вполне терпимое хозяйство. С каждого по нитке — голому рубашка».
Для таких объединившихся семей Канезак, впрочем, как и другие французские деревни, воплощал собой демократию.
Бернар-Франсуа понял, что общество существует благодаря взаимовыгодным обменам, иначе говоря, сложной игре интересов. Нотариусы, оформляющие все совершаемые действия юридически, всегда будут процветать в обществе, законы которого ужесточаются по мере того, как растет продолжительность жизни, а следовательно, и численность населения. Король принял решение взимать налоги со всех, в том числе и на недвижимость. Вопрос в том, кому принадлежит земля? Тому, кто годами, а порой и веками формально владеет ею? Или тому, кто ее обрабатывает? Этот вопрос лежал в основе множества тяжб.
Бернар-Франсуа станет нотариусом.
Он старался не вспоминать о своем детстве. Оно прошло в многодетной семье и было неслыханно тяжелым. Случались дни, когда члены семьи смертельно ненавидели друг друга. Бернар-Франсуа долгое время оставался холостяком, и характер его сформировала среда. Она наделила его гибкостью; в отношении ближнего он научился проявлять понимание и снисходительность, которые заслуженно снискали ему дружбу самых разных людей, зачастую не имевших с ним ничего общего, будь то коммерсанты, банкиры или министры. И когда наконец Бернар-Франсуа решился завести детей (Оноре родился в 1799 году, Лора — в 1800-м) он воспитывал их так же, как растили его самого, в деревне, в тяжелых условиях, в тесноте и духоте. Воспитание должно быть традиционным, следовать вековому опыту, к тому же можно быть уверенным, что именно в деревне галльские традиции сохранялись в девственной чистоте, и их чтили, как прежде.
В прежние времена молодые люди не покидали Канезака. Среди своих жить было дешевле, а бродить по дорогам — накладно: «нужно иметь столько монет, сколько встречаешь на пути деревень».
Родители Бернара-Франсуа не препятствовали ему уехать. Пусть едет, может у него, в отличие от них, будет все, и, разодетый по последней моде, он станет разъезжать в карете. И он пополнит ряды выскочек, которые пришли на смену зарвавшейся знати. Сколотив состояние, он вернется повидать близких.
Бернар-Франсуа отлично сознавал, что никогда не вернется. Зачем навещать родителей, погрязших в нищете и совершенно опустившихся? Один из братьев Бернара-Франсуа, Луи Бальса по прозвищу «Князь», 16 августа 1817 года будет обезглавлен. Его обвинят в убийстве девушки с фермы. Следствию не удалось пролить свет на это преступление. Обвиняемый, явно невиновный, не смог оправдаться. Бернар-Франсуа сделал вид, что не знает этого Бальса.
В «Сельском священнике», опубликованном в 1838 году, Бальзак покажет, как смертный приговор, вынесенный невиновному, может обеспечить процветание одного из беднейших регионов Франции. Если успешно использовать ад, рай пребудет с нами.
МЕСТО ПИСЦА
«Кем станут наши дети?» Вопрос, которым задаются родители в любую эпоху.
В конце XVIII века во время Революции Бернар-Франсуа покинет Канезак, чтобы отправиться служить в армии, мечтая когда-нибудь стать генералом или маршалом. В 1759 году он пополнил ряды армии бюрократов на службе у короля, который решил одним ударом положить конец власти парламента, заменив его кабинетом министров. Людовик XV сделал свой выбор между монархией и властью аристократов. Основное значение его реформы — перераспределение налогов: государство было разорено, необходимо было заставить всех платить пропорциональные доходам налоги. Реформа положила конец избранничеству привилегированных.
Торговцы и ремесленные корпорации платили высокие пошлины, и это было не по карману сыну крестьянина. Только в аппарате управления крестьянин мог превратиться в писца, затем — в чиновника. Такова была схема продвижения по служебной лестнице.
Бернар-Франсуа пустился в дорогу однажды утром 1759 года. Он надел овечий тулуп, взял с собой две пары полушерстяных штанов. На ногах его были толстые коричневые чулки, на теле — полотняная рубаха, которую он стирал в придорожных ручьях. Поверх рубахи на нем был шерстяной жилет. На поясе — охотничий нож, пригодный для того, чтобы резать овощи и фрукты, разделывать мелкую дичь, которую можно поджарить на костре, а также чтобы доставать из раковины улиток; их он съедал сырыми.
В 1760–1770 годы молодые крестьяне часто покидали свои семьи.
Еще один бродяга, Жан-Батист Каррье, оставил родную деревню Лало близ Орийяка. В 1789 году Каррье, ставший прокурором Орийяка, был избран в Генеральные штаты. В году II Республика направила его следить за соблюдением порядка в Нант, которому грозило выступление шуанов. По его приказу в Луару бросали связанных вместе супругов, к ногам которых привязывали большие камни. В историю эти казни вошли под названием «свадьбы Каррье».
В те же годы Франсуа-Ноэль Бабеф, в прошлом также деревенский житель, искал место писца у какого-нибудь нотариуса. Он станет специалистом по вопросам феодального права. В восемнадцать лет он откроет бюро, где станет консультировать крестьян, которым не под силу было платить десятину, денежный эквивалент барщины, налог на недвижимость. Его бюро было всегда полно посетителей. В 1789 году он издал «Постоянный кадастр», в котором призывал создавать «индустриальные хозяйства», то есть коллективные фермы, оснащенные необходимым инвентарем, на пустующих, конфискованных революционным правительством землях. Бабеф называл себя Гракхом в память о римских народных трибунах. 16 апреля 1796 года он взошел на эшафот за «призывы разграбить и поделить частные владения под предлогом нового аграрного закона».
В Канезаке у мэтра Альбара, нотариуса, у которого Бернар-Франсуа нашел себе работу, его ждал приятный сюрприз. Здесь как раз нуждались в услугах расторопного клерка, который должен был ходить пешком, не боясь испачкаться или вымокнуть, и, не жалея времени, посещать крестьян, растолковывая им новые законы. Если поначалу крестьянин упрямился и отказывался отвечать, во время второго визита язык у него понемногу развязывался. А уж когда клерк являлся в третий раз, справлялся о самочувствии членов семьи, помнил о сердечном приступе у дедушки и краснухе меньшого ребенка, у крестьян складывалось хорошее мнение о нотариусе, который с таким дружеским участием относится к своим подопечным.
Бальса, Каррье и Бабеф покинули родные края, поскольку деревня переживала тяжелые времена. Бальзак напишет об этом в 1844 году. Крупные землевладельцы ссужали деньги под залог земель, купленных крестьянами, погрязшими в долгах. У них не было ни упряжи, ни плугов, чтобы возделывать землю. Заимодавцы соглашались прекратить преследования, если крестьяне вызывались работать на них, не получая за свои труды ни гроша. «Крестьяне недорого оценивают свой труд, особенно когда речь заходит об отсрочке процентных платежей». Крестьянин, наивно полагавший, что наконец избавился от долгов, платил втридорога. Он лишался заработанных денег, а его земля приходила в запустение и вскоре продавалась за бесценок. А тем временем долги крестьянина все росли.
Основываясь на наблюдениях Бернара-Франсуа, использованных в «Крестьянах» Бальзаком, Карл Маркс создал свою знаменитую теорию роста и отчуждения капитала.
Крестьянин думал лишь о подушном налоге. Но взимание недоимок было еще тяжелее, нежели этот налог.
Генеральные откупщики, являясь неотъемлемой частью ведомства, уполномоченного собирать подати, записывали общую сумму недоимок за одним из крестьян. Получалось, что он один нес ответственность за всех остальных, исполняя роль расходчика или казначея. Он определял размер налога каждому хозяйству. А если собранных денег недоставало, он платил из своих личных средств. Назначали на эту должность только компетентных и платежеспособных собственников, умевших писать и считать. Их называли «приходскими шишками».
Бернар-Франсуа понял, чем различаются крестьянин, торговец и рабочий. Эти различия и легли в основу «Человеческой комедии». В 1760 году они проявлялись прежде всего в налогообложении. Платил один крестьянин. Он вершил благородное дело на земле, принадлежавшей королю. На той самой земле, где все произрастало по воле Господа Бога. Сельское хозяйство было единственным видом деятельности, производившей товар в чистом виде.
Поземельный налог или косвенный налог на потребление? Вот дилемма, которая вновь расколола общество на два лагеря во времена Реставрации и Июльской монархии. Оноре де Бальзак неоднократно выступал против поземельного налога. Необходимо упразднить бремя этого налога, говорил он, чтобы у крестьянина появились средства для улучшения культуры землепользования, покупки орудий труда, возделывания залежных земель, осушения болот… В «Служащих» Рабурден стремился упразднить поземельный налог и заменить его налогом на потребление.
В 1773 году косвенный налог, введенный терпевшим финансовый крах государством, повлек за собой дознание с пристрастием, запрет на некоторые товары, обыски, штрафы. Вот тут и настало время бюрократии, время, когда Бернару-Франсуа улыбнулась удача. Возникла потребность в контролерах, которых нередко изображали в самых черных тонах. Очень часто рисовали, как они украдкой пробираются в деревни; как допрашивают крестьян и строчат доносы. За порядком на рынках следили инспекторы: оценщики вина, меряльщики дров и угля, осмотрщики свиных языков…
Все собранные ими сведения стекались в Париж. Францией управляли словно колонией, населенной отсталыми племенами. Зарождалась Администрация. Уложения, эдикты, хартии, указы с приводимыми в подтверждение таблицами переписывались на бумаге для официальных актов, самой лучшей бумаге «тельер». «Тезисы, которые умещаются на одном листе, расчеты, помещенные в скобки, и заголовки исполняются наклонным шрифтом, подобным рукописному, а подзаголовки — округлым шрифтом» («Служащие»), «Государственные счета должны быть такими же простыми, как счета от прачки», — говорил аббат Террэ, Генеральный контролер финансов. Таким образом, «нас заставляют полагать, что состояние каждого есть не что иное, как частица всеобщего состояния». Руководствуясь подобными принципами, французская бюрократия стала «самой безукоризненной из всех бюрократий, которые занимаются бумагомаранием на земле. Она сделала кражу невозможной» («Служащие»).
АЗИЯ
Китайцы счастливы
Двадцатилетний Бернар-Франсуа решил попытать счастья в Париже.
В 1776 году он поступил на должность секретаря-письмоводителя в администрацию по управлению имуществом Королевского совета, иными словами, в «общий совет», весьма отличный от «частного совета», в члены которого король производит тех, в чьих услугах нуждается.
Бернар-Франсуа прибыл в Париж словно нарочно для того, чтобы записывать вопросы и ответы — именно это входит в обязанности секретаря, — относящиеся к ликвидации Ост-Индской компании.
Созданная во имя всеобщего благоденствия королевства и активно занимавшаяся внешней торговлей, в том числе и с Ост-Индией, компания с прискорбием взирала на потерю колоний и своих большегрузных судов, либо захваченных, либо потопленных. Она по-прежнему контролировала продажу бобровых шкур в Канаде и работорговлю в Сан-Доминго. Но все приходили в отчаяние от ее обесценивавшихся акций, стоимость которых упала с 2100 ливров в 1743-м до 745 ливров в 1762 году. Вот почему тарифы на перевозки в компании в три раза превышали суммы, запрашиваемые частными судовладельцами.
Привилегии компании были упразднены в 1769 году. Но поскольку пострадали очень многие, подписавшиеся на займы, король не мог обойти их вниманием, он вынужден был возместить причиненный им ущерб.
Ликвидацией компании занимался статский советник интендант Бутен. Были проданы корабли, опустошены пакгаузы, закрыты сахарные заводы, выставлены на аукцион диковинные животные и растения, складированы заморские продовольственные товары.
По-видимому, Бернар-Франсуа очень внимательно отнесся к этим товарным излишкам, торговля которыми приносит огромные барыши, если уметь выждать и вовремя сбыть их с рук. Вплоть до выхода на пенсию в 1819 году Бернар-Франсуа умело вел свои дела на поприще продовольственного снабжения, что было самым насущным и самым рискованным делом во Франции, вечно объятой революциями и войнами и, следовательно, вечно нуждающейся.
В 1763 году два китайца, Ко и Янг, приехавшие учиться у иезуитов, были возведены в сан священников ордена лазаристов. Министр Бертен пожелал выслушать их рассказ о технике, образовании, системе сельского хозяйства Китая, который считался одним из наиболее процветающих и наиболее добродетельных государств.
Совершив путешествие по Франции и ближе познакомившись с самыми лучшими товарами, которые здесь производились, Ко и Янг сели в Лорьяне на корабль, нагруженный подарками.
Китайцам, уехавшим из Китая и вернувшимся обратно, обычно грозила смертная казнь. Иезуиты Пекина связались с королем и обеспечили им защиту.
Иезуиты преподнесли китайскому императору ковры, картины, зеркала, севрский фарфор, различные научные приборы, которые привезли с собой два китайца. Подарки были милостиво приняты, после чего иезуиты Пекина предложили Бертену «литературную переписку», чтобы таким образом удовлетворить любознательность короля. Кое-что из написанного о Китае было издано. Так, в 1776 году вышла в свет книга «Записки об истории, науках, искусствах, нравах и обычаях Китая». Бернар-Франсуа, видимо, приобрел эту книгу, открывшую ему глаза на часть света, где было изобретено столько необходимых вещей. Как ни странно, при этом образ жизни китайцев нисколько не изменился и по-прежнему основывался на глубоко укоренившейся традиционной мудрости.
Еще в раннем детстве Оноре доводилось слышать разговоры об Индии и Китае, и этот азиатский мир навсегда остался в его грезах как территория, населенная чудесными птицами и фантастическими животными и окаймленная голубыми вершинами. Бальзак всегда представлял себе Восток вожделенным краем, где даже день и ночь ходят рука об руку. Но Китай — не просто волшебная страна. Это — страна просвещения, страна письменности.
Оноре де Бальзак прославит красоту и прочность товаров, изготовленных в Китае, равно как и торговое превосходство китайцев. Они непобедимы, поскольку бедняки платят за жилье ничтожную сумму, мало едят, а из движимого имущества у них лишь гамак да видавший виды сундук.
Когда в 1815 году Бальзак увидит в Турени китайскую безделушку, она покажется ему столь прекрасной, словно ее создавали «три поколения семьи Бенвенуто Челлини». Китайцы — чрезвычайно забавный народ: сколько занятных историй могут поведать их болванчики, зонтики, веера!
Наконец, именно китайцы охотно возводят в дворянское достоинство задним числом, что переносит на отца славу, завоеванную сыном. Бальзак не откажет себе в этом удовольствии. В 1839 году, через десять лет после смерти отца, он произведет его в секретари Большого Совета при Людовике XV, решения которого он якобы записывал. На самом деле, и вскоре мы это увидим, Бернар-Франсуа Бальзак поступил на службу в Королевский совет в качестве секретаря господина д’Альбера, докладчика. И случилось это 1 января 1776 года — при Людовике XVI.
В 1821 году Бальзак-отец и Бальзак-сын прибавят к своей фамилии дворянскую частицу «де», причем сделают это весьма искусно. Они станут именовать себя «де Бальзак», общаясь с представителями светского общества, и останутся просто Бальзаками в кругу близких. «Что до меня, то мне все равно, — писал Бальзак в 1835 году. — Сегодняшнее дворянство — это 500 тысяч франков ренты или персональная известность». В этой книге я постараюсь избегать употреблять частицу «де», рассказывая о личной жизни писателя; и сохраню ее, когда речь пойдет о его общественной и писательской деятельности.
БРАТСТВО КОМИССАРОВ ПРОВИАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
Нация, пресытившаяся трагедиями, комедиями, романами, операми, романтическими историями, а еще более — нравоучительными нотациями и диспутами о Греции и о народных волнениях, начинает рассуждать о хлебе.
Вольтер
10 мая 1774 года Франция получила в наследство молодого короля Людовика XVI, но тут же одряхлела из-за своего министра Фелипо, графа де Морепа, ревностного хранителя традиций. Он стал членом правительства за пятьдесят лет до того, так что казалось, и он, и его пост вечны.
Зато назначение друга философов Жака Тюрго (1727–1781) на должность морского министра, а впоследствии — министра финансов омолодило правительственную команду.
В 1774 году Тюрго исполнилось 47 лет. Начиная с 1761-го он занимал пост интенданта провинции Лимузен. Высокий, неуклюжий, он презирал общественное мнение, но зато был переполнен собственными идеями. Будучи убежден, что деятели эпохи Просвещения созданы для того, чтобы просвещать, он хотел опередить общественное мнение, пробудить спящих. Тюрго, сам по характеру робкий, ободрял еще более робкого Людовика XVI. И все же король упрекал своего министра в слишком бурной деятельности: «Господин Тюрго хочет быть мной, а я не хочу, чтобы он был мной».
Новый министр проповедовал «теорию сокращений». И первый подал пример: он наполовину урезал свое жалованье, отказывался от возмещения расходов при вступлении в должность и просил своих подчиненных обустроить свои рабочие кабинеты у себя дома.
Тюрго ввел коллегиальное управление. Он окружил себя людьми, которым полностью доверял, мнения которых внимательно выслушивал, даже если единолично принимал решение. В числе его друзей был и Жозеф-Франсуа д’Альбер (1722–1790), самый преданный друг, недавно назначенный в Службу продовольственного снабжения.
1 января 1776 года Бернар-Франсуа Бальса, который по такому случаю сменил фамилию на «де Бальзак», поступил в частный совет Людовика XVI на должность секретаря д’Альбера, докладчика Резиденции короля.
Именно в окружении д'Альбера Бернар-Франсуа познакомился с человеком, сделавшим впоследствии блестящую карьеру, но в то время подвергавшимся большой опасности. Даниель Думерк (1738–1816) был наряду с Сореном де Бонном самым крупным королевским комиссионером зерновых. Его обязанности заключались в том, чтобы покупать хлеб там, где он в избытке, а затем переправлять его для продажи туда, где в нем ощущалась нехватка.
Поговаривали, что «король наживается на хлебе». И это правда; народ ненавидел спекулянтов, которые запрещали частным лицам продавать зерно до тех пор, пока королевские склады не реализуют свои припасы. Неважно, обилен или ничтожен урожай, создание запасов поддерживало цену на хлеб на постоянном уровне. Фиксированные цены на зерновые необходимы в стране, где хлеб — основная пища, поглощающая половину бюджета каждой семьи.
Помимо доходов от мельниц в Корбейе и других аналогичных сооружений, разбросанных по всей Франции, Даниель Думерк получил от Казначейства огромный кредит для покупки зерна. Тюрго установил для Думерка и Сорена де Бонна бюджет в 14 350 тысяч ливров.
Тюрго хотел ввести свободную торговлю зерном, ибо свобода торговли — условие процветания. «Когда богатства свободно переливаются из одной провинции в другую, сельское хозяйство процветает». Но тут возникли первые распри между регламентаристами и либералами. Регламентаристы переносят урожай этого года на следующий, чтобы восполнить дефицит. Либералы перевозят хлеб из плодородной провинции в неплодородную, делая ставку то на время, то на пространство.
В первые шесть месяцев своего пребывания в должности Тюрго, понимая важность реформ, выжидал, и тем самым вызвал раздражение у своих сторонников, прозванных «поспешниками».
Он проявлял осторожность даже когда в районе Дижона начались волнения из-за караванов, перевозивших хлеб. Повстанцы действовали в Иль-де-Франс, грабили фермы, топили корабли с зерном. Вскоре они объявились в Мо, Понтуазе, Сен-Жермене. Тюрго опасался, как бы бунтовщики не разграбили Париж, и спешно организовал оборону при помощи префекта полиции Ленуара. Но те застигли стражников врасплох и 2 мая 1775 года захватили рынок в Версале. Начальника стражи бросили в муку. Напуганный до смерти, он приказал булочникам выполнить все предъявленные требования. 3 мая мятеж вспыхнул в Париже. Был взят штурмом Центральный и другие рынки, при этом провизию разбросали прямо на улицах.
4 мая Тюрго добился у короля неограниченных полномочий. Было принято решение заменить префекта полиции: «Сейчас нужен такой префект полиции, характер которого как можно точнее соответствовал бы требованиям момента». Таким требованиям отвечал д’Альбер.
Д’Альбер ввел чрезвычайное положение, при котором бунты становятся просто невозможными, а любые собрания запрещены под страхом смертной казни. Двух бунтовщиков суд приговорил к повешению, многие были брошены в тюрьмы. Следствие доказало существование заговора: у всех приговоренных была найдена одинаковая сумма денег, что служило бесспорным доказательством того, что их наняли за плату. Некоторые из них распространяли фальшивые постановления Королевского совета.
Снисходительность, если не сказать доброжелательность, с которой население относилось к мятежникам, определила наличие революционной ситуации. «Не хватало только штыков», — заметил Наполеон, мы бы сказали — пик.
Политические преследования, организованные д’Альбером, были суровыми. Сорена и Думерка бросили в Бастилию. Документы бывших откупщиков подвергли проверке, этим занимался среди прочих Бернар-Франсуа Бальзак. Оба компаньона вскоре из Бастилии вышли: против них не смогли выдвинуть ни одного обвинения.
Однако коренные преобразования, разработанные Тюрго, были скомпрометированы. Тюрго хотел уничтожить испольщину, провести фискальную реформу, опирающуюся на частную собственность, пересмотреть многочисленные права на льготные дорожные, ввозные и торговые пошлины; он намеревался посягнуть на привилегии, пожалованные некоторым особам в силу происхождения, занимаемых должностей или принадлежности к определенному сословию: духовенства, судейских, различных гильдий. Но такой подход был чересчур радикальным для страны, где законы вершили отнюдь не экономисты и энциклопедисты и где никто, кроме них, не был убежден, что политические проблемы могут быть решены с помощью разума.
12 мая 1776 года Тюрго и его ставленник, префект полиции д’Альбер, у которого Бернар-Франсуа служил секретарем, были вынуждены покинуть свои посты. «Сомнительно, чтобы люди стоили тех усилий, которые вы прилагаете ради их блага», — говорили Тюрго друзья. «Существует лишь малая часть простонародья, о счастье которой можно заботиться так, как заботятся о счастье стада, предназначенного для забав и труда. Все остальные — лишь пресмыкающиеся и ядовитые твари».
РОСКОШЬ
Роскошь есть причина людских страстей, добродетелей и пороков.
Дидро
В 1776 году Бернар-Франсуа еще не познакомился с придворной жизнью, но уже знал цену привилегиям, которые позволяли быть в числе допущенных ко двору. Они проявлялись в расшитом платье, кружевных манжетах, безвкусных украшениях, каретах, которые, по словам Тилли, стали одной из причин Революции. Охота и забавы окончательно погубили касту, у которой средства оставались лишь на содержание «замка», городского особняка да двух десятков слуг.
«Роскоши хвастовства» начали противопоставлять «роскошь комфорта», роскошь набирающих силу либеральных салонов. Финансисты, определявшие направление развития, вовсе не считали за честь служить королю или быть принятыми при дворе. Они довольствовались реальной действительностью: ценили золото не более, чем сафьян, сахар или алкогольные напитки. Точно так же, как некоторые копили золото, чтобы затем найти ему разумное применение, финансисты забивали склады неимоверным количеством купленных за бесценок товаров, которые перепродавали тогда, когда им выпадал подходящий случай. Бернар-Франсуа так же, как и Думерк, познакомился с производителями зерна, скупавшими хлеб, а затем спекулировавшими им. Вскоре он свел знакомство с Габриелем Жюльеном Увраром (1770–1846). В канун Французской революции Уврар сколотил состояние, скупая бумагу и колониальные товары. В течение последующих 30 лет Франция испытывала в них недостаток.
В произведениях Бальзака банкир Нусинген смотрит на историю как на непрерывную цепь спекуляций. Он держит на складах 300 тысяч бутылок шампанских, туренских и бордоских вин; он станет потчевать ими за сногсшибательную цену союзников, которые займут Париж в 1815 году. Все устроилось самым лучшим образом: Нусинген прекратил платежи по ценным бумагам накануне Ватерлоо. Выкупив их по самой низкой цене, он вдохнул в акции новую жизнь, разместив их на рудниках Анзена или Берена, ставших у Бальзака Ворчинскими. Нусинген «приобрел акции этих рудников на 20 процентов ниже курса, по которому сам их выпускал».
Во времена Империи Бернар-Франсуа познакомился также с Ришаром-Ленуаром, мелким лавочником, который предлагал работодателям свои услуги по уборке помещений. Когда дела его пошли в гору, он смог основать большой ткацко-прядильный завод, где работали 15 тысяч рабочих. Он скупил весь хлопок, который вскоре и вовсе исчез с рынка из-за континентальной блокады.
В произведении «Два сна», датированном январем 1828 года, Бальзак описал ужин, на который был приглашен его отец в августе 1786-го. Ужин давал Бодар де Сен-Джемс[6], проживавший в Нейи в безумно дорогом загородном особняке. В наши дни там расположился лицей.
Семья Бодаров принимала лишь особ благородного происхождения. Министр финансов того времени Шарль-Александр де Калонн (1734–1802), похоже, был поглощен своим финансовым планом. И отвлекался лишь для того, чтобы обсуждать с Бомарше спекуляции акциями Компании водных ресурсов. То и дело шли разговоры об актере Воланже, пользовавшемся огромным успехом в Театре варьете. После ужина гости играли в фараон, как у королевы. Проигрыш двух тысяч экю — вовсе не трагедия. Пили шампанское. Буржуа рассказывали, как ходили в замок Марли пешком, без слуг, в городском платье, чтобы присутствовать на обеде короля. В тот вечер на ужин к Бодарам был приглашен Марат. Должно быть, Бернар-Франсуа хорошо рассмотрел Марата, поскольку Оноре де Бальзак описал «землистый цвет лица и черты, подлые и одновременно величественные, дающие серьезное основание полагать, что перед вами проходимец». В 1787 году Марат служил лейб-медиком в охране графа д’Артуа, а на досуге занимался физикой и предлагал Академии Лиона учредить премию — при условии, что первым ее получит именно он.
Год спустя после ужина, в 1787 году, Бернар-Франсуа стал секретарем-письмоводителем д’Альбера, докладчика, которому было поручено «вынести приговор по имущественным искам господину Бодару, обвиненному в растрате денег короля». Путь к успеху всегда извилист. Бернар-Франсуа рассказывал своему сыну Оноре об ухищрениях финансистов Думерка, Бодара, Уврара, как они объявляли, что разорены, приводя в волнение кредиторов и акционеров, исчезали, вновь появлялись — под другими именами — возобновив платежи или создавая новые общества и используя подставных лиц для покупки недвижимости.
В «Человеческой комедии» Бальзак воздал по заслугам этим аферистам. Он признал их гениальность. Нусинген — это финансовый Наполеон. Франция, испытывавшая недостаток в деньгах, пришла к выводу, что спекулянты «полезны». Следует лишь «изобрести» хорошие аферы, чтобы создалось впечатление, будто промышленность развивается, и чтобы деньги на них шли из «никчемного чулка».
НА ПОВОДУ У СОБЫТИЙ
Я поставил себя на службу событиям.
Талейран
Не похоже, чтобы Бернар-Франсуа трагически воспринимал события, происходившие во Франции в 1789–1792 годах. И в самом деле, зачем сходить с ума? Несмотря на усилия Тюрго, король не дал французам конституции, а государственные партии не пришли к обоюдному согласию.
Тем не менее режим, неспособный сам себя реформировать, прибег к помощи уполномоченных, горевших желанием разработать конституцию. Она должна была обобщить все законы и ограничить власть каждого, в том числе и короля. Король должен был стать лишь высшим должностным лицом нации.
Бернар-Франсуа продолжал служить государству и королю. 18 сентября 1791 года он поступил на службу к Антуану-Франсуа Бертрану, графу де Мольвилю (1744–1818), который в будущем займет пост морского министра. Это был счастливый день. На парижской площади Марше-дез-Инносан объявили о принятии конституции, а король принес присягу на верность нации на заседании Национального собрания. Перед началом церемонии он заявил своим близким: «Я отчетливо сознаю, что погиб. 18 сентября наступил „день всеобщего ликования“. Король и толпа слились воедино на Марсовом поле, а это означало — уже в очередной раз, — что с революцией покончено». Как напишет Оноре де Бальзак, «потребность мира и спокойствия, которую после суровых потрясений испытывает каждый, повлекла за собой полное забвение самых значительных событий».
Мишле скажет, что Бертран де Мольвиль был «пылким и ограниченным человеком». Этот бывший интендант провинции Бретань (1784–1788), враждебно относившийся к Генеральным штатам, подал Монморену, занимавшему в ту пору пост министра иностранных дел, докладную записку, где предлагал лучший, на его взгляд, способ избавиться от Национального собрания. Когда Людовик XVI назначил его на должность морского министра в октябре 1791 года, он организовал эмиграцию. Встретив жестокую оппозицию в лице Законодательного собрания, Мольвиль ушел в отставку 10 марта 1792 года.
В марте 1792 года разразившийся в Париже голод, угроза возникновения войны, крах государственной власти вынудили Людовика XVI проводить политику по принципу «чем хуже, тем лучше». Карра в «Патриотических анналах» обвиняет Мольвиля в том, что он стал вдохновителем создания «австрийского комитета», который передавал неприятелю военные планы французской стороны. Мольвиль оставался под подозрением как доверенное лицо и тайный агент Людовика XVI. После 10 августа он готовил побег Людовика XVI из Тампля, затем, после опубликования «обвинительного декрета», бежал в Англию, где и написал «Мемуары» и «Историю Революции».
В 1807 году Бернар-Франсуа, составляя свой послужной список, привел доказательства выполнения им революционного долга. Он якобы был «секретарем-президентом секции, депутатом Коммуны, комиссаром и президентом полицейского суда». Николь Фалькей в своем исследовании говорит, что не существует ни одного подтверждающего это документа. Напротив, имя Бернара-Франсуа упоминается 27 ноября 1792 года. Он подписал «Обращение секции по правам человека к Национальному собранию» в качестве председателя. Председатели секций менялись каждый месяц, и в декабре Бальзак уже не был председателем.
12 июля 1791 года «гражданин дистрикта Королевской площади» Бальзак, проживавший на улице Барбет в доме 13, направил в Национальное собрание письмо, в котором вызвался «отчислять, начиная с того дня, как мы вступили в войну и до победного конца, 15 су ежедневно в пользу того моего соотечественника, который меня заменит». В сентябре 1793 года Бальзак, перебравшийся уже на улицу де Берри, продолжает переводить на военные нужды 450 ливров.
Лавируя между королевской властью и революционными секциями, Бернар-Франсуа, похоже, собирался «служить и нашим и вашим, пока одна из сторон не расправится с другой». Однако в донесении роялистской контрполиции отмечалось участие господина Бальзака в работе многочисленных секций Парижа, которые требовали от Национального собрания отрешить короля от власти и учредить директорию. 9 августа Бальзак был назначен комиссаром, делегированным Коммуной на манифестацию 10 августа. Он должен был объявить о введении «военного закона суверенного народа против оказывающей сопротивление исполнительной власти».
Начиная с августа 1792 года городская коммуна Парижа издавала законы для всей Франции. «Мы защищаем интересы не одного города, но всей Франции… Париж совершил Революцию, Париж дал свободу остальной Франции и Париж сумеет удержать эту свободу». В результате муниципальных выборов, начавшихся 9 октября и фактически завершившихся между 27 и 30 ноября, Бернар-Франсуа Бальзак, проживавший на улице Фран-Буржуа в доме 19, стал одним из 48 муниципальных чиновников этой городской коммуны, которая придерживалась весьма умеренных взглядов и именовала себя «временной». С января 1793 года, согласно изысканиям Мадлен Обрер, Бернара-Франсуа прочили на должность администратора, управляющего департаментом Парижа, и председателя суда.
В апреле 1793-го в городской коммуне Парижа верх одержали «бешеные». Они потребовали более справедливого распределения продовольствия, ликвидации института посредников между производителями и потребителями, установления максимально точно рассчитанных фиксированных цен. В это время Бернар-Франсуа отправился в Суассон, получив назначение на пост директора вспомогательных служб Северной армии и сохранив за собой эту должность вплоть до 20 марта 1795 года.
Пьер Барбери (в работе «Бальзак и болезнь века»[7]) цитирует письма Бернара-Франсуа, написанные из Вердена. Он и во время революции жил в свое удовольствие, обустроившись «в квартире бывшего коменданта города». Он отождествлял себя с режимом, говоря, что «народные магистраты не дремлют» и «отбивают всякое желание у мошенников вводить в заблуждение народ». Он с оптимизмом смотрел в будущее, ведь налоги были снижены вдвое. Граждане весьма существенно экономили «на строптивых, праздных, плетущих заговоры священниках». Церковное имущество было распродано, и теперь появились средства, чтобы облегчить страдания неимущих.
Бернар-Франсуа упивался властью. К этому примешивалась радость, что возглавляемые им склады ломились от товаров. В «Гобсеке» Бальзак составил опись вещей, отданных на хранение ростовщику. Подобное скопление маловероятно в комнате частного лица, будь он даже ростовщик; для государственного склада это вполне возможно. Там «оказались гниющие паштеты, даже устрицы и рыба, покрывшаяся плесенью… Все кишело червями и насекомыми». Там лежали «тюки хлопка, ящики сахара, бочонки рома, кофе… Целый базар колониальных товаров».
На складах было собрано то, что шло на нужды армии, а также имущество, награбленное в походах 1794–1799 годов. Беседуя с Оноре, Бернар-Франсуа, очевидно, не упускал случая освежить в памяти эти впечатляющие описи. Он видел «ларчики, украшенные гербами и вензелями, прекрасные камчатные скатерти и салфетки, дорогое оружие». «Кому же достанется все это богатство?» — спрашивает себя повествователь.
13 июля 1794 года Карно задаст этот вопрос от имени Комитета общественного спасения. Сподвижники Журдана только что заняли Брюссель и готовились войти в Антверпен и Льеж. «Им не следует пренебрегать произведениями искусства, ведь эти произведения могут украсить Париж. Переправьте сюда прекрасные коллекции живописи, которыми изобилует эта страна. Вне всякого сомнения, они будут рады, что отделались одними картинками». Картинки принадлежали кисти Рубенса.
ДОМ ПАРИЖСКИХ БАСОНЩИКОВ-СУКОНЩИКОВ
Бернару-Франсуа Революция предоставила возможность добиться успеха. 21 марта 1795 года он был назначен интендантом 22-й дивизии в Туре, «единственном городе, где имелись запасы, необходимые для ведения войны против шуанов». Он получил эту должность по протекции высокопоставленных лиц из управления, снабжавшего армию провиантом. Интенданты не любят, когда к ним присылают незнакомцев.
Через два года, в 1797-м, Бернару-Франсуа исполнилось 50. Даниель Думерк следил за его карьерой. Он решил женить Бернара на дочери другого члена «интендантского корпуса», Жозефа Саламбье, директора Управления делами богоугодных заведений Парижа.
Почему бы не сыграть свадьбу как можно скорее? Невесте 19, и не следует давать ей время на раздумья — вдруг еще примется мечтать о другом? Будущие тесть и зять, удобно устроившись, неспешно беседовали. Оба принадлежали к одному и тому же ведомству, на обоих снизошла «благодать», оба были франкмасонами. В 1802 году Жозеф Саламбье стал экспертом в Палате званий Великого Востока. Бернар-Франсуа, живя в Туре, входил в ложу Совершенного Согласия.
Начиная с 1547 года выходцы из Сен-Дени Саламбье передавали от отца к сыну профессию суконщика. Кроме того, они изготавливали все необходимое для военной и гражданской форменной одежды. Отец Тома Саламбье, скончавшийся в 1757 году, получил должность каптенармуса королевского казарменного имущества. Он жил в Живе-Сен-Илере, что расположен в долине Мааса, где армия пополняла свои запасы. Родственники и друзья Саламбье «большей частью принадлежали к кругу парижских торговцев сукном, а также фурнитурой для гражданской и военной форменной одежды. Торговали они и декоративными тканями» (Жан Делей «Сокольничий»[8]).
Луи Саламбье, прапрадед Бальзака, изготавливал и продавал галуны, его брат Мишель был пуговичных дел мастером, другой брат владел мясной лавкой, их сестра вышла замуж за торговца тесьмой. Все они жили на улице Сен-Дени, за исключением двоюродного деда Бальзака, который женился на дочери суконщика из Эльбефа и держал лавку при фабрике «Золотое руно», «которая производит и продает все необходимое для форменной одежды пехотинцев, моряков и префектов». В 1805 году этот двоюродный дед будет избран помощником судьи торгового суда, а в следующем году — судьей. Как и Цезарь Бирото, он принадлежал к «главам самых древних и уважаемых семей, отличавшихся честностью, порядочностью и образцовым ведением хозяйства». В 1810 году его изберут членом правления по обеспечению войск обмундированием.
Анна Шарлотта Лора Саламбье, мать Оноре, была красавицей. Она не походила на свою мать, урожденную Софи Жове, чей отец, в свою очередь, торговал галунами. Эта бабушка по материнской линии, вскоре возненавидевшая своего зятя, вдохновила Бальзака на создание образа госпожи Гийом. Обе они «носят чепец, отделанный кружевами, как у вдов». Бабушка Саламбье овдовела в 1803 году. «Ее речь отрывиста, а жесты напоминают скачкообразные движения телеграфного механизма» («Дом кошки, играющей в мяч»).
Лора, мать Бальзака, в течение пяти лет, предшествовавших замужеству, жила под деспотичным надзором матери. Она вставала в 7 утра, чтобы успеть привести себя в порядок: почистить зубы, вымыть руки и лицо, убрать в комнате. С 8 до 9 она училась писать, стараясь держать перо прямо, чтобы выработать красивый почерк. С 9 до полудня, а также с 5 до 7 часов вечера ей были уготованы «полезные занятия». Под «полезными занятиями» мать понимала шитье, вязание, изготовление фестонов, вышивание. В остальные часы она наряжала куклу и предавалась упорному труду по плетению кружев. Хорошо воспитанная девушка не перечила родителям и читала только дозволенные книги. Чтобы отбить у нее всякую мысль о кокетстве, ей запрещали иметь зеркало и внимательно следили за тем, чтобы ум ее занимали лишь принципы образцового ведения домашнего хозяйства.
Бернар-Франсуа и Лора поженились 30 января 1797 года. В это же самое время сестра Лоры вышла замуж за Себастьяна Малю, отец которого попал в переплет в Льеже, где служил по части продовольственного снабжения. В 1792 году инспекция, возглавляемая Липпманном Серфом Берром, обнаружила пустые склады и весьма туманные счета. Жозеф Саламбье спас тогда Малю. Бернар-Франсуа прекрасно знал Серфа Берра, армейского поставщика, генерального синдика еврейской общины Эльзаса. При Людовике XVI он сыграл важную роль в деле признания французских евреев дееспособными. Революция разорила его, обложив еврейские общины Эльзаса непомерно высокими налогами. Анна-Мари Мейнингер доказала, что барон д’Альригер, разорившийся потому, что «воспринял Наполеона всерьез», на самом деле не кто иной, как Серф Берр, который напрасно поверил в Людовика XVI, прозванного в Страсбурге «королем евреев» после издания эдикта о веротерпимости.
Впоследствии Огюста Думерка назначили синдиком разорившегося семейства Берр-Леона Фуда. Семья Фуда сумела поправить свое финансовое положение и в 1828 году купила замок Рокенкур, некогда принадлежавший семье Думерка.
Бальзак часто мечтал о такой матери, которая не столько бы радовалась наступившей беременности, сколько бы получала удовольствие, думая о золоте. Деньги. Именно в них черпает силу бальзаковское мировоззрение. Сколотить состояние. Именно в этом заключается цель его жизни.
Какой пример подает история семейств Саламбье, Думерков, Фудов и Серф Берров! Какой предмет мечтаний и какой повод для надежд! Бальзак всегда считал себя крупным дельцом и тем не менее ни на минуту не переставал восхвалять честность и не пожелал покидать свой писательский кабинет, ибо деньги все же есть не что иное, как средство для создания шедевров.
КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК…
Первенец четы Бальзак Луи Даниель появился на свет 20 мая 1798 года и прожил всего 32 дня. Ровно через год, день в день, 20 мая 1799 года на улице Итальянской армии, переименованной впоследствии в Национальную, в доме 25 родился Оноре. Его отцу исполнилось 52, матери — 22.
В «Человеческой комедии» Бальзак приводит описание ужасных родов. Речь идет о рождении сына у маршала д’Эрувиля и его жены Жанны. Действие разворачивается в эпоху Генриха IV и насквозь пронизано шекспировским духом: ураган, шквалистый ливень, бурные потоки воды, вот-вот готовые поглотить башни замка с флюгерами, раскаты грома, несущие проклятие. В зловещем замке вспыхивает ссора между отцом, который собирается убить своего новорожденного сына, и знахарем, который хочет спасти младенца. Мать вынуждена переживать сцену более зловещую, чем смерть ребенка. Франсуа Жермен и М. Приу доказали, что «Проклятый ребенок», опубликованный в феврале 1831-го, был частично написан в 1822 году, когда Бальзак увлекался «черным романом». Упомянутая сцена не свидетельствует о сумасбродстве автора. Бальзак вложил в нее свою боль, ведь он часто повторял, что ему не следовало появляться на свет. Слово «любовь», применяемое к воспроизводству себе подобных, «представлялось ему самым гнусным богохульством, которое современные нравы научились произносить». По мнению Бальзака, ни один ребенок не должен рождаться случайно. Родители обязаны желать его всей душой. В противном случае плач младенца будет звучать как кряхтение одинокого и заброшенного старика, каким он станет в будущем.
20 мая 1799 года не было ни грозы, ни бури, но родители приняли в тот день безжалостное решение. Бернар-Франсуа и Лора не пожелали пестовать младенца. Они сочли, что ребенку будет гораздо полезнее расти в деревне.
Три года маленький Оноре провел в крестьянской семье: простая кровать, деревянные табуретки, солонки в форме сабо, деревянные черпаки для воды, бадья для молока, общий стол, вечера, когда собираются вместе жнецы, пастухи, угольщики…
ЖЕЛЧНАЯ МАТЬ
В своих первых романах Бальзак выводит образ матери, которая, родив ребенка, полагает, что, давая ему грудь, питает его «молоком жизни». «Кормящая мать живет дыханием этого крошечного существа, которое играет у нее на груди, испив нектар, чистый, как душа матери» («Последняя фея»).
Несомненно, Бальзак невольно цитировал Жан Жака Руссо, требовавшего, чтобы матери вскармливали детей сами, хотя своих детей Руссо подбрасывал в сиротский приют. В «Эмиле» несколько страниц посвящены описанию младенческого возраста; позже они вошли в трактат по педиатрии. Руссо счел бы это возмутительным, но в буржуазных семьях XIX века кормить ребенка грудью было уже не принято, поскольку так можно было испортить себе грудь. Кормить, пеленать, баюкать, пестовать ребенка входило в обязанности кормилицы. Мать должна была относиться к ребенку без лишней нежности, чтобы его не «перевозбудить».
Лора Бальзак, поместив сына в семью кормилицы, поступила в соответствии с существующим обычаем. Маленький ребенок уже не составлял со своей матерью единого целого.
Возмужав, Бальзак будет вызывать у своих любовниц Лоры де Берни и Евы Ганской жалость, рассказывая им о суровом детстве. Да, разлуку с матерью он пережил как настоящую пытку!
В своих автобиографических романах Бальзак представляет себя обворожительным ребенком, лицо которого покрыто преждевременными морщинами, а душа засыхает, словно цветок… Бальзак в детстве не похож ни на Гаргантюа, ни на колоритного автора «Озорных рассказов». Он беззащитная жертва своего целомудрия, своей робости, этот непорочный, любящий, скромный и исполняющий все предписания старших ребенок.
Бальзак навечно останется непонятым ребенком. Минуты спокойствия, редко случавшиеся в его бурной жизни, будут обнаруживать ранимое сердце и боль, идущую из глубины лет. Он остался или хочет оставаться ребенком, влюбленным в звезду, нежным и отвергнутым, неумело играющим на скрипке. Бальзаку не удастся унять свою тревогу, возникающую из-за переутомления или долгов, не пробудив другой тревоги, вызванной отсутствием ласки и понимания.
Сыновья, имевшие равнодушных матерей, становятся заботливыми отцами.
Бальзак часто изображал в своих романах женщин, заботящихся о своих детях. Существует даже система ухода за младенцами, разработанная Бальзаком: ноги ребенка должны быть обуты во фланелевые пинетки, а голени следует оставлять обнаженными. Так ребенок сможет болтать ножками, не перегреваясь. Пеленать ребенка следует свободно. Туго запеленутый ребенок избавляет мать от излишних забот. Настоящая мать сама кормит ребенка. Сколько детей получили ожоги из-за слишком горячего супа! Сколько детей заразились от «несвежего дыхания» служанки, дующей на суп, чтобы охладить его! Мать незаменима. Она должна верить лишь своим глазам и своим рукам, когда меняет ребенку пеленки, кормит и укладывает его спать.
Прежде чем отправить ребенка к кормилице, Бальзаки дали ему имя, хотя в период Директории обряд крещения уже не существовал.
Откуда взялось имя «Оноре»[9], которое Бальзак для госпожи Ганской превратил в «Норе»? Никто из семьи по материнской и отцовской линии не мог припомнить ни одного Оноре. Сестра Бальзака Лора утверждает, будто Бернар-Франсуа заглянул в святцы. Ничего подобного, 20 мая — день святого Бернардена. Возможно, Бернар-Франсуа подумал, что Бернару не пристало иметь сына по имени Бернарден.
Оноре. Почему бы и нет? Бернар-Франсуа создал себя сам, его сыну остается лишь воспользоваться этим, завоевать уважение. Добавим, что имя «Оноре» пользуется в Туре большой популярностью. Там жил Оноре д’Юрфе, создатель «Астрея», произведения, которым зачитывались сотни читателей XVII и XVIII веков. Так или иначе Бернар-Франсуа проявил большую проницательность, ибо «Астрей», хоть и написанный в буколическом жанре, это прежде всего исследование характеров и нравов придворного общества. Точно так же и Бальзак в «Человеческой комедии» решит показать нравы Парижа и французской провинции. В Туре жил еще один Оноре, мэтр Оноре, миниатюрист конца XIII века, прозванный Оноре с улицы Бутебри. Его «Декреталии», хранящиеся в Сен-Грасьене, представляют собой шедевр, напоминающий о былых школах живописи, когда художник долго и тщательно выписывал цветы, пейзаж, лица, прически, меха.
Бальзак с головой погружался в работу. Всю свою жизнь он спешил и остановился лишь затем, чтобы умереть. Но и он вкусил радость кропотливой работы. Наконец скажем, что имя «Оноре» вполне подходит Бальзаку еще и потому, что он обожал почести и очень часто уподоблялся герою Корнеля:
ЛОРА И ОНОРЕ
«Меня еще младенцем отдали в семью жандарма», — напишет Бальзак госпоже Ганской. Люсетта Бессон провела изыскания в архивах Сен-Сир-ан-Валя, где Оноре провел три года. — Нет, не жандарма. Муж кормилицы, как утверждает Жак Морис, послужил прообразом матроса из первого романа Бальзака «Стени». Он пил водку, как родниковую воду, а затем, вконец опьянев, поносил жену, бывшую, похоже, прачкой.
Бальзак вспоминает о «грушевом дереве, в тень которого эта женщина укладывала его, когда отправлялась работать», а также о храпе кормилицы.
Детство Бальзака неразрывно связано с его сестрой Лорой, родившейся 24 сентября 1800 года. Отданные в семью кормилицы, «невинные и нежные», «вылепленные из одного теста», они вместе ели, пили, спали… Лора и Оноре жили, как Поль и Виргиния.
В «Стени», романе, пробуждающем воспоминания о счастливом детстве, родная сестра превращается в молочную. Дель Риес умирает оттого, что не смог на ней жениться. В «Арденнском викарии», появившемся в ноябре 1822 года, двое детей с трудом продираются сквозь высокие заросли. Брат идет впереди, придерживая ветви руками. Он останавливается как вкопанный, когда сестра оступается на скользком склоне… Брат дарит сестре цветы, фрукты, ветви: «Каждое гнездо оказывалось в ее прелестных руках прежде, чем она успевала этого пожелать». Если Оноре начинал плакать, к нему подводили сестру, он улыбался и успокаивался. Если Лоре было плохо, о ее страданиях возвещали вопли Оноре, а Лора затихала, чтобы успокоить брата. Лора, ставшая впоследствии Лорой Сюрвиль, вспоминала, что брат позволял наказывать себя вместо нее. В «Стени» Дель Риес корит себя за то, что однажды допустил, чтобы сестру наказали за содеянный им проступок. Дель Риес не мог себе простить «столь подлого предательства». С этого момента он стал для своей молочной сестры родным братом и его братская любовь вознесла его на вершину блаженства.
«Этот человек, любит ли он так же, как я?» Бальзак будет часто писать эту фразу, добавляя, что с чувством любви, «спутником своей жизни», он познакомился не по романам и не по надуманным любовным интрижкам. «Это чувство проснулось во мне, освещенное непорочным очарованием любви нашего детства».
Очень долго Лора и Оноре будут разговаривать словно любовники, памятуя о кровосмесительной жизни у кормилицы. Они скоро забудут о сельском мирке, но каждый деревенский пейзаж воскрешал в памяти тот забытый уголок.
В июле 1831 года Бальзак, решив развлечься, совершил пешее путешествие из Тура в Саше. Он остановился в Пон-де-Рюане. Было воскресенье, и дома, вернее хижины, возведенные без какого-либо фундамента, опустели. Молодая крестьянка вела за руку маленькую девочку. За ней бежали «четыре мальчугана, одетые в лохмотья, но все отважные, шумливые, наглые». Чьи они? Сироты, дети из приюта, который «содержит одна старуха, получая за каждого воспитанника три франка и кусок мыла в месяц».
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
7 апреля 1802 года в семье Бальзаков родилась вторая дочь Лоранса. В свидетельстве о крещении (13 мая) Бернар-Франсуа назвал себя «собственником» и прибавил к своей фамилии дворянскую частицу «де».
Лора и Оноре вернулись к родителям в 1803 году. Бернару-Франсуа покровительствовал генерал барон Жильбер Франсуа де Поммерель, префект департамента Эндр-и-Луара.
Поммерель, артиллерист, писатель и философ, родился в 1735 году. Будучи последователем физиократов, он написал небольшой опус, направленный против тяжелых принудительных работ: «О наименее дорогостоящих методах содержания дорог» (1787). Он посвятил себя развитию крепостной артиллерии. Отважный, но осторожный, этот человек издал в 1781 году в Лондоне и в 1783 году в Женеве памфлет «Исследование происхождения религиозного и политического рабства народа Франции». Когда началась Революция, он служил полковником артиллерийского полка, расквартированного в Неаполе. Он не возвратился на родину и его записали в эмигранты. В Италии он встретился с Бонапартом, который решил использовать его военный опыт, но Поммерелю было уже за 60. Он предпочел вернуться в Париж и стать историографом «Итальянских кампаний генерала Бонапарта». В декабре 1800 года он был назначен префектом департамента Эндр-и-Луара и переехал в Тур. Ему выпало счастье вновь увидеть Бернара-Франсуа, который, как утверждают, вытащил его из нищеты в 1796 году, одолжив 10 тысяч экю. В Туре Поммерель издавал «Календарь», в котором святые уступили место великим людям, совсем как у Огюста Конта. А девушки теперь могли носить такие имена, как Лаис, Аспазия, Нинон.
В 1800 году в Туре, как и по всей Франции, церкви теряли прихожан, колокольни оставались без колоколов, святые лишались голов, нефы и крыши были открыты всем ветрам. Да будет так! Вместе с тем префект очень заботился о могиле Агнессы Сорель, прекрасной дамы, любовницы Карла VII с 1443 по 1450 год. Ее саркофаг находился на клиросе собора Святого Гасьена, затем каноники перенесли его в боковую часовню, которая была разрушена во время Революции. Отреставрированную надгробную статую установили потом в одной из башен замка Лоша, а на ее постаменте выбили надпись: «Я — Агнесса. Да здравствует Франция и любовь!».
Что касается похорон, то префект был полон идей. Он хотел учредить ритуал, основанный на обычных человеческих чувствах. Во время похорон будут произносить речи, возлагать цветы, курить благовония и каждый присутствующий, стоя у могилы, скажет: «Прощай, мы последуем за тобой, когда наступит наш черед, установленный природой. Прощай. Прощай».
Неизвестно, произнес ли эти слова Бернар-Франсуа, венерабль Совершенного Согласия Тура, на могиле своего тестя, умершего 22 мая 1803 года в Париже от апоплексического удара. Немного погодя бабушка Саламбье поселилась у них. Бальзаки расширили свои владения. Они жили в прекрасном особняке с конюшней и садом на улице Эндра-и-Луары, переименованной позднее в Национальную. В том же 1804 году они купили ферму Сен-Лазар и 16 гектаров земли при выезде из Тура. Это было «церковное имущество» с многочисленными строениями и часовней, приспособленной под гумно.
Попечитель богоугодных заведений Тура Бернар-Франсуа был назначен заместителем мэра. Заведование приютами для бедных было делом не из легких. Префект Поммерель чинил препятствия возвращению монахинь и священников, хотя и делал это исподтишка. Однако Бонапарт хотел сделать церковь союзницей трона. И он начал ее возвышать. Он приравнял священников к чиновникам. Возвращались «ссыльные». Католическую религию вновь возвели в ранг государственной, архиепископ Тура заново открыл семинарию. В богадельни снова пришли «серые сестры» странноприимного ордена. Между префектом и архиепископом разгорелась война. Неравная, ибо префект мог быть смещен со своей должности, а епископ, превратившийся в духовного префекта, безраздельно владел умами служителей культа. Никогда при старом режиме епископ не обладал такой полнотой власти.
Из-за распрей с архиепископами Тура, монсеньором Буажеленом, а затем монсеньором де Барралем, в 1806 году префект Поммерель лишился своего места. Его сменил барон Ламбер, который вскоре подверг преследованию Бернара-Франсуа. В конфиденциальном письме, написанном в феврале 1808 года, новый префект обвинил Бернара-Франсуа в присвоении восьми миллионов ассигнациями, что позволяло ему «купаться в роскоши, в то время как его родители, проживавшие в Кантале, располагали весьма скудными средствами». Бернара-Франсуа спасло письмо сенатора Клемана де Ри, отправленное на имя министра внутренних дел: «Господин Бальзак наделен редким умом. Он навел в богоугодных заведениях суровый порядок и строжайшую экономию».
Бернару-Франсуа всегда удавалось ловко избегать неприятностей и давать своим друзьям повод поддержать его. И на сей раз Бернар-Франсуа стал благонамеренным гражданином. Он восхищался самоотверженностью сестер-монахинь и ратовал за пополнение их рядов. Ему удалось создать себе репутацию верующего и добропорядочного человека, что позволило не покидать службу до февраля 1814 года.
СЕМЕЙНЫЙ КРУГ
Госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак стала заметной женщиной в Туре, в городе «веселом, насмешливом, влюбленном, свежем, цветущем пышнее, чем все остальные города». В провинции, равно как и в Париже, величественно-надменное общество безрассудно бросается в удовольствия, как под пушечные выстрелы.
Дети не портили своим присутствием вечера. Их выдворили на четвертый этаж. Перед ужином гувернантка мадемуазель Делае подводила Лору и Оноре к матери. «Их улыбки гасли под испепеляющим огнем суровых глаз».
Однажды летним вечером Оноре обыскались и наконец нашли в саду. «Что вы делали здесь?» — «Я смотрел на звезды». — «Разве в вашем возрасте изучают астрономию?!» Другие дети, которые поливали растения, развели в саду жуткую грязь. Кто виноват? Мать отчитывает Оноре. Он доставляет ей одни неприятности, потому что не желает быть как все. Своенравный ребенок быстро становится несносным.
В своих во многом автобиографических произведениях («Луи Ламбер», «Лилия долины») Бальзак отводил важную роль своей матери, которую он, впрочем, никогда не покидал.
С портретов госпожа Бернар-Франсуа Бальзак взирает на нас слегка высокомерными, смеющимися и пронзительными глазами. Бальзак находил их суровыми, а ее крепко сжатые губы представлялись ему стальным клинком.
Короче говоря, он страдал от сдержанного и отчужденного отношения, с каким родители в буржуазных семьях относились к своим детям. Хорошо воспитанный ребенок должен вставать, когда родители входят в комнату. Нельзя отвечать невпопад. Нельзя резко и нелепо жестикулировать. Нельзя глупо хихикать. Следует всегда быть серьезным и ответственным и работать в одиночестве. Воспитателям рекомендовано проявлять суровость. «Детей воспитывали как собак».
ТАЙНА
Изменяла ли госпожа де Бальзак своему супругу?
На портретных изображениях Бернар-Франсуа полон самообладания и степенности. Это благоразумный, рассудительный человек, лишенный ребяческого тщеславия, но с самодовольной улыбкой. Губы выражают обеспокоенность, скорее даже страх, переходящий в иронию, поскольку ничто из пережитого Бернаром-Франсуа не могло его обесчестить. Те, кто видел его одетым в мундир директора службы продовольственного снабжения, отмечали «его выступающий живот и короткое, немного откинутое назад туловище». Он считался остроумным, но сильный южный акцент многим мешал понимать его шутки.
Его супруга пользовалась слишком большим успехом, чтобы не вызывать кривотолков. От родственников-басонщиков она узнавала о новых веяниях парижской моды и своими туалетами восстановила против себя всех женщин Тура. Сама того не желая, она вызывала зависть.
Устав от женских козней, госпожа де Бальзак предпочитала мужскую компанию. Она часто устраивала приемы. На этих приемах царило веселье, там шутили, расточали любезности; иначе почему здесь столь часто бывали важные государственные мужи: кригскомиссар, второй заместитель мэра, управляющие богоугодными заведениями, мэр?
От Мари-Шарлотты Лепаж, вдовы Жермена Брюлея, это общество знало обо всех государственных секретах и о «темном деле»: ограблении сенатора Клемана де Ри и взятии его в заложники ворами, о выкупе и освобождении, похожем на чудо. Процесс состоялся в Туре в 1801 году. Но о 19 днях плена, об инициаторах заточения де Ри, причинах его похищения Бернар-Франсуа получил секретную информацию, которая ставила под сомнение лояльность Фуше и полиции — в самый разгар сражения при Маренго.
Поскольку Бальзаки знали эту тайну, их нельзя было исключить из круга общения, даже если благополучие этой семьи вызывало жгучую зависть.
Кроме именитых граждан, которые приезжали к Бальзакам играть в карты, обсуждать сплетни или переброситься остротами, в Туре проживали англичане и испанцы — пленники чести, сосланные сюда под наблюдение префекта.
В 1809 году всех англичан, попавших в плен начиная с 1803 года во время боевых действий, отправили в Тур. Они образовали немного надоедливое не слишком дружное сообщество. Префект «просил Администрацию присылать как можно меньше англичан, поскольку их и так уже слишком много». Николь Мозе выявила около тридцати семей, чьи фамилии встречаются в туренских романах Бальзака «Стени», «Ванн-Клор», «Озорные рассказы», «Лилия долины». Эти английские семьи возбудили интерес Бальзака. Английские женщины проявляли обостренную чувственность и влюбленную покорность, А пары, жившие в согласии, соблюдали правила приличия. «Супружеская спальня — это священное место, куда доступ запрещен даже служанкам». И если английские мужчины возбуждали у женщин Тура любопытство, то француженки внушали англичанам страх. Получилось так, что английские семьи жили своей собственной жизнью и не имели обыкновения наносить французам визиты вежливости. Испанцы, напротив, были более общительны. Похоже, что в 1805 году госпожа де Бальзак поддерживала добрые отношения с испанцем Фердинандом Эредиа, графом де Прадо Костеллане. Все сходились во мнении, что «для испанца» он мал ростом, зато отлично сложен. Было известно, что он ухаживает за своими руками «при помощи многочисленных щеточек, которыми обычно пользуются женщины». Его довольно длинные волосы были прекрасно уложены. Он носил тонкое и чистое белье.
Между госпожой де Бальзак и Эредиа установилась нежная дружба. Свободный как ветер Эредиа обрел семейный очаг, где муж был слишком занят, и сделался незаменимым. Похоже, что он стал верным рыцарем госпожи Бальзак. Она оказала ему, страдавшему от одиночества, радушный прием, но их отношения никогда не опускались до фамильярности. Эредиа служил прикрытием для другой любви Лоры. И эта любовь не обошлась без последствий.
В 1807 году Жану-Франсуа Маргонну или де Маргонну исполнилось 28 лет. Он был на два года моложе Лоры Бальзак. Судя по многочисленным свидетельствам, на сей раз ошибиться невозможно: ребенок, родившийся в семье Бальзаков 21 декабря 1807 года, приходился Маргонну сыном. Бернар-Франсуа зарегистрировал ребенка в мэрии и окрестил в церкви в присутствии крестного отца младенца Анри-Жозефа Савари, который приходился Маргонну одновременно тестем и дядей. Савари и Маргонн подарили ребенку свои имена: Анри-Франсуа…
В семье ящик с секретами не был заперт на ключ. В 1832 году Бальзак написал матери, что собирается передать господину Маргонну весточку от Анри, которому исполнилось 25 лет. Годом раньше Анри уехал на остров Маврикий. В июне 1848-го Бальзак сообщал госпоже Ганской: «Господин де Маргонн приходится Анри отцом». Мари-Аликс Саллейкс, внебрачная дочь господина де Маргонна, была его единственной наследницей, но двести тысяч франков золотом он завещал Анри, плоду любви, которого лелеяла мать и осыпал подарками дед, господин Савари.
С 1803 по 1807 год, с четырех до восьми лет, Оноре жил с родителями. Он поступил в пансион Ле Ге «приходящим учеником по классу чтения». А его сестры посещали занятия в пансионе, который содержала семья Воке, турские владельцы типографии. В 1811 году их имя оказалось связанным с неким скандалом.
Воке входили в число тех семей, которые плодились и размножались вплоть до того, что «становились нацией». В «Сценах провинциальной жизни» Бальзак выводит семьи, похожие на питона, обвивающего дерево. Прочно осев в Туре в XVI веке, Воке заключали брачные союзы между родственниками, не желая допускать раздела имущества. Они «высоко держали планку» и навязывали городу свои законы. После Господа Бога были лишь Воке. Это у зятя владельца типографии Бернар-Франсуа купил ферму Сен-Лазар в 1804 году. При содействии префекта Поммереля одна из дочерей Воке в 14 лет вышла замуж за помощника типографа департамента. Зять и тесть основали торгово-банковский дом. Они полагали, что их авторитет зиждется на солидной основе. В одночасье они скупили земли в разных районах Франции. Один из Воке стал администратором департамента. Он получил высокую должность в Генеральном казначействе. В 1808 году новый префект Ламбер потребовал провести расследование. В ходе расследования выяснилось, что у Казначейства и у частного предприятия семьи Воке, владельцев типографии, была общая касса. И Воке присвоили себе 700 тысяч франков. В Туре разразился грандиозный скандал.
Типографию Воке выкупит Мам, а к 1835 году, когда Бальзак напишет «Отца Горио», фамилия Воке уже канет в Лету. Семьи, похожие на Воке, которые держали в своих руках город, район, религию, вновь появились в Туре, Алансоне, Немуре… но уже на страницах «Человеческой комедии».
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Как проводили родители вечера вместе с детьми? Читали ли они вслух Библию, основные цитаты из которой следовало знать назубок? Ведь эти тексты учат жить во имя будущего, любить свою семью, быть преданным близким и отечеству, почитать Бога и уважать самого себя. От них исходит сверхъестественная энергия.
Детские впечатления Бальзака, на всю жизнь врезавшиеся в память, — это Бытие, Золотой век, царивший до тех пор, пока люди не стали совершать ошибки, свойственные цивилизованной жизни. Исход, из которой дети узнали об этапах жизни человечества. Книга Судей, в частности история Самсона, повествует о том, с каким упорством жители защищали свою страну вплоть до того дня, когда Самсон, на свое несчастье, прельстился чувственной жизнью. При столкновении с могуществом Женщины мужчина теряет свою силу. «Пятикнижие» — это Закон, это откровения Моисея, который успешно осваивал бесплодную землю и тем самым стал предтечей инженеров и агрономов: он оросил пустыню.
«Песнь песней», «поэма души, помнящей о небе», — это еще и поэма, утверждающая, что никто никогда не любит в полной мере свою единственную возлюбленную. Как же иначе можно идти к венцу, не торопясь, тщательно рассматривая во всех подробностях прелести невесты, узнавая все о человеческом теле, каждая часть которого сравнима с тем, что есть самого прекрасного в мире? По мнению Жана-Эрве Доннара, изучавшего тему «Бальзак читает Библию», книга пророка Даниила и в особенности пир Валтасара часто возникают между строк «Человеческой комедии», чтобы напомнить богачу, что он и так уже богат и не должен отнимать последний кусок у бедняка.
Это общеизвестная история: Валтасар, последний царь Вавилона, пирует. Яства подаются в священных сосудах, некогда вывезенных Навуходоносором из Иерусалимского храма. Внезапно чья-то рука выводит на стене три загадочных слова: «мене, текел, фарес». Пророку Даниилу велено объяснить значение написанного. Он заявляет Валтасару: «Исчислено царство твое; ты взвешен на весах и найден очень легким; будет разделено царство твое».
Чтение Библии в кругу семьи должно было вызывать восторг у юного Бальзака. Из ее текстов вытекали правила поведения, которых станут придерживаться персонажи «Человеческой комедии». Они будут жить так, как жили люди в прошлом и как до сих пор живем мы. Кто же они, действующие лица «Человеческой комедии»? Люди, которые, с одной стороны, часть истории человечества, а с другой — руководствующиеся рациональными правилами, поскольку «нововведения» могут оказаться опасными, если не соотносить их с ранее существовавшими принципами. Бальзак будет долго размышлять над изречением Шамфора: «Общество представляет собой вовсе не апофеоз развития природы, как это все полагают, а, напротив, ее распад. Это второе здание, возведенное из обломков первого».
Образ отца, драматическая сила которого в полной мере проявится в «Отце Горио», воплощает в себе «Христа отцовства», а его страсти сродни страстям Спасителя человечества.
В предисловии к «Отцу Горио» Роза Фортассье перечисляет тех человеколюбивых, нежных и заботливых отцов, которых выводил Бальзак в своих юношеских романах. То эти отцы не знают, что еще сделать для своих дурно воспитанных детей, то они впадают в детство после смерти обожаемой дочери («Аннетта и преступник»), то проявляют малодушие и ради детей идут на какие-нибудь отчаянные поступки. Но и матери тоже могут превратиться в отцов Горио. В сознании Бальзака чувство отцовства и чувство материнства тесно переплетаются, как инициалы на приданом новобрачных. Объединившись, мать и отец дают своим детям достойное воспитание, чтобы те стали такими, какими им надлежит быть. Тем не менее когда Бальзак думал о своей семье, он вспоминал не о том, что она ему дала, но о том, что она у него отняла. Бальзак воспел идеальную семью, поскольку его собственная оказалась далекой от идеала именно из-за матери, слишком занятой собой, и отца, слишком занятого делами, чтобы уделять внимание собственным детям. В один прекрасный день им будет вынесен приговор. «Приходит день, когда дети начинают мстить; их равнодушие, порожденное разочарованиями в прошлом, обрастает замшелыми обломками надежд, и теперь они платят тем же, и продолжается это до самой могилы» («Лилия долины»).
Каждый роман «Человеческой комедии» ставит проблемы семейной жизни: если она удалась, то через нее устанавливается согласие между внутренней жизнью, где дети находят убежище, и внешним хаосом, где дети подвергаются опасности. Плохо подготовленный к жизни ребенок ощущает на себе несправедливости и находит единственное спасение, когда вступает в борьбу, собрав воедино все свои нравственные силы. Бальзак навсегда останется несчастным ребенком, который предается бесконечным мечтаниям и питает надежды и иллюзии. Он хочет, чтобы общество перестало унижать его, пошло ему навстречу, приняло его и восхитилось им.
А как же Евангелие?
В Туре это было делом Церкви. Госпожа де Бальзак считала религию одним из правил приличия. Она была замужем за именитым гражданином. Поэтому ее семья должна была по праздникам присутствовать на мессе. В соборе Бальзаки занимали лучшие места. Можно подумать, что они просто-напросто выставляли себя напоказ, а вовсе не молились. И это почти правда. Церковь производила сильное впечатление на детей. Собор Святого Грасьена был мрачным. Нужно было напрягать зрение, чтобы различать в нем предметы. Вверху располагались хоры «с многочисленными стрельчатыми арками, украшенными тонкими маленькими колоннами. Друг от друга их отделяли витражи». Когда глаза привыкали к полумраку, они начинали лучше видеть, но увиденное по-прежнему представлялось «полуявью, полусном». Собор, который так часто описывал Бальзак, — это архитектурный танец. Пересекающиеся колонны мелькают, словно копья на турнире, рождая мысль о постоянном движении. В центре «улыбается огромный Христос, закрепленный на алтаре». Он находится там, чтобы принимать толпы верующих. «Моя религия, — писала госпожа де Бальзак дочери, — основана скорее на нравственности, нежели на обрядах, скорее на надеждах, нежели на страхе».
Бальзак никогда не смешивал понятие христианской веры и католицизм. Христианская вера, выражающая учение Иисуса, принадлежит Богу, посланницей которого она и является. В этом суть мистических сочинений Бальзака, которые, словно фантастические лестницы, ведут от земли к небу. Но существует и католицизм, принадлежащий человеку. Сущность Церкви порой открывалась Бальзаку в леденящих душу видениях. Он видел ее, словно в Апокалипсисе, то в облике Небесной жены с младенцем на руках, то в образе Великой Грешницы. Или же, подобно Лютеру, он видел, как ловко присваивала она мирское богатство и на какие жестокости была способна, «пускаясь во все тяжкие и развязывая войны, дабы устроить подобие всемирного потопа». Он представлял ее и жеманной сморщенной старухой, размахивающей костлявыми руками. Но Христос по-прежнему несет мирозданию свет, и один лишь Господь Бог позволяет познавать движение людей и светил, столь беспорядочное, если смотреть с земли.
ЖЕСТОКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО
22 июня 1807 года восьмилетнего Оноре поместили в Вандомский коллеж, откуда он вышел шесть лет спустя.
Бальзак не раз пожалел о том, что во время обучения его готовили к духовной карьере. Учеба в коллеже не увлекала его, к тому же ему приходилось сожалеть о нехватке другого воспитания, того, которое при старом режиме называлось великосветским и которое получили некоторые из его друзей.
Дворянин сызмальства учится верховой езде. По утрам он занимается фехтованием и стреляет из пистолета, после чего отправляется в манеж. В остальное время он учится быть любезным. Тот, кто владеет искусством нравиться, владеет всем. При этом обучение происходит естественно, в обществе матери и сестер, и не требует ни малейших усилий.
В 1808 году детей из буржуазных семей воспитывали по единому образцу: школьная дисциплина должна была сформировать их личность, дать им знания, поставить перед ними цель.
Вандомский коллеж был одним из самых известных во Франции. Революция секуляризовала его. С 1792 по 1795 год он назывался Национальным коллежем, затем, в 1795–1802 годах, — Центральной школой. Здесь появились новые учителя. Будучи по сути своей чиновниками, они четко следовали инструкциям, не вникая в смысл постановлений Учредительного собрания. Собрание решило переодеть священнослужителей в цивильный костюм, пусть так! Рясу уберем в сундук! Обучение в только что созданной Высшей нормальной школе было поставлено очень хорошо. Господин Дессень, учитель математики, посещал лекции Лагранжа, Монжа и Бертолле, выдающихся ученых с мировым именем. Будучи священником, присягнувшим Положению о Церкви от 1790 года, Дессень смог жениться. Вместе со своим шурином, господином Марешалем, он начал воплощать в жизнь, заручившись поддержкой государства, методы обучения, которые не слишком изменились с XVIII века. Орден ораторианцев всегда называл науку — наукой, а душу — душой. Точно так же как наука предпочитает механику схоластике, душа отвергает любую мысль о колдовстве.
Детям, помещенным в Вандомский коллеж, следовало забыть о жизни в семейном кругу. Ученики никогда не покидали стен коллежа, даже во время каникул. Оплаченная родителями по заранее обусловленной цене ученическая форма была сшита по одной и той же выкройке из материи, выбранной коллежем: круглая шляпа, небесно-голубой воротничок, сюртук из серого сукна. Ученикам вменялось в обязанность стирать, чистить, опрятно содержать одежду, равно как мыться и ухаживать за своим телом. После утреннего туалета прислужницы причесывали и припудривали детей. По воскресеньям надзиратели проводили тщательную проверку комнат, куда ученики предварительно сносили все свое имущество. Воскресные исповедь и письмо, написанное родителям, — вот единственно допустимые формы личной жизни. За все время, что Оноре провел в коллеже, он всего лишь дважды видел своего отца.
По воскресеньям, когда погода благоприятствовала прогулкам, ученики, построившись парами, отправлялись во владения господина Марешаля. Наставники поощряли составление гербария и позволяли предаваться здоровым удовольствиям. Дети осваивали ходули, играли в мяч или наблюдали за жизнью животных. У каждого ученика был на попечении голубь, о котором он заботился и которого кормил специально отложенной в столовой пищей. Во время еды ученикам разрешалось негромко и спокойно разговаривать и даже обмениваться тарелками и досаливать блюда. На уроках не слишком радивым задавали дополнительные задания. В отдельных случаях применялись телесные наказания. Школьная процедура наказания розгой напоминала армейскую. Провинившийся ученик становился на колени перед кафедрой. Он выслушивал причину наказания и какое-то время стоял в ожидании удара. Преподаватель начинал бить тогда, когда это было ему угодно, причем количество ударов заранее не оговаривалось.
Ученикам предписывалось избегать «дурного влияния богатства», и в то же время многие из них, в отличие от Бальзака, получали от родителей достаточно денег, что обеспечивало им более приятную жизнь. Бальзак же не мог принимать участие в играх, поскольку у него не было ни скакалок, ни мячей, ни ходулей.
Примерных учеников награждали распятием и знаком отличия — красной лентой. Старшеклассники, составлявшие элиту коллежа, поступали в Академию, и им предоставлялась привилегия читать развлекательные книги: сказки в стихах или в прозе, послания и трагедии.
Суровый опыт коллежа поможет Бальзаку в 1832 году создать роман «Луи Ламбер», вызывавший восхищение Флобера, Алена-Фурнье и Монтерлана.
В качестве прототипов Луи Ламбера принято называть несколько реальных лиц. Но прежде всего Луи Ламбер — это сам Бальзак, наделенный квазимагической силой, повзрослевший, окрепший. Он берет реванш над своими товарищами, наносившими ему оскорбления. Он раздваивается. Он одновременно и ребенок, который покорно все сносит, и взрослый, который изобличает все то, с чем столкнулся в детстве. Луи Ламбер в воспоминаниях переживает свой приобретенный в коллеже опыт с яростью подростка и в то же время с пониманием сформировавшейся личности, проникнутой духом перемен и отрицания ненавистных устоев воспитания. Эти устои омрачили детство Бальзака и наполнили его слова горечью.
Луи Ламбер, как и Бальзак, написал в ранней молодости «Трактат о воле», чтобы укрепить свой нравственный дух. Он больше чем друг, он совершенный друг, тот, с кем не боязно пойти на край света, поскольку Луи Ламберу, наделенному сверхъестественными способностями, ставящими учителей в тупик, подвластно все. Он — чародей. Его глаза то яростно сверкают, то излучают небесное сияние. Его красота, равно как и ум, возносит человеческий род на ангельские вершины. А поскольку Луи Ламбер в конце концов впадает в безумие, то Бальзак будет избегать вести тот образ жизни, который наделил Луи Ламбера даром ясновидения.
Первое известное нам письмо Бальзака написано 1 мая 1809 года и адресовано матери. За успехи в устной латыни он получил похвальный лист и томик «Истории Карла XII» Вольтера. Он завел толстую тетрадь, и ему ставят хорошие отметки. Но его учитель Лазар-Франсуа Марешаль недоволен: «От него ничего нельзя добиться ни на уроках, ни при выполнении домашних заданий; он испытывает стойкое отвращение к обязательным занятиям». Провинившегося ученика запирали в чулан. В этой темнице Бальзак однажды провел целую неделю. Рекордсмен по карцеру или, как назвали его ученики, «деревянной клетке», Бальзак заставляет работать свое воображение. Он изобретает перо с тремя кончиками, которое позволяет быстро переписывать дополнительные задания к уроку. Он много читает, а чтобы его не смогли застать врасплох, он разбрасывает пустые ореховые скорлупки по пути следования надзирателя. Они трещат под ногами, и таким образом возвещают, что надзиратель совершает обход.
Начиная с 1806 года отец Огюстен Лефевр, сорокалетний ораторианец, бывший библиотекарь, а по призванию поэт, драматург и философ, станет поощрять занятия ученика Бальзака. Бернар-Франсуа мечтал, чтобы его сын поступил в Политехническое училище. В распоряжении отца Лефевра находилось две-три тысячи книг, попавших в библиотеку в годы Революции, когда были разгромлены аббатства и замки. Тогда эти книги продавались на вес.
В Вандомском коллеже Бальзак слыл поэтом из-за своей склонности к необузданному восторгу. Заслуга отца Лефевра, в то время занимавшего должность классного наставника, состоит в том, что он впервые попытался упорядочить это неуправляемое воображение. Бальзак начинает прилежно читать произведения авторов, фамилии которых сейчас очень трудно установить. В «Луи Ламбере» он приводит слишком длинный список книг, и поэтому возникают сомнения, что он мог прочитать их все в действительности. Но книги разбудят чувствительность Бальзака. Они привьют ему любознательность и разовьют склонность говорить на любые темы, научат столь пылко возражать, что учителя придут в изумление.
Существует каталог библиотеки Вандомского коллежа, ставшей ныне муниципальной библиотекой. Упомянем лишь одно произведение, вышедшее в свет в 1810 году: «Знаменитые дети» Ж.-П. Нугаре. Автор повествует об одиннадцатилетнем Паскале, пишущем трактат о звуках; в 16 лет он опубликует трактат о коническом сечении. Пико делла Мирандола в самом юном возрасте постигнет всю совокупность человеческого знания, он овладеет 22 языками. Несчастный ребенок Кандиак де Монкалм (1719–1726) умрет в 7 лет из-за чрезмерного увлечения греческим языком и латынью.
Первое причастие, первое слово, сказанное доброму священнику, чистая правда, которую нужно открыть духовнику… но молитва в одиночестве — вот в чем таится истинная вера, истинная сила. Это внутренний диалог с Богом. Обуреваемый страстями или только изображающий их, Бальзак уверовал в могущество своей воли, «единственной вещи, которая у человека схожа с тем, что ученые называют душой», но это не просто душа, а душа, наделенная сознанием, «энергичная сила в высшей степени подвижная и неуловимая».
ОЦЕПЕНЕНИЕ
22 апреля 1813 года коллеж известил родителей Бальзака, что их сын должен покинуть учебное заведение. Согласно установленному обычаю Бернару-Франсуа сказали: «Ваш сын обладает всеми качествами, кроме тех, которые нам подходят. Мы ничего не можем поделать». Расплывчато? Бальзак не был ни бездельником, ни сорванцом. В 1809 году он получил похвальный лист за успехи в устной латыни, а в 1812 году — за успехи в письменной латыни. Сестра Бальзака Лора увидела своего обожаемого брата «исхудалым, тщедушным, будто впавшим в оцепенение». И в самом деле на протяжении всех шести лет учебы в коллеже родителям ни разу не пришла в голову мысль улучшить рацион питания своего сына. В своих запасах он держал только сыр «оливе» и сухофрукты. «У тебя нет ничего вкусненького?» — удивлялись его товарищи. В «Луи Ламбере» о возвращении домой умалчивается. Родители, встревоженные состоянием здоровья сына, забрали его из коллежа.
Пьер Ситрон по-своему истолковывает это возвращение, основывая свои выводы на новелле «Сарацин». Мальчика «изгоняют» из коллежа. Ожидая своей очереди идти в исповедальню, он вырезает из большого полена «довольно циничную фигуру», несомненно похожую на Христа в состоянии сексуального возбуждения. Сарацин любит резать по дереву. Бальзак не создавал никаких скульптур, но он мог написать некое непочтительное произведение.
Эта история представляется сомнительной, но с тем же успехом она может оказаться предельно верной. Природа наделила Бальзака достаточно оригинальным умом, чтобы он смог придумать какую-либо проделку, совершить какой-либо кощунственный поступок, который неминуемо повлек бы за собой исключение из коллежа. Шесть лет учебы в коллеже, шесть лет затворничества — это достаточно долгий срок, чтобы он, наконец, не выдержал унижений наставников, надоедливости своих товарищей, равнодушия родной семьи, жгучей ревности, которую вызывали у него более одаренные ученики, нежели он сам. Суровая жизнь коллежа угнетала его. Тем не менее жестокая разлука с семьей, поначалу ввергнувшая Оноре в отчаяние, помогла ему так глубоко осознать самого себя, собственную одаренность, собственное видение мира, что в нем проснулась жажда жизни. Какое счастье быть самим собой!
ДОМ АТРИДОВ
Бальзак вернулся в Тур в апреле. Он провел с матерью всю весну и часть лета. Его каникулы свелись к общению с одиннадцатилетней Лорансой и шестилетним Анри. До сих пор Оноре ни разу его не видел. Мать окружает младшего сына «сумасшедшей лаской», а бабушка взирает на этого ребенка с восхищением, зная, что он не приходится сыном Бернару-Франсуа, которого она ненавидела всей душой. В 1849 году Бальзак странным образом напомнит матери о том, что никогда не ощущал ее любви: «Богу и тебе известно, что с момента моего появления на свет ты не осыпала меня ни ласками, ни нежными заботами. Ты поступила правильно. Если бы ты меня любила так же сильно, как любила Анри, я бы разделил его участь. В этом смысле ты была мне хорошей матерью». В тот год Бальзаку исполнится 50. А в 1813 году четырнадцатилетний Бальзак скорее мечтал о том, как отомстить матери, поглощенной своей страстью к любовнику (а возможно, и любовникам) и забывшей о приличиях.
Младшего брата холили и лелеяли, прощая, как бы несносно он себя ни вел. Старшему брату так и хотелось его прибить. Тема братьев-соперников, один из которых — законный сын, а другой — побочный, возникнет в «Тридцатилетней женщине». Мальчик и девочка прогуливаются по берегу реки вместе с матерью. Их сопровождает ее любовник. Угрюмая девочка отталкивает от себя младшего брата, когда тот подходит к ней и протягивает охотничий рог. Воспользовавшись отсутствием матери, которая пошла проводить своего друга, девочка сильно толкает брата. Тот катится по крутому склону, разбивает себе лоб и падает в реку. Когда мать вернулась, юная преступница напускает на себя невинный вид. Маленького мальчика навсегда приняла вода. Он уничтожен, а вместе с ним исчезло все то, что влекло за собой семейные невзгоды и неурядицы.
В первой редакции этого произведения вместо девочки выведен старший брат, толкающий с откоса любимца матери. «Быть может, он отомстил за своего отца, — пишет Бальзак. — Ревность его, кажется, была Божьей карой».
Пьер Ситрон выделил еще два рассказа, повествующие о преступлении против любовника матери. Речь идет главным образом о господине де Маргонне. В «Послании» (1832) повествователь должен возвратить графине письмо, которое она отправила любовнику, смертельно раненному при аварии дилижанса. Прежде чем выполнить поручение, посланник предупреждает обо всем мужа. Но тот восклицает: «Моя жена придет в отчаяние». Посланник встречается с глазу на глаз с графиней. Он говорит:
— Я пришел от имени того, кто называет вас желанной: сегодня вы его не увидите.
— Он болен?
— Он велел мне открыть вам некоторые тайны.
— Что случилось?
— А если он вас больше не любит?
— О! Это невозможно!
Внезапно она вздрогнула и спросила:
— Он жив?
Посланник не осмелился сказать правду. Графиня не выходит к обеду. Муж и посланник ищут ее. Они слышат, как кто-то рыдает в риге. «Жюльетта, движимая отчаянием, зарылась в стог сена, чтобы заглушить ужасные рыдания».
«Послание» появилось в «Ревю дэ дё Монд» 15 февраля 1832 года. Хотел ли Бальзак растревожить госпожу де Берни, которая, читая этот рассказ, зальется слезами, вопрошая себя, что же лучше: потерять мертвого или живого любовника? Предвидел ли Бальзак, как это предполагает Пьер Ситрон, насколько будет потрясена его мать, узнав о смерти Маргонна?
Маргонн умер в 1858 году, через восемь лет после смерти Оноре и через два месяца после смерти своего побочного сына Анри, скончавшегося в нищете в военном госпитале Дзаудзи.
«Гранд-Бретеш» — еще одна месть Бальзака. Обманутый муж возвращается домой. Он заподозрил, что жена спрятала в укромном уголке любовника, испанского дворянина графа Бахоса де Фередиа. Нарушившая супружескую верность женщина клянется на распятии, что она дома одна. Муж не обращает на ее клятвы ни малейшего внимания и велит позвать каменщика. Фередиа будет заживо замурован.
Когда каменщик начинает работать, неверная жена падает в обморок. В течение двадцати дней муж не отходит от нее ни на шаг. В первое время, когда раздавались неясные шорохи в замурованном чулане, и Жозефина (жена) хотела вступиться за умирающего, муж отвечал, не позволяя ей проронить ни единого слова:
— Вы поклялись, что там никого нет.
Бальзак с величайшей болью описывает старый коричневый дом, где разыгралась драма. Этот дом походит на монастырь, который покинули монахи. Он дышит кладбищенским покоем: «сегодня — это дом прокаженного, завтра он превратится в дом Атридов».
По словам Николь Мозе, издателя рассказа «Гранд-Бретеш», переименованного в «Другой этюд о женщине» в последующих изданиях, рукопись не оставляет и тени сомнения: в первоначальном варианте Бальзак написал, а затем зачеркнул «Бахос де Эредиа». Так звали испанского офицера, к которому Лора Бальзак благоволила в 1805 году.
НА ПУТИ С ПАРАДА НА БАЛ
В начале лета 1813 года Оноре уехал в Париж. Ему было четырнадцать лет, и он поступил пансионером в учебное заведение Ганзера, расположенное на улице Ториньи. Ему приходилось наверстывать упущенное. Оноре сначала зачислили в третий класс, но вскоре перевели на класс ниже. В 1814 году, к окончанию Русской кампании, он опять пошел в третий класс коллежа Тура.
В Париже у Ганзера ученики занимались по программе коллежа Карла Великого. Аббат Ганзер подчинялся архиепископу Кельна. Он принял духовный сан в Париже. В 1824 году он будет назначен директором лицея Святого Людовика.
С лета 1813 года по весну 1814-го, именно в то время, когда Император пристально следил за движением иностранных армий, вступивших уже на территорию Бельгии, Бальзак жил в Париже. Он прекрасно понимал, что «если неприятель вступит в Париж, Империя прекратит свое существование». 24 января 1814 года Наполеон дал аудиенцию офицерам Национальной гвардии. Он просил их взять под свою защиту Марию Луизу и римского короля.
В последних парадах, устроенных Наполеоном, есть нечто угрюмое и тягостное. 13 января Бальзак присутствовал на параде кавалерийских и пехотных полков на площади Карусель. Султаны развевались на ветру, переливались разноцветные мундиры и ордена. Позади каждого полка можно было заметить трехцветные знамена, прикрепленные к пикам. Когда появился император, толпа задрожала от восторга. «Франции предстояло прощание с Наполеоном накануне кампании, опасности которой предвидел самый последний гражданин» («Тридцатилетняя женщина»). В этот день Бальзак увидел Наполеона. Тогда ему хотелось прикрыть, защитить этого человека, но позже его отношение к Наполеону изменилось. Наполеон — это «маленький, довольно упитанный человек, одетый в зеленую форму и белые рейтузы и обутый в высокие сапоги». Он носит треугольную шляпу, «широкая лента ордена Почетного легиона колышется на его груди, а сбоку висит небольшая шпага».
Через два месяца, 12 марта, Бордо сдался, а герцог Ангулемский провозгласил Людовика XVIII королем. 29 марта Наполеон находился в Труа, Мария Луиза и римский король уехали в Блуа. Талейран остался. 31 марта правительство собиралось у Талейрана, который заявил: «Людовик XVIII олицетворяет собой основу государства. Он законный король».
13 марта герцог Ангулемский направился из Бордо в Париж, где он собирался встретить своего дядю, Людовика XVIII. Старшему сыну будущего короля Карла X тридцать восемь лет. У него за плечами бурная жизнь. В 1787 году Людовик XVI и Мария Антуанетта решили женить его на своей дочери, которой только исполнилось девять. Революция не дала этим планам осуществиться. Герцог и принцесса обвенчались в 1799 году в Митаве, куда им пришлось бежать. Герцог закончил артиллерийские курсы в Турине. Затем поступил добровольцем на английскую службу и вместе с армией Веллингтона пересек испано-французскую границу. 2 февраля 1813 года из Сен-Жана-де-Люза герцог обратился с воззванием к французским солдатам и Франции, «которая ему очень дорога и чьи оковы он только что разбил». Забыв о пережитых невзгодах, «он доверчиво распахнул перед французами свою душу». «Солдаты! Мои надежды не будут обмануты! Я — отпрыск ваших королей, а вы — французы».
Следуя по пятам за маршалом Сультом, герцог приехал в Мон-де-Марсан, затем в Бордо, Тулузу, Монтобан. Во всех этих городах он обещал «забвение прошлого, счастье в будущем. Больше не будет ни податей, ни ненавистных налогов, будет провозглашена свобода отправления религиозных культов, торговля и промышленность получат поддержку, никто не станет посягать на „национальное имущество“[10]. Убытки будут возмещены. Чиновникам не придется вновь присягать на верность королю, магистраты сохранят свои должности».
25 мая Тур устроил герцогу триумфальный прием. Бернар-Франсуа, должно быть, чувствовал себя неспокойно. Он, вероятно, не присутствовал ни на мессе в соборе, ни на балу в ратуше, равно как и его «слишком больная, чтобы выходить из дома, жена», если судить по страницам романа «Лилия долины». Был ли Оноре на балу, состоявшемся в августе по случаю второго приезда герцога? И не был ли он случайно одет, как маленький старичок, из «Лилии»: «штаны персикового цвета с стальными пряжками, которые сверкают словно драгоценные камни»? Был ли юный Оноре прельщен молодой красавицей, от которой исходил пьянящий аромат мирры и алоэ и чьи плечи «он быстро, но многократно целует столь страстно, что остаются следы»?
По мнению П.-Ж. Кастекса, поцелуй в плечи, это первое внезапное и молниеносное проявление любви Феликса к госпоже де Морсоф, — проявление того самого неосознанного стремления, возникающего вновь в другом произведении Бальзака, в «Послании». Безусловно, этому порыву следует придавать определенное значение. Юный Бальзак ненасытен, он готов набрасываться на женщин подобно дикому зверю.
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НЕДОСТАТОЧНО, НЕОБХОДИМО БЫТЬ СИСТЕМОЙ»
В 1814 году Бернару-Франсуа исполнилось 68. Начиная с 1807 года он публиковал записки, ставящие перед собой благородные цели, эдакие труды эдила, который, следуя лучшим традициям эпохи Просвещения и беря за основу успехи человеческой цивилизации, хотел принести пользу всему обществу, особенно тем, кто сбился с пути истинного, и беднякам. В 1807 году появилась «Памятная записка о том, как предупредить кражи и убийства». В ней Бернар-Франсуа поставил вопрос о реадаптации мелких преступников. Следует заметить, что эта проблема не потеряла свою актуальность и в наши дни. Подобных преступников уже не вешали за кражи, как в XVIII веке, но заключали в тюрьмы или отправляли на каторгу. А тюрьмы, утверждал Бернар-Франсуа, дорого обходятся казне и к тому же разлагают заключенных. Почему бы их не заменить особыми мастерскими, которые должны быть созданы в каждом регионе? «Общественный порядок неизбежно окажет благотворное влияние на эти извращенные шайки, и цель самосовершенствования будет достигнута». Тюрьмы, система правосудия, судебные процессы только разоряют общество, лишая его трудоспособных мужчин и женщин. В «Отверженных» Виктор Гюго напишет: «Зародыши преступлений формируются в инкубаторах тюрем».
В 1808 году Бернар-Франсуа написал «Памятную записку о постыдном распутстве публичных девок», затем — записку о покинутых матерях и матерях-одиночках. Бернар-Франсуа понимал, что закон не привнесет никаких изменений в «непреодолимое влечение к продолжению рода», но матери-одиночки должны обрести крышу над головой, а не просить милостыню на улицах. Почему им приходится воровать, чтобы прокормить своих детей?
В 1809 году появляется еще одна записка, на сей раз о «двух великих обязанностях, возложенных на французов». В этой брошюре автор настоятельно советует возвести во славу Императора новую пирамиду, увенчанную колоссальной бронзовой статуей и украшенную барельефами, число которых должно непременно соответствовать числу существующих во Франции департаментов. Другая обязанность французов заключается в признании ими диктатуры. Демократия — это ловушка, это участь праздных государств, где каждый может себе позволить совершать дерзкие выходки и допускать ошибки, что в конце концов приводит к саморазрушению. Единственная реальная власть — это преуспевающая и продолжительная власть. Она использует все силы, совпадающие с ее стремлениями и служащие ей верой и правдой.
В том же году Бернар-Франсуа написал записку, где воздал хвалу памятникам. Император знает, что слава государственных деятелей равна высоте зданий, построенных по их приказу. Бернар-Франсуа как всегда «придерживался правильной линии». Он хотел видеть города красивыми, но главным образом — полезными для здоровья. В те времена не существовало ни водопровода, ни канализации. Необходимо разработать стратегию проведения строительных работ, развития промышленности, возрождения сельского хозяйства. Богатое государство — вот условие поддержания общественного порядка.
Подобное созидательное и организующее государство станет политическим кредо Бальзака начиная с 1830 года: «Назначение представительного правительства провоцирует нескончаемую бурю, поскольку меньшинство нации не устает повторять, что оно большинство, и достаточно какого-нибудь одного-единственного обстоятельства, чтобы признать его правоту. Таким образом, подобное правительство всегда зависит от одного-единственного обстоятельства. Тогда как сущность правительства состоит прежде всего в его устойчивости».
В то же самое время, как заметил Пьер Барбери, Бальзак часто ссылался на сен-симонистскую формулу: «Разве существует что-либо более величественное, нежели либерализм, опережающий свое время?»
В богоугодных заведениях Тура Бернар-Франсуа учитывал все случаи бешенства. Это было настоящее социальное бедствие. По меньшей мере две тысячи человек ежегодно умирали в страшных мучениях. В 1809 году у издателя Мама Бернар-Франсуа опубликовал в Туре, где, впрочем, вышли в свет все его произведения, «Историю бешенства и способ защитить, как в былые времена, от этой напасти людей». Он потребовал, чтобы собак не убивали, а облагали специальным налогом их владельцев. Подать на собак обязала бы хозяев животных заявить о них. Таким образом, были бы уничтожены бродячие собаки, представлявшие наибольшую опасность. Тарифы следовало установить, основываясь на критериях пользы, приносимой собаками. Овчарок нужно было оценить в три франка; сторожевых собак — в шесть; охотничьих — в девять; а редкопородных — в пятьдесят.
11 февраля 1814 года Бернар-Франсуа ушел в отставку с поста администратора богоугодных заведений Тура. Он переиздал «Историю бешенства», но уже без посвящения Императору. В июле он послал министру Королевского дома брошюру о конной статуе, которую французы должны воздвигнуть для увековечения памяти Генриха IV.
Эта статуя, стоящая на Новом мосту, имеет длинную историю. Лошадь отлили для Генриха III, короля, проживавшего на принадлежавшей ему площади Дофины. Статуя Генриха IV на острове Сите была возведена в августе 1614 года и разрушена в августе 1792-го. В 1815 году ударными темпами установили временную гипсовую фигуру. На смену ей пришла современная статуя, внутри которой замурована «Генриада» Вольтера.
Бернару-Франсуа не суждено было испытать радость от претворения в жизнь его проекта. 1 ноября он был назначен на должность директора провиантской службы Парижа. Он вновь состоял под началом своего прежнего покровителя, генерального поставщика Даниеля Думерка, который получил на пять лет монопольное право поставок провианта и фуража. Жалованье Бернара-Франсуа доходило до 7500 франков в год. Семья в полном составе поселилась в доме 40 (теперь № 122) по улице Тампль.
Из Парижа вскоре исчезнут, как писал Шатобриан, «приверженцы Республики и Империи. Теперь они с воодушевлением станут приветствовать Реставрацию». Бернар-Франсуа умел приспосабливаться и не был в этом смысле исключением.
Через всю жизнь Бальзак пронес воспоминания о квартале Марэ, где ему вскоре предстояло жить. Этот квартал сохранил черты средневекового города. Узкие улочки, в большинстве своем грязные, заваленные мусором. Тусклый свет от фонаря, привязанного веревкой к столбу. В квартале насчитывалось не более 60 общественных водоемов. По утрам овернцы доставляли воду зажиточным горожанам. В домах пользовались масляными лампами. Их не гасили до самой ночи, чтобы иметь возможность поработать или просто скоротать вечер.
«О! Бродить по Парижу! Восхитительное существование!» С 1815 года Бальзак исходил вдоль и поперек этот экстравагантный Париж эпохи заката Империи. В нем были обветшалые здания, безвкусно отреставрированные, развалины разграбленного особняка с винтовыми лестницами, потайными дверцами, выходившими на соседнюю улицу, и толстыми решетками, напоминающими о тюрьме. В нем были и «лоскутные монастыри», как скажет в 1824 году Виктор Гюго о малом Пикпюсе. Париж пестрил черным, серым и бурым цветом. Революция многое разрушила, и теперь все ждали, когда вновь воцарится спокойствие, чтобы начать восстановительные работы. Великими соглядатаями Парижа тех времен стали так называемые «полуночники» — Ретиф де Ла Бретон, Виктор Гюго, Бальзак. Все трое, с разницей в 10–20 лет, предпочитали ночной город. Ночью их никто не замечал.
В 1814 году газ уже был, но его еще не провели. Во мраке ночи город принадлежал тем, кто осмеливался в столь поздний час выходить на улицу. Это артисты, которые шли куда глаза глядят из любви к бродяжничеству. Это потерявшиеся, словно в лесу, пьяницы. Это любовники, сжимавшие друг друга в объятиях. Это влюбленный, спешивший на свидание и иногда несший в руках веревочную лестницу. Это бродяга, уже вынувший нож, но вынужденный по приказу стражника остановиться…
Бесчисленное множество раз в «Часе из моей жизни» (1822), «Нищем» (1830), затем в «Феррагусе», «Златокудрой девушке», «Дьяволе в Париже» Бальзак вспомнит об этом Париже, открытие которого наполняло его молодость радостью!
«Каждая дверь вызывает у меня воспоминания, каждый уличный фонарь наводит на мысли. Еще не построен ни один дом, не снесено ни единого здания, рождение или смерть которых я бы не подстерег. Я участвую в огромном круговороте этого мира, словно я породнился с ним… Мне принадлежат бульвары, тени Тюильри, лилии Люксембургского сада, молодые колонны Пале-Рояля. Да! Никто лучше меня не знает того восхитительного времени, когда Париж засыпает, когда раздается последний стук колес запоздалой кареты, когда затихают песни подмастерьев… Возникает необъяснимое удовольствие! Видите ли, каждый бульвар имеет свои особенности, каждый час неподражаем».
Но не только аристократический бульвар Сен-Жермен, на который он попал лишь в 1829 году, стал Парижем Бальзака. Париж Бальзака — это прежде всего город мелких торговцев и ремесленников, теснившихся в узких улочках, словно сельди в бочках. Вот, например, сидит штопальница. Она занимается починкой, «расположившись в нише, изготовленной из обручей от бочек и брезента». Многие лавки раскинулись прямо под открытым небом. Торговец считает, что хорошо устроился, если у него есть стол, стул, глиняная печь, возведенная за ширмой, которая служит витриной, и если он защищен от непогоды крышей из красного холста, прикрепленного к стене. Во всех этих лавочках торгуют потрохами, зеленью, рыбой. Овощи продают бродячие торговцы, непрестанно зазывающие: «Я слышу, как болтушка несет свою петрушку». По утрам в город пригоняют стада животных, которых отводят к мяснику, и тот забивает их прямо на улице. Рынков как таковых не существует, зато есть тенты из красного холста, и под ними продают все, что душе угодно. Тут «торгуют чернилами, крысиной отравой, трутом, кремнем», каштанами. Вот торговец дарами моря восседает на стуле перед грудой ракушек. Цены зависят от времени года. Вишни стоят то два лиарда, то полсу; курица и рыба — 30 су. Бальзак, никогда не расстававшийся с воспоминаниями юности, превратился в ярого противника «роскоши», торговли в магазинах с витринами, вывесками, рекламой… Из-за этого великолепия «монета в сто су стала стоить гораздо меньше, чем некогда стоил один экю». Роскошь Парижа повлекла за собой нищету провинции и пригородов. Жертвами богатой жизни стали рабочие шелкоткацких фабрик Лиона. В «Дьяволе в Париже» (1844) Бальзак напишет: «У каждой отрасли промышленности свои ткачи»[11].
ОТ ЛИЦЕЯ ДО КОРОЛЕВСКОГО КОЛЛЕЖА
С ноября 1814-го по сентябрь 1815 года, четыре раза в день, юный Бальзак мерил Париж шагами. Родители поместили его в пансион Ж.-Ф. Лепитра, находившегося на улице Тюренн в доме 9. Теперь это дом 37–39 на той же улице. Пансион размещался в огромном здании, окна которого выходили в сад. На рассвете учеников будили «зануды», именно так в то время называли учителей интернатов. Затем следовали утренний туалет, совершаемый на скорую руку, завтрак, занятия, на которых повторяли вчерашние задания и перемена. Перед тем как отправиться на уроки, ученики, имевшие карманные деньги, задерживались у консьержа, торговавшего отвратительным кофе времен Континентальной блокады. Герой «Лилии долины» Феликс де Ванденесс страдает от того, что это угощение ему недоступно. Потом ученики строились парами и шли в лицей Карла Великого. Только государственные учреждения имели право вести обучение и выдавать аттестат об окончании учебы. Эти драконовские законы были введены во времена существования Империи, сохранились они и при Реставрации.
Моиз Ле Яуанк провел целое расследование относительно деятельности Лепитра и его заведения.
В 1814 году Бернар-Франсуа и Лепитр «возобновили знакомство». Оба были франкмасонами; оба, когда наступали смутные времена, вели двойную игру. Братаясь с экстремистами Коммуны, они в то же самое время оказывали помощь именитым гражданам, с которыми водили знакомство еще при старом режиме. Добавим к сказанному, что учебное заведение Лепитра значилось в «Королевском альманахе». С тех пор как был учрежден конкурс между четырьмя основными лицеями Парижа, пансион Лепитра часто выходил победителем.
При Людовике XVIII дородный, грузный, хромой Лепитр стал национальным героем. Бальзак вспомнил о нем в «Лилии долины» (1836). С помощью муниципального чиновника Тулана, поддерживавшего связь с роялистски настроенным генералом де Жаржэ, преданные люди готовили побег королевы из Тампля. Тулан вовлек в заговор своего коллегу Лепитра. В конце июня их обоих выдала прислужница из Тампля. В 1794 году Тулан был казнен. Лепитра бросили в тюрьму Сент-Пелажи, затем в Консьержери, но ему удалось добиться оправдательного приговора.
Во время Империи Лепитр написал учебник по мифологии, «предназначенный для учеников младших классов» и озаглавленный «История богов, полубогов и героев, почитаемых в Риме и Греции».
После торжественного въезда Людовика XVIII в Париж он опубликовал «Пять романсов для знаменитых узников Тампля».
100 ДНЕЙ ГЛАЗАМИ УЧЕНИКА ЛИЦЕЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО
20 марта 1815 года в пансионе роялиста Лепитра был отдан приказ «гнаться». «Гнаться за кем? — пишет Шатобриан. — За волком? За главарем разбойников? Нет, гнаться за Наполеоном, который погнался за королями, схватил их и навечно поставил на их плечах клеймо в виде неизгладимой буквы Н». Все это закончилось «эскападой», бегством короля в Гент.
Присутствие Наполеона в Париже вызвало в пансионе чрезвычайное оживление. Лепитр и его «зануды» были вынуждены непрестанно следить за учениками, которые сжигали белые знамена и прокламации Людовика XVIII и распевали «Марсельезу» и другие революционные песни. Студенты расхаживали по городу, держа в руках бюст Наполеона, увенчанный лавровым венком и фиалками. 2 апреля Бальзак смог издали наблюдать за банкетом, устроенным на Марсовом поле для 15 тысяч национальных гвардейцев. В конце церемонии солдаты, следуя примеру легионеров античности, скрестили шпаги и сабли и крикнули: «Умрем за Отечество!» 16 апреля Наполеон произвел смотр своих войск.
Невозмутимый Наполеон, лишь иногда поворачивавший голову, чтобы лучше оценить своих солдат, присутствовал на параде в течение двух часов, а между тем среди студентов распространился слух, что на него готовится покушение и что жить Наполеону осталось не больше четверти часа.
18 июня 1815 года, в день битвы при Ватерлоо, волнения в коллежах не утихали. Ритуал церемонии вручения премий в лицее Карла Великого был нарушен. Все суетились, воображали себя Наполеоном или солдатом Империи. Директор лицея и надзиратель присутствовали на этом одновременно триумфальном и поминальном празднестве. 28 августа они были уволены, а некоторые ученики отчислены.
На протяжении 15 лет молодежь отдавала Наполеону, его героям, его короне, его мечте о вселенской Империи весь жар своих сердец. В этот день многие ученики принесли бы в жертву даже свою жизнь, лишь бы только увидеть, пусть на одно мгновение, как Наполеон в своей треуголке маршировал в Дрездене перед королями Европы, в сопровождении эскорта принцев, идущих с непокрытой головой.
При Людовике XV Франция вела войну в Европе. Страна выдержала эту войну только благодаря введению дополнительных налогов. Германия, Австрия, Пруссия были повергнуты, а их государственный строй ослаблен. Во Франции, хотя государство и погрязло в долгах, отдельные семьи, напротив, разбогатели. 1815 год стал годом реванша Европы, объединившейся против Франции. Самая богатая, самая густонаселенная страна Европы пала. Иностранные державы отобрали у Франции то, что некогда взяли с боем французские армии. Теперь была разорена Франция, а другие государства обогатились.
К началу учебных занятий 1815 года лицей Карла Великого переименовали в Королевский коллеж. Бальзак поступил в класс риторики. Он учился у Абеля Франсуа Виллемена (1790–1870) по меньшей мере до ноября. Виллемен вскоре написал «Историю Кромвеля», книгу, которая вдохновила Бальзака на создание своего первого произведения, трагедии «Кромвель». Виллемен, будущий министр народного просвещения, будущий постоянный секретарь Французской Академии, остался для Бальзака учителем, «создающим историю словами, не обращая ни малейшего внимания на идеи».
Бальзак объявил войну этому заведению, менявшему свою политику под воздействием сиюминутных интересов, возведенных в ранг нравственных принципов. Подобное обучение надсаживает, уравнивает, калечит умы. Политехническое училище, студентом которого Бернар-Франсуа мечтал видеть сына, превратило бы его, как и всех остальных, в мозг, изнуренный сторонним воздействием, «сначала просеянный через сито, как поступают садовники с семенами», затем помещенный «в большой мешок под названием Высшая школа» и «перетряхиваемый в течение трех лет», прежде чем из него получился бы «заурядный инженер, самый высший из нижних чинов» («Прощенный Мельмот»).
ПРЕДАТЕЛЬСТВО КЛЕРКОВ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР
В октябре 1815 года Бальзак распростился с заведением Лепитра и стал воспитанником Ганзера, благо родители жили неподалеку. Единственная возможность вырваться из стен пансиона — это уроки танцев, но по приказу матери его водили туда под надежной охраной, и на обратном пути сопровождали до самых дверей пансиона. Мать единолично решала, следует ли разрешить Оноре присутствовать на семейных торжествах. О! Если бы он имел склонность трудиться, мать не написала бы столь укоризненное письмо: «Добрый, уважаемый господин Ганзер сказал мне, что ты занял 32-е место по латинским переводам. Ты прекрасно понимаешь, что 32-е место в лицее не дает тебе права участвовать в празднике, посвященном Карлу Великому, который был выдающимся, рассудительным человеком и любил трудиться. Так что забудь о каких-либо развлечениях. Твоя неусидчивость вынуждает меня оставить тебя в пансионе».
В сентябре 1816 года Оноре покинул заведение Ганзера. Теперь он должен был зарабатывать себе на жизнь. Он нанялся младшим клерком в контору поверенного Жан-Батиста Гийонне-Мервиля, которая находилась на улице Кокийер, в доме 42.
Несомненно, Бальзаку платили мало. Клерки находили его слишком невзрачным. По правде говоря, ему не сиделось на месте. Мать заставила его поступить на юридический факультет. Она точно вычислила время, которое занимала дорога, и Оноре вынужден был придерживаться составленного ею расписания.
Юношескую радость и воодушевление по любому поводу, которые были ему столь необходимы в жизни, Бальзак черпал в учебе. Молодые клерки любили балагурить, они были ленивы, недисциплинированны, ветрены, и все это доставляло немало хлопот старшим клеркам. В 1842 году Бальзак написал в «Начале жизни»: «Своими нравами клерк похож на парижского мальчишку, а своей участью — на сутягу. Он насмешливый ребенок, распевающий куплеты, придуманные им самим».
В то время молодые клерки развлекались тем, что изобретали свой собственный язык. Они употребляли самые банальные изречения и выражения, придавая им противоположное значение, переиначивали пословицы и поговорки, играли словами:
— Скука родилась в день создания университета.
— Замышляющий подлость уличает свою жертву.
— Одним ударом выбить два пальца.
— Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто тебя ненавидит.
— Не все золото, что блестит.
— Пирожник без сапог.
— Осторожность — мать глухоты.
— Не оставляй на виду, не вводи вора в грех.
— Печатная душа.
— Аппетит приходит во время еды.
— Знакомый до боли.
— Никогда не прячут то, что ищут.
— Женщина — это домашняя рабочая змея.
До конца своих дней Бальзак собирал каламбуры, забавляясь игрой слов.
Едва клерки снова приступали к работе, им становилось слышно, как гудит печка, от которой по диагонали расходились трубы. Во время занятий все казалось отвратительным. И в первую очередь — запах остатков пищи, смешанный с запахом канцелярского клея. В четыре часа главный письмоводитель пил специально приготовленный шоколад. Клерк жил, «зарывшись головой в груду дел, на деле бывших сущими пустяками». Позади его конторки висели пожелтевшие афиши, обрывки объявлений, сообщавшие об аресте имущества, распродажах, окончательной или предварительной продаже с торгов.
В апреле 1818 года Оноре поступил в качестве ученика в контору господина Виктора Пассе, располагавшуюся на улице Тампль в доме 40, в том самом доме, где Бальзаки занимали антресольный этаж. Мать хотела, чтобы Оноре стал преемником господина Пассе.
Вечером, придя в комнату старшего клерка Жанвье, Оноре впервые почувствовал, что он дома. Он пел, танцевал, декламировал театральные пьесы, играл в экарте, делая ставки по два су.
Клерки не раз заставали его читающим. Он обложил свою конторку книгами, но чаще всего читал и перечитывал томик Монтеня. Возможно, Бальзак размышлял над следующим высказыванием: «Никогда не взваливайте на себя бремя воспитания детей и уж тем более не поручайте это своим женам. Пусть привычка растит их в умеренности и суровости».
ГРАФИНЯ И ЕЕ НИЩИЙ
Зачем, повествуя об этом периоде жизни Бальзака, когда он был младшим клерком, упоминать о таком произведении, как «Полковник Шабер»? Ведь оно будет написано только через 15 лет, в 1832 году[12].
Я бы сказал, что тем самым мы поднимаем вопрос об окружавших Бальзака людях. Этот мрачный и порой омерзительный рассказ освещен присутствием молодых клерков, решительно настроенных все поднять на смех, а также присутствием поверенного Дервиля, опытного, неукоснительно следующего букве и духу закона человеколюбивого нотариуса.
В образе Дервиля все бальзаковеды узнали господина Гийонне-Мервиля, давнего друга Бернара-Франсуа. Они познакомились в революционных секциях, располагавшихся по соседству. Один из них принимал участие в работе секции Бобура, другой — в работе секции Короля Сицилии.
22 июня 1800 года Гийонне-Мервиль был назначен поверенным. В те годы это была очень уважаемая профессия. Он исполнял свои обязанности с достоинством, не слишком стараясь способствовать росту числа прошений, не чиня проволочек, не выступая в качестве посредника, одним словом, не стремясь обогатиться. В 1817 году он занял должность в магистратуре и был назначен мировым судьей VI округа.
Гийонне-Мервиль выработал замечательное жизненное правило, которое должно вдохновлять всех тех, кто взял на себя нелегкую заботу утешать и мирить людей, находящихся на грани ссоры: «Я всегда полагал, что человек, пребывающий на земле столь недолго, обязан, если это в его власти, сверкнуть благодетельной звездой, а не ужасным смерчем, оставляющим после себя горе и руины».
Чтобы отыскать истоки «Полковника Шабера», следует непременно обратиться к тем годам, что Бальзак провел в нотариальной конторе. Нет необходимости напоминать, что вся «Человеческая комедия» наполнена «делами», судебными процессами, завещаниями, фидеикомиссами, лишением прав и мировыми соглашениями. Вот и произведение «Полковник Шабер» первоначально называлось «Мировая сделка». Творчество Бальзака черпает вдохновение в судопроизводстве. Бальзаковские персонажи часто судятся. Если они предстают перед судом, то вызывают сочувствие, поскольку виновность отдельного человека не идет ни в какое сравнение с вредоносностью порочного общества, которое и довело его до крайности. Напротив, жалобщик, пришедший в суд, чтобы извлечь выгоду или причинить зло своему близкому, олицетворяет собой чудовищную часть человечества, имеющую наглость утверждаться в своей жестокости. Перед судьей поставлена трудная задача решить спор между безумцами, заблудшими, ворами и лгунами. Романист занимает позицию свидетеля, от которого требуется не высказывать свое мнение, а беспристрастно описывать события. Такая позиция наиболее удобна. Понятно, что учеба у господина Гийонне-Мервиля и у других поверенных предоставила Бальзаку много сюжетов для романов. «Приглядитесь внимательно. Уверяю вас, здесь есть над чем подумать», — говорит Гийонне-Мервиль Скрибу, который также служил клерком. Должно быть, и Бальзаку приходилось слышать эти слова.
Пьер Ситрон занимался поисками литературных истоков «Полковника Шабера» и нашел их в таких романах, как «Солдатская сирота» Ж. Бруссара и «Переход через Березину» Эмиля Дебро. Упомянем также исторические хроники, и особенно двадцать девять томов хроники «Победы, завоевания, неудачи и гражданские войны французов с 1792 по 1815 год», к которым часто обращался Бальзак, а также «Записки» Марбо. Израненный, затерявшийся в бескрайних снегах корпус Марбо был смят 90 эскадронами Мюрата, бросившимися в атаку. Напомним, что отца Альфреда де Виньи, погребенного под сугробом, спасла теплота тела лошади, упавшей на него. Ниже мы расскажем о герцогине Лоре д’Абрантес. Она вдохновила Бальзака на создание «Сцен военной жизни». В этот цикл вошли только два романа: «Шуаны» и «Страсть в пустыне», опубликованные в тринадцатом томе «Человеческой комедии» издания Фюрна. Другие военные рассказы, написанные Бальзаком в 1829–1830 годах, — «Эль-Вердуго», «Прощай», «Марана», «Мобилизованный солдат» были помещены в «Философские этюды». Генералу Жюно, герцогу д’Абрантес, которого сочли погибшим и бросили на поле брани, снесло часть черепа. Рана зарубцевалась, но сквозь тонкую плеву четко просматривалась кора головного мозга. Полковник Шабер изувечен подобным же образом. Его вид заставляет содрогнуться: искалеченный до неузнаваемости Шабер должен был умереть.
На любой войне есть солдаты, которых считают погибшими. Без документов, без денег, подчас потерявшие память, как Зигфрид де Жироду, они медленно бредут наугад, желая вернуться на родину. И многие возвращаются. Некоторых из них встречают с распростертыми объятиями после столь продолжительного отсутствия. Родители и жены ждут человека, который скажет им: «Это я, Одиссей». Им неважно, что он так неузнаваемо обезображен. Но существуют и отвергнутые. Они предпочитают погибнуть на войне, нежели смириться с уготованной им судьбой.
Образ солдата-«привидения» принадлежит народному фольклору. «Он выступает, — как заметил Пьер Барбери, — разоблачителем общества, которое его встречает с полным равнодушием и которое продолжало жить своей жизнью без него».
Через все произведение красной нитью проходит мысль, что только человек, вернувшийся на родину чужестранцем, сохранил безупречные и правдивые воспоминания. Для всех остальных прошлое искажено потоком жизни. Когда полковник Шабер хочет припасть к подножию Вандомской колонны и крикнуть во весь голос: «Я — полковник Шабер, прорвавший каре русских при Эйлау!», он пробуждает к жизни яростный мир Великой армии Наполеона. За прошедшее с тех пор время социальный и судебный мир, с которым он вступает в схватку, изменился. Этот мир осквернен деньгами и тщеславием, которые, как в кошмарном сне, не дают дышать.
Числившийся среди погибших в Эйлау, Шабер чудом выбрался из своей могилы. Похоронить себя не представляет никакого труда. Зато восстановить человеку имя — воистину невозможное дело. Смерть отобрала у него больше, чем дала жизнь. В Германии, а затем во Франции Шабер вынужден покоряться произволу чиновников, которые принимают его то за сумасшедшего, то за попрошайку, но никогда не верят в то, что перед ними герой.
Когда мы начинаем явственно представлять себе тех, кого уже нет, нам кажется, будто разделяющая нас пропасть исчезает. Но оказывается, что тьма этой пропасти гораздо более непроглядна, чем сама преисподняя, когда живые не говоря ни слова взирают на без вести пропавших, словно те никогда не жили. Жена Шабера, урожденная Роза Шапотель, бывшая проститутка, ставшая графиней Ферро и родившая во втором браке двух детей, может унаследовать имущество и ренту полковника Шабера. Она вычеркнула из своей жизни первого мужа, чье внезапное возвращение препятствует достижению ее главной цели, состоящей в восхождении по социальной лестнице.
Кто проявит большую стойкость: нищий или графиня? На стороне нищего бумаги, удостоверяющие его личность, подробные документы, затребованные поверенным Дервилем в Германии. Господин Гиацинт, живущий в тесной каморке при скотном дворе и спящий на соломенной подстилке, безусловно полковник, а впоследствии генерал Империи, командор ордена Почетного легиона. На стороне графини — респектабельное положение в обществе. Разве она может ему сочувствовать, коли его существование делает из нее двоемужницу, которой придется отказаться от детей и от места при дворе Людовика XVIII!
Нищему и графине лучше всего пойти на «мировую». Эти слова господин Дервиль дважды говорит и мужу, и жене. В противном случае Шаберу придется трижды подавать прошение, дойти до верховного суда, который один может окончательно признать, что Шабер не скончался, а всего лишь отсутствовал продолжительное время. Впрочем, и тогда вопрос останется открытым, ибо суд может счесть, что возвращение первого мужа создает семейные сложности, и объявить этот брак, в котором не было детей, недействительным.
Похоронить Шабера во второй раз не представляет особого труда. Но поверенный человеколюбив. Он предлагает Шаберу и его жене, которая наконец соизволила узнать своего первого мужа, встретиться в Грослее, загородном доме графини Ферро. Какую сумму затребовать, чтобы согласиться признать, что ты более не существуешь? Госпожа Ферро воспользуется всеми чарами Розы Шапотель, чтобы разжалобить Шабера. В первоначальной редакции произведения жена настолько вскружила голову полковнику, что он потребовал добавить в контракт условие, согласно которому «в течение двух дней, в самом начале и в середине месяца, и так ежемесячно, будут соблюдаться все супружеские права».
Жена согласна на подобную идиллию, а Шабер «решительно настроен принести себя в жертву ради счастья» супруги. Но существует закон. Он проводит грань между миром благородства, миром возвышенных чувств и гражданскими обязанностями. И грань эта столь же четкая и жесткая, как грань между жизнью и смертью.
Графиня убеждена, что полковнику Шаберу не нужно ничего, кроме денег, и что, получив их, он окончательно перестанет существовать. Подписав заверенный нотариусом документ, он признает себя самозванцем, даже если он о том и пожалеет.
Услышав этот «акт отречения, составленный в выражениях столь недвусмысленных», Шабер взбунтовался. Он не позволит сделать из себя обманщика, уж лучше отправиться в приют Бисетр, где он перестанет называть себя Шабером и навсегда останется Гиацинтом.
Выросший в приюте для подкидышей, Шабер «умрет в богадельне для престарелых, завоевав в промежутке между обоими своими пребываниями в приюте всю Европу», — произнесет Бальзак великолепную фразу, впрочем, несколько измененную в окончательном варианте произведения.
Неспроста, по мнению Бальзака, священник, врач и юрист носят черные одежды — это траур «по всем иллюзиям».
Можно также утверждать, что черные одежды помогают людям забыть то, что должно быть забыто, и даже, если в том возникает необходимость, свою личность, свою семью и саму жизнь.
Став никем, Гиацинт остается «старым хитрецом, настоящим философом». Он гораздо счастливее, чем Шабер, всеми силами пытавшийся вернуть расположение женщины, которой он внушал ужас, и мира, который унизил его.
ГЕНИЙ ИЗ МАНСАРДЫ
В 1817 году Французская Академия объявила литературный конкурс на тему «Счастье, которое проистекает из учебы». 4 августа 1819 года Оноре поселился в комнате на улице Ледигьер. «Это самое удачное решение человеческой жизни», — напишет он потом. Через год-другой станет ясно, наделен ли он талантом.
Если уж таланта нет, придется смириться и устроиться на работу, которую предлагают родители: клерк в нотариальной конторе, мелкий служащий или делопроизводитель.
Бальзак слишком много пострадал от коллективной жизни в коллеже, чтобы согласиться работать в конторе. Благодаря нотариусам, которые использовали его труд, Бальзак познал суть «ученичества», окунулся в замкнутый мирок, где каждый в любую минуту может стать мишенью для насмешек и злых шуток. Он никогда не забудет: «И в полку, и в суде — это все тот же коллеж, с некоторыми отличиями. Служащие, проводящие в конторах по восемь часов, видят в них нечто вроде классов, где начальник заменяет директора, а денежное вознаграждение является своего рода наградой за хорошее поведение, даруемой любимчикам» («Служащие»).
И хотя Бальзак был наделен талантом, он отчетливо осознавал, что участь его тем не менее будет не из лучших. Ему суждено было жить в одиночестве, и горе тому, кто одинок, этому бесприютному скитальцу, который постоянно скрывается от преследований, принеся свою жизнь в жертву правде.
Два года, прожитые в мансарде, станут решающими. У Бальзака войдет в привычку неистово работать в полном одиночестве. На протяжении всей своей жизни он будет одновременно «игроком и ставкой». Он посвятит жизнь созданию произведений, которые обретут в его глазах таинственный, священный, грозный облик. Перед тем как создать очередной роман, Бальзак испытывал тревогу вдохновения, надежду успеха и даже страх смерти. На долгое время он лишался аппетита, бродил словно призрак по кабинету, отказываясь выходить на улицу и не придерживаясь формальностей, столь важных для начинающего писателя. В полном изнеможении он выпускал перо из пальцев лишь тогда, когда ночь окутывала его разум, а рука дрожала от усталости.
Обычно на улицу Ледигьер приходили очень скромные денежные переводы от родителей, и это обстоятельство вынуждало Оноре питаться весьма скудно. На завтрак и обед он частенько пил молоко, макая в него кусочек сухаря, поскольку сухари стоили намного дешевле свежего хлеба. Он платил за жилье 60 франков в год, тратил ежедневно три су на масло для лампы, два су на прачку и два — на уголь.
Однако эта унылая обстановка была овеяна флером поэзии, когда Бальзак смотрел на «бурые, сероватые, красные, аспидные и черепичные крыши, поросшие желтым или зеленым мхом». Крыши и водостоки радовали глаз и помогали забыть об убогих, блеклых, грязных стенах мансарды. Жалкое бюро, покрытое коричневым сафьяном. Кровать, кресло. Оноре намеревался приобрести зеркало в золоченой раме и гравюру[13]. Ему требовались зонтик, подсвечник, халат, подбитая ватином овечья шапка. Но то была непозволительная прихоть! Оноре это быстро понял. Мать отчитала его: он не должен был ничего просить, обходясь тем, что имеет. Он сможет позволить себе роскошь, в которой так нуждается, значительно позже.
Был ли он счастлив? Да, ибо жил своей собственной жизнью, работал по своему усмотрению и желанию. Но, в сущности, он не был создан для той жизни, какую вел. Будучи гурманом, вынужденно ограничивал себя в еде; он любил бродить по городу, но был прикован к креслу; обожал сюрпризы, но из месяца в месяц жизнь его текла, словно река по плоской равнине; зная толк в приятной беседе, он ни с кем не встречался.
И в доме родителей, и в коллеже Оноре всегда окружали многочисленные слуги, поскольку так было принято в те времена. Теперь Оноре словно раздвоился. Он вообразил, что рядом с ним существует еще одно «я». «Я-двойник» ловил клопов. Подметал пол в комнате, стирал, приводил в порядок белье ну и, конечно, ходил за покупками.
Появляться на людях означало нарушить родительские требования. В глазах родных Оноре был преступно виноват в том, что сознательно обрек себя на подобное заточение. Им было стыдно признаваться соседям, что он живет в Париже один, а потому они говорили, что он гостит у родственника в Альби. В мансарде на улице Ледигьер он поселился инкогнито. И покидал ее тайком, и то лишь в случае крайней необходимости: когда шел в библиотеку или на публичные лекции. Например, на лекции в Музей естественной истории, где Кювье проводил ископаемые окаменелости в согласие с Библией или на лекции в Медицинскую школу, где Дюпютран вел жаркий спор с Рекамье относительно божественного происхождения Иисуса Христа. Но главное, он посещал лекции в Сорбонне, где молодой профессор Виктор Кузен убеждал своих слушателей, что в восприятии главную роль играет субъективное отношение. «Истина, красота, добро», — говорил Виктор Кузен. А также зло, добавлял Бальзак, любивший контрасты.
Если все в нашей судьбе предопределено, зачем вообще учиться? Оноре предпочитал приобретать знания, «уединившись, не прибегая к советам учителей, призвав на помощь воображение, которое питается могучей энергией пламенного сердца».
А тем временем семья Бальзаков пришла к выводу, что над Оноре необходимо установить опеку. Тот, кого звали папаша Даблен, был поставлен в известность, что сын Бальзаков добровольно уединился на улице Ледигьер.
Для Бальзаков Теодор Даблен был не просто другом, он был сообщником. Дед Даблена, слесарь при дворе Людовика XVI, скончался в 1790 году. Его супруга поддерживала близкое знакомство с матерью Бальзака. Она вновь вышла замуж за земледельца Бессона, брат которого, трактирщик, стоял во главе революционного движения в Рамбуйе. Бессон распродал национальные имущества района. Благодаря его помощи Саламбье смогли купить «птицеводческую ферму», которую Лора получила в приданое, когда вышла замуж за Бернара-Франсуа.
Адриен Даблен хотел стать хирургом, но в 1819 году стал торговать скобяными товарами. Его лавка, располагавшаяся на улице Сен-Мартен, в доме 221, представляла собой огромное предприятие, где изготавливали первые станки. Мадлен Амбьер, которая изучала описи складов Даблена, утверждала, что тот вел свои дела столь же успешно, как и Цезарь Бирото.
Именно этот человек, которому в ту пору исполнилось 36 лет, каждое воскресенье приходил проведать Оноре и спросить, лечит ли тот свои больные зубы. Может быть, их следует вырвать? Но Оноре всегда отвечал одно и то же: «Волки никогда не обращаются к зубным врачам».
Оноре страстно желал, чтобы Даблен, занимавшийся коллекционированием, рассказал ему о картинах, побеседовал о политике: сумеют ли депутаты-либералы набрать нужное число голосов? Во Французском театре актер Лафон, близкий друг Даблена, играл «Цинну». Это и есть своевременно поданный знак свыше!
До сих пор Оноре читал, делал выписки и сопоставлял свои наивные воззрения с трудами философов XVII–XVIII веков. Он пришел к выводу, что обе философии, поделившие между собой мир, «первая, которая видит все в Боге, и вторая, философия Спинозы, которая делает из всего Бога, абсолютно ничем не отличаются друг от друга». Уже в своих философских этюдах, а затем и в «Стени» Бальзак утверждал, что «Бог представляет собой великолепную целостность. Он не имеет ничего общего со своими созданиями и тем не менее порождает их». После нескольких месяцев занятий философией Бальзак пришел к выводу, что «философы обманываются, увлекшись своими устрашающими познаниями, ибо они не помогают открыть истину».
Зато благодаря театру, где за слова платят наличными, можно и поразвлечься, и подзаработать. Тот, кто пишет для театра, никогда не заставляет своих персонажей высказываться до конца. Он лишь слегка намечает сюжетные линии. Но каков бы ни был сюжет, действующие лица возражают друг другу с величайшей любезностью, и вопрос об истине, ставящий в тупик философов, здесь никогда не возникает.
Оноре увлекся драматургией великих авторов. Он прочитал Кребильона, который «ободрял его»; Корнеля, который «приводил его в восторг»; Расина, который «отбивал у него желание писать».
Вдохновение Бальзака и смутные времена направили его на путь создания трагедии, которая привлекла бы всеобщее внимание так, чтобы зритель испил до дна чашу страданий, вызванных революцией.
КАРЛ I И СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XVI
Найдется ли подданный, который вправе вынести приговор королю?
В. Шекспир. Ричард II
6 сентября 1819 года Бальзак с головой ушел в свое творение, приняв твердое решение выйти на улицу лишь «держа в руках законченный первый акт». Название: «Кромвель». Сюжет — смерть Карла I. В то время Бальзак, как и Гюго, придерживался мнения, что «Революция заговорила при Робеспьере, пушки заговорили при Бонапарте, а при Людовике XVIII настал черед заговорить разуму».
Выбирая сюжет, Бальзак не обратил никакого внимания на цензуру. А она предписывала никогда не затрагивать вопросы религии и политики.
Правда, можно предположить, что Бальзак прекрасно знал об этом, но, движимый духом неблагоразумия, не убоялся разрушить строгие предписания. Он сумеет разработать столь рискованную тему. Он займет непредвзятую позицию и тем самым обезоружит своих недругов. Более того, ему будет сладостно в одиночку противостоять всем и каждому, поскольку самое большое достоинство, каким только можно обладать, живя в обществе, заключается в том, чтобы всегда оставаться самим собой.
Бальзак трактовал сюжет в полнейшем соответствии с политикой, проводимой Людовиком XVIII, который хотел, чтобы жертвы Революции были оплаканы, а палачи получили прощение. Бальзак написал сестре: «Мой „Кромвель“ станет настольной книгой королей и народов». Именно настольной, ибо его трагедия — это «две тысячи стихотворных строк, которые влекут за собой десять тысяч размышлений».
Сюжет трагедии поистине животрепещущий. Всем роялистам известно, что Людовик XVI, заключенный в Тампль, читал о процессе над Карлом I: он подготовил речь в свою защиту, основываясь на аргументах, выдвинутых королем Англии. Увенчанный короной, любимый своим народом, помазанник Божий воплощает собой Его величие. Подданные не имеют права судить короля, ибо это означает учинить суд над Господом Богом, последствиями которого станут хаос, страх, ужас и восстания. Людовик XVI так и сказал своим судьям: «Я не испытываю никаких угрызений совести. Я никогда не боялся общественного осуждения моего поведения». Точно так же Карл I спрашивал у Палаты общин: «На основании какого закона вы присвоили себе прерогативы суда?»
Бальзак отчетливо понял, что именно в этом и состоит вся соль. В своей обвинительной речи, произнесенной на заседании парламента, Кромвель заявляет:
Для спасения государства необходимо, чтобы он умер.
На что королевский глашатай Страффорд отвечает:
Бальзак создал свою пьесу в 1819 году, когда Людовик XVIII «пожаловал» народу Хартию. Начиная с 4 июня 1814 года государственные учреждения выступали одновременно и за власть короля, и за свободу народа. Франция открывала для себя искусство управлять, которое заключается в том, чтобы придерживаться золотой середины, лавируя между королевской властью и народными массами. Король беспрерывно вел переговоры с общественностью. Бальзак почтительно старался дать ему урок. Страффорд советует королю «создать такой образ правления»,
Карлу следовало бы понять:
На пороге смерти король сам убеждается в этом:
«Кромвель» — не только политическая пьеса, в которой сделана попытка уравновесить власть королей властью народа. Это также пьеса о любви. Преданность королевы Марии Генриетты восхищает. Она жаждала помочь королю. Она собрала войска во Франции и в Голландии. Но солдаты погибли во время шторма. Потерпев поражение, энергичная королева превращается в изменницу, что еще больше очерняет короля. Так и Людовик XVI был уже приговорен к смертной казни, когда 15 мая 1792 года газета «Монитор» высказала предположение, что в Париже действует «австрийский комитет, ведущий предательскую политику и развязавший войну».
Пьеса о смерти Людовика XVI, выведенного под именем Карла I, — это националистическое, антианглийское произведение. Англичане убили короля Карла, женатого на француженке, сестре Людовика XIII. Они отправили в изгнание Наполеона. Бальзак выразил свои чувства устами королевы. Он с гордостью пишет сестре: «Королева, доведенная до отчаяния, примется страстно призывать Францию сразиться с Англией. Да! Это будет начертано рукой мастера».
Кому прок от Революции? — спрашивали себя люди во времена Директории. У Бальзака есть собственный ответ, который он адресует Людовику XVIII:
«Революция принесет пользу литераторам. Стоит разразиться политическому кризису, как все взоры устремляются на писателей. Именно они оживляют науки и знания своей наблюдательностью. Они прислушиваются к биению каждого человеческого сердца».
В конце января Бернару-Франсуа удалось обуздать этот прекрасный порыв души. Государственный служащий твердо знал, что политическая трагедия редко приводит к какому-либо положительному результату либо из-за того, что ее не ставят на сцене, либо из-за того, что она никуда не годится. К тому же Оноре написал плохую пьесу. Еще несколько месяцев подобных опытов, и Оноре «растеряет большую часть сокровищ, которыми его щедро наделила природа». «Меня никто не слушал, — писал Бернар-Франсуа. — Моему сыну наговорили множество лестных слов, убедили его, что несмотря ни на что он должен следовать по тернистому и утомительному пути, ведущему к успеху. Вместо того чтобы упорно трудиться и стать старшим клерком, он отвергает все то, что не имеет прямого отношения к театральным пьесам, актерам и актрисам».
ИСПЫТАНИЕ
Сын так привык к угрюмому тону отца, что новая порция поучений не вызвала у Оноре никакой реакции. Оноре получил отсрочку. «Кромвеля» прочли в Вильпаризи в присутствии членов семьи и некоторых близких друзей: доктора Наккара и папаши Даблена…
Дом, который Бальзаки снимали в Вильпаризи у Антуана Саламбье, стоял у обочины дороги, при въезде в деревню, если из Парижа ехать через Ливри. У этого дома было четыре окна на первом этаже и пять на втором, что делало его похожим на особняк. Перед передним фасадом располагался двор, а за задним простирался сад, доходивший до берегов канала.
В апреле или мае 1820 года в салоне, окна которого выходили на дорогу, состоялось чтение «Кромвеля». В тот день Оноре думал только о пьесе и изнемогал от возбуждения. Поскольку он знал текст наизусть, то краешком глаза следил за реакцией присутствующих. Вскоре он заметил «ледяное выражение лиц и ошеломленные взгляды». В «Шагреневой коже» Бальзак так рассказал об этом испытании: «В этом шедевре вы все увидели первую ошибку юноши, только что окончившего коллеж, настоящий ребяческий вздор. Ваши насмешки подрезали крылья творческим иллюзиям, с тех пор больше не пробуждавшимся».
Семья хотела знать правду. Мать и дочь каллиграфическим почерком переписали пьесу в двух экземплярах. Один экземпляр отдали Даблену, который поддерживал дружеские отношения с некоторыми актерами, второй был представлен на суд Франсуа-Гийому Андрие, будущему постоянному секретарю Французской Академии. В 1820 году Андрие преподавал литературу во Французском коллеже и сочинял изысканные классические комедии, вроде «Беззаботного Менье».
16 августа Андрие ответил госпоже де Бальзак: «Мне не хотелось бы обескураживать вашего сына, но я полагаю, что он смог бы с большей пользой употребить свое время на что-нибудь другое, вместо того, чтобы придумывать трагедии и комедии». Тем не менее, если ее сын окажет ему честь своим визитом, Андрие разъяснит ему, «как именно следует подходить к занятиям изящной словесностью и те преимущества, которые можно и должно извлечь из них, не становясь профессиональным поэтом».
Какие черты характера, какое любопытство, какая тайная надежда почерпнуть важные сведения побудили двух Лор, мать и дочь, пойти к Андрие? Почему дочь украла листок с замечаниями преподавателя? Мать, несомненно состоящая в сговоре, стала оправдывать дочь, «которая хотела доставить большое удовольствие своему брату, показав ему записи. Она не смогла удержаться от подобного дружеского жеста». 22 сентября Андрие любезно согласился с ее мнением: «Я догадался, что это не вы, а ваша дочь похитила этот маленький лист бумаги. Но как можно сердиться на столь милую особу?» В то же самое время Андрие назначил Оноре встречу и не принял его. Встреча была перенесена на другой день, и в следующий раз не пришел Оноре. Он явно хотел выразить таким образом свое неуважение к человеку, написавшему следующее: «Автору надлежит заниматься чем угодно, но только не литературой».
БАРЫШНИ ДЕ БАЛЬЗАК
Лора и Лоранса де Бальзак жили в Вильпаризи. Одной исполнилось 20 лет, другой — 18. Они обе хотели выйти замуж. Вернее, не жить больше под одной крышей с угрюмым отцом, кашляющей бабушкой и надоедливой матерью.
Сестры договорились, что та из них, которая первой выйдет замуж, расскажет другой о таинственной брачной ночи. В 1820 году считалось, что во время этой ночи добропорядочная женщина будто бы приносит себя в жертву религии любви и поэтому ни в коем случае не должна давать волю своей чувственности, даже если ее супруг ведет себя как опытный любовник.
Что касается замужества Лоры и Лорансы, то родители руководствовались общепринятыми представлениями той эпохи. Выбирать приходилось между браком по симпатии, и тогда выходили замуж за человека, которого уважали, но не превозносили до небес — любовь не столь уж жизненно необходима, в конце концов она проходит, — и браком по расчету. Но конечно, о таком браке никогда не говорили в открытую, ибо даже те, кто вступал в подобный союз, в том не признавались, но брака по любви следовало непременно избегать. Ничто не угасает так быстро, как страсть. В страсть можно играть, брак же — дело серьезное.
Лора и Лоранса были воспитаны в соответствии с твердыми нравственными принципами. Они получили хорошее образование, говорили изящным слогом, писали забавным, выспренним стилем. Им оставалось лишь дать волю своим долго сдерживаемым чувствам, считаясь, однако, с общественным мнением, которое бдительно за ними следило. Но где в Вильпаризи найти мужа?
Конечно, через их город пролегали маршруты дилижансов, а в некоторых из них, несомненно, ехал желаемый муж, но он следовал дальше, задерживаясь в Вильпаризи ровно на то время, какое требуется, чтобы сменить лошадей. Чтобы найти мужа, Лоре и Лорансе пришлось сесть в дилижанс и отправиться на бал. Но не на парижский бал, где царит разврат, а на бал в Со. Благонамеренное общество собиралось там в мае. Потолок полукруглого зала поддерживали колонны. Там можно было встретить адвокатов. Множество буржуазных браков «было заключено под звуки оркестра, расположившегося в центре круглого зала». Первой туда отправилась Лора и закружилась в вихре «танцев, устроенных на открытом воздухе».
С октября 1819 года некий господин Сюрвиль, инженер-путеец, получивший назначение на строительство канала реки Урк, начал ухаживать за барышнями Бальзак. Его учтивые манеры резко отличались от манер прочих «пастушков», которые мнили себя необычайно остроумными, ибо некогда им удавалось вызывать приступ безумного хохота в столовой коллежа.
Однако радостное воодушевление Лоры погасло под пренебрежительными взглядами родителей. Сюрвиль воплощал в себе все то, что у Бальзаков вызывало отторжение: мелкая буржуазия довольствовалась тем, что имела. Жалованье Сюрвиля составляли 260 франков в месяц. Бернар-Франсуа получал в четыре раза больше.
Оноре расценил ситуацию точно так же. Само собой разумеется, он благосклонно отнесся к визитам Сюрвиля, но тот должен был оставаться «приманкой, голубем, привлекающим других голубей, более высокого полета». Лора строила воздушные замки. Она хотела выйти замуж за юного и прекрасного пэра Франции, карета которого была бы украшена старинным родовым гербом. Все претенденты получали безоговорочный отказ. Один «из-за слишком худых ног, другой из-за близоруких глаз, третий из-за фамилии Дюран».
Сюрвиль не вскружил голову Лоре, но к нему она в конце концов почувствовала симпатию.
Она писала брату: «Порукой мне служит покладистый характер господина Сюрвиля и любовь, что он питает ко мне». Лоре больше ничего не было известно об этом инженере, жизнь которого превратилась для Бальзака, когда тот о ней узнал, в неисчерпаемый источник сюжетов. В своих романах, написанных по этим сюжетам, Бальзак не особенно заботился о правдоподобии, поскольку сама жизнь Сюрвиля была полна странностей.
Сюрвиля, родившегося в 1790 году в Руане, в действительности звали Эженом Алленом. Такова была подлинная фамилия его матери, актрисы Катрин Аллен. В театре она взяла себе псевдоним «Сюрвиль». Сюрвиль был внебрачным ребенком. Отец, Огюст Миди де Ла Тренере, не признал его своим сыном. Умирая, он поручил своему брату назначить годовую ренту в размере тысячи двухсот ливров «мадемуазель Аллен, дабы возместить ущерб, который она могла понести от знакомства с ним». Решением суда от 1794 года Эжен Аллен был признан побочным сыном Огюста Миди, «имеющим право в качестве такового считаться наследником своего отца». Однако это не помешало законным наследникам Миди отказаться признать сыновние права Эжена Аллена. Поступив 20 ноября 1808 года в Политехническое училище, Эжен сохранил фамилию Сюрвиль. Под этой же фамилией он был принят в Школу по строительству мостов и дорог. В 1814 году он служил в инженерных войсках в чине лейтенанта.
Вплоть до самой свадьбы Сюрвиль соглашался не раскрывать тайну своего рождения. Женившись, он захотел узаконить свое гражданское состояние. Он поехал в Руан, чтобы юридически оформить свои права на наследство, о чем прежде никогда не заботился. Его мать сожительствовала с писателем Жаном-Габриелем Мильсаном. В 1797 году у нее родился второй внебрачный ребенок от Альфонса Лассаля, депутата Учредительного собрания. Девочку нарекли странным именем Теодора. Когда в 1803 году Лассаль умер, он оставил после себя четырех детей.
18 мая 1820 года в день свадьбы Лоры Бальзак и Эжена Сюрвиля в Сен-Мерри все внимательно следили за тем, чтобы ненароком не обмолвиться о «скандальном» образе жизни Катрин Сюрвиль. Она выступала свидетельницей под именем вдовы Миди, а ее друг Жан-Габриель Мильсан, также свидетель, был назван «литератором».
В 1820 году эти столь запутанные отношения были окутаны глубокой тайной. Сюрвиль не получил своей доли наследства. Его сводная сестра Теодора имела четырех внебрачных детей от внучатого племянника Миди де Ла Гренере. Теодора хотела выйти замуж за отца своих детей, но Катрин Сюрвиль этому резко воспротивилась.
ПОТЕРЯННАЯ И ВНОВЬ ОБРЕТЕННАЯ ЛОРА
Адюльтер. Это слово стало внушать Бальзаку страх в то время, когда он принялся изучать французское право. «Когда это слово возникает в моем воображении, то всегда вслед за ним появляется образ траурной процессии».
Потомки разнузданных галлов считают, что удовольствия выходят за рамки приличий. Буржуазное общество полагает, что гораздо полезнее вовсе лишить себя удовольствий, чем получать их сомнительным путем.
В октябре 1819 года Бальзак писал «Кромвеля» и «отдыхал от своего труда, делая наброски небольшого романа в старомодном стиле», иными словами, он сочинял сентиментальный роман. Бальзак вновь вернулся к нему в 1822 году и опять оставил незаконченным.
В первоначальном варианте произведения «Стени, или Философские заблуждения», изученном Роланом Шолле и Рене Гизом, повествуется о трудной жизни супружеских пар, связавших себя брачными узами вопреки подлинному желанию женщины. «Уже в своем первом романе, как это отчетливо видно, Бальзак затрагивает проблему брака, которая постоянно будет его волновать и питать его воображение и его творчество» (Ролан Шолле, Рене Гиз). Эта же самая тема в том или ином виде возникнет впоследствии почти во всех его произведениях.
Изначально Бальзак задумывал «Стени» как роман о жизни молодого человека, вернувшегося после долгого отсутствия в родные края. Он встречает молодую девушку и влюбляется в нее, но она уже помолвлена с другим и вскоре выходит за него замуж. Для того чтобы сделать свою возлюбленную счастливой, молодой человек готов вызвать ее мужа на дуэль.
Этот сентиментальный роман, написанный в эпистолярном жанре, как и «Новая Элоиза», отнюдь не блещет оригинальностью. Но Бальзак разрабатывал сюжет, основываясь на своих собственных воспоминаниях о детских годах, проведенных вместе с Лорой. Как было бы хорошо и впредь жить подле нее. Увы! Между ними разверзлась бездна, но она влечет его к себе.
В романе Жоб приходится Стени всего-навсего молочным братом. Стени вышла замуж за господина Планскея и рассматривает свой брак как настоящую трагедию. Уже взрослая Стефания, прозванная Стени, вновь встречает Жоба и начинает вместе с ними как бы заново переживать детство.
В «Стени», как и в «Арденнском викарии» и даже в «Отце Горио», между братом и сестрой устанавливается особенная любовная привязанность. Этот союз противостоит семейному союзу, который имеет семейное и социальное значение, ибо служит продолжению рода и способствует продвижению мужа по службе и благополучию домашнего очага. Союз брата и сестры имеет эмоциональное значение. Брат, движимый возвышенной любовью, боготворит сестру, этого бальзаковского «ангела-хранителя», а сестра отвечает брату взаимностью.
Стени и Жоб выросли. Но вот они раздеваются друг перед другом словно дети. И ничто больше не разделяет их. Между ними вспыхивает страсть. Жаркие поцелуи затуманивают сознание… Но Стени говорит «нет». Этот величественный крик исходит из целомудрия детства, когда игры были полны невинности. Бальзак думает о потерянном рае, где Адам и Ева ходили обнаженными, сами того не ведая.
А вот еще один эпизод: Жоб приходит на помощь утопающим. Он сбрасывает с себя одежду и бросается в воду. И вновь Стени впадает в грех. Она любуется «пленительными формами» тела Жоба, «одного из самых прекрасных мужчин, которого я когда-либо встречала. Его кожа столь же белоснежна, как и моя».
Жоб также находит, что в природе нет ничего более великолепного, чем тело Стени: «высокая грудь», «нежная и мягкая кожа», «священный огонь ее взгляда». «Божественная душа заставляет ее тело излучать сияние».
Когда Бальзак говорит о Жобе, он подразумевает прежде всего самого себя. Он создает этот персонаж таким, каким хотел бы быть сам. Жобу все удается, он выставляет свои картины, пишет стихи, сочиняет к ним музыку. Все то, что Бальзак таил в своем сердце, не осмеливаясь высказать вслух, он воплощает в образе Жоба и его устами провозглашает свои философские воззрения. Жоб верит в материальный характер мысли, он полагает, что слово — это вовсе не образ, а некое заклятие, вещь в себе. Жоб — добрый. Он всегда готов прийти на помощь. Жоб — философ. Он бесстрашно утверждает, что Господь Бог есть не что иное, как «порождение нашего психоза». Боги других религий столь же эфемерны. Подлинна одна жизнь, которая и порождает удовольствия, наслаждение, чувство, страсть.
Начиная с романа «Стени» Бальзак предстает перед нами певцом страсти. Но пережить страсть недостаточно, необходимо ее исследовать. В обществе страсть чаще всего вступает в противоречие с долгом. Бальзаковские персонажи либо окажутся в трудном положении и понесут наказание за свою вседозволенность, либо собьются с пути: некоторые из них умрут со скуки, другими овладеет некая мания. Они примутся копить, захотят преуспеть, станут безуспешно искать несуществующее, забыв, что рядом кипит жизнь. Маньяки — большие оригиналы: они пренебрегают даже собственной жизнью.
ВЫСШАЯ ШКОЛА
С 1818 года произведения, написанные на потребу публике, будь то забавные романы Пиго-Лебрена или «черные романы» Анны Радклифф, пользовались бешеным успехом. Тираж книги «Келина, или Дитя тайны» Дюкре-Доминиля составил несколько тысяч экземпляров. Это легкое чтиво, как правило, раскупалось читальными залами, которых во Франции насчитывалось около полутора тысяч. Купив месячный абонемент стоимостью в два франка, можно было приходить в эти залы и там читать все только что вышедшие из печати романы. Книги также выдавались на дом сроком на один день, одну неделю или один месяц. Цена подобной услуги зависела от формата книги и от количества взятых томов. Для книгоиздателя аренда читального зала становилась рентабельной, если романы насчитывали три, четыре и даже пять томов, напечатанных в одну двенадцатую долю листа.
Книгоиздатель, по убеждению Бальзака, не умел читать или по меньшей мере не прочел ни одной книги, иначе бы он не издавал их в таком количестве, но самое главное — он платил бы более высокие гонорары. Зато книгам «обеспечен уход»: прекрасная печать, широкие поля, белые страницы, приносящие успокоение.
«Издательские дома» покупали книги за фиксированную цену. Кроме того, они выдавали долговые обязательства сроком на шесть, девять или двенадцать месяцев. Если книги «расхватывали во мгновение ока», их переиздавали. Если же книги лежали мертвым грузом, вскоре «из книжной лавки они перекочевывали на развалы букинистов, а затем оказывались у бакалейщика». За первое издание тиражом в 800–1000 экземпляров автор получал от 500 до 1000 франков. Если книга продавалась плохо, книготорговец вынужден был производить уценку. Чтобы удержаться на плаву, книжные магазины торговали также театральными билетами и газетными листками, почти всегда изданными на деньги, полученные от рекламных объявлений.
Для Бальзака, как и для других писателей, существовал один-единственный способ преуспеть: читатели должны были раскупать его книги и требовать новых произведений. Но молодому Бальзаку до подобного положения дел было еще очень далеко. Ему предстояло пройти огромный путь. И это как нельзя лучше видно, если сравнить первые литературные опыты Бальзака и «черные романы», покорившие читателей начала XIX века.
В романе, начатом Бальзаком в июле 1820 года, нашим глазам предстает деревня эпохи Золотого века. Вот старик, который творит чудеса, заставляя больных вдыхать аромат цветов. Отец примирился с сыном, совершившим чудовищный проступок. Печальная девушка обрывает лепестки розы. Она ничего не хочет. Но вот мимо проходит прекрасный юноша, и она уже не хочет ничего другого, как обладать им.
Бальзак, вдохновленный магией детства, вынужден был признать простую истину: роман искажает цвета мечты и из розового трансформируется в черный.
Как Бальзаку удалось разрушить обитель собственных грез и возвести свой дом ужасов? Вот главный парадокс бальзаковского творчества.
«Черный роман» охотно изображает разбойников и привидения. И те и другие могут убивать. И еще они могут любить. Хороших привидений и добрых разбойников всегда клеймят позором и подвергают преследованиям злые силы. Мало того, плохие привидения и злые разбойники могут превратиться в хороших в порыве внезапно вспыхнувшей любви или вконец измучившись от угрызений совести.
Проклятый может обладать магическими способностями, полученными в результате сделки с дьяволом. Это, конечно, прежде всего «Фауст», но для Бальзака это скорее все же «Мельмот», вышедший из-под пера священника англиканской церкви Чарльза Мэтьюрина. «Мельмот» увидел свет в Лондоне в 1820 году. Бальзак буквально «проглотил» этот роман, который был переведен на французский в 1821-м.
Однако существуют жанры более древние, нежели «черный роман».
Книготорговцы предлагали покупателям рыцарские романы, которые Франциск I читал с воодушевлением, а Сервантес — с иронией. Очень часто в них повествуется о крестовых походах. Благородные рыцари полны энтузиазма отвоевать Святую землю. Но на родину они возвращаются настолько измотанными и искалеченными, что просто обречены скитаться по белу свету до тех пор, пока не встретят великодушную женщину, которая сможет их утешить. Вальтеру Скотту удалось воскресить этот жанр, вернув к жизни картины далекой истории.
Авторы подобных романов часто объединялись в группы и фабриковали книгу за книгой, делясь друг с другом своими знаниями и особыми приемами.
Все жанры хороши, кроме скучного. Но злобы дня следует избегать. Для того чтобы публика благосклонно отнеслась к романам о «современной морали», они должны либо быть нравоучительными, либо оставаться «милой болтовней», желательно о любви. Нравоучительные романы пишут преимущественно женщины. Они избегают давать подробное описание сильного пола, который обычно предстает в романе в облике «элегантного мужчины». Женские же персонажи, напротив, весьма самобытны и колоритны: умные, щедрые, одухотворенные либо ревнивые, кокетливые, хвастливые, изворотливые. Женщины, наделенные таким характером, привлекают читателей своими передовыми взглядами на любовь, но при этом они никогда не умаляют первостепенного значения брака и семьи. Когда на них обрушивается несчастье, эти женщины умеют растрогать сердца, а «кто умеет растрогать сердца, тот умеет все». Эти женщины в силах противостоять любым испытаниям.
В конце 1820 года Бальзак съехал с улицы Ледигьер, ибо отныне семье приходилось экономить: Бернару-Франсуа назначена годовая пенсия в 1695 франков, ничтожная малость по сравнению с 7800 франками жалованья.
Бальзак возвратился к семье в Вильпаризи, а поскольку он хотел зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, ему удалось добиться встречи с главой одного из парижских литературных салонов.
Огюст Ле Пуатвен, именовавший себя Ле Пуатвеном де л’Эгревилем, родившийся 27 октября 1793 года, считался чудовищем, но Бальзак сумел его приручить. Природа наделила Ле Пуатвена, журналиста, романиста, автора драматических произведений, в 1826 году выкупившего «Фигаро», железной волей. В его голосе звучал металл. Вот какой поистине ужасающий портрет этого человека рисовали его современники: «Беззубый, страдающий подагрой, близорукий, он заставляет трепетать от страха блистательный Париж куртизанок, художников и даже Париж светских людей». В 1820–1822 годах, когда Бальзак работал на Ле Пуатвена, у того на побегушках состоял десяток молодых людей, к которым он обращался не иначе, как «болваны». Он учил их искусству точить клинок разума и уметь им своевременно воспользоваться.
Приемы написания романов, выработанные Ле Пуатвеном, отвечали духу времени: «Только факты, никаких подробностей. Необходимо вызвать интерес. Что касается стиля, то на него никто не обращает внимания, даже автор. Что до идей, то их вообще быть не должно. Что до местного колорита, то нет и еще раз нет».
Выбрав себе псевдоним Вьергле, Бальзак в соавторстве с Ле Пуатвеном написал семь романов, которые в 1936 году были исследованы Альбером Приу, а позднее Морисом Бардешем и Брюсом Толлеем.
Давайте забудем об этих романах, «которые произведут небольшую сенсацию», как сказал один современник, но непременно запомним, что именно каторжный труд на Ле Пуатвена приучил Бальзака работать быстро и не делать передышек, закончив книгу, ибо завершение одного романа означает начало работы над другим. Бальзак научился писать под воздействием таких наркотиков, как переутомление и бессонница. А бесцельная ходьба по городу и довольно-таки беспорядочный образ жизни пришли на помощь его вдохновению.
Бальзак рассматривал формы романа не как различные и противостоящие друг другу, а как части единого целого. Бальзак с удивительной легкостью смешивал жанры, и подобное разнообразие, позволявшее ему легко переходить от нежного к ужасному, доставляло ему удовольствие. Да разве важно, каким слогом писать: трагедийным или ироническим? Жанр — ничто, удовольствие повествовать — все! Да здравствует пылкое вдохновение!
ИДОЛ
Изображение божества, которому поклоняются как самому Господу Богу.
Летом 1820 года, приняв решение работать на книготорговый салон Ле Пуатвена, Бальзак начал писать исторический роман «Агафиза». Этот роман о крестовом походе представлял собой великолепное либретто для романтической оперы.
Шайка разбойников захватила государство на юге Италии, воспользовавшись долгим отсутствием Вальдеццо, его главы, который отправился отвоевывать Иерусалим. Жители даже поговаривали между собой, что он там погиб.
Для того чтобы вновь восстановить мир, брат Вальдеццо, просвещенный итальянский кардинал, готов принять участие в государственном перевороте. Он заставляет своего племянника жениться на дочери главаря разбойников Эльвире. Но любовные узы не в состоянии соединить Эльвиру с Вельнаром. Она любит своего пажа. А Вельнар любит Агафизу, похожую как две капли воды на Ревекку, прекрасную еврейку из «Айвенго».
Обойдем молчанием турниры, эти праведные Божьи суды, которые в полной мере изобличают злодеев. Забудем о Вальдеццо, который все-таки возвращается на родину, переодевшись нищим. Обратим свое внимание на Агафизу. Она посвящена в таинства восточной медицины. Ей известно о целебных свойствах растений и о силе эликсиров.
В середине мая 1820 года Бальзак прервал работу над «Агафизой», чтобы присутствовать на свадьбе Лоры. Вне всякого сомнения, именно под влиянием этой свадьбы, лишившей его нежной привязанности сестры, он закончил редакцию «Стени».
Затем, по мнению Ролана Шолле и Рене Гиза, Бальзак вновь взялся за «Агафизу», преисполненный решимости «воскресить для читателя повседневную жизнь давно минувших лет, возродить дух далекой эпохи». Примером для подражания ему служил «Айвенго». Бальзак привел норманнов в Италию. Они стремились подчинить своей власти средиземноморские города, простодушное население которых еще жило античными представлениями. Бальзак вывел на сцену еще одну «деятельную и могущественную силу — папство».
Уже в первой версии романа Агафиза была наделена магическими способностями. Она взяла себе имя Фальфурна, что переводится как «всемогущество света». Это же самое имя Бальзак вынес в название другого романа, оставшегося незаконченным. Пьер-Жорж Кастекс скрупулезно изучил эти черновики.
Фальфурна родилась в Дельфах, городе знаменитых оракулов. Она воплощает собой и холодный разум, и женщину, превратившую любовь в религию сладострастия. Она наделена поразительной красотой, словно природа решила сотворить из нее шедевр. Познания ее огромны. Она постигла всю мудрость, все знания халдеев и ученых египтян, все пророчества кумской сивиллы, которыми воспользовались Моисей и другие отцы народов. Она — последовательница идей Карнеада, Платона, Пифагора… Обвиненная в колдовстве Фальфурна должна предстать перед церковным судилищем. В своих набросках Бальзак сделал пометку: «Ей задают вопрос и выносят приговор». Мракобесие изничтожило все знания, накопленные на протяжении веков и воплощенные в Фальфурне.
«Фальфурна» — инициационный роман. Бальзак хотел доказать, что, обратившись к своим истокам, человек набирается сил, чтобы продолжить свой путь. «В Природе заложены неведомые нам силы и зависимость между подвижными субстанциями, о которой мало кто догадывается; точно так же и в человеке чувства, сцепление случайностей и материальное долго остаются сокрытыми… С тех пор как на земле появились люди, народы и философы, всегда существует некая личность, творение случая, которая обладает магической властью… О! Если бы великие люди были менее застенчивы и менее подозрительны, если бы человеческие знания слились воедино, если бы свобода воцарилась на мировых просторах, каких высот мы бы уже достигли!»
«Фальфурна» осталась неоконченной, но это удивительное произведение дает полное представление об умонастроении Бальзака тех лет. Он ждал, когда душа озарит своим сиянием тело. И это сверхъестественное пламя пробудит в нем любовь. Пусть «Агафиза» и «Фальфурна» — всего лишь ребячество, нелепый вздор, но в них со всей выразительностью проявляются самые нежные и глубокие чувства, столь свойственные Бальзаку. В реальной жизни он не встретит ни одной женщины, хоть отдаленно похожей на Фальфурну. Все они будут «женщинами без сердца», ожесточенными тщеславием и жадностью, иными словами, настоящими Федорами. И Бальзак накажет их за жестокость.
ОРЕЛ ИЗ ОРЛОВ
В конце 1820 года Оноре возвратился в Вильпаризи. Он обосновался в бывшей комнате Лоры, которая теперь жила с Сюрвилем в Байе. В Вильпаризи жизнь текла размеренно, неторопливо, и Оноре мог отгородиться от внешнего мира в этой комнате с далеко не роскошной обстановкой: стол, шкаф, этажерка, два стула. Стены оклеены клетчатыми обоями, которые он так любил созерцать. Оноре мог бы прекрасно отдохнуть, но он никогда не был склонен предаваться лени. В библиотеке своего отца, который съедал на ужин яблоко и ложился спать, едва стемнеет, Оноре отыскал толстенные книги. Он прочел или заново перечитал Библию, «Тысячу и одну ночь», «Волшебную комнату». Из прочтенного в его памяти запечатлелись сотни образов, которые растревожили его гений и помогли впоследствии создать действующих лиц «Человеческой комедии».
17 января 1821 года Бернару-Франсуа был преподнесен неприятный сюрприз в виде весьма скромной пенсии в 1695 франков, об увеличении которой он принялся рьяно хлопотать в военном министерстве.
В течение всей зимы Оноре писал. Он был счастлив, что нашел столь подходящее занятие, чтобы избавить себя от общества вечно ворчащей бабушки, матери, приходящей в отчаяние от того, что, принося себя в жертву, она не в состоянии осчастливить всех своих близких, отца, живущего воспоминаниями о прошлом. Даже младшая сестра Лоранса создавала неудобства. Она хотела последовать по стопам старшей сестры: «Почему я должна до самой смерти изнурять себя работой?» В минуты отдыха Лоранса либо сидела за роялем, задумчиво перебирая клавиши и мечтая о бале, спектакле или концерте, либо вышивала. Она уже вышила чепец для матери, платок для сестры, узор для отца. Она вполне удовлетворилась бы подобными занятиями, но кроме этого ей приходилось вместе с глуховатой соседкой матушкой Комен стирать, застилать кровати, содержать в порядке белье…
Лоранса искренне страдала от своего одиночества и надеялась удачно выйти замуж. Ее муж будет богатым. Он купит дом, расположенный по соседству. Он осыплет ее подарками, и она легко забудет, как была бедна. Мечтая о будущих подарках, Лоранса предусмотрительно составляла список вещей, которые ей хотелось бы получить в первую очередь: «жемчужное ожерелье в 5–6 нитей, скрепленных бриллиантом; две кашемировые шали; шелковое платье; белая муаровая сумочка, расшитая серебром; атласное платье и несколько сапфиров». В ожидании великодушного и щедрого возлюбленного Лоранса жаловалась сестре: «Все наши беседы сводятся к 5–10 замечаниям о погоде и 8–10 замечаниям о пожарах, поэтому, суди сама, насколько теплы наши разговоры». Лоранса рассказывала о молоденькой куропатке, которую ей никак не удавалось приручить, о животных, сбежавших из сада из-за Бернара-Франсуа с его устрашающим хлыстом.
В середине 1821 года Бернар-Франсуа нашел для Лорансы жениха, на его взгляд блистательного. Претендента звали Дезире Сен-Пьер де Монзэгль, «орел из орлов»[14], как скажет Оноре. Бернар-Франсуа всегда полагал, что его дочь достойна дворянина. Представители семьи Монзэгль занимали высокие посты в Администрации службы продовольственного снабжения, по линии которой Бернар-Франсуа и сделал карьеру. В Вильпаризи Монзэглям принадлежал замок, и они занимали видное положение в кругу местных землевладельцев. Если отец Дезире де Монзэгля был во времена Империи важной шишкой — он числился генеральным армейским поставщиком продовольствия и фуража, то его сын даже не сумел закончить Политехническое училище, хотя и утверждал обратное, и служил сержантом в роте почетного караула, состоящей, как всем известно, из отъявленных солдафонов, облаченных, однако, в элегантный мундир.
После 1815 года Дезире де Монзэгль поступил на службу в Интендантское ведомство, затем — на Городскую заставу в качестве разъездного ревизора и сборщика пошлин. Городская застава представляла собой своего рода таможню, которая взимала пошлины со всех товаров, привозимых в Париж. И без того немалое жалованье служащих Городской заставы увеличивалось за счет премий, выплачивавшихся за каждое изъятие товара и наложение штрафа. Тем не менее Монзэгль не был богат. Он был игрок и ловелас, а потому буквально опутан долгами. Он блестяще играл в бильярд и превосходно охотился на куропаток. В отчете префекта полиции он был охарактеризован как «ни на что не годный субъект». После убийства герцога Беррийского[15] он пострадал от анонимного доноса. На самом деле он был заурядной посредственностью, настоящим рубахой-парнем, одним словом, «барабанщиком», как говорили между собой военные.
Тем не менее 19 июля 1821 года Бернар-Франсуа принял решение: Лоранса выйдет замуж за Дезире. «Будущие супруги встречаются целый месяц, — писал Бернар-Франсуа Лоре. — Они прекрасно ладят друг с другом. Все документы уже оформлены. Семья влюбленного проявила большой интерес». Бернару-Франсуа было доподлинно известно о всех похождениях будущего зятя: «Он вкусил самые разнообразные удовольствия, но эти развлечения можно оправдать юношеской пылкостью. Он понимает, что теперь ему не остается ничего другого, как стать примерным мужем».
Дезире предложил Лорансе руку и сердце 29 июля сразу после крестин сына супругов Бруетт, слуг Бальзаков, где оба они выступали в роли крестных родителей. В письме к Лоре Лоранса описывала своего жениха, называя его родовым именем Мишо де Сен-Пьер. «Не дожидаясь твоих вопросов, скажу, что М. де Сен-Пьер такого же высокого роста, как и твой муж. Он не то чтобы худой, но поджарый. У него черные волосы, высокий лоб, серо-голубые глаза, порой пристально смотрящие прямо перед собой, по утверждению мамы, ибо я до сих пор не решилась взглянуть ему в лицо; длинный нос, средних размеров рот, но у него нет передних зубов, что немного старит его, и довольно изящный подбородок. Это все, что касается внешнего вида. Его манеры и весьма умные и необыкновенно приятные речи отличаются утонченностью и непринужденностью. А охота является его всепоглощающей страстью».
Брачный контракт был подписан 12 августа в конторе господина Пассе. Госпожа де Монзэгль дала своему сыну три тысячи франков (его отец к тому времени скончался). Бальзаки дали своей дочери обещание: они обязались выплатить 30 тысяч франков в два срока: половину суммы сразу после кончины одного из родителей, вторую половину — как только будет оформлено вступление в наследство. После подписания контракта родители устроили званый вечер: «Там было мороженое, родственники, друзья, даже просто знакомые, пирожные, нуга и прочие сласти».
Венчание состоялось 1 сентября 1821 года в маленькой церкви Сен-Жан-Сен-Франсуа. По случаю церемонии господин и госпожа де Бальзак заказали два варианта свадебных приглашений: в одном из них их фамилия была указана с частицей «де», в другом — без.
Два месяца спустя 23 ноября 1821 года Оноре уже не скрывал от Лоры, что Лоранса вышла замуж за тронувшегося умом человека. Монзэгль задолжал три тысячи франков. Его преследовали кредиторы, но он продолжал вести разгульную жизнь и возвращался домой лишь под утро. «Он оставляет свою страдающую женушку одну». Лора де Бальзак уже начала поговаривать о разрыве между супругами. Но Лоранса боялась рассердить мать и к тому же не хотела разлучиться с мужем, которого она горячо любила.
Монзэгль получил аванс в счет приданого. Он занял тысячу франков, но этого было мало. Он попытался взять в долг пять тысяч франков и потребовал от Бернара-Франсуа, чтобы тот выступил поручителем. Бернар-Франсуа наотрез отказал. Разве зять не уверял своего тестя, что расплатился со всеми долгами? Лорансе приходилось закладывать свои драгоценности в ломбард. Она была беременна: «Я ем мало, но все же достаточно, чтобы насытить себя и ребятенка, как премило говорили мы у себя дома».
Воспользовавшись отсутствием матери, Лоранса поехала в Вильпаризи, чтобы попытаться разжалобить отца и упросить его подписать вексель на самые вопиющие долги. Вернувшись домой, госпожа де Бальзак пришла в ярость. Она запретила Лорансе, «покрывшей семью позором», приезжать к родителям: пусть Монзэгль отправляется в тюрьму, там он хотя бы не наделает новых долгов.
В конце июля 1822 года, за несколько дней до рождения своего сына Альфреда, Лоранса заняла 4800 франков у Гийонне-Мервиля. Оноре служил у него в нотариальной конторе клерком. Теперь ее имущество было спасено от ареста и она смогла заплатить акушерке. Ребенок родился 28 июля 1822 года. Но до его рождения Лоранса была вынуждена переехать. Она покинула Сен-Манде и поселилась в каморке пансиона «Барьер де ла Санте». Она плохо себя чувствовала и боялась раньше времени родить.
Рождение ребенка не восстановило мир в семье. Госпожу де Бальзак не пригласили на крестины. Она держала дистанцию и объявляла себя бабушкой «по факту», но не «по праву». Мать Монзэгля решила вмешаться в жизнь молодых супругов. Она нашла, что Лоранса чересчур встревожена и обеспокоена, а потому младенца следует отправить к кормилице.
В декабре 1822 года Монзэгль все еще не расплатился с долгами. Лоранса пришла к твердому убеждению, что только она одна способна спасти своего супруга.
Она взяла на себя смелость написать матери и попытаться убедить ее, что муж ей гораздо дороже, чем уважение семьи де Бальзак. Монзэгль болен. Его должны посадить в тюрьму. «Когда он выйдет оттуда? Не опорочит ли это его репутацию?» Лоранса не могла пустить все на самотек. Ее родители должны были оценить по достоинству «нежные чувства, которые она питает к своему мужу». «Подписывать или не подписывать» долги Монзэгля? Этот вопрос повергал Лорансу в уныние. «Если я их подпишу, о! Моя добрая матушка! Ты не захочешь больше меня видеть! Я не смогу больше тебя обнять!.. Не смогу сказать тебе, как я тебя люблю!.. Если бы у меня не было ребенка, я бы сочла наилучшим решением расстаться с жизнью, настолько она мне опротивела».
В марте 1825 года у Лорансы родился еще один ребенок. А пять месяцев спустя, 11 августа, в возрасте двадцати трех лет она скончалась на улице Руа-Доре в парижской квартире своих родителей, где, больная, нашла себе убежище.
Смерть Лорансы предоставила госпоже де Бальзак возможность высказать свою точку зрения на жизнь: в жизни следует преуспеть, либо не слишком долго задерживаться. Долги Монзэгля достигли 15 194 франков. Смерть Лорансы принесла настоящее облегчение: «Судьба оказалась благосклонной к Лорансе, и мы должны чуть ли не благословить ее кончину». В 1846 году, через 21 год после этих трагических событий, Бальзак, имея в виду свою мать, скажет: «Она убила Лорансу». Так или иначе, но госпожа де Бальзак быстро организовала похороны дочери и больше никогда не упоминала ее имени. Оноре, который часто вспоминал Лорансу, захотел прославить добросердечную женщину, согласную на любые страдания и приносящую себя в жертву ради мужа или возлюбленного; женщину, преданно ожидающую слова, жеста, взгляда ради хотя бы иллюзии любви, из-за отсутствия которой она так страдает.
По мнению Жана Поммье, Монзэгль послужил прообразом господина д’Эглемона из «Человеческой комедии». Тот же самый Монзэгль вдохновил Бальзака на создание целого ряда образов циников, которым писатель, всегда занимавший объективную позицию при описании прочих своих персонажей, словно хотел крикнуть прямо в лицо: «Прекратите забавляться жизнью женщины!» Это и Пьер-Франсуа Диар, игрок из «Марана»; и Жак Боннебо, завсегдатай кафе из «Крестьян»; и гвардеец роты почетного караула, сын барона де Л’Эсторада из «Воспоминаний двух новобрачных», но в первую очередь это Филипп Бридо из «Авантюристки», злой гений, погубивший свою семью, свою жену и занявший самую высокую ступень иерархической лестницы.
В 1831 году Монзэгль поступил на службу в качестве личного секретаря к графу де Сессак, академику и пэру Франции. Как и Бридо, щеголяющий своими наградами, Монзэгль стал кавалером ордена Почетного легиона.
О той роли, какую госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак сыграла в этой драматической истории, Бальзак никогда не забудет. Госпожа де Бальзак превратилась в госпожу д’Арнез из «Ванн-Клора». Эта женщина напускает на себя видимость любезности и рассыпается в вежливых выражениях, будучи по природе тираншей. Ее речи как будто соответствуют правилам хорошего тона, но ее изобличают жесты, взгляды, грубые и всеохватные желания. Импульсивная и резонерствующая, «она меняет свои настроения с быстротой молнии, помня лишь о том, что выгодно тому, кого она в настоящий момент поддерживает». Но более всего госпожа д’Арнез похожа на главнокомандующего. «Она хочет, чтобы ее дочь перестраивала свои чувства так, как войска перестраивают свои ряды на параде».
22-ЛЕТНИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ И 44-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА
В Вильпаризи, у дороги, ведущей в Мо, стоял самый зажиточный во всей деревне дом. Этот дом был красиво украшен и богато обставлен. Там жили господин и госпожа де Берни с детьми. Берни носили графский титул. Граф держался несколько отрешенно, поскольку был почти слепой. Графиня, напротив, испытывала потребность нравиться окружающим. Она умела себя вести и поддерживала со всеми дружеские отношения. В Вильпаризи госпожа де Берни непременно присутствовала на всех праздниках, благотворительных собраниях, чаепитиях. Одетая во все белое, как и ее дочери, она любила приглашать к себе гостей, которые любезно соглашались сравнивать хозяйку с Марией Антуанеттой, а сам дом — с Трианоном. В дальнейшем мы поймем, почему.
Лора де Берни не пренебрегала коммерцией; в феврале 1822 года в письме к Лоре Сюрвиль Бальзак передавал местные сплетни: «Лора де Берни принялась торговать фуражом, ибо обнаружила после 40 лет размышлений, что деньги — это все».
Габриэль де Берни принадлежал к числу старых знакомых Бернара-Франсуа. В 1799 году он служил в Монпелье в Военной администрации Интендантского ведомства. Несмотря на то что в 1800 году Берни поступил на службу в министерство внутренних дел, он сохранил прежние связи. Поставщики и интенданты, как это видно на примере окружения Бальзака, оставались сплоченной семьей. Они держались друг друга, поскольку боялись лишиться привилегий, потерять преимущества, боялись, что посторонние узнают, какие богатства приносила им их служба.
Госпожа де Берни, урожденная Луиза Антуанетта Лора Иннер, родилась в семье королевского музыканта. На крестинах, 24 мая 1777 года, Людовик XVI и Мария Антуанетта держали ее над купелью. После смерти музыканта Иннера его вдова вышла замуж за шевалье де Жаржея.
Этот генерал, настроенный роялистски, с которого Александр Дюма написал образ «шевалье де Мэзон-Ружа», попытался совершить невозможное: устроить побег королевской семьи из Тампля. Жаржей рассчитывал на помощь некоторых уже известных нам членов Коммуны: Тулана, Лепитра, директора пансиона, который посещает Бальзак.
Всех заговорщиков, кроме Жаржея, арестовали по доносу служанки, приставленной к принцам крови. Госпожа Иннер, ставшая госпожой де Жаржей, почувствовала грозящую ей опасность. Она укрылась в монастыре дез Уазо. Чтобы уберечь свою дочь, которой в ту пору исполнилось всего 14 лет, она решила немедленно выдать ее замуж. 8 апреля 1793 года состоялась свадьба Лоры с Габриэлем де Берни, который был старше ее на десять лет и происходил из рода тех самых Берни, которые покинули свой родной Пьемонт и обосновались в Пикардии.
Берни оказался педантичным чиновником, но отнюдь не пылким влюбленным, и уж тем более не любителем наслаждений. Тем не менее у супругов родилось 9 детей. Между 1800 и 1805 годами у госпожи де Берни был любовник, «ужасный» корсиканец по фамилии Кампи, от которого она родила дочь Жюли Кампи. В Вильпаризи судачили также о любовной связи госпожи де Берни с господином Манюэлем, жильцом одного из ее домов, сдаваемых внаем.
Образ Марии Антуанетты, одетой во все белое и окруженной в Трианоне своими детьми и подругами, всегда волновал воображение Лоры де Берни. Будучи маленькой девочкой, она иногда получала приглашения на эти приемы, и теперь делала все возможное, чтобы воскресить в Вильпаризи эту феерию Старого режима. На чаепития к Берни получали приглашения чопорные девушки и юноши.
Весной и летом 1821 года семьи де Берни и де Бальзак считали для себя делом чести посылать друг другу приглашения.
Оноре провел осень 1821 года и почти всю зиму 1822-го в Вильпаризи. Он много работал, желая удивить всех своей внезапной творческой плодовитостью. С января по ноябрь 1822 года вышли в свет сразу пять романов. Бальзак создал их большей частью сам, но порой — в сотрудничестве с Ле Пуатвеном и Араго. Он подписывал эти романы «Вьейргле и лорд Р’Хун», просто «Р’Хун», наконец «Орас де Сен-Обен». Величайший из французских романистов, «Бальзак-громовержец», как скажет Эдуар Эррио, с головой ушел в работу. Он доводил себя до изнеможения, но находил такую жизнь естественной. Писать — значит вести бой, бросить вызов лучшим из лучших. Лорд Р’Хун и Сен-Обен нередко халтурили, но стиль некоторых страниц созданных ими произведений уже мог равняться со стилем таких мастеров, как Шиллер, Шенье, Бернарден де Сен-Пьер, Руссо, Гете, Байрон. Бальзак использовал приемы популярных романов, которые научили его блестяще применять ретроспекцию, чередовать забавное и драматическое, разбивать повествование на фрагменты, искусно вводить второстепенных персонажей… Стройное целое трепещет во всепоглощающей невероятности. Это единственная вольность, к которой Бальзак неизменно прибегал даже в самых монументальных своих творениях.
В феврале 1822 года Бальзак обнаружил, что литературная деятельность может приносить доход. В течение нескольких месяцев он получил 4100 франков за три романа и теперь намеревался работать, чтобы получить 20 тысяч. «Хитрюга Оноре», пустивший побоку нотариальное дело, «приедет однажды в экипаже, с гордо поднятой головой, высокомерным взглядом и полной мошной». Но этот самоуверенный Бальзак, убежденный, что добьется неслыханного успеха, никак не осмеливался написать госпоже де Берни о своей любви.
Его первое письмо датировано мартом, и вполне вероятно, что речь идет не об озарении, а о едва различимых проблесках света: «Но таков я есть и таким навсегда останусь, робким до крайности, влюбленным до страстного желания и целомудренным до того, что никогда не рискну произнести: я тебя люблю».
Роже Пьерро опубликовал 28 писем, адресованных Лоре де Берни. Эти письма воссозданы по черновикам, найденным виконтом де Ловенжулем в бумагах Бальзака. После смерти Лоры де Берни, последовавшей 27 июля 1836 года, подлинники сжег ее сын Александр. «Огнедышащие письма следует предавать огню», — говорила Жермена де Сталь о своей любовной переписке.
Но и этих черновиков вполне достаточно, чтобы перед нами возник образ молодого экзальтированного человека, околдованного чарами госпожи де Берни, ибо даже если она и отказала ему вначале, все же она была первой женщиной, которая отнеслась к нему радушно и участливо. Бальзак отчетливо понимал, что до этой встречи он видел лишь негативную сторону жизни.
Госпожа де Берни поддерживала его враждебное отношение к родителям: «Вы цветок, выросший на навозной куче», «вы вылупились из орлиного яйца, насиженного гусаками». Бальзак писал госпоже де Берни восторженные письма: «Как вы были вчера прекрасны! Сколько раз в моих грезах возникал ваш сияющий и милый образ. Вы превзошли свою соперницу, одинокое творение моих мечтаний». Очарование госпожи де Берни сделало свое дело. Бальзака уже охватила «жестокая идеальная любовь», любовь, которая поможет ему выразить свои чувства и которая озарит его творчество. Бальзак испытает подлинное счастье, если ему удастся вновь пробудить у Лоры жажду наслаждений, от которых ей пришлось отказаться. А ведь она рождена не только для того, чтобы получать радости жизни, но и чтобы дарить их. Лора защищалась: Оноре «больше не следует ни расточать ей комплименты, ни восхвалять ее». «И тем не менее я не в силах запретить себе любить вас». Впрочем, любовь вызвала перемены в них самих. Лора признавалась: «Любить означает чувствовать по-иному, причем чувствовать неистово. Это означает жить в вымышленном мире, не осознавая ни дней, ни ночей, ни весны, ни зимы», лишь ощущая всеми фибрами души «присутствие любимого существа». «Любить означает растворяться, вплоть до исчезновения любых признаков индивидуальности, это означает жить жизнью другого, ничего не жалеть ради счастья этой жизни. Любить означает верить в себя и быть достойным друг друга и самых благородных порывов».
В этих первых «черновиках», написанных 23-летним Бальзаком, уже проглядывается его влюбчивая натура. Любовь — это то, что связывает всех живущих на земле. Между возлюбленными устанавливается не случайная привязанность, а естественная, всепоглощающая общность.
ПЕСНЬ ДЕ БЕРНИ
Их история любви начиналась скверно. Бальзак знал, что он не похож на любовника: «ни голосом, ни манерами, ни обходительностью». Он знал, что с Адонисом ему не сравняться и что он скорее «китайский болванчик»: маленькие глаза, порой беспокойно блестящие, толстое и короткое туловище, густые растрепанные волосы, выпуклые скулы, большой беззубый рот. Когда ему исполнится 31 год, он по-прежнему будет походить на нарядного ученика портного. Лора де Берни наделена острым и порой немного язвительным умом, она осыпала насмешками этого робкого 23-летнего молодого человека, погруженного в глубокую меланхолию. Знал ли Бальзак, что женщины не любят жалоб? Он чувствовал ее холодное равнодушие, но причину подобного поведения видел в том, что она, безусловно, глубоко несчастна в семейной жизни. Впрочем, он не любил счастливых. Ее красоту нельзя было назвать безукоризненной, но она могла стать таковой, если бы госпожа де Берни доверилась его чувствам. Он возродит в ней внутреннюю целостность, этот живительный нектар, некогда разливавшийся по всему ее телу и несший с собой жизнь. Ей 45. Она ровесница матери Оноре. Но ее возраст для него не помеха. «Если я и замечаю его порой, то расцениваю как веское доказательство моей страсти». Этот возраст, который сделал Лору де Берни посмешищем в глазах окружающих, превратил Оноре в «единственного ценителя ее красоты».
Но чего он добивался? Своими помыслами он напоминал Жан Жака Руссо. Он хотел обрести мать, некую госпожу де Варане, которая предоставила бы ему «кров», «стол» и «Армиду». Что толку в его книгах, если он не сумеет с их помощью воссоздать свою жизнь, если подле него не будет «земной богини, которой он посвятит все свои устремления»?
Госпожа де Берни сопротивлялась. Она не скрывала, что усмиряет свое сердце ради семьи, ради детей.
«Ваши дети скоро достигнут того возраста, когда верный друг станет бесценным сокровищем».
«Горе женщине, поправшей супружескую верность».
«Мы умрем в один день. Нет ни греха, ни добродетели, ни ада, ни рая. Единственное желание, которое должно определять наши действия, можно выразить следующими словами: испытай как можно больше наслаждений».
Несомненно, нанести оскорбление господину де Берни было бы преступлением. Но господин де Берни ему не друг, и разве Оноре виноват, что Лора вынуждена уделять своему супругу слишком мало времени, ничтожно мало по сравнению с тем, сколько у нее уходит на их разгорающуюся страсть?
«Домогательства Оноре смущают покой госпожи де Берни. Пусть они остаются только друзьями…»
«Никогда еще мое счастье не доставляло никому огорчения… Тот, кто, измучившись, присядет рядом со мной отдохнуть, пусть благословит меня».
Однажды вечером, распрощавшись, он вернулся. Звездная ночь, скамейка в саду пробудили желание и наполнили чувственностью их тела. Она подарила ему первый поцелуй.
В обороне госпожи де Берни была пробита брешь. Настроение Лоры было изменчивым, а Оноре не знал, что предпринять дальше.
Но Лора де Берни пыталась его остановить. Она считала, что выдумала свою любовь.
«Вы приговариваете меня к молчанию и одиночеству, наполненному только вами. Если вы вновь станете свободной, то вспомните обо мне! Но как я могу надеяться, что понравлюсь вам? […] Таков я есть и таковым останусь навсегда, целомудренным до того, что никогда не рискну произнести: я тебя люблю».
А вот последний довод Лоры де Берни:
«Если она отдастся ему, он станет ее презирать».
«Мы будем оказывать честь друг другу в моем сердце».
Когда наступал вечер, ноги сами приводили Бальзака к решетке сада. Немного постояв в задумчивости, он стучал в калитку. Именно этот образ и запечатлится «в памяти той, с кем ему предстоит свидеться. Ему радостно ждать, ни на что не надеясь».
Однажды ночью Оноре наконец перешел от ожидания и взглядов к действию, от лирического порыва к воплощению своей мечты: «Поцелуи твои ничего не изменили. — О! Нет! Я изменился сам, я люблю тебя до безумия…»
Тело Лоры осталось женственным: и хотя она не отваживалась говорить о своем пылком чреве, ее плечи, грудь, талия соблазняли гораздо сильнее, нежели лицо, о котором Бальзак писал, что оно «еще сохранило свою привлекательность», но не более.
Полюбив женщину на 22 года старше него, Бальзак как бы заново появился на свет. Ласковая мать заключала его в свои объятия; та самая мать, которая родила его от взаимной нежности. Взгляд госпожи де Берни навевал Бальзаку мысль, что он любим всей душой. И тогда он видел себя в розовом свете: он наделен «неисчерпаемой добротой, влекущей за собой утонченность; одухотворен, чистосердечен; его манеры и выражения непринужденны. […] Он небольшого роста, но хорошо сложен. Цвет лица, легкие движения, все в нем указывает, что он лишен и нервного темперамента, и экзальтированных суждений, и порывистых чувств, которые никогда не оставляют времени свериться с холодным рассудком» («Ванн-Клор», начат в 1822 году).
Госпожа де Морсоф будет петь свою песнь голосом Лоры де Берни. Этот голос найдет верную интонацию, ибо он движим нежной силой, которая словно усиливает значения слов: «Интонации голоса придают ее речи благоухание. Ее смех напоминает песнь ласточки» («Лилия долины»).
Госпожа де Берни преобразилась. В саду Бальзак «чувствовал лишь легкое напряжение, а цветы, даже давно засохшие, источали пьянящий аромат». Лора не должна была больше смотреть на себя как на маленькую тучную женщину с поблекшими глазами, чересчур длинным носом и отвисшим из-за десяти беременностей животом. Она наделена вечной красотой и отныне пойдет рука об руку с Оноре, очарованная его волшебным, колдовским обаянием.
Первые любовные письма Бальзака, дошедшие до нас лишь в черновиках, — вовсе не «галиматья», как говорили раньше. Скорее, это романтические упражнения в обезличивании любовью. Любовник наполняет своими чувствами душу возлюбленной, и они сливаются в любовной страсти, которая их объединяет и возносит к идеальным вершинам, до величественной реки, разделяющей два рая — рай плоти и рай души.
Этот гимн любви звучит словно с оперной сцены. Скамья в саду де Берни превращается в колдовское место: «Я вижу только скамью» и прекрасное лицо, изможденное прошлыми печалями, но потом просветленное бесконечной радостью, «когда сердце открывается вам взаимностью». Такая пылкость могла годами оставаться неутоленной, не встретив себе подобную и не слившись с ней воедино, если бы не любовь, это «усилие двух простодушных детей, пытающихся удовлетворить свое сердце, людей и Господа Бога» («Лилия долины»).
Как и у госпожи де Морсоф, у госпожи де Берни были дети, «которые не должны ее забыть», но Оноре был готов помочь ей вырастить их. Разве его воспитала не она? Она бранила его за грубые манеры, за «слишком вольные речи». Бальзак был очень робок, но порой становился «несносен». Подобные ему похожи на «цветы на снегу». «Сочувствие и нежность женщины оказывают на них поистине магическое воздействие» («Евгения Гранде»).
В Вильпаризи свидания Лоры де Берни и Бальзака быстро стали темой всеобщих насмешек. Кроме того, тут и там сновали дети. Они все видели и краснели от стыда. Они понимали и чувствовали, что мать теряет голову. Влюбленная парочка уже не знала, как быть. Дети слишком себе на уме и их невозможно было заставить рассказывать жителям деревни, будто Бальзак ухаживает за дочерьми госпожи де Берни. «Конечно, если бы я решил жениться, то не колебался бы ни минуты, хотя ни моя внешность, ни мой характер не в состоянии возбудить серьезных чувств». Прошло не так уж много времени, и влюбленные стали встречаться в Париже, в доме господина де Берни, правда, значительно реже. Зато «об этих восхитительных свиданиях никто ничего не узнал».
Госпожа де Бальзак не сразу обратила свой приводящий в трепет орлиный взор на любовные похождения сына. По правде говоря, в феврале-марте 1822 года на нее обрушилось бесчисленное множество забот. Она вынуждена была приютить у себя сына своей сестры, сироту, который был всего на год моложе Оноре. Он был сыном Себастьяна Малю, умершего в 1816 году и занимавшего должность инспектора в Службе снабжения провиантом. Своего кузена Эдуара Малю Бальзак прозвал «образиной». Эдуар был очень богат, но угасал от туберкулеза. Он умер 25 октября 1822 года, оставив своей тетке Лоре де Бальзак значительное наследство в 86 тысяч франков.
Бабушка Саламбье дряхлела, Бернар-Франсуа старел. Кучер попал ему в глаз. «Кончик хлыста раздробил хрусталик и поранил роговицу. Папа почти ослеп», — писала Лора Сюрвиль.
Госпожа де Бальзак вынуждена была отправиться в Байе. Ее дочь Лора переживала трудный период, когда супруги заново учатся выносить друг друга. Госпожа де Бальзак боялась, как бы Лору не постигла участь Лорансы.
После возвращения домой госпожа де Бальзак преподнесла Оноре урок. Его связь с госпожой де Берни наносила оскорбление достоинству замужних женщин, к тому же уже не молодых. Пусть ту энергию, с какой Оноре бегает на свидания, он употребит на создание романов. Либо Оноре не любит госпожу де Берни, либо он любит в ней тех женщин, которыми никогда не обладал. Когда на него оказывают давление, он не знает, что и сказать. Это служит доказательством того, что его любовь несостоятельна.
Госпожа де Бальзак полагала, что догадалась о расставленной сыну ловушке: Лора де Берни замыслила возбудить у Оноре страсть, чтобы он в конце концов обратил внимание на ее внебрачную дочь Жюли Кампи и женился на ней.
Когда все идет из рук вон плохо, надо действовать решительно. В конце марта 1822 года был обнародован «указ об изгнании». Госпожа де Бальзак приказала своему сыну Оноре удалиться в Байе, к сестре.
Подле горячо любимой сестры Оноре вновь обретет и детскую невинность, и созданный им самим идеал женской красоты. Лора де Берни будет быстро забыта.
Оноре отложил отъезд на несколько дней, чтобы вновь увидеть скамью в Вильпаризи, проводить 9 мая Лору де Берни в Париж, остаться с ней до 12 мая, вернуться в Вильпаризи и наладить секретную почту. Бабушка Саламбье, которая «неизменно дружелюбно относилась к соседкам с околицы» (то есть к госпоже де Берни), согласилась на роль посредницы. 20 мая Бальзак пустился в путь. Слуга Луи Бруетт, сопровождавший Оноре до дилижанса, видел, как тот принялся заигрывать с «очень симпатичной графиней». Госпожа де Бальзак успокоилась.
ПРОВИНЦИАЛЫ
Дом Сюрвилей в Байе располагался на улице Тентюр. На воротах сохранилась старая зеленая краска, местами облупившаяся, но внутри дом был обставлен очень мило, очень уютно. Лора обеспечила своему супругу прекрасную жизнь в доме, где все «сверкало монастырской чистотой». Парадная зала отделана ореховым деревом. «Стулья, обитые декоративной тканью, и симметрично расставленные старинные кресла» позволяли им принимать светское общество Байе.
В течение нескольких недель Оноре наблюдал за этим провинциальным обществом избранных. Мужчины категорично отстаивали свое мнение, когда речь заходила о политике. Стычки возникали даже между единомышленниками. Когда воцарялся мир, они начинали говорить об охоте, и тогда женщины не имели никакого права их беспокоить, исполняя роль примерных жен.
Жизнь Сюрвиля, инженера-путейца, которому приходилось считать булыжники да измерять мостовые, никак не укладывалась в рамки жизни современного промышленника, и поэтому удивляла Бальзака. Его супруга спасалась от скуки, грезя о богатстве. А он, немного расстроенный, мечтал о грандиозных проектах, на реализацию которых, как ему казалось, он легко нашел бы деньги, не попади он волею случая в провинцию.
Лора де Берни привела Бальзака в отчаяние. В одном из писем она сообщила, что стала «свободной»: ей пришлось обо всем рассказать мужу, и теперь Оноре должен жить рядом с ней.
Бальзак тут же хлопнул дверью: «Если все так просто, я добровольно от этого отрекаюсь… Подобная решимость вызвана тем, что я придерживаюсь весьма невысокого мнения о самом себе. Я ничего из себя не представляю, моя духовная жизнь слишком ничтожна, чтобы наносить рану насекомому лишь для того, чтобы воскресить его… Я сужу о жизни превратно».
Лора де Берни навсегда останется «его путеводной звездой, которая сияет во всем блеске и служит надежным компасом». Но ей придется разрешить ему самоутверждаться и довольствоваться просьбой к нему писать ежедневно 60 страниц романа. «Заклинаю вас не привязываться ко мне, умоляю вас разорвать наши отношения».
5–6 июля Сюрвиль свозил Бальзака в Шербур, что внесло немного разнообразия в их монотонную жизнь. Бальзак восхищался портом, строительными конструкциями, возведенными по «невероятному» проекту Франсуа Кашена (1757–1825), который являлся «Гомером, Данте, Ньютоном архитектуры» и «мишенью для самых подлых завистников».
Судьба непризнанного Кашена напоминала Бальзаку его собственную судьбу. Он надеялся прочитать восторженные отзывы о «Клотильде Лузиньянской». Однако критика разнесла роман в пух и прах. Книгоиздатель заплатит деньги лишь после того, как книги будут раскуплены. Бабушка Саламбье, всегда настроенная благожелательно, на сей раз упрекала Оноре, что «ему взбрело в голову поехать в Шербур вместо того, чтобы заняться серьезными делами», как например, послать в газеты статью в защиту произведения, которое они ошельмовали.
В течение трех месяцев, проведенных Бальзаком в Байе, литература не утратила своих прав. Рукопись «Клотильда Лузиньянская, или Прекрасная еврейка», найденная в Провансе и опубликованная лордом Р’Оное, появилась в Париже 27 июля и была отпечатана в типографии Юбера.
5 августа госпожа де Бальзак написала дочери письмо. Если Оноре прочтет это письмо, он получит по заслугам! Он считает себя писателем, «он хочет быть именно писателем, и точка». То, что выходит из-под его пера, не дает оснований для подобной уверенности. Он не слушает свою мать. Он убежден, что мнение женщины не стоит ломаного гроша. Возможно, он прислушается к советам своей сестры? Какие чувства у Лоры вызывала сцена смерти д’Ангерри, «нехристя, убитого кормилицей, вонзившей свои острые когти ему в грудь, содравшей с него кожу и вырвавшей сердце»? Пытки лишь отягощают впечатление от всех этих ужасных преступлений.
Да и стиль произведения оставляет желать лучшего. Разве можно писать: «легкое окно», «хрупкий луг», «бархатистые движения», «семенная жидкость»? А слово «пленительный» повторяется на каждой странице! «Книга написана в самом дурном ключе. Оноре часто общается с молодыми людьми, которые портят друг другу вкус и считают всякий вздор прекрасным». Оноре очень непоследователен. Он «считает себя либо всем, либо ничем». То он болтает разные глупости, то вдруг начинает произносить умные речи. Человек, который его слушает, может решить, что «проблески ума у него — лишь мимолетное и случайное озарение». «Оноре совсем не умеет вести себя в приличном обществе». Госпожа де Берни призналась, что «у нее в доме Оноре умудрился шокировать и унизить господина Мишлена, ее зятя».
Не колеблясь ни секунды, Оноре решил написать другое произведение, на этот раз в сентиментальном жанре: «Арденнский викарий». В этом романе не найдется место буйным страстям. Желая привлечь на свою сторону Лору и ее супруга, Бальзак предложил им сотрудничество.
Лора — верная душа, от нее Оноре мог ничего не скрывать. Он понимал ее с полуслова и говорил с ней без обиняков, и все-таки немного ревновал к поистине чересчур самодовольному Сюрвилю, который, помимо всего прочего, любил выдавать чужие суждения за свои собственные. Между Лорой и ее супругом постоянно возникали размолвки. Лора и Оноре действовали заодно: «Я предстаю пред Лорой таковым, каков я есть. С непринужденным видом я расхваливаю или принижаю себя. Я рассказываю ей о своих горестях и радостях, о надеждах и поражениях. Я радуюсь вместе с ней. Для нее я всегда находил самые нежные и самые утешительные слова. Она меня порой бранила таким голосом, что я сожалел, что далеко не всегда мне представляется возможность слышать его. Я соединен с нею великими воспоминаниями, воспоминаниями о жизненных ошибках, воспоминаниями о младенческом лепете и о наивных радостях детства. Одним словом, она — моя сестра!»
Сюжет «Арденнского викария», должно быть, озадачил супругов Сюрвиль. «Арденнский викарий» похож на стеклянный дворец, сквозь стены которого отчетливо просвечивается жизнь Бальзака. Вот госпожа де Берни. Ей 36 лет. У нее стройная талия, «все еще не утратившее привлекательности лицо, черные волосы и белоснежная кожа. Ее глаза выдают нежную душу и возвышенные мысли». Не будучи непристойной или непоследовательной, эта дама «с легкостью поддается чарам блистательных качеств. Она подчиняется вдохновению, которое они вызывают». К несчастью, викарий — единственный, кто отвечает взаимностью на ее кокетство. А ведь он человек, посвятивший себя Богу. Более того, выясняется, что этот священнослужитель, обстоятельства рождения которого окутаны тайной, — сын прекрасной дамы. Ошибиться невозможно. «Арденнский викарий» повествует также о райской жизни двух детей, Жозефа и Мелани. Они настолько привязаны друг к другу, что считают себя братом и сестрой. На самом деле они не связаны кровными узами, однако питают взаимную нежную любовь в лесах Нового Света. Когда они вырастают, их детская привязанность превращается в эротическую и идиллическую. Чтобы избежать кровосмешения, Жозеф решает принять сан священника. Но когда он узнает от матери, что Мелани вовсе ему не сестра, он пересматривает свое решение. А тем временем предводитель пиратов похищает Мелани. Возлюбленные воссоединяются лишь после череды преследований, сражений, убийств.
Жозеф вдруг вспоминает, что он священник. И даже если его освободят от обета, найдет ли он в себе силы отказаться следовать по узенькой тропинке, ведущей прямо на небеса?
Призыв Господа лишь усиливает нерешительность Жозефа. Чувственные радости исходят от дьявола. «Ты победил, демон!» — восклицают влюбленные перед тем, как умереть.
3 ноября 1823 года, в день выхода из печати «Арденнский викарий» был запрещен цензурой. Его расценили как настоящий памфлет, направленный против общественных институтов, которые опутывают человека различными запретами: «Социальные устои напоминают ящик Пандоры, где не нашлось места надежде». Почему священники не вступают в брак? Почему покинутым женщинам отказывают в праве любить своих сыновей? Почему брату и сестре с нежной душой и возвышенными устремлениями категорически запрещается вступать в кровосмесительную связь? Для чего существуют все эти свадьбы, родители, дядюшки, кузены, родственники? Живым существам присуще одно-единственное чувство, которое заслуживает вдохновенного отношения к себе. Это чувство называется любовью. Те, кто любит, принадлежат самой жизни, а все остальные — обществу. А ведь хорошо известно, что общество устанавливает наивные и чопорные правила приличия, заставляющие сдерживать любое проявление чувств.
Показав «Арденнского викария» Лоре Сюрвиль и ее супругу, Бальзак решил ознакомить с этим произведением свою мать. На этот раз она осталась довольна: «Его „Викарий“ — лучшее произведение из тех, что он написал». Однако Лора всего лишь бегло ознакомилась с романом для того, чтобы написать несколько благодарственных слов дочери, которая, приютив у себя Оноре, принесла ему удачу. «Никто не мог вдохновить его лучше, нежели ты». Вот они, правила хорошего тона!
ОРАС ДЕ СЕН-ОБЕН
Бальзак уехал из Байе 10 августа. Затворничество в провинции не пошло на пользу его здоровью — он возвратился тощий, как жердь, — но подвигло его на долгие и мучительные размышления о собственной карьере. Расталкивай всех локтями, если хочешь добиться успеха. И Бальзак очертя голову пустился в авантюры. Он подписал контракт с книгоиздателем Шарлем-Александром Полле, в котором пообещал написать до ноября 1822 года два романа, иными словами, семь томов. Книги должны были выйти под новым псевдонимом. Конечно, это шаг вперед. Бальзак больше не Вьейргле, который мастерил книги кустарным способом. Он больше не лорд Р’Хун, начинающий литератор, фамилия которого является анаграммой имени Оноре. Он Орас де Сен-Обен, бакалавр изящной словесности, своего рода скриб[16], летописец сенсационных событий. Орас де Сен-Обен изучает различные мемуары. Он выбирает те документы, которые могут вызвать у публики интерес.
Бальзак решает таким образом проблему правдоподобия. Все, о чем рассказывает Сен-Обен, соответствует истине, поскольку он это где-то вычитал. К тому же подобный прием держит подлинное имя автора в секрете. В течение нескольких последующих лет Бальзак решительно отказывался «проституировать свои мысли, прикрываясь словом „публиковать“».
Автор, который подписывает собственным именем произведения, повествующие о преступлениях или любовных похождениях, сам похож в глазах читателей на преступника или распутника. Подобная репутация не делает ему чести. Орас де Сен-Обен помог Бальзаку стать совершенно иным. Он превратил его в незнакомца, который от всей души делился с окружающими своими познаниями.
Контракт с Полле на два романа представлял собой выгодную сделку: Бальзаку должны были выплатить две тысячи франков в оговоренный срок, причем он получил авансом 300 франков «наличными по текущему курсу».
Бальзак вернулся в Вильпаризи с туго набитым кошельком и заключил с отцом «договор на право пансиона». Оноре обязался платить 1200 франков в год «за кров и стол».
Наступило время извлекать выгоду. Семья ожидала наследства от Эдуара Малю, умершего 21 октября. По акту о разделе наследства, вступившему в силу 30 июля 1823 года, госпожа де Бальзак, как мы уже говорили, получала 30 тысяч франков наличными и в виде ренты и акций. Но, возможно, смерть Малю заставила семью Бальзак немного взгрустнуть: семья лишалась возможности жить в Вильпаризи, поскольку владелец дома, приходившийся госпоже де Бальзак родственником, собирался повысить арендную плату. Бальзаки вновь переехали в любимый квартал Марэ, где они и обустроились в доме 7 на улице Руа-Доре.
В июне 1824 года они возвратились в Вильпаризи, но уже как собственники. Теперь у них появились средства, чтобы купить дом кузена. При этом в Париже они сохранили за собой свое пристанище на улице Берри и на улице Анжу в доме 2. Оноре поселился на углу улиц Турнон и Сент-Сюлпис. С того времени это здание нисколько не изменилось.
«Меня замучили дела», — писал Бальзак сестре. Помимо двух романов («Арденнский викарий» и «Столетний старец»), которые Бальзак должен был представить Полле, один роман он обещал Юберу, своему первому издателю. Кроме того, он учительствовал: мать потребовала, чтобы он позанимался с младшим братом Анри, который только и делал, что бил баклуши. Госпожа де Берни боялась, как бы Оноре ее не бросил. А для того, чтобы регулярно видеться с ним, она настояла, чтобы он давал уроки ее сыновьям.
С Лорой де Берни Оноре намеревался поддерживать платонические отношения. Он забросал ее трепетными посланиями. Оба они нашли утешение, погрузившись в воспоминания о скамье в Вильпаризи, где им довелось взглянуть своей любви прямо в глаза… Но то — поэзия… Вернемся к прозе… А проза — это труд. Оноре не сомневался, что прославит ее любовь: «Именно ради тебя я совершу все, что поможет мне вознестись над всеми остальными людьми».
«ОБМАНИ-СМЕРТЬ»
Философствующий врач подобен богам.
Гиппократ
В течение всего 1822 года Бальзак урывками создавал своего «Фауста». Роман имел несколько названий: «Два Берингенна» (именно это название указано в контракте с Полле от 11 августа 1822 года), затем «Два Берингельда» и наконец «Столетний старец».
Роман снабжен предисловием. Автор книги, Орас де Сен-Обен, выносит на суд читателей «документально обоснованную» историю. Он рассказывает своими словами об одной внушающей ужас жизни, которая длилась несколько столетий подряд: «Я собрал все материалы, относящиеся к Столетнему старцу. Сведения и документы, на которых основывается мое повествование, почерпнуты мною из секретных мемуаров, записок, писем и сообщений. Все это хранится у неких особ, до сих пор пребывающих в добром здравии… Я же лишь литературно изложил факты в определенной последовательности, чтобы получилась связная история. Понимая, что мне отведена пассивная роль бытописателя, я не позволил себе высказать ни единого суждения и предоставляю каждому право самостоятельно осмыслить этот рассказ…»
Ясно, что документы, приводимые в качестве доказательств, являются плодом воображения. Бальзак сделал главным свидетелем сына Столетнего старца, Туллия Берингельда. И именно в этом он оригинален. Ни у Фауста, ни у Франкенштейна, ни у Мельмота, фантастических героев романтизма, нет сыновей.
Действие романа разворачивается около горы Граммон, возвышающейся над Туром. От скалистого склона исходит «беловатый пар, превращающийся в густой дым», и слышатся «жалобные стоны, напоминающие то ли плач ребенка, то ли, скорее, стенания человека, умирающего насильственной смертью».
«…Столетний старец скрылся в пещере, но вскоре вышел оттуда, неся на плечах мешок. Содержимое мешка было довольно объемным, но не слишком тяжелым, поскольку, когда старец бросил мешок на землю, раздался слабый звук, похожий на треск, который издают деревянные поленья или, вернее, куски угля. Нельзя было без ужаса смотреть на странную конфигурацию его ноши. Эти продолговатые и округлые формы рождали мысль, что в мешке находился расчлененный труп».
Затем Орас де Сен-Обен предоставляет слово повивальной бабке. Ее рассказ «внушает доверчивым и простодушным слушателям почтительный страх».
В 1780 году у бездетной супружеской пары на свет появился ребенок, который был в три раза крупнее прочих новорожденных. Но настоящий отец, давший жизнь этому ребенку, — старец. Его облик повергает в трепет: огромный рост, горящие сардоническим огнем глаза, мертвенно-бледный цвет лица, испещренного глубокими, многовековыми морщинами. Столетний старец, сумев оплодотворить женщину, сумеет также извлечь ребенка из ее чрева «ударом стального клинка». Прибегнув к гипнозу, он усыпит роженицу.
Как и Мельмот, персонаж, придуманный писателем Мэтьюрином, этот старец по имени Берингельд Скулданс бессмертен и вечно скитается по земле. Он покоряет пространство и время. Он обошел весь земной шар и постиг тайны вселенского разума. Явившись миру в 1476 году, он исчез в день святого Варфоломея. Вместе с королем преисподней он обитает в пандемониуме и смеется над ангелами.
Став взрослым, сын Столетнего старца Туллий отправляется вслед за Бонапартом. Он принимает участие во всех его кампаниях. Берингельд-младший получает звание генерала и должен неминуемо погибнуть в одном из сражений, не вмешайся чудесным образом его отец…
В Яффе Туллий лежит в госпитале среди умирающих от чумы. Столетний старец приходит к нему, делает крестообразный надрез и накладывает на него некое черное вещество. Введя таким образом «волшебную вакцину», он спасает сына.
В Испании Туллий едва не лишается рассудка. Как истинный генерал, он превыше всего ставит воинскую честь. Но случайно обнаруживает, что в двух лагерях солдаты истязают пленных, получая удовольствие от пыток. Однако и старый Берингельд чувствует, что слабеет день ото дня. Силы его иссякают, но он знает способ, как поднять моральный дух сына и возродиться самому: самые тяжкие недуги можно излечить неким сильнодействующим средством.
Берингельд выбрал жертву, легко поддающуюся гипнозу. Это молодая девушка по имени Марианина. Туллий любит ее, но отцу невдомек о чувствах сына.
Берингельд заманивает Марианину в свое логово и усыпляет… Перед тем как потерять сознание, Марианина отчетливо понимает, что Столетний старец готовится извлечь из ее тела «сыворотку долголетия»: «Берингельд принес стеклянную трубку, один конец которой переходил в газовую горелку, а другой был отделан платиной. С осторожностью, присущей старости, он положил трубку на стол и присоединил к ней склянки, содержимое которых Марианина не могла рассмотреть, поскольку вещество, образовавшееся в процессе плавки нескольких металлов, заполнило все сосуды. Прозрачной оставалась только верхняя их часть… Старец взял золотую ступку и положил ее рядом с Марианиной».
Туллию, отправившемуся на поиски Марианины, удается ее спасти. Когда он вырывает жертву из рук своего отца, тот решительно оправдывает свои деяния. Он ничем не отличается от Господа Бога, который из года в год отыскивает выделяющихся из общего ряда людей, одного за другим их уничтожает, а затем из разрозненных частей создает целостную общность, наделенную знанием. Целостная общность науки или мудрости — исток существования, суть природы и венец творения.
«Какой славой покроет себя человек, который сумеет разгадать тайну жизненного принципа и, прибегнув к необходимым мерам предосторожности, сумеет наделить себя жизнью более продолжительной, чем жизнь самой вселенной. Но если какой-либо человек найдет этот эликсир жизни, неужели вы думаете, он об этом расскажет?.. Он будет использовать его лишь для своего блага, дав самому себе обет молчания. Он постарается избежать встреч с простыми смертными. Он будет бесстрастно взирать, как течет река их жизни, и не приложит никаких усилий, чтобы превратить ее в море».
Роман «Столетний старец» написан для тех, кого обуревают мрачные мысли. Но его можно также рассматривать и как аллегорию. Изобразив причудливые мутации вампира, Бальзак попытался дать представление о том духовном начале, которое сохраняется в каждом из нас после исчезновения телесной оболочки. Покинув одно тело, это начало непременно проникает в другое.
Бальзак читал эзотерические трактаты. Он верил, что такие феномены, как сновидения, сомнамбулизм, предчувствия, телепатия, указывают на то, что данный конкретный человек наделен духовной силой, которая в экстраординарных ситуациях может воздействовать на материю. Существуют медиумы, наделенные особыми способностями угадывать намерения окружающих. Существуют медиумы, которые, собрав свою волю, передвигают столы, проходят сквозь стены, пересекают континенты, преодолевают столетия, разрывают могилы и похищают секреты мертвецов.
Как гласит пословица: «Если бы молодость знала, если бы старость могла».
Берингельд — это молодой старик, который одновременно и знает, и может. Его ум обширен, как обширны человеческие познания, накопленные с тех пор, как вселенная стала вселенной. Он человек дела, оказывающийся в нужное время в нужном месте. Это единение знания и силы достигнуто пагубными средствами, ибо Столетний старец — порождение дьявола, ведь человечество, в кругу которого он вращается, представляет собой сущий ад. Если бы Столетний старец был Божьим созданием в обновленном мире, искупившим все свои грехи, он предстал бы перед нами в облике крылатой души или бабочки, разорвавшей последнюю нить, связывавшую ее с коконом.
Важно подчеркнуть, что этот «черный роман» проникнут поразительной надеждой. Жизнь Столетнего старца олицетворяет собой жизнь человечества в состоянии перевоплощения и метемпсихоза. Каждая из принесенных в жертву жизней обеспечивает продолжение развития неистребимой и нетленной жизни. Человечество постоянно умирает и вместе с тем эволюционирует.
В 1820 году в своих философских сочинениях Бальзак сам себе задавал вопрос, бессмертна ли душа. Нет, душа смертна, если речь идет об отдельной личности. Да, душа бессмертна, если каждая жизнь представляет собой лишь эпизод из жизни всего человечества. Смерть людей, принадлежащих к одному поколению, напоминает сон или зиму, которая дает природе возможность обновить себя и заново воскреснуть. Смерть затрагивает конечный этап жизни, то, что называется бренными останками. И напротив, при появлении человека на свет она отступает в далекое будущее. Новорожденный упрощает, очищает, концентрирует жизнь. Берингельд дорожит своим сыном. Он постоянно зовет его: «Сын мой… мой сын…» В присутствии сына он держит в руках нить жизни. Без Туллия старый Берингельд есть не что иное, как окаменевшая жизнь, иначе говоря, живая смерть.
«Столетний старец», этот роман об обновлении жизни или об ее «воскрешении», как говорил Лейбниц, труды которого Бальзак внимательно читал, вступает в полемику с «Фаустом». Фауст заключил сделку с дьяволом, чтобы омолодиться и похорошеть. Но в глубине души он по-прежнему остается разочарованным и уставшим от жизни человеком. Бальзак никогда не переставал считать Мефистофеля образом, вышедшим из моды. В «Модесте Миньоне» Мефисто принимает обличье кота. Поклонник Делакруа, Бальзак не любил «Фауста и Мефистофеля», поскольку Мефисто слишком походил на господина де Сент-Эстева, содержателя борделя на улице Сент-Барб.
Берингельд — не Фауст. Он также противостоит и другому бальзаковскому персонажу — Рафаэлю де Валантену из «Шагреневой кожи».
Как и большинство главных героев произведений Бальзака, Валантен знает, что испытывает слишком много желаний, чтобы суметь удовлетворить их в течение одной жизни. Тогда ему потребовалось бы научиться менять тело, как всадник меняет загнанных лошадей.
«Шагреневая кожа», опубликованная в 1831 году, — это книга, где фантастика искусно переплелась с реальностью. В ней нет ни вампиров, ни живительных сывороток.
В 1829 году умер отец Бальзака. Образ старого Берингельда соответствует тому образу, что сложился у Бальзака-ребенка о Бернаре-Франсуа: старомодно одетый, очень старый человек. Бернар-Франсуа был помешан на своем здоровье. Он в невероятных количествах поедал фрукты и все время пил различные настойки и растительные отвары. Он хотел прожить как можно дольше. Подобно Берингельду и антиквару из «Шагреневой кожи», Бернар-Франсуа как-то сказал сыну: «Желания нас сжигают, а возможности — изничтожают».
Должны ли мы отодвигать день смерти, влача скучное и никчемное существование? Или же, напротив, должны брать от жизни все, что она способна дать, как это сделали Байрон и Наполеон, тем самым прославив свое имя?
КОМУ ДОВЕРИТЬСЯ?
Запрет на продажу романа «Арденнский викарий» был прежде всего мерой устрашения. Полиция ополчилась на Полле, «самого опасного книготорговца столицы». Полле продавал или выдавал напрокат в своем читальном зале безобидные произведения. Но в то же самое время «снабжал своих знакомых книгами, в которых содержится призыв к мятежу».
Само собой разумеется, Бальзак, решивший извлечь из этого запрета выгоду, в предисловии к своему следующему роману «Аннетта и преступник» изобразил из себя мученика. Он цитировал строки приговора, вынесенного «судом конгрегации». В том приговоре «Арденнского викария» заклеймили, как «аморальное и антирелигиозное произведение».
Анна Мари Мейнингер доказала, что запрещение «Арденнского викария» было связано отнюдь не с политикой, а, скорее, с самим сюжетом романа, в котором мы погружаемся в мир, «обуреваемый страстями стареющих женщин, в мир, где молодые девушки становятся воплощением мечты о недосягаемой и запретной свежести». Если сам Бальзак не мог пережить ничего подобного, он соприкоснулся с этим миром. В 1822 году госпожа де Берни выразила желание, чтобы Бальзак стал членом семьи де Берни, женившись на ее дочери Эмманюэль. Эта непристойная ситуация, когда любовница превращается в тешу, так глубоко врезалась Бальзаку в память, что в «Человеческой комедии» он четыре раза ее воспроизвел. Но 23-летний Бальзак был уже убежден, что его привычки и нравственные устои лучше всего соответствуют образу жизни холостяка. Он привык работать в одиночестве. Сама мысль о большой семье, где все непрерывно говорят, была ему невыносима. К тому же Бальзак любил лишь воображаемых женщин. Ночью, когда полусонный он сидел у камина, языки пламени и струйки дыма, причудливо переплетаясь, являли ему образ доброй, богатой и влиятельной женщины, которая готова посвятить Бальзаку остаток своих дней и одарить его своей лаской и нежностью. В «Гобсеке» Бальзак назвал такие образы «женщинами из горящих головешек».
«ГНУСНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»
Бальзак написал на скорую руку неплохую мелодраму «Негр» и предложил ее театру Гетэ. Однако театр пьесу отклонил. Эта неудача надолго повергла Бальзака в уныние. Актеры не испытывают каких-либо чувств, их ничем нельзя привести в восхищение. Они играют произведения лишь тех авторов, которые могут облить их грязью в прессе: «Если у вас есть возможность сказать во всеуслышание, что герой-любовник страдает астмой, что у юной героини свищ на самом интересном месте, а субретка убивает на лету мух, ваше произведение будет завтра же поставлено на сцене» («Утраченные иллюзии»).
Вальтер Скотт привил читателям вкус к по-иному рассказанной истории из повседневной жизни. В 1825 году Бальзак составил план и начал собирать документальные материалы для серии книг, в которых он хотел воспроизвести живописные картины из прошлого Франции. В этом психологическом и реалистическом повествовании Бальзак собирался не только изобразить такими, какими они были на самом деле, Карла IX, Генриха IV, других королей и их окружение, но и описать их костюмы, мебель, жилища, интерьеры. Великие летописцы Брантом, Монлюк, Л’Этуаль и им подобные должны были ему в этом помочь. Читатели должны были ощутить тепло этой изложенной на бумаге жизни.
Но для реализации столь грандиозного замысла требовалось время. А пока Бальзак искренне полагал, что журналистика должна и может прокормить.
У Бальзака было несколько зажиточных друзей, и все они занимались журналистикой. Например, Ле Пуатвен де Л’Эгревиль, который в своей парижской квартире развил бурную деятельность. Он был решительно настроен сотрудничать с газетами, выходящими незначительным тиражом. Впрочем, пристрастия его непрестанно менялись. И почти каждый внезапно появившийся на свет новый «листок» содержал его заносчивые комментарии о книгах, спектаклях или произошедших событиях. И хотя газеты эти столь же внезапно исчезали, Ле Пуатвен не унывал: ему всегда хватало работы.
Лучше всего дела обстояли у тех газет, где Ле Пуатвен и ему подобные ввели «систему подписки». Журналист обходил авторов и художников, придерживавшихся различных направлений, и делал им вполне разумное предложение: вы подписываетесь на один или несколько экземпляров нашей газеты, а мы курим вам фимиам. В противном случае мы отпустим в ваш адрес такие шуточки, что вас никто не станет принимать всерьез.
Ле Пуатвен, никогда не прекращавший поиск сотрудников для своего издательства, нанял Бальзака. И хотя за статьи журналисту платили мало или даже вовсе не платили, зато он получал книги, контрамарки в театр, его приглашали на ужин владельцы ресторанов… Как говорится, журналист представлял собой некое необходимое излишество. А что касается его насущных нужд, например квартиры, то можно было кое-как продержаться, продавая подаренные директорами театров билеты и присланные книгоиздателями книги. Можно было также писать рекламные статьи. За них платили очень хорошо. В тех статьях следовало всего-навсего расписывать достоинства косметических средств, способствующих росту волос, или лекарств от простуды («Паста Рено»), Рекламировать можно было также духи, кроме того, «Пасту султанши» и, самое главное — «Бразильскую настойку», которая предупреждала и излечивала венерические заболевания.
Брюс Толлей полагает, что узнал манеру письма Бальзака в одной из подобных статей газеты «Лорнет», выходившей в те годы. Под статьей стоит подпись: «Любитель хорошо поесть, испытывающий денежные затруднения». Журналист превозносит до небес достоинства ресторана Давуа. Содержание статьи сводится к следующему: автор констатирует, что в Париже все стоит дорого, так что приходится выбирать: либо купить бархатный костюм, либо досыта поесть. Но, посещая ресторан Давуа, можно хорошо одеваться и при этом не отказывать себе в еде. За 22 су вам подадут «суп, три вторых блюда на выбор, десерт, кувшин вина и сколько угодно хлеба».
В той же самой «Лорнет» опубликована статья, в которой сообщается, что «на бульваре, позади Королевского сада», расположен пансион, над дверьми которого прибита вывеска «Семейный пансион для лиц обоего пола и прочая». Такая вывеска будет украшать пансион госпожи Воке на улице Нев-Сент-Женевьев в романе «Отец Горио».
В конце 1823 года Бальзак принялся устанавливать новые деловые связи. Он познакомился с Орасом Наполеоном Рессоном, бывшим коммивояжером, а ныне журналистом газеты «Пилот». «Либерализм» Рессона вынудил его уволиться из канцелярии министра финансов, господина Руа. Рессон сумел пустить пыль в глаза Бальзаку.
Прежде всего Рессон разбирался в том, что в наше время называется маркетингом. «Раз произведение состряпано, необходимо его продать». Итак, Бальзак работал. И этим все сказано. Ему никогда еще не доводилось видеть журналиста, просящего милостыню.
Рессон быстро смекнул, что Бальзак оказался в стороне от всех существующих направлений. Писатель не может жить вне политики, вне партий. Почти все газеты придерживались либеральных взглядов. Сам Рессон был умеренным либералом. Бальзак, понятное дело, тоже. В литературе либералы проявляли классический вкус. Правда, монархисты сравнивали классицистов с «париками, поеденными молью». Дворяне, которые долгие годы провели в изгнании в Германии или Англии, считали себя романтиками. Они любили и читали только те произведения, где бурлили страсти.
В 1820 году Ламартин нашел компромисс. Его «Поэтические раздумья» олицетворяют собой романтизм, спустившийся с заоблачных высот и расположившийся в реальном пространстве: в долине, у озера… Чувства остаются пламенными, но выражены они в классическом духе.
Не будучи Ламартином, Бальзак все же решил применить его метод в своем творчестве.
ПОЭТИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ
«Утраченные иллюзии» показывают, как изменилось поэтическое обрамление. Канули в Лету английская фантастика, Фингал, привидения, средневековые рыцари. Наступили времена лирических поэтов. Эти поэты были твердо уверены, что «поэтические эссе, вдохновение, благородство, гимны, песни, баллады, оды» принесут им много денег.
Но прекрасные порывы души хирели на книжных развалах. Их «забрызгивали грязью фиакры» и «оскверняли прохожие», небрежно перелистывавшие страницы.
Успех Ламартина пробудил в Бальзаке поэта. И Бальзак начал ему подражать.
У Бальзака была своя Эльвира — это госпожа де Берни. В то же время его Эльвира точно не страдала чахоткой, этим предвестником недолговечного счастья и скорой смерти. Госпожа де Берни умела только любить. Именно в этом чувстве заключалось все «неистовство ее существа». Бальзак сумел описать ее «одухотворенное лицо» и «привлекательную улыбку». Эти выражения встретятся в «Оде молодой девушке», которую Бальзак опубликовал в «Романтических анналах» Юрбена Канеля в 1827–1828 годах. Такими же выражениями будут изобиловать стихи Люсьена де Рюбампре, которые тот прочтет в салоне госпожи де Баржетон. Гости отзовутся о стихах с убийственной жестокостью:
«Не спрашивайте моего мнения. Я засыпаю, едва кто-нибудь начинает читать».
«Надеюсь, Наис не слишком часто будет заставлять нас слушать по вечерам стихи».
«Декламировал он великолепно, но я предпочитаю вист» («Утраченные иллюзии»).
Поэту Бальзаку не пришлось испытать отчаяние Люсьена. Госпожа де Берни и не пыталась навязывать его вирши своему обществу.
В 1823 году Бальзак написал «Оду неизбежности», затем поэму «О смерти», переименованную впоследствии в «Умирающего поэта». Его вдохновляло «Озеро». Бальзак перенес это озеро в долину Луары:
Вспомни о вечере, когда небеса Турени…
После этого Бальзак взялся за создание большой поэмы «Федора», которая повествует об истории прекрасной молодой женщины. Однажды вечером она танцует в русском посольстве. Ее кавалер — само совершенство, но до чего же он печален и как неторопливы его движения! Молодая женщина начинает грезить о райских кушах, решает уехать вместе со своим кавалером. Накануне отъезда Федора прогуливается по Парижу в коляске. Внезапно на ее пути возникает препятствие: огромная толпа наблюдает за казнью. Палач показывает народу отрубленную голову. Это голова любовника. Федоре остается только умереть, впрочем, как и палачу.
У Бальзака, постоянно увлеченного сразу несколькими замыслами и любящего контрасты, возникла идея наполнить лирической поэзией «черный роман».
Но совсем иная причина побудила его придать реалистическому роману неземную тональность.
Бальзак и госпожа де Берни часто вместе читали и обсуждали «Любовь ангелов» Томаса Мора, переведенную на французский язык в 1823 году.
ПРАВОВЕРНОЕ И ПОРОЧНОЕ
Мор сумел найти достойное применение поэтической лексике. С помощью благородных слов он создал величественный мир, куда возносятся избранные существа. Ангелы — ибо эти несравненные существа не могут быть простыми смертными — ведут благочестивый и непорочный образ жизни.
Лучшие из лучших «фаворитов небес» считают своим долгом сделать жизнь на земле красивой. Они одни способны понять разбитые, измучившиеся, униженные сердца и утолить их печаль. Они одни могут смягчить ужасы исторических пертурбаций и облегчить последствия крушения политических иллюзий. Они всегда показывают дорогу, ведущую в Эдем, который раскинулся на краю вселенной.
«Любовь ангелов» состоит из трех новелл. Первая новелла повествует о любви «наименее небесного» ангела, оставшегося безымянным. Вторая — о любви херувима Руби. И наконец третья — о любви серафима Зарафа. Однажды Зараф слышит песнь смертной женщины. Он так поражен ее красотой, что решает вступить с ней в брак, но ему приходится дорого платить за свое отступничество.
В романе «Аннетта и преступник», вышедшем из печати в 1824 году, Бальзак превращает ангела Мора в молодую женщину из квартала Марэ по имени Аннетта Жирар. Аннетта — дочь чиновника-делопроизводителя, что делает ее похожей на Лорансу де Бальзак до того, как та вышла замуж за Монзэгля. Аннетта воплощает собой идеальную женщину. Она готова честно исполнить свой долг, как бы ни сложилась ее жизнь. «Став женой торговца, она была бы деятельной, осмотрительной, послушной. Выйдя замуж за честолюбца, она подвигла бы его на великие свершения. Живя с мелким буржуа, она покорно влачила бы жалкое существование. А как супруга аристократа, она поразила бы всех отнюдь не наигранным величием…»
Но религия заставляет восторжествовать совсем иные свойства ее души. Черпая силы в мистической отрешенности и внутренних молитвах, Аннетта живет ради того, чтобы помогать и любить. Стоит ей появиться где-либо, как это место исполняется святостью. Она озаряет своим сиянием любую работу, которую ей приходится выполнять, например плетение кружев. Она просыпается в четыре утра, чтобы вышить для герцогини красивое платье. Платье получается таким роскошным, что герцогиня назначает за него неожиданно высокую цену. Аннетта отдает деньги Шарлю Сервинье, своему кузену, с которым с раннего детства связана неразрывными узами нежной дружбы. «Ваш муж сумеет заплатить долги кузена», — говорит ей Шарль.
Шарль получил приглашение в Баланс на свадьбу своей родной сестры. Он пускается в путь вместе с Аннеттой. В дилижансе Шарль ведет себя беззаботно и легкомысленно. Не испытывая ни малейшего стеснения, он пытается соблазнить актрису, любовницу герцога, которая, как он считает, может помочь ему сделать карьеру. Всю дорогу Аннетта смотрит в окно. Вдруг она видит, как мимо с быстротой молнии проносится коляска. Коляска катится вниз и разбивается у подножия горы. Аннетта выходит из дилижанса, чтобы оказать помощь двум путешественникам. Лошади погибли, но пассажиры коляски целы и невредимы. Они «отделались легкой контузией». А Аннетта не может скрыть смущения, столь необычен взгляд одного из путешественников, который она не может выдержать. Это «смуглый, немного полный мужчина маленького роста. Его глаза полны удивительной энергии и колоссальной уверенности». Словно орел, «он готов разорвать на части свою добычу». Словно лев, «умеет прощать». Этот человек с головой «античного сатира» станет первым из «двойников», первым из «зеркальных фантомных персонажей», чьи образы будут беспрестанно переходить из одного произведения Бальзака в другое. Незнакомец, путешествовавший в коляске, — это тот самый строптивый моряк, пират по фамилии Арго, который предавался распутству и кутежу в «Арденнском викарии». Огонь, сверкающий в его очах, не имеет ничего общего с духовностью. Он порожден самим адом. Арго ни на секунду не перестает быть «вассалом Сатаны» и, уже продолжая путь в дилижансе, пытается заставить окружающих поверить, будто боится, что, не справившись с необузданными природными желаниями, вновь пустится в загул и его распущенное поведение погубит Аннетту.
Но пробил час обращения Арго. Обреченный творить зло, он вдруг одумался. Ночью ему снятся кошмары, днем преследуют воспоминания о совершенных преступлениях, хотя у него и не возникает даже мысли порвать со своими бандитами, которых он держит в ежовых рукавицах. Зато в случае опасности он может укрыться в церкви или сдаться полиции.
Аннетта отрекается от Шарля: ее жених надругался над ее чувствами, соблазнив актрису. Она решает порвать отношения: «Я не считаю, что обещала вам взять вас себе в мужья. Но если я и дала подобное обещание, вы не можете больше на это рассчитывать».
Свадьба родной сестры Шарля в Балансе отличается пышностью и великолепием. Но трагическое событие нарушает ее размеренный ход: со всех сторон вдруг появляются разбойники и, не обращая никакого внимания на гостей, похищают Аннетту. Аннетта оказывается в каком-то притоне, и вызволяет ее оттуда сам Арго, ибо, как оказалось, разбойники всего лишь его сообщники.
Арго поселяется инкогнито в своем родовом замке. Теперь он носит фамилию Дюранталь, по названию одного из своих владений. Положение его в обществе как владельца замка, влияние, которое оказывает на него Аннетта, жестокие угрызения совести — все это вместе взятое побуждает Арго стать верным рыцарем Аннетты. В самой красивой комнате замка безмятежно спит Аннетта. А Арго тем временем мечтает о «благородной и возвышенной» страсти. Он навсегда покончил с оргиями, на которых, похабничая и сквернословя, он пировал, окруженный принцессами и куртизанками, на тех и других взирая с одинаковым презрением.
Арго знает, что никто, кроме Аннетты, не придет ему на помощь. И он обретет спасение, если она согласится выйти за него замуж. Но поначалу Арго предлагает Аннетте руку и сердце таким повелительным тоном, что она воспринимает его слова как угрозу.
И все-таки, в один прекрасный день, спокойствие вновь воцаряется в душе Аннетты. Она читает молитвенник. Неожиданно ее внимание приковывают к себе следующие слова: «Он станет твоим супругом во славе».
В романе «Аннетта и преступник» Бальзак впервые в своем творчестве затрагивает проблему неисповедимых путей любви.
Любить — вовсе не значит любить себе подобного или брата. Любить означает любить неясную, туманную даль. Аннетта похожа на ангела, спустившегося с небес. Вот почему она должна встретить проклятого, чтобы с чистой совестью сказать: «Я люблю».
Между Арго и Аннеттой возникает космическое притяжение небес и преисподней. Аннетта любит Арго любовью благодетельной ради того, чтобы он избежал предназначенного ему ада и попал в рай. Можно высказать предположение, что подобный союз, стирающий границы миров, приближает человеческую любовь к религии и смерти. Вкусив подобную любовь, обращенная душа устремляется к Боту. Точно так же умирающий, погружающийся в забвение, скользит по своей жизни, словно корабль, отчаливший от берега и уходящий в открытое море.
Содержание «Аннетты и преступника» не оставляет ни тени сомнения, что уже в 1824 году Бальзак познакомился с произведениями мистического характера, в частности с «Подражанием Иисусу Христу». Эта книга требует от правоверных самоотречения и самоуничижения.
Аннетте предстоит пережить все стадии этой священной агонии. Первой стадией станет ее свадьба с Арго в комнате, задрапированной черными тканями.
Арго меняется не потому, что об этом его просит Аннетта. Аннетта любит Арго, и именно потому он хочет достичь совершенства. Однако супружеская чета вынуждена обречь себя на одиночество. В итальянском театре, на концерте духовной музыки, Аннетта приковывает к себе взгляды всех присутствующих. Беспардонное вмешательство в его личную жизнь наносит оскорбление изысканным и почтительным чувствам Арго. «Жена предпочтет его общество всем концертам в мире».
Поскольку любовь столь же сильна, как и смерть, и к тому же она служит единственным земным доказательством нашего бессмертия, церковь, куда устремляют свои стопы Арго и Аннетта, погружена во мрак. Здесь идет богослужение. Священник читает заупокойную мессу. Похоронную процессию завершают маски смерти, плакальщицы, скрещенные кости.
Возвратившись в замок, Аннетта приходит в раздражение от присутствия там матери Арго. Вот еще одно инородное тело, которое пытается вклиниться между Аннеттой и ее супругом.
Спальня новобрачных окрашена в небесно-голубые тона. Супруги ожидают, что их благочиние будет способствовать удовольствиям супружества.
По утрам Аннетта и Арго всецело отдаются любви, а остальное время посвящают благотворительной деятельности: «Они спешили к страждущим, чтобы помочь им как советами, так и деньгами. Их жизнь стала походить на небесную лазурь».
Но этого недостаточно.
Преступления Арго не должны делать из него изгоя. Преступления, подобные тем, какие он совершил, встречаются на каждом шагу. Однажды духовник Аннетты заставит своих исповедников содрогнуться от очевидного: виновны все!
«Вот ты, например, ты трактовал законы так, как это было выгодно тебе. Ты выиграл неправедный судебный процесс и разорил семью. А ты, ты предал свое отечество. А вы, вы просто его продали. А ты поклялся супруге хранить ей верность и все-таки бросил ее. А вы ссылаетесь на ошибки, допущенные вашим мужем, и тем самым находите оправдание своему распутному поведению. А ты в тот самый вечер, когда умер твой дядя, поднес свечу к его завещанию и его уничтожил».
Все зло, которым насквозь пронизана «Человеческая комедия» и которое делит общество на жертв и палачей, предсказано и во всеуслышание объявлено в строках, приведенных выше.
Для Бальзака почти все виновны и не заслуживают любви. Если переиначить эту мысль, то можно сказать, что все нуждаются в любви, чтобы обрести утраченную невинность, но в конечном итоге это остается недостижимым.
Внезапно возникшая любовь приходит как избавление: она не только не исчезает, но помогает возродиться. Мать выдает Арго. Он должен предстать перед судом. Он сознается в совершенных преступлениях и примет смерть на эшафоте. Аннетта провожает его тело на кладбище. Она бросается в могилу и погибает под ударами лопат могильщиков. Последним предсмертным усилием воли она, повинуясь «инстинкту любви», обнимает Арго.
«Аннетта и преступник», будучи романом о страстной любви, повествует прежде всего о приобщении к состоянию блаженства: человеческая любовь принимает тот облик, который верующая душа преподносит в дар Господу.
ВНУТРЕННЯЯ МОЛИТВА
Достоверно известно, что в 1823–1824 годах Бальзак постигает премудрости искусства журналистики под строжайшим надзором тиранов-редакторов. Они зорко следили за ним, при этом неважно, где он жил: в Вильпаризи, где 10 июня 1824 года его родители купили дом, который прежде снимали, или в Париже в родительской квартире на улице Берри, а затем в снимаемой им маленькой каморке на улице Турнон.
Можно предположить, что в один из ноябрьских вечеров 1824 года, совсем как у Рафаэля де Валантена из «Шагреневой кожи», у Бальзака появилось мимолетное желание броситься в Сену.
Совершенно очевидно, что в 1825 году Бальзак пребывал в состоянии полного смятения. Да и в последующие годы он нередко был подвержен подобным приступам отчаяния. Но вскоре он забывал о неприятностях и вновь упорно продвигался к заветной цели. На этот раз он задумал нечто значительное… Уединившись на несколько дней, он собрался с мыслями и сделал наброски к «Трактату о молитве».
Мальбранш говорил: «Внимание есть молитва Богу». Когда Бальзаку было 20, он много читал Мальбранша. А что, если Господь рождается, живет и вершит свои дела благодаря нашим молитвам?
Молитвой, которая просит за нас.
Молитвой, которая заступается за возлюбленное существо.
Молитвой, которая восхваляет Господа, явившегося нам в Откровении.
Молитва, будучи сосредоточением божественного, в то же самое время представляет собой наше «второе я», то есть заключает в себе внешнюю и внутреннюю составляющие мира.
«Трактат о молитве» — это отнюдь не кредо Бальзака, не приобщение к религии, это всего-навсего выражение уверенности, что «созидательная лучезарность», духовная энергия переполняет каждого из нас. Ни в коем случае нельзя давать этой духовной энергии погаснуть: она одна может объединить человечество и заставить его двигаться вперед. Это возвышенное благородство одухотворяет пастуха, задумчиво опирающегося на посох; художника, отдающегося всем сердцем работе; верующего, пытающегося при помощи молитвы несколько раз в день установить связь с Господом.
Человек, который постигает сущность Господа с помощью молитвы, который пытается одухотворить Его именем свое искусство или просто воспеть Ему хвалу, стремясь к самосовершенствованию, не заслуживает больших похвал по сравнению со всеми остальными. Он всего-навсего обнаружил источник, питающий действительность, в который погружается, даже не измерив предварительно его глубину.
Другая ипостась: верующего можно сравнить со слепцом, догадывающимся о существовании света. Этому свету не суждено его озарить. «Если бы не существовало страданий, — говорил Якоб Бёме, — мы никогда не испытывали бы чувства радости».
К несчастью для Бальзака, его произведения прочел Жан Томасси. Томасси, безусловно, искренне верующий, был человеком ограниченным и к тому же «выбившимся в люди». В 1825 году он получил должность Королевского прокурора в Бурже. Он решительно отрицал мистику, в мир которой погрузился Бальзак. По мнению Томасси, Бальзак, который жил «в ярме чувственности», не имел права высказываться на религиозные темы, которые требуют от писателя благочестивого поведения, усердного соблюдения обрядов и определенного жизненного опыта. Бальзак, утверждал Томасси, прекраснодушен и «наделен богатым воображением», иными словами, он бессмысленный имитатор, а таким людям не пристало рассуждать о религии, ибо они для этого слишком глупы.
Тем не менее «глупец» этот заслуживал того, чтобы мы запомнили несколько строк из его «Трактата». «Трактат о молитве» Бальзака следует рассматривать как призыв к верующим душам всех конфессий. Везде, где есть клочок земли, чтобы преклонить колени, люди молятся и любят. «Возвести церковь означает постичь бесконечное через одну из его многочисленных составляющих». Усилием воли всех этих верующих душ Господь всегда присутствует на земле. Он следует за нами, смотрит нашими глазами, он вырастает и меняется вместе с нами. По своему усмотрению и, следовательно, незаметно для нас, Он делает все, чтобы помочь нам победить зло и объединить тех, кто творит добро, поскольку добро есть не что иное, как обновление и сияние жизни.
Жизнь Бальзака и действующих лиц всех его произведений соотносится с Богом. Человек может стать ровней неведомому Богу, если возьмет на себя ответственность за совершаемое на земле зло. Ведь человеческой природе присуща и темная сторона. Бальзак мечтает избавить нас от нее. Пишет ли он свои лучезарные творения, воспроизводит ли справедливую, безжалостную картину того, что нас разрушает, он всегда одержим желанием наставить нас на путь истинный.
В 1824–1825 годах у Бальзака сформировались твердые убеждения, с которыми он не расставался до конца своих дней. Бальзак пришел к выводу, что все то, что он чувствовал, о чем думал или догадывался, представляет собой фрагменты единого, прекрасного целого. Гениальный человек не создает жизнь. Он обустраивает ее исходя из разнообразия и изменчивости своих душевных состояний. Его наделенная богатым воображением щедрая натура вместо того, чтобы сосредоточиваться на нем самом, содействуя саморазрушению, изливается на окружающих, которых он рассматривает не как себе подобных и не как своих антиподов, а как обычные эпизоды повседневной жизни. Все эти люди вместе взятые формируют мир, столь же обширный, как и те миры, где правят властители, с той лишь разницей, что Бальзак досконально знает Нусингена и Горио, а Луи-Филипп с Бальзаком вовсе не знаком.
Примером ему служили «нелюдимые отшельники, индусы и последователи Сократа». Эти монахи молитвенных орденов никогда не видели Бога, но они всегда изумлялись его «подвижности и необъятности». Их индивидуальный разум является частицей единого, все объявшего организма.
Созидать — значит выбирать, создавать, одушевлять и жить по законам своего времени и общества.
Но как придать достойную форму этим благородным намерениям, как сделать романтическую вселенную столь же волнующей, как чтение Библии или доступных всем возвышенных произведений?
НЕСЧАСТНЫЙ ПИСАКА
В 1825 году, когда Бальзака начали осенять далеко идущие замыслы, публика читала много, но покупала мало. Читатели охотно посещали 1200 читальных залов, открытых по всей Франции. Там они находили пять тысяч наименований произведений, выходящих в свет ежегодно.
Книги, и в особенности романы, пользовались огромным успехом в силу целого ряда причин. С 1825 по 1830 год совершенствовалась система образования. Менялся образ жизни. Создавались новые технологии. Книга превращалась в способ приобщения к «современности».
Но книги могли также и развлекать. Пусть некоторые читатели недоедали, зато мечтали все до единого. Эти мечтатели читали, отыскивая на страницах книг еще более несчастных, нежели они сами. А провинциалы читали также и потому, что стремились приобщиться к парижской жизни, намного более прекрасной в их воображении, нежели в реальности.
Читать необходимо было также и для того, чтобы не затеряться в воцарившемся в обществе хаосе. Революция и Империя были не только политическими событиями. Они привнесли изменения в образ мышления. Были отвергнуты художественные ценности эпохи классицизма. Стали самоутверждаться новые писатели, вознесенные на гребень популярности либо в силу их достоинств, либо благодаря публике, жаждавшей постичь истину, либо через собственное стремление во что бы то ни стало преуспеть. Умение писать романы превратилось в ремесло: «Адольф понял, что самая замечательная торговля заключается в том, чтобы купить в писчебумажной лавке склянку чернил, пакетик с перьями и пачку бумаги форматом 44x56 сантиметров за 12 франков 5 сантимов и перепродать две тысячи листов за 50 тысяч франков, предварительно написав на каждом листе 50 строк, исполненных вдохновения» («Маленькие невзгоды семейной жизни»).
Статистические данные по книготорговым предприятиям впечатляют. С 1770 по 1825 год книготорговая продукция возросла в 12 раз. В 1825 году Фирмен Дидо выпустил в свет 400 тысяч томов. «Библиография Франции», вышедшая между 1811 и 1825 годами, достигла 1150 тысяч страниц.
Самую большую выгоду этот необычайный всплеск читательской активности принес книгоиздателям-книготорговцам. Самые ловкие из них сумели организовать собственную сеть распространения, так что книги, едва выйдя из печати, сразу же попадали к потребителям.
Шарль Александр Полле, купивший у Бальзака «Столетнего старца» и «Арденнского викария», стоял во главе если не империи, то во всяком случае государства. Он служил бухгалтером в Государственном казначействе, но всю свою энергию он вкладывал в книгоиздательское дело, которое приносило ему удовлетворение. Все же свое равнодушие он посвящал службе, и в министерстве о нем отзывались самым нелестным образом.
Издатель Полле печатал в основном романы. Иногда он останавливал свой выбор на нетривиальных произведениях и добивался успеха. Порой шел на риск. Он переиздавал непристойные сочинения XVIII века. Любопытные находили «под прилавком» его магазина «Монахиню», «Опасные связи», «Фобласа». Публика к этим книгам относилась благосклонно, поскольку они подменяли тревоги цивилизованной жизни тревогами инстинкта.
Полле получил монопольное право на все театральные издания, тираж которых достигал одного миллиона экземпляров. Брат Полле владел типографией и работал с ним заодно. Наконец Полле использовал возможности своего собственного читального зала.
Несметное множество наименований книжной продукции приносило Полле и некоторым его собратьям по профессии большие доходы, и при этом перепроизводстве писатели находились на голодном пайке. Новые романы появлялись буквально один за другим, и читатели уже не видели никакой разницы между неизвестно кем и Стендалем, Виктором Гюго, Жорж Санд и Бальзаком. Общий тираж книг, отправляемых непосредственно в читальные залы, достигал 1200 экземпляров. Авторам удавалось заработать лишь тогда, когда они трудились над несколькими произведениями сразу. Создание библиотек действовало очень мобилизующе, не оставляя места под солнцем для медлительных, таких, каким в недалеком будущем станет, к примеру, Флобер.
В феврале 1825 года, благодаря вмешательству генерала Жильбера де Поммереля, чей отец возглавлял Библиотечный департамент, Бальзак получил невероятную для начинающего писателя привилегию. Он мог брать на дом из Королевской (ныне Национальной) библиотеки, расположенной на улице Ришелье, уникальные произведения. Роже Пьерро установил все случаи посещения Бальзаком библиотеки. Заказанные Бальзаком книги указывают не только на творческие замыслы писателя, но и на его издательские проекты. Бальзак мечтал переиздать забытые произведения. Занявшись издательской деятельностью, он сможет меньше писать и больше зарабатывать, а значит, самостоятельно оплачивать издание собственных творений. «Последняя фея», опубликованная на деньги госпожи де Берни, потерпела сокрушительный провал.
В середине 20-х годов шли нарасхват памфлеты Поля-Луи Курье, который смело критиковал правящий режим, духовенство, компенсацию, выплачиваемую в размере одного миллиарда франков эмигрантам, чья собственность была распродана в 1792–1795 годах. Кроме всего прочего этот памфлетист требовал предоставить священнослужителям право вступать в брак. Но наряду с «этим певцом истинной революции» в эти годы сохранили своих читателей и воспевающие свободу разума язвительный Мольер и насмешливый Рабле.
КНИГОИЗДАТЕЛИ-КНИГОТОРГОВЦЫ ПЕРЕЖИВАЮТ ТРУДНОСТИ
При Старом режиме выдача патентов на издательское дело находилась в ведении короля. Кроме того, требовалось получить согласие компетентных цеховых организаций. В 1791 году Синдикальная палата была упразднена. «И тогда толпы невежественных людей, вчерашние крестьяне, но завтрашние издатели, пустились в авантюру, которая сулила огромные барыши». Эти книгоиздатели-книготорговцы получили прозвище «торгаши всякой всячиной». Они не умели читать, едва могли поставить свою подпись, но процветали.
Успех книжной индустрии с 1790 по 1815 год объяснялся тем, что любой видный политический деятель, стремившийся стать депутатом, обрести новых сторонников, сохранить любыми средствами занимаемое место, непременно должен был публично выражать свои взгляды и при каждом удобном случае давать отпор своим противникам.
Во времена Директории, Консульства и Империи книжные лавки появлялись как грибы после дождя. Но в 1810 году специальным декретом были установлены жесткие правила. Смогли продолжить заниматься своей деятельностью лишь те издатели, которые получили разрешение и присягнули на верность Императору.
Издателей, лишенных прав, но не прекративших свою деятельность, ожидала суровая кара. Их станки отправлялись в утиль или шли с молотка. Морская пучина поглотила 21 миллион изъятых из обращения и запрещенных к продаже книг. Во время континентальной блокады, когда все корабли стояли на якоре во французских портах, в море выходили только суда, груженные предназначенными к уничтожению книгами.
Семье Бальзак было известно о «чистках», которым подвергались полки книжных магазинов. Генерал барон Франсуа де Поммерель, друг и покровитель Бернара-Франсуа, был назначен на пост Генерального директора Типографского и Библиотечного департамента. Наполеон приказал издать «Библиографию Франции, или Общую газету типографского и библиотечного дела». С появлением этого бюллетеня издателям приходилось в обязательном порядке заявлять и направлять властям выходящие в свет книги задолго до их поступления в продажу с тем, чтобы цензоры предварительно с ними ознакомились.
Высказывались предположения, что Реставрация ни за что не отменит эти репрессивные предписания. Скорее всего, они даже будут дополнены и расширены по просьбе Церкви, противники которой утверждали, что она осмеливалась подменять собой Господа. Такие газеты, как «Конститюсьоннель» и «Курье Франсе», подвергались гонениям за то, что «презрительно отозвались о темах и особах, подвластных Церкви».
Фелисите де Ламене (1782–1854) прославился своим «Эссе о равнодушии» (1817–1820), в котором обрушил резкие нападки на философов-индивидуалистов XVIII века, своего рода отступников рода человеческого. В 1826 и 1829 годах его преследовали за статьи, провозглашавшие свободу совести и вероисповедания. В своем трактате «О религии с точки зрения ее соответствия политическому и гражданскому порядку» (1826) Ламене требовал, чтобы епископы и священники вернулись к подлинному и милосердному христианству. Он призывал праведных католиков порвать с монархией и присоединиться к необратимому движению, влекущему народы к Богу и свободе. Приговоренный судом к уплате штрафа, Ламене заклеймил позором судейское ведомство, которое, ссылаясь на пример высших судов античности, считало себя правомочным решать вопросы теологии. Бональд в ответ заявил, что «правительство имеет право назначать судей нашим мыслям, как оно назначает судей нашим интересам и поступкам».
Кто возглавляет Церковь во Франции на самом деле? Правитель, власть которого нерушима и который провозглашает свою абсолютную независимость во временном и духовном плане? Папа, который признает лишь господство Бога? «Выходите, выходите же из работного дома, — писал Ламене, — разбейте позорящие вас оковы». Этот призыв не был поддержан. Отделить Церковь от государственной власти означало бы погубить монархию, которая опирается на верующих подданных и соблюдение освященных Церковью ритуалов церемонии коронации. Подобное отделение означало бы также и скорую гибель религии, ибо для ее существования необходима государственная поддержка. К тому же Церковь нуждалась в помощи, которую правительство оказываю как непосредственно ей самой, так и всем организациям, стоящим на страже истинной веры.
Когда в феврале-марте 1826 года Палата депутатов принялась обсуждать эту животрепещущую проблему, страсти накалились до предела. Вопрос о свободе вероисповедания превратился в такое же общественное дело, каким было дело Каласа и каким позднее станет дело Дрейфуса.
Один из депутатов пустился в рассуждения, что если Ламене считает себя пророком, то пусть берет пример с древних евреев. У них разрешаюсь читать пророчества лишь спустя 30 лет после того, как они были провозглашены. Свобода печати была официально объявлена оружием протестантизма, беззакония, вседозволенности, «единственной порчей, которую Моисей забыл навести на Египет».
Любопытно отметить, что Бальзак, стоявший до тех пор на позициях либерализма, на сей раз принял сторону реакционеров.
ДВЕ ДОГМЫ: ПРАВО ПЕРВОРОДСТВА И ИЕЗУИТЫ
Бальзак был вечным оппозиционером из принципа. При Карле X, короле ультрароялистов, он был либералом, зато при Луи-Филиппе, короле буржуа, стал монархистом-легитимистом.
7 февраля, а затем 7 апреля 1825 года Бальзак опубликовал две брошюры, мгновенно став в глазах друзей-либералов предателем, прихвостнем «Трона и Алтаря».
Первая брошюра превозносила права первородства, вторая ратовала за восстановление во Франции деятельности ордена иезуитов.
Бальзак расценивал право первородства как «опору монархии, гордость трона и надежный залог счастья каждого человека и всех семей в целом». По праву первородства непременно полагалось пренебрегать интересами дочерей и младших сыновей. Такое положение дел ни в коем случае не следует рассматривать как трагедию: общество найдет применение каждому. Старший сын получает наследство и поддерживает древние традиции, а младший отдает дань новым веяниям. Младший сын должен проявить волю и упорство, чтобы не плыть по течению «в этом внушающем ужас скопище молодых амбиций», на пути которого правительство Реставрации намеревалось воздвигнуть социальные преграды: некоторые утверждали, что больно уж много развелось, например, адвокатов и врачей, так что возникла необходимость ограничить их численность. Нельзя призывать молодых людей получать образование, если общество не в состоянии впоследствии предоставить им работу.
«У университета нет главы», — констатирует в 1833 году Бальзак в романе «Луи Ламбер». А в 1825-м молодежь сгорала от жажды деятельности. Франция переживала демографический взрыв. В 1821 году была зарегистрирована 921 тысяча новорожденных. В 1830-м 67 % населения страны составляли люди моложе 40 лет, а государством по-прежнему управляли «обломки эмиграции, анархии и деспотизма».
В «Луи Ламбере» Бальзак писал: «Без общей методики, без идеи будущности образование утрачивает всякий смысл. Я слышал, как некий господин говорил, что государство затрачивает средства, чтобы молодым людям внушили, что Корнель — это решительный гений, Расин — элегический и нежный поэт, Мольер — неподражаем, а Вольтер — остроумен…»
Как нельзя кстати появилась «Непредвзятая история иезуитов».
7 августа 1814 года папская булла восстановила орден иезуитов, упраздненный во Франции при царствовании Людовика XV. В 1820 году иезуиты вновь открыли свои школы, где готовили послушников. Университет пользовался дурной репутацией. Власти обвинили его в распространении пагубных идей среди самых вредоносных представителей общества. В коллективном обращении к правительству верующие с прискорбием отмечали, что к концу учебы в коллежах из 100 учеников лишь двое продолжали соблюдать религиозные обряды. Иезуиты тут же развили кипучую деятельность. Они учредили Религиозное братство и открыли его филиалы: Общество добрых свершений, Ассоциацию Святого Иосифа (обеспечивающие работой безработных), Общество Праведных Знаний и Общество Добрых Книг.
Либеральные круги отказывались признавать религиозные ордены: во время проведения торжеств по случаю коронации Карла X, проходившей в год всеобщего отпущения грехов, высшие государственные сановники во главе с королем приняли участие в церемонии крестного хода, что вызвало в обществе гневное возмущение. Палата депутатов, пресса, Поль-Луи Курье в своих памфлетах, Беранже в своих песнях, все в один голос требовали: «Долой иезуитов!» Партия духовенства обвинялась в подрывной деятельности, направленной против политической жизни и представителей власти.
Бальзак был уверен, что, лишь доверившись иезуитам, Франция сможет встать на путь гармоничного развития. Орден Игнатия Лойолы — это «настоящая республика, у которой есть свои законы, свой глава, свои администраторы, своя полиция, свое правительство. Она напоминает корабль, бесстрашно бороздящий морские просторы».
И вот уже Бальзак превратился в апологета могущественной власти. До своего последнего вздоха он не переставал рьяно выступать в ее поддержку. Люди, как и сама природа, наделены энергией, но возможности их ограничены. Эту силу необходимо обуздать и направить на службу справедливой и сбалансированной власти, выражающей интересы всего общества в целом.
Бальзак внимательно наблюдал за событиями своей эпохи. Он видел политику такой, какой она была, с ее интригами, тайными агентами, скрытыми капиталами… Но неприглядная сторона этого поля деятельности не должна заслонять от государственных мужей спрятавшуюся за тучами надежду. Бальзак мечтал о лучшем человеке. Человек станет таковым тогда, когда те, кто претендует на славу и почести, постигнут искусство скромного поведения, когда фантазеры распрощаются с иллюзиями, когда будут изобличены превратные понятия о правилах приличия, а мужчины и женщины поймут, что не должны ставить вопросы чести превыше законов природы и разума в том, что касается их личной жизни, брака и воспитания детей. Если одна и та же сила движет волей людей и могуществом природы, человечеству надлежит умело воспользоваться ей.
Нет сомнения, что Бальзак писал свой труд о иезуитах не как Клод Виньон из «Утраченных иллюзий», продавшийся в рабство ради того, чтобы работать на Боссюе и получать при этом 10 су за строчку, и не как Фино, настоятельно предлагавший своим сотрудникам написать откровенно реакционные статьи только для того, чтобы лишний раз предоставить либеральной партии повод развернуть дискуссию, ведь ей было не с чем выступить против правительства.
Тем не менее «Непредвзятая история иезуитов» — хвалебная песнь ордену с момента его возникновения и вплоть до запрещения его деятельности во Франции.
В 1542 году во Францию приехали всего восемь иезуитов. Но орден сумел вызвать у государства интерес к своей деятельности. В 1564 году он основал Клермонский коллеж, тотчас подвергшийся нападкам со стороны Сорбонны. Профессора Сорбонны сочли, что «таланты иезуитов не идут ни в какое сравнение с их собственными, и потому запретили школярам посещать занятия коллежа».
Однако успехи иезуитов в науках и искусствах были настолько впечатляющими, что «все города Франции добивались чести открыть у себя учебные заведения святых отцов».
По убеждению Бальзака, подлинная реставрация во Франции не сможет осуществиться без возвращения этого ордена, «который всегда был славой и гордостью монархии и христианства. Иезуиты должны находиться в Париже в соответствии с теми же законами, что защищают кальвиниста, иудея, анабаптиста, магометанина и православного. Будете ли вы препятствовать открытию брахманской школы в Париже? Разве не вы провозгласили своим лозунгом веротерпимость?» Франция, распахнув свои объятия иезуитам, «готовится пожинать новую славу. Вскоре она станет свидетельницей рождения божественных гениев, а возвращение Бурбонов ознаменует собой наступление самой блистательной эпохи из всех существовавших ранее».
«СДЕЛАТЬ КНИГУ — ЭТО НАСТОЯЩЕЕ РЕМЕСЛО»
Взгляды и суждения Бальзака совпали с убеждениями Юрбена Канеля, славного книгоиздателя. Прежде Канель служил консигнатором в цветочном магазине. Тонкий ценитель прекрасного. Канель к тому же был наделен предпринимательской жилкой. Он любил поэзию, причем до такой степени, что Бальзаку казалось, будто тот «отдает всего себя на растерзание стихам». Канель — само воплощение нежности. Женившись в 1828 году, он до безумия любил жену, а Бальзаку так нравилось гладить ее волосы… Канель предпочитал издавать романы, где полыхали огненные страсти.
Канель, вместе со своим собратом по профессии Делоншамом, хотел издавать сочинения великих классиков. Это должны были быть роскошные издания, напечатанные на веленевой бумаге тиражом в три тысячи экземпляров. Текст, набранный самым мелким шрифтом в две колонки, украшали виньетки работы Девериа. Бальзак стал акционером этого предприятия и вручил Канелю 6 тысяч франков, взятых в долг у Жана-Луи Анри Дассонвилля де Ружмона, друга Бернара-Франсуа. Этот благородный человек хотел «обеспечить» Бальзаку «успешное начинание в делах»; взамен он «ожидал, учитывая необычайную порядочность своего протеже, получить материальные гарантии», проще говоря, де Ружмон рассчитывал неплохо заработать.
19 апреля 1825 года Бальзак и три его компаньона основали акционерное общество для издания собраний сочинений Мольера. Они считали себя «настойчивыми и мужественными», ожидая от своего предприятия «славы и прибыли».
Они уверенно смотрели в будущее. После Мольера госпожа де Берни согласилась финансировать издание произведений Лафонтена. Для этого требовалось более девяти тысяч франков. Долг Бальзака составлял уже 16 122 франка.
Издание Мольера обернулось сокрушительной катастрофой: только 20 экземпляров нашли себе покупателей!
1 мая 1826 года соучредители бросили Бальзака на произвол судьбы. Он остался один на один с долгами за бумагу, печать, гравировку, тиснение, переплет…
Ведут ли ошибки к раскаянию? Только не Бальзака. Он был слишком уверен в себе, чтобы отступать. К тому же он не понимал разницы между настойчивостью и упрямством. Издание книг обходилось дорого. Чтобы сократить расходы, Бальзак решил обзавестись собственной типографией. 15 июня 1827 года вместе с Андре Барбье, служившим ранее мастером в типографии Тастю, он создал шрифтолитейное предприятие на деньги госпожи де Берни. Господин де Берни предпринял необходимые меры в министерстве внутренних дел, чтобы Оноре получил патент типографа: «Семья де Бальзак пользуется уважением в обществе. Поведение сына благонадежно».
Книгоиздатель-книготорговец Бодуэн приобрел оставшиеся экземпляры сочинений Мольера и Лафонтена и выкупил у Бальзака право на допечатывание тиража. Но заплатил он векселями книжных магазинов, потерпевших банкротство. В качестве возмещения ущерба Бальзак получил со складов магазинов книги. Эти книги положили начало его обширной библиотеке: Сервантес, Мольер, Вольтер, Дидро, Руссо, «Тысяча и одна ночь».
Типография была куплена на ссуду, которую согласилась предоставить Бальзаку Жозефина Деланнуа, дочь банкира Думерка, на которого продолжительное время работал Бернар-Франсуа.
Бальзак начал свое дело уже обремененный долгом в 65 тысяч франков. Но он был художником и для него имели значение только замыслы и намерения, а для его кредиторов, напротив, были важны результаты. Впрочем, Бальзак сиял от счастья. И все его близкие искренне полагали, что «наконец-то свершилось!» Одна Лоранса призывала брата к осмотрительности: «Состояние сколачивают только занявшись коммерческими операциями. Но никто не знает точного числа людей, разорившихся на этом поприще».
В типографии Бальзака на улице Марэ-Сен-Жермен (ныне улица Висконти) было занято 36 рабочих; в том же самом году в типографии Дидо трудилось 200 рабочих. А в типографии Эвера — 500.
КОГДА ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТРУД ПРИРАВНИВАЕТСЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Бальзака-издателя можно охарактеризовать следующими словами: он замахнулся на великое.
1 августа 1827 года Бальзак обзавелся шрифтолитейным и гравировальным станками, политипами.
18 сентября Бальзак приобретает «отборную партию» оборудования бывшего шрифтолитейного завода Жилле-сына.
С помощью молодого типографа Барбье, которому Бальзак заплатил 12 тысяч франков только за то, чтобы тот оставил прежнее место работы, он обустроил современное предприятие. В его распоряжении находились 7 печатных прессов, один лощильный пресс, 600 книг, напечатанных цицеро, 400 книг, напечатанных петитом, и 11 тысяч книг, напечатанных антиквой.
В то же самое время Бальзак купил у Пьера Дюрушайя стереотипы последней модели. Стереотипы заметно облегчили процесс печатания: изготовленные из металлических сплавов, они просто накладывались на мягкую материю. Хотя печатники и продолжали говорить о типографских шрифтах, отлитых из свинца, в новых типографских кассах доля свинца заметно упала.
Бальзак был одержим идеей выпустить каталог всех технических средств, которыми располагала его типография; он планировал издавать произведения как классиков, так и современных писателей; он намеревался печатать произведения XVI–XVIII веков, определив для каждого века свой шрифт и сорт бумаги; он собрал образцы всех типографских заставок и виньеток, ритуальной символики, астрономических знаков и мифологических сюжетов.
Но наступили не самые лучшие для книгопечатания времена. В 1826 году Виктор Гюго писал: «Книжная торговля почти полностью парализована».
29 декабря 1826 года хранитель печати Пейронне внес на рассмотрение правительства закон о прессе.
Для того чтобы установить жесткий контроль за прессой, власти увеличили размеры гербового сбора, мотивируя свой поступок необходимостью улучшить деятельность почтового ведомства. Стоимость газетной подписки возросла вдвое. Правительство решило также повысить налоги, чтобы наконец исчезло «великое множество газетенок, это призрачное порождение самой омерзительной вседозволенности». Да и сам процесс прохождения цензуры подвергся реформированию. Теперь официальные инстанции предварительно знакомились с каждым печатным изданием. Эта мера обязывала главных редакторов газет предоставлять копии публикаций за 5–10 дней до выхода номера в свет. Нарушителям грозили штраф в три тысячи франков, закрытие печатного органа без права возобновления его деятельности, тюрьма за нанесение тяжкого оскорбления королю, принцам и представителям государственной власти.
Закон о печати душил издательское дело, ибо именно небольшие газеты, в первую очередь подвергнувшиеся преследованиям, публиковали новости литературы и культуры, критические обзоры, отрывки из новых книг.
Уже в 1813 году Бенжамен Констан говорил: «Существуют два вида варварства. Один из них предшествовал Веку просвещения, другой следует за ним». Нет ничего хуже второго вида варварства. Он вынуждает идти на попятную. Казимир Перье в 1826 году с сожалением констатировал, что «издательское дело во Франции уничтожено в пользу Бельгии, где, само собой разумеется, французское законодательство, ставящее под удар книгоиздательскую индустрию, не применяется».
Палата депутатов, не щадя правительство, с 12 февраля по 12 марта 1827 года вела ожесточенные дебаты.
Либеральная оппозиция иронизировала: «Библиотеки и книги обрели пристанище в умах. Вот откуда их следует непременно изгнать! Вы уже подготовили проект соответствующего закона? До тех пор, пока мы не будем иметь то, что знаем, мы будем плохо расположены к тупости и рабству».
Правые депутаты-легитимисты хотели, чтобы последнее слово осталось за ними: они предлагали составить список запрещенных книг, «как это сделано было в Риме». «Необходимо преследовать все плохие книги, не делая исключения даже для Вольтера».
Палата пэров под давлением Шатобриана усмотрела в этом проекте «животный страх перед Веком просвещения, разумом и свободой». Выступление Шатобриана, резко критиковавшего «варварский закон», было напечатано в газете «Журналь де деба», выходившей тиражом 300 тысяч экземпляров. Правительство вынуждено было отозвать проект.
Но спустя два дня после закрытия парламентской сессии, 24 июня 1827 года, правительство перешло к наступательным действиям. Бональд, назначенный председателем Совета по надзору за печатью, дал такое определение цензуры, которое прежде всего удовлетворяло его самого: «Цензура — это санитарная мера, принятая для защиты общества от заражения ложными доктринами».
Были дотошно перечислены все запреты. Пресса не имела права писать об иезуитах, восхвалять народное творчество, напоминать о плохом состоянии дорог или о происходящих повсюду разбойных нападениях, говорить о падении уровня доходов населения. Таким образом, самая насущная, жизненно важная информация скрывалась и при таком молчании или, скорее, преднамеренном обмане оказывались под угрозой безопасность и спокойствие граждан.
Стремясь обойти эти запреты, газеты прибегали к враждебным выпадам. Из рук в руки передавались подпольные брошюры, распространявшие всевозможные измышления. Возрождение пасквилей вновь сделало непопулярными Людовика XVI и Марию Антуанетту. Цензоры со всех сторон подвергались обструкции: по какому праву одним доверено судить о мнениях и воззрениях других, ведь они точно так же могут ошибаться и поступать несправедливо! Возникло Общество друзей свободы. Его поддерживала инакомыслящая часть депутатов во главе с Шатобрианом и Сальванди. Внесли свою лепту и суды. Они оправдали Сенанкура, обвиненного в том, что он назвал Иисуса Христа «молодым мудрецом».
Либеральная пресса выдвинула разумное предложение: следует наказать тех, кто проповедует воровство, убийства, грабежи, но не стоит мешать гражданам высказывать свои убеждения из опасения, что один из них станет проповедовать воровство и убийства. Невозможно запретить человеку прогуливаться из страха, что он может зайти в чужой дом.
Французская Академия направила королю «нижайшее прошение», но тот отказался его принять. Правительство упрекало Академию в «узурпации власти». Три академика были сняты со своих постов.
Очень скоро цензура стала не только неэффективной, но, напротив, начала содействовать успеху левых сил, одержавших победу на частичных выборах. Рабочие типографий провели манифестацию. Палата депутатов была распущена. Правительство созвало избирательные коллегии. В то же время министерство Виллеля, ликвидировавшего цензуру на время проведения избирательной кампании, накликало на себя проклятия. Карл X назвал результаты выборов «чудовищными». Из 7804 избирателей Парижа 6690 проголосовали против правительства. 5 декабря 1827 года Виллель вынужден был сдать дела Жюлю де Полиньяку.
Когда Бальзак решил стать типографом, а затем, 1 июля 1826 года, книгоиздателем, он принял твердое решение больше никогда не писать романов: «читатели представили убедительные доказательства моей посредственности». И тем не менее не смог сдержать своего «писательского зуда» и помещал статьи в выходящих в его типографии газетах, даже в «Маль-Пост журналь дэ виль э дэ кампань», рекламной газете, предназначенной для коммивояжеров и сообщающей адреса гостиниц и ресторанов.
Бальзак открыл свою типографию на улице Висконти, напротив Школы изящных искусств. Он поместил ее на первом этаже старого ветхого дома. Из оконных рам были выбиты стекла, потолки исписаны различными надписями, во всех углах валялись обрывки бумаги и мусор, зато посреди всей этой неустроенности красовались прессы последней модели, «ненасытные современные прессы», заправленные полным комплектом шрифтов; вдоль стен гордо сдвигали ряды только что вышедшие в свет книги; в дальнем конце помещения виднелась дверь в кабинет Бальзака.
Когда Бальзак принялся за издательское дело, он руководствовался определенными идеями и строгими требованиями. Он отнюдь не считал, что допустил непоправимую ошибку, вступив на скользкую стезю. Он не торговался, не расхваливал свой товар, не искал покровителей. Ведь все это пустая трата драгоценного времени.
Примечательно, что никто из членов семьи, и даже из окружения Бернара-Франсуа, который сам был наделен житейской хваткой, а также друзей супругов де Берни, поддерживавших знакомство с влиятельными людьми, не предостерег Бальзака.
Будучи владельцем шрифтолитейного предприятия (а этой технологии было уготовано долгое существование)[17], Бальзак не преминул проявить свою литературную компетентность. Он взял на себя смелость издавать высокохудожественную литературу, только те произведения, которые нравились ему самому. Он выпустил в свет «Романтические анналы», избранные сочинения современных авторов, написанные в 1827–1828 годах; настоятельно просил у Виктора Гюго новых романов, напечатал неизвестные прежде произведения Мериме; еще раз выпустил в свет 3-е издание «Сен-Мара» де Виньи. Альфред де Виньи часто вспоминал об «очень грязном, очень тощем, очень болтливом молодом человеке, который то и дело сбивался с мысли и брызгал слюной, поскольку в его слишком слюнявом рту не хватало всех верхних зубов».
Бальзак стал выпускать серию «карманных книг»: он издавал произведения классиков в таком формате, чтобы они легко помещались в кармане. Не взирая на цензуру, он переиздал «Избранные сочинения» Парни, «Развалины» Вольней, «Современные сцены» виконтессы де Шамийи.
Многие выдающиеся личности, жившие во времена Революции и Империи, оставили свои воспоминания. Бальзак отправился на поиски мемуаров Буйе, Барбару, госпожи Роллан. Он искал в библиотеках, перелистывал «Собрание воспоминаний, относящихся к Французской революции» и «Победы и завоевания Империи», откуда, кстати, вполне мог почерпнуть историю полковника Шабера.
Бальзак вспоминал, что в 1822–1824 годах он был Скрибонием. Вымышленный персонаж под именем Скрибония появился впервые в 1827 году в «Неизвестных мучениках». Скрибония вовсю эксплуатировал «некий с иголочки одетый местный Дон Жуан». Вне всякого сомнения, речь идет о Рессоне. Рессон заказывал Бальзаку всевозможные «кодексы»: «Кодекс утреннего туалета», «Искусство завязывать галстук», «Искусство держать себя в светском обществе». Работа над забавно-игривыми кодексами, которые пользовались огромной популярностью у тех, кто хотел добиться признания в обществе, развила у Бальзака чувство наблюдательности и вызвала определенное уважение к личностям, делающим все от них зависящее для того, чтобы не сгореть со стыда за свое поведение. Бальзак переиздал эти практические пособия, прозванные «Трактатами», добавив к ним книги «Невозделанная земля слуг» и «Кодекс французского права». Он не пренебрегал и буклетами, в частности, напечатав буклет под названием «Противослизистые пилюли для долгой жизни». Бальзак брал из Королевской библиотеки книги: «Путешествие в Японию» Тунбери, «Заметки о французском государстве в эпоху царствования Карла IX», «Мемуары» Конде, «Всеобщую историю» Жака де Ту и многие другие.
Бальзак нес финансовую ответственность за свое предприятие, при том, что абсолютно ничего не смыслил в счетах-фактурах, гроссбухах и балансовых отчетах. Еще менее он был сведущ в окончательной выверке счетов, полностью доверяя друзьям-поверенным, которые позволяли ему очень вольно обращаться с мифическими доходами. Впрочем, если советчики начинали поучать Бальзака, он обзывал их «проклятым отродьем», не обращая никакого внимания на то, что они говорили.
Книгопечатание представляло собой одновременно и индустрию, которая включала в себя производство, редакцию и службу распространения готовой продукции. Оно требовало значительных материальных затрат. Поставщики желали получить деньги немедленно, а заказчики, наоборот, стремились выпросить отсрочку. Как установил Рене Гиз, Бальзак был вынужден просить у одного из банкиров (возможно, у Лаффита) векселя на сумму в 30 или 40 тысяч франков, иными словами, взять ссуду в ожидании будущей прибыли. В те годы банки, во всяком случае французские, испытывали большие трудности, обслуживая уже давно заключенные и удачные сделки. Поэтому они ни за что не хотели иметь дело с начинающими и требующими финансовой поддержки предприятиями. «У меня создалось впечатление, что банки увиливают от своих прямых обязанностей», — скажет по этому поводу Цезарь Биротто.
В феврале 1828 года Бальзак устроил званый вечер в залах ресторана Гриньона. Он разослал приглашения 500 книгоиздателям, книготорговцам и типографам. Всю ночь напролет гости вкушали изысканные деликатесы и танцевали, зато после праздника положение Бальзака резко ухудшилось. Через несколько недель он обязан был заплатить по счетам Дассонвилля. Госпожа де Берни любила предаваться страсти, но если давала денег взаймы, то быстро превращалась из похотливой мамаши в сурового кредитора, не знающего жалости еще и потому, что она чувствовала себя покинутой любовницей. Если бы Бальзак преуспел, он наверняка ускользнул бы от нее. Не следовало помогать ему выбираться из денежных затруднений, тем самым содействуя осуществлению его грандиозных планов. Лучше пусть пишет романы.
Бальзак обратился в бегство. Ему было невыносимо жить в окружении долговых обязательств, разбросанных на креслах, бюро и даже прикрепленных к стенным часам. Опасаясь гнева кредиторов и рабочих, не получавших жалованья, Бальзак спрятался у Латуша.
В апреле он снял на имя своего зятя Сюрвиля квартиру на третьем этаже дома 1, расположенного по улице Кассини.
Позже Бальзак признался, что «слишком долго взбивал подушку, прежде чем положить на нее голову», что он принимал абстрактные мечтания за готовность к действию, а случайные превратности судьбы за успех.
16 августа 1828 года Бальзак продал Барбье за 67 тысяч франков типографию и купленное за два года оборудование, а также свой патент типографа. Вырученные от продажи деньги помогли расплатиться с кредиторами. Господин и госпожа де Бальзак, ранее выделившие Оноре 37 600 франков, приняли на себя оставшуюся часть долга сына.
За один только год Бальзак наделал долгов на 50 тысяч франков, 45 тысяч из которых задолжал своим родителям. Эти долги будут преследовать Бальзака на протяжении всей жизни. Он находил утешение только в том, что не заслужил ни единого упрека: он был более чем честен, он был добр. Добр по отношению к Барбье, добр по отношению к госпоже де Берни и ее сыну. Во всем он проявлял покорность сумасшедшего. Он усердно исполнял то, что должно было обеспечить ему успех. «Со слепой покорностью собаки» он прислушивался к указаниям инженеров типографии… Если разобраться, Бальзак, как и Цезарь Биротто, «понес наказание за свои добрые деяния». Единственное, о чем он заботился, так это о том, чтобы дело не получило огласки! Так что долгое время Бернар-Франсуа даже ни о чем не догадывался.
Госпожа де Бальзак больше всего на свете боялась, что ее сын угодит в долговую тюрьму. И поэтому она обратилась к своему кузену Шарлю Седийо с просьбой уладить все неприятности. Седийо поднаторел в таких делах. Он занимал должность помощника судьи в Торговом суде. 16 апреля 1828 года Шарль Седийо объявил о ликвидации Типографского товарищества Лоран-Бальзак. Шарлю-Александру де Берни в тот год исполнилось 19 лет, тем не менее его наделили юридической дееспособностью, чтобы он мог возглавить вместе с Лораном это предприятие, дом де Берни и Пеньо.
Госпожа де Берни, которую всегда представляют нежной, заботливой и мягкой, извлекла из этого банкротства выгоду и сумела обеспечить своим детям состояние. Сколько же в этом деле обмана и надувательства! Госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак видела, как Лора де Берни действовала во имя своих собственных, сугубо личных интересов. Она обратила себе на пользу 50 тысяч франков, выделенных в счет аванса родителями Бальзака, и отказалась от своего векселя на сумму в 15 тысяч франков в обмен на передачу Бальзаком прав Александру де Берни. Майньяль и Бувье, пристрастные бухгалтеры, ответственные за ликвидацию, полагали, что сальдо в 15 тысяч франков — это своего рода «безвозмездный дар». Такого же мнения придерживается и Ролан Шолле[18].
13 июня Бальзак заплатил Дассонвиллю 10 тысяч франков 79 сантимов. Даже Латуш, словно Сганарель, напомнил, что Бальзак должен ему 32 франка.
Возможно для того, чтобы доказать самому себе, что сложившиеся обстоятельства нисколько его не разочаровали и что он должен вести такой образ жизни, какого заслуживает, а именно «жить на широкую ногу», Бальзак шикарно обставил себе квартиру на улице Кассини. Вот как Латуш описывал эту обстановку: «Ковры, полки красного дерева, книги великолепные, как у последнего глупца (то есть в кожаных переплетах), бесполезные стенные часы, гравюры, канделябры». Заодно Бальзак решил обновить свой гардероб. Он остановил выбор на Бюнссоне, портном модных щеголей, чья мастерская располагалась на улице Ришелье в доме 108. Вскоре портной превратится в друга: он шил для Бальзака в кредит и сужал ему необходимые для развлечения суммы.
Но зачем, если у тебя нет денег, наряжаться и покупать ложу в Итальянском театре?
БЕЛЫЕ И СИНИЕ
Поселившись на улице Кассини, Бальзак строил планы и много читал. Очень скоро он вновь взялся за перо: «Нужно, чтобы проворное воронье или гусиное крыло возродило меня к жизни и помогло расплатиться с матерью».
Он замыслил создать несколько романов на историческую тему. Франция, содрогающаяся от потрясений, созрела для драматического творения. Бальзак думал о восстании жителей Гента в 1559 году, о событиях Варфоломеевской ночи. Но почему бы не пойти дальше и не описать революционную Францию и войну, вспыхнувшую на западе страны? Перелистывать волнующие страницы этой эпохи может каждый. Чтобы глубже вникнуть в тему, Бальзак взял в Королевской библиотеке несколько книг, в том числе «Мемуары» Тюро. Он прочел «Мемуары» госпожи де Ла Рошжаклен, вышедшие в 1823 году. В 1828-м он купил шесть томов Савари, посвященные «Войне вандейцев и шуанов».
Но особенно внимательно Бальзак прочел роман Фенимора Купера «Последний из могикан». В его воображении шуаны походили на индейцев. Поверженные в сражениях на равнинах индейцы были непобедимы в обширных лесах Америки. Шуаны стойко держались в местностях, пересеченных оврагами и бурными потоками, среди озер и болот. На западе Франции каждое поле испещрено препятствиями. Это настоящая цитадель, подчас окруженная со всех сторон водой.
До той поры никто еще не отображал национальную историю в приключенческом романе. Бальзак захотел тщательно разработать все сюжетные линии. Он поехал в те края. Он чувствовал себя то заблудившимся солдатом-республиканцем, то загнанным в угол шуаном. Превратившись в пленника, которому не дают ни капли воды, он даже утолил жажду, напившись из болота.
Бальзак собирался изобразить своих шуанов похожими на могикан. Они «такие же высокие, такие же хитроумные, такие же бескомпромиссные». Они способны на самые жестокие поступки, но свято помнят о клятве и остаются верны своим священникам и своему королю.
1 сентября 1828 года Бальзак написал письмо генералу барону Жильберу де Поммерелю, живущему в Фужере. Он попросил прославленного бригадного генерала, образцового солдата, владельца двух полуразвалившихся замков, в Фужере и в Мариньи, и великолепного дома, расположенного в самом конце улицы Дув, приютить его недели на три.
Латуш решил ссудить Бальзака деньгами и опубликовать его будущий роман у издателя Мама. Сам Латуш тоже писал исторический роман о современной эпохе, но не испытывал ни малейшего желания посещать те места, где разворачивались описываемые им события. Отправившись в Фужер, Бальзак напрасно потеряет время, полагал Латуш. Или он хочет узнать о ценах на картофель, кур и лошадей в Бретани? «Я живу не тем, что перевариваю, а тем, что мне приходит в голову», — говорил он.
20 сентября 1828 года Бальзак отправился в путь. Из Майена в Фужер он ехал на «тюрготине». Но возвращаясь домой, прошел тем же путем, каким в его «Шуанах» проследует 72-й Майенский полк под командованием Юло.
В Фужере Бальзак, желая развлечь хозяев, рассказал им о своем путешествии. «Тюрготина» представляла собой двухколесный кабриолет, внутри которого с трудом помещались два взрослых человека. Поэтому приятнее всего было бы путешествовать со своим ребенком. Сиденьем служил ящик, предназначенный для перевозки писем, поэтому пассажирам приходилось вылезать из колымаги при въезде в каждую деревню, чтобы кучер мог достать письма. Как, у вас есть багаж? Вам придется держать его на коленях. Кучер же сидел между двумя несчастными пассажирами.
Остроумный рассказчик был до того худ, что рядом с его прибором неизменно клали баранки и большой кусок масла. Окна его комнаты выходили на долину Куенона, густой лес, белый склон горы Пелерины. Роман «Шуаны» начинается с описания этого великолепного вида.
С 1799 по 1828 год население Фужера мало изменилось. Бальзак бродил по городу, восхищался узкими отлогими улицами, ведущими к бульвару, с двух сторон обсаженному деревьями. В солнечные дни местные жители прогуливались под стенами старинного замка с башнями. Долину пересекали стремительные речки, которые вращали мельничные жернова и орошали сады, утопавшие в розах.
Генерал де Поммерель был скорее «синим», то есть сторонником республиканских войск, сражавшихся против шуанов. Он знал множество историй, относившихся к временам шуанства. В его рассказах оживала Республика. Она вновь насвистывала свой веселенький мотивчик: все вместе, все равны. По вечерам Поммерель принимал своих друзей Валлуа или барышень Жемаре, симпатизировавших шуанам. Всем здесь была памятна жестокость не подчинившихся закону о реорганизации Церкви священников, например аббата Дюваля, призывавшего к священной войне против республиканской армии:
«Каждый убитый „синий“ стоит индульгенции».
В «Шуанах» аббат Дюваль, превратившийся в аббата Гюдена, стыдит своих людей за то, что они все еще живы. На небесах им бы оказали радушный прием король, королева, убитые священники и верующие, заживо сгоревшие в своих церквях.
Бальзак хотел знать обо всем. Как выглядели шуаны? На голове они носили колпак из грубой красной или коричневой шерсти. Некоторые предпочитали широкополые шляпы, скрывавшие лица. У них были короткие штаны, доходившие только до колен. Голени оставались открытыми. От колючих кустарников их предохраняли гетры. Поверх куртки особого покроя, с баской темного цвета, шуаны набрасывали козлиную шкуру.
Замок в Мариньи, принадлежавший Поммерелям, Бальзак превратил в опорный пункт роялистов. Одна из сцен романа разворачивается в большом дворе, окруженном заросшими прудами. Каменные стены замка кажутся серо-голубыми. Это памятник феодальной эпохи, возведенный на галльской земле. Дворяне Бретани всегда открыто заявляли Республике, что благосклонно относятся к монархии. Королевские налоги превратились в «принудительные займы в 100 миллионов франков, объявленные этой чертовой республикой».
От сказочного замка, некогда принадлежавшего сестре Шатобриана, остался один «скелет»: дырявая крыша, слетевшие с петель и полусгнившие ставни, выбитые стекла, даже некоторые камни в стене расшатались…
Именно в этом замке предводитель шуанов Монторан спрашивал у мадемуазель де Верней, шпионившей в пользу Республики, действительно ли она «красивая, благородная и умная молодая женщина».
Поммерель показал Бальзаку настоящего шуана, папашу Пошара. Он убил столько «синих», что, если их трупы сложить один на другой, можно добраться до макушки яблони.
Этот крестьянин-шуан стал прообразом Крадись-по-Земле. Крадись-по-Земле выглядел столь жестоким даже на отдыхе, что его враг, командир Юло, многозначительно сказал: «Отправились за шерстью, а вернемся стрижеными».
Шуанство — это прежде всего тактика полевой войны. Шуаны покинули города, чтобы забраться в естественные траншеи скользких отвесных уступов.
Крестьян вели за собой придворные, такие, как Монторан, который даже сражался в перчатках. Бальзак явно получал удовольствие, выписывая это действующее лицо. Он наделил его подбородком, похожим на подбородок Бонапарта, пухлыми губами. Природа одарила этого молодого человека «неотразимым очарованием».
В Бретань, где живут крестьянские семьи, сплотившись вокруг Церкви, Революция принесла то, что здесь больше всего ненавидят: оживление, законы, вмешательство государства в личную жизнь и природу. Со своей стороны, республиканцы были убеждены, что должны облагородить эту дикую местность, приобщить ее к истории и прогрессу.
ПЕРВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
28 марта 1829 года Юрбен Канель выпустил в свет роман Бальзака под названием «Последний шуан, или Бретань в 1800 году».
В книге есть незабываемые эпизоды:
— Дрожащие от страха солдаты, пробирающиеся к Фужеру, словно стадо скота.
— Четверо дозорных, сознательно приносящих себя в жертву.
— Фронтальное столкновение двух армий и неожиданный выстрел, раздавшийся, словно «глухая барабанная дробь».
— Зловещее молчание, когда, отбросив огнестрельное оружие, солдаты берутся за холодное.
— Осада Фужера, когда невозмутимую красоту природы затуманивает ужасная круговерть войны.
— «Синие», которые наводят террор и морят голодом. «Белые», которые грабят дилижансы и «трясут» прижимистых богатеев, чтобы отыскать их сбережения. Священнослужители, которых Республика силой выставила из аббатств и церквей.
— Смерть Гуляй-Чарки, обезглавленного своим родственником Крадись-по-Земле. Окровавленную голову предателя Крадись-по-Земле повесил на гвоздь, вбитый в дверной наличник.
«Последний шуан, или Бретань в 1800 году» — это также великий роман о любви. Монторана и Мари де Верней влечет друг к другу, но они вынуждены скрывать свою страсть, к тому же пряча под маской свои подлинные лица. Мятежник, вольный стрелок, он разыскивает своих сторонников. Шпионка, она помогает Революции. Все обстоятельства против них. Но они прекрасны, они возрождаются, вернее совозрождаются для чувственной жизни в первые же минуты их встречи. Их разум кипит от волнения. Они хотят открыть друг другу правду. И все-таки должны ждать, притворяться, прибегать к разного рода уловкам: они понимают, что за ними следят.
В конце концов, пережив много волнующих перипетий, влюбленные вступают в брак перед импровизированным алтарем. Старый священник, не подчинившийся закону о реорганизации Церкви, благословляет их подле брачного ложа. Теперь они обречены. Им остается надеяться только на чудо.
И это будет слишком чудесное чудо.
И все-таки, «Шуаны» — это исторический, любовный или мистический роман?
«„Шуаны“, — отвечал Бальзак, — это правдивый роман».
Может быть, взяв за основу историю предводителя шуанов Буашарди, убитого в своем замке в канун первой брачной ночи, Бальзак просто добавил к ней некоторые подробности?
Маловероятно.
На самом деле Бальзак превратил Фужер, поля, окаймленные лесами, Поммереля и его воспоминания, мемуары современников событий тех лет в фантасмагорию. Он придумал историю войны, любви, смерти, где два очаровательных персонажа возносятся на двух крылах, одно из которых черное, а второе сверкает ослепительной белизной.
Пресса встретила появление «Шуанов» недоброжелательно. Исключение составила газета, принадлежащая Ле Пуатвену.
Латуш, разделивший вместе с Канелем расходы по изданию книги, признавал в «Фигаро», что автору присущи пыл и вдохновение, но убийственная монотонность книги не выдерживает никакой критики. «Юниверсаль» резко отозвалась о «напыщенном и претенциозном» стиле. «Трильби» подметила «недостаток художественных средств, неопытность автора в создании образов своих героев». И только «Ревю энсиклопедик» признала «достоинства этого первого французского исторического романа».
В июне 1829 года было продано 300 экземпляров «Шуанов». В 1834 году роман Бальзака был переиздан, но пресса к тому времени не изменила своего негативного к нему отношения. «Сен-Бев заклеймил подражательство Вальтеру Скотту и не осознал истинного значения исторического романа в том виде, в каком задумал его Бальзак» (Л. Фраппье-Мазюр).
Из 750 экземпляров, напечатанных в 1834 году, 380 останутся нераспроданными. Своим успехом книга будет обязана незаконным бельгийским и немецким перепечаткам.
ДЕЗЕРТИРСТВО БЕРНАРА-ФРАНСУА
При Людовике XVI некий Лоран Тонти подал нижайшее прошение Его Величеству, в котором настоятельно предлагал создать во Франции любопытную систему обеспечения старости. Каждый подписчик должен был добровольно обратить свое состояние в пожизненную ренту. После смерти одного из подписчиков его капитал делили между собой оставшиеся в живых, которых с каждым годом, естественно, становилось все меньше, а следовательно, их доходы возрастали. Таким образом, последний из оставшихся в живых превращался в единственного крупного бенефициария. В его распоряжение переходили все доли пайщиков!
Бернар-Франсуа подписался на эту тонтину. Перспектива получения сказочного богатства согревала его стариковское сердце. Дожив до 83 лет, он берег свое здоровье как никогда прежде. Домочадцы ублажали старика. Обе Лоры (Бальзак и Сюрвиль) даже немного изучили медицину. Главное — никаких огорчений! Так что до самой своей смерти, как уже было сказано, Бернар-Франсуа ничего не знал о финансовом крахе сына.
Начиная с 1819 года на протяжении десяти лет Бернар-Франсуа добивался увеличения размера своей пенсии чиновника и изучал китайский язык. Еще год-другой, и ему обеспечена жизнь богатого вельможи. А лет через 20, в 100 (или в 110) лет он был готов с достоинством умереть, окруженный своими близкими. Он завещал несметное состояние жене, которой в 1829 году не исполнилось еще и 50, и трем детям — Оноре, Лоре и Анри. Семья горько оплакала его смерть, несмотря на то что в жизни он наделал немало глупостей, и в частности, совсем недавно в Вильпаризи связался с одной из местных девиц, которая от него забеременела. Он притворялся роялистом, затем революционером, затем бонапартистом, наконец либеральным роялистом. Он был человеком, который многое понимал и предугадывал грядущие события. Сын последовал по его стопам.
Для семьи Бальзак тонтина окажется еще одной из многих несбывшихся надежд.
В апреле 1829 года Бернара-Франсуа оперировали в больнице по поводу абсцесса печени. В те времена эта болезнь означала верную смерть. 12 июня он скончался. 21-го состоялось отпевание в церкви Сен-Мерри. Похоронили Бернара-Франсуа на кладбище Пер-Лашез. Катафалк третьего разряда стоил 256 франков 20 су, а постоянное место на кладбище — 200 франков.
В бальзаковском доме[19] хранится прекрасный портрет Бернара-Франсуа: он предстает нашему взору в сюртуке и коротком жилете. Он носит, как это было модно во времена Директории, высокий шейный галстук из муслина. Вид у него немного надменный.
После смерти Бернара-Франсуа Бальзак стал уделять в своих произведениях много места теме отцовства. Оноре почувствовал острую необходимость опереться на авторитет человека, который создал семью добропорядочных буржуа. Но проститься с умирающим отцом он не поехал.
Выпускник Политехнического училища Сюрвиль получил вожделенную должность инженера департамента Сена-и-Уаза. Супружеская чета Сюрвилей часто выезжала в свет и принимала у себя благородное общество: Думерков, госпожу Деланнуа, герцогиню д’Абрантес. В 1828 году Оноре провел у Сюрвилей весь ноябрь.
«Я потерял всякий интерес к работе», — писал Бальзак в июле 1829 года своему родственнику Шарлю Седийо.
В то время Бальзак жил в окрестностях Немура, в доме, снятом госпожой де Берни. Впрочем, Бальзак правильно сделал, ненадолго забыв о своих родственниках.
14 сентября 1829 года семья Бальзак в полном составе, за исключением Оноре, отказалась от наследства, оставленного Бернаром-Франсуа. Каждый из них уже получил свою долю: Оноре получил аванс в 30 тысяч франков 1 июля 1826 года. Такая же сумма была выплачена Лоре Сюрвиль 6 декабря 1828 года в счет приданого. Госпожа де Бальзак обязалась выплатить 15 тысяч франков немедленно Монзэглю и 15 тысяч франков своему второму сыну Анри-Франсуа де Бальзаку в день его тридцатилетия. 21 марта 1831 года Анри отплыл на остров Маврикий.
БАЛЬЗАК ИЗОБРЕТАЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КНИЖНЫЙ РЫНОК
Письма Бальзака от 1829 года свидетельствуют о его душевном смятении. Он везде и всем должен. Он не в состоянии найти заимодавцев и «не хочет взваливать непосильное бремя на свою мать». «Последний шуан» принес ему всего-навсего 100 франков с последующим правом получения гонорара.
«Йздательское дело хиреет день ото дня». Этим суровым испытаниям Бальзак противопоставил все свое мужество. Никогда прежде он не писал так много. Он также призвал на помощь свою иронию: «Пачка белой бумаги стоит 15 франков. Испещренная каракулями, она стоит 100 су или 100 франков. 100 франков при условии, что произведение имеет успех. 100 су, если оно с треском проваливается». Книгоиздатели покупали рукописи за обещания, то есть выдавали долгосрочные обязательства. Первоначальная цена просчитывалась с невероятной скрупулезностью. Бальзак рассказал Жюлю Сандо о визите одного издателя к Орасу де Сен-Обену. Издатель намеревался установить цену в 1500 франков. Однако добираться до Сен-Обена издателю пришлось по слишком грязным, на его взгляд, улицам, и поэтому он решил предложить всего лишь 1000 франков. Но сам дом «показался издателю столь неказистым, что он скостил еще 200 франков. Увидев, что окна в комнате писателя заклеены промасленной бумагой, шторы испачканы ветром и дождем, а обставлена она колченогим стулом, незаправленной продавленной кушеткой, треснувшим рукомойником, да к тому же в ней нет камина, добросовестный издатель предложил всего 300 франков».
Слишком много книг, слишком много издателей, слишком много книготорговцев. Книжное изобилие, чрезмерное распространение книг плохо воспринималось читателями. Склады издателей и торговцев были переполнены. Нераспроданную продукцию они по бросовым ценам отправляли в комиссионные магазины. Книга стоимостью 12 франков уценивалась до 5. Но даже уцененный товар, «это развлекательное чтиво за бесценок», не находил своего покупателя. Только Вальтер Скотт сохранил своих верных поклонников.
Неразошедшиеся романы продавались по цене бумаги или лежали мертвым грузом на складах вместе с другими товарами: веерами, утюгами… В одном из магазинов Парижа Бальзак видел книги, сваленные вперемешку с гвоздикой и бутылками лакричного сока. Провинцию наводнили столичные отбросы.
Служение литературе требует веры.
В 1827–1830 годах количество проданных книг настолько снизилось, что в обществе пошли разговоры о политическом заговоре против издательского дела. Книготорговые предприятия не имели права получать банковские кредиты. Для издательских векселей, которыми книгоиздатели расплачивались с писателями, были установлены самые низкие учетные ставки.
Вскоре у Бальзака созрел план, как разрешить этот кризис, не затрачивая при этом больших средств и больших усилий. Во Франции обитало многочисленное население, умеющее читать. В распоряжении книгоиздателей имелось «60 миллионов глаз», если бы они сумели преподнести книгу или роман как необходимое связующее звено между индивидуумом и обществом. Книга должна давать читателю четкое представление о его возможностях и способностях и определять его положение в обществе.
В 1837 году Бальзак, вспоминая о 1828–1830 годах, скажет: «Я боролся с нищетой своим пером! Я хотел выплатить огромные для меня долги и жить достойно». Над писателями, которым не платили разорившиеся книгоиздатели, довлели законы: их описанное имущество шло с молотка. Свои дни они заканчивали в богадельнях.
В 1830 году Бальзак пришел к твердому убеждению: «Я получил веские доказательства, что только журналистика способна меня прокормить». Бальзак-журналист мог рассчитывать на 1000 франков наличными ежемесячно.
КОДЕКСЫ И ИСКУССТВА
Став главой семьи и не имея за душой ни гроша, Оноре должен был биться как рыба об лед, чтобы заработать себе на жизнь, иными словами, он вынужден был творить чудеса не на том поприще, которое его прельщало, а на том, которое приносило доход.
Как мы уже говорили, работая на Рессона, да и на других издателей тоже, Бальзак в совершенстве научился писать трактаты. Со времен Аристотеля и его трактата о физиогномии, со времен Средневековья с его «Лапидариями», «Бестиариями», «Физиологами», «Кораблями здоровья», «Приговорами пиршеству», практические трактаты неизменно пользовались широкой популярностью.
В XIX веке трактаты получили название кодексов, по аналогии с «Гражданским кодексом». Читатели отдавали предпочтение двум темам. Первая включала в себя «Искусство распознавать характер мужчины по его лицу». Всегда важно знать, с кем имеешь дело. Вторая тема, вызывавшая интерес, касалась брака.
В 1828 году все темы были уже «кодифицированы»: «Дети», безусловно «Супружеские подарки», «Холостяцкая жизнь» и те, кто облегчает ее существование — «Продажные женщины», «Супружеская неверность» и ее последствие — дуэль, если за честь некой Амелии ее поклонники сражаются столь же рьяно, как другие сражались за короля, «Самоубийство», «Любовные истории Булонского леса», «Школа охотника и рыболова».
Для женщин были написаны «Искусства» туалета, молодости и многочисленных способов ее сохранить, хороших манер, обольщения. Если мужчины вели холостяцкий образ жизни, то для них существовало «Искусство поведения в обществе». Женившись, они постигали «Искусство сохранить верность и любовь жены как можно дольше».
В 1820 году Бальзак ничего не написал, зато у него возник замысел трактата о любви. Помимо физической потребности и плотского удовольствия любовь представляет собой взаимное совершенное понимание двух тел и двух душ.
В 1826 году Бальзак напечатал в своей типографии трактат о браке, который он, похоже, сочинил в 1824 году.
В апреле 1829-го Бальзак спешно закончил произведение, которое не захотел подписывать своим именем. Речь идет о «Семейном кодексе». Автором этого кодекса, вышедшего в свет в мае, значится Орас Рессон.
В ходе создания этой книги Бальзак отыскал рукопись, давным-давно положенную им под сукно в надежде на лучшее будущее. Он вновь перечитал, дотошно изучил, дополнил и выправил ее.
В августе 1829 года Бальзак продал Альфонсу Лававассеру, издателю из Пале-Рояля, произведение, озаглавленное «Физиология брака». Из чувства благодарности и дружбы к Юрбену Канелю, который распознал его талант и потерял изрядную сумму денег, опубликовав роман «Шуаны», Бальзак хотел поставить фамилию Канеля рядом с фамилией Лававассера. Возможно, эта книга будет иметь успех, и тогда Канель сумеет извлечь из нее выгоду!
«Физиология брака» — это произведение, написанное на заказ. Бальзак рассчитывал получить за него 1500 франков. Работать нужно было быстро, но добросовестно. Лававассер все время торопил. И в ноябре Бальзак написал ему, что отказывается заниматься бумагомаранием. Он создает подлинно художественное произведение, вот почему он углубился в него, словно в логово. Он не совершал бесцельных прогулок, он не играл в бильярд. «Мне ни разу в голову не пришла посторонняя мысль, и я не сделал ни единого шага, который не был бы связан с „Физиологией брака“».
Название «Физиология брака» напоминает «Физиологию вкуса», произведение Антельма Брийа-Саварена (1755–1826).
В те годы «физиологией» называли жизнедеятельность, описанную сторонним наблюдателем, а также установленный жизненный порядок. Бальзак намеревался описать брачную жизнь супружеских пар, ставя перед собой целью профилактику любых проявлений безнравственности со стороны супругов.
БРАЧНАЯ ЖИЗНЬ
Бальзак никогда не забывал о правиле, выведенном Брийа-Савареном: «Новое блюдо доставляет человечеству больше счастья, нежели открытие новой звезды. Придумать новое блюдо означает взять на себя заботу о счастье тех, кто живет с нами под одной крышей».
Можно ли в браке изобрести новые блюда или по меньшей мере подновить старые?
Трудно было заставить читателей оценить брак по тем же критериям, по каким оценивают подливку или вино. Бальзак прикрылся авторитетом Мольера, который считал женщину «супом для мужчины».
Исходя из вкусовых ощущений Бальзак стремился доказать, что брак — это первостепенная радость. Для того чтобы возбуждать и утолять свой аппетит, супружеская пара должна проявлять себя в самом лучшем свете. Супруги должны стремиться к знаниям, интересоваться всем происходящим, уметь искусно поддерживать разговор, обсуждать друг с другом все мелочи повседневной жизни, идет ли речь об одной двуспальной кровати или о двух односпальных, о жилье, привычках, любовном опыте или даже об отхожих местах.
Для Бальзака «жеманство женщины исключает ее неосведомленность». Первое совокупление, которое разрывает гимен и вызывает кровотечение у девственницы, равнозначно обычному насилию, которое лишает мужчину благосклонности и дружбы со стороны его супруги. «Не начинайте брачную жизнь с насилия».
В ту романтическую эпоху, когда все делали вид, будто хотят знать истину и приобщиться к природе, существовавшие условности исключали любое проявление естественности. Всякая невинная девушка выглядела наивной простушкой, только и всего.
Бальзак не верил в чистую непорочность дня бракосочетания. Девушки знают о жизни слишком много, но остерегаются признаваться в этом, считал он, приобщившись к тому образу жизни, который вели мальчики в интернате. Разве в интернатах при женских монастырях девочки не предавались похожим удовольствиям? В воображении Бальзака возникали «долгие беседы, поощряемые самим дьяволом… ночные прогулки… непреодолимое желание поведать другим о сделанных открытиях».
Разве можно считать женщину, которая все понимает, невинной? К чему эта инсценировка свадьбы, иллюзорной самой по себе? Во время помолвки и в день свадьбы женщину возводят в королевы и восторгаются ею. На следующий же день королева превращается в рабыню, которая должна рачительно вести хозяйство и прислуживать мужу, более требовательному, нежели ее отец и мать вместе взятые.
Скрытая инициация, господствующая в обществе, должна уступить место инициации природной, которая раскрепощает девушку и предоставляет ей право самостоятельно приобретать любовный опыт и делать собственный выбор.
Супружескую чету новобрачных ожидает счастье, если помолвке и пробуждению чувств предшествуют свобода, непринужденность жестов и слов. Бальзак выступал за «просвещенный» медовый месяц. Пусть новобрачные заходят в своих любовных играх, мимолетных поцелуях, приступах нежности так далеко, как только позволяют правила приличия.
Бальзак не сомневался, что женщина любит получать удовольствие. Она даже любит удовольствия больше, чем сам брак, на который вынуждена согласиться, чтобы не уронить свое достоинство в глазах общественного мнения и чтобы свить гнездо, где может заботиться о своих детях.
В «Физиологии брака» открыто говорится о чувственных радостях. Ведь самого Бальзака приобщила к любви весьма опытная в сердечных делах дама, госпожа де Берни. Вместе с ней ему было суждено радостно открывать Аркадию наслаждений.
Бальзак прочел много эротических книг, в частности «Erotika Biblion». В этой книге в мельчайших подробностях рассказывалось обо всех удовольствиях, каким предавались в термах женщины Древнего Рима. Их рабы были обучены специальным приемам, лаская каждую часть тела. Подобные ласки рождали бесконечные наслаждения и утехи. Медленно и плавно касаться кожи; смазывать тело маслом, потрагивая его при этом страстно и нежно; вытирать остаток масла лебедиными перьями; втирать благовония; очаровывать приятной музыкой — все это вместе взятое превращало ожидаемое наслаждение в ощутимую радость. Очень часто в своих любовных занятиях женщины довольствуются игрой воображения, и поэтому муж образца 1829 года должен был ублажать жену так же участливо, как это делали римские рабы. У женщины нет более естественного желания, нежели желание совершенствоваться в наслаждениях. Именно это желание является самой прочной нитью, связывающей женщину с ее супругом. «Талант мужа, — писал Бальзак, — проявляется в его умении находить новые способы ласки и оригинальное выражение своих чувств». Свое «дерзкое сладострастие» он должен посвящать жене, а не куртизанкам.
ИНФЕРНАЛЬНАЯ КНИГА
Испытывают ли счастливые семьи неприятности?
Трактат «Физиология брака» можно смело назвать романом. Ведь Бальзак проник в самую суть разногласий между мужьями и женами для того, чтобы поведать человечеству о многочисленных историях, явившихся следствием несчастных браков. Эти истории проистекают из поведения женщины, которая в семейной жизни либо беззастенчиво продолжает вести свою игру, либо покорно позволяет помыкать собой.
В 1830 году вступление в брак в первую очередь определялось семейными интересами и устремлениями. Матери на свой страх и риск женили легкомысленных сыновей лишь для того, чтобы те распрощались с холостяцкой жизнью. Брак мог обеспечить солидное положение в обществе. Бальзак собственными глазами видел, до чего довел подобный образ действия Лорансу и Монзэгля. 18-летняя девушка могла неожиданно для себя оказаться женой человека, которому перевалило за 50. Именно так и произошло в 1797 году с Лорой де Бальзак. Молодая жена хотела выезжать, ходить в оперу, танцевать на балах. Она превратилась в затворницу, живя в полном достатке со стариком, который вместе с друзьями своего возраста предавался маленьким радостям: вист, партия в бильярд… К тому же он обращался с женой как с предметом мебели.
В брак вступали для того, чтобы увеличить земельные наделы, объединить стада, укрупнить промышленные предприятия, увеличить торговый оборот, получить титул, породниться со знатной семьей… Бесприданница могла выйти замуж за скупого богача и ждать его смерти, а тот, заимев жену и детей, начинал относиться к своему здоровью гораздо внимательнее, нежели тогда, когда жил один.
В обществе Бальзак встречал пары, в которых один из супругов был словно нарочно выбран для того, чтобы сыграть с другим злую шутку. А тот, другой попадал в ловушку совершенно неожиданно. Так, можно было наблюдать, как некий Адонис вел под руку горбунью, как косноязычный муж грубо прерывал блещущую остроумием жену, а ветреные и ленивые женщины озарялись сенью своих деятельных супругов.
Существовали также «бремя годов и неотвратимые признаки старости».
Необходимо было терпеть нос, перепачканный в табаке, зловонное дыхание, мокроту или катар, слезящиеся глаза… Но существовали и прочие мерзости, проявлявшиеся с течением времени: придирчивый, деспотичный, скандальный, невнимательный муж. Встречался тип вечно вялого мужа, которому давали прозвище: «живая грелка для постели».
Не только реальная действительность, но и богатая фантазия побудили Бальзака обратить внимание на постылые и живущие в разладе супружеские пары. Между этими несчастными легко проскальзывает любовник, которого Бальзак называет «минотавром». Благодаря любовнику муж «минотавризируется», получив, подобно античному полубыку, рога.
Свое расследование об адюльтере Бальзак проводит как верный ученик своего отца и физиократов, на основании статистики. При этом он принимает в расчет только «приличное общество», иначе говоря, людей праздных, обеспеченных буржуа, исключив куртизанок, «давно превратившихся в общественный институт», а также крестьянок и работниц.
Во Франции тех лет проживал один миллион женщин, несчастных в браке. Все догадывались, чем такие жены занимались в послеполуденные часы и по вечерам. Их мужья были всецело поглощены делами. Но существовали мужья иного сорта, которые изливали свои чувственные страсти на лживых и легкомысленных женщин, тем самым рискуя потерять единственную подлинную любовь, которая могла окружить их своей заботой.
Одинокая женщина ни в чем не отказывала любовнику, лишь бы он проводил с ней все свое время: «возбуждать желание, поддерживать, поощрять, разжигать и удовлетворять его, одним словом, это настоящая поэма».
Бальзак хорошо знал, что все женщины считают себя обворожительными. Они полагают, что их тело обязательно чем-то может соблазнить. Некоторых женщин природа одарила черными глазами, других — шелковистыми волосами. Тем не менее Бальзак отнюдь не заблуждался относительно женской любезности. И — в который раз! — он снова вдавался в детали. Существуют уродливые женщины и женщины извращенные. У некоторых неприятно пахнет изо рта, другие же нисколько не заботятся о чистоте своего тела. Многие плохо переносят огорчение, скуку, длительный период воздержания. Некоторые не уступают лишь из страха перед осуждением Церковью и общественной моралью. Сорокалетних женщин и женщин более старшего возраста вообще не стоит принимать в расчет. Их красота, если она еще не исчезла, напоминает красоту божественных изваяний, которым следует лишь поклоняться. Есть еще честные женщины, оставшиеся «целомудренными благодаря своей неосведомленности. Сердце этих женщин наделено большей или меньшей чувствительностью, нежели сердца всех прочих».
Поскольку приходится сбрасывать со счетов уродливых, целомудренных и «не совсем созревших», остается весьма небольшое число желанных и в то же самое время доступных женщин. Вокруг этого немногочисленного общества вьется сонм холостяков в возрасте от 17 до 52 лет. Все они алчут и все наделены прекрасным аппетитом. Они решительно настроены пустить в ход острые зубы и «вступить на путь, ведущий прямо в рай». Для того чтобы начать действовать, им нужно лишь согласие несчастных в браке женщин.
Как правило, к четырем холостякам, добивающимся расположения одной женщины, надо прибавить несколько женатых мужчин, которые хотят обладать одновременно и женой, и любовницей. Эти мужчины исходят из принципа, что гораздо легче угождать от случая к случаю любовнице, чем «постоянно говорить приятные любезности жене».
Именно поэтому, по твердому убеждению Бальзака, так мало счастливых семей. Притаившаяся за каждым углом измена ждет своего звездного часа. В считанные секунды она способна разрушить самый крепкий союз. Очень часто измена проистекает из жестокости или холодного равнодушия мужа, который не делает ничего другого, кроме как получает наслаждение от своей юной супруги с тем же рвением, с каким надевает сапоги, отправляясь на охоту.
Мужчины решают жениться, охваченные импульсивным порывом. И очень быстро превращаются в равнодушных супругов. Муж чувствует поддержку закона, а закон вещает лишь о совместном ведении хозяйства, не обязывая проявлять нежные чувства.
Существует огромная вероятность того, что покинутая женщина попадет в сети, расставленные сонмом возбужденных любовников, которые втираются к ней в доверие, нежно нашептывая сладострастные слова.
И хотя «Физиология брака» имеет внешнее сходство с водевилем, где действующими лицами являются муж, жена и любовник, на самом деле она написана строгим моралистом.
Для того чтобы избавиться от своих недостатков, мужчины должны видеть себя такими, какие они есть: грубиянами; женщины должны понять, что они жертвы; а свадьбы следует рассматривать как спекулятивные сделки.
Бальзак предлагает вновь ввести в действие право на развод, которое было вотировано 20 сентября 1792 года. Республика, принявшая решение уважать права личности, рассматривала нерушимые супружеские обязанности как отрицание свободы. В марте 1816 года Реставрация пересмотрела это решение и напомнила о правилах, существовавших при Старом режиме. Эти правила допускали возможность развода, но лишь после проведения сложных юридических процедур, после столь едких споров, что обретенная независимость оборачивалась большими трудностями и ущербом, нежели компромисс между супругами.
С 1829 года, когда вышла в свет «Физиология брака», и до 1884-го Франция пережила пять видов политических режимов: абсолютная монархия[20], конституционная монархия, республика, империя, вновь республика, но ни разу за эти годы законы о браке не были пересмотрены.
Бытует мнение, что женщинам ни в чем никогда не отказывали. Напротив, им очень долго отказывали в праве на счастье, заставляя сохранять семью, какой бы эфемерной она ни была.
В те времена, когда Бальзак создавал свое произведение, только измена могла смягчить суровость брачного союза. Но она не обходилась без тягостных последствий. Застигнутая на месте преступления женщина немедленно отправлялась в тюрьму.
Широкая популярность, которой пользовались произведения Бальзака у читательниц, объяснялась его решительной критикой сложившихся в обществе общепринятых воззрений на брак. Бальзак всегда ценил личную свободу выше, нежели «добропорядочные нравы» и семейные узы.
«Физиология брака», вышедшая в свет анонимно, как плод фантазии «некого молодого холостяка», быстро превратилась в «инфернальную книгу». Она имела такой оглушительный успех, что Бальзак был вынужден раскрыть свое имя.
И тотчас он стал для женщин тем, кем был Руссо для мужчин. Руссо радикально повлиял на отношения между подданными и их правителями, между теми, кто владеет всем, и теми, кто ничем не наделен, между цивилизованными людьми и простодушными дикарями. Бальзак же оказал влияние — и это крайне важно — на отношения между мужчиной и женщиной. Причем это влияние было неоспоримым. Бальзак предвестия появление Симоны де Бовуар: общество и мужчина развращают женщину.
При буржуазном режиме, когда во главе угла стоят право собственности и склонность к роскоши, женщина превратилась в «в украшение салона, вешалку для дорогих нарядов». Ее никто не рассматривал как человека, чьи «труды приносят пользу обществу». Так зародилась идея о женщине-вещи.
Женщина испытывает потребность любить. Именно любовь, которую она дарит или которую получает, наполняет ее энергией, красотой, элегантностью, остроумием, сердечной и душевной щедростью. Любимая женщина «предстает во всем своем блеске и свежести перед незнакомцами, которые оказывают ей лестные знаки внимания. Их знаки внимания очаровывают ее, хотя эти незнакомцы ей совершенно безразличны». Такая женщина подобна живой воде, пролитой на суровую прозу жизни. Люди, попавшие в отчаянное положение, чувствуют себя словно очищенными от грязи, похорошев от приема, устроенного им счастливой хозяйкой дома.
В не меньшей мере это относится и к семейной жизни. В детстве Бальзак много страдал от суровости матери, женщины добросердечной, но всегда пребывавшей в плохом настроении. Он не ведал, как много значат нежность, хорошее настроение, покладистость, простое присутствие в доме довольной жизнью жены и матери.
Наполеон вслед за Монтескье и Дидро решил, что брак есть закон, устанавливаемый не природой, а обществом. И все же брачный союз всегда существовал в природе. Необходимо только, чтобы влияние общества не извратило влечения мужчины и женщины друг к другу. Бальзак в своем творчестве постоянно пытался примирить инстинкт и интуицию, цивилизацию и природу.
ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ
Мы хотим видеть святых, а получаем…
Бальзак. Дочь Евы
«Я решительно заявляю о своем несогласии с браком. Это одна из форм закабаления женщин. Я мечтаю о таком социальном порядке, когда брак станет возвышенным, нравственным, равноправным… Я хочу лишь одного: изменить сам институт брака, отмеченный существенными недостатками».
Полина Ролан
«Физиология брака» вышла из печати 29 ноября 1829 года. Одновременно Бальзак воплотил в жизнь другой замысел. 22 октября того же года он предложил издателю Маму «Сцены частной жизни». В этот сборник, состоящий их двух томов, должны были войти шесть произведений. Предполагалось, что он поступит на прилавки 10 апреля 1830 года. Но к концу 1829-го Бальзак написал только два рассказа: «Дом кошки, играющей в мяч» и «Семейный мир».
«Сцены частной жизни» — это описание несчастных мужчин и женщин, их неудачных брачных союзов: молодые женщины легкомысленно совершают необдуманные поступки, а мужчины рискуют жизнью, охваченные безрассудным порывом или движимые корыстью.
«Гобсек» и «Побочная семья» описывают мученическую жизнь, когда супруги ощетиниваются друг против друга, словно ежи. Если у них появляется возможность совершить измену, они так и поступают, не колеблясь ни единой секунды. И не стоит искать по-настоящему дружные семьи. Вырваться из супружеских уз на несколько часов считается подлинным счастьем. А ведь всякая авантюра может вылиться в трагедию. Адюльтер попирает божественные и человеческие законы. Но женщина особо подвержена разврату.
В 1850 году в Париже полиция насчитала 34 тысячи проституток и 200 борделей, которые посещала четверть мужского населения города. Женщина, застигнутая в прелюбодеянии, могла быть приговорена к тюремному наказанию сроком от трех месяцев до двух лет. Муж, поселивший сожительницу в супружеском доме, подвергался уплате штрафа размером от одной до двух тысяч франков. Муж, убивший жену-изменницу, освобождался от наказания. Любое насильственное действие со стороны обманутой жены преследовалось по закону.
В соответствии с Гражданским кодексом женщина оставалась неправоспособной на протяжении всей своей жизни. Она должна была подчиняться мужу, который распоряжался всем: имуществом, детьми, приданым. В случае развода женщина могла забрать обратно приданое, но не имела права отчуждать его. Над вдовой устанавливали опеку ее дети. Если вдова повторно выходила замуж, ее делами управлял семейный совет.
Чтобы «просветить» женщин, Бальзак хотел использовать два метода. Он написал комедию — «Физиологию брака»: читатель «Физиологии брака» словно смотрит водевиль с участием своей супруги. А в «Сценах частной жизни» разыгрывается настоящая драма. Впрочем, эти драмы не всегда приводят к фатальному исходу. Тем более что всех этих перипетий можно избежать, «если принимать истории, рассказываемые романистом, за уроки, а не за поэзию».
Для Бальзака частная жизнь — это прежде всего семья, в основе которой лежит более или менее длительный и всегда социально защищенный союз двух разнополых индивидуумов, которые ведут общее хозяйство и воспитывают детей. Эта супружеская чета связана сентиментальными узами, постоянным экономическим взаимодействием и интересом, проявляемым к детям.
Первая новелла из «Сцен частной жизни» — «Дом кошки, играющей в мяч» — была написана, как указал сам Бальзак, «в Маффлие в октябре 1829 года». Никто ничего не знал об этом путешествии. Анна Мари Мейнингер высказала предположение, что Бальзаку пришлось отправиться туда вслед «за герцогиней д’Абрантес, которая гостила у семьи Талейран-Перигор».
В новелле речь идет о «величии и невзгодах» (именно так первоначально она называлась) одной особы, Августины Гийом, дочери суконщика с улицы Сен-Дени. Получившая домашнее воспитание Августина мечтает о блестящем замужестве, когда она сможет взирать свысока на мир своего детства. Но нет! Ей суждено прожить такую же жизнь, какую влачит ее мать, восседающая (у Бальзака — «пригвожденная») за кассой в глубине торговой лавки.
Молодой художник, удостоенный Римской премии, Теодор де Соммервье, сравнивает Августину с мадонной Рафаэля и пишет ее портрет. Луи Жироде, мастер «предромантической живописи, который собственноручно писал этюды мадонн», выставляет портрет Августины на самом видном месте Салона 1810 года. Выставку посещает император и удивляется, что при его дворе так мало женщин, похожих на эту красавицу, в то время как королей полным-полно.
Августина идет в Лувр и видит свой портрет. «Когда она узнала себя, неожиданный озноб заставил ее тело затрепетать, словно осиновый лист».
Августина любит Теодора. Но ее отец не хочет даже слышать об этих художниках, вечно голодных горемыках и транжирах, которые в конечном итоге превращаются в отпетых негодяев.
Правда, вскоре господин Гийом перестает опасаться Соммервье. У Соммервье водятся деньги. Он награжден орденом Почетного легиона и вскоре его должны возвести в баронское достоинство. Высокое покровительство, которым пользуется будущий зять, может благотворно сказаться и на тесте, мечтающем стать мэром в своем округе.
Но вот сыграна свадьба. Теодор де Соммервье получает сто тысяч экю в качестве приданого. Жена счастлива. Муж «ежедневно излучает сиятельные лучи наслаждения».
И тут в характере Августины начинают проявляться «занудные черты» мелкобуржуазного воспитания. Ее муж один выезжает в свет. Особенно часто он наносит визиты герцогине де Карилияно, известной кокотке времен Империи.
Могут ли слиться в счастливом союзе торговля и высший свет? Августина и Теодор напоминают «переплетение старинных шелковых и шерстяных тканей, при котором шелк всегда подавляет шерсть».
Августина старается изо всех сил. Она занимается самообразованием, читает книги. Но между супругами по-прежнему стена. Соммервье скрывается от нее в своей мастерской. Когда они вместе отправляются в гости. Соммервье чувствует себя неловко. Его жена слишком серьезно относится к своей роли жены живописца. «Стеснительные художники не знают жалости: они либо убегают прочь, либо начинают издеваться».
Августина, как и Лоранса де Монзэгль, сестра Бальзака, умершая в 1825 году, рассказывает родителям, до чего она несчастна. Но госпожа Гийом, как и Лора де Бальзак, не хочет и слышать о разводе, о полюбовном разрыве отношений, хотя при Наполеоне развод разрешен. Августина, как и Лоранса, не хочет разлучаться с мужем, которого любит наперекор судьбе. Она лишь приходит к выводу, что женщина должна скрывать свои горести, даже от родителей. «Женщина должна страдать и молчать».
Августина приходит к той, которую считает своей соперницей — герцогине де Карилияно. Жан Ланьи пришел к заключению, что под этим именем у Бальзака описана Клотильда Мюра, герцогиня де Корильяно, с которой Бальзак мог встречаться в 1825 году, поскольку она купила поместье Роканкур у Даниэля Думерка-Белана, родственника, покровителя и друга Бернара-Франсуа.
Анна Мари Мейнингер утверждает, что в 1829 году Бальзак был знаком с единственной герцогиней — герцогиней д’Абрантес. Бальзак помогал ей готовить к изданию ее «Мемуары». В «Доме кошки, играющей в мяч» есть описание частного особняка «с широкой лестницей, отделанной порфиром», в нем царит «рай переливающихся красок», там «всюду цветы, голубой будуар и мягкий свет». Такие роскошь и беспорядок были присущи особняку Бриенн, расположенному на улице Юниверсите, где проживала герцогиня д’Абрантес, фрейлина королевы-матери.
Среди золота, бронзы и цветов особняка Бриенн Августина получает урок супружеского поведения, «преподнесенного герцогиней, вальяжно возлежащей на отоманке»:
— С мужчинами, занимающими высокие посты, следует вести себя кокетливо, позволять им ухаживать за собой и «относиться к этому как к спектаклю, но никогда не выходить за них замуж».
— Супружеское счастье заключается в том, чтобы любить, но надо скрывать свои чувства.
— Женщины повелевают мужчинами, если им удается «обнаружить в своих мужьях качества, недостающие им самим, или если они могут извлечь на свет крупицу безумия, затаившуюся в гениях». Герцогиня приводит в качестве примера своего мужа: «Он командует тысячами солдат, но передо мной… он робеет».
Как и Лоранса де Монзэгль, убитая легкомысленным поведением мужа и равнодушием близких Августина умирает.
«Дом кошки, играющей в мяч» является величественной прелюдией «Человеческой комедии». Это одна из тех историй, которые Бальзак так любил за то, что они соответствуют природе.
Французская революция уничтожила порядки и сословия, разделявшие дворянские, торговые, крестьянские семьи. Крестьяне отныне становились генералами. «Революция дала стране намного больше прославленных генералов и талантливых людей, чем это сделали два века монархии». Августина, выйдя замуж за известного художника, вознеслась на вершину «величия», которое в конечном итоге уничтожило ее.
Анна Мари Мейнингер заметила, что в «Доме кошки, играющей в мяч» Бальзак, наряду с отчаянием Августины, хотел показать, на какое одиночество обречен настоящий художник. В 1829 году он, как и художник Соммервье, отдавал себе отчет в том, что семья не только не оценила по достоинству его книги, но даже не удосужилась их прочитать. И если два года тому назад он стремился не упустить возможности выслушать чье-либо родственное мнение, теперь он старательно этого избегал. Роже Пьерро цитирует письмо Бальзака, написанное 14 февраля сестре Лоре: «Я увижусь с вами только после выхода в свет „Шуана“. И я предупреждаю вас, что не хочу слышать ни от кого никаких отзывов о нем, ни положительных, ни отрицательных. Семья и друзья не способны судить об авторе».
Когда великий художник создает шедевр, его сумасбродство проявляется во всем. Больше всего Бальзака возмущало то, что мать то и дело делала ему внушения.
Без гроша в кармане он намеревался вести образ жизни, который она называла «роскошным»: дорогая мебель, библиотека, книги в кожаных переплетах. «У меня нет роскоши, только вкус, который все приводит в гармонию». «Вкус» означал канделябры, стенные часы, занавеси, ковры.
В том же письме от 14 февраля Бальзак писал:
«Я не способен подавать признаки жизни, ибо это означало бы то же самое, что побеспокоить литейщика в тот момент, когда он отливает колокол…»
«Лора, мне необходимо жить, никому не протягивая руки».
В некоторых письмах к Зюльме Карро Бальзак уточнял, на каких условиях мог бы согласиться на брак. Он женится в 1850 году, за полгода до смерти. Он всегда превозносил до небес такой брак, который не мешал бы его личным пристрастиям: его жена должна была быть готова отдать за него жизнь; она должна безропотно воспринимать как само собой разумевшееся его потребность к уединению, к работе и пренебрежительное отношение к общественному мнению. Одним словом, женившись, он мечтал продолжать вести образ жизни холостяка.
Полина Саломон де Вилльнуа из «Луи Ламбера» наглядно показывает, что это значит. «Его сердце принадлежит мне, а его гений — Господу Богу». Такова рыцарская любовь, любовь на расстоянии, напоминающая любовь куртуазных поэтов, пишущих пламенные письма дамам сердца, к которым они никогда и близко не подходили.
Для Бальзака важнейшее значение имеет инстинкт. С первой минуты своего знакомства влюбленные ощущают его власть. Влечение может быть настолько сильным, что порой сметает на своем пути все преграды и социальные барьеры. Так лучи солнца рассеивают туман. «У любви есть свой собственный инстинкт, — пишет Бальзак в „Тридцатилетней женщине“. — Она умеет найти дорогу к сердцу, как самое слабое насекомое с непреодолимой волей летит к своему цветку, ничего не пугаясь. И когда чувство правдиво, судьба его не оставляет сомнений».
Инстинкт, насекомое, цветок… Эти образы всплывут в памяти Марселя Пруста, когда он примется описывать гомосексуальное влечение.
ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
Все «Сцены частной жизни», как и сама жизнь Бальзака, — это попытка уйти от действительности. Как я уже говорил, супружеская измена представляет собой обычную ответную реакцию несчастной в браке женщины, на защиту которой поднимается Бальзак. «Наши семьи продают нас человеку, которого мы никогда не видели. Наша честь отдается за иллюзорные почести, за несколько тысяч франков ренты». Проданные женщины попадают к мужчинам, у которых очень сильно развито «чувство пола», но которые напрочь лишены души и сердца.
«Опасности безнравственного поведения» — именно так был озаглавлен рассказ, написанный в 1830 году. Позже он получил название «Гобсек».
Для Бальзака любовь вне брака означала, как утверждал Клодель, «обещание, которое невозможно сдержать». Любовники встречаются украдкой. Они живут чаще всего в разных концах города. Дети, рожденные от таких союзов, число которых резко возрастает в 1830 году, словно бы и не существуют. Законные мужья лишают прижитых женщиной детей наследства. Госпожа де Ресто из «Гобсека» наделала долгов, чтобы оплатить долги своего любовника. Она знает, что ее муж вот-вот умрет. Он запретил жене входить в свою комнату. Он лишил наследства двух младших детей, рожденных не от него. Не успел муж испустить дух, как госпожа де Ресто, выбив дверь, принялась обыскивать еще не остывший труп в поисках документов, оставленных в пользу законного сына.
Бальзак не приписывает грех супружеской измены исключительно женщинам. Мужчина также может завести любовницу, жить своей собственной жизнью. Альбер Саварю вступил в Орден траппистов. Бальтазар Клаес забыл о жене и забросил дела, всецело посвятив себя опытам по разложению азота. Шарль-Морис д’Эспар разорился, чтобы выучить в совершенстве китайский язык… Все эти герои олицетворяют собой творческое одиночество, в котором пребывал их создатель.
В «Побочной семье» рассказывается о жизни господина де Гранвиля. Он отдаляется от своей жены Анжелики, ханжи, которая заставляет его жить «в доме, приносящем несчастье, в железном обруче, опоясывающем ужас пустыни и бесконечность пустоты». Господин де Гранвиль добился права на раздельное ведение хозяйства. Он поселился на антресольном этаже своего особняка с двумя сыновьями. Его супруга занимается воспитанием дочерей. Два раза в день он проходит мимо дома, где живут и работают две кружевницы, мать и дочь Крошар. Раньше он был для них «проходящим мимо господином в черном», но теперь он заводит с ними знакомство и превращается в господина Роже. Господин Роже поселяет Каролину Крошар в апартаментах на улице Тебу. Так проходят шесть лет. За эти годы у них рождается двое внебрачных детей.
«Вечный любовник» Бальзак (госпожа де Берни, герцогиня д’Абрантес, Ева Ганская, госпожа Гидобони-Висконти и могла быть Зюльма Карро) любит делать перерыв в работе. Пускаясь в любовные приключения, он отдыхает душой и телом.
А в его романах жизнь совершивших супружескую измену женщин в один прекрасный день рушится. Идет ли речь о княгине де Кадиньян, вышедшей замуж по расчету за любовника своей матери и взявшей себе в любовники Анри де Марсея, или о Дельфине де Нусинген, леди Брандон. Этим женщинам выпала «плохая карта»: либо они разоряются, либо стареют в одиночестве, которое им представляется тем более жестокой участью, чем больше льстивых восторгов они слышали в былые времена. Вот почему в глубине души они все еще хранят сокровища чувственности.
В новелле «Покинутая женщина» (1832) Бальзак показывает нам трогательную женщину, которая никогда не накладывает на себя румян и выигрывает в благородстве то, что потеряла в красоте.
На Гастона де Нейля, молодого человека 23 лет, производит неизгладимое впечатление лицо госпожи де Босеан, отмеченное глубокой печатью пережитых невзгод. У него возникает желание даже не понравиться ей, а разгадать «таинственную сущность влечения, ибо нужно еще смолоду постичь его безмолвное блаженство и причуды». Чопорный господин де Босеан, свято почитающий условности и традиции, на такие чувства не способен. Он принадлежит к породе тех людей, которые, проснувшись утром, объявляют о своей любви точно так же, как лакей докладывает, что кушать подано.
Госпожа де Бальзак пыталась разлучить сына с Лорой де Берни. Мать Гастона де Нейля читает нотации своему сыну. Гастон не наделен силой воли Бальзака, который продолжал вести себя так, как считал нужным. Он женится на мадемуазель де Ла Родьер, «молодой бесцветной особе, прямой как палка», имевшей сорок тысяч ливров дохода с земельной ренты. Что ж, «богатство утешает от всех невзгод».
Гастон приносит в жертву материальному благополучию свою страсть. Но ему было жаль расстаться со своей любовницей, и он старается охотиться поблизости от поместья Босеан. Однажды он решается войти и видит «исхудавшую и бледную госпожу де Босеан… Это была сама скорбь в наиполнейшем своем выражении».
Госпожа де Босеан запрещает Гастону приблизиться к ней.
Вернувшись к своей супруге, Гастон де Нейль кончает жизнь самоубийством.
ЭПИТАЛАМА
Бальзак считал, что «государство тогда становится могущественным, когда его составляют богатые семьи, все члены которых заинтересованы в надежной защите общей сокровищницы: сокровищницы денег, слова, привилегий, наслаждений. Оно утрачивает силу, если его населяют разобщенные индивидуумы». Лишите государство семьи, и вы уничтожите ощущение общности. Когда человек превращается в безликого индивидуума, все нивелирует общая зависть, а подлинных гениев растерзывает толпа.
Семью создает, взращивает и хранит именно женщина. Каких бы усилий ей это ни стоило, какие бы горести она ни испытывала, бальзаковская женщина рассматривает «материнство как необходимый элемент жизни, и она выбирает самоотверженность, как утопающий в отчаянии хватается за обломок мачты своего корабля».
Женщина должна смириться с проступками мужа не потому, что она безропотно покоряется судьбе, а потому что мужчина от природы наделен беспокойным характером, жаждущим приключений. Женщине, которая должна стать в браке «равной и непорочной силой», не пристало испытывать сильные страсти у домашнего очага. Как доказательство Бальзак приводит слова герцогини де Сюлли. Когда ей сообщили, что ее супруг волочится за каждой юбкой, она спокойно ответила: «Все правильно. Я — гордость дома и мне было бы весьма прискорбно играть здесь роль куртизанки» («Воспоминания двух новобрачных»).
Добавим, что Бальзак никогда не клеймил позором растущую проституцию. Барон Юло счастливо живет с Олимпией Бижу, затем с Элоди Шарден. Он стал писарем в муниципалитете (разумеется, под вымышленным именем). Для Бальзака торговля телом «в тысячу раз менее отвратительна, нежели продажа некоторых эмоций, которые никогда нам не принадлежат в полной мере». Иными словами, написать лживую книгу о чужих жизнях или переживаниях гораздо более возмутительно, чем выставлять свое тело на продажу.
Неискренний писатель одурачивает читателей, проститутка же доставляет истинное удовольствие, так что у клиентов даже возникает желание выразить ей благодарность. Сумел ли Бальзак, так глубоко постигший причины упадка нравственности, найти способ, позволяющий предотвратить этот упадок?
Между мужчиной и женщиной должна существовать инстинктивная привязанность, о которой я уже упоминал. Без подобной привязанности супружеской чете ничего хорошего не светит.
Для Бальзака женитьба не является таинством. Ведь невозможно скрывать свои чувства, прикрываясь религией. Мистическая любовь может существовать, но возникает она в самом конце жизни. Ее постигают на смертном одре, перебирая в памяти воспоминания о том, что было отдано и что получено.
Бальзак отчетливо понимает, что только полное взаимное согласие может сделать жизнь супружеской четы счастливой. Чувственная радость, каждодневная любезность, верность — вот те качества, которые позволяют уверенно смотреть в будущее.
Многочисленные читательницы 1830–1832 годов признали, что Бальзак наделен даром проникать в чужие жизни, в заживо погребенные судьбы. С огромного расстояния он понимает то, о чем не догадываются друзья и близкие.
«Покинутая женщина» соблазняет, возбуждает желание. Часто она наделена утонченной красотой и в ее бесполезном очаровании проглядывает нечто сокровенное, как у весталок и монахинь. Ее величественной красоте нет необходимости привлекать к себе внимание кокетством. Даже если эта женщина никому не принадлежит, чувствуется, что ей есть что разделить с мужчиной. Она способна предложить самую бескорыстную дружбу. Но не всем бальзаковским женщинам уже 30. Среди них есть и молодые девушки, обреченные на одиночество, из сердец которых матери «изгнали чувство». Такой будет Евгения Гранде. Она вынуждена скрывать от матери любовь к своему кузену. Покорное поведение, опущенные глаза, упрямые мысли, энергичный, скрытый характер, противоречивые порывы, невольно выраженные в словах, жестах, взглядах, — вот качества, присущие бальзаковским девушкам. Уже в 1822 году в возрасте 23 лет Бальзак изобразил в «Ванн-Клоре» молодых женщин, прообразом которых могли бы послужить его сестры, если бы он сам не был наделен сердцем, таящим в себе слишком много невысказанной любви.
Не исключено, что именно Бальзак «подсказал» доктору Фрейду термин «подавленный». В 1830 году слова «подавлять», «подавленный» встречались в лексиконе крестьян, охотников, моряков, но никак не психологов.
«В покинутой женщине есть нечто импозантное и сокровенное: при виде ее содрогаешься и плачешь. Она воплощает собой условности разрушенного мира, мира без Бога, без солнца, наделенного отверженным созданием, которое бредет наугад во мраке и отчаянии; покинутая женщина!.. Это невинность, восседающая на обломках всех погибших добродетелей».
«Часто покинутая женщина на протяжении всей жизни предоставляла доказательства самых возвышенных чувств своей души».
В 1829 году 30-летний Бальзак не намерен жениться не потому, что это означало начало какой-то новой, нежеланной жизни, но потому, что предвидит трудности в создании прочного брака.
Бальзак похож на историка, который не хочет действовать, опасаясь нарушить ход истории. Понять супружеские пары и ограничиться их описанием — вот единственная возможность помочь обществу.
ЛОРА ПЕРМОН, В ЗАМУЖЕСТВЕ ЖЮНО, ГЕРЦОГИНЯ Д’АБРАНТЕС
Госпожа д’Абракабрантес.
Теофиль Готье
В 1815 году представителям поколения Бальзака исполнилось от 10 до 20 лет, и они пытались разобраться в исторических событиях Революции и Империи, поведанных в многочисленных, но всегда пристрастных книгах: там, где роялисты видели исключительно «кровь Людовика XVI», республиканцы приветствовали появление новой породы человечества, не признающей ни Бога, ни короля.
Неужели Франция, которая в XVIII веке затмевала всю Европу культурой, искусством, цивилизацией и которая в 1800–1815 годах завоевала и покорила эту Европу, могла потерять все в одночасье? В народном воображении даже после своего падения Наполеон восседал на престоле словно бог-победитель. Для того чтобы лучше понять случившееся, не мешало прочесть агиографические книги, основанные, как правило, на сфальсифицированных документах. Но для этого требовалось много времени. Бальзака просветила одна дама по имени Лора д’Абрантес. Будучи по происхождению корсиканкой, Лора рассказала Бальзаку на примере Наполеона о средиземноморском темпераменте, а на примере его семьи — о кланах Средиземноморья.
Бальзак познакомился с герцогиней д’Абрантес в Версале, у Сюрвилей, живших на улице Морепа в доме 2. Она жила по соседству, на улице Монтрей. Три года спустя, в 1828 году, она нашла временное пристанище в Аббе-о-Буа и прожила там с 1830 по 1832 год. Аббатство располагалось недалеко от улицы Севр. В этом монастыре, обители монахинь, был построен жилой корпус, где селились дамы света, желавшие обрести покой. Оказавшись в стесненных обстоятельствах, сюда переехала госпожа де Рекамье. Здесь в своих роскошных апартаментах она принимала гостей. Сюда в назначенный час приходили Шатобриан, Бенжамен Констан, Ламартин, называвший аббатство «академией в монастыре». Около 50 завсегдатаев, политических деятелей и людей творческих профессий, посещали салон госпожи де Рекамье по меньшей мере два раза в месяц, чтобы послушать, как писатели будут читать свои новые произведения. Музыканты играли приятную музыку, актеры декламировали стихи. Приемы бывали также и по вечерам. Шатобриан всегда усаживался под своим портретом, написанным в 1808 году живописцем Жироде. Дельфина Ге, которая в 20 лет опубликовала свой первый поэтический сборник, однажды вечером приехала послушать, как Тальма читал поэмы. Она расположилась возле картины, изображавшей Коринну госпожи де Сталь и произнесла: «А я лучше».
Лора д’Абрантес входила в несколько кружков, составленных госпожой де Рекамье. Приглашенные вели беседы на интересующие их темы или непринужденно прохаживались. Госпожа де Рекамье, «одетая в платье из белого муслина, перевязанного голубой лентой, сновала в проходах этого живого лабиринта и говорила каждому несколько дружеских благожелательных слов» (Е. Ж. Делеклюз. «Воспоминания о шестидесяти годах»).
В один из августовских дней 1831 года Бальзак прочитал в этом чарующем месте отрывок из «Шагреневой кожи». Конечно, он выбрал «Оргию». Этот отрывок «получил благосклонное одобрение и 14 июня был напечатан в „Кабине де лектюр“, а 20 июня — в „Волер“».
Этьен Делеклюз присутствовал на этом знаменательном для Бальзака приеме. Перед гостями предстал «коренастый молодой человек среднего роста. Черты его лица, хотя и простоватые, свидетельствовали о чрезвычайно живом уме». Делеклюз подчеркивает «наивную радость» писателя. Ее «можно было сравнить только с радостью ребенка».
Когда Бальзак познакомился с Лорой д’Абрантес, ей исполнился 41 год. По мнению Мириам Лебрен, Бальзак нарисовал ее портрет в «Воспоминаниях двух новобрачных». Лора д’Абрантес хотела иметь греческий нос. Нос Луизы — «тонкий, властный, насмешливый». Длинный нос, «похожий на нос ласки», — внес уточнение Робер Шантемес («Неизвестный роман герцогини д’Абрантес»). Герцогиня любила поболтать, не забывая при этом показать свои ровные зубы. Ее рот был «немного великоват, но очень выразителен».
У герцогини было лукавое и насмешливое лицо, голова, гордо посаженная на длинной шее, которую она грациозно изгибала, если собеседник вызывал у нее интерес.
Лоре д’Абрантес приписывали также «белоснежную шею, восхитительно выточенные грудь и плечи, ослепительные обнаженные руки, заканчивающиеся знаменитыми пальцами» герцогини де Шолье. Правда, по мнению Мориса Регара, все эти любезности Бальзак расточал Еве Ганской. Ведь сюжет «Модеста Миньона» подсказала Бальзаку именно она.
В 1825 году, сразу же после знакомства с герцогиней, Бальзак решил, что Лора д’Абрантес должна непременно написать свои «Мемуары», «изобразить эпоху, которую госпожа Ролан попыталась превратить в период скорби и славы, во всем ее блеске».
Писала ли госпожа д’Абрантес свои «Мемуары», вышедшие в свет в 1831 году, «под участливым руководством Бальзака»? Долгое время господствовала именно эта точка зрения. Но Эрве Руссо доказал, что дела обстояли иначе. Самое большее, что сделал Бальзак, это «прочел рукопись, подсказал продолжение и сделан некоторые сокращения». В письмах к издателю Ландрока, опубликовавшему начало ее мемуаров, а затем к издателю Маму герцогиня не уставала повторять о скрупулезной требовательности писателя, не прислушивающегося ни к чьим советам.
Лора де Берни была для Бальзака возможностью проникнуть в Трианон, чтобы встретиться там с Марией Антуанеттой и ее детьми.
Герцогиня д’Абрантес вела его сквозь имперскую пышность, сквозь величественную эпоху Наполеона, который, словно на театральных подмостках, воздвигнув новую Империю, Кодекс, Европу и архитектуру, распределял награды, титулы и устраивал неслыханные торжества.
Но кто в те времена канителился с женщинами? А ведь им часто приходилось совершать мужские поступки, ибо они оставались в Париже, когда мужчины находились в Ваграме или Эйлау. «Мужчины и женщины, все спешили предаться удовольствиям с той расторопностью, которая, похоже, предвещала конец света». Как и Онорина, женщины той эпохи стремились обзавестись любовником, «не важно каким, лишь бы только он не умирал от любви к ней».
Переписка между Бальзаком и герцогиней д’Абрантес частично утрачена. Письма, найденные Роже Пьерро, относятся к 1825–1838 годам. Это была поистине бурная переписка. Временами Бальзак начинал испытывать к герцогине столь пламенную страсть, что по ночам простаивал под окнами ее особняка в Версале. В письме, которое Роже Пьерро датирует августом-сентябрем 1825 года, Лора д’Абрантес была вынуждена признать себя слишком старой, а Бальзака чересчур молодым. Бальзак пытался поделиться с ней своими тайными надеждами. Он обещал «сделать ее жизнь более прекрасной в будущем, нежели она была в прошлом». «Мы живем лишь душой. Известно ли вам, использовала ли ваша душа все свои возможности?»
Вне всякого сомнения, Бальзак так и не узнал, любила ли его Лора д’Абрантес. Впрочем, знала ли она об этом сама? Она была наделена взбалмошным и, несомненно, как утверждал Меттерних, «кусачим» и немного злым характером. Однажды Наполеон «схватил ее за нос, сжал его так, что она закричала от боли, и сказал: „Негодяйка, а ведь вы злая“». Лора любила театральные эффекты и до мелочей продумала выход Бальзака в свет.
Они прекрасно понимали друг друга. Остроумные, властные, бесшабашные, они предоставляли окружающим повод посмеяться над своими чудачествами, но посмеяться доброжелательно. Бальзак, любивший изучать женщин, часто думал, что Лора и он созданы друг для друга. Но этот роман так ничем и не закончился. Он мог не видеть ее месяцами и даже в 1832 году, когда поползли слухи, что она умирает от холеры, сохранял невозмутимое спокойствие. В 1838 году, чувствуя себя забытой, она написала ему: «В конце концов мне хотелось бы знать, остаемся ли мы по-прежнему друзьями или уже стали людьми, готовыми превратиться во врагов, ибо середины не существует».
И тем не менее Лора вовсе не походила на «покинутую женщину», хотя именно ей Бальзак посвятил этот рассказ в память о Морисе де Балинкуре, бросившем герцогиню в 1818 году.
Когда в 1832 году Бальзак писал это произведение, «их любовный каприз уже давно перерос во взаимные уступки и ошибки. Между ними воцарилась дружба: „Сестра и обожаемый брат“, — говорила герцогиня» (Анна Мари Мейнингер).
Для Бальзака госпожа д’Абрантес была кладезем воспоминаний. Она знала историю, жизнь выдающихся личностей, интриги, скрытые пружины многих поступков. Наделенная незаурядным умом, она любила вспоминать о мужчинах, обладавших великодушием и постоянным характером. Она возбуждала интерес Бальзака, рассказывая ему о своей жизни, изливая перед ним душу, а также кое-что сочиняя, ибо Лора была превосходной рассказчицей. Бальзак использовал в своем творчестве ее рассказы, романы, «Мемуары» и, в частности, как это доказала А. М. Мейнингер, ее рассказ о смерти Шарля де Пона, полномочного министра, чье самоубийство, произошедшее 28 апреля 1796 года, было официально расценено как несчастный случай. Именно самоубийством заканчивается «Покинутая женщина». Лора также знала об истории братьев Мишель де Грийо, банкиров, сколотивших несметное состояние. Один из них был «убийцей», второй — «вором». Мы встретимся с ними в «Красной гостинице», написанной в 1831 году.
Но жизнь Лоры д'Абрантес достойна отдельного рассказа, ведь именно эта женщина разожгла страсть Бальзака.
ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР В УСАДЬБЕ
Как-нибудь я расскажу вам об этой женщине. Мы проведем приятный вечер в Верховенской усадьбе.
Бальзак. Из письма к Еве Ганской
Она родилась в 1784 году и была дочерью Луизы Марии Комнен. Ее мать считала своими предками 6 императоров Византии и 18 королей Колхиды. На самом деле Луиза Мария вела свое происхождение от семьи греческих эмигрантов, выходцев с Пелопоннеса, обосновавшихся сначала в Генуе, а в XVII веке переселившихся на Корсику. Настоящим славным титулом Луизы Марии была ее дружба с Летицией Рамолино. Они дружили с детства. В Аяччо обе девушки воспитывались «в корсиканском духе». Они были дочерьми природы. «Им была неведома ложь, и они без колебаний верили своим впечатлениям».
Они стали матерями одновременно. Летиция сменила девичью фамилию на фамилию Буонапарте и родила восемь детей. Луиза Мария, выйдя замуж за Николя Шарля Пермона, имела всего двух детей и могла помогать подруге. Очень часто она нянчила маленького Наполеона.
Пермон занимал должность поставщика провианта и фуража на Корсику. В течение восьми лет он участвовал в американской Войне за независимость. Там он сколотил себе громадное состояние.
Возвратившись домой, Пермон потребовал, чтобы к нему обращались де Пермон. Он получил пост сборщика налогов в Монпелье, затем купил патент генерального откупщика, то есть право взимать налоги, поступающие в королевскую казну.
Успех Пермона был выгоден всем его друзьям, которых он с распростертыми объятиями принимал в Париже в своем особняке «Силлери», расположенном между нынешними зданиями Института Франции и улицей Гегено.
В 1785 году юный Наполеон Буонапарте, младший лейтенант артиллерийских войск, учился в Бриенне. Семья Пермон предоставила ему комнату, где он много работал. Спустя 10 лет дочерям Пермона Сесиль и Лоре исполнилось соответственно 16 и 11 лет. Отец их разорился и попал в разряд неблагонадежных, то есть созрел для гильотины. Но умер он от тоски. В Париже времен Директории вдова Луиза Пермон слыла интриганкой. Однажды вечером, когда Наполеон зашел к ней в гости, его осенила идея жениться на этой светской женщине; ее юные дочери могли выйти замуж за представителей семейства Бонапарт.
Госпожа Пермон отказала неистовому дивизионному генералу, стоявшему во главе внутренних войск: он был на 20 лет моложе ее.
Луиза Пермон была убеждена, что ее вторая дочь, Лора, многого добьется. В 1800 году, когда ей исполнилось 16 лет, она вышла замуж за Жана Андоша Жюно, гусарского генерал-полковника, «настоящего молодца», по словам Наполеона.
В свои лучшие годы, когда Жюно был влюблен в Каролину Мюрат, Лора имела связь с молодым австрийским послом, Клементом Меттернихом. Потом Жюно отправился воевать в Испанию и Португалию. После победы над Веллингтоном он стал герцогом д’Абрантес.
В 1813 году Наполеон назначил Жюно губернатором Иллирии. В резиденцию, расположенную в Венеции, Жюно приехал в невменяемом состоянии и начал вести себя как Калигула. Вскоре Жюно отозвали в Монбар, где он покончил с собой. Вдове и четырем детям он оставил одни долги, которые постоянно росли из-за процентов.
В 1814 году Лора д’Абрантес, как и Жозефина, нашла некоторое утешение от визита Александра I. С ней поддерживал дружеские отношения Меттерних. Талейран бывал у ее матери запросто, не дожидаясь приглашения.
В 1815 году, после «Ста дней», весь клан бонапартистов попал под подозрение.
Влюбленная в Мориса де Балинкура, к которому благоволили «три грации» Империи — Полина Боргезе, Дезире Бернадотт и Элиза де Флотт, — Лора д’Абрантес была им оставлена и помышляла о самоубийстве: «Для меня выбор таков — либо Морис, либо смерть».
Людовик XVIII назначил ей пенсию в 100 тысяч франков годовых и сохранил за ней право на титул. Она жила тогда в Оржевале, близ Марли, и предавалась двум забавам: увлекалась ботаникой и верховой ездой. В 1818 году ее представили Людовику XVIII как воинствующую роялистку: она яростно выступала против «чудовища, к которому всем сердцем прикипели бонапартисты». В 1830 году она вновь сделалась бонапартисткой, причем возникали подозрения, что она была замешана в политическом заговоре.
Госпожа Виржиния Ансело видела, с каким восхищением Бальзак внимал герцогине д’Абрантес: «Эта женщина видела Наполеона ребенком, а потом — никому не известным молодым человеком. Она видела его в обычной обстановке; она — свидетельница того, как он возвысился и на весь мир прославил свое имя. Для меня она — святая, которая прикоснулась ко мне, спустившись с небес, где жила рядом с Господом».
С 1830 года Лора д’Абрантес оказывала сильное влияние на творчество Бальзака. Он стал меньше писать о жизни частных лиц, ибо его увлекли общественные проблемы. Он сделал свой политический выбор и заинтересовался развитием промышленности.
В январе 1830 года, работая над «Вендеттой», Бальзак пришел к выводу, что «человеческий разум ищет новые пути для достижения великого социального принципа». Именно в 1830 году он изложил свой символ веры: «Государству требуется один Бог, одна вера, один хозяин». Он хотел, чтобы были обновлены общественные институты и созданы новые партии наподобие того, как Наполеон создавал людей и общественный порядок. Вот что писал он Зюльме Карро 28 ноября 1830 года: «В ходе любой революции управленческий гений проявляется в умении переплавлять людей и изменять порядок вещей. Именно это показывает, что Наполеон и Людовик XVIII были талантливыми администраторами. Первый так и не был понят, второй был понятен сам по себе. Они оба поддерживали все существующие во Франции партии, первый — силой, второй — хитростью».
Бальзак проиллюстрировал методы Людовика XVIII в «Загородном бале». Там король ссылает графа де Фонтен, убежденного вандейца, в его поместье, говоря при этом: «Правительство представителей имеет то преимущество, что избавляет от обязанности, которая ранее была возложена на нас, отзывать наших государственных секретарей. Наш Совет превратился в настоящую гостиницу, куда общественное мнение часто присылает заурядных путешественников».
В декабре 1829 года, когда Бальзак писал «Загородный бал», свое основополагающее, по мнению П.-Ж. Кастекса, произведение, он понял, что надвигается революция, поскольку правда об умонастроениях в обществе больше не проникала в кабинет короля Карла X. Революция 1789 года была совершена низами. Революция 1830 года произошла сверху, в результате государственного переворота с установлением режима королевских указов.
ФРАНЦУЗСКИЕ ПРАВЫЕ С 1815 ПО 1830 ГОД
В «Загородном бале» рассказывается история избалованной девушки по имени Эмили де Фонтен. Она влюбляется в юношу, но перед тем как открыть ему свои чувства, задает ему множество вопросов о его происхождении. В результате, узнав, что «прекрасный незнакомец» служит приказчиком на улице Пэ, девушка «впадает в ледяное оцепенение».
В «Загородном бале», написанном в конце существования монархии, Бальзак попытался осмыслить Реставрацию, которая представляла собой войну между противоположными течениями общественного мнения, а также войну между Людовиком XVIII и его братом, будущим королем Карлом X. «Пожалованная Хартия» имела разное значение для роялистов, которые видели в ней благодушную снисходительность короля к своему народу, и либералов, которые полагали, что во Франции установился конституционный режим. В 1814 году Людовик XVIII хотел успокоить умеренных, сформировав либеральное правительство, «отмеченное печатью долговременности и безопасности».
В «Загородном бале» Бальзак вывел на сцену графа де Фонтена, которого Жан-Эрве Доннар сумел идентифицировать. Прообразом Фонтена послужил Антуан Франсуа Клод, граф Ферран, друг Людовика XVIII и один из основных создателей Хартии. Ферран хотел добиться «сплава, прочного союза» двух Франций — революционной и старорежимной.
Бальзак мог узнать об этих событиях из уст членов семьи де Берни, состоявших в родстве с Ферраном. Ферран, принимавший живое участие в судьбе де Берни, крестный отец их последнего ребенка (1815) и свидетель на свадьбе их дочери (1819), ничего не скрывал от де Берни, а у Лоры не было никаких секретов от Бальзака.
Политика Феррана, который отталкивался от реальных фактов и «предлагал подходящие, то есть соответствующие моменту решения», оказала немалое влияние на все творчество Бальзака. «Нужно всегда исходить из того положения, в котором находишься». Конституционное право — это непреложный факт, и мы «должны постараться сделать его таким полезным, каким оно только может быть».
Хартия не утихомирила ультраправых, непримиримым глашатаем которых выступал граф д’Артуа. Людовик XVIII «всегда был революционером», — утверждал Бальзак устами своего персонажа, графа де Фонтена. Виллель говорил: «Хартия настолько изобиловала зародышами революции, что даже интерпретируя ее в монархическом смысле, было бы трудно избежать фатальных последствий».
Людовик XVIII умер от гангрены 16 сентября 1824 года. Он заболел 25 августа, но отказывался ложиться в кровать: «Король может умереть, но он никогда не болеет».
Сразу же после смерти короля Фрессину, уполномоченный произнести надгробное слово, назвал Хартию экспериментом, недостатки которого проявятся по прошествии некоторого времени. Новый король Карл X ни разу не упомянул о Хартии в своей тронной речи. На церемонии коронации в Реймсе Монсей преподнес королю меч Карла Великого, Сульт — скипетр, Мортье — длани правосудия вместе со священным сосудом, подаренным ангелами Хлодвигу; правда, в 1794 году сосуд был разбит, но несколько фрагментов удалось сберечь. Король лег на землю и из «семи отверстий на его белую рубашку пролилось святое миро»… Толпа закричала: «Vivat Rex in aeternum!»[22] Эта церемония стала предвестником наступления реакции. Революция превратилась в один из неприятных эпизодов, о которых следовало забыть ради того, чтобы «привести все социальные классы в то состояние, в котором они находились до 1789 года».
В 1822 году граф де Виллель (1773–1854) вошел в правительство. Он был выдающимся политическим деятелем. Но как член правительства он допустил ошибку, оставшись верным духу своей партии. В течение шести лет вплоть до 1828 года он правил, опираясь на своих соратников, придерживавшихся правых взглядов на правое большинство и проводя в жизнь правую программу. Общество отвергало проправительственную прессу. «Если к каждому гражданину не приставить жандарма, чтобы тот в приказном порядке читал официальные газеты, граждане никогда не станут их читать», — иронизировал Бенжамен Констан. В Палате депутатов Виллелю удалось получить большинство голосов. Нашлись «искусители», которые увещевали депутатов и «обеспечивали итоги голосования усилиями парламентских солдат». За обедом же они превращались в партийные лозунги.
8 августа 1829 года был сформирован ультраправый Совет министров. 17 ноября 1829 года председателем Совета стал Жюль Огюст Арман, князь де Полиньяк (1780–1847). Это правительство не сумело завоевать в Палате депутатов большинство. За его решения голосовали только те, кто хотел устроить государственный переворот.
Зима 1829/30 года оказалась «суровой для простых людей». У бедных не было ни дров, ни хлеба, в то время как богач, разоблаченный в «Кузине Бетте», тратил в год почти два миллиона и «бросал каждый вечер в огонь наряды своей любовницы».
В марте 1830 года Палата депутатов принялась прославлять добродетели короля, «вознесенного на вершину, недоступную бурям», но поддержала право народа вмешиваться в деятельность правительства. Это «непреложное условие поступательного движения общественных дел». 221 депутат резко выступил против министров. Они не хотели ни разрушить королевство, ни положить конец династии. Они требовали от короля лишь распустить Палату депутатов. Карл X придерживался старомодных взглядов и не желал с ними расставаться. «Эти люди не знают, что значит быть королем…» Королевский указ продлил срок полномочий Палаты до октября. Правительство многого ожидало от вторжения в Алжир. Успех операции не вызывал сомнений, а этого было бы достаточно, чтобы образумить Францию. Тем не менее 16 мая Карл X все же подписал указ о роспуске Палаты депутатов. Король призвал избирателей прийти к урнам 23 июня и 3 июля. В эти дни над прессой был установлен жесткий контроль. Знаменитая фраза «король царствует, но не правит», появившаяся в «Националь», стоила трехмесячного тюремного заключения ее главному редактору. Приговор был вынесен также газетам «Глоб» и «Куррье франсэ».
Вопреки прогнозам правительства роялистская партия потерпела поражение и получила всего 143 места, в то время как либеральная оппозиция завоевала 274.
Столкновение между королем и Законодательным собранием казалось неизбежным. Ферран предвидел это: «Требовать от собравшихся вместе и наделенных огромной властью людей, чтобы они не употребляли ее тогда, когда они прощаются или считают, что распростились с революцией, — большая ошибка». В романе «Блеск и нищета куртизанок» Бальзак напишет: «Вы даже не представляете себе, как трудно выполнять произвольные решения. Для конституционного монарха это равнозначно измене с замужней женщиной. Для него это адюльтер». И действительно, думая о грядущих уличных боях, король рассчитывал на помощь роялистов. «Людям короля через некоторое время представится возможность отличиться. От них потребуют проявить преданность. Ваш муж закроет брешь своим телом», — говорил герцог де Гранлье госпоже Камюзо.
Бальзак решил уехать с госпожой де Берни из Парижа именно в июне 1830 года. В глубине души он полагал, что борьба дворянства и буржуазии отражает реальное положение вещей в обществе, жившем в соответствии с принципами XVIII века. В 1830 году уже больше не существовало сословных преград между разбогатевшим средним классом и дворянством, которое по-прежнему продолжало считать себя высшей расой. Лицом к лицу противостояли богатые и бедные. Бедняки питались одним хлебом. Впрочем, зачастую у них не было ни гроша, чтобы купить его. Появились бродяги, покинувшие самые обездоленные провинции. Домом для них отныне стала большая дорога.
Явно находясь под влиянием сен-симонистов, Бальзак ожидал того момента, когда «сотни тысяч семей во Франции испытают это маленькое счастье, которое начинается с первым пескарем, попавшим на крючок после многочасового неуверенного ожидания, и которое заканчивается вместе с разделом властных полномочий в коммуне. Если мы избавимся от мелкого тщеславия, которое дарит народу памятники, фресковую живопись и импозантную аристократию… то станем думать, что ежедневно во Франции рушится город скорби, а тот день, когда ни один человек не протянет руку за подаянием, станет поистине прекрасным».
В ожидании, когда из города скорби воздвигнется город счастья, Бальзак отправился в Турень.
ХИЖИНА, УТОПАЮЩАЯ В ЦВЕТАХ
Госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак с удовлетворением взирала, как ее сын отстранялся от Лоры де Берни. Когда Лора пешком приходила к Оноре на улицу Кассини, она часто заставала там лишь служанку, Флору Делевуа: «Господин ушел». Но Лора не унывала. Она писала своему «котенку», нельзя ли «прийти на улицу Кассини к трем часам?». Она хотела, чтобы Оноре любил ее «небесной любовью». Для Бальзака эти «цветочные гирлянды» превращались в «кандалы каторжника». Даже если он еще и питал привязанность к этой женщине, то тщательно это скрывал, слишком Лора стала назойливой. Ум Лоры де Берни проявлялся в том, что она принимала Бальзака таким, каким от был, «со вспышками гнева, мириадами капризов, отрицанием общепринятых обычаев». Она была права…
В июне 1830 года Бальзак охладел к Лоре. Но он чувствовал себя слишком одиноко, а потому поехал вместе с ней.
Лоре исполнилось 53. Она стала сухопарой. Грудь потеряла упругость, но рот по-прежнему оставался красивым, а «подобие улыбки» смягчало грусть потухших глаз. Чтобы придать своему «овальному, удлиненному лицу» моложавый вид, она заплетала волосы в две косы.
Любовники остановились в Сен-Сире, в предместье Тура, там, где Оноре жил в семье кормилицы. Они сняли дом, который вдохновил Бальзака на написание «Гренадерши». Должно быть, дом напомнил ему о Шарметте, городе госпожи де Варане и Жан-Жака. В Турени ставни всех домов были зелеными, стены — желтоватыми, а первый этаж казался низким, поскольку крыши устремлялись прямо в небо.
Когда-то этот дом был обыкновенной хибарой, но потом его перестроили. Решетчатый забор отгораживал недавние пристройки, а гранатовые деревья скрывали их от посторонних глаз. Низенькая дверь и крутая лестница заставляли предполагать, что помещения здесь тесные и более чем скромные, а на самом деле это был очень просторный дом: «Нигде больше вы не встретите жилища одновременно столь скромного и столь большого, столь богатого растительностью, ароматами, природными видами».
В июне Турень утопала в цветах. Вместе с природой «расцвела» и Лора де Берни. Бальзак получил наслаждение, которое уже и не надеялся испытать, любуясь 53-летней женщиной, превратившейся в королеву цветов Энну. В окна низенького дома, где он работал, не проникали лучи солнца, зато туда порывисто вбегала Лора, высоко, словно яркий факел, держа букет.
Госпожа де Морсоф в «Лилии долины» предоставляет Феликсу де Ванденессу возможность самому составлять букеты. Так Бальзак воздал должное памяти Лоры де Берни. В 1843 году исполнилось два года со дня ее смерти. Очень похожая на нее Онорина тоже делает букеты, но из искусственных цветов.
Бальзака и Лору разделяла семья де Берни и ее многочисленные свойственники: граф Адриен Габриель де Бомон, граф де Лас Каз (1766–1842), описавший жизнь Наполеона на острове Святой Елены, барон Паскье, префект полиции, а затем министр граф Ферран. Помощи в книгоиздательском деле от них ждать не приходилось. Но главное, что разделяло Лору и Бальзака, — Александр де Берни, шестой ребенок в семье де Берни. Бальзак относился к нему как к брату, правда, этот братец оттеснил его от шрифтолитейного станка собственной типографии. Бальзак хотел, чтобы Лора де Берни занималась тем, что у нее получалось лучше всего: корректурой, вычиткой, редактированием, ибо она умела придавать текстам достойный вид и исправлять вкусовые ошибки… Он ругался и отчаянно сопротивлялся, когда кто-нибудь пытался устранить подобные ошибки в его рукописях, но потом, убежденный, уступал. Лора слишком много говорила о своих детях. Она поверяла своему компаньону об их маленьких горестях. Она позволила детям надеяться на красивую жизнь, в то время как смогла завещать им совсем немного. Лора драматизировала: ее дочери чахнут, не имея возможности выйти замуж без приданого. Сыновья «упрекали ее за свою жизнь». Они не получили состояния, соответствовавшего их амбициям. 8 марта 1848 года Бальзак написал Еве Ганской: «В 1830 году я жил одиноко, измученный требованиями старой женщины».
Вероятно, Бальзаком овладела скука, ибо 4 июня 1830 года вместе с госпожой де Берни он отправился к морю. Это путешествие создало у него иллюзию авантюрного приключения, и он возомнил себя «Корсаром» Байрона, «Керноком» Эжена Сю и пиратом Арго.
Сначала на корабле они добрались из Анжера в Нант, потом поехали в Сен-Назер, а оттуда — в Ле Круазик. Один километр пути стоил один су. В течение десяти дней Бальзак плавал, ходил по горам, вдыхал полной грудью воздух и вдоволь загорал на солнце. «В человеческой жизни есть прекрасные мгновения, — писал он в „Драме на берегу моря“. — Небо было безоблачным, море спокойным… Две лазурные степи».
Возвратившись домой, он с радостью рассказывал Виктору Ратье, что «вел образ жизни могиканина», обрел свободу и познал жизнь пирата: «Океан, бриг и потерпевший крушение английский корабль, вот-вот готовый затонуть, — гораздо более впечатляющее зрелище, нежели письменный прибор или перо… И что это за жизнь в маленьких коробках, называемых в Париже квартирами?»
Лечение дикой природой заставило Бальзака забыть об унижении. Он был унижен тем, что ему пришлось отказаться от типографии, что он поступал благородно, а над ним насмехались, что он связал свою судьбу со старой женщиной, что он был вынужден писать ради заработка «Гастрономическую физиологию» и хроники, получая сто франков в месяц, и «Трактат об изящной жизни», в котором образ Лоры де Берни занял треть оговоренного объема.
ТОЛПА — ЭТО НЕ НАРОД
Сегодня вы — народ.
Виктор Гюго. Продиктовано после июля 1830 года
28, 29 и 30 июля, названные впоследствии «Три славных дня» («Свобода, ведущая народ». Делакруа), не оторвали Бальзака от работы и не нарушили его созерцательного образа жизни. «Когда смотришь прекрасной ночью на величественные небеса, возникает желание расстегнуть штаны и помочиться на все королевства». «На все королевства», или вернее правительства, каковыми бы они ни были. Для Бальзака «Три славных дня» — это даже не свет, а лишь зарево, вспышка, или, лучше сказать, лай собак в темноте, причем собак малочисленных, готовых поскорее разбежаться по теплым углам.
В письме, адресованном Виктору Ратье, редактору «Силуэта», Бальзак ясно дал понять, что не желает иметь ничего общего с парижской сумятицей. Он хотел остаться человеком вне общества, человеком, слившимся с природой: «О! Если бы вы знали, что такое Турень! Здесь забываешь обо всем… Турень дает восхитительное объяснение лаццарони. Отсюда мне удалось взглянуть на славу, на Палату депутатов, на политику, на будущее, на литературу как на настоящие пули, отлитые для убийства бродячих бездомных собак и я сказал себе: „Добродетель, счастье, жизнь заключаются в 600 франках ренты на берегах Луары“» (11 июля 1830 года).
Известно, что, вопреки настоятельным увещеваниям родных и друзей, Бальзак никогда не имел постоянного места работы. Уже в 1820 году он писал сестре: «Если я поступлю на службу, мне грозит погибель. Я стану клерком, машиной, цирковой лошадью, которая пробегает 30 или 40 кругов, ест и пьет по часам. Я сольюсь с толпой. Как смеют называть жизнью движение мельничных жерновов, бесконечное однообразное вращение!»
Оставшись в Туре до 10 сентября, Бальзак упустил счастливый случай. Июльская революция сослужила добрую службу «литературному братству». Вчерашние журналисты, занимавшиеся бумагомаранием и строчившие трактаты, путеводители, кодексы, дорвались до власти. Стендаль отправился консулом в Триест, Эмиль де Жирарден стал генеральным инспектором музеев и художественных выставок, затем депутатом, Александр Дюма получил должность хранителя библиотеки Пале-Рояля, Мериме занял пост в министерстве торговли и общественных работ, Виктор Боэн, купивший в 1826 году «Фигаро», на несколько недель был назначен префектом департамента Шарант, Филарет Шаль — атташе французского посольства в Лондоне, а Огюст Минье занял должность архивариуса в министерстве иностранных дел. Вскоре служить новому режиму будет означать извлекать выгоду для себя.
«Три славных дня» обернулись для Бальзака двойным поражением. Всей жизнью бедного писателя, ремеслом типографа, полуночными прогулками Бальзак был неразрывно связан с Парижем, а потому опасался бунта нищих, этих «уродливых и худосочных образин, ведомых убийцами и продажными девками». Эта полуголодная толпа была способна «убивать со всей самоотверженностью невинности».
Республиканцы организовали сопротивление и повели толпу на бой. Через три дня либерал-монархистам удалось совершить невероятное: они положили конец революции. Поговаривали о какой-то уловке. На самом деле республиканская партия внушала страх: все боялись возвращения 1793 года и толпы, угрожающей безопасности отдельных граждан и собственников.
Посредники короля и депутатов были в панике. Они видели, как на улице Сен-Дени, около рынка Инносан, на улице Ришелье или на улице Сен-Антуан возникал неведомый им Париж. Там появлялись люди, жившие в убогих лачугах и разогретые июльским жаром. Они были воплощением нищеты: полуобнаженные женщины, мужчины, одетые в разорванные блузы и брюки, которые держались на обрывке веревки, перекинутой через плечо. Они были босы, и лишь на некоторых были обуты стоптанные башмаки. За эти три дня были убиты 163 стража правопорядка и ранены 578. Бунтовщики потеряли 1800 человек убитыми и 4500 ранеными. В итоге толпа вернулась в свои мастерские и лачуги, но в течение всего царствования Луи-Филиппа то тут, то там происходили вооруженные стычки. А в феврале 1848-го толпа вновь вышла на улицу. На сей раз у нее появились новые вожди. В 1830 году Кавеньяк, которого Бальзак хорошо знал, сказал о республиканцах: «Мы были бессильны». А Бланки, ворвавшись в салон мадемуазель де Монгольфье, крикнул: «Прогоните романтиков!» В его глазах романтики олицетворяли готику, Средневековье, святош.
Но из нынешней революции можно было извлечь один урок. Говорят: «Ждите и смотрите». Карл X ждал. Тьер и банкир Лаффит ждали. В своем замке в Нейи ждал герцог Орлеанский. Они ждали, хотя депутаты вновь созвали заседание Палаты. Пэры Люксембург, Тьер и Жирарден вновь начали выпускать свои газеты. Банкиры ждали, чтобы рента, упавшая до 84, 50, поднялась до 125. Словом, все ждали, как скажет Гюго, когда «право сокрушит деяния».
Будущий король, казалось, был воплощением долга, взяв власть в свои руки. Провозглашенный генеральным наместником королевства 9 августа Луи-Филипп был избран королем. Королем, пообещавшим окружить трон республиканскими институтами, Королем французов, но не милостью Божьей королем Франции. Церемония коронации была заменена церемонией принесения присяги.
ОЧЕНЬ «МОДНЫЙ» БАЛЬЗАК
25 июля 1830 года Бальзак, взятый в оборот редакторами «Трактата об изящной жизни», который должен был быть опубликован в «Мод», пешком преодолел 15 километров. Он шел из «Гренадьеры», расположенной в пригороде Тура, в Саше, к своим друзьям Маргоннам. Именно этим путем пройдет Феликс де Ванденесс из «Лилии долины». Бальзак любовался мельницами и слушал скрип их крыльев, «озвучивающих долину» Эндра. Он брел по берегу реки, восхищался островами, «небольшими пригорками мелкого галечника, о которые разбивались волны», «коврами», сотканными водной растительностью.
Возвратившись в «Гренадьеру», Бальзак вновь взялся за перо. Он написал книгу о том, как добиться счастливой, изящной и «гастрономической» жизни, и при этом ему постоянно казалось, что он вот-вот умрет от скуки.
«Трактат об изящной жизни» представляет собой юмористическое эссе. При этом автор не стремился ни к какой иной цели, кроме получения гонорара.
Для того чтобы придать трактату большую убедительность, Бальзак дал читателям понять, что редакторы «Мод» Жирарден, Лотур-Мазере и сам автор встречались с Джорджем Брианом Бруммелем (1778–1840), англичанином, следящим за веяниями моды. Они взяли у него интервью в Булонь-сюр-Мер сразу после того, как он проснулся. Это была встреча с обедневшим, потрепанным Бруммелем, но это не помешало хозяину принимать гостей «в соответствии со всеми правилами хорошего тона».
Роза Фортассье, опубликовавшая прекрасную книгу о писателях и веяниях моды, провела серьезные изыскания. Она утверждает, что Бальзак никогда не встречался с Бруммелем, а сам Бруммель в описываемый период находился не в Булони или Кале, а в Кайене, куда был назначен на должность консула Его Величества короля Великобритании.
Эта должность спасла Бруммеля от нищеты, и он смог приехать в Париж, где познакомился с Талейраном, княгиней Багратион, Виктором Гюго, которого он сравнивал с «нашим Байроном». Интервью с Бруммелем было воображаемым.
И тем не менее Бальзак провел большую подготовительную работу: он прочитал «Пелем, или Приключения английского джентльмена» Булвер-Литтона и «Грэнби» лорда Норманби.
Эти две книги привели Бальзака к убеждению, что изысканность манер вырождается. Буржуазная Франция, лишенная дворянства, корпусов управления и суда, цеховых гильдий, наполеоновских парадов, стала единообразной и монотонной. Ее словно одели в униформу. Аристократия доживала свои последние дни. Отходили в прошлое этикет и условности. Оставалась лишь существенность, которая означала действительность, возведенную искусством в истину.
Вышли из моды галстук, повязанный вокруг шеи, жабо, длинные ресницы, плотно облегающие фигуру брюки, парики. Теперь мужчины носили усы или округлую бороду, напоминающую воротники эпохи Возрождения. Никто ни перед кем не снимал шляпу. А на смену туфлям пришли сапоги.
Так выглядел современный денди. Его еще называли «эстетом», «щеголем» или львом, а поскольку слово «денди» не имеет женского рода, можно говорить о львицах.
В эпоху романтизма в театрах или на ассамблеях юноши и женщины теряли над собой контроль. Они судорожно рыдали или истерически хохотали до изнеможения. Денди же всегда сохраняли невозмутимый вид. Они не принимали участия в романтическом исступлении и революционном брожении.
Денди избегал всепоглощающего труда. Ни один занятой человек не смог бы два с половиной часа в день уделять своему туалету, как это делал Анри де Марсей. Мужчины и женщины проявляли свою истинную сущность лишь во время отдыха. Изящество требует внутреннего совершенства. Искусство выбрать галстук, ленту или корсаж, как и любое другое, требует долготерпения. Говоря обо всем этом, Бальзак прежде всего имел в виду суматоху наполеоновского общества, которое так стремительно ввел в свет Император.
В «Шагреневой коже» Бальзак настоятельно советует соблюдать чувство меры, ибо тело не в состоянии справиться с нарушениями привычного образа жизни, связанного с пламенной страстью, неумеренными желаниями, жаждой золота и могущественной власти. В это время дендизм превратился в норму поведения тех, кто не желал «доводить себя до изнеможения». «Честолюбцы должны идти извилистым путем, — писал Бальзак, — самой короткой дорогой в политике». «Этот извилистый путь, — пишет Роза Фортассье, — пролегал через бульвары, террасу фельянов, тир Гризье, а вовсе не через Юридическую школу или министерские кабинеты». Денди Дизраэли, Наполеон III, никогда не расстававшийся с сигарой, Кавур, Бисмарк, будто бы выпивавший десять бутылок шампанского в день, признали правоту Бальзака.
Если костюм перестал быть только одеждой, но превратился в признак хорошего вкуса, значит, следует ожидать появления нового типа аристократии, аристократии приличного общества. Это общество объединено только полетом высокой фантазии. Иерархическая субординация обретает расплывчатый характер: здесь можно встретить нотариуса и мелкопоместного дворянина, прелата и лакея.
Прикрываясь легкомысленными словами, Бальзак в своих «трактатах» и главным образом в «Теории поступков», опубликованных в номерах «Литературной Европы» с 15 августа по 5 сентября 1833 года, высказал очень важную идею, которая будет подхвачена и окончательно сформирована Бодлером, идею о современности. С традициями покончено, дорогу воображению! Необходимо создать новую манеру чувствовать, новый образ жизни вне классов и сословий. Если новые потребности не укоренятся, пролетарии, оставшись один на один со своими проблемами, окажутся не у дел. Бальзак верил, что художник может сыграть решающую роль в обществе, если даст работу рабочему.
Чернь, устраивающую беспорядки, необходимо обеспечить работой. Бальзак никогда не забывал о народе, который «своими грязными руками вытачивает и покрывает позолотой изделия из фарфора, шьет фраки и платья, отбивает пеньку и волокно, полирует бронзовые изделия, режет по хрусталю, изготавливает искусственные цветы, расшивает золотыми нитями материю, объезжает лошадей, делает сбрую и упряжь, гранит алмазы…» При составлении перечня ремесел Бальзак пользовался «Отрывками из статистических исследований, проведенных в городе Париже и департаменте Сена», вышедшими в 1824 году.
«СЛАВНЫЕ ДНИ»
И вновь свобода распахнет свои объятья.
Кантата
К 10 сентября Бальзак вернулся в Париж с «литературными запасами». Он первым делом бросился к своей излюбленной сомнамбуле[23], настоятельно подчеркивая, что «весьма озабочен своей судьбой». Он отправился в Одеон, где шла пьеса в стихах «Люди завтрашнего дня» Виоле д’Эпаньи. Эта пьеса заставила Бальзака призадуматься. Помощник начальника заперся в подвале своего дома, когда революция достигла апогея. Спустя несколько дней он все-таки попытался вернуть себе доброе имя.
«Три славных дня» можно охарактеризовать следующим образом: революция, совершенная подростками и рабочими, выбросила за борт 50-летних парламентариев. После 10 августа возобладали совершенно иные принципы правления. Необходимо было «подбодрить трусливых» и облечь доверием «совестливую Палату депутатов» (Ремюза). Отныне каждый герой июля превратился в мятежника, а манифестации выливались в восстание. Устанавливалось господство среднего класса: средний класс отверг тех, кто находился выше него, и отказался допустить до себя тех, кто оказался ниже. От выдающихся революционеров Кавеньяка, Пьера Леру, Бастида, Жубера потребовали соблюдать «нейтралитет в возможной борьбе с введенными в заблуждение массами». Июльская революция — это революция политическая, отнюдь не социальная. Социальным проблемам придется ждать своего часа еще 18 лет, когда наступит «славная возня», как скажет Шатобриан.
Луи-Филипп установил режим добровольно признанной, а не навязанной монархии. Слово «выборы» исчезло из лексикона. Его заменило слово «договор», которое не обязывало проводить референдумы и всеобщее голосование. Монархия приобрела цензовый и одновременно парламентский характер. Правитель «клялся поступать в соответствии с подлинными интересами, счастьем и славой своего народа». Текст присяги был поставлен на голосование в Палате депутатов. Из 428 депутатов «за» проголосовали 219, «против» — 33; он прошел благодаря тому, что в момент голосования бывшие правые покинули зал. Этого было достаточно для того, чтобы кокарда и трехцветный флаг заменили белое знамя. Отныне депутатом можно было стать в тридцать лет вместо сорока, имущественный ценз, дающий право избирать и быть избранным, уменьшился вдвое, а муниципалитеты тоже сделались выборными. Король стал королем французов, как когда-то Наполеон был их императором. Католическая религия перестала быть государственной, а для прессы была отменена цензура.
В 1830 году, без лишнего шума, во Франции установилось президентское правление, подобное тому, что существует и сегодня. Правительство заявило о своей готовности способствовать объединению всех мнений. «Династия, основанная на героизме рабочих, должна основать что-нибудь и для будущности этих героев-рабочих» (Шарль Дюпен). Действительно, на площади Бастилии была заложена Июльская колонна. В 1840 году здесь торжественно захоронили останки героически погибших в июльские дни. А в феврале 1848-го к ним присоединились те, кто сложил голову, сражаясь против Луи-Филиппа и его ставшего ненавистным режима.
ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО
Все эти события не вызвали никаких перемен в жизни Бальзака.
Он по-прежнему был озабочен выплатой долгов и потому работал не поднимая головы. Пристраивал рукописи, едва успевая погашать долговые обязательства, расписки, векселя, проценты… С 25 июня все эти бумаги начал коллекционировать его кузен Шарль Седийо.
«Работаю день и ночь […]. Боюсь, вместо сердца могу предложить своим друзьям лишь тяжкое бремя» (20 сентября 1830 года).
Книгоиздательское дело прогорело. «У меня остался единственный источник доходов — газеты, и я едва успеваю исполнять все, что они требуют».
По сравнению с любовью дружба казалась ему «холодной звездой», но именно на нее рассчитывал Бальзак, намереваясь выбраться из своего нелегкого положения.
В 1829 году он задумал поселиться у Иасента Тибо де Латуша (1785–1851), который жил в Оней, в простом деревенском доме близ Вале-о-Лу. Латуш отказался принять его. Во-первых, потому, что у него не было лишней кровати, а кроме того, Оноре и в голову не могло прийти хотя бы прибраться на столе, за которым он работал. «Мне дня не хватит, чтобы навести порядок в доме. А кто будет ходить за покупками, кто, как каторжный, будет заботиться о дровах, обедах и ужинах?»
Но однажды Бальзак все-таки отправился к Латушу, о чем нам стало известно из забавного рассказа Анри Монье. Если верить ему, то для поездки в Оней, расположенный в 20 километрах от Парижа, Бальзак снарядился как заядлый путешественник: кожаные гетры до колен, битком набитый ранец, непромокаемая фуражка… Под крестьянской блузой он припрятал пару пистолетов и топорик — прорубать дорогу. Дилижанс высадил его в Со.
Отворивший ему дверь Латуш, приверженец режима и порядка, не смог скрыть раздражения. Бальзак повел себя возмутительно: наследил на паркете, натащил в дом дорожной грязи, раскидал вещи… Латуш слишком любил чистоту своего жилища, чтобы удержаться от резких замечаний. После ужина гость и хозяин отправились на прогулку в парк Плесси-Пике. И снова Бальзак довел Латуша до белого каления, потому что говорил не закрывая рта, кричал и кипятился, даже не слушая, что ему отвечают.
На следующее утро Бальзак вернулся в Париж.
С 1829 года Бальзак часто виделся с Виктором Ратье (1807–1899). Этот издатель и литограф, такой же сын торговца, как Бальзак и Жирарден, уже в феврале 1829 года понимал, что благодаря новым способам печати типографское дело ждет блестящее будущее.
На улицу Кассини Ратье заходил запросто, по-соседски. Правда, стол здесь был не слишком изысканный. Автор «Гастрономической физиологии» довольствовался бифштексами с салатом и пил одну воду. Зато у него была масса идей. Именно с Ратье Бальзак делился своими планами нескольких статей о том, как делать хорошие репродукции с картин, книг или гравюр.
«Вы ведь понимаете, — говорил Бальзак Ратье, — что добрый дружеский совет дорогого стоит, хоть за него и не платят денег. Ведь добрый совет — это идея, а идея — уже состояние».
Чего-чего, а идей у Бальзака хватало. Основанный 31 октября 1829 года Ратье, Дюрье и Луи Белле «Силуэт» попытался привлечь читателя особой виньеткой, нарисованной «мазилой-ниспровергателем», специалистом по «литографским камням» Шарлем Филипоном. Бальзак помог Филипону с 1 ноября 1830 года наладить выпуск «Карикатюр» и даже написал для этого издания «Обращение к читателям», опубликованное в начале пробного номера. В области изящных искусств «Карикатюр» стала примерно тем же, чем для литературы было «Общество подписки», позволявшее распространять те или иные произведения значительным тиражом по небольшой цене. Помимо литературного еженедельника «Карикатюр» предложила читателям дополнительные 140 полос иллюстраций меньше чем по 50 сантимов за штуку. «Сегодняшнее искусство, — писал Бальзак, — может ожидать от власти лишь ничтожной платы. Только народ может платить художникам. Со стороны автора гораздо благороднее получить плату за свое произведение от публики, чем надеяться на пособие из королевской казны»[24].
Бальзак сотрудничал с «Карикатюр» совсем недолго, но именно здесь он почерпнул идею создания «характеров». Множество портретов-шаржей, выполненных рисовальщиками журнала, послужили моделью для второстепенных персонажей «Человеческой комедии».
Бальзак признавал, что в Париже существует «особая литература, творения которой вполне соотносимы с сумасшедшими идеями наших карикатуристов».
Ратье и Филипон воплощали в рисунки и литографии идеи, которые подавал им Бальзак, тогда как для Эмиля де Жирардена он оставался всего лишь одним из сотрудников.
Эмиль де Жирарден родился в 1806 году и был незаконным сыном графа Александра де Жирардена, капитана гусаров, в свою очередь, сына маркиза де Жирардена, друга Жан Жака Руссо. Ребенка записали под именем Эмиля Деламота. Отрочество он провел вдали от родителей, в Нормандии, и в Париж приехал лишь в 1823 году. Вначале его пристроили в королевскую свиту, затем сделали помощником биржевого маклера. В 1827 году он выпустил в свет автобиографический роман «Эмиль», решив взять фамилию отца. Практически он «узурпировал» это имя, поскольку его отец, генерал и обер-егермейстер Карла X, не пожелал признать своего незаконнорожденного сына.
Жирардену удалось добиться почетной должности заместителя инспектора изящных искусств. Род занятий вынуждал его посещать салоны. Так он попал к мадам Софи Гей (1776–1852), семья которой, разорившись во время Революции, сумела поправить свое положение. Софи вышла замуж за финансиста Директории Гаспара Лиотье, но вскоре порвала с мужем, чтобы вторично выйти замуж, на сей раз за Жана Сигисмона Гея (1768–1822), от которого у нее родились сын и две дочери. Одна из дочерей, Дельфина, еще ребенком начала сочинять стихи, которые читала в салоне мадам Рекамье. Она стала женой Эмиля де Жирардена. Софи Гей писала романы, пьесы для театра и статьи. Она не была богата, но в ее салоне никто не терял времени даром. Здесь собирались романтики, в том числе Виньи, Гюго, Шатобриан и Ламартин.
В октябре 1829 года Эмиль де Жирарден приступает к выпуску «Мод». Газета выходит четыре раза в месяц и, как говорилось в рекламном проспекте, представляет собой «роскошное издание по умеренной цене». Первоначальный тираж всего за полгода вырос с 500 до двух с половиной тысяч экземпляров. В качестве девиза газеты Жирарден провозгласил: «Мода рождается отнюдь не под взмахом ножниц. Избранные представители парижского общества ежедневно изобретают ее истинный, но преходящий облик». Провинции остается лишь подхватывать новые идеи, разумеется, при условии, что эти идеи до них доходили.
«Мод» претендовала также на причастность к высшему свету. На ее страницах найдет отражение жизнь двора и австрийского посольства, салонов и бульваров, одним словом, всех тех кругов, где «благородное предместье соприкасается с банкирами, артистами и любителями развлечений».
«Мод» предоставит возможность самовыражения женщинам. Журналисты, понимающие толк в женских проблемах, не обманут ожиданий читательниц, рассказывая о браке, семье, воспитании детей, а также о праве женщин на образование и женских свободах.
Именно «Мод» стала провозвестником женского движения, опередив и Виктора Консидерана, в 1848 году потребовавшего предоставления женщинам права голоса, и Пьера Леру, предложившего первый проект соответствующего закона.
«Физиология брака» увидела свет благодаря «Мод» и «Волер».
26 февраля 1826 года Бальзак, Эмиль де Жирарден и Ипполит Оже основали «Фельетон политических газет», посвященный обзору литературы и книг по искусству. Это была первая попытка предоставить знаменитым писателям возможность заявить о себе посредством многотиражного издания. Жирарден выделил авторов, чьи книги вышли тиражом в две с половиной тысячи экземпляров. Таких оказалось двое: Польде Кок и Виктор Гюго. Затем шли писатели с полуторатысячным тиражом: Бальзак, Эжен Сю, Жюль Жанен и Фредерик Сулье. Тиражи Мюссе и Готье не превышали шестисот экземпляров.
Бальзак сразу же выдвинул идею: знакомить читателей с книгами, выпуск которых только планируется, рассказывая о них или публикуя отрывки.
С марта по май 1830 года Бальзак активно сотрудничал с «Фельетоном». Газета лопнула из-за того, что на последней странице печатала список книг с указанием их цен, но не тех цен, по каким их предлагали книготорговцы, а почти не превышавших себестоимости. В марте 1830 года прямо в помещении редакции «Фельетон» организовал торговлю книгами, о которых рассказывал на своих страницах, посягнув тем самым на права провинциальных книготорговцев. Между тем Жирарден нуждался в их содействии, потому что именно они занимались распространением «Мод» и «Волер».
В мае 1830 года Бальзак оставил пост директора этого еженедельника, и руководство им перешло к Ипполиту Оже и Э. Сен де Буа-ле-Конт. «Фельетон» постепенно становится скорее политическим, чем литературным изданием. Ролан Шолле считает, что перу Бальзака принадлежит около двух десятков статей, в том числе язвительная критика «Эрнани». Относительно остальных 20 текстов «авторство Бальзака допустимо».
В 1830 году Жирарден оставил «Мод», перекупленную легитимистами, превратившими ее в оппозиционный журнал, на который, наряду с такими левыми газетами, как «Карикатюр» и «Шаривари», будут направлены нападки правительства.
Сам Жирарден после 1830 года продемонстрирует полную благонадежность. Основав «Национальную гвардию», он обратится затем к выпуску изданий образовательного или развлекательного характера: «Семейного музея» (40 тысяч подписчиков); «Газеты учителей начальной школы»; «Газеты полезных знаний», содержащей практические советы на все случаи жизни, от земледелия до металлургии (132 тысячи подписчиков); «Французского альманаха» (тираж 1300 тысяч экземпляров). В 1834 году, прибавив себе два года, — 28-летнему Жирардену именно столько не хватало до достижения возрастного ценза — он добивается избрания депутатом от города Бурганеф. Еще два года спустя, в 1836 году, он вместе с Арманом Дютаком, директором «Права», попытается основать ежедневную газету, которая благодаря привлечению рекламы останется очень дешевой (40 франков в год). В отличие от Соединенных Штатов, где рекламные сообщения позволено набирать лишь самым мелким шрифтом, во Франции пока никаких ограничений на рекламу нет. Но соглашению Дютак-Жирарден состояться не суждено. 1 июля 1836 года Дютак откроет «Сиекль» и выкупит «Шаривари», а Жирарден станет основателем «Прессы».
ЖУРНАЛИСТ И РОМАНИСТ
Журналист описывает жизнь как она есть. Романист ищет в ней драматическое начало. Сила Бальзака в эти 30-е годы проявилась в том, что он понял: ремесло журналиста, дающее скромное, но прочное материальное положение, не должно парализовать в нем романиста, каким он продолжал оставаться. Но… газета платила наличными, а дохода от будущей книги приходилось ждать, да и можно ли было на него рассчитывать? Активное сотрудничество сразу с несколькими газетами позволило Бальзаку осознать собственный поистине пантагрюэлевский размах. Он неимоверно много работал, писал буквально на любую тему. Его материальное положение улучшилось, и он уже мог рассчитаться с самыми тяжелыми долгами. Кроме того, благодаря этой работе у него установились многочисленные дружеские связи с журналистами. Он стал известным, ведь газета — это целый мир. И, наконец, благодаря столь разносторонней деятельности, Бальзак начал ощущать собственную двойственность. Реализм и острое внимание к деталям придавали захватывающую правдивость измышлениям сочинителя, который, в сущности, всегда презирал реальность.
По мнению Ролана Шолле, «Шагреневая кожа» «отмечена элементами журналистики […]. Ее меткий и причудливый язык строится на эффектном сочетании элементов тайны, ужаса, поэзии и даже комизма». Таков вдохновенный труд писателя-журналиста.
Приглашая Бальзака к сотрудничеству в «Волер», Жирарден думал не о гениальности и грядущей вечной славе своего автора, но о возможности опубликовать в «Ревю де де монд» его «Проклятое дитя», в «Парижском журнале» — «Отца Горио», а в «Прессе» — «Старую деву». «Широким вниманием публики и признанием его чисто литературного творчества Бальзак-романист обязан Бальзаку-журналисту» (Ролан Шолле).
Своим званием «самого плодовитого из наших прозаиков» Бальзак во многом обязан также доктору Луи-Дезире Верону (1798–1867). Журналист и фармацевт, Верон наладил удачное производство «мази Реньо», что позволило ему накопить средства, необходимые для издания престижного «Ревю де Пари», «предназначенного для высшего круга». Первый номер журнала вышел в апреле 1829 года.
1 марта 1831 года Верон получает назначение директором Оперы и оставляет журнал Шарлю Рабу, другому близкому другу Бальзака.
Верон рассказывал, что руководил журналом так же, как впоследствии стал руководить Оперой, — на слух. «Я прислушивался и заранее изучал возможности своих теноров, баритонов и первых басов». Бальзака, наряду с Мюссе, он считал «одним из лучших теноров, способных очаровать и взволновать».
В «Шагреневой коже» и «Утраченных иллюзиях» Бальзак называет занятия журналистикой самоубийственными. Журналистика может быть «разумом народов» или «религией современных обществ», все зависит от народа или общества. Но журналист, вынужденный писать все обо всем, распыляет свой дух и обедняет свои чувства. Вот почему, сотрудничая в прессе, Бальзак старается хранить и не давать угаснуть высшим ценностям, какими жива большая литература. Уважение к тексту и уважение к читателю не дают ему забыть об истинном и вечном.
В «Ревю де Пари» и «Ревю дэ дё монд», который снова начал выходить с 1 февраля 1831 года под руководством Франсуа Бюлоза, статьи Бальзака печатаются за подписью автора. В изданиях Жирардена, особенно в «Волер», имени Бальзака нет. Такова хитрая особенность эпохи: каждая статья «отчуждается в пользу читателя, заранее оплатившего подписку, и официально становится общественным достоянием». С января по май 1830 года Бальзак одновременно сотрудничал с четырьмя литературными газетами: «Волер», «Фельетоном политических газет», «Силуэтом» и «Мод». Вернувшись в Париж после революции 1830 года, он продолжает «множиться». Публикует еще семь статей в «Мод», вскоре купленной легитимистами, сотрудничает с «Тан» — газетой министерства Лаффитта (со 2 октября по 20 ноября 1830 года здесь напечатано семь его статей), пишет две статьи для «Силуэта» и еще три десятка для «Карикатюр» (два последних издания представляют республиканскую прессу). Но большую часть своей журналистской активности он отдает «Волер» Жирардена, куда его пригласил Шарль де Лотур-Мезерей. За твердое ежемесячное жалованье в сто франков Бальзак пишет по три «Письма о Париже».
Шарль де Лотур-Мезерей, родившийся в Аржантане, был сыном нотариуса и потомком одного из историографов Людовика XIII. Как журналист он не отличался блеском пера, зато его переполняли идеи. Прославился он в основном как «светский лев»: его называли «господином с камелиями», а гостей он принимал лежа на диване в кабинете, отделанном в восточном стиле.
Соученик Жирардена в Аржантане, Лотур-Мезерей прибыл в Париж после того, как друг его детства преуспел здесь в издании периодики. Он также посчитал, что, начав выпускать газету, найдет в этом занятии не только развлечение, но и способ заработать. Поскольку ни у Жирардена, ни у Лотура-Мезерея капиталов не было, «Волер», в полном соответствии со своим названием[25], брал для перепечатки материалы из 120 выходящих в Париже газет. Практика заимствования из чужих статей была в то время широко распространенным явлением, «Волер» же проделывал это довольно тактично и изобретательно, к тому же старался отражать разные точки зрения, особенно если требовались «точный анализ и справедливая критика».
Вскоре Эмилю де Жирардену и Шарлю Лотуру-Мезерею удалось набрать целый штат редакторов, прекрасно владеющих иностранными языками. Эти сотрудники переводили статьи из немецких и английских газет, а также литературные тексты, причем делали это так хорошо, что перевод мог сойти за оригинальное произведение. Наряду со страницами, посвященными французским городам и даже деревням, заимствованными из провинциальной прессы, благодаря «перепечатке», получавшей «общенациональное звучание», в «Волер» находилось место не только для всей Европы, но также для Америки и стран Востока.
Разнообразие и актуальность информации превратили «Волер» в издание по-настоящему популярное. Разумеется, статьи, которые Бальзак писал для «Силуэта» или «Физиологии брака» тоже становились предметом «кражи», но работа в «Волер» оказалась для романиста хорошей школой. Именно «Волер» помог Бальзаку понять, что современность живет сенсацией, что сенсация, в свою очередь, таится в буднях и что лучший сюжет для романа — не история, зло или Бог, а человеческая правда эпохи, увиденная во всем многообразии своих граней. Газета, любил повторять Бальзак, «заряжается светом от сияющего источника, чтобы потом нести свои лучи сонным обитателям провинции».
«Волер» печатал судебную хронику, зачастую напоминавшую настоящий детективный роман; в рубрике моды провинциальные дамы находили информацию, позволявшую держаться в курсе изменчивых канонов парижской элегантности. За театральную хронику отвечали сами директора издания.
«Волер» снискал настоящий успех. За несколько месяцев его тираж вырос с 500 до 1500 экземпляров. Уплатив всего 22 франка в год, подписчик получал целый «читальный зал» на дому. В рекламном проспекте указывалось, что «Волер» — «газета, состоящая из 180 тысяч строк и 7200 тысяч букв ежегодно». В 1829 году газета выходила уже каждые пять дней.
Комиссия книгоиздателей, образованная в 1830 году, недвусмысленно указала на вред, приносимый профессии кражей литературных материалов. Но призывы комиссии канули в пустоту. Читатель предпочитал покупать газету, в которой ему, пусть и в перевернутом виде, рассказывали сразу обо всем.
Опасность подстерегла издание совсем с другой стороны.
«Волер» дал образец того, чего может достичь «газета перепечатки». Но кто сказал, что нельзя украсть и у «Волер»? Именно так поступил «Литературно-политический вор», который начал выходить с 5 октября 1829 года в том же самом формате, печататься в той же типографии и с той же периодичностью, что газета Жирардена. Последнему оставалось лишь возопить о «бессовестной узурпации».
Последовало судебное разбирательство. «Волер» защищал свою позицию, опираясь на такие аргументы, как оригинальность идеи, польза информации и труд «образованных и старательных» переводчиков. Жирарден привел выдержки из писем авторов, которые считали для себя «честью удостоиться воровства, при условии, что в газете указаны их имена».
На страницах «Волер», указывает Брюс Толлей, «до сих пор скрываются непризнанные статьи Бальзака». Ролан Шолле, тщательно изучивший эти материалы, занимает более сдержанную позицию и помимо «Писем о Париже» признает за Бальзаком всего около 15 оригинальных статей. Но работа в «Волер» и других периодических изданиях не прошла для Бальзака бесследно. Дыхание многоликой современности, ее живой интерес захватили его и заставили отказаться от жанра исторического романа.
Еще в 1825 году, в Турени, живя затворником в «Гренадьере», Бальзак набрал в библиотеках исторических хроник, необходимых для создания капитального труда под названием «Живописная история Франции», который замыслил как цикл романов «о царствовании каждого из французских королей». Каждый очередной том предполагалось выпускать ежемесячно и распространять по подписке, как газету.
В письме к сестре, датированном ноябрем 1821 года, он перечислил заглавия будущих книг. К 1825 году у него уже сложился цельный план грандиозной исторической фрески — от царствования Каролингов до падения Наполеона. В письмах к графине д’Абрантес он требует все новых и новых подробностей об «украшениях, мебели, одежде во времена каждого из царствований». В предисловии к «Мужикам» — первой версии «Шуанов» — он сообщает о своем намерении «сделать всеобщим достоянием историю своей страны».
Провал «Шуанов» и успех «Физиологии брака» перевернули его планы. Он больше не хочет создавать романов об Истории. Теперь его больше занимает жизнь. Впрочем, он вернется к исторической теме в 1835 году, работая над «Тайной дома Ружиеров».
Приобщение к журналистике доказало Бальзаку, что между Историей, от которой читателю ни жарко ни холодно, и обжигающей современностью, нет ничего общего. Лишь последняя представляет интерес для общества, особенно пристально внимающего событиям, которые могут нести угрозу существованию семьи, собственности, благополучию… Бальзак начал писать романы не потому, что стремился пересказать события современности, а потому, что искал ответа на вопрос, почему и как они произошли или могли произойти.
«СОПРАВЛЕНИЕ»
Это словечко пустил в обиход Людовик XVIII, мечтавший, чтобы политика стала предметом обсуждения между либералами и монархистами, которые, не изменяя своей принадлежности к разным партиям, успешно сотрудничали бы в правительстве. Луи-Филиппу настоятельно требовалось в свою очередь изобрести некий принцип, который мог бы увлечь и направить народ, освобожденный Июльской революцией. Таким принципом стала свобода печати. Именно в ней заключались и дух, и движущая сила революции. Тот «дух», и та «сила», благодаря которым журналисты получили возможность жаловаться в свое удовольствие, привлекая внимание публики, по существу остававшейся невежественной.
В 1830 году страной управляют банкиры и предприниматели, которых больше всего притягивают деньги, необходимые для развития промышленности. Журналисты, спровоцировавшие революцию, мечтают, что теперь наконец вспомнят и о них. Тогда они смогут наконец высказать все, о чем думают. Власти действительно не зажимают прессу, — одних лишь республиканских газет выходит почти четыре десятка, — но и выпускать из-под своей опеки электорат никак не входит в их планы. Предполагается, что двести тысяч выборщиков, по пять — десять человек от каждой тысячи граждан, в зависимости от департамента, являют собой «верх достоинств». Но выражают они не народную волю, а скорее саму идею права: при имущественном цензе в 500 франков две трети депутатов платят по тысяче франков и больше. С 1830 по 1840 год сменилось 17 министерских кабинетов, но все перемены вершились среди одних и тех же 52 депутатов. Ведь избранников никто не заменял.
Бальзак, выступавший в качестве политического журналиста с 26 сентября по 29 марта 1831 года, поначалу скромничал: «У министра перед журналистом огромное преимущество: он знает, когда газеты ошибаются, тогда как газеты зачастую не знают, когда они оказываются правы»[26]. Бальзак забывает упомянуть, что политический деятель, пусть даже прекрасно осведомленный о текущих событиях, не обязательно способен к предвидению. И тогда настает день, когда самые неожиданные последствия предпринятого политиком шага оборачиваются катастрофой для миллионов его сограждан.
Бальзак сумел увидеть, что одной из французских бед стало зазнайство: «В тот день, когда мы смиримся с ролью безвестно великих скромных людей, Франция будет спасена».
Бальзаку нечего сообщить читателям о трех революционных днях. «Июльскую революцию похоронили, заново замостив улицы». Поиск кровавых следов июльских боев приводит Бальзака в больницы. «Все кончается носилками, микстурой, а там и равнодушием». Бальзак прочитал книгу доктора Меньера, описавшего «сражение, виденное с городской ратуши». Доктор видел, как «владелец требовал с рабочего возвращения долга в ту самую минуту, когда Дюпьитрен замахивался на него кинжалом, как молодая девушка бросала возлюбленного […] умирать от боли». Особенно ярко доктор описывает, как в больнице расправлялись с тяжелоранеными люди, являвшиеся сюда под видом «патриотов или посланцев короля».
Внезапно все изменилось: «В октябре 1831 года Париж стал походить на казарму. Он грустит, лишенный удовольствий, литературы, денег, новостей и зрелищ». В этой суровости Бальзак видит не аскетизм, который поможет нации обрести новые силы, но конец света. Если государство с такой столицей, как Париж, населенной 861 тысячей горожан, отказывается от жизни на широкую ногу и не может обеспечить себе привычной роскоши, тогда вся страна погружается в апатию и бедность, увеличивая ряды пролетариев. Бальзаку хочется совсем другого. Чтобы снова зашумели пышные празднества, чтобы «нашелся способ потратить тридцать миллионов ради Роскоши, Необходимости и Милосердия».
Народные толпы, совершившие революцию, вернулись на чердаки и в подвалы. Они снова принялись за работу в нездоровых сырых помещениях, где заживо гнили все новые поколения рабочих семей. Режим предпочитал не замечать этих людей. Луи-Филипп заказал Делакруа картину под названием «Свобода, ведущая народ на баррикады», но подчеркнул, что народ на ней не должен выглядеть ни слишком многочисленным, ни слишком оборванным. Вчерашний союзник завтра мог превратиться в противника. В последние месяцы 1831 года вспыхнуло восстание в Лионе, к февралю оно перекинулось на Париж. Восставшие разграбили и разрушили архиепископство возле парижской Нотр-Дам. Напялив на себя сутаны и краденые священные атрибуты, бунтовщики двинулись к бульварам, где смешались с карнавальной толпой. Грандвиль оставил рисунок, на котором изображен архиепископ Парижский «со стаканом шампанского в руке, с мученическим ореолом вокруг головы», делающий нос «всему этому политическому карнавалу».
Банкир Жак Лаффитт, финансировавший революцию, более или менее твердо обещал и празднества, и народные гулянья. Получив пост премьер-министра, Лаффитт вспомнил об экономии, какой отличался в годы своей добродетельной юности. Сын бедного плотника, родившийся в Байонне в 1767 году, он, как говорили, составил себе состояние благодаря «зоркости глаз». Явившись наниматься к банкиру Перрего, он получил от ворот поворот, но, выйдя во двор, заметил блеск застрявшей между булыжниками булавки и не поленился нагнуться и поднять ее. Перрего, наблюдавший за ним из окна, немедленно велел вернуть столь экономного молодого человека, которого сделал вначале своим приказчиком, затем компаньоном и, наконец, президентом банка. Впоследствии эту незатейливую историю постарались не только сделать всеобщим достоянием, но и представить ее как урок для молодежи времен Луи-Филиппа.
И вот тот самый Лаффитт, который решил сэкономить на народных празднествах, готовится предоставить тридцать миллионов крупным собственникам, платежеспособным торговцам и предпринимателям.
Бальзак категорически против такой помощи, в результате которой в выигрыше окажется одно государство. «У одних, — размышляет он, — берут товары; у других — ценности. Однажды придется посылать книги тем, кто не умеет читать; кофе — тем, у кого нет хлеба; векселя — тем, у кого нет денег…»
«Слабость и нерешительность» — вот, по мнению Бальзака, главные характерные черты правительства. Правительство без конца лавирует. Вместо того чтобы «предложить власть молодежи» и использовать ее энергию, ее воображение, способные воодушевить остальных, правительство предпочитает съежиться и затаиться. Франция еще не подхватила «революционной болезни», но это может случиться. Самые отъявленные смутьяны, называющие себя «бунтовщиками», высланы в Алжир. «Наши министры не хотят, чтобы их поддерживали, и запрещают ассоциации». «Кого же они преследуют?» — задается вопросом Бальзак. Республиканцев. «Во Франции не наберется и тысячи сторонников республики. Но правительству повсюду мерещится республика».
«Весь народ жаждет, чтобы им правили», но после июля во Франции ничего не меняется. Трон воздвигнут, только его обладатель лишен власти. «Король царствует, но не правит». Подобно Карлу X, Луи-Филипп со всех сторон окружен друзьями, которые «стращают его либерализмом и либералами, которые советуют ему держаться подальше от друзей».
Палату следовало распустить, потому что она показала себя «недостойной революции, совершенной без ее участия», но, главным образом, потому что она представляет Францию 15-летней давности, страну «стариков, доктринеров и трусов». Бальзак именует эту партию прошлого наезженной колеей. «Сегодня либерал образца 1819 года постарел, поглупел, отупел и потерял способность к действиям, сделавшись похожим на эмигранта, вернувшегося домой в 1814 году». Палата ответила на предложение Лаффитта о роспуске отказом. Король настойчивости не проявил.
«Идея о слабости короля распространяется все шире, — пишет герцогиня Брольи Баранту. — Я думаю, что он слишком старается быть осторожным и считает своим долгом никому ни в чем не отказывать».
«Министры, — пишет Бальзак, — горько сожалеют, что у нас нет parliament-rump[27], и потому они лишены тех гигантских легальных и политических средств, которых не предоставила им новая ассамблея, облаченная властью».
Следовало ли распустить и Палату пэров? Во всяком случае Лафайет попытался оспорить наследственный характер пэрства: «Я никогда не мог понять, как можно быть законодателем или судьей по наследству». В конце концов добиться удалось лишь того, что были аннулированы назначения, «произведенные Карлом X».
Прочие пэры остались на своих местах, ведь кому-то надо было судить министров Карла X. Возле здания Пале-Руайаль ежедневно появляются делегации, скандирующие: «Смерть бывшим министрам!» Из семи обвиняемых арестовали четырех министров, и в их числе Полиньяка, схваченного в Гранвилле в момент, когда он собирался сесть на корабль, плывущий в Джерси.
Бальзак реагирует на события немедленно. 20 октября 1831 года он пишет: «Решится ли Палата пэров приговорить к казни людей, осужденных всей нацией?.. Чем больше будет тянуться этот процесс, тем большее брожение в умах он вызовет… Следует набраться смелости и принести министров в жертву. Во всей Франции не осталось уголка, который не грозил бы им смертью, и их последним прибежищем может стать лишь эшафот. Если пэры проголосуют за верное решение и сделают это быстро, они тем самым помогут правительству и спасут от грядущего уничтожения собственное право наследования».
Но кто возьмет на себя смелость вынести обвинительный приговор? Чтобы выйти из трудного положения, судебный приговор переделают в проект закона, упраздняющего смертную казнь за политические преступления. Он будет принят 225 голосами против 21[28].
ВЛАСТЬ ПОСРЕДСТВЕННОСТИ
Между тем Луи-Филипп пытался научить французов сосуществовать друг с другом, будь они либералами или легитимистами, бонапартистами или республиканцами. Но разве можно достичь согласия, покуда все партии не проникнутся чувством более глубокого почтения к родине и королю? Бальзака не прельщает «свобода Соединенных Штатов […], холодная, лишенная веселости и собственного лица». Та свобода, которая смешивает всех в одну кучу и без конца откладывает решения, кажется ему «нарядом Арлекина». «Вот уже три месяца разговоры убивают дело, как во времена Империи дело убивало разговоры».
«Луи-Филипп всегда будет хранить в кармане орла и цветок лилии», а также фригийский колпак, которым парижская толпа украсила Людовика XVI. «Король расточает ласки легитимистам, хранит супружескую верность бонапартистам и идет на небольшие уступки республиканцам». В повадках новой власти, готовой служить всем и каждому, «бегать за всеми подряд», Бальзаку видится «мошеннический трюк». Уважающее себя государство ждет, когда придут к нему.
Все эти тексты, написанные Бальзаком в 1830 году, предвосхищают политическую наполненность «Человеческой комедии». Равенство — не уравниловка, а гибкость социальной системы. Внук землепашца и сын торговца, Бальзак хочет, чтобы во Франции оставался класс бедняков, но чтобы «способные представители этого класса имели возможность проявить себя».
По Бальзаку, общество, признающее человека знатным лишь благодаря его состоянию, предпринимателем лишь благодаря его власти над рабочими и земельным собственником благодаря власти над крестьянами, — застывшее общество, лишенное истинной соревновательности.
Бальзак за сильную власть. Бернар Гюийон говорит о цезаризме Бальзака. Буржуазный либерализм, возникший как реакция на централизм якобинцев и Наполеона, ограничивает роль государства и развязывает руки предпринимателям, владельцам мануфактур и земельным собственникам, владельцам поместий.
Французское государство вынуждено искать компромисс между исполнительной и законодательной властями, между либералами партии движения и их противниками. Оно проводит политику «золотой середины». Такая власть, якобы приветствующая свободу, занимает неустойчивое положение и не может рассчитывать на доверие общества.
Охваченный презрением, Бальзак с 1832 года с головой бросается в легитимизм-, во имя того самого неравенства, без которого не может существовать общество: «Для счастья Франции было бы весьма полезно распространить эту идею шире».
В «Письмах о Париже» 1830 года Бальзак еще рассчитывает на массы: «Они обладают здравым смыслом, который не обманывает; впрочем, вся Франция инстинктивно понимает, что власть попала в руки людей, не способных к власти». Чтобы дать слово «массам», Бальзак жаждет образовывать их, «нести им свет», призывает бесплатно распространять книги, написанные специально для народного просвещения, такие, как «Здравый смысл старины Ришара».
В 1831 году Бальзак вместе с владельцем типографии и директором «Газет де Камбрей» Самюэлем Анри Барту задумывает наладить «выпуск народного политического издания, которое способствовало бы широкому распространению образования и главным образом здоровых идей среди народных масс».
Впрочем, в том же 1831 году в «Шагреневой коже» Бальзак выскажется в совершенно противоположном смысле: «В народе, обезличенном образованием, исчезают яркие личности».
В «Служащих» (1838) Бальзак больше не стремится говорить с массами. Он прекращает растрачивать себя ради так называемого увлекательного образования, необходимого для развития всеобщей и вечной морали. Он больше не жаждет исчезновения пропасти между классами. Учить всех подряд — значит издеваться над культурой, «принижать ее», облекать властью низкие и мелочные порывы человека, вульгарного как в своих чувствах, так и в своих поступках.
В «Письмах о Париже», в письме Зюльме Карро Бальзак указывает на фундаментальную ошибку Реставрации и Июльской монархии, как он ее понимает: «Чтобы нация сердцем приняла правительство, ему следует научиться будить в людях интерес, а не ненависть».
Определить этот всеобщий интерес в состоянии лишь великий объединитель, которому иногда приходится действовать достаточно жестко. Уроки политических действий дали Бальзаку Екатерина Медичи, Робеспьер и Наполеон.
В мае 1830 года Бальзак публикует в «Мод» «Два сна». Молодой Робеспьер, явившийся по приглашению на банкет, рассказывает, что видел во сне Екатерину Медичи. Говоря от ее имени, он защищает принцип подавления: «Бесконечная свобода человека несет смерть всякой власти». Не лучше ли покончить с парой сотен оппозиционеров, чем ввергать в пучину невзгод «целое поколение, целый век или целый мир»? «Политическая свобода, спокойствие нации и даже наука — это подарки судьбы, за которые она требует уплаты налога кровью».
«ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»
Шагреневая кожа — вот формула человеческой жизни.
4 января 1831 года Бальзак пишет неизвестной корреспондентке, что «заканчивает книгу, сущую безделицу с точки зрения литературы», в которую он тем не менее «постарался перенести кое-какие ситуации той жестокой жизни, какие пришлось пройти гениальным людям, чтобы чего-то достичь».
Согласно Самюэлю Берту, Бальзак прилюдно, скорее всего у Жирардена, рассказывал историю расточительного молодого человека, который, подобно Дон Жуану с его господином Диманшем, все медлил и медлил с выплатой своих долгов. Кредитором на сей раз оказался хитрый старик, понявший, что должен кардинальным образом изменить отношение юноши ко всему тому, чего тот страстно желает. Он дает своему должнику кусок кожи, на первый взгляд, не представляющий никакой ценности. Это «талисман», обладающий властью исполнять любое желание. В то же время кожа, если пользоваться ее услугами, съеживается. Кожа как будто предупреждает: есть грань, за пределы которой лучше не заступать. Действует она столь безупречно, что в сознании молодого человека постепенно формируется то, что впоследствии Фрейд назовет «фиксацией»: он выбирает то, что ему навязывает кожа, а ставкой в игре делает собственную жизнь. Молодой человек теряет голову, принимается метаться и в конце концов умирает под саркастическую издевку старика: «Эта кожа съежилась в твоем кармане лишь потому, что ты стал ее собственностью: умри же в стыде за свое невежество и легковерие».
Понемногу лукавый старик в представлении Бальзака становится Вечным отцом или насмешливой маской Мефистофеля. Кожа — это жизнь. В каждое из мгновений, ее составляющих, она кажется неисчерпаемой, но в один прекрасный день на месте живого человека находят мертвое тело. Но Бальзак описывает не смерть и не мертвеца, он описывает момент умирания. Душа умирающего полна лишь тем, что хорошо для жизни, и в ней нет ничего, что помогло бы в смертный миг. Так «безделица» превращается в то, что немцы называют Gesamtkunstwerk, то есть комедией человеческого и одновременно космического масштаба.
Именно в этом и заключается глубинный смысл «Шагреневой кожи», которую критика в лице Феликса Давена назвала в 1834 году «потрясающей книгой», заставившей увидеть в Бальзаке большого писателя, описавшего «человека как организованную систему», подчиненную следующей аксиоме: «Жизнь укорачивается в прямой зависимости от силы желаний или расточительства идей». В предисловии к своим «Философским романам и сказкам» Филарет Шасль особенно отмечает, что Бальзаку удалось выразить фантастическую составляющую своего времени, «заслуга тем более весомая, что потребовала немалого труда».
Бальзак пустил в обиход новое выражение, и это доказывает, что в рассказанной им сказке содержалась немалая доля истины. «Это шагреневая кожа», часто говорят о чем-то, что быстро тает, совсем не обязательно вспоминая при этом имя Бальзака.
17 января 1831 года состоялось подписание договора с издателями Госселеном и Канелем. Произведение предполагалось выпустить тиражом 750 экземпляров и выплатить автору в качестве гонорара 1125 франков. Именно за такую сумму Бальзак согласился приступить к упорному труду, свидетелем которого стал Пьер Барберис, следивший за появлением корректурных оттисков трех частей книги: «Талисман» был написан с 7 по 22 февраля 1831 года, «Бессердечная женщина» с 31 марта до середины апреля. Наконец, в конце июля «ценой лихорадочной работы» Бальзак дописывает «Агонию». В промежутке между 6 и 24 мая он мог показать текст мадам де Берни, жившей в Ла Булоньер, неподалеку от Немура. Она не слишком серьезно восприняла эту сказку, и в эпилоге Бальзак делает ей своего рода уступку: молодой человек, поднимающийся в Туре на борт «Виль-д’Анжера», держит «в своей руке руку молодой женщины». Это было напоминание о счастливой поездке в Круазик в июне 1830 года.
9 марта 1831 года Бальзак присутствует на первом из парижских концертов Никколо Паганини. Концерт показался ему «волшебной сказкой». В тот вечер Бальзак, должно быть, уловил тональность, в которой хотел выдержать свою повесть, одновременно невероятную и правдоподобную, но главным образом подчеркивающую шаткость и быстротечность жизни.
Для самого Бальзака «Шагреневая кожа» была повестью, «фантазией», философской «сказкой» — чем угодно, только не романом. Роман описывает события внешней жизни, тогда как в «Шагреневой коже» читатель от наблюдения за жизнью света переходит к осознанию смысла жизни, того самого смысла, что заключен в арабском (у Бальзака «санскритском») тексте, который старик заставляет прочесть Рафаэля де Валантена:
В переводе на французский это значит:
Рафаэль де Валантен — двойник Бальзака, обернувшийся мрачным Манфредом. Чтобы восполнить убытки, понесенные его отцом, «главой почти забытого исторического дома в Оверни» — намек на Бальзаков д’Антрег, — Валантен «становится сам себе деспотом, не позволяя себе ни малейшего желания, ни единой траты». Все напрасно: отец вынужден продать свои владения, сохранив у себя единственный и не представляющий никакой ценности остров посреди Луары, на котором находилась могила его матери. Рафаэль де Валантен — бедный молодой человек, которому приходится выйти в свет и «на балу у банкира рискнуть своей последней пятифранковой монетой».
Дух легче переносит аскезу, чем тело. Валантен являет собой самоотверженность, отказ от всяких личных благ и приверженность самому суровому образу жизни; он целиком посвятил себя отцу, но тело его жаждет блеска, жаждет производить впечатление. Он садится за карточный стол, теряет «последний патрон» и готов покончить счеты с жизнью.
Самоубийство его превращается в кошмар. Сущий пустяк мешает ему осуществить задуманное: старуха-нищенка и табличка «спасение утопающих», благодаря которой Рафаэль вспоминает, что за каждого спасенного утопленника служба спасения выплачивает спасателю награду в пятьдесят франков. Зачем же убивать себя просто так, если другие этим живут?
«Шагреневая кожа» вызвала к жизни самое большое количество комментариев, почти каждый из которых отличается редкой страстностью, хотя рукописный текст романа не сохранился[29].
«Шагреневую кожу» следовало бы сравнить с «Процессом» Кафки. Жизнь описывается здесь с точностью, но словно в разобранном виде, подобно тому, как это происходит во сне. Рафаэль видит людей и здания как будто в тумане, «реальность расплывается», как пишет Морис Менар, да и само время расплывается. Рафаэль приходит в лавку антиквара. По замечанию Г. Понсена-Бара, эта лавка не что иное, как «Склон мечты» Виктора Гюго: «пространство и время свалены вместе». Старику-антиквару по меньшей мере 125 лет, а добра в его магазине «на миллиарды».
Валантен хотел умереть, ибо смерть, знаменующая конец жизни, избавила бы его от мелочного существования, которое не что иное, как медленная смерть. Предлагая ему талисман, исполняющий любую прихоть, антиквар на время возвращает ему «бесполезную страсть» — вкус к жизни.
Рафаэль отправляется к друзьям, которые празднуют выход газеты, и здесь ему предстоит познать «искристые вина», «гастрономические картины», «многообразие и привлекательность женственности». На ум приходит Дон Жуан Лено, «склоняющий колена перед каждой красоткой и хоть на мгновение одерживает победу. Пресыщенность мне незнакома, я вечно готов служить прекрасному».
К несчастью, оргия длится до самого утра, когда «лица куртизанок приобретают мертвенный цвет». Кажется, сама судьба ставит перед выбором: что лучше, «убить все чувства, чтобы дожить до старости, или умереть молодым, принимая все муки страсти»?
Во второй части Рафаэль вспоминает всю свою промелькнувшую жизнь, так похожую на жизнь самого Бальзака той поры, когда он обитал на улице Ледигьер. Рафаэль повстречал «девочку лет четырнадцати, которая играла в волан». Этот уголок Парижа, расположенный неподалеку от нынешней улицы Виктора Кузена, напомнил Рафаэлю о парижском периоде Жан Жака Руссо. Целых три года ему предстоит прожить в «воздушном гробу». Вскоре Полина из «милого ребенка» превращается в «привлекательную девушку». Пьер Ситрон полагает, что Полина — это Лора Сюрвиль до замужества, а Рафаэль — сам Оноре. Вначале они любят друг друга как брат и сестра, затем как возлюбленные, но для Рафаэля эта любовь станет смертельной, потому что исполняя это, последнее, желание, шагреневая кожа исчезнет. «Инцест наказан смертью» (Пьер Ситрон).
В одном из готических будуаров Рафаэль познакомился также с очень странной женщиной по имени Федора. Ему кажется, что он видит «чудовище, то усмиряющее, словно заправский офицер, норовистого коня, то, обернувшись девушкой, наводящее на себя красоту и ввергающее в отчаяние своих любовников». Может быть, она лесбиянка или гермафродит? Может быть, она страдает какой-нибудь тяжкой болезнью? Может быть, эта женщина вся состоит из одной лишь головы, головы, живущей отдельно от тела и постоянно предающейся расчетам («caput» по латыни означает «голова», отсюда и слово «капитал»)? Федора — это общество, предстающее в облике бессердечной женщины. В мире улицы Шоссе-д’Антен, где живет Федора, никто никому ничего не дает бесплатно. Как далеки они от Полины, любовь которой похожа на «прикосновение к абсолюту в мире реальности» (Арлет Мишель).
Рафаэль де Валантен покидает Париж, город «исступленной игры», в котором он наделал долгов. Чтобы расплатиться по одиннадцати векселям, он «продает остров на Луаре, где находится могила его матери». «Рафаэль дважды продает свою мать. Но поскольку Рафаэль — это образ самого Бальзака, то таким образом романист избавляется от собственной матери, по отношению к которой долгое время испытывал ненависть, смешанную с угрызениями совести» (Пьер Ситрон).
«Покинутые места, неужели и в вас есть душа?» Рафаэль де Валантен едет в Экс-ле-Бен «дышать кислородом», однако после дуэли вынужден перебраться в Мон-Дор. В Оверни Валантен уже «прикован болезнью к постели». Получив по завещанию богатство, делающее его обладателем неисчисляемого состояния, он стремится экономить силы и жить. Он держит «в черном теле» собственное воображение, отдается целомудрию и душит в себе «самый ничтожный из капризов». Он делается подобен травинке или дереву, «каждую весну выпускающим новые ростки». «Последним побуждением умирающего» станет желание превратиться в устрицу на каменистом утесе и тем самым «усыпить» смерть.
Шагреневую кожу изучают специалисты — зоологи, механики, химики, медики. Все они приходят к мнению, что в ней «заключено нечто дьявольское». Врачи, призванные к одру больного, демонстрируют неспособность помочь ему и полное равнодушие. Бриссе, по всей видимости, списанный с Бруссе, назначает кровопускания, но Камеристус, вероятнее всего, профессор Рекамье, признает, что у больного «затронута самая сущность жизненного принципа».
Приходит Полина. Рафаэль прогоняет ее:
«— Если ты не уйдешь, я умру. — Рафаэль достал из-под изголовья лоскуток шагреневой кожи, хрупкий и крохотный, словно лепесток барвинка. — Вот сколько мне осталось. Если ты посмотришь на меня еще раз, я умру…»
В сущности, жизненная сила нашего духа слишком велика, чтобы ее могло вместить одно смертное тело. Нам нужны иные, «запасные» жизни, в которых мы могли бы осуществить то, о чем мечтаем.
«„Шагреневая кожа“ должна была выразить сущность современного века, нашу жизнь и наш эгоизм», — напишет Бальзак герцогине де Кастри в 1832 году.
Практически вся пресса встретила книгу восторженно. «Отвратительно аморальный роман», — напишет Сен-Бев, пожалуй, единственный из критиков, кому она не понравилась.
«Ваша книга оценена, ей определено место, и место это высокое», — писал Бальзаку Эжен Сю.
В «Ревю дэ дё монд» читаем: «Это не Рабле, не Вольтер, не Гофман. Это Бальзак».
В «Ла Котидьен»: «Его книга — маленькое произведение искусства, блистающее чарующей риторикой».
Самый выразительный и самый «романтический» отзыв опубликовал «Артист»: «Вы слышите шум и грохот. Кто-то входит, кто-то выходит; люди сталкиваются, кричат, играют, напиваются, безумствуют, тешат свое тщеславие, умирают, сжимаются под ударами судьбы, целуются, ищут спасения от огня и меча. Вот вся „Шагреневая кожа“». Подписано — Жюль Жанен.
В этом романе, насыщенном бьющей через край фантазией автора, выразившем самый дух романтизма с его вкусом к жизни и разочарованиями, узнало себя целое поколение. Отныне каждый живет лишь для себя, одинокий в этом мире, лишенный предков, благ и земель. То, что тебе принадлежит, следует расходовать экономно, беря пример с Валантена, который почти не ест и позволяет себе лишь шесть вдохов в минуту.
«Шагреневая кожа» — это повесть-притча, наглядная иллюстрация самодисциплины, которая наконец освободит наш рассудок от власти плоти. Человек разумный должен научиться противостоять искушениям и излишествам, которые навязывает ему собственное «воспаленное воображение», — причина всех наших иллюзий, болезней и преждевременной смерти.
ОБ АНРИ БАЛЬЗАКЕ, ИЛИ «ПРОЩАЙ, ПРЕКРАСНЫЙ МОЙ КОРАБЛЬ»
По мнению Пьера Ситрона, в период с 1831 по 1833 год жизнь Бальзака отметили два важных события: осознание «комплекса брата и, как неизбежное следствие, вероятное понимание предательства матери», а также разрыв с маркизой де Кастри. Два эти потрясения на четыре года вперед определили обличительный характер творчества Бальзака.
С самого рождения в 1807 году второго сына мадам де Бальзак окружила его «нежной и преданной лаской».
Незаконнорожденный Анри, росший в исключительно женском окружении, получил дурное воспитание. С ним нянчилась сестра Лора, которая была старше на семь лет, его баловала бабушка.
В тринадцать лет Анри, тогда ученик коллежа Сент-Барб, уже считался «легкомысленным и капризным ребенком, хотя и с прекрасными задатками». Два года он «отсидел» в заведении на улице Ториньи, так и не преодолев четвертого класса и не удостоившись права на первое причастие. К 1821 году Оноре понял, что его брат — «пустышка». Анри, как впрочем и Оноре, охотно предавался мечтам, только ему не хватало энергии старшего брата.
Из письма Анри, цитируемого Мадлен Фаржо, перед нами предстает облик милого мальчика, решительно настроенного не слишком утруждать себя, не обращать ни малейшего внимания на то, чему его учат, и тратить все деньги, которые ему дают.
В то же время он мечтал «поступить в Политехническую школу», но внезапно решил прервать учебу. Занимался немецким («лошадиным») языком, учил английский, чтобы затем поступить на торговый корабль. «Какое счастье и вместе с тем какая боль, что скоро я смогу распрощаться с вами», — писал он сестре. И уже видел себя «важным английским лордом».
Ничего не подготовив, ничего не рассчитав, 21 марта 1831 года он, повинуясь внезапно охватившему его желанию, сел в Нанте на корабль.
В свои 24 года Анри все еще был способен «заставить мать умереть от горя», тогда как двое других ее детей, Лора и Оноре, не могли «привязать ее к жизни».
Лора де Бальзак вспомнит о дочери и об Оноре лишь в 1834 году. Она «признает, впрочем, не считая себя виноватой, что сильно ошибалась, проявляя к ним столь мало внимания…».
Что же ее «баловень»? Что он поделывал, расставшись с ролью «маменькиного сынка»? Анри отбыл на острова, которые в семействе Бальзаков невнятно именовали «Индийскими», и не подавал о себе вестей.
Корабль, на котором он плыл, прибыл в столицу острова Маврикий Порт-Луи 21 июня 1831 года. Несмотря на то что обстановка на острове оставалась весьма напряженной, Анри решил здесь поселиться. Освобожденные в 1831 году, рабы с нетерпением ожидали, чтобы им возместили причиненный ущерб и дали возможность свободно трудиться. Они добились своего лишь в 1835 году.
Не лишенный обаяния, Анри сумел втереться в круги золотой молодежи. «Здесь у нас были лошади, кабриолеты, роскошные обеды», — напишет в 1835 году Эжену Сюрвилю капитан де Бофор.
21 декабря 1831 года, спустя полгода после своего прибытия, Анри женился на вдове Констана Дюпона. Вдова владела домом и ждала наследства от матери, которая, действительно, вскоре умерла.
Оноре следил за всеми этими события издалека, но достаточно пристально. Давай-давай, братец! В «Гренадерше» Луи Гастон, старший из внебрачных сыновей леди Брендон, также, как Анри, незаконнорожденный, тоже уплывает в Индию и женится на вдове богатого торговца. И Шарль Гранде, кузен Евгении, станет бороздить морские просторы между Индией, Африкой и Соединенными Штатами. Он займется работорговлей, будет продавать китайцев и негров и заработает миллион девятьсот тысяч франков.
Анри повезло куда меньше. Он возвратился в 1834 году и старался разжалобить сестру и мать, «чудовищно зачахшую» со времени его отъезда.
Оноре никогда особенно не заботился о брате, по которому сходила с ума вся семья. И теперь он не желал помогать этому никчемному и жестокосердому человеку, который к тому же обзавелся совершенно безмозглой женой: «Стоило ли мчаться за пять тысяч лье, чтобы найти себе такую жену?» Впрочем, Сюрвиль предложил Анри принять участие в сооружении моста в Андели. Беременная жена Анри Мари-Франсуаза перенесла холеру, но 20 февраля 1835 года она все-таки произвела на свет маленького Оноре. Бальзак, которого пригласили в крестные, заниматься ребенком не стал. Ему было некогда, его ждала работа. В момент, когда Оноре испытывал «острую нужду в деньгах», Анри обратился к нему за вспомоществованием, полагая, что Оноре не может ему отказать. Разве не его видели «на маскараде в Опере», где он «преследовал розовое домино, с которым долго потом о чем-то беседовал?» Мало того, что Анри был несчастен сам, он хотел, чтобы несчастье не обошло и брата.
В 1841 году Анри вновь уехал на острова. Вначале он стал архитектором на острове Маврикий, затем получил должность «присяжного землеустроителя» на Реюньоне. Франкмасон, как и его отец, как и его дед Саламбье, в ложе «Дружба» он свел знакомство с Амедеем Бедье, мэром Сен-Дени, который поручил ему «обмер плана и высоты построек» в Сен-Дени. В 1843 году Бальзак выслал все вышедшие к тому времени тома своих сочинений губернатору острова Бурбон (Реюньона) контр-адмиралу Базошу в надежде, что тот предоставит его брату место «морского чиновника второго класса». Умер Анри 11 марта 1858 года в Майоте. Оставшееся после него имущество оценили в 250 франков. Нищета!
Между тем спустя два месяца после его смерти на имя Анри поступило приглашение от нотариуса мэтра Тиона де ля Шом вступить во владение наследством в двести тысяч франков, оставленным ему его отцом Жаном де Маргоном, владельцем замка Саше.
Его сын, крестник Оноре, не смог воспользоваться посмертным богатством отца. Последний представитель мужской линии Бальзаков умер в 1864 году на Реюньоне в возрасте 29 лет. В свидетельстве о смерти указано: «Холостяк без определенного рода занятий».
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ И ТРУД ПИСАТЕЛЯ
Из всех животных, именуемых людьми, самая тщеславная разновидность, бесспорно, поэты.
В номере «Тан» от 29 августа 1831 года критик Шод-Эг упрекал Бальзака в том, что в «Шагреневой коже» он изобразил «развратных гризеток, подобно тому, как Тацит описывал оргии на Капри». Эта статья больно задела Бальзака как писателя. И польстила ему как светскому человеку. В салонах Бальзак постепенно приобретал репутацию «рассказчика».
1831 год принес ему славу и 14 тысяч франков гонорара, а также возможность еще на шесть тысяч набрать кредитов. Впервые в жизни Бальзак смог позволить себе пошиковать.
Это было то самое материальное благополучие, которое так подробно описано в «Доме Нусингенов»:
«…Конный выезд, в тильбюри или кабриолете с маленьким ливрейным грумом, свеженьким и розоволицым, как Тоби, Джоби, Пэдди; по вечерам — нанятая за двенадцать франков удобная двухместная карета; элегантный гардероб, составленный по моде, предписывающей, что следует надевать в восемь утра, в полдень, в четыре часа и вечером; желанный гость во всех посольствах, собирающий там недолговечные космополитические цветы поверхностно-дружеского внимания; сносная внешность, возможность с достоинством носить свое имя, свой наряд и свою голову; прелестное и ухоженное маленькое жилище на антресольном этаже; возможность пригласить друзей составить тебе компанию в „Роше де Канкаль“, не заглядывая перед тем в кошелек и не прислушиваясь к голосу разума, восклицающему: „Ах! А деньги?“; розовые банты, украшающие уши трех твоих чистокровных лошадей, всегда новая лента на шляпе […]» («Дом Нусингенов»).
Бальзак чувствовал потребность доказать всем, что дела его идут столь же блестяще, как у соседа, а то и получше. Директор Оперы доктор Верон, человек в этом смысле отнюдь не исключительный, разъезжал в тильбюри, как, впрочем, и граф де Жирарден, граф Алексис де Ларошфуко, герцог де Дюра… словом, как весь «бывший двор», представители которого привыкли назначать друг другу свидания у Олимпии Пелисье (настоящее имя Александрины Декюийе).
Она родилась в 1799 году и танцевала в кордебалете Оперы, пока мать не продала ее за сорок тысяч франков молодому герцогу, поселившему ее в маленьком домике. После смерти герцога Олимпия завела любовника — старика-американца, оставившего ей в наследство двадцать пять тысяч франков. Личность Олимпии весьма интересна. Орасу Верне она послужила в качестве модели, а Бальзак вспомнил о ней, создавая образ Валери Марнефф в «Кузине Бетте». В 1831 году Олимпия, оставаясь любовницей Эжена Сю, поддерживала наилучшие отношения с Бальзаком, а тот не торопился опровергать слухи, согласно которым он якобы укрывался в спальне Олимпии, чтобы подглядеть, как она раздевается, и даже собирался просить ее руки… Это подтверждает и госпожа де Берни, выражавшая неудовольствие по поводу такого волокитства: «вопреки твоему похвальному намерению избавиться от Олимпии Пелисье».
Бальзак продолжал встречаться с Олимпией и тогда, когда она стала любовницей, а затем и женой Россини, восхищавшего его настолько, что в «Массимиле Дони» он посвятил несколько страниц анализу оперы «Моисей».
17 сентября 1831 года у Бальзака наконец появился собственный выезд. Стоил он четыре тысячи франков. Обзавелся Бальзак и «грумом», которым стал молодой лакей по имени Леклерк. Хозяин нарядил его в голубую ливрею, зеленый американский кафтан с красными рукавами и полосатые тиковые панталоны.
На улице Кассини Бальзак жил стесненно. 20 сентября 1831 года он одним махом вдвое увеличил и свое жилище, и квартирную плату: перебрался с первого этажа на второй. Передней здесь служила застекленная галерея, украшенная вазами с редкими цветами. Гостиную он обставил мебелью, обитой серым штофом, а стены велел затянуть кретоном и завесить портьерами. В столовой, выдержанной в светло-коричневых тонах, стояли восемь стульев красного дерева. Вся мебель в квартире была с позолотой, имелись еще роскошные стенные часы, повсюду висели зеркала и ковры. Ванная комната с мраморной ванной вела в спальню — «брачную комнату для пятнадцатилетней герцогини».
Ощущение собственного высокого положения становится отныне важным элементом его существования. Тщеславие свое он соотносил не с собственной гениальностью, действительно огромной, — он это знал, — но исключительно с образом жизни. Если он будет жить в тесноте, экономя каждый грош, никто не оценит его творчества, и ему придется довольствоваться пылью «читален».
Постоянно пребывая в трудах и хлопотах, будь то утро, вечер или день, он всякий раз как будто преображался. Бальзак шутливо описал эти свои метаморфозы: вечером ему следует выглядеть «светским человеком», и вот он «одет с иголочки, в отличном галстуке, сверкающих черных туфлях, безупречном жилете и перчатках цвета „пай“».
В ипостаси «усердного мужа, переполненного замыслами», он щеголяет «в черном, фиолетовом или белом халате, с наморщенным лбом, губами, пожелтевшими от кофе, отросшей щетиной, глазами, поблескивающими на красном лице, с шелковым шнуром, обернутым вокруг поясницы, и бархатной ермолкой на голове».
Придя в себя после ночи работы, днем Бальзак устремлялся по делам: отнести статью в газету или очередную главу издателю. Этот Бальзак ходил в обносках: запыленное коричневое пальто с пуговицами до подбородка, залепленные грязью черные панталоны, шерстяная тряпка вместо галстука. Подбородок и щеки в многодневной щетине, длинные волосы взлохмачены. Андерсен, с которым они познакомились в одном из салонов, спустя неделю не узнал его на улице: Бальзак походил на бедного молодого человека, прячущего глаза под измятой и затертой широкополой шляпой, какие носят каменщики.
Но только по ночам он раскрывался во всей своей силе, когда стоял перед своим небольшим готическим бюро, возле книжного шкафа черного дерева, заполненного книгами в переплетах. В эти минуты, созерцая гипсовую статуэтку Наполеона и ножны меча, на котором красовалась выгравированная надпись: «Я довершу пером то, чего он не успел свершить мечом», он переполнялся сознанием гордости за себя.
Сочинительство стало его жизнью. Он трудился над своими произведениями с яростным упорством, в котором сравниться с ним не может ни один другой писатель. Даже вдали от этого кабинета, в салоне или путешествии, его терзала «ностальгия по чернильнице».
Он действительно работал день и ночь. После опубликования «Шагреневой кожи» и до конца 1832 года он напечатал сорок одну статью и новеллу, двадцать восемь из которых не вошли в «Человеческую комедию».
Он горел желанием появляться в свете, чтобы свет восхищался им, но также и для того, чтобы «опробовать» свои творения перед аудиторией, в сущности, не слишком взыскательной.
СКАЗОЧНИК «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ»
Бальзак любил рассказывать стоя, устроившись перед пылающим камином. Слушатели забывали тогда о его маленьком росте и видели лишь его лицо, разлетающиеся кудри, загорающиеся глаза, склоненную набок голову, которую временами он резко вскидывал. Бальзак одинаково уверенно чувствовал себя, когда вел рассказ с романтическим пафосом и когда говорил как приверженец строгого классицизма. Тело его пребывало в постоянном движении. Вот каким увидел его Ламартин: «Самый рост его менялся, следуя изгибам мысли. То он пригибался к самой земле, чтобы подобрать пучок свежих идей, то приподнимался на цыпочки, чтобы дотянуться до улетающей в бесконечность мысли. Он был толст, плотен, широк, в нем был размах Мирабо, но не было свойственной последнему тяжеловесности».
Истории следовали одна за другой: страшные, сентиментальные, соленые. Слушатели охали и ахали. Подчас кое-кому казалось, что рассказчик зашел слишком далеко, но даже это всем нравилось. Гордость не позволяла ему допустить, чтобы его прервали. Впрочем, он начинал говорить сразу, едва успев войти. В один из вечеров Самюэль Анри Берту наблюдал, как Бальзак набросился на адмирала де Риньи, попытавшегося было продолжить за него кипрскую версию «Спящей красавицы». Бальзак не дал ему и рта раскрыть и тут же повел рассказ со скоростью, при которой о правдоподобии уже не вспоминают. Бальзак, то ни во что не верящий, то способный поверить во что угодно, обладал волшебным даром гипнотического внушения. Его слушали затаив дыхание, и в такие минуты над залом, где обычно лишь пили, суетились или играли в карты, казалось, пролетал ангел мечты.
«Наивный, детски непосредственный, добрый» — вот эпитеты, постоянно мелькающие при упоминании «сказочника»-Бальзака.
В некоторые вечера кое-кто из присутствующих пытался подстроить ему ловушку. Маркиза де Ла Бурдоннэ, эта «Сафо с улицы Будро», пообещала друзьям, что столкнет между собой Бальзака и Жюля Жанена. И вот Бальзак начал очередную историю. Жанен его перебил и принялся опровергать только что услышанное, непререкаемым тоном приводя собственные суждения и с насмешкой указывая на неправдоподобие рассказа. И что же? Слушатели недовольно ворчали на Жанена, помешавшего им внимать любимому рассказчику. Им, живущим в скучном мире, еще не окончательно забывшем, что существует искусство, способное развлечь или взволновать, сказки Бальзака заменяли и размышление, и наблюдение, и воображение. Как тонко заметил «ученый критик Филарет Шасль», Бальзак «умел забавлять людей».
Пьер Ситрон узнал «двойника Бальзака» в образе Рауля Натана из «Дочери Евы», «Утраченных иллюзий» и многих других романов. Натан участвует во всех «конвульсивных порывах общества», он полон энтузиазма, отличается изысканной любезностью, несмотря на «необъяснимые приступы молчания и резкую смену настроения, которые порой угнетают». Он мечтает создать ежедневную газету, в которой стал бы полновластным хозяином. Ему хочется стать крупным политиком. Так же, как Бальзак в 1830–1832 годах, в 1835-м Натан смело нападает на занимающих высокие посты должностных лиц, высмеивая их вечную и роковую нерешительность. При всех обстоятельствах он предпочитает вести открытую игру, хотя живет в обществе, где правда строго дозирована, а журналисты обслуживают власть, надеясь ценой своей лояльности сделаться когда-нибудь депутатами, а там и министрами.
Натану нравится возмущать всеобщее спокойствие. «Заемный республиканский дух моментально превращал его в страстного янсениста, похожего на тех защитников народного дела, которые в душе смеются над ним, вызывая тем самым особую симпатию у женщин». Так было 17 марта 1831 года, когда Бальзак принялся высказывать либеральные идеи господину де Берни, глубоко к ним безразличному. «Давайте, сударь, проявим сдержанность и останемся каждый у себя дома; таким образом мы избежим встреч, одинаково неприятных для каждого из нас».
Многие люди света видели в Бальзаке всего лишь ловкого фокусника, этакого «наперсточника». Может быть, он и не лишен таланта, но вместе с тем есть в нем крайне неприятная черта — слишком высокое мнение о собственной персоне.
ШАРЛЬ НОДЬЕ, «МУЗЫКАНТ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ»
Тому, кто желал познакомиться с истинным Бальзаком, следовало отправиться к Шарлю Нодье, в Арсенал. Бальзак стал бывать у Нодье начиная с 1830 года. Нодье интересовался вопросами веры и с пониманием относился к идеям, проповедовавшимся в недрах тайных обществ. Как и Бернар-Франсуа, он был потомком энциклопедистов и членом ложи Совершенного Союза Безансона, изучал историю тайных обществ времен Империи, историю Ордена кавалеров веры, добровольно распущенного в 1826 году. Этот орден, основанный в 1801-м отцом Дельпюи, объединял молодежь, отличавшуюся исключительной храбростью и набожностью. Свою цель они видели в защите папы Пия VII в его противоборстве с Наполеоном I. 22 мая 1808 года папа выступил с разоблачительной речью против Императора и его «правительства, чьи законы дышат безразличием, чей режим отличается в высшей степени несправедливым отношением к католической религии и прямо противоречит ей». После этого заявления кавалеры ордена сочли, что Наполеону грозит отлучение от церкви и усилили конспирацию.
Во всех этих обществах Бальзака интересовали не столько идеи, которые они защищали, сколько сама возможность союза, основанная на подчинении воли многих единому мозгу, сохраняющему за собой право наделить каждого из них всей полнотой власти. «О! Если бы тридцать молодцов, отбросив предрассудки, договорились между собой!..» — писал Бальзак в 1830 году. Именно из такого союза рождается сверхчеловек. И Бальзак стал основателем общества Красного коня. На трех банкетах собрались писатели, пришедшие к твердому убеждению, что именно им принадлежит место королей парижской литературы. Увы! Четвертого банкета не последовало.
Общество, лишенное нравственности, открывает широкий путь свободе. Но свободный человек, ведомый одним лишь природным инстинктом, неминуемо пропадет. Он перестает понимать, что вокруг него существуют другие люди, и постепенно начинается процесс взаимоуничтожения, не щадящий даже семью. Упорная эта борьба понемногу разрушает и самого человека, и общество. Только наделенный властью лидер способен прорубить тропу в этой чаще противоречивых мнений. Идея единства настолько увлекла Бальзака, что в конце концов он начал мечтать об обществе, в котором люди давали бы друг другу клятву сообща противостоять разврату.
В 1833 году Бальзак опубликовал первый том «Истории Тринадцати»: «Феррагус, вождь ненасытных», в котором тринадцать заговорщиков образуют общество служения «религии удовольствий и эгоизма».
Шарль Нодье, обладавший обостренным чувством «кружковщины», подал Бальзаку мысль о том, что литература должна ставить перед собой высокие задачи. Нодье и в истории, и в археологии, и в фольклоре всегда искал объяснения или оправдания жизни. Сказки, которые он сочинял, похожи на сон. Он верил, что сон — та единственно неиспорченная и недоступная составляющая человеческого бытия, которая не растрачивается в пустой болтовне и будничной суете, не выражающих внутреннюю сущность человека, а лишь отражающих его отношения с окружающими.
В 1815 году Нодье служил редактором вполне официального «Журналь де деба», после чего перешел в ультрароялистский «Котидьен».
В 1823-м Нодье поступил на должность библиотекаря в Арсенал и занимал ее до самой своей смерти в 1844 году. В его салоне собирался «кружок». Здесь бывали Виктор Гюго, Сент-Бев, Мюссе, Виньи, Ламартин и, разумеется, Бальзак.
Нодье желал, чтобы именно Бальзак занял его место во Французской Академии. Избрания, однако, удостоился Мериме.
В 1830-м Нодье напечатал «Сказку про короля Богемии и семь его замков».
В этой истории Карл X и его династия превращаются в лошадей, увлеченных науками и прогрессом. Но, проявив свою полнейшую неспособность, снова оказываются в конюшне: «Франция — старая нация, которой нужна новая организация». Режим Луи-Филиппа — все та же рутина, «школа отчаяния», хуже того, знамение конца европейского мира, который падет раньше, чем будет открыта «другая планета» (Шатобриан).
Нодье верил в еще более глубокие перемены. «Продолжение человека он видит в ангелах». «Своими аллегориями вы даете нам радостную надежду воскреснуть в виде более совершенных существ» (Бальзак, «Письмо к Шарлю Нодье»).
Согласно Нодье, чтобы подготовиться к этим переменам, днем необходимо посещать библиотеки, а по ночам держать под контролем свои сны. Нодье полагал, что владеет этим мастерством. «Вы придали форму моим снам, — писал Нодье Делакруа, — и истинным следствием этого стало избавление от уныния». Такого же мнения придерживался и Бальзак. Как считал Нодье, гений — «сильнейшая сторона воображения».
Именно из этой уверенности, или из «свойственной снам зыбкости» (Роже Кайуа), вышли «Философские сказки» Бальзака.
В «Красной харчевне» или в «Мэтре Корнелиусе» Бальзак свободно манипулирует последовательностью событий, происходящих во сне и ускользающих от понимания спящего или одержимого лунатизмом человека, оставляя последнего незащищенным, подверженным посторонним влияниям.
Следует также и посмеяться.
Нодье указывал на Рабле как на главу романтической школы. Он полагал, что язык Рабле способен вдохнуть новую жизнь в современный французский, освободить его от оков классицизма.
В 1830 году Бальзак все еще не расстался с идеей создать «Живописную историю Франции», задуманную как ряд небольших исторических сценок, персонажи которых изъясняются на «старом языке». «В „Потешных сказках“, — пишет Лора Сюрвиль, — Оноре ставил своей целью проследить за всеми изменениями французского языка со времен Рабле до наших дней, обогащая свой рассказ идеями [то есть словами] той поры, так непохожими на нынешние».
В 1830 году Бальзак перечитал Рабле в надежде подлечиться доброй дозой хорошего настроения, которое спасет Францию от уныния, а литературу — от «романтической ипохондрии».
Утверждают, что революция 1830 года принесла свободу. В таком случае она должна была освободить умы от предрассудков и устаревших принципов, разрушить тот рациональный фундамент человеческого существования, который ему навязали Французская революция, Наполеон и немецкая философия. Рабле не стесняется в выражениях. Но разве не был он человеком, сидящим «между двух стульев»? Разве не служил он при дворе и не получал содержания от Церкви? Но нет, истина скрыта в «той бездонной бочке, которая питается от живого источника, неиссякаемой удачи». Рабле не вымучивает своих решений. Вместо того чтобы задумчиво почесывать макушку, он пишет книгу жизни, будто бросает камешки: живые камешки, представляющие людей.
Рабле помог Бальзаку найти свою линию поведения: «Смех — это привилегия, данная лишь человеку; а общественные свободы — более чем веская причина для слез». Из-за них жизнь каждого человека зависит от правительства, единолично решающего вопросы нравов и размера налогов, войны и мира, избирательной системы и службы граждан в национальной гвардии. Как же над этим не смеяться!
Бальзак с детства ощущал на себе влияние Рабле. Бернар-Франсуа Бальзак «свою оригинальность и доброту заимствовал одновременно у Монтеня, Рабле и дяди Тоби», — пишет Лора Сюрвиль. Для Бернара-Франсуа «все прах», кроме веселья. «Как солнечный луч усмиряет волны, так меткое слово сбивает спесь с чванливых зануд». Бернару-Франсуа нравились Рабле и Сервантес, «добившие» рыцарство и лишившие его ореола возвышенности.
«Веселитесь, дети мои, веселитесь, — призывал Бернар-Франсуа Лору и ее мужа 25 февраля 1822 года, — но избегайте чрезмерности». В конце своей жизни, серьезно болея, он понял, что для выздоровления бывает достаточно святых книг и Рабле. Его терзала подагра, но он держал ее на расстоянии и заставлял отступить с помощью Библии. Давид ведь тоже страдал подагрой, но это не мешало ему купаться в «ласках шестисот юных жен и наслаждениях, какие способна подарить чувственность».
Значение «Потешных сказок» полностью ускользнуло от современников, не разглядевших в них стилистики, оживившей все скрытые богатства французского языка. «Это написано по-нидерландски», в номере от 13 апреля 1832 года заметила «Фигаро».
Впрочем, отдельные фразы «Потешных сказок» напоминают о Пеги, например те, которыми Бальзак описывает улицу в Туре, где он родился: «Императорская улица, улица о двух тротуарах, прекрасно мощеная, чудесно застроенная, отлично отмытая, сверкающая, словно зеркало; королева улиц — единственная улица Тура». А следующий пассаж вполне мог бы принадлежать перу Реймона Кено, разумеется, без соответствующих архаизмов: «Разве Франция вымолвила хоть словечко, даже когда казалась удивительно сердитой, весело сердитой, отчаянно сердитой, бешено сердитой? Она злится на всех и покорно мирится с чужим вторжением».
Если бы Бальзак занимался только тем, что доставляло ему удовольствие, он, вероятно, остался бы исключительно «рассказчиком потешных историй». 23 октября 1833 года в письме к Еве Ганской он напишет: «[…] Если и есть во мне нечто, чему уготована долгая жизнь, так это мои „Сказки“. Человек, создавший их сотню, никогда не умрет. Перечитай эпилог второго десятка и посуди сама. А главное, относись к этим произведениям как к беззаботным арабескам, набросанным с любовью».
Бальзак разыскал или изобрел множество забавных, выразительных и просто красивых выражений. Ими вполне могли бы воспользоваться писатели, употребляющие арготизмы. Назовем в качестве примера хотя бы несколько: «чистилище» вместо ватерклозета, «безделушничать» — гулять или шататься; «обнежить» — заботиться; «околпачиться» — надеть что-либо на голову; «недоберечься» — впутаться в неприятную историю; «порхатель» — человек, легкомысленно порхающий по жизни, и т. д.
В апреле 1831 года, когда вышел в свет первый десяток «Потешных сказок», герцог Фитц-Джеймс, возглавивший партию легитимистов, оказался в числе немногих великосветских читателей, проявивших достаточно свободомыслия, чтобы по достоинству оценить творение Бальзака: «Надо быть таким дерзким, каким вы и являетесь, чтобы в самый разгар холеры выпустить в свет подобную книгу […]. Вы, наверное, от души посмеетесь над лицемерием дам, которые проглотят вашу книгу, а потом будут делать вид, что никогда о ней не слышали. „Грешок“ — настоящий бриллиант, а чтение литаний рисует восхитительную картину. „Жануа Коэли“ одна стоит целой книги […], дайте же нам побольше именно таких сказок. „Радости славного короля Людовика XI“ тоже недурны, забавны и бесшабашны, но слишком уж много там говорится об испражнениях […]. Господи, неужели у вас и в самом деле наготовлено для нас целых десять томов подобной забавы и вы не боитесь никаких пересудов на свой счет? Что касается меня, то я благословляю вас продолжать. Когда минует ужас холеры, мы все посмеемся, и этот смех докажет, что вы победили».
Герцог в свои 56 лет слыл любителем удовольствий, Бальзак же в обществе, живущем балами, путешествиями и заговорами против Луи-Филиппа, играл роль заводилы.
Жюль Жанен остался единственным, кто в «Деба» призвал дам втихомолку прочесть эти сказки, «еще более непристойные, чем истории Боккаччо», а «Ревю де Пари» признавал, что они способны «возбудить зависть у библиофила Жакоба».
ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ВЕРНОСТЬ
Прошу вас, присоединяйтесь к нам в деле созидания молодого, поэтического, национального французского роялизма.
Бертье де Савиньи, из письма к Бальзаку, 17 апреля 1832 года
Спустя восемь месяцев после Июльской революции во Франции установилась «монархия, умеряемая беспорядками».
В номере «Волер» от 15 марта 1831 года сообщалось, что автора «Писем о Париже», появлявшихся за подписью «Вор», звали Бальзак и что он уходит из редакции, потому что решил выдвинуть на выборах свою кандидатуру.
В апреле 1831 года Бальзак опубликовал «Исследование о политике двух министерств» (Лаффитта и Казимира Перье). Текст был подписан «Бальзак, избиратель с правом быть избранным». Он рассуждает об абсолютной монархии как о «более или менее Божественном Промысле, более или менее удачно претворяемом в жизнь». Затем следует очерк истории Июльской революции. Вначале было разношерстное министерство банкира Лаффитта, насадившее на должностные места представителей Движения, полных решимости решить социальные вопросы и оказать помощь национальным меньшинствам европейских стран: полякам, бельгийцам и итальянцам, оказавшимся в состоянии угнетенных после Венского конгресса 1814–1815 годов. Начиная с ноября 1830 года Бальзак активно боролся за то, чтобы «парижские мостовые простирались до Рейна». Наступательная тактика принесет Франции только пользу. «Спор между нами и Англией должен решаться в Антверпене», потому что Бельгия желает стать французской. «Между нами и Россией он должен решаться в Варшаве». Бальзак даже представлял себе, как Польша в союзе с Турцией, Швецией и Данией завоевывает Россию.
«Настал день, когда этот огромный снежный ком (Россия] должен развалиться на четыре части».
Второе министерство Июльской монархии, министерство сопротивления, было образовано 13 марта 1831 года по инициативе президента Палаты депутатов Казимира Перье. Программа была проста: «Внутри — порядок, не жертвующий свободой, снаружи — мир, не попирающий честь».
Луи-Филипп не мешал националистам свободно высказываться, при этом вовсе не собираясь тревожить покой Европы. Он даже якобы обращался к монархам-соседям с письмами, в которых подчеркивал, что революция была вовсе не «делом славы», а «способом предотвращения катастрофы».
Бальзак верил, что его «Исследование о политике двух министерств» отдаст ему голоса избирательной коллегии. Но вот только какой именно? Если «либералы» представлены более чем широко, то легитимистов, напротив, скорее мало. Соответственно мало и тех, кто за них голосует. Роялисты вообще уклонялись от участия в выборах. Крайне неодобрительно воспринимавшие избирательную систему, которая удвоила число выборщиков, они упрекали Луи-Филиппа в том, что к управлению государством он относится как к деловому предприятию, думая лишь о материальных выгодах, тогда как Государство — это прежде всего моральная и религиозная власть, основанная на уважении традиций, семьи и божественного права.
В 1829 году Бальзак познакомился с Самюэлем Анри Берту. Родившийся в Камбре в 1804 году, этот сын владельца типографии унаследовал от отца основанную последним «Учредительную газету Камбре» и принимал самое активное участие в деятельности «Соревновательного общества», в 1824 году отметившего его «Первые поэтические опыты». В Париже Берту снова занялся типографским делом, не исключено, что среди прочего ему приходилось печатать и творения Бальзака.
Их личная встреча произошла, по всей видимости, в гостях у Жана-Этьена Эскироля (1772–1840), ученого-психиатра и ученика Пинеля. Состоялась она в лечебнице Шарантона. К обеду пригласили также некоего прекрасно одетого и весьма сдержанного господина. К концу трапезы Эскироль наклонился и тихонько шепнул Берту:
— Дитя мое, вы сейчас отобедали в обществе одного гения и одного сумасшедшего. Который из них сумасшедший?
Пока длился обед, Бальзак не закрывая рта рассказывал о сотне своих романов, правда, существующих пока в форме набросков… Ничего, скоро всем станет ясно… и так далее.
Берту без колебаний указал на Бальзака.
— Вовсе нет. Как раз это молодой писатель с блестящей будущностью, — сказал Эскироль. — А вот другой наш сотрапезник содержится в Шарантоне уже пятнадцать лет. Он убежден, что он — Бог-Отец.
В марте 1831 года Бальзак рассчитывал добиться избрания с помощью «Газет де Камбре», только что основанной Берту. «Будущая Ассамблея обещает быть бурной. Она беременна революцией. Возможно, жители вашего округа предпочтут видеть среди депутатов парижанина, а не одного из вас».
Роспуск Палаты произошел 31 мая 1831 года. Выборы назначили на 5 июля. Берту представил Бальзака в своем «Соревновательном обществе», рекомендуя его как деятеля «Просвещения», готового сыграть роль воспитателя народных масс.
Сам Бальзак относился к этой идее более чем сдержанно. Если бы деятели прошлого знали заранее, во что выльется воспитание народа, они поостереглись бы им заниматься. Бальзак подсчитал, чего стоило Франции — и в деньгах, и в человеческих жизнях — политическое, социальное и культурное освобождение страны. Итог выглядел катастрофическим.
«За четыре года результатом общественного движения стали, самое большее, еще один миллион французов, внявших призывам воспользоваться благами просвещения, один миллион новых собственников и создание около тридцати тысяч промышленных предприятий. Эта победа добра над злом стоила нам двух миллионов человеческих жизней и двух миллиардов долга. Удивляться тут нечему. Воспитание одного человека обходится в 20 тысяч франков. Но ведь воспитание целой нации — дело куда более сложное! Истинные друзья страны должны распространять свет знания. Мысль — вот самый прочный из барьеров. Для поддержания мира в Европе довольно и памфлетов ценою в два су, похожих на „Здравый смысл старины Ришара“» («Волер», «Письма о Париже», 20 февраля 1831 года).
Бальзак считает, что есть вещи поважнее просвещения. Это та линия поведения, которая определяет качества человека и указать которую каждому может лишь его сердце. Следует различать насущную необходимость овладения ремеслом, сопровождаемую стремлением к совершенству, и то, что принято называть «курсом», иными словами, определенную стоимость того или иного товара или продукта. Само слово «курс» не имеет никакого реального смысла. Говорят, например, «обменный курс» и «курс литературы»…
Реальное равноправие не может быть установлено никакой человеческой властью. Хорошее правительство осуществляет соблюдение «страхового договора между богатыми и бедными». Этот договор работает, если винтики и колесики механизма устроены таким образом, что лучшим представителям обеспечена возможность подняться к вершинам управления государства, даже если они не обладают богатством. Это излюбленная идея Бальзаков — отца и сына, — идея, служащая иллюстрацией к их собственной истории: истинное равенство может обеспечить лишь гибкая социальная система. «Необходимо, — еще и еще раз повторял Бальзак, — дать возможность людям талантливым, к какому бы классу они ни принадлежали и под каким бы небом ни родились, проявить все, чем одарила их судьба».
ПУСТЬ ПОБЕДИТ ДОСТОЙНЕЙШИЙ!
В 1831 году Бальзак заплатил налогов на сумму в 31,35 франка. Свои надежды на достижение избирательного ценза, составляющего 500 франков, он связывал с возможной женитьбой.
Что же произошло в апреле того года?
Бальзак побывал в Сен-Фермене, близ Шантильи, где располагалось поместье госпожи де Берни. Неподалеку от этих мест жило семейство барона Малле де Трюмилли, знакомого госпожи де Бальзак. У бывшего полковника армии Конде и убежденного роялиста Трюмилли росла дочь Элеонора. Мысль о том, чтобы выдать ее за Бальзака, наверняка обсуждалась. Но 7 апреля 1832 года барон де Трюмилли умер от холеры. Семья боялась сделать решительный шаг, а главное, не желала торопиться со свадьбой: «Заурядное счастье отступило перед вами; вы его испугали; в вашем взгляде есть такая ясность, какую не всякому дано выдержать», — напишет Бальзаку 16 июня 1832 года Зульма Каро.
Наверное, Бальзак и сам немного струсил перед перспективой связать свою жизнь с в общем-то случайной женщиной.
«Женюсь ли я?» Как часто задавался он этим вопросом! Женитьба повлечет иной образ жизни, значит, чтобы затыкать дыры в семейном бюджете, ему придется писать все больше и больше, работать все быстрее, и написанное будет хуже. В том, что касалось работы, Бальзак был предельно серьезен. «Женитьба, — пришел он к мнению, — годится лишь для бедняков или богачей».
Человек с «заурядным состоянием», связавший себя узами брака, остро ощущает, чего именно не хватает его жене. Воображение рисует Бальзаку образ несчастной женщины, приговоренной собственным мужем к разнообразным лишениям: «подавленные желания, угасшие возможности, отсутствие занятий, униженное самолюбие».
С другой стороны, он не желал чахнуть возле жены, которая будет непрестанно ныть или, напротив, окажется лишенной всякого самолюбия. Его слишком переполняла энергия, чтобы терпеть возле себя чье-то докучливое присутствие. Какая же жена ему нужна? Неравнодушная к известности, умеющая ценить величие, — такая, которая стала бы достойной помощницей его славы. Ему нужна женщина, которая не уставала бы повторять ему слова Гонории, обращенные к Атилле:
Мне нужен король. Разве вы им еще не стали?
1 июня Бальзак писал Зульме Каро, своей конфидентке той поры:
«Я таю в себе культ женщины и жажду любви, которая никогда не была полностью удовлетворена; отчаявшись добиться истинной любви и понимания от женщины, о которой я мечтаю, встретив такую любовь лишь в форме сердечной привязанности, я бросаюсь в бурное море политических страстей, в грозовую и иссушающую атмосферу литературной славы. Быть может, меня ждет неудача и в том и в другом, но поверьте, если уж я захотел жить жизнью этого века вместо того, чтобы пройти сквозь него счастливым и никем не замеченным, то это как раз потому, что чистое заурядное счастье меня обошло. Коли кому-то выпало целиком создавать собственную судьбу, пусть уж она будет великой и блистательной, ибо, если уж приходится страдать, пусть страдание протекает в высоких сферах, а не в низких. Что до меня, то мне больше нравятся удары кинжала, чем булавочные уколы».
Если Бальзак и был Прометеем, каким описал его Андре Моруа, то в политике его ждал провал.
Бальзак больше не подавал никаких признаков жизни Берту, так горячо «мечтавшему ввести его в круг знакомств в Камбре». «Ваша артистическая беззаботность, — писал ему Берту, — похоронила все мои надежды». Так же вяло он вел себя и с генералом Помрелем, на котором лежала задача представить его кандидатуру в Фужере.
БАЛЬЗАК — ВРЕМЕННЫЙ ЛЕГИТИМИСТ
Спустя год, в мае 1832 года, Бальзак вновь выдвинул свою кандидатуру в депутаты. На сей раз кампания частичных выборов прошла в Шиноне.
Бальзака представляла крайне роялистская газета «Котидьен»: «Молодой талантливый и полный сил писатель, демонстрирующий горячее стремление посвятить себя защите принципов, на которых зиждется счастье и покой Франции».
Карлисты, сторонники возвращения на престол Карла X, к выборам относились неодобрительно. Они отказались приносить конституционную присягу и ратовали за отказ от участия в выборах.
Бальзак рассчитывал, что ему поможет аура, созданная его статьями и романами.
31 марта 1832 года ознаменовалось его сенсационным дебютом в «Реноваторе»: Бальзак полагал, что на улице Ришелье, на месте бывшей Оперы, там, где парижский шорник Лувель 13 февраля 1820 года убил герцога де Берри, второго сына Карла X, необходимо соорудить искупительную часовню. «Какое заблуждение, — писал Бальзак, — думать о разрушении памятника, увековечивающего святую память потомков королевской семьи! Если вы хотите оставаться последовательными, то я рекомендую вам не забыть и про часовню герцога Энгиенского в Венсенне… Рушьте все, превратите площадь, где когда-то стояла Опера, в пустырь, но только воздвигните на этом месте пирамиду и украсьте ее надписью: „Народам без сердца — законы безбожия“. И довольно слез в день 21 января» (дата смерти Людовика XVI).
Призывам Бальзака не слишком внимали. Оперу перенесли на улицу Ле Пелетье. Проект памятника благополучно похоронили, а на этом месте соорудили фонтан, который и сегодня еще можно видеть в сквере Лувуа.
В Шиноне Бальзак выступил как кандидат от легитимистов, иными словами, как сторонник герцога Бордосского, которому в ту пору не исполнилось еще и 12 лет. Его называли «младенцем чуда», потому что он появился на свет 29 сентября 1820 года, через семь месяцев после гибели своего отца. Герцогу предстояло позже стать графом де Шамбором.
В Шиноне кандидатура Бальзака выглядела довольно странной на фоне двух других, хорошо известных кандидатов. Один из них, Жюль Ташро, бывший издатель и генеральный секретарь департамента Сена, представлял партию движения. Кандидата от «золотой середины», то есть именно того, чье избрание устроило бы правительство, звали Жиро де л’Эн. Будучи председателем суда присяжных, 1 августа 1831 года большинством в один голос он был избран председателем Палаты. С марта 1832 года он занимал пост министра общественного образования.
Но легитимистам нравился Бальзак. От других членов этой партии, привыкших сопровождать свои действия всяческими предосторожностями и на коленях вымаливать милостей у Богом данной власти, его отличали смелость в суждениях и громогласность.
Для Бальзака королевская власть — это «абсолютизм, наиболее великая из всех возможных форм власти».
24 мая 1832 года, за три недели до выборов, в газете легитимистов «Котидьен» о Бальзаке писали как о друге, помощнике, «новом человеке». Это значит, что его кандидатуру серьезно не воспринимали, однако учитывали его способность оказать помощь избирателям-монархистам и вообще оживить всю предвыборную кампанию.
В какой мере политическая деятельность Бальзака была для него игрой, времяпрепровождением и еще одним способом заставить о себе говорить? В любом случае, он верил в легитимизм.
«Если бы принципа легитимизма не существовало, его следовало бы выдумать. Легитимизм — это печать наследственного владения, та невидимая нить, которая связывает властителей со страной и превращает ее в стройную систему».
Еще Бальзак верил в цивилизаторскую миссию католицизма.
В «Зеро» (3 октября 1830 года) он писал о католической церкви как о «старой проститутке, согбенной и не поднимающей головы от земли, покрытой грязью и привыкшей к нищете».
В ноябре 1831-го Бальзаку стали заметны некоторые признаки возрождения Церкви:
«[…] Старушонка приподнялась с колен, отшвырнула свое рубище, стала выше ростом […], и в своем льняном платье показалась мне чистой и юной […]».
«Смотри и веруй!» — сказала она […].
«Верить, подумал я, значит жить! Я только что проводил взглядом кортеж Монархии, теперь следует защищать ЦЕРКОВЬ!»
Бальзак написал эти строки на следующий день после разграбления Сен-Жермен-л’Оксеруа, в которой проходила торжественная месса в связи с годовщиной смерти герцога Беррийского, — 14 февраля. Назавтра, то есть 15 февраля, бунтовщики напали на Нотр-Дам, а затем разорили архиепископство. В номере «Волер» от 20 февраля 1831 года Бальзак писал:
«Я видел мальчишек, шедших со стороны архиепископства, изображая процессию. В руках они несли поломанные кресты, кропила, молитвенники, порванные стихари и изодранные в клочья мантии, напялив их на себя шиворот-навыворот и распевая непотребные гимны; перед ними шагала хохочущая толпа в окружении национальных гвардейцев; вскоре вся эта шайка смешалась с карнавальными масками… На набережной собралось тридцать тысяч душ, и все они аплодисментами встречали низвержение архиепископского креста, а по бульварам прогуливались разряженные женщины, зеваки и веселящиеся маски. На набережной Морфондю какой-то рабочий, переодевшийся столетней старухой-богомолкой, держал трясущимися руками чахлую веточку священного букса и вовсю веселил прохожих… Вот каков католицизм образца 1831 года…»
В конце мая Бальзак выпал из своего тильбюри. Начало июня он встретил в постели, измученный травмой, диетой и «строжайшим запретом читать, писать и думать».
Выборы в Шиноне прошли без него. Избрания удостоился «кандидат от золотой середины» Жиро де л’Эн, получивший 260 голосов против 60, поданных за Жюля Ташро.
«Фигаро» в своем номере от 1 июня вдоволь поиздевалась над «сэром Бальзаком, сеньором Шинона, графом Азей-ле-Ридо». Бальзак был с головой погружен в работу, когда «к нему явился некто и принялся дубасить в двери дворца, вырывая его из блаженного состояния довольства. […]. Сэр Бальзак спустился с небес своего воображения и одновременно с чердака и крикнул: „Кто там? — Ваш избиратель из Шинона, — был ему ответ. — Мой избиратель! Добро пожаловать! Позвольте выразить вам мою живейшую радость…“»
19 июня та же «Фигаро» приписывала Бальзаку уже десять голосов, «десять голосов потеряно, десять голосов достались г-ну Бальзаку».
За революционными событиями 5 и 6 июня 1832 года выздоравливающий Бальзак наблюдал из окон дома своей сестры на бульваре Тампль.
Генерал Ламарк мечтал видеть Францию «посланницей славы и свободы», взявшей на себя миссию освобождения народов. 1 июня он умер от холеры. Оппозиция стремилась превратить его похороны в подобие погребальной церемонии Казимира Перье, главы правительства, который также умер во время эпидемии после своего официального визита в центральную больницу. 5 июня «бунтовщики всех национальностей» собрались на демонстрацию. Началом послужил момент, когда похоронная процессия добралась до Аустерлицкого моста. В течение двух дней восставшие хозяйничали в центре Парижа, от площади Виктуар до Бастилии и бульвара Тампль. Поздним вечером 6 июня «для наведения порядка» в дело вступили войска и национальные гвардейцы. Для «защиты порядка от яростного и упорного врага» в ход пустили и револьверы, и картечь. Полторы тысячи человек были арестованы, среди военных насчитывалось 500 раненых и 85 погибших, 43 человека из числа восставших были убиты и 291 ранен.
8 июня 1832 года Бальзак, напуганный революционной жестокостью, отправился в Саше. Ему казалось очевидным, что беспорядков не избежать. В деревне же ничто его не потревожит, да и эпидемия холеры туда вряд ли доберется.
Его принимала у себя госпожа де Маргон, помогавшая ему добрыми советами в период его избирательной кампании в Шиноне. Бальзаку непременно следует увидеться с герцогом де Майе и с герцогом Фитц-Джеймсом, которые смогут дать ему рекомендации. Герцог де Майе в годы правления Карла X управлял Компьенским замком, а герцог Эдуар де Фитц-Джеймс был адъютантом графа д’Артуа. Госпожа де Маргон многое знала, а об остальном догадывалась. Дело в том, что герцог де Майе был отцом, а герцог де Фитц-Джеймс — дядей маркизы де Кастри, той самой красавицы, что околдовала Бальзака своими письмами, которые вначале она отправляла неподписанными и лишь полгода спустя назвала ему свое имя.
«ЖЕНЩИНА-МЕЧТА»
Прислониться к генеалогическому древу.
Июнь и июль 1832 года Бальзак провел в Саше, устроившись наилучшим образом. «Рано или поздно литература, политика, журналистика, брак или крупное дело (связанное с книготорговлей, то есть с продажей книг по подписке) принесут мне состояние».
В Туре вокруг него толпились друзья юности. Бальзак прекрасно помнил барышень, которые «сучили ножками», то есть танцевали кадриль в 1823 году. В их числе были дочери архитектора Белланже, а также две сестры Ландрьер де Борд. Первая отличалась таким маленьким ростом, что «жениться на ней имело бы смысл лишь для того, чтобы сделать из нее булавку для сорочки». Вторая, Шарлотта, ставшая Каролиной, в 1825 году вышла замуж за Петера Дербрука. В июне 1831-го муж ее умер, оставив ей огромное состояние. Именно на нее обращал свои надежды Бальзак.
Эта женщина могла бы принести ему средства, достаточные для того, чтобы держать лошадей, платить Леклерку («груму»), рассчитаться с домовладельцем, выкупить кабриолет, за который он оставался должен тысячу сто франков, оплачивать «услуги краснодеревщика и прочую роскошь», придающую ему важный вид.
Из-за необходимости присутствовать на судебном процессе в Нанте госпожа Дербрук не смогла увидеться с Бальзаком, но тем не менее дело казалось «столь же возможным, сколь легко улаживаемым». Ей передали, что Бальзак влюблен в нее. Оноре же рассчитывал, что благодаря мадам Дербрук «все издатели будут у его ног».
Если Бальзак и строил планы относительно этого брака, то делал это в основном ради того, чтобы успокоить мать. Сам же он в это время находился под действием куда более «могущественных чар», достойных человека чести. Он грезил о маркизе де Кастри и еще одной далекой княгине.
В начале 1832 года Бальзак получил два письма. Первое, присланное из Одессы, было подписано «Иностранка». Это письмо стало началом романа Бальзака и госпожи Ганской, его заядлой почитательницы. Убежденная в том, что XIX век — это век глупости[30], она тем не менее благосклонно относилась к французским романам, особенно выделяя «Шагреневую кожу». Второе письмо от маркизы де Кастри Бальзак получил 28 февраля; впервые маркиза написала ему еще в сентябре 1831 года, но поначалу скрывала свое имя.
Генриетта де Кастри, урожденная де Майе де Ла Тур-Ландри, родилась 8 декабря 1796 года и была, таким образом, на три года старше Бальзака. Она рассталась со своим мужем маркизом де Кастри в 1822 году и поселилась с любовником, сыном австрийского канцлера Виктором де Меттернихом. В 1827 году у них родился сын Роже, барон Альденбургский, которому Бальзак посвятил свою «Пряху». Князь Меттерних скончался в 1829 году от туберкулеза. Маркиза де Кастри во время охоты упала с лошади и сломала позвоночник. Калекой она не стала, но здоровье потеряла и не могла больше предаваться чувственным радостям. Принимая у себя знатных вельмож и известных писателей, она тешила свое тщеславие и этим развлекалась. Все дружно считали ее красавицей, хотя находили, что она несколько поверхностна, а в глубине души и спесива.
Маркиза вовсе не была особенно богатой. Ее жизнь протекала либо в особняке на улице Гренель, либо в замке отца герцога де Майе близ Монлери, либо в замке Кевийон, принадлежащем ее дяде, герцогу Фитц-Джеймсу.
В лице маркизы де Кастри Бальзак готов был боготворить существо ангельской красоты, «чистую прелесть и возвышенные манеры». Но он опасался, что с ней у него ничего не выйдет. Внешне такая мягкая, на самом деле маркиза отличалась упрямством и ненавидела любые узы, «поскольку была слишком фривольна, слишком опытна и слишком занята собой». Она была не способна признать превосходство мужчины, в котором «величие ума сочетается с сердечным простодушием». Что ж, «хорошеньких женщин на свете куда больше, чем гениев».
ЛЮБОВЬ ДУРНУШКИ
В ожидании, пока появятся деньги, необходимые для поездки в Экс-Ле-Бен, где отдыхала маркиза де Кастри, Бальзак решил на несколько недель отправиться в Ангулем к Зульме Карро.
Он знал, что здесь для него приготовлена комната, но в то же время слегка опасался усердия Зульмы, которая непременно захочет составить ему компанию. Она усядется рядышком со своим вышиванием и будет ловить каждое его слово… Но… В карманах у Бальзака оставалось не более сотни франков, и потому выбора не было. Итак, в путь. 17 июля 1832 года он приехал в Ангулем.
27 июля пришла радостная весть. Жозефина Деланнуа (1783–1854), дочь банкира Даниэля Думерка, только что получила крупную сумму денег. Она готова была предоставить Бальзаку заем в десять тысяч франков. Эти деньги должны были пойти «на уплату долгов», но главным образом — на поездку к герцогине де Кастри, «прекрасной даме из Экса». Мадам Деланнуа советовала ему быть экономным, а кроме того «не показываться на людях с некоторыми особами, с которыми вы можете провести часок, если вам угодно, но ни в коем случае не должны заходить к ним домой. Кто, по-вашему, ведет себя подобным образом? Дюжина молодых простаков, растративших состояние и здоровье, которых ждет смерть на больничной койке после попытки пустить себе пулю в лоб. Бесславный конец!»
В «Шагреневой коже» Бальзак описал Рафаэля, убитого «избытком любви». Добрая душа, мадам де Деланнуа, очевидно, прочтя роман, сделала выводы из прочитанного.
У Бальзака, впрочем, кончают самоубийством или умирают на больничной койке чаще проститутки, чем их клиенты. Такова судьба Акилины из «Шагреневой кожи». В романе «Блеск и нищета куртизанок» Сюзанна дю Валь-Нобль отдает Эстер Гобсек черный жемчуг, проданный Жаклиной Колен и пропитанный смертельным ядом.
Знакомство с куртизанкой может оказаться волнующим. Эстер Гобсек, вырвавшаяся из дома мадам Мейнардье, где ее держали взаперти, захочет стать ангелоподобной любовницей Люсьена де Рюбампре, но ей будет стоить немалого труда избавиться от репутации публичной женщины. Затем она захочет умереть, поступит в монастырь, но жизнь без любви покажется ей мучительной. В 1841 году она покончит с собой, поняв, что только так сможет освободиться от роли любовницы Нусингена.
В Ангулеме Бальзак работал как одержимый, едва находя время написать матери: «Если бы я не боялся тебя встревожить, то попросил бы мадам Карро писать вместо меня». Работа над завершением «Луи Ламбера» заняла сто шестьдесят часов. Для «Ревю дэ дё монд» он пишет «Гренадершу» и «Покинутую женщину». «Этюды о женщинах», по его задумке, должны были составить трех-четырехтомную серию. С просьбой написать предисловие к этой работе он обратился к Дельфине де Жирарден. И получил в ответ замечание, что, владея «редким искусством перевоплощения в процессе письма […], он, несомненно, и сам сумеет сочинить предисловие от лица женщины».
Зульма Карро продемонстрировала самую восхитительную преданность и предложила Бальзаку оставаться у нее и дальше. По приезде он показался ей отупевшим от усталости и «на грани помешательства». Бальзак не мог не отозваться на такое искреннее чувство. Зульма называла себя «маленькой уродливой хромоножкой», но он видел прежде всего ее «сердце друга, полное нежности и чуткости». «Вы относитесь к числу тех редких душ, — говорил ей Бальзак, — принадлежностью к которым я могу гордиться благодаря связывающему нас знакомству».
Бальзак ощущал физическую потребность быть любимым. Но Зульма была слишком горда, чтобы уступить ему. Она боялась, что муж «догадается по новым интонациям в ее голосе о том волнении, которое она испытает, а это вовсе ни к чему». Зульма видела добродетель в том, чтобы отказаться от плотских радостей жизни. Наконец, ей было хорошо известно, что Бальзак не способен на продолжительную любовную привязанность; его романы бывают бурными, но краткими. «Вы сладострастны, — упрекает ее Бальзак, — но бежите от собственного сладострастия». Он сулил ей «неземной рай».
«Не спорю, — отвечала Зульма. — В другой оболочке я чувствовала бы себя женщиной, созданной для вас. И я бы вас полюбила всей душой!»
Наблюдая за этой непостижимой и восхитительной женщиной, Бальзак проникся мыслью написать роман под названием «Любовь дурнушки». Ему хотелось показать, как под действием любви дурнушка становится красавицей и как она снова превращается в дурнушку, когда любовь уходит.
Казалось бы, что еще можно добавить к благородному портрету этой достойнейшей из женщин? Когда у ее мужа, майора, на стороне появилась незаконнорожденная дочь, Зульма Карро согласилась стать девочке крестной матерью и приняла ее у себя в доме.
22 августа Бальзак покинул Ангулем и отправился в Экс-ле-Бен, где его ждала маркиза де Кастри. Маркиза проводила лето в окружении близких: с ней находились пятилетний сын и семейство Фитц-Джеймсов. Мечта «завоевать самую обворожительную из женщин, заставить ее делать ради него глупости и предаваться тайным сумасбродствам», вскружила голову Бальзаку; такая же мечта вскружит голову Люсьену де Рюбампре, влюбленному в Диану де Мофриньез.
На дилижансы, передвигавшиеся со скоростью четыре километра в час, жаловался еще Виктор Гюго: они едут слишком быстро и не дают насладиться окружающим пейзажем. Бальзак путешествовал на империале и тоже не получал удовольствия от быстрой езды.
Из Ангулема он выехал 21 или 22 августа, а на следующий день около шести часов прибыл в Лимож. Из Лиможа он добрался до Клермона, где нанял дилижанс до Лиона, причем один из самых быстрых во Франции: расстояние в 51 лье, то есть в 200 километров, он покрывал меньше чем за 45 часов.
В Тьере Бальзак, собираясь сойти, отпустил кожаные ремни, но в этот момент лошади тронули с места. Чтобы не свалиться, он попытался ухватиться за ремень, но повис в воздухе, а ногой со всего размаху ударился о стенку повозки. Рана на ноге, трещина кости и воспаление — такой оказалась цена экономии, на которую он согласился под давлением госпожи де Бальзак. Она отказала ему в экипаже и настойчиво твердила, что пора продать карету и избавиться от Леклерка.
«ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА, УЖАСНАЯ МАРКИЗА»
— Что же вам остается после этих невзгод?
— Остаюсь я. Да, я, и этого довольно.
Пьер Корнель, «Медея», акт I, сцена V
«Белокурые женщины — это кружево, сплетенное веретеном, это поэзия лимфы». Бальзак — это поэзия крови. Все вместе образует гремучую смесь.
В Эксе Бальзака приняли благосклонно. «Из соседнего кафе мне приносят яйцо и чашку молока; затем около шести часов я спускаюсь к маркизе и провожу вечер с ней до одиннадцати! К тому же я работаю по 12 часов!» Маркиза вела себя весьма любезно, но он понимал, что служит ей лишь развлечением и никогда не добьется любви, никогда, как говорил он сам, она его «не отметит». Высокомерные насмешки маркизы над морганатическими браками «укрепляют ее добродетельную репутацию и дают возможность вдоволь позабавиться, обсуждая чужие тайны».
Бальзак завершил работу над «Луи Ламбером» — «произведением, пронизанным глубокой и молчаливой грустью».
Зульма Карро точно угадала его больное место: Бальзак одержим гордыней. Он жаждал славы героя, но не фанфарона, который «ради мелкого тщеславия готов отказаться от истинной славы»; ему было необходимо признание аристократов.
19 сентября, пока маркиза не уехала в Италию, где собиралась провести зиму, Бальзак предложил ей посетить Картезианский монастырь, основанный святым Бруно, с постройками XVII века. Именно там Бальзак увидел надпись: «fuge, late, tace» («Беги, скрывайся и молчи»), В романе «Блеск и нищета куртизанок» Люсьен де Рюбампре в шутку воспользуется этой формулировкой, чтобы призвать к молчанию старых приятелей, узнавших его на балу в Опере.
В 1832 году монашеские кельи представлялись Бальзаку «местом отдохновения, к которому стремилась его душа». В это время он был одержим идеей «обратиться к религии»; эту идею воплотил на страницах «Сельского врача» его герой Бенассис.
«Я решился. Обитая еловыми досками келья, жесткая постель, — все находило отклик в моей душе. Картезианцы были в часовне, и я отправился молиться вместе с ними».
Бальзак действительно временами испытывал желание удалиться от мира, в котором мать засыпала его счетами и напоминаниями о срочных платежах; а вдобавок ко всему его засыпало письмами «существо, состоящее из дерзости и низости, имя которому Бюло».
Бывший издатель, а с 1831 года директор «Ревю дэ дё монд», Бюло имел привычку, обежав весь Париж в поисках новых подписчиков, продрогнув и промокнув, заходить на огонек к Бальзаку. Его журнал быстро сделался первым в Европе литературным сборником. И Бюло решил, что отныне может обращаться с Бальзаком свысока, печатая его лишь в «Ревю де Пари», чтобы не отпугнуть серьезных читателей «Ревю де де монд», которым истории Бальзака, пусть и превосходно написанные, могли показаться безнравственными.
Чтобы заработать немного денег, Бальзак начал «Сельского врача» — вполне «благопристойное сочинение», достойное премии Монтиона. Закончил он его лишь в сентябре 1833 года. От своего издателя Госселена он надеялся получить две тысячи франков, но тот не торопился раскошелиться.
Роман с маркизой де Кастри развивался вяло. Уже 23 сентября Бальзак пришел к выводу, что «жизнь такого человека, как я, не должна быть привязана к женской юбке… Я должен идти своим путем и видеть чуть дальше, чем остальные».
Госпожа де Кастри, собиравшаяся провести зиму в Неаполе, «милостиво предложила отказаться от Италии» и поехать вместе с ним в деревню. Что имела в виду Генриетта (он решил называть ее Марией)? Впрочем, вскоре она уже сама не хотела об этом вспоминать. Он начал замечать в ней жесткость и понял, что продолжительное общение с этой женщиной стало бы невыносимым. Ему хватило проницательности распознать и ее легкомыслие, и ее сумасбродство, и ее безответственность. Беглый жест, мимолетный поцелуй, легкое касание рукой ее юбки превращались в эпизоды «юбочной войны». Не раз он пытался возобновить попытку, но все так же безуспешно. «Если вы не станете таким, каким я хочу вас видеть, я больше не буду вас любить», — говорит героиня «Разочарования любви» своему пылкому поклоннику, флорентийскому скульптору Анжело Каппаре. И дамский угодник, подобно Бальзаку, вскоре начинает сознавать, что «эта дама находит особое удовольствие в том, чтобы заставить его попрыгать, позволять ему все, но при условии, что „дивные удовольствия любви“ достанутся не ему».
Чтобы нравиться маркизе, Бальзак попросил мать прислать ему флакон португальской воды из Убигана, белые галстуки и сорочки, две пары сапог, одну из тонкой кожи, одну из грубой, и полдюжины желтых перчаток.
Облик маркизы де Кастри раскрывают ее письма Сент-Беву (1834–1838), опубликованные Джеральдом Антуаном. В них она предстает нежной и неудовлетворенной своей жизнью, но вместе с тем абсолютно целомудренной женщиной. Она пишет: «Когда Роже (ее сын) вместе с солнцем уходит спать, мне холодно и страшно в тишине своей комнаты. Знаете ли вы, как часто голова моя склоняется в кресле, словно ища дружеского плеча? Нет, я не могу жить в одиночестве, без любви, без ответного взгляда, без сердца, которое билось бы рядом с моим». Сент-Бев был растроган, а между тем нетерпеливый и отчаявшийся Бальзак тщетно пытался подступиться к ожидающей любви женщине.
Генриетта де Кастри ему отказала. Единственную привязанность она отдала своему любовнику Виктору де Меттерниху, умершему в 1829 году.
История закончилась очень быстро. Бальзак снова увиделся с госпожой де Кастри в Женеве, в «Отель де ля Курон». Она готовилась к отъезду в Италию. Бальзак жестоко переживал обиду, нанесенную не его чувствам или мужскому достоинству, а его человеческому достоинству. Он мечтал войти в аристократический круг, стать своим в самых богатых салонах, разъезжать по Европе, бывать на водах, охотиться и присутствовать на всех важных празднествах… Затем сделаться депутатом, пэром Франции, министром и получить возможность влиять на умы.
В который раз его утешительницей стала чернильница. Осень Бальзак провел в Ла Булоньер, у своей давешней любовницы госпожи де Берни, которая легко простила ему неверность. Эта маленькая 60-летняя женщина прекрасно понимала, что основой их взаимоотношений может быть только его работа — тот капитальный труд, который Бальзак задумал лишь в общих чертах и который еще оставалось написать. В этом смысле госпожа де Берни была поистине уникальной женщиной. Она не заговаривала с Бальзаком, пока он сам к ней не обращался. Она помогала ему выстраивать общий план творчества, отделяя главное от второстепенного, а в его рукописях старалась следить за соблюдением условностей, чтобы его не знающая удержу чувственность не слишком шокировала благопристойность читателя.
«Сельского врача» — «прекрасную рукопись» — Бальзак уступил за тысячу франков издателю Маму. Мам, случайно узнавший о приезде Бальзака в Немур, пожелал получить ее немедленно. Пусть приезжает, решил Бальзак. Мам явился. И узнал, что «Сельский врач» еще «не доработан». На самом деле рукопись существовала в голове автора, который успел придумать лишь названия отдельных глав: «Брошенная деревня», «Дорога через поля», «Последствие солнечного заката», «Оргия священников».
Встреча стала началом длительного конфликта между Мамом и Бальзаком. В июне 1833 года Мам устроил Бальзаку вызов в гражданский суд Сены, предъявив ему иск за не представленную вовремя рукопись. Бальзак этот процесс проиграл и в отместку отправился 2 августа в типографию Барбье, где потребовал вымарать или уничтожить уже набранные страницы «Сельского врача». Мам отныне превратился для него в «скорпиона в человеческом обличье, по которому плачет каторга».
«„Врач“ — это история человека, хранящего верность женщине, которая из одного кокетства разбила ему жизнь». Эту часть романа Бальзак написал еще в октябре. Теперь он намеревался написать на тот же сюжет еще одну «потешную сказку». Некая кокетка, желающая проявить свою власть над художником, играет его чувствами. Действие разворачивается в годы правления Карла VII, и художник осмеливается на дерзкую месть. Речь идет о сказке «Разочарование любви», в которой флорентийский скульптор Анжело Каппара поступает с кокеткой так, как она этого заслуживает. Он набрался смелости и изуродовал ее лицо, дабы ей неповадно было впредь кокетничать с другими «несчастными влюбленными».
«Кто поранил вам лицо?» — пытается добиться правды муж. «Здесь не было никого, кроме флорентийца». И муж подает жалобу королю, который приказывает разыскать скульптора, творит скорый суд и выносит приговор: повесить. В день казни некая дама добивается для Каппары помилования, потому что предполагает, что он должен быть «необычайным любовником». Каппара решает стать монахом, заявляя, что «не в силах забыть женщину, которая предала его сердце». Она же, отныне нося на лице уродливый шрам, признается, что «любит Каппару больше жизни, больше всего на свете».
«О РАЗВЯЗКЕ ПОЗАБОТИТСЯ САМ ГОСПОДЬ БОГ»
«Герцогиня де Ланже» появилась в апреле-мае 1833 года в легитимистском журнале «Эко де ля Жен Франс», патронируемом герцогом де Фитц-Джеймсом, дядей маркизы де Кастри. Затем публикация романа внезапно прервалась, по всей видимости, после резкого письма Бальзака маркизе де Кастри, которая теперь говорила ему о своих слезах и стенаниях и уверяла в своей «преданности». Окончание второй части и вся третья часть романа написаны пером мстителя.
«Герцогиня де Ланже» повествует о злоключениях генерала маркиза де Монриво, которого любимая женщина превратила в подобие «мальчика на побегушках». В книге высмеивается аристократия предместья Сен-Жермен, находящая исключительное удовольствие в жизни, полной лжи, обмана и измен. Это именно она своей никчемностью способствовала падению законной династии в 1830 году.
«Вы мне не неприятны», — говорит герцогиня генералу Монриво.
Имя герцогини — Антуанетта. У Генриетты де Кастри она позаимствовала золотисто-рыжеватый цвет волос и «благородное изящество девочки-подростка». Монриво напоминает Бальзака: это невысокого роста, широкий в плечах, «мускулистый, как лев» человек с крупной квадратной головой… Он не художник, он солдат, и притом не лишенный воинской славы. Он сражался при Лейпциге и Ватерлоо. Наступает Реставрация, и король посылает его в Нубию исследовать верховья Нила. Во время одного из переходов через пустыню Монриво в изнеможении падает на песок, но снова встает… «Он не мог допустить, чтобы над ним склонился его проводник-нубиец, то есть варвар». После этого генерал прошагал еще пять часов, пока не добрался до «озера, окруженного зелеными зарослями и восхитительным лесом».
В Париже эта выдуманная история вызвала неподдельный интерес. Монриво как бы поднимал в глазах широкой публики образ француза, изрядно поблекший после поражений Империи. Источником силы для свершения подвига послужила ему его «гордость европейца».
Герцогиня Антуанетта желает, чтобы «этот человек не принадлежал ни одной женщине, но вовсе не намерена принадлежать ему». Таким образом она выступает в роли «собаки на сене» из комедии Лопе де Вега.
Монриво, сгорающий от любви, долгих семь месяцев ходит к герцогине. Она принимает его «возлежа на диване, немая и неподвижная», словно к ней явился не живой человек, а статуя.
Однажды вечером Монриво произносит перед ней слова, смысл которых сводится к требованию: «Позвольте вами обладать». Герцогиня пытается оправдать свою холодность следующими рассуждениями: в мужчинах, говорит она, страсть нередко становится источником любовных интриг, но ключом к их сердцу она служить не может. «Разве можно знать наверняка, что притягивает вас к нам?»
В сердце Монриво любовь сплетается с чувством мести. «В ужасе перед человеческой природой» он уезжает с бала.
Однажды ночью Монриво, задумавший заклеймить герцогиню каленым железом, чтобы впредь она не могла «играть с другими сердцами», тайно похищает ее. Наказание ужасно, но для Антуанетты оно становится самым убедительным доказательством любви: «Когда ты так отметишь женщину, которая должна стать твоей, когда запечатлеешь на ее челе свое каленое число, что ж! Это значит, что ты никогда уже не сможешь ее бросить! Это значит, ты навсегда будешь моим», — говорит Монриво герцогиня.
Из уст герцогини звучит также осуждение общества, навязавшего ей свои условности. Антуанетта уйдет в монастырь. «Склонившись у престола Господа, она получит право и силу надзирать за мужчинами».
С помощью тринадцати преданных товарищей, призвав всю свою решительность, Монриво решает увезти Антуанетту из монастыря, но он приходит слишком поздно и может лишь бессильно наблюдать, как процессия монахинь выносит тело сестры Антуанетты. Ее мертвое лицо «сияет божественной красотой».
«Она теперь не больше чем поэма», — говорит Монриво.
Что касается маркизы де Кастри, то она была слишком сильным игроком, чтобы удаляться в монастырь. И для Бальзака она навсегда осталась любезным другом. В мае 1833 года, когда «Герцогиня де Ланже» печаталась в «Эко де ля Жен Франс», госпожа де Кастри дала князю Меттерниху прочесть первую часть «Истории Тринадцати», второй главой которой как раз и является «Герцогиня де Ланже». Немного спустя маркиза дала согласие просмотреть «Герцогиню де Ланже» и внести свои поправки — выступив в роли светской дамы, способной судить о правдоподобии диалогов, которые не должны выходить за рамки этикета.
Бальзак по-прежнему встречался с маркизой, которая стала герцогиней. Она приглашала его к обеду, он водил ее в лес на прогулки и рассказывал о своих романах… Герцогиня де Кастри навсегда осталась для него одной из тех особ, с которыми, по его мнению, следовало вести себя по-светски и проявляя изрядное остроумие. В соответствии с этим сложится и ее суждение о нем: «ветреный, любезный, непостоянный, тщеславный».
Итак, Бальзак выступил с разоблачениями нравов предместья Сен-Жермен. Он посмел заговорить о «торговцах и тружениках, которые укладываются спать в то время, когда аристократы лишь собираются обедать». Он высмеял «принца Монморанси, который возвышается, словно церковь Сен-Мартен, на углу улицы, носящей его же имя», и «герцога Фитц-Джеймса, потомка шотландской королевской фамилии, выстроившего себе особняк на улице Марии Стюарт, на углу улицы Монторгей».
В который раз на страницах произведений Бальзака появился, перекликаясь с творчеством Корнеля, образ малодушной знати, руководимой дурными советниками, в раболепии перед королем стремящейся принизить угрожающую ему опасность, лишь бы сохранить собственное беззаботное существование. Все эти люди готовы не щадить своих сил, чтобы «принизить величие и возвысить ничтожество».
«В любом государстве и при любой форме правления, как только патриции поступаются своим положением полного превосходства, они теряют всякую силу, и народ сейчас же опрокидывает их. Народ всегда желает видеть у них в руках, в сердце, в умах богатство, власть и способность действовать, умение говорить, мыслить и стяжать славу. Без этого тройственного могущества теряет смысл любая привилегия. Народы, как и женщины, любят силу в том, кто ими управляет, а любовь эта не бывает без уважения; они не согласятся покориться тому, кто не сумеет этого потребовать».
«СЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДУШ»
«Adoremus in aeternum» — вот мой девиз.
Ты слышишь меня, любимая?[31]
Текст рукописи «Герцогини де Ланже» заканчивается припиской: «Женева, Пре-л’Эвек, 26 января 1834 года». Эта дата не соответствует действительности, но для нас важен именно этот день.
Ибо он стал днем, когда у негодницы маркизы появилась соперница, и притом не такая бесчувственная, но способная дарить ласки «слаще меда и жарче пламени».
Проследим за событиями с самого начала.
Письмо из Одессы с почтовым штемпелем от 28 февраля 1832 года пришло на адрес издателя Госселена с просьбой переслать его Бальзаку. Корреспондентка, подписавшаяся «Иностранка», сожалела, что в «Шагреневой коже» Бальзак, описывая драматические переживания женщины, якобы показал в превратном виде женский характер. Своего адреса написавшая не указала, но просила подтвердить получение письма, поместив сообщение в «Газет де Франс», что и было исполнено 4 апреля: «Г-н де Бальзак получил письмо, адресованное ему 28 февраля; он весьма сожалеет о том, что лишен возможности ответить, тогда как природа его возражений такова, что не позволяет опубликовать их здесь же; он выражает надежду, что его молчание не будет истолковано неверно».
Роже Пьерро датирует первое письмо Бальзака госпоже Ганской маем 1832 года. Бальзак сообщил свой адрес на улице Кассини. Вскоре последовало еще одно письмо, написанное в июле рукой Зульмы Карро, вероятно, под диктовку Бальзака. Госпоже Ганской, уделявшей особое внимание автографам и опасавшейся любопытства посторонних, очевидно, почудился в этом некий обман. В дальнейшем Бальзаку пришлось оправдываться и даже сочинить байку о двух своих почерках.
7 ноября 1832 года Ева Ганская решилась на письмо, которому суждено будет послужить толчком к зарождению столь прекрасной любви, что Бальзаку она со временем начнет казаться событием, поднявшимся выше обычной жизни простого смертного: «Вашей душе — века […]. По вашему знанию человеческого сердца я чувствую в вас существо высшего порядка […]. Вы поднимаете женщину до высоты ее истинного достоинства […]. Читая ваше сочинение, я отождествляю себя с вами […]. Мне чудится, что я начинаю чувствовать вашу душу в тех божественных эманациях, которые по мановению вашего пера пронизывают ваши произведения […]. Ангельский союз должен быть вашим уделом […]. Ваш гений представляется мне вершиной человеческого, но нужно, чтобы он стал божественным».
Здесь было именно то, в чем так нуждался Бальзак, часто считавший себя непонятым, если неуниженным: искреннее внимание, более того — восхищение. Тщеславие его было польщено. Горячая поклонница, угадавшая в его творчестве глубокую личную печаль, захотела исцелить ее доверительным и страстным участием.
Отвечая ей в январе 1833 года, он не боялся показаться смешным и в самом элегическом тоне рассказал свою жизнь: «Когда все, во что я верил, все, чего страстно желал, мне изменило; когда рассеялись все мечты, мне пришлось придумывать страсти. Я взвешиваю каждую фразу и каждое слово […]. Сколько любви я теряю при этом! Сколько счастья выбрасываю на ветер!»
С самого начала их переписки Бальзак находил для Евы место в своем искусстве, которое благодаря ей превратилось в символ любви. Будучи художником, он стремился сделать прекрасней жизнь той, кого любил. Может быть, любовь и есть то единственное, что позволяет увидеть красоту в предметах и людях. Творчество Бальзака отныне перестало подчиняться инстинктам, настроениям и страстям. С «Шагреневой кожей» покончено. Он весь отдался раскаянию, которое помогает избегнуть греха. И писал он теперь не для каких-то там читателей, а для одной-единственной собеседницы, с которой его объединяло чувство сверхъестественной общности, приоткрывающей тайный, высший лик мира. Временами Бальзак еще выдавал себя за несчастного поэта, но теперь позволял себе это лишь в переписке с Евой Ганской.
«Мою душу оживляет вечная истина, я чувствую ее; только вы можете понять и описать это биение чистой, священной любви; оно заставляет меня любить, чтобы жить, и жить, чтобы любить; оно дает мне силы с чистой и смиренной радостью озирать будущее, которое, я чувствую это, принесет счастье и радость тому, кто сумеет ухватить эту электрическую искру, эту вечную истину, объединяющую природную сущность, любовь и истину, чтобы помочь человеку осознать гармонию своего существования и сказать ему: „Вот что ты есть. Посмотри, чем ты должен быть!“
Не заигрывание с грядущей славой, не оглядка на гений стали смыслом этой переписки. Ими двигало родство душ». «Их высокие души слились воедино», как говорил Сен-Симон о госпоже Гюийон и Фенелоне.
ЛОРА ДЕ БАЛЬЗАК И МАГНЕТИЗЕРЫ
14 апреля 1832 года, находясь под сильнейшим впечатлением от вспыхнувшей эпидемии холеры, Лора де Бальзак составила завещание:
«Все, что я оставляю после себя, после исполнения всех обязательств, выплаты всех долгов и удовлетворения всех претензий, должно быть разделено на четыре равные доли; одинаково любя всех своих дорогих детей, я никого из них не хочу ставить в привилегированное положение […]. Своему старшему сыну Оноре де Бальзаку я завещаю все книги по метафизике, которые после меня останутся, серебряный подсвечник, которым я пользовалась каждый день, и свой маленький серебряный кофейник».
Над книгами «по метафизике» Бальзаку предстоит немало потрудиться, вкладывая в эту работу страсть и почтительный интерес. В течение всего лета, гостя у госпожи де Маргонн в Саше, он писал «Луи Ламбера».
Для Лоры де Бальзак пребывание Оноре в Саше наполнилось тайным смыслом. Через госпожу де Маргонн она свела знакомство с кузеном Маргоннов, Луи-Франсуа де Толленаром. Этот торговец хлопком из Нанта, разоренный континентальной блокадой, два года провел в Бразилии. По возвращении в Нант он открыл курсы коммерческого права. В 1823 году, преподавая в лицее «Арморьен», познакомился с Эдуаром Рише — учеником Сведенборга, шведского мистика, которого с восхищением читали Кант, Гёте, а позже Стринберг и Робер Мюзиль.
Вполне вероятно, что Эдуар Рише послужил одним из многочисленных прототипов для создания образа Луи Ламбера. Он родился в 1792 году. Его отец, сражавшийся в армии Шаретта, погиб, когда ребенку исполнился год. Рише воспитывался в школе для офицерских сыновей, которая из-за принятых там частых телесных наказаний казалась ему «тюрьмой». В ту пору это был тихий и нервный юноша-лицеист, озабоченный тем, чтобы разглядеть в окружавшем его отвратительном мире некий тайный божественный замысел, без которого рухнула бы его мечта.
Лора де Бальзак повстречала Рише, жившего у г-на де Толлерана, в феврале или марте 1831 года. Рише учил, что постичь величие человека можно, размышляя над некоторыми скрытыми библейскими текстами, а также очерками Сведенборга; как следовало из этих текстов, все сущее в мире облекается в определенную форму согласно некоей модели. Прозревшего читателя прикосновение к этой истине погружает в глубины внутреннего мира, и он становится созерцателем.
Чтобы легче понять, что есть Созидание, в котором участвует человек, следует посмотреть, как ученый или художник совершает изобретение. Изобретатель паровой машины Джеймс Уатт (1765) ясно видел, чего он хочет добиться, даже еще не представляя, как именно будет решать эту задачу. Можно было сколь угодно долго соединять в единую систему пар, холодную воду, поршень, кривошипно-шатунный механизм и трубку, но пока в мозгу Уатта не вспыхнула искра озарения, этот набор предметов так и остался бы бесполезным.
То же самое происходит с художником, когда «дух движет материей». Холст, банки с краской, палитра, натура — все это лишь ингредиенты. Художник заранее видит, даже не осознавая этого, свое будущее произведение, которого еще нет. Вокруг жалких предметов, находящихся в мастерской, он выстраивает линии, краски, свет, придает им вещественный и духовный горизонт, и тогда рождается «Плот Медузы» Жерико или «Эдип» Энгра.
В живом мире, как и в искусстве, творит не природа, а «метафизический ток», предшествующий всему сущему. Есть отдельные привилегированные личности, которым дано предчувствовать этот ток, они вслушиваются в него и потом передают другим. Это и есть магнетизеры. Им дано видеть в Боге мир естественный и сверхъестественный, прошлое и будущее.
Животный магнетизм, в который страстно верила Лора де Бальзак, это и есть шестое чувство.
Еще до знакомства с учением де Толленара и Рише юная Лора Бальзак, как впрочем и все семейство Саламбье, жившее на улице Сен-Дени, слышала о Франце Антоне Месмере. До Революции обитатели квартала Центрального рынка имели привычку днем и ночью испрашивать совета у магнетизеров. «Ранним утром наступал час огородников, затем шли торговцы рыбой и дарами моря, ближе к полудню являлось дворянство и буржуа, иногда и вечером, после театра, собирались дружеские кружки вокруг лохани».
В эти лохани, куда больные должны были погружаться ради исцеления, Месмер наливал воду, вобравшую в себя «все земные и небесные добродетели», так что она превращалась в «вещество, свободное от всякой скверны». Вода Месмера называлась «сверхкритической», потому что обладала способностью уничтожать токсические шлаки, проникающие из окружающей среды; во времена Месмера она исцеляла от «органических шлаков».
Медицина магнетизма основана на существовании небесных тел, испускающих флюиды, которые проникают внутрь человеческого тела. Поэтому «немедленному излечению» поддаются болезни, связанные с нервами, и «медленному» — все остальные.
В практике Месмера магнетизм представал «медициной для всех». И если богачей он пользовал на «индивидуальных сеансах», то бедняки собирались вместе, окунали пальцы в лохань и держались за руки, чтобы флюиды свободно струились через всех.
Магнетизм с его надеждой на достижение «всеобщей гармонии» между людьми был взят на вооружение в масонских ложах.
Что касается мадам де Бальзак и ее мужа Бернара-Франсуа, то они видели в магнетизме совершенную форму религии, сумевшую подняться до таких высот, о которых сами верующие и не подозревали. «Вера начинается с истории [Библия], затем она становится моралью [Евангелие), достигает божественности [философия], и наконец обретает жизнь, даря нам плоды счастья [магнетизм]». Целой человеческой жизни мало, чтобы постичь откровения магнетизма: «Магнетизм объяснил мне одну из главных тайн нашей религии».
Если молитва для Лоры де Бальзак была «лаской Господней», то созерцание и магнетические пассы служили исцелению и спасению.
Оноре разделял воззрения матери. 14 апреля 1832 года он писал доктору Шапелену, прося его «подыскать какую-нибудь провидицу-лунатичку, чтобы с ее помощью победить причину бедствия», то есть эпидемию холеры. 16 сентября 1832 года Бальзак вновь обратился к Шапелену и к лунатичке, ибо лишь та могла вылечить его больную ногу: «Милая мамочка, посылаю тебе вместе с этим письмом два фланелевых лоскутка, которые я ношу на желудке и с которыми ты должна пойти к г-ну Шапелену. Вели ему узнать причину болезни, ее местонахождение, спроси про ногу, узнай про лечение, одним словом, пусть он объяснит самым подробным образом все, что происходит, и почему».
Откуда взялись лунатики? Если допустить, что действие флюидов проистекает скрыто, то становится понятным, почему движение жизни ярче всего проявляет себя в покойном, а еще лучше — спящем состоянии сознания. Именно лунатики, свободные от телесных пут, вступают с Творцом в неведомое сотрудничество. В их речах звучит «глас природы», утверждал ученик Месмера маркиз де Пьюсегюр. «Лунатики угадывают сущность вещей, свои собственные болезни и даже болезни других». Они становятся «передаточным звеном между индивидуумами, а иногда способны оказывать на окружающих видимое влияние».
Бальзаку, нередко изнурявшему себя и не позволявшему себе остановиться и передохнуть, «жизненная сила», исходящая от лунатика, казалась бесценной поддержкой!
НОЧЬЮ ВСЕ АНГЕЛЫ БЕЛЫ
Видели ли мы призрак? Нас спросили, на что он похож, и я ответил: «На черную женщину под огромным покрывалом».
Брат же мой сказал: «На слуховое окно в стене».
Робер Мюзиль. Дневники
В 1832 году Бальзак еще колебался между учением Сен-Мартена, «философа, пожелавшего остаться неизвестным», и теорией Сведенборга.
Сен-Мартена прекрасно знали в Турени, и Бальзак прочел брошюру об этом человеке не позднее 1824 года.
Сен-Мартен родился в Амбуазе в 1743 году, учился на юриста и в 1765-м поступил младшим лейтенантом в полк Фуа. В Бордо он встретил чудотворца Мартина де Паскальи (1710–1774), основавшего орден избранных священников. Они обучали некоей процедуре, благодаря которой можно было лицезреть ангельский дух.
В 1774 году Сен-Мартен жил в Лионе у Жана-Батиста Виллермоза (1730–1824), также ученика Мартина де Паскальи. Вдвоем они основали масонскую секту, от которой Сен-Мартен постепенно отошел под влиянием Якоба Бёме. (1575–1624). С трудами последнего он познакомился в Страсбурге. Бог, создавший духовных существ, обнаружил, что они впали в грех неповиновения. Тогда он создал вселенную, ставшую тюрьмой для падших ангелов. От Бога же происходит первоначальный человек — обоеполое существо с прекрасным телом, вице-король вселенной, которому предстоит привести к покаянию проклятых Богом. Попав на землю, обоеполый человек обернулся мужчиной или женщиной, подверженным страстям и болезням. Оба они, как падшие ангелы, обретут былое величие через любовь, молитву, подражание Иисусу Христу.
У Сведенборга Бальзак почерпнул мысль о том, что во тьме всегда светит огонек. Находятся люди, которые, вместо того чтобы предаваться лавине ощущений, озаряются этим освободительным огнем. Внутреннее чувство помогает развить аскеза. У каждого из нас именно такой горизонт, какого он заслуживает. В зависимости от своих человеческих качеств люди попадают в сферы либо удаляющие, либо приближающие их к источнику света. Никого не гонят в ад силой, но каждый создает себе свой ад. Люди, города и целые народы низвергаются в бездну.
В «Письме к Нодье», написанном в 1832 году, Бальзак сообщал, что отдал в переплет труды Сведенборга. Творчество Сведенборга вселило в него уверенность в том, что сказочный мир существует, что он предшествует всякому созиданию и что сам он, Бальзак, возможно станет его посредником.
Сведенборг родился в Стокгольме в 1688 году, умер в Лондоне в 1772-м. Этот человек сумел «продырявить» небо и невооруженным глазом увидеть его костяк, каркас, те связи, флюиды и соприкосновения, что объединяют его с землей. Небо населено ангелами. Ангелы — это человеческие существа, происходящие из материального мира, в котором они жили, страдали и любили. Завершив свое пребывание на земле, они возвращаются в мир духов, эту «прихожую» Неба. Небо, по Сведенборгу, это и есть божественный человек; именно там мы и обретем жизнь вечную в духовной оболочке. Это не что иное, как исполнение слов Христа: «Истинно говорю тебе, будешь со мною в Раю». По воскресении человеческие создания сохраняют свой духовный облик, но теряют плотские останки, которые достаются червям или обращаются в прах. Поэтому на Небе не тесно.
Больше всего в Сведенборге Бальзаку нравился его рационализм.
Сведенборг — это северный Леонардо да Винчи. В юности он усвоил, что все свойства материи основываются на математических или механических принципах. Он был инженером, гидравликом и металлургом, руководил научным журналом и активно работал в шведском парламенте. Сведенборг оставил чертежи огнетушителя, механической повозки, подводного корабля, летающей машины. Свои проекты он зарегистрировал в Дании, Англии, Голландии, Франции и Италии.
Такой человек, полагал Бальзак, не может опуститься до вздорных сказок. Мир он рассматривает с двух позиций, эмпирической и мифической. Последняя выражает поиск Богом душ, принадлежащих ему в силу притяжения, представление о котором дают электричество или магнетизм. Именно в состоянии сна возможно наиболее глубокое проникновение этого внутреннего мира, отдающееся многократным эхом. Вот откуда интерес Бальзака к лунатикам и то значение, какое он придавал снам.
Немало писателей-романтиков верили в способность художника говорить о Небе и о бесконечности с такой же уверенностью, с какой другие рассказывают о Вене и ее жителях. Это и есть ясновидящие. Властителем их дум был в то время Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775–1854), этот прусский Виктор Кузен, с сочинениями которого они знакомились непосредственно или в пересказе: «То, что мы называем природой, есть поэма, полная тайного смысла. Если бы можно было разгадать эту загадку, мы бы услышали об одиссее духа со всеми его чудесными заблуждениями, с поиском себя и бегством от себя».
Начиная с «Философских этюдов», написанных между 1818 и 1822 годами, и со «Столетнего старца», написанного в 1822 году, самобытность Бальзака проявилась именно в попытке разгадать эту загадку.
Обычная жизнь стремится к обладанию, следовательно, к действию. Это и есть жизнь отдельного существа, подверженная метаморфозам и смерти. Такова жизнь Валантена из «Шагреневой кожи». Жизнь же художника или философа протекает вне времени. Вещи и события он воспринимает так же, как бегущие по небу облака. Многоцветные состояния, сменяющие друг друга, не разрушают его, являясь лишь разными формами мира, но не изменениями его сущности.
В Предисловии к «Мистической книге» Бальзак пытается придать этому мистическому учению иллюминатов религиозную основу. Начиная со священных индийских книг и кончая Сведенборгом, все мистики говорят одно и то же: чтобы почувствовать бесконечность, незачем стараться переплыть море: достаточно охватить его единым взором.
Бальзак не питал иллюзий относительно тех, кто будет читать эти книги: «В Париже ангел имеет все шансы сделаться персонажем балета […]. Я никогда не рассчитывал на успех. Эти книги я пишу для себя».
Бальзак уверен, что подобные озарения в жизни необходимы, чтобы заполнить собой «чудовищный разрыв между нами и Небом». Бальзак-писатель мечтает о произведении, которое стало бы спасительным: человек, вышедший из безгрешного мира, должен туда вернуться.
Никому лучше Бодлера не удалось выразить все богатство внутреннего мира писателя, внемлющего ангелам.
На самом деле Бальзака более всего интересовала общая организация жизни. Отдельные ее формы благотворны, и он стремился приблизить нас к ним. Другие не вызывали ничего, кроме отвращения, и он старался их от нас отдалить. Таким образом, писатель вступил в своего рода бой, участником которого предлагалось стать и его читателю.
ЧИТАТЕЛЬНИЦА
Вот светит звезда… Вот она погасла, и сейчас же зажглась вторая, словно посылая с другого края неба свой ответный безмолвный сигнал…
Клодель
Урожденная Эвелина Ржевуская, будущая госпожа Ганская, появилась на свет на юге Украины, в Одесской губернии, ранее принадлежавшей Польше, в имении и замке под названием Погребице. Замок, стоявший на берегу пруда, выглядел волшебно: с его главной башни открывался вид на восемнадцать тысяч гектаров пшеничных полей — целый океан, колеблемый ветрами. Внутреннее убранство замка с обилием роскошной мебели и картин кисти Тициана, Греза и Лоуренса впечатляло не меньше.
Семья Эвелины сыграла немалую роль в истории Польши: в конце XVII века ее дядя стоял во главе десятитысячного войска.
В побежденной Польше всем этим бывшим генералам, государственным деятелям или посланникам оставалось лишь вести сугубо частную жизнь, отсиживаясь в своих имениях.
Тем не менее они много путешествовали по Европе, в основном по Австрии, Швейцарии и Италии. В ранней юности Эвелина, в полном соответствии с требованиями европейского образования, вела дневник, в который заносила все свои впечатления.
Ржевуские благосклонно относились ко всему новому. У себя в замке они охотно принимали теософов и вели с ними долгие беседы о кометах, звездах, ангелах, конце света, то есть апокалипсисе, которому суждено стать началом нового мира.
Самым известным из всех «магов» был некто Пешиньский, наизусть цитировавший Парацельса и Альберта Великого. Еще в 1811 году Пешиньский прочел на небесах знамение о скором падении Наполеона и конце Царства Польского. С интересом внимали обитатели замка и другому теософу, Стржижевскому, этому польскому Сведенборгу, которому являлись Пресвятая Дева и ее Сын и по-свойски диктовали тексты молитв.
Воспитанная нянями, с их неисчерпаемым запасом волшебных сказок и песен, Эвелина с легкостью открывала сердце миру мистики.
В одном из первых своих писем к Бальзаку Ева намекнула о своей юношеской любви к кузену Фаддею Вылежинскому, который в «Фальшивой хозяйке» превратился в Фаддея Паза. «Я отдала свое сердце и душу, и я одинока».
Молодая девушка из аристократического семейства должна выйти замуж либо за аристократа еще более высокого полета, либо за очень богатого человека, собственным именем поднимая престиж его «дома».
Венцеслав Ганский, родившийся в 1778 году, был на 22 года старше Эвелины. Он полюбил в ней ребенка, она в нем — отца. Владения Ганских были огромны: 21 тысяча гектаров земель, три тысячи душ крепостных. Их состояние оценивалось в 10 миллионов рублей. Их усадьбу с парком в Верховне, украшенную коринфскими колоннами, Бальзак посетил в 1847 году: «Это Лувр, это греческий храм!»
Мягкие ковры, шкуры белых медведей перед огромными каминами, невероятных размеров зеркала эпохи Возрождения, в которых привыкаешь видеть собственное отражение, наконец три сотни безмолвных и вышколенных слуг, — в такой обстановке жила Эвелина.
Часы, не занятые приемом гостей, распоряжениями по дому или парку, большую часть года покрытому снегом, инеем и льдом, графиня Ганская посвящала чтению. В 1853 году Шарль Пипар написал картину «Читательница», на которой мы видим Эвелину, уже ставшую вдовой Бальзака, с книгой на коленях. Она читает, как читали во времена Абеляра, учась и комментируя прочитанное. Читать — значит давать пищу разуму, более того, читать — значит обращаться к Богу с просьбой указать нужное направление мысли, которое и должно руководить чтением. Эвелина не просто читала, она делала пометки. Выписывала отдельные фразы Гюго, Ламартина, Местра или блаженного Августина. Польских поэтов приходилось читать тайком. В 1829 году Адаму Мицкевичу, главе «школы Вильно», пришлось эмигрировать. Николай I запретил даже произносить это имя, не говоря уже о том, чтобы упоминать его в письмах.
Восстание подхорунжих польской армии, вспыхнувшее 29 ноября 1830 года, хотя и было заранее обречено, никого не оставило равнодушным. «Варшава — наша», — пишет Бальзак. В битве под Остроленкой восставшие потерпели сокрушительное поражение. Начались жестокие репрессии.
После революции единственным заметным событием в жизни обитателей Верховни стало знакомство в Женеве с Сигизмундом Красиньским и Жорж Санд. Эта женщина, прекрасно чувствовавшая себя в мире «разочарованных», безо всякой боязни писала романы, как если бы она была мужчиной. Жорж Санд, бросившую мужа, многие воспринимали как исчадие ада. Читая «Индиану», Эвелина погружалась в пучину супружеской измены. Бальзак в «Сценах частной жизни» тоже писал о несчастных женщинах. И в «Шагреневой коже», Эвелина чувствовала это, сквозила неподдельная боль. Ей захотелось вырвать Бальзака из его меланхолии. Неужели, отдав всю свою любовь этой дурной женщине, Федоре, полупарижанке-полурусской, пустой кокетке, не способной ответить чувством на самую жаркую страсть, он и сам разучился чувствовать?
Желая вернуть Бальзака на путь совершенства, Ева написала ему письмо. Бальзак должен не просто марать бумагу, он должен писать, постоянно внутренне оценивая себя. «Мне кажется, даже находясь за тысячу лье от вас, я живу вашей жизнью, чувствую себя вашим судией, вашей нравственностью, вашей совестью».
Уникальная, бесподобная читательница была готова на полное самоотречение, но не меньшей жертвы ждала она и от своего корреспондента. И для Бальзака началась иная жизнь — свободная от планов и расчетов, построенная на чистой любви и чуде ожидания.
По правде сказать, если бы эта любовь, о которой он мечтал и которую призывал едва ли не каждый день, беря в руки перо, сделалась вдруг явью, обратилась близким знакомством с Евой, он, наверное, почувствовал бы себя в замешательстве. Говорить о любви, о да! Но жить любовью? Нет! Человеку не дано постичь любовь. Идеал недостижим, он всегда остается где-то там, за горизонтом.
Идеальный образ этой любви чрезвычайно важен. Благодаря своей корреспондентке Бальзак не то чтобы ощутил себя любимым — он проникся чувством некоей чистоты, не замаранной обыденностью, и эта чистая любовь стала для него источником истинного счастья, потребовавшего от него отказа от бурных земных страстей.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНДУСТРИЯ
1833 год выдался неспокойным. Бальзак прекратил сотрудничество с «Ревю де Пари» (в апреле 1834 года). «Эко де ля Жен Франс», начавший печатать «Герцогиню де Ланже», в мае прекратил публикацию, поскольку директор издательства не позволил Бальзаку внести необходимые, по его мнению, исправления в текст, уже запущенный в печатную машину.
Бальзак ждал выхода другого журнала, «Литературной Европы», который практиковал заключение эксклюзивных договоров. Бальзаку обещали платить по 125 франков за колонку. Первым бальзаковским текстом, появившимся на страницах журнала 19 июня 1833 года, стал «Ночной разговор, или История Наполеона, рассказанная в амбаре старым солдатом». Это повествование встретило живой интерес, и его немедленно «принялись перепечатывать в виде популярных брошюр» тиражами в 20 тысяч экземпляров и распространять под другими названиями через уличных торговцев.
1 мая «Литературная Европа» устроила торжественный вечер с концертом. Исполнялась «Фантастическая симфония» Берлиоза. Вечер был задуман как исключительно мужской, но зато приглашения удостоились самые-самые: «пэры Франции, депутаты, наиболее знаменитые деятели искусства». Основатель журнала Виктор Боэн, бывший владелец «Фигаро» и директор театра, вел себя как истинный денди и ухитрялся блеснуть даже собственной деревянной ногой. «Когда он, хромая, обходит столы и подливает гостям шампанского, то делает это с видом Вулкана, добровольно взявшего на себя роль виночерпия на пирушке богов» (Генрих Гейне).
В том же июле состоялось еще несколько праздников, а 10 августа 1833-го журнал был продан. Его место заняла новая «Литературная Европа», в которой в сентябре появилась первая часть «Евгении Гранде». «Я пока не могу обходиться без сотрудничества с журналами, потому что иначе пострадают мои обязательства. Но я в последний раз соглашаюсь работать на журнал за определенную плату, если только это не будет мой собственный».
Как мы уже видели, Бальзак еще в 1827 году вынашивал идею популяризации литературы, мечтая превратить ее в род периодики, иными словами, осуществить в области литературы то же, что осуществил Филипон в «Карикатюр», Жирарден в провинциальной «Газете полезных знаний» (сто тысяч подписчиков), Лотур-Мезерей в «Детском журнале», который начиная с 6 апреля 1833 года выходил каждый месяц. Напомним, что в 1827 году Бальзак планировал обеспечить «честных подписчиков двенадцатью романами ежегодно». К 1830 году этот проект получил дальнейшее развитие, и Общество всеобщей подписки, этот предшественник читательских клубов, за год распространил 86 ранее не издававшихся романов. В 1832 году было создано Общество приобщения к чтению. Его члены за сорок франков в год должны были получить по подписке восемь томов.
17 сентября 1833 года, в среду, Бальзак вновь вернулся к своей стародавней идее, на сей раз вместе с крупным издателем Звере и все тем же Боэном, только что открывшим на Елисейских полях первую парижскую пивную, которая получила название «Английской, или Голландской пивной».
По мнению Бальзака, подписной журнал как нельзя лучше отвечал ожиданиям «читательской массы», которая не покупает книг из-за их дороговизны. Распространение книг должно было осуществляться через читальные залы, кружки и общества, а также через принадлежащую Боэну «Газету муниципальных советников».
Ролан Шолле специально изучил все это «дело о книготорговле». Никакой специальной издательской программы он не обнаружил, разве что «литературный директор г-н де Бальзак намеревался оставить за собой право выкупать у литератора г-на де Бальзака его произведения, изданные за счет предприятия».
22 сентября Бальзак покинул Париж и уехал в Швейцарию, где должен был встретиться с госпожой Ганской. По пути он сделал остановку в Безансоне, чтобы попытаться закупить здесь достаточно дешевую бумагу для издания книг, которые придется рассылать читателям.
11 октября Бальзак снова в Париже, но идея об Обществе подписки перестала его увлекать. Вдова Беше за 27 тысяч франков выкупила у него права на издание «Этюдов о нравах XIX века». «Пусть теперь все бездельники, литераторы и уличные зазывалы воют от досады».
33-летняя вдова Беше, не только богатая, но и прехорошенькая, была дочерью книготорговца Беше; в 1829 году она похоронила своего мужа Пьера Адама Шарло, которого все звали Шарлем Беше из-за того, что он унаследовал от тестя его книготорговое заведение, расположенное в доме 59 на набережной Огюстен. Деловым партнером Бальзака, представлявшим дом Беше, выступил Жан-Батист Антуан Верде (1795–1859), бывший сотрудник книжной лавки, которому с 1834 года предстояло стать «единственным издателем Бальзака». В этом качестве он пробудет до 1837 года, и в итоге окажется, что «не имея возможности противостоять постоянным требованиям денег со стороны Бальзака, ему пришлось выдать векселя, задолженность по которым он не сумел оплатить в срок».
«МОЙ ИМПЕРАТОР»
Луи-Филипп не любил ни Императора, ни имперской Франции. Сам он пережил эти годы в эмиграции и обо всем великом и славном, что удалось сделать Наполеону, не имел понятия. Он видел лишь «великое шарлатанство», «расстроенное воображение» и «воодушевление сил»; но уверенного в себе гения не заметил.
Луи-Филипп любил славных парижских буржуа. Ведь именно на них трудился весь XVIII век. Июльская монархия положила конец пятидесяти годам революций. Франция рвалась поучать других. Однако отныне предметом ее экспорта станут не идеи, а хлопок и французский романтизм, благодаря Санд и Мюссе ставший знаменитым в Европе. А если у кого и появятся идеи, их тоже можно предложить на продажу…
Романтики, мечтавшие о свободе нравов, не возражали и против свободы мыслей. Примером для себя они считали Наполеона. Именно он, рискнувший всем, чтобы выиграть все, стал «имперским солнцем», «французским полубогом», «львом пустыни», — словом, тем самым новым Прометеем, который оказался в итоге прикованным к сказам Святой Елены. 34-томное издание «Побед и завоеваний», посвященное европейской эпопее французской армии, вышло в свет в 1817–1821 годах. Как деловое предприятие, издание полностью оправдало возложенные на него надежды, потому что эти книги спешил приобрести каждый бонапартист. Начиная с 1832–1833 годов одна за другой появлялись книги воспоминаний о временах Империи, «Ворчун Фламбо» Эдмона Ростана считался одной из лучших театральных работ, и как раз в эту пору умер герцог Рейхштадтский[32].
Текст Бальзака, озаглавленный «Ночной разговор, или История Наполеона, рассказанная в амбаре старым солдатом», впервые увидел свет 19 июня 1833 года в журнале «Литературная Европа», а затем вошел составной частью в «Сельского врача». Эта «крестьянская» повесть проникнута глубоким лиризмом. «Орлы, пушки, походы… — скажет в заключение рассказчик-солдат, — я прямо голову от всего этого терял».
История, которую поведал пехотинец Гогла, превратившийся в сельского почтальона, написана живым и близким к народному языком. Простой читатель не мог не сказать о ней: «Рассказано все, как было».
Начало рассказа Гогла навеяно корсиканскими воспоминаниями герцогини д’Абрантес. Самая прекрасная женщина острова Летиция Бонапарт вверяет своего сына Богу. Он счастливо избежит всех детских опасностей, его не тронут ни чума, ни яд, ни пуля. Его соратники будут «падать как подкошенные», и лишь Наполеон непостижимым образом останется цел и невредим.
«Причину Конкордата следует искать в обетах Летиции». Посреди безбожия, охватившего Францию во времена Директории, Наполеон сохранял верность своим детским взглядам. И потому о нем говорили, как о Боге.
И лейтенантом, и капитаном Наполеон прежде всего стремился быть «отцом солдатам». И совершал чудеса. В Италию он отправился во главе «босой и нагой армии», и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, сумел раздобыть для солдат и шинели, и теплые гетры, и хорошую обувь. С вражескими армиями он расправляется, словно по волшебству, окружая и уничтожая их; с полуторатысячным войском берет в плен десять тысяч вражеских солдат, а затем «заглатывает еще три армии. Короли на коленях вымаливают у него пощаду. […] Мог ли человек совершить все это? Нет, не мог. Значит, ему помогал Бог!»
Наполеон успевал везде и «делил» себя до бесконечности, словно пять евангельских хлебов. Казалось, что он не нуждается ни в сне, ни в пище. Днем он командовал сражением, а ночью готовил очередной план разгрома противника.
Опасаясь, как бы он не «наложил лапу» на Францию, Директория принимает решение «перебросить его в Азию»: может быть, успокоится. «Ему, как и Иисусу Христу, так было суждено».
На Средиземном море хозяйничают англичане, но у Наполеона имеется в небе своя звезда, та самая, что ведет и хранит его. Мимоходом, «словно апельсин», он берет Мальту. И вот перед его армией открывается Египет со своими пирамидами, «огромными, как наши горы», усыпальницами фараонов. В Египте, оказывается, «тьма богов». Их следует уважать, ибо «француз обязан быть другом всем и побеждать, не унижая».
«В битве при Абукире англичанам, не знающим, что еще придумать, чтобы навредить нам, удалось сжечь его флот. Наполеон, которого папа зовет „сыном“, а шериф Мекки „своим дорогим отцом“, намеревается захватить Индию. И в это время Моди[33] насылает чуму. „Больны все, лишь он один свеж, как роза“».
Пока Наполеон находился на Востоке, «наши армии терпели поражение за поражением, а кое-где пострадали и французские границы. „Самого“ там не было. Сам — так его называли». Понимая, что дело плохо, он сказал: «Я — Спаситель Франции. Я знаю это, и потому я должен туда отправиться». На какой-то жалкой скорлупке под названием «Фортуна» он «в мгновение ока переносится во Францию». Депутатов, оказавшихся плохими слугами государства, он запер в их собственной «казарме, где они только болтали языком. Зато тех, кто догадался выпрыгнуть из окна, он включил в свою свиту».
«Так он становится консулом и сейчас же спешит исполнить обет, данный Господу: возвращает законное место церкви, восстанавливает в правах религию. Отныне колокола снова звонят во славу Божию.
А затем — Маренго, и Наполеон проглотил австрийцев, как кит глотает пескарей».
Побед «было столько, сколько святых в календаре. Европейские правители едва не передрались у него на глазах, оспаривая право предложить ему жену. После свадьбы, которую праздновал весь мир и в честь которой он своей милостью на десять лет освободил народ от податей, — правда, их все равно пришлось потом платить», — родился ребенок. «Еще никогда ребенок не рождался королем при живом отце. Тогда в Рим отправили сообщение на воздушном шаре, и шар прибыл на место в тот же день. […] Все было предначертано».
Царь Александр, которому не удалось женить Наполеона на русской[34], «осерчал». «Солдаты, вы хозяйничали во всех столицах Европы. Остается Москва, союзница Англии. Чтобы покорить Лондон и Индию, я считаю необходимым идти на Москву».
Во время отступления «все жались к Императору, потому что лишь от него шло хоть немного тепла. По ночам он плакал, жалея свою несчастную солдатскую семью».
2 сентября 1833 года Бальзак пишет Зульме Карро: «Госпожа д’Абрантес, редко дающая волю слезам, рыдала, читая о разгроме под Березиной. С тех пор как существует человек, никто никогда не видывал подобного столпотворения из людей, повозок, орудий, и все это среди невиданных снегов, под несказанно суровыми небесами».
Прощаясь, Наполеон сказал в Фонтенбло: «Солдаты!.. Дети мои, нас предали, и мы проиграли, но мы еще свидимся на Небесах, этой родине отважных. Берегите ребенка, которого я доверяю вам. Да здравствует Наполеон II!»
«ВСЕ БОГОСЛОВИЕ — ЭТО ОДНА ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ»[35]
Вы посылаете мне Христа на кресте, а я заказал себе Христа, несущего свой крест.
Бальзак. Письмо госпоже Ганской[36]
«Сельский врач» поступил в продажу 3 сентября 1833 года.
В первые дни весны 1829 года некий военный, майор Женестас, приезжает в деревню Ворепп, расположенную в 20 километрах от Гренобля. Ему нужна консультация доктора Бенассиса, знаменитого врача и мэра этой деревни. На следующий день Бенассис, друг бедняков, отправляется в обход по деревенским хижинам и берет Женестаса с собой. Они видят восьмидесятилетнего старца, за которым ухаживают сыновья и «обходятся с ним так, словно он их дитя». Бенассис навещает также умирающего «дурачка». «Ужасное это место, Мориенн, славилось в 1830 году больными зобом и дурачками». О дефиците йода тогда еще не подозревали, а виновниками слабоумия считали местный воздух и бедную солнцем долину. Здесь же бытовало поверье, что «если в семье есть свой дурачок, это принесет счастье».
Мужчины вместе обходят территорию, на которой Бенассис выступает и как промышленник, и как производитель, и как потребитель. Он сумел наладить жизнь деревни, а главное — вдохнуть в ее жителей веру. Он занялся восстановлением разрушенных домов, орошением земли, прокладкой дорог. Развитие сельского хозяйства способствует возникновению новых ремесел. В деревне появились свои сапожник, портной, шляпник. Дела идут неплохо, и постепенно поселок вступает в эру промышленного развития: здесь уже есть пять дубильных и одна шляпная мастерская. За десять лет число семей выросло со 137 до 1900.
Деревня Бенассиса вовсе не замкнутое общество. Он и сам не принадлежит к крестьянам Вореппа. Начальник отделения из префектуры Гренобля Гравье в качестве помощи дает доктору 40 тысяч франков; местный корзинщик, молодой умелец, жил когда-то в Гренобле и переехал сюда, потеряв работу; и школьная директриса, и кузнец тоже люди пришлые; сапожник, например, родом из Тироля, сам Женестас в прошлом «сын полка», а бывший солдат наполеоновской гвардии Гронден «вернулся» в родную деревню, оставшись одиноким, как перст.
В 1833 году Бальзак очень рассчитывал на успех «Сельского врача», он должен был быть не меньшим, чем у «Викария из Уэйкфилда» Оливера Голдсмита (1728–1774), стараниями читателей похороненного в Вестминстерском аббатстве. «Сельский врач» — больше чем роман, это манифест, пример практического воплощения теоретической программы. Бенассис открещивается от политики, занимаясь исключительно воспитанием, а жители деревни почитают его как отца.
Бенассис стремится быть вне современности, он стоит выше, или по меньшей мере по иную сторону от законов, порожденных Революцией.
Законы, создаваемые для народа, никогда не создаются самим народом. Коллективная власть зыбка, «она превращает государя в марионетку, а народ в раба. […] Большие собрания разбиваются на кружки, а те в свою очередь — на отдельных людей». Ничего нового ассамблеи пока не принесли. «Свобода, равенство и братство» уже существуют в «высшей идее католической общности, которая служит образчиком всеобщей социальной общности».
В который уже раз Бальзак снова нападает на миф о равенстве:
«Превосходство в состоянии ли, в разуме ли или во власти есть непреложный факт». Долг тех, кто владеет всем этим, помогать тем, у кого ничего нет. Широким массам следует обеспечить «готовое счастье», создать которое сами они не способны. Поэтому «в тот день, когда правительство принесет людям больше горя, чем процветания, его падение превратится в дело случая. Государственный деятель обязан постоянно видеть мысленным взором бедных, толпящихся у пьедестала Правосудия, ибо последнее и изобретено только ради них».
Депутатское собрание, внимающее разнородным мнениям, прислушивающееся к тому, что говорят одни и что им отвечают другие, не видит дальше дня нынешнего, тогда как хороший законодатель «трудится во имя будущего и думает больше о грядущих поколениях, чем о поколении ныне живущих». Каждому народу потребна некая спасительная сила. Испанцам такая сила помогла бы победить нетерпимость и лень; англичанам — меркантилизм; немцам — кастовое сознание. Французам надлежит бороться против «легкомыслия, перенимания идей и склонности разбиваться на отдельные кружки, которая всегда нас одолевала».
Политика имеет свои ограничения. Бенассис прежде всего заявил о себе как врач. Он понял, что «все его действия должны строиться с учетом немедленного осуществления интересов и благосостояния людей. […] „Самые бедные займутся выращиванием плодовых деревьев и станут монополистами в торговле фруктами“.
Эта горная деревушка, приютившаяся в глубине долины, находится в ужасном месте, располагающем к слабоумию и туберкулезу. Нужно выстроить современную деревню на вершине, чтобы ее жители избавились от вечно стоящего внизу тумана.
„Могильщица“, с шестнадцати лет жившая подаянием, много выстрадала от недобрых людей, не знала ни ласки ни семейного тепла. Бенассис сумел превратить эту „дурочку“ и психопатку в красивую и приятную женщину.
Адриан, попавший к Бенассису 16-летним подростком, выглядел на двенадцать. Через год „ему давали двадцать, таким гордым и уверенным сделался его взгляд“.
А вот молодой Жак Кола, больной туберкулезом. Он уселся „на лавочку под большим кустом жасмина и цветущей сирени“ и поет.
— Кто это поет, мужчина, женщина или птица?
— Это лебединая песнь».
Этот мальчик не должен петь. Пение убивает его, как убило больную туберкулезом певицу из «Сказок Гофмана».
Бенассис начинает его лечить, видя в мальчике существо незаменимое, каким и должен быть каждый человек в этом мире; он спорит с «деревенскими жителями, которые привыкли принимать смерть философски, молча страдая, а затем просто ожидая смерти, словно животные». Смерть в деревне воспринимается как нечто обыденное, и «траур здесь не в чести».
Сельский доктор сознает, что люди страдают повсюду, но знает также, что от страданий можно исцелить, надо лишь постараться. Вдова Пеллетье потеряла мужа. Что ж, теперь сыну придется «работать за двоих». Понтонер Гондрен, вернувшийся из-под Березины глухим калекой, «занялся работой, до которой не додумался ни один рабочий». Он чистит пруд и роет канавы, чтобы отвести воду с затопленных полей. Супруги Моро, всю жизнь отдавшие труду, отличаются восхитительным добродушием. «Следы пережитых страданий не наложили на них печать уныния». В семействе Ганье сын надорвался на уборке урожая, мало того, вокруг дома этих бедных и неутешных людей, кажется, уже бродит смерть, угрожая жизни их маленькой дочери.
«Нет! — восклицает Бенассис. — Она будет жить!»
«Не судить пришел я в мир, но спасти его» — это изречение из Евангелия от Иоанна стало жизненным правилом Бенассиса.
Семья — основа человеческого общества. Главные события жизни, такие, как женитьба, рождение ребенка или смерть, должны отмечаться торжественно. Католицизм тем и силен, что умеет окружать важнейшие события в жизни человека ореолом торжественности, давая самому ничтожному из людей почувствовать, что общество дорожит им. В этом произведении Бальзак предстает истинным католиком, подчеркивая необходимость соблюдения внешней, обрядовой стороны культа, поскольку именно в ней заключается охранительная мощь, оберегающая всех и каждого; люди — это всегда люди, и даже будучи жалкими бедняками, они одновременно плоть от плоти самого Христа.
«Сельский врач» — это гимн природе, восхваление человеческой доброты, возвеличение человека через религию, воспевание упорного труда, благодаря которому меняется лик земли и наступает благоденствие. Этот роман посвящен вовсе не социальной политике, но религии, которая озаряет все человеческое сообщество, сообщает жизни закон и служит в ней руководством.
Роллан Шолле и Макс Андреоли отмечают, что в своем романе Бальзак так и не ответил на вопрос, «чью сторону он бы выбрал в политических схватках эпохи: потомственной аристократии против народа или народа, в частности буржуазии, против аристократии». «Бальзак об этом умалчивает», пишет Макс Андреоли.
Бальзак об этом умалчивает… Очевидно, работая над романом, он думал совсем о другом.
Ибо в 1833 году, когда все кругом спорили об астрономии и концепциях экономического развития, о революции в сельском хозяйстве и строительстве железной дороги между Сент-Этьенном и Лионом, о первых опытах переписи населения и совершенствовании ткацких станков, о паровых машинах и телеграфе, в деревне Ворепп, где живет его Бенассис, ни о чем подобном никто и не слыхивал. Здесь царят простота и уважение к основополагающим истинам. И мэр видит свою задачу в одном: сделать людей если уж не вовсе хорошими, то хотя бы лучше, чем они есть.
Эта повесть, толкующая о самых приземленных вещах, — наименее рациональное, наименее «умственное» из всех произведений Бальзака. Это книга о вере. Книга, ставшая поступком веры.
СОПЕРНИКОВ МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ
В письме к госпоже Ганской Бальзак писал, что, «еще не зная, уже любит ее». Иностранка отнеслась к этому скептически. От великого писателя она не ждала ничего иного, кроме рассказа о том, что делается в Париже, рассказа, который помог бы ей немного развлечься. Она жадно ловила любые вести, и, вполне вероятно, некоторые из них ее пугали. Польская колония, жившая в Париже, была вхожа в высший свет, а сплетни распространяются быстро. Бальзак отвечал ей: «Единственное, что соответствует действительности, это моя одинокая жизнь, мой упорный труд и моя печаль».
В понедельник 19 августа 1833 года он послал ей «Луи Ламбера». На книге он сделал надпись: «una fide», что значит одна вера, одна любовь. Госпожа Ганская пыталась заставить его говорить, но он догадлив. Он понимал, что ею движет страсть к собиранию автографов. Она уверяла, что немного владеет даром ясновидения и потому из писем узнает о человеке гораздо больше, чем из личных встреч.
Бальзак же брался доказать ей, что писательская репутация больше, чем любая иная, подвержена искажениям. Писатели, выглядящие в своих произведениях героями, в жизни часто оказываются самыми гнусными типами.
Жюль Жанен, романист и сотрудник «Журналь де деба», состоял в любовной связи со знаменитой актрисой «Комеди Франсез» мадемуазель Жорж, которая его поколачивала.
Виктор Гюго был влюблен в актрису по имени Жюльетта, и она заставила его выплатить все ее долги, которых наделала, пока была любовницей Анатоля Демидова.
Скриб был болен.
Сандо все бросили, и Бальзак намеревался приютить его у себя. Жорж Санд отдалась Гюставу Планшу, который соизволил благосклонно отозваться об «Индиане» и «Валентине».
Ни в ком не было любви. Он один был способен услышать, о чем говорит ее сердце.
В августе 1833-го Бальзак намеревался уехать из Парижа. В том же году семейство Ганских устроилось в Невшателе, родном городе Анриетты Борель, воспитательницы дочери Евы Ганской Анны. Если он поедет к ней и увидит ее наяву, он рискует влюбиться по-настоящему и к тому же может ее скомпрометировать. А что, если отправиться туда под именем Антрега, чьим гербом он пользуется?
22 сентября Бальзак отправился в путь. В Безансоне он сделал остановку, чтобы увидеться с Шарлем де Бернаром (1804–1850), редактором «Газет де Франш-Конте», автором хвалебной статьи о «Шагреневой коже». От него Бальзак ожидал помощи в добывании необходимой бумаги, чтобы приступить к рассылке книг по подписке.
КРАТКАЯ ВСТРЕЧА И БОЛЬШОЕ ВОЛНЕНИЕ
Бальзак прибыл в Невшатель 25 сентября. Он остановился в гостинице «Фокон». Госпожа Ганская поселилась в доме Андрие, расположенном по улице Фобур, на Кретском холме, там, где в 1824 году останавливался Шатобриан. В крайнем возбуждении от близкой встречи Бальзак в течение нескольких дней тщетно бродил вокруг этого дома. Однажды он увидел «лицо в окне», в другой раз, как он расскажет об этом 1 декабря 1833 года, увидел Еву, выходившую из отеля «Фокон». Госпожа Ганская решила организовать встречу «на прогулке», воспользовавшись услугами гувернантки Анриетты Борель. «Боже, как ты показалась мне прекрасна в то воскресенье [29 сентября] в своем прелестном фиалковом платье!»
Когда читаешь письмо, написанное в воскресенье 6 октября 1833 года, трудно определить вызванные им чувства. Пожалуй, это было поклонение. Еще никогда, даже в мечтах, Бальзак не позволял себе забираться столь высоко. Оказалось, что Ева не просто прекрасна, она — сама красота. Предчувствие, что с ней он сможет достичь глубокой, божественной гармонии, охватило его: «Мне хотелось бы одной лишь искрой взгляда связать наши души воедино. Отныне ты одна моя супруга, мое божество […], мое сердце и моя жизнь полны тобой».
12 октября в письме к сестре Бальзак с изрядной долей юмора описывал дни, проведенные в Невшателе.
«Самое главное, это то, что нам 27 лет, что мы восхитительно прекрасны, что у нас лучшие в мире черные волосы и нежная, обольстительно тонкая кожа, какая бывает лишь у брюнеток, и прелестная маленькая ручка…»
Бальзак ощутил на себе пристальный взгляд господина Ганского: «Он переводил взор с юбки своей жены на мой жилет. Я чувствовал себя как на раскаленной сковородке. Притворство — не моя стихия».
Еве Бальзак понравился. Он показался ей «веселым и милым, этаким Наполеоном. Это истинный ребенок. Если вы ему нравитесь, он скажет вам об этом с простодушной прямотой, свойственной детям. Если не нравитесь, он уткнется в книгу».
Оба понимали, что им необходимо увидеться снова. Он «произвел на нее впечатление», и она собралась в Париж под предлогом лечения у Дюпиютрена. Для этого в Женеве ей пришлось «притвориться тяжело больной, разжалобить русского посланника и добиться вожделенной визы для поездки в Париж».
И хотя Бальзак сумел «обворожить мужа», их планы не осуществились. Дочери Евы Анне Бальзак преподнес в дар медаль, на оборотной стороне которой приказал выгравировать слова: «Adoremus in aeternam». Ева подарила Бальзаку свой портрет: «Миниатюру, вставленную в плоский медальон».
БАЛЬЗАК ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ЕВГЕНИЮ ГРАНДЕ
В Париж Бальзак вернулся на дилижансе «в компании пяти швейцарцев из кантона Во, всю дорогу обращавшихся со мной так, словно я скотина, которую гонят на рынок».
Дома Бальзак обнаружил юную особу, личность которой удалось установить А. Шансерелю и Р. Пьеро. Мари Луиза Франсуаза Даминуа, она же Мария, оказалась дочерью Адели Даминуа, довольно известной романистки, за четыре года до этого вышедшей замуж за Шарля Антуана Ги Дю Френея. Выяснилось, что молодая женщина беременна, и Бальзака не могло не взволновать появление у него этого «наивного существа, тайком пробравшегося ко мне и упавшего на меня, как цветок с неба». На какое-то время Бальзак проникся отцовскими чувствами к ребенку, который родился 4 июня 1834 года и которому было суждено дожить до глубокой старости и умереть в Ницце в 1930 году. Облик Марии заставил Бальзака войти в совершенно новый мир — мир «Евгении Гранде». У Евгении мы найдем черты Марии.
Не следует только думать, что Евгения и есть Мария Даминуа. Бальзак вполне мог бы обойтись и без присутствия последней. Тем не менее эта любовь помогла ему вылепить лицо Евгении Гранде, как, впрочем, и многих других девушек, ставших персонажами «Человеческой комедии». Все они принадлежат к одному и тому же типу небесной красоты, напоминающему Пресвятую Деву кисти Рафаэля. Бальзак, как отмечает Робер Мюзиль, «их всех любил». Он смотрел на них теми же глазами, какими смотрел на Марию.
В 1839 году «Евгения Гранде» вышла с посвящением «Марии». Бальзак почтил своим присутствием первое причастие маленькой Мари, а в завещании отказал Марии «Христа» работы Жирардона.
ДОМ ГОСПОДИНА ГРАНДЕ
Без денег честь — не более чем хворь.
Расин
К концу декабря 1833 года, несмотря на «гримасы публики», Бальзак преуспевал во всем. Еще никогда он не вел игры с такой смелостью и проворством, как теперь. Он мог писать обо всем. Он уже доказал, что он блестящий рассказчик, а кроме того — автор «потешных сказок», заканчивавший второй их десяток. Между тем благодаря заключению договора с мадам Беше, книжная лавка «платила такую высокую цену», что он решился приступить к написанию больших романов, в которые намерен был вложить свою «огромную любовь к искусству».
Итак, в ноябре он работал над «Евгенией Гранде» и «Великим Годиссаром», которые появились 12 декабря в I и II томах «Этюдов нравов XIX века». У него уже зрел замысел «Музея древностей», он уже «видел», какой будет «Серафита». Работал он с таким пылом, что под ним сломалось кабинетное кресло. «Это уже второе кресло, которое пало подо мной с тех пор, как я начал эту битву».
Необходимо отметить, что он действительно работал не щадя себя: писал, сочинял в течение двенадцати часов подряд начиная с полуночи и до середины следующего дня. «Затем, с полудня до четырех часов дня я правлю корректуру. В пять обедаю, в половине шестого ложусь спать, чтобы в полночь подняться. Состояние мое становится значительным, — пишет он Зульме Карро. — Книготорговцы предлагают мне в этом году тридцать тысяч франков, не считая дохода от журналов. Через восемь лет они разом выплатят мне весь капитал с продаж».
Бальзак, как истинное дитя своей эпохи, преклонялся перед деньгами. Нарождавшийся капитализм знаменовал собой организованный эгоизм, высшим наслаждением которого становилась скупость. Пусть скупец кажется самым нелепым из человеческих созданий, зато ему нет равных в силе, богатстве, стойкости, могуществе, — ведь он может получить все, чего пожелает. До сих пор Бальзак отличался своей расточительностью. Его жизнь протекала среди «светских львов», в их мальчишеской ватаге, которая кидалась от безумства к безумству, задаваясь единственным вопросом: «Что бы еще такое придумать?»
«Евгения Гранде» стала для него своего рода договором, кодексом домашней экономии.
Кто ты, человек, умеющий делать деньги? Бондарь? Виноградарь? Мэр? Ростовщик? Лесоторговец? Спекулянт? Подрядчик? Папаша Гранде поочередно перепробовал все эти занятия, пока не стал самым крупным налогоплательщиком своего округа. У него есть то, что мы сегодня называем «деловой хваткой». Добившись избрания на пост мэра, он строит дороги, но все они «ведут к его виноградникам». Он требует к себе «раболепного почтения» от всех жителей городка Сомюр, включая нотариуса, банкира и местные власти. Он и сам искренне восхищается собой, когда «ночами предается несказанному наслаждению, какое способно доставить созерцание большой груды золота».
Говорят, что обладание убивает. У Гранде все наоборот: обладание лишь подстегивает его ум. Богачи каждый год меняют лошадей и кареты, мебель и бриллианты, а вот Гранде меняет лишь способы вложения капитала. Он живет ожиданием будущего барыша. Свое состояние он держит в старинных золотых монетах. И ничего, что в доме не бывает ни гроша. Однажды вечером Гранде грузит все свое золото и везет его продавать. Цена на золото подскочила, потому что Нант закупает вооружение. Но Гранде продает не в Нанте, а в соседнем Анжере, где ему предлагают самый выгодный курс. Операция, проведенная под покровом ночи, «напоминает сцену ограбления банка из современного детектива: не вызывающее подозрений средство передвижения (дорожная карета Фруафона), надежные соучастники, строго рассчитанный график и строжайшая выдержка» (Николь Мозе). Все время, пока длится операция, Гранде не берет в рот ни крошки.
Проданное золото Гранде обращает в боны казначейства. Купленные по самому низкому курсу (60 франков), к 1820 году они, как уверяет Гранде, вырастут в цене до 99 франков, с учетом пяти процентов годовых. На самом деле он несколько переоценил выгоду сделки. Реальный рост стоимости этих бумаг составил 79 франков против 60. Пьер-Жорж Кастекс подсчитал, что «вложив два миллиона шестьсот тысяч франков капитала, Гранде за четыре с половиной года с учетом сложных процентов получил чистой прибыли на сумму семьсот двадцать тысяч франков».
В своих письмах к Еве Ганской Бальзак настойчиво советовал ей подумать о выгодном вложении капитала: «Будьте папашей Гранде». Уже в 1833 году Бальзак спешил доказать своей корреспондентке, что, сочинив роман не столько о скупости, сколько о скупце, он дал Ганским пример для подражания и предлагал себя в качестве их доверенного лица по ведению дел в Париже, поскольку, хорошо разбираясь, когда следует продавать, а когда придержать, он всегда останется в выигрыше. «Париж для нас двоих», — скажет Растиньяк. Победа жителя Сомюра Гранде (который, как показал П.-Ж. Кастекс, считал себя скорее уроженцем Турени) над Парижем, кажется окончательной. «Не то что эти парижане!» — так отныне будет звучать его излюбленное ругательство.
«Евгения Гранде» — это история неуклонного восхождения дальновидного человека, проявившего способность пользоваться обстоятельствами и сумевшего сколотить состояние, несмотря на смену четырех властных режимов в годы с 1789 по 1830-й. Иными словами, человека, сумевшего сделать то, что не удалось Бернару-Франсуа. В то же время это восхитительно написанный роман, постоянно держащий читателя в напряжении. Никто — ни любимая дочь Евгения, ни жена, ни служанка, ни сын его брата Шарль — не понимает, чего от них хочет Гранде. Он пристально следит за каждым из них, а они с тревогой вслушиваются в звук его шагов. Никто из домочадцев так и не понял: все, что интересует Гранде, — это золото.
Бальзак сам заражается одержимостью своих героев и передает эту одержимость нам. И мы уже живем в доме, где экономят буквально на всем. В просторных комнатах царят холод и пустота; каждое полено для растопки выдается строго по счету; скупец пересчитывает каждый кусок сахару; полуденная трапеза скудна до ничтожества: какой-нибудь фрукт, кусочек хлеба, проглоченный всухомятку, да стакан белого вина. По вечерам свечей не зажигают: экономия…
Страстная любовь к деньгам — занятие далеко не легкое. Гранде и по ночам не знает покоя. Малейший шум вселяет в него тревогу. К концу жизни Гранде «слышит, как зевает во дворе собака».
Жизнь семьи течет в механическом ритме, диктуемом скупостью. Мать не покидает своего стула на полозьях, стоящего возле окна, дочь сидит рядом. Здесь никогда ничего не происходит, если не считать появления в назначенный час торговцев скобяным товаром, веревками или мелким инструментом.
Эта пронизанная глубокой печалью жизнь выглядит столь жалко, что прибывший из Парижа кузен отказывается от намерения жениться на Евгении. Увидев «грязно-желтые закопченные стены этой клетки и шаткую лестницу с трухлявыми перилами», он решил, что «попал в курятник».
Что ж, тем хуже для Шарля, потому что после смерти отца Евгения унаследует семнадцать миллионов. Между тем именно Шарль как раз вполне мог бы эти миллионы успешно приумножить. Подобно брату Оноре Анри Шарль отправится в дальние страны и станет торговать «китайцами, нефами, ласточкиными гнездами, детьми и артистами, а ростовщичество поведет по-крупному».
После фиктивного брака с господином де Бонфоном, долго мечтавшим об этой выгодной партии, но вскоре умершим, Евгения будет продолжать жить той же жизнью, что при отце. Она вовсе не «мертвая душа». Но ей, ведущей дела и управляющей домом, не хватает жадности. И это равнодушие в конечном счете освобождает ее из плена золота. Евгения «движется к небесам в сопровождении кортежа добрых дел».
Бальзак мог бы ограничиться обсуждением вопроса о золоте, высказавшись от имени тех двухсот пятидесяти тысяч рантье и собственников, на которых Жорж Дюшен обрушил упрек в том, что они никогда ничего не покупают, а только копят. Но через образ Евгении, сумевшей войти в соприкосновение с миром сверхъестественного, Бальзак снял «проклятие золота».
Так в одной книге он рассказал нам и о яде, и о противоядии.
ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНОГО
Осенью 1833 года Бальзак с головой окунулся в светскую жизнь. Семейство Жирарденов и барон Жерар устраивали в его честь званые вечера. Тьер, олицетворявший «полицейское министерство», оказывал ему знаки уважения. Россини приглашал на обед в обществе своей любовницы Олимпии Пелиссье…
17 ноября, в воскресенье, Бальзак испытал настоящий шок: в мастерской скульптора Теофиля Бра он увидел шедевр. «Младенец Христос, покоящийся на руках Пресвятой Девы, сам приоткрывает покрывало, под которым спрятано от мира сияние его света». Бальзаку показали гипсовую модель, и он сейчас же захотел получить скульптуру в бронзе. От себя он добавил двух ангелов и написал «Серафиту», эту историю предшествовавшей жизни, историю Евы и свою собственную, историю жизни, о которой они оба мечтали: «два существа, слившиеся воедино […], явление ангела в своем последнем воплощении, разрывающего бренную оболочку, дабы подняться к Небесам».
Бальзак снова и снова возвращался к своей излюбленной идее: искусство существует вовсе не для того, чтобы приукрашивать или драматизировать жизнь; оно и есть сама жизнь, рождающаяся в гуще созидательного труда. «Я работаю, как лев», — писал он.
Субботу 21 декабря Бальзак встретил в пути. 24-го он должен был прибыть в Женеву, где собирался показать госпоже Ганской рукопись «Евгении Гранде». По случаю Рождества Ганская, с которой он встретился на постоялом дворе «Арка» в Пре-Левек (О-Вив) подарила ему кольцо «изысканной и нежной красоты». Место встречи, эта «жалкая лачуга», в которой имелось всего одно помещение, напоминало хибарки «павловских мужиков». Как далеко отсюда до отеля «Корона», в котором Бальзак проводил время с маркизой де Кастри! Зато отсюда рукой подать до дома Мирабо, где Ева Ганская обитала со своими домочадцами.
До 25 января 1834 года, то есть долгих сорок дней, они строго выдерживали правила этикета. Приглашения отсылались на имя «маркиза де Бальзака», который, в свою очередь, отвечал «супруге маршала госпоже Ганской». Бальзак жил ожиданием, «опутанный печалями, словно тысячами паучьих нитей». Ганский ни на шаг не отходил от жены; в просторной гостиной дома Мирабо без конца толклись гости; во время непременных прогулок вокруг озера было принято шагать с высоко поднятой головой, не глядя вокруг, а госпожа Ганская — слишком заметная личность, чтобы попытаться хотя бы обменяться с ней улыбкой или хотя бы дежурной любезностью. Бальзак посещал светские приемы, на которых пестрое интернациональное общество собиралось вокруг будущего Наполеона III, пока что бравшего уроки математики и путешествовавшего под руководством своего дяди Жерома Бонапарта, бывшего короля Вестфалии. Здесь можно было встретить Мари д’Агу с ее любовником Ференцем Листом. Венгру было 22 года, и он был красив, как бог. Недаром его выбрала эта редкостная женщина, бросившая ради него мужа и детей.
Бальзак, увлекшийся вольнодумной литературой, умел говорить с особой убедительностью, ловко пересыпая речь словечками, заимствованными из Рабле, «офранцуженными» итальянизмами, ссылками на мифологию и образными выражениями. Он со знанием дела повествовал о «матрицах для отливки», «глыбодробителях», о птице «бенгали», всю жизнь поющей одну и ту же песню, о «правильной машине» или морском компасе.
Несмотря на все его таланты, знакомство с маркизой де Кастри принесло ему лишь «сатанинские удовольствия маленькой гусыни»: все эти легкие пожатия рук, небрежные поцелуи, мимолетные касания плеч… «Он целовал подол платья графини, ее ноги и ее колени, но… честь предместья Сен-Жермен требует, чтобы никто не проведал тайны тех будуаров, в которых от любви привыкли ожидать всего, кроме того, что способно вызвать любовь» («Графиня де Ланже»).
Госпожа Ганская не собиралась отказываться от этих привычных хитростей, однако в конце концов она все-таки уступила.
Настало 19 января. На 23-е Бальзак получил приглашение к графине Марии Потоцкой, одной из кузин Евы. Графиня знала Бальзака и не желала «мириться с заключением, на которое он себя обрек, лишая всех нас радости». Графине Потоцкой было 47 лет; Бальзаку она пообещала, что на вечере будет Клодина Потоцкая, однако та, которую называли «ангелом эмиграции» (за самоотверженную заботу о польских друзьях), так и не пришла.
Вечеринка едва не закончилась ссорой. Госпожа Ганская была им за что-то недовольна. Зато на этом же приеме Ганская открыла, каким неподражаемым рассказчиком может быть Бальзак. Она и не предполагала, что он способен так блеснуть в обществе.
Наутро 24-го его охватила хандра. Он объявил, что болен: «Я чувствую себя гораздо хуже, чем предполагал… Меня мучит неутолимая жажда». Весь день Бальзак томился скукой. Написал два предлинных письма. Прислала записку и Ганская, сожалея о резкости, высказанной накануне. Ближе к вечеру, в сопровождении мужа, она пришла его навестить. «Ловкий ход, — комментирует это событие Рене Гиз. — Официальный визит супружеской пары в какой-то мере должен был оправдать Ганскую в глазах служителей отеля „Арка“». Что касается господина Ганского, то его крайне удивило отсутствие каких бы то ни было признаков болезни у Бальзака. Госпожа Ганская с ним не согласилась. Она сочла, что после пережитых волнений Бальзак нуждался в утешении. Он отсылает ей записку за запиской, умоляя прийти, она позволяет себе высказать смутное обещание и немедленно получает от него ответ: «Любовь моя! Единственная моя! Я думаю только о тебе! Твое письмо… О, приди и возьми себе мою жизнь, потребуй, чтобы я умер, приказывай все, чего захочешь! Только не проси не любить тебя, не желать тебя, не мечтать о тебе!»
Разве перед этим устоишь? Ганская наконец осознала, что Бальзак уже целый месяц следует за ней по пятам, в то время как она все сомневается и откладывает решение. До сих пор он добился лишь права участвовать в «эпистолярной кадрили». Что ж, она решилась. В отель «Арка» она отправилась «доброй волей, превозмогая собственную трусость». Госпожа Ганская избрала роль целительницы. 25 января Оноре чувствует себя превосходно, 27-го он совершенно здоров. «Никогда еще ни один больной не смел называться таковым с меньшим основанием». Таким образом, день 26 января знаменован «незабываемым событием», исполненным тайной и нежной радости.
«СОКРЫТЫЙ СМЫСЛ ЧУВСТВ»
Употребим же силы нашего разума на то, чтобы поведать о вещах, действительно происходивших.
В Невшателе Бальзак пообещал Ганской, что рано или поздно они соединятся узами брака. «Отныне, супруга моя, моя возлюбленная […], ты одна в моем сердце и в моей жизни. […] Это истинная любовь, которая крепнет день ото дня».
Он восхищался «нежной гладкостью кожи», совершенством маленькой ручки, всем ее обликом и даже манерой произносить мягкое «ль» вместо твердого «л» — в устах графини этот звук кажется особенно ласкающим слух. Неужели Ева принадлежит ему? Это счастье, о котором Бальзак не смел и мечтать.
Убедительное, точное и отлично документированное исследование Моиза Ле Йануанка посвящено как раз этой теме — «Чувственные радости в творчестве Бальзака». Этот труд, включающий добрых 60 страниц, увидел свет в связи с проведением Года Бальзака, а затем был продолжен автором в отдельной книге «Нозография человека у Бальзака».
Звуки, краски, запахи сливаются у Бальзака в чувственном экстазе, который представляется ему квинтэссенцией человеческих качеств. Все пять чувств, да еще с шестым в придачу, а на самом деле «всего одно чувство» сплетаются в высшем порыве страсти, рождая сверхъестественный по мощи всплеск энергии. Вот она, та самая гармония «Вещества» и «Воли», которую так долго искал Бальзак. «Небо — это самый великий человек», — говорил Сведенборг. Бальзак убежден, что это прежде всего — женщина, и не просто женщина, а любимая, потому что в ней все: внешний облик, манера двигаться, запах, жизнь тела и жизнь духа, отвечают его призыву.
Любовный экстаз открывает двоим целый мир, существующий лишь для них, он обращает влюбленных в единое двуполое существо, живущее и воспринимающее окружающее в своей неразрывной двойственной целостности. Около 26 января 1834 года Бальзак наверняка задавался вопросом: как он мог существовать так долго в отрыве от собственной природы, не отождествляя себя с нею? Нет, не небеса спустились на землю, это «чувство заставило вознестись к небесам».
Люби, и небо тебе поможет. Ничто, кроме чувственного опыта, не может привести человека к осознанию собственного высокого предназначения. Так любовь позволяет Коралии — «самой обворожительной женщине и самой восхитительной парижской актрисе» — подняться до небесных высот и потеряться там, подобно святой Терезе, растворявшейся в экстазе. Бальзак не делит любовь на человеческую и божественную. Впрочем, самая совершенная женщина как раз и проявляет двойственность: «Осмотрительная и благопристойная в глазах общества, перед мужем она становится куртизанкой. В этом умении и заключен женский гений; и таких женщин найдется немного». Замужняя женщина в своей ипостаси источника наслаждений должна обладать 22 чувственными талантами, которые Бальзак перечисляет в «Физиологии брака». Он считает безумием, когда эту истину скрывают от молоденьких девушек. «Правительству следовало бы создать гимнастическую школу для порядочных женщин! Увы, в правительствах слишком сильно засилье ханжей».
Вот о чем говорит Бальзак с госпожой Ганской начиная с 24 января: «Ты сама увидишь, что обладание только увеличивает и укрепляет любовь».
КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА
Ежели вам будет угодно приучить свои ножки шагать той дорогой, что ведет к Небесам…
Еще до отъезда из Парижа, в декабре 1833 года, Бальзак выхлопотал у доктора Жана-Казимира Лемерсье встречу в Женеве с великим швейцарским натуралистом Пирамом де Кандолем.
Бальзаку хотелось расспросить ученого о флоре Скандинавии, которую он сделал родиной главного действующего лица «Серафиты»: странного двуполого существа, которое в обществе женщин ведет себя как мужчина, а с мужчинами превращается в женщину. Когда же это существо обретает наконец свою глубинную сущность, то есть становится духом, в нем окончательно берет верх именно женское начало.
Двойственность этого гермафродита объясняется не только его бисексуальностью, но и двойной природой, одновременно человеческой и божественной. Древние греки гермафродитами называли богинь, обладавших способностью давать жизнь без участия супруга, и таких богов, как например Дионис, умевший повелевать ростом и развитием растений.
Бисексуал, служивший в античности символом могущества, постепенно трансформировался в общественном сознании в бесполое существо, этакого монстра, от которого рады избавиться родители. Миф о гермафродите попытались возродить сначала Парацельс, а затем Якоб Бёме. Гермафродит — это человек до грехопадения, то есть Божий человек. Его спутницей была дева София. Но стоило человеку низринуться с небесных высот, как София покинула его, а на ее место явилась Ева — женщина, знаменующая конец райской жизни. Человеку следует вернуть привычку к покойной и беспорочной жизни, и тогда, следуя примеру Иисуса Христа, он вновь обретет Софию. Иисус Христос ведь тоже гермафродит, юный девственник, образ совершенного существа, явившегося на землю, дабы освободить нас от супружества и научить любить друг друга.
Бальзак мечтал, что напишет «Серафиту» рядом с Евой Ганской. Первые три главы он набросал еще в Париже, до отъезда в Женеву. Но вернуться к рукописи ему удалось лишь в феврале. Единственное, что успел он сделать в Женеве, это встретиться с Пирамом де Кандолем. Известного натуралиста позабавило «живое и отчасти необузданное воображение» писателя. Впрочем, он признавал, что «в обществе он ведет себя как истинно светский человек». Растение, которое так заинтересовало Бальзака, называлось «антерия эпикалекс» или «камнеломка звездчатая». Загадочный цветок, сверкающий, словно драгоценный камень, но в то же время нежный и ароматный. Кажется, он явился прямо с небес, подобно «сокровищу, сокрытому в дуновении ангелов». Редкостный цветок, «дикий и эфемерный», который невозможно вырастить в саду.
Действие романа переносит нас в Норвегию, эту «морскую Швейцарию», в конец XVIII века. Один из кузенов Сведенборга, барон Серафитус, пройдя сложным путем мистических исканий, встречает ангелоподобную женщину. От их брака рождается дочь, с первого дня жизни уже отмеченная неземным совершенством. Ее задача сводится к тому, чтобы вдохнуть в смертных новую жизнь: «мужской дух» мудрости и «женский дух» любви. «Небеса возрадовались», — восклицает Сведенборг в миг рождения маленькой Серафиты. Когда умирают ее родители, Серафита нисколько не скорбит: «Они навечно во мне».
Серафитус, или Серафита, которой «никто никогда не видел без одежды», хранит непорочность, сравнимую с чистотой горных снегов. Дочери пастора Минне она представляется красивым юношей. Вместе с Серафитусом они катаются на лыжах, вернее сказать, подолгу скользят по снегу на привязанных к ногам дощечках.
Бесстрашный Серафитус увлекает Минну к вершине Фальберга. Шаг его точен и уверен. «Чем выше поднимаешься, тем меньше обращаешь внимания на пропасть под ногами, — учит Серафитус Минну. — В небесах не бывает бездн».
Силы Минны слабеют, но Серафитус подбадривает ее, обретая в эти минуты удивительную грацию. Одухотворенный проводник рассказывает девушке об абсолютной любви, в которой «здешние чувства должны слиться с духом Всемогущего». Минна хочет взять его за руку, но он отступает на шаг и вместо пожатия протягивает ей цветок — тот самый символ двуполого существа, в котором гармонично сочетаются коричневый цвет земли и зеленый цвет надежды.
Для Серафитуса Минна — слишком земное создание. Ей предстоит вначале полюбить Вильфрида, терзаемого земными страстями, изведать всю притягательную силу инстинктов.
36-летний Вильфрид, напоминающий самого Бальзака словно брат-близнец, познал в жизни немало падений, но благодаря учению и склонности к размышлениям сумел отточить свой ум, посвятив его изучению законов человеческого бытия. В горниле раскаяния он очистился душой. «Раскаяние — вот единственная сила, которая способна преодолеть все». Вильфрид мечтает о затворничестве, но его кельей должен стать весь мир. Встреча с Серафитой заставляет его забыть о прошлом. «Как вы выросли», — говорит ему Серафита. Усыпив Вильфрида с помощью гипноза, она показывает ему картины становления человечности, словно разматывает перед его взором длинную ленту: «Видишь, это те, кто совсем лишен ума; вот те, у кого есть хоть какой-то проблеск; а эти уже прошли через испытания; вот и те, кто живет любовью; те, кто познал мудрость и стремится к миру света…»
Серафита явилась на землю, чтобы убедить Минну и Вильфрида, что они созданы друг для друга. Наконец, во время «видения» Минне и Вильфриду открывается, что обе составляющие Серафиты-Серафитуса — и мужская, и женская — на самом деле есть единое целое, то есть ангельская сущность.
Творец изначально создал идеальную пару. Это Бог и человек. Вот почему человек, живущий в Боге, чувствует себя на своем месте.
Они обретут счастье, осознав свою двойственную природу и поняв, что любят друг друга. «Господь взял всю красоту, всю прелесть человеческой жизни и вдохнул ее в женщину. Мужчина, лишенный этой прелести, жизненно необходимой, становится груб, суров и печален. Но стоит ему соединиться с любимой, как он чувствует счастье полноты бытия».
Согласно пророчеству Серафиты Минна и Вильфрид вступят на границу первой небесной сферы. «Минна обретет свое место на облаке добрых дел». Крылья молитвы вознесут их еще выше. Но перед этим им придется узреть все земные ужасы, напоминающие видения Данте и Сен-Мартена («Человек желания»).
«Здесь были проповедники разных вероучений, каждый из которых считал собственное единственно верным; короли, облеченные властью, добытой силой и угнетением, воители и прочие великие мира сего, делящие между собой народы; ученые и богачи, яростно попирающие толпы страдальцев, стонущих под их пятой; с ними были их слуги и жены в украшенных золотом и серебром лазоревых одеждах, усыпанных жемчугами и драгоценными каменьями, вырванными из чрева Земли, похищенными со дна морей ценою долгого труда, пота и проклятий многих и многих людей. Но вся эта роскошь и богатство, воздвигнутые на крови, казались двум изгнанникам лишь жалкими лохмотьями. „Отчего ваши ряды недвижимы?“ — обратился к ним Вильфрид. Они не отвечали. „Отчего ваши ряды недвижимы?“ […] И когда в едином порыве они распахнули свои одежды, взорам предстали иссохшие тела, изъеденные червями, тронутые тлением и хранящие следы самых ужасных болезней.
— Вы ведете народы к гибели, — сказал им Вильфрид. — Вы предали землю, вы изменили слову и сделали продажным правосудие. Вы пожрали всю траву на пастбище и теперь принялись за овец, не так ли? Думаете, вид ваших страшных ран служит вам оправданием? Всех своих братьев, не утративших способности слышать Глас небесный, я призову поспешить напиться из источника, который вы захотели от них утаить.
— Побережем силы для молитвы, — сказала ему Минна. — Ты не должен брать на себя миссию Пророков или Мессии… […] Да, нам приоткрылись Высокие Тайны, и здесь мы с тобой — единственные существа, которым дано понимать радость и скорбь; давай же молиться. Путь нам известен; пойдем же этим путем».
При подготовке к созданию этого романа Бальзак перечитал все великие мистические книги разных народов, отдельные сцены из которых мастерски включены в ткань повествования. В числе прочих источников Анри Готье называет Платона («Федон»), Клопштока, Мильтона, Тассо, Данте, Гёте («Фауст»).
Рукопись «Серафиты», законченная 2 декабря 1835 года, была немедленно отправлена госпоже Ганской. Одновременно Бальзак посылал еще несколько рукописей на ту же тему, в том числе юношеское произведение «Фальтюрн». Текст он обернул в «серую ткань, которая так славно скользит по полу. Эта книга говорит о небесной любви, облеченной в земную любовь и радость, настолько полную, какой она может быть в этом мире. Вся моя жизнь полна тобой». «Верьте мне, „Серафита“ — это мы с вами. Давайте же единым порывом развернем наши крылья».
Публикация «Серафиты» началась в июне-июле 1835 года в «Ревю де Пари», с которым Бальзак возобновил сотрудничество, но затем на неопределенный срок прервалась, уступив место «Отцу Горио». Появление «Серафиты» произвело опустошительный эффект на ряды подписчиков. Прерывая публикацию романа, редакция сочла нужным привести следующее объяснение:
«Ревю де Пари» предполагал напечатать окончание философского этюда господина де Бальзака, начало которого появилось в июле нынешнего года. И автор, и журнал надеются вскоре выполнить это обещание. Подавляющую часть наших читателей, возможно, удивит это упорство, но те немногие, кому произведение понравилось, поймут, что его завершение потребовало значительных усилий, умножившихся в силу ряда причин. Труды мистического характера (достаточно редкие) невозможны без специальных исследований, на которые нужно время. Разумеется, читателей нисколько не занимают эти соображения, однако автор и редакция журнала сочли необходимым привести их, одновременно предлагая вниманию читателей новое крупное произведение господина де Бальзака — роман «Отец Горио», который послужит своего рода компенсацией за затянувшееся ожидание «Серафиты». Окончание «Серафиты» будет опубликовано в будущей книжке журнала.
В письме к Еве Ганской Бальзак так прокомментировал это происшествие: «В Париже дураки, прочитавшие вторую часть „Серафиты“, говорят, что я сошел с ума, а редкие возвышенные души тайно завидуют мне». В том же письме Бальзак жалуется на «страх пера» и «страх чернильницы», доходящие порой до настоящей муки. Позже, когда пройдет время, необходимое на «переваривание мистики», он еще вернется к этому произведению.
«НАКОНЕЦ-ТО Я ЦАРСТВУЮ В ПАРИЖЕ, В КОТОРОМ БЫЛ НИЧЕМ»
8 февраля 1834 года Бальзак покинул Женеву. День стоял холодный. Шел снег, карета без конца увязала, и приходилось идти пешком, то и дело проваливаясь в сугробы.
Взору Бальзака вновь открывался город, в котором два года тому назад он впервые увидел Еву Ганскую. Любовь, вспыхнувшая из ничем не объяснимой взаимной симпатии, казалась чудом. «Быть может, влюбленные владеют даром второго зрения?» Впрочем, не таится ли и в обычном, «первом» зрении, способность прозревать глубины?
Тогда, два года назад, Бальзак считал, что эта любовь останется платонической, хотя надежды никогда не терял. Теперь он получил подтверждение своей любви. Ева делилась с ним своими мелкими недомоганиями, посвящала его в домашние заботы.
Новая любовь увидела свет на закате старой. Что станется с госпожой де Берни через полгода, через год? Она страдала болезнью сердца и была обречена. Бальзак понимал, что потеряет в ней мать. Она первой открыла ему, что значит быть любимым. Он помнил прикосновение ее рук, губ. В ней словно уживались сразу две женщины: одна его просто любила, вторая еще и воспитывала. Как это было давно! Лишь благодаря ей он уверился, что его первые литературные опыты имеют право на жизнь. Он шел вперед гигантскими шагами, вовсе не думая о ней, но сейчас понял: «Ради нее я полюбил славу, ради нее устремился к известности и почету».
Сцену смерти отца Горио он читал госпоже де Берни вслух. Она рыдала.
Ведь она сама была «папашей Горио». Разве не так же она билась, чтобы дать приличное воспитание и вывести в люди детей, у которых никак не получалось «соответствовать» надеждам родителей и зажить жизнью, достойной их ожиданий? Оноре вместе с сестрами и сам пережил, каково приходится детям родителей-буржуа, преисполненных тщеславных стремлений и глядящих снизу вверх на аристократов и финансовых воротил, нисколько не задумываясь о том, с какими людьми придется иметь дело их отпрыскам, попади они в эту среду.
И отец Горио, и госпожа де Берни умирают из-за своих детей. Папашу Горио собственные дочери убивают презрением. Госпожа де Берни не в силах пережить гибели и неудач своих детей.
Элиза, дочь госпожи де Берни, скончалась 11 июля 1834 года; Арман был болен туберкулезом, — он умер еще через год; Лора-Александрина не покидала стен психиатрической лечебницы. Из девятерых детей «дамы в белом» оставалось лишь четверо, и каждый из них постоянно жаловался на нехватку средств.
Бальзак был настолько жаден до жизни, что буквально «пожирал» окружающих, веря, что судьба тотчас предоставит в его распоряжение других, кому он с неменьшим пылом примется расточать свою неизбывную нежность. Лора де Берни умерла, значит, Ева Ганская должна здравствовать! Ей следует беречь свою красоту, заботиться о здоровье. 17 февраля Бальзак пишет своей «милой дорогуше» письмо, состоящее из практических советов «гигиенического» свойства: не пейте ни кофе с молоком, ни чаю; ешьте исключительно прожаренное «темное» мясо; умывайтесь холодной водой; непременно совершайте пешие прогулки, ежедневно увеличивая расстояние, пока не привыкнете проходить по два лье (восемь километров); когда приедете к морю, берите «морские ванны»; по приезде в Вену купайтесь в Дунае.
Господин Ганский собирался вернуться в Польшу. Супруга ничего не имела против, она желала сделать по пути небольшой крюк. Итак, они едут во Флоренцию, оттуда в Милан, а уж затем в Вену.
Ганские вели светскую жизнь, и Бальзак начал задумываться о том, что и ему следовало бы возобновить связи в обществе. 19 февраля он обратился к госпоже Потоцкой с просьбой о рекомендации, которая позволила бы ему «иметь честь повидать графиню, супругу Антуана Аппония», австрийского посланника в Париже. «Божественная Тереза» приняла его у себя 23 февраля. Он стал постоянным гостем в особняке «Экмул» на улице Сен-Доминик, дом 107, где размещалась посольская резиденция. После 1840 года резиденцию перенесли в другой особняк — на улицу Гренель, дом 121.
Бальзаку хотелось, чтобы время, проводимое на этих вечерах, приносило хоть какую-то пользу. «Когда ни с кем не видишься и никого не желаешь знать, такие понятия, как слава и известность, теряют всякий смысл».
Тем не менее его положение в свете было хрупким. Его манера одеваться с кричащей роскошью, маленький рост и пресловутый «животик» стали грозным оружием в руках недоброжелателей. Кое-кто явно игнорировал его, причиняя ему невыразимую муку. Что ж, даже великие люди под презрительными взглядами окружающих становятся словно меньше ростом. Бальзак злился, проявляя далеко не лучшие черты своего характера. Однажды, повздорив с Эмилем де Жирарденом, Бальзак бросил тому вызов на дуэль. Чтобы замять дело, пришлось обратиться за содействием к капитану бывшей королевской гвардии, который кое-как примирил соперников. И все-таки последнее слово осталось за Бальзаком: Жирарден признал, что неудачно пошутил, чем и вызвал гнев Бальзака.
Специально для светских приемов Бальзак заказал себе отличный синий фрак с золотыми пуговицами, выточенными «ручками феи». Однажды вечером его увидел Делакруа, которого этот наряд привел в ужас. Помилуйте, разве можно надевать синий фрак с черными Казимировыми панталонами и черным же атласным жилетом?
Бальзак всегда твердо следовал одному правилу: любое желание должно быть исполнено в тот самый миг, когда оно возникло, каких бы расходов это ни требовало. В августе 1834 года он купил себе украшенную бирюзой трость работы золотых и серебряных дел мастера Лекуэнта. Диаметр трости у основания — 20 миллиметров, возле рукоятки — 45. В качестве дополнительного украшения мастер выгравировал фамильный герб Бальзаков д’Антрег. Злые языки болтали, что внутри трости имелся тайник, в котором Бальзак прятал портрет обнаженной Евы. Дельфина де Жирарден написала даже эссе под названием «Трость господина де Бальзака». Эта «бирюзовая трость» сделала его знаменитым, вдохновив бессчетное число журналистов и карикатуристов. Сам Бальзак немало поражался этой внезапно нахлынувшей популярности. Сколько шуму из-за какой-то палки и — гробовое молчание вокруг «Серафиты»…
В один прекрасный день он вдруг понял: над ним не стали бы смеяться, если бы его не считали значительной личностью.
Выходы в свет развлекали его, но после Женевы он понял, что истинный смысл жизнь обретает лишь тогда, когда окрашена чувством. Воспоминания о встречах с Евой в «Арке» волновали кровь… А красавицы, ворковавшие вокруг него в австрийском посольстве…
К марту или апрелю 1834 года Бальзак уже наверняка прочитал «Жюстину» де Сада, хотя прямо не решался говорить об этом: «Не знаю другой книги, которая называлась бы именем горничной». В «Серафите» любовь облечена в белое, цвет невинности и чистоты; отчего бы теперь не написать роман, выдержанный в красно-золотых тонах? Красный цвет — цвет страсти, цвет крови. Над «Девушкой с золотыми глазами» он работал в марте 1834 — апреле 1835 года.
ПРОКЛЯТАЯ ЛЮБОВЬ ОМФАЛЫ
В «Серафите» он писал о любви, которая спасает. Теперь его внимание привлекла любовь, способная погубить. Главного героя зовут Марсей. «Рычащим львом», великолепным «Адонисом» называет его автор. Внешне темпераментный и даже страстный Марсей в глубине души холоден и циничен. Это человек, начисто лишенный способности чувствовать. Он «с наслаждением купается в зле, подобно тому, как турецкие женщины купаются в бане». Он может доставить удовольствие, но с равным успехом готов причинять и боль.
По большому счету, — а Бальзак к любому явлению всегда подходит именно с таких позиций, — «прожигатели жизни» приносят определенную пользу, ведь они дают заработать простым труженикам. Рабочие и пролетарии Парижа, призывает он, засучите рукава и принимайтесь за работу. Украшения, мебель, посуда и кареты, которые вы изготовите своими руками, не дадут вам умереть с голоду.
Париж-труженик не должен ссориться с Парижем-любителем наслаждений, лучше, если он смирится с его существованием. Общество строго делится на тех, кто трудится, и тех, кто пользуется плодами их труда. Отсюда вывод: те, кто производит золото, бархат, ковры и тому подобное, не могут владеть этими вещами.
«Девушка с золотыми глазами» по композиции напоминает живописное полотно, — не случайно роман посвящен Делакруа. Есть в нем и нечто от оркестровой партитуры, когда за сладкими голосами солистов угадывается аккомпанемент «рыданий, криков, стонов и плача трудового Парижа» (Жозеф-Марк Бельбэ).
В апреле 1815 года Анри де Марсей знакомится в саду Тюильри с желтоглазой девушкой. Он провожает ее до улицы Сен-Лазар и упрашивает о свидании. Ей 22 года, ее зовут Пакита Вальдес. Родом она из Гаваны. Ее, дочь рабыни, продали Маргарите-Эуфемии Поррабериль, супруге маркиза де Сен-Реаль.
Пакита дарит де Марсею и второе свидание. На сей раз они встречаются в будуаре, обстановкой напоминающем комнату, которую Бальзак устроил в доме на улице Батай в Шайо. Очевидно, Бальзаком владели в ту пору определенного рода искушения, потому что комната буквально утопала в муслине, кашемире и восточных коврах. Для звукоизоляции он приказал обить стены тканью и бумагой. Принимая гостей, Бальзак просил их кричать как можно громче. Сознание того, что из комнаты не вырывается наружу ни звука, доставляло ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Попадая сюда, человек как бы переставал существовать, превращаясь в один из предметов обстановки.
Впрочем, Бальзак это все-таки не де Марсей. Просто ему нравилось ощущение свободы, и он чувствовал себя комфортнее, когда был уверен, что никто не видит и не слышит, чем он занят. За свою жизнь ему не раз случалось селиться в самых жалких местах, и он легко мирился с этим при условии, что само жилище было устроено с удобством и роскошью.
Де Марсею нравится повелевать людьми, но на сей раз он становится жертвой Пакиты. Она забавляется, наряжая его в женское платье алого бархата, заставляет его нацепить чепец и «закутывает в шаль».
Пакита — девица, но отнюдь не невинная. Она одна способна заменить собой целый сераль. Часы любви, проведенные с ней, кажутся де Марсею чем-то «темным и загадочным, сладким и нежным, волнующим и мучительным. Это сплав чудовищного и божественного, союз между адом и раем». Чем же она его околдовала, чем опоила? Де Марсей теряет голову, он витает в блаженстве, которое «невежда с простотой глупца назовет иллюзорным раем».
Наслаждения, которые дарит ему девушка, пропитаны ядом, и этот яд по капле проникает в душу де Марсея, заставляя его стремиться к смерти. Он понимает, что становится ее послушной жертвой… Нет, он должен ей противостоять!
Пакита мечтает умереть. Что ж, пусть считает, что ей повезло, ведь де Марсей будет счастлив убить ее. «Его сладострастие оборачивается яростью». Устроить убийство Пакиты берется маркиза де Сен-Реаль. Как и де Марсей, она — незаконнорожденная дочь лорда Дадли, они похожи друг на друга, словно близнецы. Госпожа де Сен-Реаль стремится убрать с дороги не соперника, а его искусительницу. Пакита, эта кудесница, умеющая дарить самые изысканные наслаждения, не может служить двум господам сразу. Ее кровь станет наказанием и для де Марсея.
На первый взгляд «Девушка с золотыми глазами» — это роман о роковой любви, заставляющий вспомнить имена Сапфо и Бодлера. На самом же деле он повествует о любви, которая сводится к соитию мужчины и женщины в роскошном будуаре, но под неусыпным оком демонической соперницы — госпожи де Сен-Реаль.
«Стремящийся к женщине стремится в ад», говорится в Писании. Расточая любовь, женщина разжигает страсть, и сам дьявол наказывает ее. Маркиза де Сен-Реять не дает де Марсею самому совершить преступление. Вспомним, что Монриво, своими руками верша суд над герцогиней де Ланже, напротив, выступал в качестве слуги Господа.
В отношении Бальзака к наслаждению прослеживается любопытная тенденция. Он словно прославлял добровольный отказ от удовольствий, почему его избранницами поочередно становились ущербная физически госпожа де Кастри, стареющая, холодная и вечно печальная госпожа де Берни, принадлежавшая другому Ева Ганская или Зульма Карро, с головой ушедшая в материнство после рождения в 1834 году ее Йорика. Всех этих женщин, похоже, объединяло одно и то же стремление: вынудить Бальзака подчиниться светским условностям, чтобы на его долю остались только слово да муза. Они дарили ему нежность, но дарили так скупо, что ее хватало лишь на то, чтобы создавать поэзию любви, но никак не жить этой любовью.
«КРАСОТА НЕОТДЕЛИМА ОТ ДОБРА»[37]
Наступил апрель 1834 года. Трехмесячное перенапряжение сил не могло не сказаться на состоянии Бальзака. Работая над «Цезарем Биротто», «Старой девой», «Серафитой» и «Девушкой с желтыми глазами», он беспощадно эксплуатировал собственное воображение, «писал, зачеркивал и вновь писал», доведя себя до полного изнеможения: «3 апреля. Валяюсь в постели. Не могу ни писать, ни читать, ни работать». 8 апреля он направился во Фрапель, расположенный неподалеку от Иссудена, в имение семейства Карро. Здесь он подвел своеобразный итог уже созданному, группируя свои опубликованные романы в крупные циклы, и намечает контуры будущих творческих планов. «Этюды нравов» — 20 томов; «Философские этюды»… Должна была быть еще третья часть, но ее он пока смутно себе представлял.
20 апреля 1834 года, вернувшись в Париж, Бальзак отправился на концерт оркестра Консерватории. Исполняли Пятую симфонию Бетховена (1770–1827). Музыка произвела на него впечатление, равных которому он еще не испытывал. Он заставил ее звучать «в сердце и мыслях» Цезаря Биротто: «Идеальная музыка! Она вспыхнула, рассыпавшись на тысячу ладов, и рожки в его изможденном мозгу заиграли величественный финал».
Цезарь Биротто умер сразу после концерта. Бальзак, напротив, словно вернулся к жизни. В творчестве Бетховена, прожившего тяжкую жизнь и умершего семь лет назад в расцвете славы, этого «счастливейшего из несчастных», Бальзак нашел подтверждение своей давней мысли: радость и печаль неотделимы друг от друга. Художественное вдохновение питается из живого источника, корнями уходящего в юность мира. «Ты должен», повторял себе Бетховен. Нечто похожее испытывал и Бальзак, сознававший, что для него нет ничего невозможного. Каждое новое произведение превращалось для него в очередной вызов судьбе.
10 мая он писал Еве Ганской: «Я завидую только нескольким великим, которых уже нет в живых: Бетховену, Микеланджело, Рафаэлю, Пуссену, Мильтону… Благородное одиночество величия чрезвычайно волнует меня. Да и сам я сказал еще далеко не все. То, что уже сделано, — лишь фрагменты большого, большого труда».
ЭПОПЕЯ УВЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ НАУКОЙ
3 июня 1834 года издательница Бальзака госпожа Беше торопила автора с написанием третьей части «Сцен частной жизни». «Я недоволен, я огорчен тем, что делаю». Он чувствовал, что для полноты картины новая книга должна была быть в духе «Евгении Гранде».
В своем прекрасном исследовании «Бальзак и „Поиски Абсолюта“» Мадлен Фаржо показала, что к идее создания романа «об ученых, занятых разгадыванием тайны и вступающих в противоречие с природой», Бальзак подступался исподволь.
Он знакомился с трудами известных ученых, в числе которых особенно выделял Бернара Палисси (1510–1584). Этого человека, увлекавшегося изготовлением керамики, геологией, эмалями, первобытной историей и ботаникой, видного путешественника, создавшего кабинетный музей естественной истории, Бальзак считал едва ли не ясновидцем.
Другим источником стала для него сама жизнь, в частности, как считает Мадлен Фаржо, знакомство с Огюстом Думерком, сыном того самого Даниэля Думерка, который покровительствовал Бернару-Франсуа Бальзаку. Изобретение паровой машины оказало на Огюста такое сильное впечатление, что он всерьез решил осчастливить с ее помощью человечество, для чего свел знакомство с целой сворой всяческих изобретателей, которые довели его до полного разорения.
Задолго до того, в 1817–1818 годах, когда Бальзак переживал период «чердачной философии», в обществе горячо обсуждали один необычный судебный процесс. Некто Арсон пообещал заплатить огромную сумму польскому математику Вронскому, если тот сумеет добыть для него Абсолют.
Под «абсолютом» понимали тогда либо некую уникальную субстанцию, предмет изучения алхимии, либо, в духе учения Канта, «вещь в себе», независимую от априорной формы времени и пространства.
Арсон счел себя обманутым и отказался платить, однако Вронский поспешил напомнить своему нерадивому ученику о тех уроках математики и метафизики, которые он успел ему преподать. Цена «абсолюта» оказалась, таким образом, лишь платой учителю за его труд.
Немало писателей и мыслителей той поры были одержимы безумной идеей «пустить в продажу Абсолют».
Все это в сущности выглядело совсем не так уж безобидно. Как можно продолжать верить в прогресс, в то, что человечество развивается по определенным законам? Что толку было твердить о Провидении, если даже искренне верующие не сумели прочитать его знамений?
Мыслители роялистского толка видели во Французской революции печать Сатаны; для них это событие являло собой грубое вмешательство зла в Историю. Смягчить чудовищные тяготы и лишения гражданской войны можно одним-единственным способом: покориться воле Божьей, которая наиболее полно проявляется как раз в переломные моменты истории.
Философы обратились к метафизике, надеясь отыскать принцип мироустройства в глубинных пластах человеческого сознания, связанных с такими явлениями, как инстинкт, чувство, мечта, интуиция. Дело осложнялось тем, что и между собой философы никак не могли прийти к согласию, и зачастую их споры сводились к выяснению отношений. Одним человек виделся игрушкой в руках судьбы (Шопенгауэр), тогда как другие верили, что поэтам, философам и целым народам «самим Богом поручена определенная миссия» (Ламартин).
Наука предыдущего, XVIII века подобными вопросами не задавалась в силу своей узости, излишней специализации. Бальзак же, обратившийся в эпоху романтики к трудам ученых, выглядел большим оригиналом.
Мадлен Фаржо доказала, что он читал восьмитомный «Трактат о химии» Йенса Якоба Берцелиуса (1779–1848), знаменитого в то время шведского химика. Берцелиус считал, что мир состоит из 54 простых тел, связанных друг с другом посредством сродственных связей. Открытие в 1799 году вольтовой дуги доказало, что электричество возникает не только в результате трения, как считалось раньше, но является природным процессом, протекающим по-разному, в зависимости от хорошей или плохой проводимости. Электрический флюид, таким образом, пронизывает всю вселенную.
В юности Бальзак познакомился с Жан-Жаком Ампером, сыном физика и математика Андре Ампера (1775–1836). Еще в 1820 году Андре Ампер высказал идею, что молекулы физических тел движутся по определенным законам, и это движение при помощи магнита можно сделать направленным. Эта мысль легла в основу «электромагнитной» теории вещества. Ампер предложил вместо термина «столкновение» два других: «ток» и «напряжение». Определенное число тел образуется в электрическом поле в результате сцепления, в «принудительном порядке» или в силу «сродственности» (Берцелиус). Всю природу можно, таким образом, свести к ограниченному набору простых тел, таких, как, например водород, изученный англичанином Уильямом Праутом в 1816 году.
Берцелиус называл 54 простых тела. Праут и его ученик француз Жан-Батист Дюма (1800–1884) пытались сократить их число с помощью теории субституции. Атом хлора может заменять атом водорода. Так в 1831 году появился хлороформ, а чуть позже и хлораль. В трудах этих ученых такие термины, как «атом» или «молекула», употреблялись уже в современном смысле.
Впрочем, занимаясь наукой, человек «лишь использует некоторые силы, но не создает их». Ученый в сущности лишь копирует жизнь. Он может разложить живое на элементы, но создать живое из неживого он не в состоянии.
Жоффруа Сент-Илер, которым Бальзак искренне восхищался, был убежден, что между «царствами» и «видами» существует глубинная связь. В рамках науки о жизни появилось несколько гипотез. Так, Сведенборг считал, что твердые тела могут переходить в газообразное состояние. Бальзак использовал эту идею в «Шагреневой коже» и в предисловии к «Мистической книге». Он полагал, что писателю следует прислушиваться к мнению химика и смело принимать гипотезы, которые «однажды станут истиной».
Мадлен Фаржо исследовала «Поиски Абсолюта» с точки зрения современной науки и с помощью современных ученых. Выяснилось, что роман Бальзака содержит целый ряд верных гипотез. Так, солнечная печь Монлуи весьма напоминает аппарат, который конструировал у себя на чердаке Клаэс. То, что Бальзак называл «состояниями электричества», сегодня именуют разницей потенциалов. Опыт, о котором мечтал Бальзак, был поставлен в 1960 году в химической лаборатории Политехнической школы.
Разрабатывая сюжет «Поисков Абсолюта», который к 20 июня обрел конкретные черты, Бальзак пребывал в состоянии восторга перед духом экспериментаторства и научных открытий. Он писал Ганской: «Приступаю к работе над большой и прекрасной темой, которая, надеюсь, принесет вам почет и удовольствие». Бальзак понимал, что замахнулся на целую эпопею, посвященную новой науке. Но если ученый всегда ограничен рамками возможного, писатель в отличие от него может смело перекраивать мир по собственному усмотрению. «Эврика!» — восклицает перед смертью Клаэс.
В июле-августе 1834 года Париж плавился от зноя. Бальзака навешала мать. Она приносила ему «бальзам для компрессов»: Оноре работал по восемнадцать часов в сутки. 26 августа роман был окончен. Он осенил себя крестным знамением. Получилось именно то, чего он хотел: показал, что «чистая супружеская любовь — вот высшая страсть».
Бальзак вложил в эту работу все свои жизненные силы. Точно так же его герой, 50-летний Бальтазар Клаэс, жертвует своим имуществом, включая богатый дом во Фландрии, вооружается всем арсеналом современной ему науки и запирается на чердаке в окружении физических приборов, химических веществ, книг и всевозможных машин, закупленных в Париже. И друзей, и даже жену он рассматривает отныне как помеху в поисках истины. Однажды, когда в мастерскую зашла его жена, Клаэс от неожиданности уронил и разбил стеклянный отражатель. «Мне почти удалось разложить азот! — с негодованием воскликнул он. — Ступай, займись своими делами!»
Вскоре дом приходит в упадок. Слугам платить нечем, и жена Клаэса, восхитительная женщина, угнетенная необходимостью уплаты долга в триста тысяч франков, близка к смерти. Ее готовят к последнему причастию и ждут Клаэса.
«Ты, наверное, занят… Тебе ведь надо разложить азот», — с ангельской кротостью обращается она к нему.
Бальтазар Клаэс в отчаянии. Он уже готов бросить свои поиски, но… Его идеи витают в воздухе, над ними работают другие ученые. Если он не найдет «химический абсолют», значит, это сделает кто-то другой. Эти соображения придают ему новые силы. Абсолют преследует его, как иных преследует тяга к алкоголю, женщинам или насилию.
В этом замечательном романе Бальзак, похоже, попытался преподать самому себе своего рода урок. Знание не должно подменять жизнь. Чем больше работает Клаэс, тем ущербнее становится его хозяйство. Особое знание, в основе которого лежит интуиция, превращается у него в специализацию. Это и есть та характерная черта, которая отличает ученого от писателя. Ученый XIX века верит в единство науки — догмат, заимствованный из античных времен, когда наука действительно была единой. Писатель же обладает властью рассматривать вещи и явления с разных точек зрения и объединять их по собственному усмотрению.
В период работы над романом Бальзака терзали сомнения в правильности избранного им затворнического образа жизни, целиком посвященного творчеству. «Я строю хижину при свете горящего рядом дома, — пишет он Еве Ганской. — У меня нет ни друзей, ни последователей. Уж не знаю почему, но от меня все бегут. Впрочем, знаю: никто не любит и не станет помогать человеку, работающему день и ночь; человеку, который не собирается тратить время, чтобы угодить чьей-то прихоти; человеку, который никуда не ходит и к которому приходится являться лично; человеку, чья слава, — если она и состоится, — загремит не раньше, чем лет через двадцать. […] Тот, у кого нет реальной власти, всегда выглядит смешным и жалким».
Упорный труд и творческий дух — не одно и то же. Второе подразумевает универсальность разума, способность к иронии, свободу приложения собственных талантов. Ученый исследует явление, а затем пытается выразить его смысл в абстрактной формуле. Настоящий писатель держит у себя в голове целый мир, и потому легко находит связи между самыми далекими явлениями.
Бальтазар Клаэс, загнанный неудачами и собственным эгоизмом, решается на самоубийство. Он «приставляет к виску пистолет», потому что дочь отказалась дать ему 60 тысяч франков, необходимых для завершения опытов. И, как это нередко случалось в истории научных открытий, судьба делает очередной «зигзаг»: под случайным воздействием вольтовой дуги сернистый углерод превращается у него в лаборатории в бриллиант.
Над ним потешались уличные мальчишки. «Гони колдуна!» — кричали они. Разбитый параличом, Бальтазар Клаэс встречает смерть возгласом: «Эврика!» — «Я нашел!»
«Уберите все лишнее, чтобы было лучше видно», — скажет позже господин Тест. Вот только что именно он хотел увидеть? Какой высший смысл заключался в гибели Клаэса? Какую тайну помогла приоткрыть «бесплотная рука смерти»? Может быть, смерть знаменует лишь завершение жизни, которую поиск недоступной истины уже сделал призрачной? Умирая, Бальтазар осознает, что внутри него жил не только ученый. Он убил в себе свое второе «я», но перед смертью оно воскресло. «Эврика» означает возврат к безмятежной гармонии.
Смерть чудовищно неоднозначна. Сознание того, что ты сделал все, что мог, умиротворяет, но в то же время ощущение, что ты всю жизнь был не тем, кто ты есть на самом деле, заставляет ужаснуться, как ужасался герой рассказа Толстого «Смерть Ивана Ильича».
РАСКРЫТАЯ ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ
Было бы чудно, если бы автор «Шагреневой кожи» умер молодым.
В сентябре доктор Накар констатировал у Бальзака крайний упадок сил. Он запретил ему не только работать, но даже и читать, и настоятельно рекомендовал уехать в Саше. Тем не менее Бальзак прочел «Сладострастие» Сент-Бева и тут же решил, что напишет кое-что получше. Он думал о «Лилии в долине». Одновременно он начал работу над «Отцом Горио».
И тут разразилась катастрофа! Неизвестно какими путями простодушный и доверчивый господин Ганский перехватил два письма Бальзака, адресованные его жене.
Отпираться не имело смысла. Бальзак попытался выкрутиться и срочно изобрел историю, согласно которой «серьезная и наивная до простоты» госпожа Ганская проявила любопытство к вопросам «чувств» и попросила Бальзака для примера написать ей любовное письмо. Два обнаруженных мужем послания — не более чем образцы «любовного стиля», такая же поделка, как «письма Монторана к Марии де Верней» («Шуаны»), Он и так достаточно наказан одним сознанием, что огорчил своих друзей, и надеется, что господин и госпожа Ганские окажутся настолько великодушны, что извинят ему допущенную неловкость.
«УНИЖЕННЫЙ ОТЕЦ»
Переписка Бальзака с Евой Ганской возобновилась 19 октября, после полуторамесячного перерыва. В этот же временной промежуток стало ясно, что «Отец Горио» займет достойное место рядом с «Евгенией Гранде» или «Герцогиней де Ланже».
Уже «Поиски Абсолюта» показали, что у Бальзака нет зависимости художника от собственных персонажей. В романе «Отец Горио» он с легкостью манипулирует многочисленными героями, понимая каждого и различая всех. Автор по очереди становится каждым из придуманных им людей, всегда оставаясь самим собой.
Как это нередко бывало с Бальзаком, толчком послужила наблюдаемая им сцена из жизни. Ему случилось увидеть, как «умирал старик, целые сутки крича от жажды, но к нему так никто и не пришел. Одна из его дочерей уехала на бал, другая — в театр, хотя обе прекрасно знали, в каком состоянии находился отец».
Бальзак никогда не считал, что отец — это царь и бог, однако, по его мнению, быть отцом, значит приблизиться к пониманию Бога. Именно такую мысль произносит у него отец Горио.
В Древнем Риме отец обладал полной властью над жизнью своих детей. Некоторые черты подобного отношения сохранялись и в дореволюционной Франции. Самого Бальзака воспитывали в убеждении, уходящем корнями к Аристотелю и Фоме Аквинскому, в том, что отец как личность «активно действующая», стоит неизмеримо выше ребенка как личности «потенциальной». Достаточно вспомнить, что Шатобриан не смел поднять глаз на своего отца, а Мирабо никогда в жизни не целовал своего. Почтительное уважение к родителю получило особое распространение в семьях аристократии и буржуазии. Эдгар Кине, к примеру, так смущался, сидя за столом вместе с родителями, что мог остаться голодным. В этой среде считалось нормальным, что ребенок не должен открывать рта, пока его о чем-либо не спросят.
В 1835 году, когда создавался «Отец Горио», отношение в семье к ребенку как к «королю», еще не сложилось, но дети воспитывались уже в гораздо более свободном духе. Из-под неусыпной опеки родителей или наставников они вышли на улицу, обретя некоторую независимость, подчас разрушительную. Ликвидация права первородства также повлияла на ослабление отцовской власти. Убеждения Бальзака в этом вопросе сложились, как мы помним, уже к февралю 1824 года.
Работая над «Отцом Горио», Бальзак «держал в уме» и прочитанную ранее брошюру о праве первородства, и память о том предпочтении, которое Лора де Бальзак демонстративно оказывала своему незаконнорожденному сыну Анри, и поведение его зятьев Монзэгля и Сюрвиля, и отношения госпожи де Берни с ее собственными детьми.
В «Отце Горио» звучат две главные темы: деградация отца и моральное падение детей.
Овдовев, Горио перенес свою горячую любовь к жене на дочерей. Восхищаясь их успехами в обществе, он ведет себя не как впавший в детство старик, а как заботливый любовник. В каком-то смысле это его последняя попытка продолжать ощущать себя мужчиной. Мужья дочерей не пожелали с ним знаться, и ему приходится смотреть на них издали. Проезжая в роскошном экипаже по Енисейским Полям, они иногда «посмеиваются» над ним. Брошенный отец готов на все. Он снимает и обставляет квартирку, в которой любимая дочь сможет встречаться с Растиньяком. Он даже гордится своей ролью сводника, словно находя в ней некий реванш. «Ну и пример! — возмущалась по выходе романа критика. — Этот „сумасшедший старик“ не заслуживает ничего, кроме жалостливого омерзения».
Папаше Горио, который откровенно пренебрегает правилами приличия, вторит еще один персонаж — «одинокий жалкий студентишко Растиньяк».
«Никому не нужно то, от чего отворачиваются остальные», — так заявила Растиньяку госпожа де Босеан. Несколько дней спустя он слышит не менее откровенное признание Вотрена: «Уверяю вас, в Париже и шагу нельзя ступить, чтобы не столкнуться с самыми дьявольскими проделками. Такова жизнь. Она ничем не лучше кухни — такая же вонь… И если хочется рагу, приходится пачкать руки. Здесь нет принципов; есть только события. Законов тоже нет; бывают обстоятельства. Тот, кто желает преуспеть, принимает события и обстоятельства как данность, а сам исхитряется оказаться впереди них». Вотрен знает, о чем говорит. В доказательство своих слов он приводит настоящие статистические выкладки: «Во Франции всего двадцать генеральных прокуроров, а вас, мечтающих об этой должности, двадцать тысяч. Найдите-ка мне в Париже хотя бы пять адвокатов, к 50 годам сумевших начать зарабатывать по 50 тысяч франков. И ведь лучшие места достаются не самым порядочным и знающим, а тем, кто может похвастать крупным состоянием и мастерством плетения интриг».
С сентября 1834-го по январь 1835 года семьи Бальзаков и Сюрвилей переживают серьезные финансовые трудности. Анри с супругой бессильны что-либо предпринять, и Бальзак всерьез подумывает о поездке в Лондон с целью пробить проект Сюрвиля, до которого наконец-то дошло, что строительство каналов безнадежно устарело и что пора переключиться на железные дороги. Лора де Бальзак беспрестанно жалуется на нищету и выпрашивает деньги для уплаты долгов. «Горио — это я», — вполне мог бы сказать Бальзак. Бальтазар Клаэс мучился выбором между семьей и наукой. По мнению Андре Моруа, «Бальзак, подобно Горио, стоял перед выбором: творчество или жизнь. И как старик готов был отдать жизнь за дочерей, Бальзак умер бы, если бы его лишили возможности писать».
Окруженный со всех сторон «светскими богачами-бездельниками», которые и понятия не имеют об «исполненной трудов жизни художников и бедняков», Бальзак сам себя чувствует Растиньяком. Подобно своему герою, он тоже научился прятать чувства, ведь «стоит вам на минуту выдать себя, вы пропали». Он откровенно манкирует светскими обязанностями: отказывается ехать в Нормандию, в Кевийон, где его ожидают маркиза де Кастри и герцог де Фитц-Джеймс; откладывает поездку в деревню к герцогине д’Абрантес; перестает посещать «среды» барона Жерара… Ни дня без строчки, пока не ушло вдохновение: «Никогда еще поток не нес меня с такой силой; никогда еще человеческий разум не покорялся с такой готовностью замыслу столь же величественному, сколь ужасному».
Ему постепенно открылось, какие преимущества таит в себе присутствие сквозных персонажей. С Растиньяком читатель уже встречался — в «Шагреневой коже» этот парижский «тигр» представлял Рафаэля де Валантена Феодоре. Викторина Тайфер — дочь банкира-убийцы из «Красной харчевни». Мадам де Ресто знакома нам по роману «Гобсек» — ведь это она рылась в комнате только что умершего мужа, надеясь найти и уничтожить завещание, лишавшее состояния ее незаконнорожденных детей.
Начиная с «Отца Горио» в романах Бальзака станут без конца появляться лица, хорошо знакомые внимательному читателю.
Бальзак описывал мир, который любил целиком, включая и так называемые «отбросы человечества». По его собственному признанию, его произведения можно представить в виде «галереи», все помещения которой связаны друг с другом так, что из любого можно попасть в любое. О каждом из персонажей, появляющихся на страницах новой книги, читатель уже знает все: откуда он родом, что из себя представляет, на что способен.
Важно не только то, что он набрасывает широкое полотно нравов своего времени, важно, что это полотно правдиво.
Живые картины мира, созданного Бальзаком, отвечают исторической правде. Здесь легко обнаружить отголоски реальных событий, о которых писали газеты того времени, здесь же находят выражение немые страдания или яростный протест обездоленных судьбой бедняков.
Бальзаковский Париж — реальный город, в котором живут и действуют реальные люди. Даже их имена внушают доверие. Самые известные врачи — это неизменно Бианшон и Десплен; стряпчие — Дервиль и Дерош; финансисты — Нусинген и Келлер. В 1835 году каждый парижанин понимал, что, говоря о портном, имели в виду Бюиссона, а о враче — Дюпюитрана. Мороженое всегда заказывали у Тортони, обувь — у Пине, бронзу — у Деньера, ювелирные украшения — у Кристофля, книги — у Мама. Ротшильды всегда жили на улице Ля Файет, Вендели — в Бриэй, а Шнайдеры — в Крезо. Герои Бальзака — зачастую настоящие двойники реально существовавших людей, и в целом ряде случаев исследователям его творчества удалось установить прототипы.
«All is true», любил повторять он. «Все верно».
Подобно археологу, Бальзак открыл для нас целые пласты Парижа, неведомого, подчас «страшного». Пансион Воке, который Мадлен Фаржо удалось разыскать на улице Кле, 21, действительно располагался в «живописной долине, состоящей из домов с готовой в любую минуту обрушиться штукатуркой, выстроившихся вдоль ручья густой черной грязи». Этот доходный дом скроен на живую нитку из первых попавшихся материалов, так что его окна, кажется, «вечно ругаются между собой».
Не менее реально кладбище Пер-Лашез, на котором Растиньяк решается бросить вызов Парижу. Париж — это «шумный улей», из которого следует «выкачать мед», иначе не стоит и жить. Сам Бальзак еще в 1819 году, когда жил на улице Ледигьер, часто бродил по кладбищу Пер-Лашез, «читая» его, как «архив смерти», в котором все супруги верны, все матери нежно любимы, все отцы — почитаемы. Спите с миром!
Существовал прототип и у отца Горио. Лорин А. Уффенбек разыскала сразу двоих: оказывается, в Понтуазе проживал торговец мукой под именем Горио, а на улице Сен-Жак в Париже кондитер Жан-Антуан Горио, родившийся в Л’Иль-Адам, где Бальзак провел несколько лет жизни.
Фамилию Растиньяк носило старинное семейство выходцев из Лимузена, в дальнейшем обосновавшихся в Дордони.
Образ Вотрена восходит к некоему Викоку, родившемуся в 1775 году в Аррасе. Известный мошенник, он неоднократно совершал побеги с каторжных работ, впоследствии его услугами пользовался уголовный отдел парижской полиции. Вотрен нередко становится выразителем мыслей самого Бальзака в его «демонической» ипостаси. В великом двуединстве добра и зла, составляющем основу творчества Бальзака, именно Вотрену принадлежит роль «дьявола».
Париж Бальзака, описанный в «Отце Горио», населен целым сонмом разнообразных животных, пленивших воображение автора. Этот «бестиарий» нужен ему как карикатура, помогающая выделить характерные черты того или иного персонажа. Лизбет Фишер, героиня «Кузины Бетты», напоминает «одетую в женское платье обезьянку». Иногда образы зверей используются как символ тех или иных качеств описываемого человека. Так, Бальзак часто говорит о «львиной» храбрости некоторых своих героев. У него встречаются люди-«тигры» и люди-«рыси», есть женщины-«пантеры» и женщины-«голубки».
Роза Фортасье прекрасно показала в своем исследовании, что зачастую Бальзак буквально ошеломляет читателя, заставляя взглянуть на своего героя под совершенно неожиданным углом. Похожий на живой скелет Горио, как выясняется, в душе мнит себя любовником собственных дочерей, а болтливый весельчак Вотрен на поверку оказывается беглым каторжником. Честолюбец Растиньяк, мечтающий лишь о том, как завоевать Париж, на самом деле не приемлет его, давая тому миру, который так его манит, жесткие оценки.
В дальнейшем нам станет очевидно, что если провинцию Бальзак видит прежде всего как средоточие соперничающих кланов, каждый из которых опирается на собственный миф, то Париж для него — совершенно непредсказуемое образование. Здесь помогает выжить только природное чутье, которое сродни инстинкту. Всякая сильная личность думает лишь о собственных интересах, подчиняя окружающих своим желаниям и честолюбивым помыслам.
К апрелю 1835 года, спустя месяц после выхода в свет «Отца Горио», Бальзак уже ясно сознавал если и не «универсальность» своего подхода к миру, то свою «плюралистичность»:
«Во мне сосуществует сразу несколько людей: финансист, художник, противостоящий газетам и публике; а также художник, вечно борющийся с собственными творениями и темами. Наконец, во мне живет человек чувства, который готов часами сидеть возле цветка, восхищаясь его красками и ароматом. Но если вы назовете беднягу Оноре плутом, то жестоко просчитаетесь! Я вовсе не достоин этого звания, потому что с легкостью отказываюсь от радостей жизни, предпочитая затворничество, наполненное творческим трудом».
ВЕНСКИЙ ТРИУМФ. ЛЮБОВЬ ПОД УГРОЗОЙ
В марте 1835 года Бальзак задумал ото всех спрятаться: от судебных исполнителей, полиции и даже от своей «адской семейки». «Париж лилипутов больше не сможет опутать его своими веревками».
27 января и 10 марта дисциплинарный совет национальной гвардии приговорил его к двум, а 28 апреля — уже к трем суткам тюремного заключения. Причина — уклонение от несения караула. 27 апреля на улицу Кассини явились жандармы и увели Бальзака с собой. Из тюрьмы он вышел только 4 мая.
Новое свое жилище он нанял под вымышленной фамилией. Обитатели квартала запомнили его как доктора Жан-Батиста Межа.
Бальзак поселился в квартире на третьем этаже старинного дома, расположенного на улице Батай, на холме Шайо. В наше время здесь находится Йенская площадь. «Настоящее крысиное гнездо», так характеризовал он это место. Без радости переезжал сюда Бальзак, но вскоре вид, открывавшийся из окна на «океан домов», который простирался от площади Звезды до площади Бастилии, захватил его. В одной из двух комнат он устроил гостиную, в другой — рабочий кабинет.
Обстановка гостиной серьезно смахивала на будуар, описанный в «Девушке с золотыми глазами»: огромная кровать, накрытая белым кашемировым и черным шелковым покрывалами, обитые алой тканью стены, люстра и лампа, сияющие позолотой… «Это не богатство. Это элегантность». В апреле «плутишка Оноре», как звала его Зюльма Карро, подпал под влияние «некоей весьма властной особы». Бесспорно, речь могла идти лишь о графине Гидобони-Висконти, с которой Бальзак познакомился у австрийского посланника Аппония. Ради необходимости закончить работу над «Девушкой с золотыми глазами», он скрывается в Медоне, где проводит и апрель, и май.
Все это время Бальзака разыскивал посланник по особым поручениям австрийского императора при дворе Луи-Филиппа князь Альфред Шенбург, имевший для него письмо от Ганской. Узнавая о его передвижениях у самых разных людей, он в конце концов настиг адресата. Бальзак встретил князя одетым в монашескую рясу, перехваченную у пояса веревкой.
9 мая Бальзак выехал из Парижа в Вену для встречи с Евой Ганской. Поездка оказалась для него разорительной. У Панара и Приера он нанял почтовую карету и взял с собой слугу.
Проездом по Германии он снова встретился с князем Шенбургом и вместе с ним получил приглашение в замок Венхайм, неподалеку от Гейдельберга. Здесь Бальзак встретился с обворожительной леди Элленборо, от которой в течение всего обеда не смел отвести восхищенного взора. Ее личная жизнь отличалась таким многообразием, что окружающие считали ее гораздо старше ее истинных лет.
Леди Элленборо родилась в 1807 году. В 1824 году она вышла замуж за генерал-губернатора Индии, затем связала свою жизнь с князем Феликсом Шварценбергом. Еще позже стала фавориткой Людовика I Баварского, ради приличия в 1832 году выйдя замуж за Карла Хериберта фон Веннитгена. С князем Шенбургом, спутником Бальзака, ее также связывали любовные отношения.
В 1836 году леди Элленборо сбежала с каким-то греком, а в конце концов сделалась женой бедуинского шейха.
16 мая Бальзак встретился с Ганской, которую не видел полтора года. Но Вена — не Диодати с его блаженной «лазурной синевой». С отчаянием он замечает, что госпожа Ганская не так уж и рада новой встрече. Ей показалось, что он одет скорее оригинально, нежели прилично. Он написал ей записку и подписался: «неряха и грязнуля». Из экономии ему пришлось остановиться в гостинице «Золотая груша». Он с нетерпением ожидал от своего издателя Верде полутора тысяч франков, без этих денег уже в ближайшие дни ему было бы не на что жить.
20 мая Бальзак побывал на приеме у князя Клемента де Меттерниха, королевского и государственного канцлера Австрии, который вертел как хотел добродушным императором Фердинандом. Если верить «Дневнику» его супруги, княгини Мелании, Меттерних сказал Бальзаку: «Сударь, я не читал ни одного из ваших сочинений, но о вас я знаю. Мне ясно, что вы безумец и развлекаетесь за счет других безумцев, которых надеетесь вылечить с помощью еще более грандиозного безумия».
У Пруста Эльстир говорит: «Если легкая мечтательность опасна, избавиться от нее можно… полностью предавшись грезам».
К счастью, приемы следовали один за другим: у канцлера, у князя Фредерика Шварценберга (последний, старший сын того самого Шварценберга, который сражался против Наполеона и возил Бальзака на поле сражения в Ваграм), у историка барона Иосифа де Ганмер-Пургсталля, подарившего Бальзаку талисман, который он называл «Бедук». Эта вещица представляла собой кольцо с выгравированным на нем магическим квадратом из девяти цифр, в сумме составлявших число 15. Впоследствии Бальзаку довелось встретиться с турецким посланником, и тот сказал ему: «Вы носите кольцо Пророка, украденное англичанами у Великого Могола и проданное одному из немецких князей. Великий Могол сулил тонны золота и бриллиантов тому, кто принесет ему кольцо, которое носил сам Пророк».
На всех этих вечерах Бальзак постоянно виделся с Ганской. Они раскланивались, обменивались улыбками, но… Ему нужны были совсем другие встречи, с глазу на глаз!
«Моя обожаемая Ева! Никогда еще я не был так счастлив, и никогда еще я так не страдал. Жар сердца, превосходящий самое живое воображение, обращается нынче горечью, ибо блаженству не дано утолить свою каждодневную жажду. Я знал, какая боль меня ждет, — я ее дождался. Издали эта боль казалась мне величайшим наслаждением, и я не ошибся. И горе, и счастье сегодня уравнялись в правах. Судьбе было угодно, чтобы твоя красота расцвела с новой силой, хотя и раньше она сводила меня с ума. Если б я не знал, что мы связаны навек, я умер бы от печали. Не покидай меня, потому что этим ты меня убьешь. Я не верю в другую жизнь, кроме жизни с тобой. Чего же ты опасаешься? Разве своим трудом я не доказал тебе свою любовь? Приехав сюда, я предпочел будущему настоящее. Это глупость, совершаемая человеком, опьяненным любовью, ведь ради встречи с тобой я на многие месяцы отдаляю тот миг, когда мы, как ты сама говоришь, станем наконец свободны. Так свободны, что… О! Я и думать не смею об этом! Буде на то воля Божья! Я люблю тебя бесконечно, и все говорит за то, что мои мечты сбудутся, но вот когда? Целую тебя тысячу раз, но разве мои воображаемые поцелуи способны утолить снедающую меня жажду? Ни часа, ни минуты мы не сможем остаться вдвоем. Между нами неодолимые преграды, которые лишь понапрасну разжигают мое сердце. Поверь, будет лучше, если я уеду как можно скорее…»
Бальзак снова увиделся с Ганской лишь восемь лет спустя, в 1843 году.
На обратную дорогу нужны были немалые деньги. Бальзаку было прекрасно известно, во что обойдется проезд через пять таможенных кордонов. А еще смена лошадей, бесконечные чаевые… Плати, за все плати! Он попросил издателя Верде выслать еще тысячу франков в счет «Лилии в долине», которую намеревался написать за десять дней и опубликовать в одном из парижских литературных журналов.
Он закончил «Лилию» 15 октября 1835 года. Карета, нанятая в Париже у Панара, после путешествия пребывала в самом плачевном состоянии. Заляпанная несмываемой грязью, разбитая ливнями и дурной дорогой, она отправилась в починку к каретнику. Расходы взял на себя господин Ганский. Лакею, для которого у Бальзака не осталось ровным счетом ничего, дала дукат сама госпожа Ганская. Бальзак пообещал переслать его немедленно по возвращении в Париж. Этот самый дукат, вроде бы спрятанный между листами рукописи «Отца Горио», в Вене так и не нашли. Вероятно, дворецкий, Огюст Деприль обронил его, и дукат закатился под ковер. Ганская проявила щедрость и не стала настаивать на поисках дуката. Если и найдется, пусть дворецкий возьмет его себе!
Обратный путь протекал невесело. Бальзак покинул Вену 5 июня, 7-го он был уже в Мюнхене, где хотел посетить картинную галерею, а также передать кое-какие свои рукописи леди Элленборо. Затем — еще пять дней дорожной тряски, сопровождавшейся свистом хлыста. 11 июня он в два часа ночи въехал в Париж, «черный, как негр». Не отступая от своей всегдашней привычки, он путешествовал на империале, попутно изучая пейзаж. Был момент, когда измученные лошади, увидев у себя под ногами песок, ни с того ни с сего улеглись. Бальзак едва успел спрыгнуть на землю.
Первым делом по возвращении он подсчитал расходы. 10 октября ему непременно нужно было выплатить 40 тысяч франков. Вдова Беше проявляла беспокойство. Мало того что Бальзак не соблюдал никаких сроков, он еще вынуждал ее без конца вносить в корректуры разорительную правку. Если «Этюды о нравах» не выйдут в свет 10 января 1836 года, все расходы, связанные с правкой корректур, «будут оплачены господином Бальзаком в качестве штрафа за несоблюдение сроков».
Что ж, видно, настала пора серьезно взяться за разработку своих «мозговых полей, литературных виноградников и умственных лесов».
«НАПРАСНЫЙ ТРУД ЛЮБВИ»
До поездки в Вену любовь Бальзака к Ганской напоминала любовь трубадура. Он всем сердцем стремился к далекой возлюбленной, понимая, что такая «любовь издалека» приносит больше огорчений, чем радости. Подобно труверу, он взывал к чувствам любимой, но в отличие от него все-таки не терял надежды. Они с Евой обязательно будут вместе, это лишь вопрос времени…
Начиная с июля письма становятся все короче. Ева Ганская жалуется, что ей неизвестно, с кем он видится, к кому ходит. Бальзак доволен: пусть и на ее долю достанется хоть малая толика его страданий!
В редких письмах к Еве Бальзак старательно будит в ней сочувствие, подробно описывая свои несчастья: Аншиз, его грум, скончался после неудачной операции колена; Анри, его брат, висел буквально на волоске и в любую минуту готов был пустить себе пулю в лоб; Лора Бальзак, если и не умрет от горя, то уж точно сойдет с ума… Не лучше обстояли дела и у Лоры Сюрвиль, которая «совершенно заморочила своего простого и скромного мужа», не понимая, что его постоянные жестокие лихорадки вызваны усталостью и заботами.
Оставался один Оноре, и если и он даст слабину, наступит катастрофа. Ему необходимо было «за сорок дней написать 448 страниц, и это своим мелким почерком!» У него болела спина, кололо в правом боку, его мучили головокружения.
Молодой врач, к которому он обратился за консультацией, сказал так: «Вам больше нельзя продолжать вести такой образ жизни». Он прописал ему ежедневные двухчасовые горячие ванны и двухчасовые же прогулки. Иначе «я свалюсь».
В октябре Бальзак должен был выплатить 7 тысяч 500 франков (если верить его письму к Ганской) или 11 тысяч 500 франков (если верить письму к Зюльме Карро). В ноябре — 11 тысяч 500 франков, в декабре — 12 тысяч. В то же самое время он мечтал о покупке имения, собирался выплачивать матери ежемесячную ренту в размере 500 франков, купил часы, ножи для разрезания бумаг, безделушки, бронзу и отдал в переплет свою библиотеку.
Впрочем, с какой стати он обязан трудиться с утра до ночи, лишая себя той самой роскоши, которая всегда манила его и которой он был не в силах противостоять?
ГИДОБОНИ-ВИСКОНТИ
Начиная с 1835 года распространился слух о том, что Бальзак пал жертвой чар графини Гидобони-Висконти.
15 июня в карете, снова нанятой у Панара, Бальзак отправился в Версаль — проводить свою даму, которая уезжала в Англию. Он сопровождал ее до Булонь-сюр-Мер. Не исключено, что он намеревался добраться вместе с ней и до Англии, во всяком случае в Париже он отсутствовал в течение шести дней. Два месяца спустя, когда графиня собралась вернуться, он точно так же ее встречал.
Фрэнсис Сара Лоувел родилась 29 сентября 1804 года. Она была третьей дочерью Питера Харви Лоувела, владельца замка Коул Парк, и Шарлотты Уиллис, дочери архидиакона из Уэльса, покончившей жизнь самоубийством.
7 июля 1825 года Сара Лоувел вышла замуж за графа Эмиля Гидобони-Висконти. Ей шел в ту пору двадцать второй год, и среди друзей своего мужа она вызывала горячее восхищение. «Девушка из хорошей английской семьи, получившая прекрасное воспитание и не лишенная средств, она казалась посланной самой судьбой, чтобы обратить в супружество нерешительного и ветреного Гидобони»[38].
Гидобони были пьемонтскими сеньорами, с 1777 года связанными с семейством Висконти — миланскими герцогами. После череды смертей опека над детьми и управление имуществом оказались переданы в руки графа Жозефа Сормани-Андреани. Бальзак познакомился с этим богатым миланским помещиком в 1837 году, когда занимался продажей имущества графа Гидобони.
Почему Гидобони в 1821 году покинул Милан? Был ли он «карбонарием»? Все его друзья, и Жозеф Арсонати Висконти, и герцог Литта, и маркиз Адда, и Джованни Берше пользовались репутацией людей свободомыслящих, придерживавшихся антиавстрийских взглядов. В 1821 году начались политические процессы, и всем им пришлось эмигрировать.
Но в Париже граф Гидобони довольно быстро отошел от патриотических кругов. Свою ссылку он превратил в приятное путешествие и предпочел отдаться своим излюбленным занятиям: светской жизни, женщинам и музыке. Свое время он делил между Францией и Англией, особенно охотно наведываясь «на воды» в Бат, где собиралось не только английское, но и иностранное высшее общество.
Сара Лоувел также приехала в Бат. Ее молодость и красота покорили графа, который и сам был недурен собой и, как полагали вокруг, богат. Немедленно после свадьбы Гидобони, «счастливый, как осел», решил вместе с женой уехать из Англии. Сара, такая «молодая, любезная, красивая, воспитанная, милая», вскоре так всех очаровала, что окружающие дружно решили: «Гидобони ее не стоит» (Дж. Берше).
Гидобони, по натуре довольно скрытный, на некоторое время затаился, так что ни его родные, ни «парижские» итальянцы ничего о нем не знали. Когда в 1833 году он снова появился в свете, его нашли «постаревшим и подурневшим, но ни в малейшей степени не изменившимся в душе». Берше называл Гидобони итальянским словом «stivale», что означает «сапог», имея в виду ленивый эгоизм последнего. Вывести его из этого состояния могла лишь музыка, интерес к фармакопее да хорошенькие женщины. В то же самое время он с ревнивым любопытством сноба следил за поведением окружающих. Он знал, «сколько каждый из его знакомых тратит на обед и на жилище, сколько визитных карточек каждый из них раздал за минувший год…» Друзья-итальянцы не могли простить ему визитов к австрийскому посланнику, хотя и в Милан он вернуться не мог, опасаясь, как бы австрийское правительство, в глазах которого он продолжал оставаться бунтарем, не лишило его всей его собственности.
Бальзак познакомился с графиней Гидобони до отъезда в Вену, на приеме в австрийском посольстве. Л.-Ж. Арригон оставил нам такой, весьма льстивый портрет графини: «Высокого роста, с прекрасной розовой кожей и светло-пепельными волосами, она обладала плечами Юноны и была, пожалуй, чуть полновата, но эту легкую полноту скрадывала гибкая грация. У нее были глаза восточной принцессы и сладострастные губы. Воображение Бальзака сейчас же вспыхнуло ярким пламенем: незнакомка в самом деле отличалась красотой, ему же она показалась восхитительной. В ней угадывалась некая потаенная чувственность, нечто вызывающее, едва ли не распутное; когда она смеялась, то становилась похожа на белокурую вакханку».
«Я ДОБЬЮСЬ ВЛАСТИ ВО ФРАНЦИИ»
В период с 1830 по 1835 год правительство Луи-Филиппа предприняло ряд акций, направленных на развитие торговли. Не забыли и о торговле книгами — «интересном», но «многострадальном» деле. «Казна выделила книготорговцам 1284 тысячи франков под залог книжной продукции на сумму 3700 тысяч франков» сроком на три года. В случае невозврата кредита книги предполагалось продать через сеть аукционов. Благодаря контракту с Бальзаком на 50 тысяч франков, подписанному в 1833 году, вдова Беше смогла добиться 100-тысячного государственного кредита. В октябре 1835 года госпоже Беше следовало вернуть кредит, и она потребовала, чтобы Бальзак возместил ей расходы, вызванные бесконечной правкой корректур. Впрочем, впоследствии ей пришлось простить ему этот долг, поскольку ее издательство уже не имело возможности опубликовать четвертый выпуск «Этюдов о нравах», который в феврале 1837 года появился в издательстве Верде. К 1835 году из всех «Этюдов» реально существовали лишь четыре десятка страниц «Утраченных иллюзий», написанные Бальзаком с 23 по 26 июня в Саше. «Старая дева», написанная в октябре 1836 года, печаталась в газете «Пресс» с 23 октября по 4 ноября.
Начиная с 1835 года отношения Бальзака с книготорговцами заметно осложнились, что вынудило его снова обратить свои взоры к периодике. Успех, достигнутый на этом поприще Жирарденом, казалось, давал и Бальзаку возможность смотреть в будущее с куда большей надеждой, чем в 1830 году.
С 1832 по 1839 год в свет вышел 52-томный «Словарь беседы и чтения» (в формате ин-октаво), составленный Уильямом Дьюкеттом, журналистом ирландского происхождения, родившимся в Париже в 1804 году. Бальзаку Дьюкетт предложил написать статью, посвященную Рабле. Бальзак отказался. «Эту работу невероятно легко сделать кое-как, но на то, чтобы сделать ее хорошо, у меня нет времени». Впрочем, он согласился написать небольшие статьи о шести французских королях, от Людовика XIII до Людовика XVIII.
1 мая 1834 года Дьюкетт и Кº организовали товарищество по изданию газеты «Кроник де Пари». 31 июля 1835 года предприятие выкупил Макс де Бетюн, компаньон Анри Плона по владению типографией на улице Вожирар, в доме 37. 24 декабря 1835 года Бетюн уступил восьмую часть собственности Уильяму Дьюкетту, а шесть восьмых — Бальзаку (стоимостью в сто сорок франков). Бетюн остался руководителем газеты, Бальзак же занялся финансами. По предварительным прикидкам, с января по июль 1836 года бюджет оценивался в 45 тысяч франков. В качестве компаньонов выступили книготорговец Верде, Сюрвиль и секретарь Бальзака молодой граф Гийом Белуа де Моранг, родившийся в Тулоне в 1812 году. Жалованья ни одному из компаньонов не полагалось.
Бальзак серьезно надеялся найти общий язык с Бюло, директором «Ревю де де монд» и вынашивал мечты о совместном создании «партии интеллигентов», в которой заправляли бы умные люди.
К сожалению, Бюло повел себя по отношению к Бальзаку крайне пренебрежительно и даже совершил акт «интеллектуального предательства», передав невыправленные гранки «Лилии в долине» издательскому дому Беллизара в Санкт-Петербурге (23 декабря 1835 года). Выходом из этой тупиковой ситуации стали два судебных разбирательства: вначале Бальзак против Бюло, а затем и Бюло против Бальзака, отказавшегося предоставить продолжение романа «Лилия в долине» Бюло, который намеревался опубликовать его не в «Ревю де де монд», а в «Ревю де Пари».
Бюло считал Бальзака слишком манерным писателем, чем-то вроде Скюдери. Если уж ему так хочется издавать некий журнал, пусть издает, но ведь он собирается переманить у него лучших авторов: Виктора Гюго, Гюстава Планша, Жорж Санд! Между ними вспыхнула настоящая «жакерия». «Через три месяца, — писал Бюло Жорж Санд, — Планш прибежит просить прощения, Бальзак наконец-то исполнит свою провиденциальную миссию, а Гюго сделает Жюльетте (Друэ) ребенка. Трепещите за меня».
Ребенок-таки родился, правда, не у Жюльетты Друэ, а у графини Гидобони-Висконти. Виктор Ламбинет считает, что маленький Лионел-Ришар, увидевший свет 29 мая, был «предположительно» сыном Бальзака.
Стремясь освободиться от диктатуры Бюло и засилья владельцев крупных периодических изданий, Бальзак принял решение избрать для себя иной, нежели Жирарден, способ действий. Он всегда ставил художественное творчество неизмеримо выше политической карьеры, не доверяя четким программам, смутным обещаниям и далеко идущим планам безнравственных политиканов. По мнению Бальзака, в политике ищут прибежища художники-неудачники и потерпевшие фиаско в личной жизни.
Ему стало известно, что на приеме у Луи-Филиппа Талейран упрекнул короля в его небрежении к великим людям. Король не может оставаться игрушкой в руках придворной клики; чтобы его могущество росло, он обязан думать о вечных ценностях.
Луи-Филипп понял намек. И хотя Талейран не назвал поименно «придворных дураков», имена известных поэтов и писателей, в том числе Бальзака и Ламартина, упомянул: «Сир, я не знаком с этими людьми лично, но в Лондоне о них много говорят. По ту сторону пролива им прочат большое будущее. Сделайте их своими министрами или пэрами, иначе они уничтожат вас».
Бальзак не был настолько безумен, чтобы стремиться «уничтожить» Луи-Филиппа, но все-таки он не раз повторял Ганской, живой свидетельнице того, как жестоко пострадало в Вене его самолюбие: «Я добьюсь власти во Франции».
Бальзак объявил себя главным редактором «Кроник де Пари». Никаких сомнений относительно направленности газеты у него не возникало. Лично для себя он оставил раздел внешней политики. В своих статьях он предвидел войну между Россией и Англией за господство над Средиземноморьем; такая война действительно разразилась — вокруг Севастополя и Крыма 20 лет спустя (1854–1856). Он предрек владычество Пруссии в объединенной Германии — так оно и случилось в период с 1868 по 1871 год. Французскую дипломатию он упрекал в отсутствии четкой программы действий: «Мазарини и Ришелье давным-давно ее бы наметили […]. И во внешней, и во внутренней политике мы уступаем под натиском буржуа, под натиском пошлости и общих мест» (24 февраля 1836 года).
Бальзак привлек к сотрудничеству известнейших авторов: Теофиля Готье, Шарля Нодье, Альфонса Карра, Шарля Бернара. Ему же принадлежало руководство литературным отделом, в котором увидела свет «Месса атеиста» — «произведение, задуманное, написанное и напечатанное за одну ночь». С 31 января по 18 февраля в четырех номерах печаталось «Запрещение», затем 6 марта «Музей древностей» и 17-го — «Фачино Кане». Газету часто несправедливо называли слишком экстравагантной и пестрой. На самом деле ее содержание отличалось большим разнообразием и затрагивало темы искусства, науки и промышленности. Помимо рассказов Бальзак опубликовал на страницах газеты «Историю судебного процесса, вызванного „Лилией в долине“». Процесс, кстати сказать, Бальзак выиграл у Бюло 3 июня 1836 года.
Бальзак мечтал добиться уважения прав литературной собственности. В Бельгии развили бурную деятельность самые настоящие мошенники, которые «потрошили» французских авторов, а затем продавали по всей Европе подделки, изданные гигантскими тиражами. В результате «книги, во времена Реставрации расходившиеся в четырех тысячах экземпляров, не могли набрать и тысячи». На долю двух французских писателей приходилось двести тысяч франков в год, тогда как в театре, прочно защищенном законами, внедренными Бомарше, авторы получили бы десять миллионов. Бальзак требовал, чтобы права литераторов уравняли с правами драматургов, более того, он настаивал на признании «литературной собственности» по примеру земельной: «Продукт моего пера — та же ферма, только землю мне заменяет собственный ум». Но если землю фермер получает в готовом виде, то писатель сам творит свое поле деятельности. Поэтому и плодами своих трудов он должен пользоваться вечно. Этот смело и убедительно написанный манифест принес Бальзаку уважение собратьев по перу, которые в 1839 году объединились в Общество литераторов. Президент общества Бальзак начал судебное преследование бельгийских «жуликов», в частности тех газет, в которых без разрешения авторов печатались литературные тексты. Именно Бальзак разработал типовой литературный договор и представил в соответствующую комиссию Палаты доклад об охране авторских прав.
ЕЩЕ СОРОК ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ФРАНКОВ ДОЛГА
В июле у выходящей дважды в неделю «Кроник де Пари» насчитывалось всего 288 подписчиков, тогда как для превращения этой 16-полосной газеты в ежедневную их требовалось хотя бы две тысячи. Следовало также сократить расходы: Бальзак щедро оплачивал собственные авторские права и платил гонорар журналистам; держал нанятый экипаж, на котором ездил в Шайо; устраивал пышные обеды, на которых не только вербовал новых сотрудников, но и пытался найти, особенно после отъезда Дьюкетта 29 марта, «меценатов», то есть банкиров.
Для успешного продолжения работы требовались контракты рекламного характера, наподобие тех, что заключали Жирарден и Дютак — издатели «Пресс» и «Сьекль». Благодаря рекламе годовая подписка на эти ежедневные издания стоила всего 40 франков, тогда как подписка на выходящую дважды в неделю «Кроник де Пари» стоила 76 франков.
По мнению Анны-Мари Мененже, возможно также, что от «Кроник де Пари», враждебно относившейся к Тьеру и расположенной к Гизо и Моле, отвернулись «тайные покровители правоцентристского толка». Ремюза считает, что из всех периодических изданий, выходивших в Париже с 1830 по 1848 год, одна лишь «Журналь де деба» пользовалась «широкой поддержкой из тайных источников».
Стремясь избежать неприятностей хотя бы в ближайшем будущем, Бальзак выплатил две тысячи франков Бетюну, закупил на собственные средства бумагу и оплатил гонорар нескольким сотрудникам. Одновременно он взял на себя обязательство заплатить по тысяче франков некоторым держателям именных акций. Бувье и Мейнияль («Бухгалтерские сказки Бальзака») подсчитали, что долги Бальзака выросли в это время еще на 46 тысяч франков. 15–16 июля 1836 года Общество пришлось распустить.
К концу 1835 года Бальзака постигла еще одна крупная неудача: сгорел в огне пожара склад магазина «По де Фер», в котором хранились первые листы трех десятков «Потешных сказок», а также экземпляры первого и второго десятков. Ущерб оценивался в семь тысяч франков.
Требовались срочные меры, и 2 апреля 1836 года Бальзак выпустил в свет «призрак»: Собрание сочинений покойного Ораса де Сент-Обена, которое продал за 10 тысяч франков Ипполиту Суверену. Собственное авторство Бальзак спрятал за именем доктора Эмиля Реньо, друга Сандо. За неисчерпаемую услужливость Бальзак называл Реньо «пеликаном». Действительно, мнимое авторство не принесло Реньо никакой выгоды: «Право собственности, прибыль и расходы принадлежат господину де Бальзаку, которому я предоставляю право использовать мое имя на этих условиях». Подпись — Э. Реньо. История эта получила немедленную огласку в редакционных кругах. Сен-Бев официально заявил, что за именем Сент-Обена скрывается «самый плодовитый, самый духовно богатый из современных романистов».
В первой половине 1836 года Бальзак, который и в самом деле не мог писать столько, сколько ему бы хотелось, подвергся суровой критике на страницах «Вер-Вер», «Эко де ля Жен Франс» и «Там-Тама», упрекавших его в спекуляции «соловьями своей литературной лавочки».
Работать над систематизацией написанного ранее Бальзаку помогали два секретаря. Первым был Жюль Сандо, быстро понявший, что попал на самую настоящую каторгу, ибо Бальзак усаживал его за работу едва ли не с двух часов ночи. Второй помощник, граф Фердинан де Грамон, в 1835 году прислал Бальзаку письмо, в котором выражал желание «разделить величие и тяготы писательской жизни». «Я люблю вас, — писал Грамон, — как ни один мужчина не любит свою возлюбленную, как ни один брат не любит своего брата, как ни один ангел не любит Бога […]. Если вам нужна моя жизнь, которую я предлагаю вам, приходите завтра ровно в три часа в галерею Кольбера на улице Вивьен. Я буду вас ждать». Встреча состоялась, и отныне Грамон сделался правой рукой Бальзака. Он вел переговоры с издателями, следил за публикацией статей и занимался многими другими делами.
В 1835 году Зюльма Карро приложила немало энергии, чтобы «пристроить» к Бальзаку своего протеже Эмиля Шевале, автора ненапечатанного романа. У Бальзака ее хлопоты вызвали бурю негодования. «Ни за что! Ни за что!» Зачем ему эта бездарность? Стремясь дать понять Зюльме Карро, что собой представляет жизнь писателя, он говорит с ней с предельной откровенностью:
«Я прочел рукопись вашего протеже. В ней нет ни языка, ни мысли. Есть лишь отвага заполнить словами некоторое количество страниц. Писательский талант не передается, подобно заразному заболеванию; его осваивают долго и упорно. Я не могу обучить его тому, что считаю даром небес и не считаю возможным брать на себя ответственность вводить его в заблуждение. Если ему не на что жить, жить за счет своего пера он сможет не раньше, чем лет через десять. Таковы факты. Если он настроен упорно, пусть найдет себе занятие, которое прокормит его, пока он будет учиться. Кроме того, он ничего не смыслит в истории, ничего не смыслит в жизни света, не разбирается в собственном языке и собственных чувствах. Чего же от него ждать, если он даже не подозревает о драматических коллизиях жизни? Этот юноша кажется мне олицетворением всего нашего времени. Тот, кто не умеет ничего делать, берется за перо и надеется открыть в себе писательский дар. И вдобавок пишет о смысле жизни, потому что остальные темы кажутся ему слишком вульгарными. Я в его возрасте был таким же ребенком, но найдется ли человек, который пожелает пережить такие же десять лет, какие пришлось пережить мне? Есть ли у него такая же защита, какая была у меня? Встретит ли он на своем пути женщин, которые просветлят его разум и вместе с лаской приоткроют ему завесу, скрывающую жизнь света? Найдется ли у него время, чтобы посещать салоны? Обладает ли он гением наблюдательности? Сумеет ли он вынести из этих наблюдений идеи, которые смогут расцвести лишь лет пятнадцать спустя? Никому не ведомо, что это за феномен — писатель.
Лишь сами писатели знают, из какого множества факторов складывается их судьба: удача, талант, энергия, упорство, здоровье, второе зрение и еще Бог знает что.
На должность моего секретаря он подходит не больше, чем Мео [слуга в доме Карро]» (20 августа 1835 года).
Мы уже упоминали, что Бальзак дважды, 27 января и 10 марта 1835 года, по приказу дисциплинарного совета национальной гвардии подвергался тюремному заключению за неявку на дежурство. К 1836 году национальная гвардия обрела небывалое могущество. Луи-Филипп, с ее помощью добившийся престола, превратил ее в «оплот режима» и по нескольку раз в год лично являлся на смотры. Национальная гвардия представляла собой нечто вроде буржуазной милиции. Необходимость справлять за свой счет форму исключала из ее рядов представителей широких народных слоев, а высшие посты в ней неизменно доставались наиболее обеспеченным. Бальзак яростно противился навязанной ему обязанности, превратившись в то, что англичане уже тогда называли «conscientious objector» (сознательный оппозиционер).
В апреле 1836 года, решив, что статус журналиста обеспечит ему безнаказанность, он вернулся на улицу Кассини. 27 апреля некий «невежа — зубной врач, сочетающий свою мерзкую профессию с обязанностями главного сержанта», нагрянул к Бальзаку и на восемь дней «запихнул в отель „Арико“», иными словами в особняк Базанкур, где помещалась тогда тюрьма национальной гвардии. Поначалу его поместили в общую камеру вместе с рабочими, которым его имя не говорило ровным счетом ничего и которые своей манерой поведения привели его в замешательство. Затем, получив от Верде с «особого счета» некую сумму, он перебрался в отдельную камеру. Теперь у него были стол, кресло, стул. Еду ему присылают из ресторана, а на обед приходят коллеги по «Кроник де Пари». Некая почитательница даже прислала ему букет цветов.
В тюрьме Бальзак увиделся с Эженом Сю и надолго запомнил брошенное тем высказывание, касающееся женщин. «Все они — лишь инструменты…»
19 июня Бальзак принял решение поехать отдохнуть в Саше. За три дня (23–26 июня), свободные от необходимости перенапрягать собственные силы, он задумал и набросал первые сорок страниц «Утраченных иллюзий». У Зюльмы Карро он просил указаний относительно топографии Ангулема.
К вечеру 26 июня, изнемогая от жары, он вместе с супругами де Маргон отправился на прогулку в парк. Остановившись возле дерева, он внезапно побледнел и без чувств упал на землю. С ним случился удар, и никто не знал, какими последствиями он был чреват. Во всяком случае, ни говорить ни писать он пока не мог.
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ЗАБВЕНИЯ
Три дня спустя Бальзак уже был на ногах. 3 июля он вернулся в Париж. Еще через месяц, 2 августа, он приехал в Турин. Предлогом для поездки послужила просьба графа Гидобони-Висконти уладить его дела о наследстве. Сам граф ехать не мог то ли из осторожности, то ли просто от лени. Кроме того, Бальзак когда-то сам подвизался в роли чиновника, а теперь туринское общество восхищалось его сочинениями, следовательно, он, как никто другой, мог справиться с задачей по защите интересов Гидобони-Висконти.
Жюль Сандо и Анна де Массак познакомили Бальзака с Каролиной Марбути, 33-летней писательницей, выступавшей под псевдонимом Клер Брюн. «Загипнотизированная», как утверждали, Бальзаком, она провела с ним три дня, ни на миг не расставаясь.
В июле Каролина писала Бальзаку: «Мой любимый писатель, который околдовал всех женщин, обещал показать мне замки Луары». Пока вместо замков Луары «подвернулась» Италия, и на сей раз уже Каролина Марбути выступает в роли «колдуньи».
В Турине парочка остановилась в том самом отеле «Европа», в котором в 1834 году останавливалась госпожа Ганская. Официально Бальзак путешествовал в сопровождении «пажа» по имени Марсель. По поводу этого «пажа» пьемонтский юрисконсульт граф Фредерик Склопис де Салерано писал: «Мы не смеем причислить его к нашему полу из боязни обделить женский пол. Попросите же его разрешить сию тайну». Что же, любезный граф, удовлетворим ваше любопытство. Марсель, конечно, был никакой не Марсель, а подающая надежды поэтесса и романистка Каролина Марбути.
Бальзак не зря изучал свет. Он понимает, что необходимо найти изящный выход из затруднительного положения, в котором они оба оказались. В самых благопристойных выражениях он обращается к графу Склопису, которому в 1848 году суждено было занять пост министра юстиции: «Этой очаровательной, умнейшей и добродетельнейшей женщине посчастливилось вдохнуть воздух Италии, и, освободившись на двадцать дней от скучных домашних забот, она в первый и единственный раз в своей жизни решила развлечься, переодевшись мужчиной».
12 августа Бальзак вместе с «Марселем» покинул Турин. Но вместо того чтобы ехать, как было запланировано, в Милан и на Ривьеру, он вернулся в Париж, правда, не прямо, а делая по пути ряд остановок: на озере Маджоре, на перевале Симплон, в долине Сьона, наконец, в Женеве.
Порой всего несколько дней меняют всю нашу жизнь.
………………………………………………………………
Где те таинственные нити, что соединяют наши сердца?..
Бальзак не стал скрывать от Евы Ганской, что «жил в Турине в том же самом отеле, где останавливалась она», что в Женеве «зашел в трактир „Арк“, посетил чету Биолей, побывал на улице Пре-Левек и возле дома Мирабо». Вместе с ним путешествовал спутник, друг Зюльмы Карро и Жюля Сандо.
В том, что прошлое — всего лишь призрак, который тем не менее волнует сердце с несказанной силой, Бальзак снова убедился по возвращении в Париж. За последние два года он дважды: в июне 1835-го и в мае 1836-го навещал в Булоньере больную госпожу де Берни, которая, кажется, вовсе не была обрадована его визитами.
27 июля 1836 года Бальзак получил письмо от Александра де Берни, который сообщил, что «завтра в десять часов тело матери будет предано земле на кладбище Греса, по соседству с могилой Армана [ее сына]». Перед смертью мать велела ему сжечь «связку писем».
Для Бальзака Лора де Берни была «матерью, другом, семьей, советчиком; она сделала из него писателя, она утешила его юность, она привила ему вкус».
Еще до июньского отъезда Бальзака из Парижа госпожа де Берни смогла прочитать «Лилию в долине». В образе госпожи де Морсоф угадываются все бальзаковские женщины: в первую очередь, конечно, Ева Ганская, но и отказавшая себе в счастье Зюльма Карро, и графиня Гидобони-Висконти, и та загадочная Луиза, с которой он поддерживает переписку и которой в мае 1836 года пишет: «Живу, окутанный вашими ароматами. Вы первая прочтете „Лилию в долине“». Именно госпожа де Берни сказала ему, что «этот роман — одна из лучших книг, написанных на французском языке».
Отзвуки голоса госпожи де Берни слышатся и в письме, которое госпожа де Морсоф пишет Феликсу де Ванденесу:
«Будьте просты в обращении, никогда не грубите, храните гордость без чванства, всегда оставайтесь скромным.
Высшая вежливость и самые лучшие манеры — те, что продиктованы сердцем.
Судите строго лишь себя самого.
Никогда не терпите возле себя недостойных людей, потерявших уважение окружающих своей дурной репутацией, ведь свет требует от нас отчета в том, с кем мы дружны и кого ненавидим.
Не бойтесь, что у вас появятся враги, но старайтесь не давать повода к насмешкам и требуйте к себе уважения.
Всякая хитрость, любой обман в конце концов станут явными и навредят вам же».
18 октября 1838 года, два года спустя после ее смерти, Бальзак признался сестре Лоре, что никто не смог заменить ему госпожи де Берни. Быть может, в какой-то мере таким человеком могла бы стать сама Лора, но слишком тесная дружба брата с сестрой наверняка вызвала бы раздражение Сюрвиля и в особенности их матери.
«Мне не с кем больше посоветоваться по литературным делам; мне не от кого ждать помощи в делах житейских. Единственный совет я получаю, когда говорю себе: что сказала бы она, будь она жива?»
В сравнении с Лорой де Берни все остальные женщины проигрывают. Жорж Санд «лишена критического чутья». Зюльма Карро воплощает «блестящий ум» в «ужасной упаковке»: «Она умрет в своей дыре, никому не известная». Мадам Гидобони-Висконти «не из тех, чья голубая кровь способна все понять». Одна Лора Сюрвиль была лишена этих недостатков, и чем больше Бальзак узнает свою сестру, тем большее восхищение она в нем вызывает. Увы, постоянное присутствие мужа мешало ему видеться с Лорой так часто, как ему бы хотелось.
ЛИЛИЯ В ДОЛИНЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ КАК ГИМН ДУХУ
Виктор Гюго. Созерцания. VI, 8
- Все наши возлюбленные, которых мы в себе погребли,
- Весь свет, который мы превратили в мрак.
14 апреля 1836 года вдова Беше вторично вышла замуж за Жана Бриса Жакийя. Отныне у Бальзака остался единственный издатель — Эдмон Верде. Он родился в Бордо в 1795 году и поначалу служил у госпожи Беше. Именно Верде «спас» Бальзака, подписав с ним договор на издание «Этюдов о нравах» и выплатив ему 50 тысяч франков.
Верде ушел от госпожи Беше и уже самостоятельно издал «Отца Горио» (май 1835 года), «Мистическую книгу» (вторым изданием) и «Серафиту» (декабрь 1835 года). 27 января Верде выкупил у госпожи Беше права на издание 12 томов «Этюдов о нравах». «Лилия в долине» поступила в продажу 9 июня 1836 года.
Все газеты обрушились на «Лилию», считая своим долгом пнуть и оплевать роман. Журналист Альфред Нетман, католик и легитимист по убеждениям, обещал Бальзаку благоприятную статью под названием «Благоухающая лилия». Статьи он так и не написал, а вместо этого в августе с горечью сообщил автору в Турин о том, что «Газет» подвергла «Лилию» совершенному разгрому. Бальзака обвинили в том, что он не посещает мессы. «Пресс» обнаружила в романе сходство со «Сладострастием» Сен-Бева, но если один из романов и можно назвать шедевром, то, разумеется, «Сладострастие». «Вер-Вер» опубликовал пародию под названием «Тубероза на горе», подписанную «Благзак»[39]. В «Корсаре» появилась статья «Атташе господина Бальзака». Один лишь «Антракт» не пожелал вместе со всеми участвовать в нападках на автора «Лилии», «которого все атакуют». «У нас всего 1300 экземпляров тиража», — писал он Ганской 27 августа 1836 года.
Были «невежи», не способные понять красоту смерти мадам де Морсоф. К их числу относились и читательницы «Пти курье де дам», в номере которого от 5 июля Бальзак напечатал отрывок с описанием этой кончины.
В этом первоначальном варианте текста умирающая обращается к Феликсу де Ванденесу. Ее агония — всего лишь дурной сон, обратная сторона целомудрия. Когда Феликс приезжал в Клошгурд, ему запрещалось входить в комнату госпожи де Морсоф. Но по утрам, неодетая, она сама приходила к нему и садилась у его изголовья, словно навещая ребенка.
В романе Феликс де Ванденес называет Анриетту де Морсоф «супругой своей души». А вот ласки, которых «не удостаивался ни один мужчина в мире», дарит ему его английская любовница леди Дадли (бесспорно, графиня Гидобони-Висконти).
Всю свою жизнь госпожа де Морсоф придерживалась правил приличия. Умирая, она понимает, что собственное тело не принесло ей никакой радости и в последнем порыве пытается утолить свой отчаянный голод:
«Жить! Жить реальными вещами, а не обманом. В моей жизни все было ложью, в последние несколько дней я подсчитала, сколько раз стала жертвой обмана. Неужели я умру, так и не узнав жизни?» И, обращаясь к Феликсу: «Вы должны меня исцелить, вы, мой убийца! Да, вы убили меня, потому что так и не догадались, как сильно я вас люблю. Каждая женщина носит покрывало, но это покрывало можно снять. А вы… Вам недостало смелости, той смелости, которая вернула бы меня к жизни… Друг мой, докажите же мне, что я не могу умереть вот так, обманутой, не знавшей счастья, и все это — по вашей вине. Они [священники] говорят мне о рае. Нет, пусть я лучше попаду в ад, но счастливой! Разве не пережила я в мечтах тех ночей счастья, что дарила вам Арабель [Дадли]? Для чего мне дана душа, которая может жить лишь любовью, и в чем я провинилась, что мне в этой любви было отказано? Кому могло помешать мое счастье? Подумайте о том, что уйдет вместе со мной. Если бы вы не были так покорны, Феликс, я могла бы жить, радоваться счастью своих детей, видеть, как они заводят свои семьи, вести их по жизни. Почему же вы не пришли ко мне ночью…
Один час жизни леди Дадли стоит вечности».
Лора де Берни перед смертью успела прочесть эту сцену. Со своим жизненным опытом она многое могла понять, но все же не такое… Она написала Бальзаку и в самых ласковых выражениях попыталась призвать его к благоразумию: «Я могу умереть. Я уверена, что ваш лоб увенчан тем венцом, что мне так хотелось на вас видеть. „Лилия“ — прекрасное, безукоризненно верное сочинение. Пожалуй, только смерть госпожи де Морсоф вовсе не нуждается в ее горьких сожалениях; они снижают впечатление от прекрасного письма, которое она написала».
В августе 1836 года Бальзак наступил на горло собственной песне и вымарал из текста романа сотню строк.
«В этом романе самым неприглядным персонажем оказывается Феликс», — писал Бальзак. Он не ответил на страсть Анриетты де Морсоф и «своей добродетелью мадонны из Клошгурда» нагнал тоску на леди Дадли. В итоге он остается один. Потом он попытается расположить к себе еще одну женщину, Натали де Манервиль, которой расскажет о всех пережитых разочарованиях. Натали внимательно слушает Феликса, но к концу его повествования начинает понимать, что ей не удастся выдержать соперничество ни со святой, ни с развратницей. Она советует Феликсу жениться на женщине, которая «ничего не ведает ни о любви, ни о страсти, которой будут безразличны и госпожа де Морсоф, и леди Дадли; на женщине, которая станет образцовой сестрой милосердия», какая, в сущности, ему и нужна.
Радость жизни, радость любви, воспетая в «Лилии», наполняющая собой природу, заставляет Феликса вновь и вновь устремляться по той дороге, что ведет из Шампи в Саше. Этой же дорогой ходил и Бальзак, когда путешествовал из Тура в Саше. Для него радость — это сама Луара с «ее песчаными холмами, сияющими под лучами солнца», это долина, «расстилающаяся под нависающими над ней замками», это река Эндр, «змеей вьющаяся меж лугов». Разве не радость видеть эти мельницы и тополя, «оживляющие долину своими голосами», разве не радость вернуться в «хорошенький домик в Клошгурде»? Описывая этот домик, Бальзак вспоминал ферму Бонна, которую видел из окна своей комнаты на третьем этаже в замке Саше.
Феликс и дети госпожи де Морсоф, наделенные художественным вкусом, составляли букеты, как другие складывают стихи. «Лилия» — это, в сущности, поэма, посвященная полям, цветам и плодоносящим садам.
Омрачает безоблачную картину граф де Морсоф, разорившийся эмигрант. Его, «белого волка с мордой, запачканной кровью», боятся и жена, и дети. Впрочем, он не любит женщин, считая, что все они «слушают советы дьявола». Если они на что-то и годятся, то разве на то, чтобы возиться с детьми. Природная злоба мужа внушила Анриетте де Морсоф, что любовь вовсе не обязательно связана с чувственностью. С Феликсом де Ванденесом ее могла бы связать совсем другая любовь, основанная на самопожертвовании, если не божественная, то близкая к божественной. В этом смысле Бальзак действительно пошел за Сен-Бевом, хоть и не хотел этого признавать: в земной жизни душа человека может прийти к Богу лишь через целомудренную любовь, прообраз божественной милости.
В «Серафите» и «Луи Ламбере» родство душ было ангельским даром. В «Лилии» оно стало доступно и человеку. Любовь Анриетты и Феликса указывает нам путь ко всеобщей, универсальной любви.
Напрасно Бальзак послушал Лору де Берни и подверг свое сочинение цензуре. Умирающая госпожа де Морсоф вовсе не поддалась «одержимости». Просто она стала ставкой в ожесточенной борьбе двух сил. Ей пришлось отречься от всего личного, социального и физического, что окружало ее любовь, и саму смерть пережить как иную любовь.
«ГАЗЕТЫ НАПЕРЕБОЙ ПЕЧАТАЮТ ГОСПОДИНА ДЕ БАЛЬЗАКА»
Каждое утро «Эта» и «Паризьен» получают свой кусок хлеба с маслом.
23 октября 1836 года, открыв свежий номер «Пресс» — ежедневной газеты, основанной Жирарденом 1 июля предыдущего года, — читатели обнаружили в нем новую рубрику под названием «Всякая всячина». Рубрика невольно притягивала к себе взгляд: текст был набран более крупным шрифтом, строки располагались свободно. Речь в публикации шла о провинции, но ничего общего с привычной рубрикой, адресованной подписчикам из маленьких городов, она не имела. Собственно говоря, это была даже не статья, а… новый роман Бальзака «Старая дева», повествующий о том, чем на самом деле живет провинция.
«Старую деву» считают первым романом с продолжением, опубликованным во французской ежедневной газете. Всего получилось 12 номеров, с 23 октября по 4 ноября. Пропущен был один-единственный номер от 31 октября.
Мы уже упоминали, что еще в 1830 году Бальзак загорелся идеей создания Общества подписчиков, с помощью которого многотиражные газеты публиковали бы литературные произведения «по кускам», наподобие того, как это делали журналы.
Идея Бальзака пришлась по душе и Эмилю Жирардену, который поспешил претворить ее в жизнь на базе дешевых изданий. Ежедневная газета, распространяемая по подписной цене в 40–48 франков, способна окупить типографские расходы, включая бумагу. Для оплаты труда редакции, дирекции и администрации необходимо публиковать также рекламные объявления. В свою очередь, чтобы привлечь рекламодателей, следует расширять круг подписчиков, то есть сделать газету привлекательной для как можно большего числа читателей. Читатели, как известно, делятся на «умных» и «чувствительных». Так вот, что касается второй категории, то именно ради них газеты и привлекают к сотрудничеству романистов.
В определенный момент времени Эмиль де Жирарден относился к Бальзаку скорее враждебно, видя в нем — директоре «Кроник де Пари» — конкурента. Лишившись собственной газеты, Бальзак перестал представлять для Жирардена опасность. С другой стороны, Бальзак — это имя, его авторитет среди парижан весьма и весьма высок. Вот почему Жирарден постарался снова завязать отношения с писателем.
Он действительно рассчитал все очень ловко. Своим успехом «Пресс» в значительной мере оказалась обязанной успеху публикации «Старой девы». Всего за полгода, с июля 1836-го по январь 1837 года число подписчиков жирарденовской газеты выросло с двух до десяти тысяч. До этого ни одна ежедневная французская газета не могла похвастать такими тиражами.
Но и это было лишь начало. Через шесть лет, в 1842–1843 годах газета напечатала «Парижские тайны» Эжена Сю. К тому времени конкуренция среди периодических изданий определялась не столько их политической ориентацией или качеством подаваемой информации, сколько талантом и фантазией авторов романов с продолжением.
Напомним, что вполне официозный «Журналь де деба» в течение полутора лет печатал «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Эжен Сю продал за 100 тысяч франков газете «Конститюсьонель» своего «Вечного жида». Писали для газет и другие известные писатели, например, Поль де Кок (1794–1881). «Четыре сестры» Фредерика Сулье (1800–1847) печатались в 27 номерах «Деба».
«Вы спрашиваете, как идет моя работа. Написанное мной измеряется уже многими и многими томами. Никогда я еще не работал так много», — напишет Бальзак Еве Ганской 14 октября 1842 года.
Именно в тот год Бальзак опубликовал план «Человеческой комедии». Специально для первого тома этого гигантского труда, предисловие к которому он написал в июле, написан «Альбер Саварус». В августе — октябре он закончил «Авантюристку», сделал наброски к «Депутату из Арси», работал над главами «Утраченных иллюзий», которые посвятил Виктору Гюго, и закончил «Онорину». К 1843 году у него уже созрел замысел новых глав «Утраченных иллюзий», которые он предполагал опубликовать в «Мессаже». Этой же газете он предложил «Урсулу Мируэ», «Музу департамента» и продолжение «Беатрикс», над которыми работал в 1839 году. В новой газете «Лежислатюр» он собирался напечатать «Жизненный дебют». В конце 1837 года газета «Фигаро» начала выпуск собственного книжного приложения и предложила читателям «Цезаря Биротто». И так далее, и так далее…
Плодовитостью Бальзак ничуть не уступал Александру Дюма, однако его отношение к собственному творчеству все-таки было иным. Так, над «Утраченными иллюзиями» он работал урывками с 1836 по 1843 год, без конца переделывая написанное. Сюзанна Ж. Берар насчитала 33 набора корректурных гранок с авторской правкой.
Бальзак верил, что литература, пусть и поставленная на поток, — это прежде всего искусство, в которое следует вкладывать всю свою душу.
И тем не менее в сравнении с Дюма, Сю или Полем де Коком в глазах публики он проигрывал. Он так и не обзавелся собственным домом, то и дело печатался под псевдонимами. Другие известные писатели занимали прочное общественное положение, сумели «поставить себя»: «Издатели приходят к Эжену Сю… Допустим, хозяин дома просит их подождать, и они терпеливо сидят в приемной, восхищаясь роскошью обстановки, после чего послушно принимают все его условия. А я сам хожу по издателям, и уже меня просят подождать, и это я сижу в приемной… Мы поменялись ролями».
В чем же его упрекали? Конечно, в том, что он не выдерживал сроков. Действительно, он частенько запаздывал со сдачей рукописи на день, а то и на два.
Его критиковали за слишком подробное письмо. В самом деле, роман для него был ожившей музыкой, которая должна течь по собственному руслу. Но газеты вынуждены были придерживаться совершенно других критериев. Если Эжен Сю умел заранее разбить еще не написанное произведение на части и главы, каждой дав название, то Бальзак творил иначе. Приступив к осуществлению замысла, он лишь по завершении романа разделял целое на части, предназначенные для публикации, стараясь чтобы «разрывы» приходились на пик читательского интереса, гарантировавший нетерпеливое ожидание следующего номера.
Это еще далеко не все претензии, которые предъявляли Бальзаку.
Роман с продолжением не должен быть ни слишком длинным, ни слишком коротким. Жирарден считал идеальным вариантом произведение, которое можно напечатать в семи-восьми выпусках. Кроме того, следовало учитывать вкусы подписчиков. Кое-кому из читателей импонировал политический нейтралитет газетных публикаций, иные читательницы строго следили, чтобы автор не посягнул на их «целомудрие». Вот почему «Беатрикс», опубликованная в «Сьекль» в 1839 году, подверглась жестокой цензуре. «Испорченный, кастрированный текст…» — сокрушался Бальзак.
Бальзак не умел расставаться со своими героями. «Старая дева» потребовала продолжения, которым стал «Музей древностей». Вслед за «Утраченными иллюзиями» появился «Великий провинциал в Париже».
Он любил описания, хотя всем известно, что описания навевают на читателя скуку. Но он дорожил своими «страницами высокой поэзии», которые нравились «трудному» читателю. Между тем начиная с 1842 года жанр романа-газеты становился все более популярным в самых широких кругах…
В 1838–1842 годах газеты сами заказывали Бальзаку романы; в 1843 году спрос на него упал. Он был готов пристроить очередную рукопись «хоть в какую-нибудь газету», хотя бы в «Эта» или «Паризьен», где платили совсем мало, а то и в фурьеристскую «Демокраси пасифик» Виктора Консидерана.
В 1844 году Гобино писал, что среди романистов, сочинявших для газет, Бальзак выглядел «чужеродно»: «Он так и не научился тому тону легкой болтовни, которая составляет успех и славу наиболее удачливых писателей».
Не в силах конкурировать ни с Дюма, ни с «атласно-блестящим» Полем де Коком, Бальзак утешал себя тем, что он недостаточно современен: «Мои современники — это Мольер и Вальтер Скотт, Лесаж и Вольтер!» Его сотрудничество с газетами прервалось до октября 1846 года, вплоть до публикации «Кузины Бетты»[40]. Еще через год, в 1847 году, «Конститюсьонель» напечатал «Кузена Понса», «Эпок» — «Последнее воплощение Вотрена», а «Юнион монаршик» — «Депутата из Арси». На сей раз условия редакциям диктовал автор.
Огромная заслуга Бальзака заключалась в том, что в жестком жанре романа с продолжением он сумел выдержать единство целого и остаться самим собой. Сент-Бев, восхищавшийся творчеством Эжена Сю, все же признавал, что последний, «не уступая Бальзаку ни в силе воображения, ни в плодовитости, ни в умении строить композицию», тем не менее не всегда «следует собственной природе. Этим он и отличается от Бальзака, ведомого чутьем и вдохновением художника, изменить которому его ничто не заставит. Если другие отдаются на волю несущего их потока, то Бальзак — сам по себе поток».
«НЕ ПРОДАЕТСЯ ВДОХНОВЕНЬЕ, НО…»
«Старая дева», опубликованная в «Пресс» в октябре 1836 года, в буквальном смысле спасла Бальзака, находившегося в «отчаянном» положении.
Счета, требовавшие немедленной оплаты, сыпались на него дождем. Чтобы окончательно не упасть духом, ему пришлось призвать на помощь все свое чувство юмора, иначе вряд ли он смог бы продолжать писать. В это время он начал работу над «Тайной дома Руджиеров» и «Разбитой жемчужиной», а в часы «досуга» снова и снова правил «Проклятое дитя». Этот последний роман принадлежал к числу самых тщательно отделанных его произведений. Первоначальный вариант увидел свет в 1831 году, но в 1836–1837 годах Бальзак вернулся к рукописи, значительно расширил текст и подверг его существенной правке.
Рассорившись с Жюлем Сандо, который, по мнению вечно заваленного работой Бальзака, оказался сущим бездельником, писатель перебрался в принадлежавшую тому мансарду в Шайо. «Увы! Вы хорошо ко мне относились, — напишет ему Сандо 17 марта 1837 года, — но так и не захотели поделиться со мной секретом своей гениальности».
Тревоги не покидали Бальзака и в Шайо. Забыв про светскую жизнь и ложу в Опера, живя в доме без ванной комнаты и имея 70 тысяч франков долгу — матери, мадам Делануа, Верде — на что он мог надеяться? В это время он подумывал о том, чтобы «спрятаться где-нибудь в Турени… Вот только с кем?»
В августе 1836 года Верде за 30 тысяч франков выкупил у бывшей вдовы Беше, ставшей госпожой Жакийя, права на публикацию и отпечатанные экземпляры «Этюдов нравов XIX века». Расплачивался он векселями под поручительство портного Бюиссона.
Верде по-прежнему демонстрировал Бальзаку свое глубочайшее восхищение. Приглашая мэтра к обеду, он усаживал его в золоченое кресло, ставил перед ним золотую посуду, в то время как остальные гости ерзали на низеньких стульчиках и ели из простых тарелок. Но вот наступил октябрь, и милейший, почтительнейший Верде не только отказался ссудить Бальзака очередной денежной суммой, но и предъявил писателю счет за прежние долги. «В те дни я сделался худшим его врагом», — писал Верде. Действительно, Бальзак задолжал своему издателю больше 12 тысяч франков, и 17 ноября 1836 года тот вынужден был за 73 300 франков продать Максу де Бетюну, компаньону Плона, все книги Бальзака, изданные вдовой Беше и лично им, — всего 54 тома.
За два дня до ликвидации предприятия Верде Бальзак едва не угодил в долговую тюрьму, от которой его спасло буквально чудо. Некое общество, объединившее книготорговцев Виктора Леку и Анри Луи Делуа, а также бывшего директора «Фигаро» Виктора Боэна, купило у него авторские права на уже изданные и будущие книги.
Бальзак был счастлив: «Этот контракт куда выгоднее того, что предложили Шатобриану». На самом деле Шатобриан за 156 тысяч франков и пожизненную ренту в 12 тысяч франков предоставил тем же самым книготорговцам право на издание «Замогильных записок», причем рукопись хранилась у нотариуса и по условиям договора не могла быть опубликована до смерти автора. Бальзак же получил 50 тысяч франков в качестве аванса за еще не написанные произведения.
Два года спустя, в 1838 году, общество так и не смогло вернуть себе выплаченных Бальзаку 50 тысяч и уступило свои права Ипполиту Суверену, ранее издавшему «Полное собрание сочинений Ораса де Сент-Обена», а также Жерве Шарпантье (1805–1871). Последний ввел в типографское дело новшество: начал издавать книги карманного формата — в 1/18 листа, которые продавались по 3 с половиной франка за экземпляр. Книжки Шарпантье вмещали в себя больше текста, чем два изданных крупным форматом романа по 15 франков.
Относящийся к тому времени портрет Бальзака работы Луи Буланже самому прототипу нравился: «То, что сумел передать Буланже и что меня радует, так это упорство, составляющее основу моего характера и подобное упорству Колиньи и Петра Великого; это моя отчаянная вера в будущее».
В Саше, куда Бальзак прибыл на отдых, он посетил Талейрана и его племянницу герцогиню де Дино[41], которые обитали в замке Рошкот. В присутствии этого «живого пережитка прошлого», к числу которых Бальзак относил также Лафайета, Вашингтона и Карла X, писатель, умевший демонстрировать светский лоск, но слишком занятый своими мыслями и оттого несколько рассеянный, повел себя далеко не лучшим образом.
В своем «Дневнике», который велся с 1831 по 1862 год, герцогиня де Дино 28 ноября 1836 года записала:
«Господин де Бальзак, уроженец Турени, прибыл в здешние края подыскать себе небольшое имение. К нам его привел один из наших соседей. К несчастью, стояла ужасная погода, и мне пришлось оставить его обедать.
Я вела себя вежливо, но сдержанно. Я невероятно боюсь всех этих публицистов, литераторов и прочих сочинителей статей; прежде чем вымолвить слово, я по семь раз кряду прикусывала себе язык и почувствовала счастье, когда он ушел. У него лицо простолюдина, такая же манера говорить и, я подозреваю, чувствовать. Вероятно, он умен, но его разговору не хватает легкости и блеска. Он кажется скорее тугодумом, зато внимательнейшим образом рассматривал и изучал нас, особенно господина де Талейрана. Я с радостью обошлась бы без этого визита, и если б можно было его избежать, так бы и сделала. Он хочет казаться незаурядным человеком и сам о себе рассказывает тысячу небылиц, в которые я нисколько не верю».
В январе 1837 года Дьюкетт, компаньон по изданию «Кроник де Пари» возобновил попытку добиться возврата своих денег. Векселя, подписанные Верде, так и не были оплачены, и тогда Дьюкетт выступил с иском сразу против Бальзака и Верде. На улице Марэ Бальзак значился коммерсантом, а потому ему грозил арест. Пока же у него отобрали тильбюри, стоявший в сарае на улице Кассини. В начале февраля Бальзак записал в своей хозяйственной книге: «5 февраля. Привратнику Мон-де-Пьете — 1 франк за срочность. 6 — карета для поездки в Мон-де-Пьете — 4 франка. Привратнику выдано 2 франка. Привратнику с улицы Кассини, который прибежал сообщить, что увезли тильбюри, — 1 франк 25. 12 — званый обед. Уплачено Бюиссону 20 франков, взятых взаймы».
«СЦЕНЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ», ИЛИ «ФРАНЦИЯ, РАЗДИРАЕМАЯ МИФАМИ»
В октябре 1836 года некоторые читатели «Пресс» обратились в редакцию с возмущенными письмами, осуждающими «отвратительную безнравственность» романа «Старая дева».
«Шаривари» решил доказать, что это действительно так. Сотрудники газеты не поленились надергать из текста отдельных строк, выделив и подчеркнув наиболее «непотребные» места. Если Алансон перенял у Парижа все его привычки, то винить в падении нравов следует вовсе не алансонцев, а как раз парижан! Столичные газеты наперегонки изощрялись, стараясь выставить в самом уродливом свете городок «с безупречной репутацией».
«Старая дева» появилась в печати в феврале 1837 года и вместе с «Утраченными иллюзиями» дополнила содержание первых двух томов «Сцен провинциальной жизни», опубликованных в 1834 году. Замысел этого цикла Бернар Гийон относит к марту — декабрю 1833 года.
Первая и главная черта провинциала — его отличие от парижанина. Столица, этакий монстр с руками-пролетариями, управляемыми «головой» — чиновниками, политиками и финансистами, не знает ни минуты покоя. Здесь каждый ищет выгоды для себя и никто ни с кем не знаком.
В провинции все обстоит с точностью до наоборот. Здесь все друг друга знают и всех одолевает скука. Самое незначительное происшествие способно вызвать разговоры, сплетни, шум. Смещение более или менее высокопоставленного чиновника становится событием сродни убийству.
Здесь любят встречаться «домами», потому что это дает возможность соперничества, да и просто позволяет находиться в курсе всего, что происходит. Мужчинам необходимо получить подтверждение, что их дела идут лучше, чем у соседей. Женщины тщатся это доказать, устраивая свой дом, обставляя его красивой мебелью и стараясь как можно раньше разузнать, что нынче модно в Париже, чтобы успеть первыми эту моду продемонстрировать. Женщина, оставшаяся в одиночестве или просто ставшая жертвой измены, всю свою нерастраченную любовь обращает к Церкви. Она занимается церковными делами, украшает цветами алтарь, а перед праздником Тела Господня до блеска натирает церковную утварь…
У Бальзака типичному провинциалу около сорока. Жизнь его занята подсчетом процентов, расходов и доходов. Парижанин живет, разрываясь между разными занятиями, и не скрывает этого. Провинциал мечется ничуть не меньше, но считает своим долгом делать вид, что прислушивается к внутреннему голосу, который ему шепчет: «Не суетись!» За внешним спокойствием провинциального существования таится огромная жизненная сила, которая копится, чтобы в один прекрасный день вспыхнуть ярким огнем.
Усталость парижанина — всегда усталость нервного свойства. Нерв провинции — страсть ростовщика, который копит богатство, ничем не брезгуя. Самые влиятельные семьи вступают в родство, постоянно увеличивая свои владения — дом за домом, улица за улицей, поместье за поместьем. Богатство нужно им не само по себе, а как средство достижения политической власти. Так, в Алансоне каждому известно, что набожная барышня Кормон, убежденная монархистка, достаточно богата, чтобы ее будущий муж добился избрания.
Бальзак знал провинцию не понаслышке. Он в течение долгого времени жил практически во всех городках, которые описал: юность провел в Турени, в 1820 году гостил у Сюрвилей в Байе, в 1824-м у Помрелей в Фужере, в 1825 году в Алансоне, Ангулеме и наконец в Иссудене у Карро; а также в Немуре по соседству с госпожой де Берни.
В качестве кандидата в депутаты он познакомился с такими городами, как Камбре, Шинон и Тур.
Бальзаковская провинция прежде всего буржуазна. Здесь превыше всего ценятся достаток и достоинство. Тон задают несколько самых известных гостиных. Женщины могут быть элегантны, а мужчины умны, но лишь при условии, что их поведение и внешний облик отвечают приличиям. Люсьена де Рюбампре охотно принимают повсюду, потому что он писаный красавец, а вот Жерома-Дени Рогрона люди, которых он сам именует «кликой провинциалов», отвергают за то, что он дурен собой и не умеет себя вести.
Приезд «чужака» в провинциальный город всегда событие. Иногда это разорившийся племянник («Евгения Гранде»), иногда парижский журналист (Этьен Лусто из «Музы департамента»), известный врач (Бианшон) или знаменитый адвокат (Дерош и Дервиль — эти бальзаковские предтечи комиссара Мегрэ). Но чаще всего это коммивояжер.
Благодаря такому человеку, как Годиссар, в привычное течение жизни врывается новизна. Даже магазины превращаются в магазины новинок, заваленные проспектами, каталогами и образцами, которые должны внушить провинциалу, как безнадежно он отстал от столичной жизни. Годиссар быстро становится незаменимым, идет ли речь об оформлении страховки или выгодном помещении капитала, о покупках в Париже или подписке на газеты. В начале своей карьеры он специализируется на «шляпах и платье из Парижа», но уже очень скоро начнет торговать акциями железнодорожных компаний.
Бальзаковская провинция живет под сильным влиянием Церкви. Подобно Церкви, провинция еще хранит дух иерархии. Наиболее влиятельные особы одновременно служат гарантами нравственности. Семейная жизнь почитается делом чести, а ради чести не жалко отказаться и от самых заманчивых удовольствий. В крайнем случае можно съездить в Париж и попытаться утолить свою жажду земного там.
В «Кюре из Тура» (1832), как и в «Старой деве» (1836–1837), ставка, вокруг которой кипят страсти, в сущности ничтожна. В первом из романов двое священников ссорятся из-за дома и библиотеки, во втором претенденты оспаривают друг у друга право на руку старой девы. И в том и в другом случае интересно прежде всего глубоко символичное значение описываемых коллизий.
Задолго до Жоржа Дюмезиля и Клода Леви-Строса Бальзак охотно употреблял слово «миф», причем в том же самом значении, какое в него вкладывают современные этнографы. Миф для Бальзака — это полная скрытого смысла история, в концентрированном виде отражающая состояние мира. Меняется история, меняется и миф, а вместе с ним и весь миропорядок. Изменения затрагивают самые глубины жизни. Правильно выбранный миф становится ключом, отпирающим дверь в социальное, юридическое и нравственное бытие общества.
Аббат Франсуа Биротто под проливным дождем возвращается домой, к своей квартирной хозяйке мадемуазель Тамар. В туфлях его хлюпает вода, и он с «домовитым вожделением» мечтает о миге, когда очутится в теплой библиотеке, завещанной ему каноником Шапелу. Служанка подозрительно долго не отпирает ему дверь, заставляя его мокнуть под водосточной трубой, а попав наконец в дом, он не находит под рукой ни своего любимого подсвечника, ни кочерги, ни домашних туфель. Да и свет в доме не горит… Он чувствует, как его охватывает ощущение надвигающейся бездны. Дом, в котором он до этого проклятого вечера блаженствовал и наслаждался жизнью, как истинный буржуа, в одночасье превратился в ад.
Утром за завтраком аббат Биротто поинтересовался, не нарушило ли его позднее возвращение покоя хозяйки? «Вот именно! Мадемуазель Гамар только заснула, когда вы ее разбудили, и потом не могла сомкнуть глаз всю ночь!»
Биротто, унаследовавший от каноника Шапелу и квартиру, и мебель, и библиотеку, считал себя полновластным хозяином дома. Он ходил в гости, наносил визиты, и грач в вист и ни разу не подумал о том, чтобы пригласить с собой Софи Гамар, которая считала, что вполне этого заслуживает. На самом деле в глазах света она оставалась «выскочкой», потому что ее отец, мелкий лесоторговец из Тура, был просто разбогатевшим крестьянином, выгодно купившим в годы террора этот прекрасный дом.
Против аббата Биротто плетет интригу аббат Трубер, властный человек, который «ступает торжественным шагом и сурово оглядывает всех исподлобья». Одним своим видом он внушает людям уважение.
Каноником назначают аббата Пуареля, а аббат Биротто простодушно подписывает свою «отставку». После чего аббат Трубер моментально вселяется в его квартиру. Биротто остался «без крыши над головой, без денег и имущества».
Эта история, при всей своей занимательности, немного потерялась на фоне событий 1826 года, когда кругом обсуждали болезнь и смерть Наполеона, спасение Людовика XVII, похищенного из тюрьмы Тампль чуть ли не в выдолбленном изнутри бревне, и, разумеется, бесчисленные жертвы Революции…
Тем не менее воцарение Иасента Трубера у мадемуазель Гамар имело глубокий скрытый смысл. Он не собирался останавливаться на достигнутом. В 1827 году он уже стал монсеньором Иасентом, епископом Труа. Его образ послужил прославлению «Конгрегации», доказательством того, что Власть и Церковь далеко не всегда существуют независимо друг от друга.
Трубер, выживший из дома Биротто, показал, словно через увеличительное стекло, как Церковь после десяти лет атеизма и двадцати лет конкордата снова обретает во Франции власть.
Действие романа «Старая дева» разворачивается в Алансоне в 1816 году. Мифологическим задним планом служат на сей раз не взаимоотношения Церкви и государства, а идеологический спор между монархистами, либералами и республиканцами.
Роза Мария Виктория Кормон — не слишком умная, но богатая владелица прекрасного дома — давным-давно должна была обзавестись семьей, однако жизнь повернулась так, что она осталась одна. В годы террора она напрасно искала себе мужа-дворянина, во времена Империи не желала связывать свою судьбу с «пушечным мясом».
В образе Розы Кормон воплотилась сама Франция образца 1816 года, не знающая, каким богам молиться. Кого предпочесть: монархиста? либерала? По поводу незадачливой старой девы в городе болтают всякие глупости: не иначе, с ней что-то не в порядке, наверное, какой-нибудь тщательно скрываемый порок…
Роза Кормон не лишена и тщеславия. Так, она отвергает чувства скромного чиновника мэрии Атаназа Грансона, хотя он любит ее столь страстной любовью, что, получив отказ, бросается в реку Сарт.
В город между тем приезжает виконт Труавиль, когда-то давно эмигрировавший в Россию. Роза Кормон уже видит себя в мечтах госпожой де Труавиль. Какая блестящая партия! Увы, 16 лет назад Труавиль женился на дочери княгини Шербеловой, владелице миллионного состояния, и теперь у них уже четверо детей.
В конце концов на руку мадемуазель де Кормон остается всего два претендента: бывший шуан кавалер де Валуа, сияющий в лучах собственного величия. Ему 58 лет, но он все еще не избавился от привычки заводить внебрачных детей, хотя, разумеется, предпочитает помалкивать на эту тему.
Второй претендент — некто Дю Бускье, когда-то занимавшийся поставками продовольствия для французской армии. Он вступил в сговор с Бернадоттом, а затем разорился, сыграв на понижение перед битвой у Маренго, то есть не поверив в Бонапарта. В Алансоне Дю Бускье возглавляет партию либералов. Он носит накладные волосы, свободно рассуждает о женщинах и взаимоотношениях полов, то есть затрагивает вопросы, в которых мадемуазель Кормон на удивление мало осведомлена. Она не понимает, в чем разница между быком и волом, а услышав выражение «покрыть кобылу», интересуется, что это значит.
Между тем она мечтает о детях, чтобы было кому оставить в наследство все, чем владеет. В ее образе мы снова видим Францию в ее стремлении к покою и безопасности, Францию, которая надеется «спасти свой вечный уют, свои древности и лаковые безделушки… У таких прекрасных вещей должен же быть хозяин!»
Хозяином в итоге станет Дю Бускье. Чем же он заслужил такое счастье? Городские сплетники утверждают, что это именно он «осчастливил» ребенком девушку Сюзанну. На самом деле здесь постарался кавалер де Валуа, сумевший свалить славу за этот «подвиг» на своего закоренелого врага. Дю Бускье льстит репутация волокиты, к тому же он уже 15 лет опекает местный приют для детей-сирот.
Сделавшись мужем мадемуазель Кормон, бывший республиканец Дю Бускье старается заручиться поддержкой всех «благоразумных» горожан и добиться избрания от партии либералов. Своей деятельностью он будет способствовать пришествию к власти Луи-Филиппа, а в 1830 году самолично сорвет белый монархический стяг. В награду он получит пост начальника налоговой службы и репутацию «сильного» политика, который сумеет превратить Алансон в промышленно развитый город.
Все эти достижения нисколько не радуют Розу Кормон. Став супругой Дю Бускье, она, готовая «сто лет гореть в аду ради счастья материнства», обнаруживает, что вышла замуж за импотента.
Дю Бускье насквозь лжив в своей общественной деятельности. Роза Кормон лжет мужу, притворяясь, что обожает его, тогда как на самом деле не испытывает к нему ничего, кроме ненависти. Но уж лучше выглядеть в глазах окружающих женой самого выдающегося в городе человека, чем жить в одиночестве. Все-таки Бускье «лучше, чем собака, кошка или канарейка — услада стародевической жизни».
Мадам Дю Бускье ищет утешения и опоры в религии. Факт своего замужества она начинает рассматривать, как «вериги, которые помогают доброй христианке в искуплении грехов».
В 1830 году умирает кавалер де Валуа. Это время знаменует победу во Франции людей типа Дю Бускье, громогласно вещающих на всех углах о «публичном образовании», о «школе гуманизма» и о «светоче истории».
Выбор Дю Бускье Розой Кормой мифологичен. Он означает, что Франция больше не хотела рассчитывать на помощь Церкви («Кюре из Тура»), предпочтя идеи, заимствованные у «беспорядочных, яростных и бесполезных революций, способных разрушать, но не способных созидать».
В ДОРОГУ! И ДОЛОЙ ПЕРО!
Чтобы оторваться от властно притягивающего к себе рояля, Владимир Горовиц проводил дни и ночи в поездах. Точно так же и Бальзак видел в путешествиях единственный способ оставить хоть на время перо.
19 февраля 1837 года он приехал в Милан и поселился в гостинице «Белла Венеция», неподалеку от Ла Скала. Праздная жизнь захватила его. Парижские друзья снабдили «знаменитого синьора де Бальзака» необходимыми рекомендациями. Графиня Сан Северино представила его своему брату Альфонсу-Серафену, князю ди Порчьо, и своей приятельнице Кларе Маффеи; княгиня Бельджиожозо познакомила его со своим кузеном маркизом Жоржем-Теодором Тривульцио.
Бальзак ходил по музеям и мастерским художников и проводил вечера в Ла Скала. Его новый знакомый писатель Манцони горел желанием показать ему свой новый объемистый роман «Жених и невеста», но… Бальзак дал ему понять, что пишет столько, что не в состоянии еще и читать. Как-то на улице к Бальзаку подскочил незнакомый человек и выразил желание обнять писателя. Тот не смог отказать. И тут выяснилось, что пылкого почитателя интересовал не столько сам Бальзак, сколько его часы. Пришлось даже пустить в дело трость. Жулика поймали, а известность Бальзака стремительно выросла.
Впрочем, он и сам не прочь был пообниматься, особенно когда его познакомили с 23-летней Кларой Маффеи. При виде Бальзака она встала на колени и прошептала: «Преклоняюсь перед гением».
Пройдет несколько лет, и «малютка» Клара Маффеи станет настоящей музой Рисорджименто, вокруг которой объединятся и тоскующие по своей республике генуэзцы, и мечтающие о независимости миланцы, и сторонники коллективного правления пьемонтцы, и свободолюбивые жители Романьи.
13 марта Бальзак выехал из Милана в Венецию. Здесь он остановился в гостинице «Альберго Реале», впоследствии переименованной в отель «Даниэли». Желание посетить этот город охватило его после посещения картинных галерей. Но попав в Венеции под проливной дождь, он быстро понял, что его гораздо сильнее влечет к Кларе Маффеи, чем к венецианским улицам. Город показался ему стоящим на грани гибели. Даже статуи напоминали «древних старух». Нет, решительно ему нужна Клара! «Воображение способно нарисовать нам тысячи Венеций, но не может заменить ни хорошенькую женщину, ни удовольствие, ни страсть».
Несчастье Италии, казалось ему, заключалось в том, что и во времена упадка она сохранила в целости великие произведения искусства, о которых на фоне ужасающей нищеты Венеции неловко было даже говорить. Утопающие в грязи улицы опустошенного, разграбленного, голого города, по которым «скользят бледные призраки» вместо людей. Несчастная Италия! Несчастная и вместе с тем счастливая, потому что никакого мрамора и позолоченной штукатурки никогда не будет слишком много, чтобы прикрыть ее нищету.
19 марта, за два дня до отъезда, Бальзак прокатился в гондоле и открыл для себя венецианскую живопись. Ему бросились в глаза «великолепный колорит и замечательное величие идеи», но решительно не понравился «искаженный рисунок». Бальзак вообще не любил фресок, считая их «неистинным» искусством.
Во время путешествия в Иерусалим Шатобриан сумел в обнищавших, изнывавших под турецким владычеством Афинах увидеть Афины Перикла. Бальзаку же показалось, что за современным фасадом он угадал средневековую Венецию.
«Сегодня из окон дворца Мемми низвергались целые потоки огней, освещавшие сотни стоящих на приколе гондол; нарядные гости в масках толпились в пиршественной зале вокруг празднично накрытых столов; с галерей лилась музыка; дворцовые лестницы оглашали взрывы хохота, и казалось, что вся Венеция собралась сюда веселиться». Бальзаку вспоминался Рабле, для которого «звон бокалов был сладчайшей музыкой, а смех — лучшей из песен».
Не меньше понравилась ему в Венеции и ее тишина, та тишина, за которую любил этот город Вагнер, утверждавший, что здесь слышно как «спит вода».
Завороженность и тишина… На приеме у графини Соранцо его вниманием завладела некая дама по имени Элина Контарини, принявшаяся читать ему нотацию. Она решила, что непременно должна обратить господина де Бальзака. Об этом узнала Ева Ганская. Ее возмущению не было предела. Как? Другая женщина смеет на него влиять? Оноре попытался отделаться от нудной собеседницы, прикинувшись последователем Спинозы: он-де исповедует земную религию, а если человек несовершенен, то ответственность за несовершенство должен нести Господь Бог, создавший человека именно таким.
За время пребывания в Венеции Бальзак уладил дело о наследстве, порученное ему графом Гидобони-Висконти. Наследников оказалось трое, и доля каждого была не слишком велика. Все же ее хватило на оплату его дорожных издержек. Он получил за свои хлопоты некоторое вознаграждение, а по возвращении граф Гидобони-Висконти согласился выступить его поручителем по некоторым наиболее неотложным долгам.
ЛЮБОВЬ — ДЛЯ ЖИЗНИ, НЕ ДЛЯ КНИГ
21 марта Бальзак вернулся в Милан, а через восемь дней выехал в Женеву. Еще в 1836 году он вместе с мадам Марбути мечтал посмотреть итальянскую Ривьеру.
Предприняв эту поездку, Бальзак искушал судьбу, ибо город жил в страхе перед эпидемией холеры, так что ему пришлось выдержать недельный карантин. В больнице Бальзак услышал разговор, касающийся старых серебряных рудников на Сардинии. Делать ему в больнице было решительно нечего, а потому идея разработки этих самых рудников захватила его. Неужели он превратится в «искателя шальных денег»? Впрочем, почему бы и нет? Разве не этим он занят всю жизнь? Бальзак дал себе слово, что по возвращении во Францию обязательно переговорит об этом предприятии с разбирающимся в технических вопросах майором Карро.
Он уехал из Парижа три месяца назад, и пока его вовсе не тянуло обратно. Путешествовать по городам и весям значило для него оторваться от строгого распорядка жизни и забыть на время о необходимости платить долги. Улица Батай давно превратилась в арену сражения. Он знал, что его прибежище обнаружено, вдова Дюран раскрыла его инкогнито, так что личность загадочного жильца доктора Межа перестала быть тайной для кредиторов и служак из национальной гвардии. Квартиранта зовут господин де Бальзак, да-да, тот самый знаменитый писатель, по которому давно плачет тюрьма, потому что он не платит долгов и уклоняется от выполнения своих воинских обязанностей.
Жизнь праздного туриста нравилась ему все больше. В Ливорно он отплыл на корабле, а 11 апреля уже высаживался во Флоренции. О его поездке не знала даже Ганская… Рискуя испортить ей настроение, он сочинил письмо, полное жалобных стенаний: «Я совершенно выбился из сил…» А как на самом деле было бы здорово поселиться здесь, в домике, на берегу большого канала! Он едва не прослезился, мечтая об этом. Как счастливо он зажил бы здесь, удалившись от мира!
Но сколько можно мечтать?! «Поверьте, между душой усопшей [госпожи де Берни] и надеждами, которым я предаюсь в самые тихие часы, лежит такая пропасть, при мысли о которой у меня в предчувствии несчастья кружится голова».
БАЛЬЗАК И МУЗЫКА
Во Флоренции Бальзак увидел «Магдалену Дони» кисти Рафаэля. Изображенная на картине женщина напомнила ему Еву Ганскую.
В Болонье он восхищался «Святой Цецилией» того же Рафаэля. Все девушки из романов Бальзака, словно приговоренные к вечной молодости, напоминают именно святую Цецилию — воплощение идеала жертвенности.
В Болонье Бальзак встретился с Россини, который жил здесь с Олимпией Пелисье. Они вели долгие беседы, в том числе о тяжелой жизни музыканта в Италии: «Сапожник без сапог». Действительно, чтобы выжить, Россини приходилось переезжать то в Англию, то во Францию. Бальзак в это время обдумывал роман «Гамбара», посвященный жизни композитора. Его Гамбара походил не столько на Россини или Мейербера, сочинявших легко и быстро, сколько на Бетховена или Шопена, которые по 20–30 раз переделывали одну и ту же вещь, пока не добирались «до самой сути музыки».
Бальзак считал, что творческое воображение не рождается на пустом месте, но является результатом напряженной подспудной работы по отбору и анализу множества элементов, из которых затем возникает законченное художественное произведение.
Помимо английских поэтов, которых он читал вместе с мадам де Берни, Бальзак чрезвычайно высоко ценил музыку.
Музыка — всегда откровение. Объяснить музыку невозможно ни языком разума, ни языком литературы. Музыкант — это своего рода высшее существо, живущее во власти вдохновения.
Гамбара — итальянский композитор, автор нескольких опер и изобретатель нового музыкального инструмента, который он назвал пангармониумом. После того как от него уходит жена, он забрасывает музыку и становится простым настройщиком инструментов.
«Гамбара» был почти закончен еще до отъезда Бальзака в Италию, но готовый набор книги сгорел во время пожара в типографии. Бальзак обратился к Огюсту де Белуа с просьбой восстановить хотя бы некоторую часть текста, наименее пострадавшую от огня. По возвращении из Италии он еще раз переработал свой новый роман.
МУЗЫКА ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
К концу апреля 1837 года Бальзак снова оказался в Милане. Воспоминание об этой поездке осталось в альбоме «малышки» Маффеи, муж которой никак не мог понять, почему Бальзака так тянет в их город…
Однако пора было подумать и о возвращении во Францию, откладывать которое стало невозможно. Его обратный путь пролегал через Комо и Тигино, затем — через перевал Сен-Готард. В горах валил снег, и Бальзаку пришлось совсем худо. От холода он задыхался, и одиннадцати проводникам пришлось чуть ли не тащить его на себе. Наконец из-за гор показалось солнце, и все вздохнули с облегчением.
Затем начался спуск в долину. Лошади побежали веселей. «Мы огибали скалы, пролетали по мосткам, и вдруг, за одним из поворотов перед нами открылся целый каскад водопадов, мешавшихся и перебивавших друг друга. Водный поток несся, разбиваясь на тысячах камешков и сверкая, словно ледяная глыба, рухнувшая с вершины утеса».
3 мая он был в Париже. Верде к этому времени успел подвести итоги. Уильям Дьюкетт оказался свирепым кредитором. Он вбил себе в голову, что отправит Бальзака в тюрьму, и не собирался идти на попятную.
Бальзак нашел себе прибежище в доме Гидобони-Висконти на Елисейских Полях. Здесь он мог никого не бояться и спокойно продолжить работу над «Служащими» — романом, обещанным редакции «Пресс» (с 1 по 14 июля), а также над «Цезарем Биротто», который в ноябре напечатала в своем книжном приложении «Фигаро».
В начале июля в дом Гидобони-Висконти позвонил человек, представившийся посыльным, и заявил, что ему нужно срочно вручить пакет господину де Бальзаку. Слуга принять пакет отказался.
— Речь идет об этрусской вазе, — горячился посыльный. — Я обязан вручить ее лично адресату. Господину де Бальзаку придется прийти за ней в нашу контору.
Слуга вызвал Бальзака, который на всякий случай прикинулся «другом того господина, которого вы разыскиваете». Разговор продолжился в том же русле.
— Это чрезвычайно ценная вещь, — твердил посыльный, — ее можно вручить только лично адресату.
Бальзак еще какое-то время продолжал морочить курьеру голову, но наконец не выдержал:
— Ну хорошо, я и есть господин Бальзак.
Тогда «посыльный» с готовностью распаковал свой пакет, в котором оказались всего лишь бумаги, но какие! Судебное постановление и ордер на арест, впрочем, с возможностью замены на штраф в размере трех тысяч франков. Госпожа Гидобони тут же заплатила штраф наличными. «Как было мне больно, — писал Бальзак Еве Ганской, — при мысли, что я скомпрометировал людей, щедро давших мне приют! Чтобы избежать тюрьмы, требовалось срочно заплатить, следовательно, мне пришлось снова обременить их своими заботами!»
Август Бальзак провел в Саше, где его настиг жестокий бронхит и одолела ломота. В письме к Еве Ганской от 25 августа 1837 года он снова жалуется:
«Я совершенно не способен отвлекаться от работы. Единственное, что могло бы меня развлечь, это путешествия. Но и работать я тоже не могу. Чтобы написать даже эти несколько строк, мне приходится превозмогать нестерпимую боль в спине, как раз между плеч. Гулять мне нельзя, потому что меня бьет прямо-таки старческий кашель. К тому же погода стоит жаркая, а я боюсь резких перепадов тепла и холода, боюсь вспотеть и оказаться на сквозняке. Я надеялся, что в Турени мне станет лучше, но болезнь моя здесь лишь ухудшилась. Виной этого недомогания чрезмерная работа, которой я изнурил себя. Все левое легкое у меня воспалено… Я дошел до состояния, когда больше не дорожишь жизнью; слишком уж далеки надежды и слишком тяжким трудом дается покой. Если б я мог ограничиться умеренной работой, я безропотно покорился бы судьбе, но у меня слишком много забот и слишком много врагов…»
Ему хотелось бы говорить с Ганской на совсем другом языке, созданном для радости бытия и для сладострастия. Но этого итальянского языка Ева Ганская не поняла бы: «Здесь вы вовсе некомпетентны, и я объясню вам почему». Этому объяснению он посвятит целый роман.
«Массимила Дони» была написана в первоначальном варианте с 12 мая по 10 июня 1837 года, в ноябре переработана, а окончательно завершена в 1838 году.
Эмильо Кане-Мемми, будущий князь Верезе, живет в Венеции, на канале Гранде. Он лишился состояния, и опустевший дворец превратился для него в тюрьму. Он любит платонической любовью Массимилу Дони, связанную фиктивным браком с другим человеком. Ее эта ситуация вполне устраивает, ибо «любовную страсть» ей заменяет религия.
Бальзак стал любовником графини Гидобони-Висконти по двум причинам. Во-первых, ему просто хотелось счастья, а во-вторых, он рассматривал эту связь как своего рода месть Еве Ганской, державшей его на расстоянии. Точно так же герой «Массимилы Дони» Кане-Мемми, неврастеничный юноша, влюбленный в замужнюю даму, на взаимность которой ему не приходится рассчитывать, поддерживает связь с известной и хорошенькой певицей, некоей Тинти. Тинти так хороша, что ради ее расположения «многие согласились бы сломать себе шею».
Но если Бальзак всячески скрывает свою тайну, то его герой больше озабочен нравственным аспектом ситуации и горько корит себя за то, что наслаждается плотскими радостями с Тинти, тогда как душа его стремится к Массимиле. Молодой человек так страдает, что делится своей тайной с другом, который предлагает ему простое и легкое решение. Действие романа происходит в Венеции, городе карнавалов. Другу удается убедить Массимилу одеться на костюмированном балу в такое же платье, как у Тинти. Кане-Мемми, не заметив подмены, ушел с бала с той, кого считал настоящей Тинти, а утром проснулся в объятиях Массимилы, которая еще и забеременела. «Все шедевры итальянского искусства сбежались к ложу Массимилы Дони и оплакивали ее».
Ева Ганская назвала новеллу «непристойной».
После публикации «Массимилы Дони» вся польская колония в Париже стала смотреть на Бальзака косо. Его появление в Опере в ложе Гидобони-Висконти «суровая тетушка» Розалия Ржевуская сочла «скандальным».
После Женевы Оноре и Ева поклялись друг другу в чистой любви. Бальзак выразил свое понимание такой любви, создав «Серафиту». Зато Феликс де Ванденес, который любит мадам де Морсоф целомудренной любовью, охотно поддерживает связь с леди Дадли. Душа душой, а тело телом… Однако Бальзак не желал и дальше жить двойной жизнью. Еве Ганской, вслед за Массимилой Дони, пора было стать для него настоящей женщиной.
СЕМЕЙНЫЕ ЗАБОТЫ
Вернувшись в Париж 3 мая 1837 года, Бальзак еще не знал, где будет жить. Новая поездка в Турень представлялась ему нереальной. Он намеревался устроить себе жилье в Пуасси, где у Огюста Белуа имелся небольшой дом. Подумывал он также и о том, чтобы снять квартиру в Севре. Выехав за пределы департамента Сена, Бальзак становился недосягаем для закона, по которому ему, как повторно уклонившемуся от несения службы в национальной гвардии, полагалось многомесячное тюремное заключение.
18 сентября под именем Сюрвиля Бальзак снял квартиру в Севре, в доме 16 по улице Виль-д’Аврей. Годом позже, с 20 июня по 10 июля 1938 года, он занялся покупкой в рассрочку небольшого имения Жарди, примыкавшего к парку Сен-Клу и расположенного на холме, возвышавшемся над Виль-д'Аврей.
За время своего трехмесячного отсутствия Бальзак успел настроить против себя всех своих родственников. Мать засыпала его жалобными письмами, в которых умоляла: «Сынок, хлеба!» Действительно, вот уже два месяца, как Лора де Бальзак, покинув свою квартиру в Шантильи, перебралась жить к дочери, Лоре Сюрвиль, где стала нахлебницей «доброго зятя». Лора Сюрвиль также полагала, что брату следовало бы помочь ее мужу с устройством его чудесных каналов, вместо того чтобы заниматься улаживанием наследственных дел Гидобони-Висконти.
Бальзак и сам чувствовал себя виноватым. Он ничего не посылал матери с 1 апреля 1835 года, а ведь ее пенсию иначе как милостыней и назвать было нельзя: она получала всего по 200 франков в три месяца. Мать злилась на него и по всякому поводу поминала недобрым словом его расточительные привычки: любовниц, трости, перстни, столовое серебро, мебель…
Лора Сюрвиль поддерживала мать и даже высказала следующее мнение: «Мой муж — гораздо более великий человек, чем Оноре».
«Я принадлежу к семье, члены которой напрочь лишены родственных чувств», — сокрушался Бальзак, напомнив Еве Ганской слова, сказанные ему когда-то мадам де Берни: «Вы — цветок, выросший на навозе».
И все же несколько недель Бальзак посвятил Сюрвилю и его каналам. В 1820 году во Франции, согласно плану Бекея, предполагалось проложить десять тысяч километров водных путей. Впервые в истории государство допустило к участию в сооружении каналов частные общества, основанные на французском и иностранном капиталах.
Таких обществ расплодилось немало, но ни одно из них не было по-настоящему солидным. Июльская монархия выделила на сооружение каналов 341 миллион франков, тогда как во времена Второй империи на строительство железных дорог будет затрачено 9 миллиардов франков. Что до Сюрвиля, то он представил свои расчеты в так называемое Общество четырех каналов (Бретань, Луара, Нивернэ, Берри). Однако как бы убедительно Сюрвиль ни говорил, какие бы планы ни составлял, он оставался всего лишь скромным инженером, и его инициативы наталкивались на сопротивление всевозможных комиссий, занятых в основном отчетами и докладами в министерство и палату. Ничего удивительного, что его проект, суливший «шестикратную прибыль», в итоге провалился.
На злоключениях Сюрвиля Бальзак построил сюжет своего романа «Служащие».
Он пообещал представить его в редакцию «Пресс» к июлю 1837 года. «Служащие» и в самом деле увидели свет с 1 по 14 июля, следовательно, работа над романом заняла шесть недель.
В набросках существовал замысел и еще одной вещи. «Высшая женщина» в какой-то мере описывает Лору Сюрвиль, вернее, представление Лоры о самой себе. Главного героя «Служащих» зовут Рабурден. Это набожный монархист, преданный общественным интересам, но в то же время «немного узколобый и не слишком любезный». Мало того, что его порывы сдерживает «паралич администрации», на него постоянно давит собственная жена, выдающая ему из месячного заработка всего 30 франков: «В Париже почти все жены так поступают со своими мужьями, и те покоряются из боязни прослыть чудовищем».
Как пробиться в управленческую среду и добиться там успеха? Бальзак хорошо помнил, как сражался его отец с тупоумием чиновников. Для того чтобы немного освежить свои воспоминания, он изучил несколько трудов, которые, впрочем, не повлияли на его собственные оценки.
Во времена Империи управленческий аппарат, наэлектризованный энергией Наполеона, превзошел самое себя, однако в дальнейшем он вступил в пору упадка. Начиная с Людовика XVIII административные посты все множились, при том что жалованье чиновников все уменьшалось. Служащие органов администрации постепенно превратились в клиентов режима. В конце концов правительство было вынуждено содержать целую армию «управленцев», а министры и депутаты продолжали выбивать все новые теплые местечки «для своих».
Многочисленные чиновники, составлявшие нижнее звено управленческого аппарата, попали в полную зависимость от «окошка в приемной», которое предоставляло неограниченные возможности для всяческих манипуляций. Человек мог с блеском закончить учебное заведение, мог выиграть какой угодно конкурс, его могли переполнять выдающиеся идеи, — но миновать «окошко» он не мог. Министр и те, кто входил в кабинет, взяли себе за правило никогда не отвечать ни на какие письма. Этих людей главным образом занимало устройство собственных семейных дел. Пристроить брата в посольство, зятя — в казначейство, старшего сыночка определить в префектуру, младшенького — в консульство, а племянника — хотя бы в окружное налоговое управление… Где уж тут выкроить время для назойливых посетителей, которые всё идут и идут и всё что-то предлагают?..
Бальзак перенес действие «Служащих» на 1821–1824 годы, но, бесспорно, имел в виду правительство Луи-Филиппа, при котором демократизировалась государственная служба и невероятно выросло число чиновных должностей, достававшихся «своим людям». Министерства стали олицетворением равноправия во Франции. Жалованье также уравнялось: столоначальник получал ненамного больше, чем последний экспедитор. Самого министра редко кто видел в глаза, зато он, как какой-нибудь диспетчер на крупном вокзале, откуда-то сверху «спускал расписание и давал указания стрелочникам». В министерстве министр появлялся крайне редко, потому что ему приходилось заседать в палате, так что его реальной власти подчиненные не ощущали. Никто из чиновников не работал, а если и работал, то отнюдь не в родном министерстве. Бальзак приводит в пример некоего «молодого Мерсье», мастера на все руки, Кольвиля, по совместительству прирабатывающего кларнетистом в Опера-Комик, заместителя начальника отдела Брюэля, сочиняющего водевили.
Чиновники напрочь оторваны от действительности. Если они и имеют свое мнение, то никогда не посмеют его высказать.
Подобно королю, который царствует, но не правит, министры в основном занимаются созданием всевозможных комиссий, которые в свою очередь пишут доклады и отчеты, разрабатывают подробнейшие планы и проекты. За этой, по слову Бальзака, «завесой», теряются истинные дела и проблемы; бесконечные обсуждения и разговоры плодят груды «сорных» бумаг, папок, циркуляров… Время от времени какой-нибудь отдел производит на свет циркуляр, без которого «Франции несдобровать!» Курам на смех… В министерствах если что и помнят, так это те вопросы, на которые нет ответа; если же спрашивающий проявляет настойчивость, следует тянуть резину до тех пор, пока он не поймет, что напрасно теряет время.
Устав от призрачной активности окружающих, которые и сами не замечают, как успевают состариться в бессмысленной суете, Рабурден горит желанием реорганизовать и правительство, и органы управления. Его подталкивает к этому жена, мечтающая, чтобы муж стал наконец хоть кем-нибудь. Но даже возглавив бюро, Рабурден не становится своим в свете. Его по-прежнему никто не знает, а министр не желает принимать.
В 1824 году Рабурден составил план спасения Франции. Этот план отчасти состоял из идей самого Бальзака, а также Жирардена, издателя «Пресс», в которой была напечатана «Высшая женщина». В типографии Жирардена работали паровые прессы, выдававшие по 20 тысяч экземпляров газеты каждый день. Бальзак мог надеяться, что его соображения дойдут до самых широких кругов общественности.
Согласно плану Рабурдена, число министерств следовало свести к трем и в каждом из них должно было служить не больше двухсот чиновников. В Австрии, к примеру, Меттерних один руководил сразу четырьмя департаментами.
Относительно налогов Рабурден излагает мысли, впоследствии получившие развитие в знаменитой книге Жирардена «Налог», которая увидела свет в 1852 году. Рабурден осуждает косвенные налоги, за которыми, словно за баррикадой, прячутся города, продолжающие существовать в атмосфере средневекового протекционизма. Главная роль у Рабурдена отводится личному налогу на движимое имущество и налогу на потребление. Рабурден предлагает взимать плату за роскошь, широкий образ жизни, жилье, количество слуг, содержание лошадей и кареты. Эффект от введения таких налогов не замедлит сказаться, потому что «бюджет — не сундук, а садовая лейка. Чем больше воды нальешь в нее, тем больше затем выльется и тем плодороднее будет страна».
Особенно заинтересовал Бальзака, который не пил, налог на вино.
Виноградари должны платить за право содержать виноградник, розничные торговцы — за право продавать вино.
Государство-собственник, государство, ратующее за национализацию, по мнению Бальзака, олицетворяет «административную бессмыслицу». Государство не в состоянии управлять, оно только лишает себя налогов и обедняет бюджет. Стоит предприятию подпасть под государственный контроль, как оно немедленно обрастает долгами. Поэтому государство должно освободить место частной инициативе, передать в ее руки лесную промышленность, шахты и металлургию.
Налог на собственность у Рабурдена фигурирует лишь как необходимость в годы войны. Собственник, освобожденный от уплаты налога, сможет употребить эти деньги на повышение своего культурного уровня. Промышленность станет работать на дешевом сырье и легко составит конкуренцию зарубежным товарам.
«Высшая женщина» («Служащие») получила суровый отпор со стороны легитимистски настроенной прессы. В номере от 2 августа 1837 года «Котидьен» писала: «В произведениях господина де Бальзака изложены такие удивительные суждения, что будь они включены в наше законодательство, эффект получился бы самый странный».
Может быть, такая оценка объяснялась личной неприязнью редактора? Ведь Бальзак замахнулся на систему, снедаемую «административным недугом», в результате которого немногие счастливчики получали синекуры… Они не могли не понимать, что Бальзак вознамерился лишить их работы. «В газету ежедневно приходит по двадцать возмущенных писем. Читатели отказываются от подписки и уверяют, что вся эта безответственная болтовня ничего, кроме скуки, вызвать не может».
Рабурден захотел поиграть в государственного деятеля и потерпел поражение. А его создатель потерпел поражение, попытавшись взять на себя роль «мудрого и доброго законотворца».
ТОРГОВЛЯ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Предки Бальзака со стороны матери происходили из известного купеческого рода Саламбье.
Во времена Империи Саламбье держали в руках «все, что относилось к армейскому обмундированию». Отец семейства Гийом, не скрывая гордости, говорил: «Торговля — вот что самое важное. […] Видеть, как мимо проходит полк национальной гвардии, одетый в наше сукно, которое мы производим дешевле всех остальных, (…) разбираться во всех пружинах торгового дела и ни разу не свернуть на кривую дорогу! Вот это жизнь!»
В годы Реставрации двоюродные братья Бальзака — Седийо, Маршан, Леба и Кириэль (двое последних породнились с семейством Лежен д’Эльбеф) — вели суконную, басонную, одежную и пуговичную торговлю. Уже тогда, как и позже, во времена Июльской монархии, они сумели быстро переориентировать свою торговлю на ширпотреб, тогда как другие дельцы разорялись и нередко попадали в долговую тюрьму. Кое-что об этом Бальзаку было известно.
К 1837 году, когда Бальзак начал работу над «Историей возвышения и упадка Цезаря Биротто», в торговом деле произошли существенные изменения. Отныне, чтобы привлечь клиента, приходилось думать о том, чем его поразить, чтобы он не смог пройти мимо продаваемого товара.
Современная торговля должна была основываться на внешних эффектах. Старые лавки спешно переоборудовались в новые магазины, обставленные хорошей мебелью, в том числе стульями для посетителей. Огромное значение стали придавать вывескам, которые сделались «лицом» заведения. Владельцы магазинов оформляли витрины, раздавали рекламные проспекты, помещали рекламу в газеты и увешивали ею стены общественных зданий.
Кто оплачивал всю эту мишуру? Во-первых, конечно, сам хозяин, который отныне уже не имел возможности откладывать всю прибыль на черный день, во-вторых, разумеется, покупатель. Как всякий транжира, Бальзак с болезненным вниманием следил за ростом цен. Самым надежным показателем служила ему цена на духи, до которых он был большой охотник. И если прежде он покупал себе духи на улице Грамон по одному су за склянку, то теперь за такой же флакон там просили 20 франков.
Бальзак ясно видел, что торговцы, не умеющие рассчитать каждый грош, обречены на разорение. Он писал: «В любом деле, если следствие перерастает причину, наступает крах». Или: «Чрезмерная цивилизованность вплотную приближается к варварству, подобно тому, как ржавчина угрожает стали. Стоит забыться хоть на мгновение, и все потеряно».
Занимаясь в 1828 году типографским делом, Бальзак с удовольствием печатал рекламные проспекты крупнейших парфюмеров того времени Диссея и Пиве, торговавших «франкской помадой» для ращения волос. Он водил знакомство с Убиганом, снабжавшим его «португальской водой», с Ложье, у которого покупал одеколон… С Пиве его в 1834 году познакомил владелец скобяной лавки Даблен.
Замысел «Цезаря Биротто» Бальзак вынашивал еще с 1834 года. Его герой — осторожный торговец, никогда не делающий опрометчивых шагов. Однако наступают времена, когда Биротто приходится окунуться в совершенно новый мир, о законах которого он ничего не знает, — мир промышленного производства. Его обхаживают бесчестные спекулянты и мошенники-банкиры, сулящие ему баснословные барыши, если он купит земельный участок возле площади Мадлен. Биротто поддается на уговоры, а когда наступает срок платить по векселям, выясняется, что платить ему нечем. Он оказывается на грани самоубийства…
2 ноября 1836 года Бальзак пообещал рукопись «Цезаря Биротто» Альфонсу Карру (1808–1890), автору нескольких романов и главному редактору газеты «Фигаро», с октября по декабрь 1836 года выходившей ежедневно. В 1837 году «Фигаро» превратилась в ежедневный журнал «Фигаро-книга». В октябре Виктор Боэн уступил газету издателю Буле, который пригласил на пост главного редактора Альфонса Карра. В качестве награды подписчикам «Фигаро» стала выпускать романы, в том числе восьмитомные «Философские этюды», опубликованные еще за счет Верде. С 17 декабря 1837 года такой наградой стал «Цезарь Биротто», напечатанный в двух томах форматом ин-октаво.
Этот роман, который был создан Бальзаком в состоянии крайней усталости, подвергся им серьезной переработке. Сохранилось свидетельство Эдуара Урлиака (1813–1848) о том, каким испытанием для наборщиков стала работа с этой книгой. Рукопись поступила в типографию в таком исчерканном виде, что едва ли не каждое слово приходилось расшифровывать. Отправленные автору гранки набора вернулись наклеенными на «огромные листы», испещренные правкой.
Эта процедура повторилась семь раз, но Бальзак все еще не считал работу над романом завершенной. В последний вариант уже сверстанной книги он снова внес исправления, несмотря ни на какие протесты.
Начало «Цезаря Биротто» напоминает сцену из пьесы Мольера, которым в 1837 году Бальзак восхищался не меньше, чем в 1830-м — Рабле. По совету жены парфюмер Биротто наладил выпуск двух косметических препаратов, которые охотно покупают у него все парфюмерные магазины: «Двойную султанскую мазь» для защиты кожи рук и «Ветрогонную воду» для страдающих угрями и лишаем.
Что заставило Цезаря, которому в 1818 году исполнилось 42 года и ежегодная рента которого составляла 10 миллионов франков, задумать новое дорогостоящее предприятие по производству масла против перхоти и для ращения волос?
Биротто принял свое решение не сразу. Этому предшествовал его разговор со знаменитым членом Академии наук, который подробно рассказал ему, что из себя представляет человеческий волос. Биротто понял, что лучшим средством для поддержания волос в хорошем состоянии будет ореховое масло. Что ж, он наладит производство нового препарата и свернет шею своему главному конкуренту, производителю «Масла Макассар».
Но наладить производство — лишь поддела, главное — удачно продать товар. Биротто, придумавший раньше выпускать рекламные листовки, теперь воспользуется возможностью печатать в газетах «платные объявления». Бальзак, таким образом, сделал своего героя автором революционного новшества, которому дали жизнь Жирарден в «Пресс» и Арман Дютак (1810–1856) в «Сьекль».
Но как же назвать новый продукт? «Убойная эссенция»? Нет, слишком грубо. «Кесарево масло»? Не подходит, люди подумают, что речь идет о препарате для рожениц. «Масло от мигрени» — вот то, что надо! Биротто поручает заняться этим делом Ансельма Попино, роскошная шевелюра которого должна внушить уважение торговцам парфюмерией.
Первую ошибку он совершил, когда доверился своему кассиру, который его обокрал. Затем с его деньгами сбежал нотариус, его надули разработчики рекламы. Биротто настолько уверен в себе, что не считает нужным тщательно проверять каждую бумажку, которую подписывает.
Для Бальзака этот роман стал своего рода компенсацией за собственное прогоревшее дело. Подобно Биротто, он тоже пал жертвой «дурацкой доверчивости», приняв обманщиков за энергичных партнеров.
Как это произошло когда-то с самим Бальзаком, банки отказали Биротто в помощи, и тот вдруг начал понимать, что банки поддерживают лишь богатых, кредитуют лишь на самый короткий срок и ссужают деньгами лишь своих политических союзников. Для всех остальных банк — это олицетворение «скупости, суровости и обманной филантропии».
«Мне всегда казалось, — говорит Биротто, — что банки не отвечают своему назначению». А ведь от них зависит вся парижская торговля.
Банкир Адольф Келлер не скрываясь признает: «Банкам и так хватает хлопот с оборотом капиталов и фальшивыми векселями, чтобы еще разбираться в делах тех, кто ждет от нас помощи».
Беда Биротто в том, что он не умеет вовремя остановиться. Будучи честным человеком, в сложившейся ситуации он вынужден плутовать. Биротто мечтает о таком законе, который различал бы дельцов-неудачников, вполне способных встать на ноги, если им дать шанс, и истинных банкротов. Последних следовало бы на два часа выставлять на всеобщее обозрение в здании Биржи, как раньше выставляли к позорному столбу преступников, а затем высылать из страны.
«Цезарь Биротто» в год своего появления в печати получил неоднозначные оценки критики. В номере от 4 января «Шаривари» опубликовала статью под названием «История возвышения и падения Оноре де Бальзака». «Фигаро» же всячески защищала «своего» автора и расхваливала роман. Остальные издания высказались сдержанно: «слишком много подробностей», «переливание из пустого в порожнее», «фарс, который мог бы стать занятным, будь он покороче». Откуда им было знать, что раскритикованные ими «длинноты» осчастливят в будущем специалистов по истории экономики, которые благодаря Бальзаку смогут составить себе точное представление о том, как абстрактные экономические законы «претворялись в плоть и кровь» в далеком 1837 году (Рене Гиз).
«СКОРО Я СМОГУ НАЗВАТЬ ЖОРЖ САНД В ЧИСЛЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ…»
Наступил январь 1838 года. Бальзак вел жизнь затворника и уверял знакомых, что спит по 18 часов в сутки. Его наперебой приглашали, он отказывался, делая исключения лишь для графа де Кастеллана, который у себя в замке ставил пьесы. Бальзак в это время всерьез подумывал о драматургии. Постоянное перенапряжение сделало свое дело. Он стал раздражительным, привычное общество казалось ему пустым и вздорным. Чужая праздность была ему невыносима.
Февраль он провел во Фрапеле (провинция Берри). В субботу 24 февраля он на неделю уехал в гости к Жорж Санд. Еще недавно, в 1830 году, когда она звалась мадам Дюдеван, Жорж Санд охотно проделала бы путь в десять лье, чтобы увидеться с Бальзаком. Некоторое время их объединяло нечто вроде дружбы, когда они сблизились через Иасента Табо де Латуша, в 1830 году руководившего «Фигаро», пока Бальзак не догадался, как опасен может быть Латуш: «В одно прекрасное утро вы обнаружите в нем своего смертельного врага». Так и случилось. Стоило Жорж Санд добиться славы, как Латуш резко переменил к ней свое отношение. «Слава опьянила ее, — уверял он, — она готова пожертвовать ради нее своими друзьями и не желает слушать ничьих советов». В 1833 году Жорж Санд переживала пору страстного увлечения Жюлем Сандо. Жили они в квартире на набережной Малаке, предоставленной Латушем. Бальзак бывал там на нескольких вечерах, с жаром делясь с присутствующими замыслами своих будущих произведений. Жорж Санд сидела, забившись в угол, и пожирала его глазами пантеры, намерившейся броситься на своего дрессировщика. Вскоре Жорж Санд начала сожалеть об оставленном в Ноане семейном «гнезде» и все больше тосковала по своим детям. Первое впечатление от обворожительного Жюля Сандо рассеялось и сменилось трезвым взглядом на человека, растратившего в парижских гостиных свою молодость и не нажившего ничего, кроме безмерного тщеславия.
И Санд выставила «малыша Жюля» за дверь. Сандо уехал в Италию, чтобы по возвращении поселиться у Бальзака и занять место его секретаря. Во всем, что касалось работы, он проявлял чудеса изворотливости, лишь бы ничего не делать, правда, доставил Бальзаку немало радости, познакомив его с «пухленьким пажом» — Каролиной Марбути, прибывшей из Турина. Ему даже удалось вытянуть из Бальзака, легко занимавшего деньги и с трудом их одалживающего, 5 тысяч франков. Сандо уверял, что Люсьен де Рюбампре списан с него, хотя на самом деле с бальзаковским персонажем его объединяло не так уж много общего: лишь то, что он тоже молодым человеком приехал из провинции в Париж, с головой, набитой стихами, и со страстным желанием пристроиться при каком-нибудь крупном банкире или ком-нибудь в этом роде, поскольку его не покидала уверенность, что стоит тому молвить словечко, и судьба «малыша Жюля» будет решена.
В начале февраля Бальзак уже был во Фрапеле и мечтал о встрече с Жорж Санд — «не то с львицей Берри, затаившейся в своей пещере, не то с соловьем, укрывшимся в своем гнезде».
24 февраля Бальзак приехал в Ноанский замок. Он нашел свою старую знакомую слегка расплывшейся («подбородок как у борова»), все с тем же крупным носом и теми же прекрасными глазами. Она писала по ночам, а днем, задумавшись, нередко принимала самый глупый вид. Как Бальзак написал Еве Ганской, больше всего его поразила ее манера одеваться. Ее «рабочий костюм» состоял из халата, желтых туфель с бахромой и алых панталон. Она обожала принимать друзей, для которых ее дом был всегда открыт. Так, недавно в течение одиннадцати недель у нее гостили Лист и Мари д’Агу.
НА ГАЛЕРЕ ЛЮБВИ
В декабре 1833 года, находясь в Женеве, Бальзак услышал историю Мари де Флавиньи, в литературном мире более известную под псевдонимом Даниэля Стерна (1805–1876). Ей было 22 года, когда она вышла замуж за полковника кавалерии графа Шарля д’Агу, хотя к военным всегда относилась с предубеждением. В конце 1832 года она познакомилась с Листом, и эта встреча перевернула всю ее жизнь. Франц и Мари поняли, что созданы друг для друга, и поклялись друг другу в вечной, безграничной, безоглядной любви.
Бальзак оставил нам описание Мари д’Агу. «Эта уроженка Турени с желтоватым цветом лица и клочковатыми волосами своей худобой и бледностью производила довольно отталкивающее впечатление». Мать Мари д’Агу происходила из семьи франкфуртского финансиста, отец ее был пэром Франции.
Живя в Женеве, Мари ждала ребенка. Она оставалась в Швейцарии, потому что не хотела, чтобы ее законный муж получил на ребенка какие-то права. Бландина родилась 18 декабря 1835 года, и Лист официально признал ее своей дочерью. Затем от их союза родилось еще двое детей: 25 декабря 1837 года на свет появилась Козима, которая впоследствии вышла замуж за Рихарда Вагнера, и в 1839 году, в Риме, — сын Даниэль.
В Ноан Мари приехала в 1837 году с единственной целью — отдохнуть. «Спокойный край с милыми деревенскими привычками»… Хозяйка дома нередко на целый день уезжала верхом в окрестный лес, прихватив с собой еду. Она работала над романом «Мопра» и изучала пейзажи. По вечерам вся компания обычно собиралась в гостиной, подолгу упрашивая Листа поиграть. Если он пребывал в дурном расположении духа, он мог долго отнекиваться, потом все-таки подойти к роялю, с отсутствующим видом присесть к нему — и вдруг… резко вскочить, захлопнуть крышку со словами: «Нынче вечером медведи не танцуют!» Но уж если он был в ударе, то подолгу импровизировал на великолепном эраровском инструменте. Эти импровизации будили в душе слушателей «самые потаенные чувства, наполняя сердце почти религиозным восторгом». Вместе с тем в компании имели успех самые незамысловатые шутки. Листу, например, случалось испортить воздух, и он с невозмутимым видом обвинял в содеянном дочку Жорж Санд Соланж, а гувернантка Соланж утверждала, что пахнет на удивление приятно… Здесь считалось остроумным насыпать кому-нибудь в постель конского волоса или переодеться привидением и, вооружившись лопатой, гоняться за «кандидатом в трупы»… Вердикт, вынесенный Мари д’Агу после посещения этого дома, звучал довольно сурово: «Жорж совершенно не умеет себя вести».
Тем не менее она делилась с писательницей своими тревогами. В Париже и других крупных городах, куда забрасывала их судьба. Листу приходилось чрезвычайно много работать и он частенько бывал раздражен. Когда же они могли наконец остаться вдвоем, то с отчаянием в душе начинали понимать, что больше не верят в то неземное счастье, какое обещали друг другу, хотя все еще делали вид, что им хорошо вместе. Лист любил сравнивать себя с Данте, на которого действительно был похож, особенно в профиль. Мари не оставалось ничего другого, как взять на себя роль Беатриче.
Выслушав эти откровения, Жорж Санд подвела итог: «Все Данте сами придумывают себе Беатриче и предпочитают, чтобы те умирали в 18 лет». Мари д’Агу в ту пору стукнуло тридцать.
В Ноане Бальзак читал произведения Жорж Санд. Он признавался, что «провел здесь последние беззаботные деньки». Хозяйка пыталась пристрастить его к курению кальяна, но он это скоро бросил. Собственно, никаких возбуждающих средств, кроме кофе, он вообще никогда не признавал. Здесь, в Ноане, он ощущал себя человеком, совершенно разуверившимся в любви. Жорж, проявлявшая к нему истинно дружеские чувства, пыталась убедить его, что дороже любви нет ничего на свете. Она же пыталась открыть ему глаза на «провинциальность» Евы Ганской, которая выпросила у Санд несколько строк для своей коллекции автографов, настояв при этом на том, чтобы Санд подписалась «Аврора Дюдеван», то есть фамилией мужа. Имя «Жорж Санд» для коллекции Евы Ганской не подходило, ибо звучало слишком вызывающе.
Познания Жорж Санд в музыке поразили Бальзака, хотя удивляться этому, зная о ее близкой дружбе с Шопеном, не приходилось. В судьбе же Листа и Мари д’Агу он невольно видел себя и Еву Ганскую. Они тоже могли вести кочевую жизнь, колеся по Европе, и никто не стал бы особенно осуждать их: люди относятся к «греховным связям» других с некоторой долей презрения, но в целом снисходительно. Вот только для них самих такая жизнь скорее всего обернулась бы адом.
Бальзак прославится, его будут встречать восторженными криками. Ева станет ревновать и бояться, что он ее разлюбил, и, точь-в-точь как Мари д’Агу, «начнет терзаться душевными муками, разрываясь между долгом перед Богом и людьми»[42].
Бальзак задумал роман об обманчивой любви, которая, исчерпав себя, не может перерасти даже в простую дружбу, и озаглавил его «На галере любви». Затем он изменил название на «Беатрису». Роман увидел свет на страницах «Сьекль» с 13 по 26 апреля 1839 года. В нем повествуется о романтических влюбленных, которые решились бросить вызов обществу, но вскоре убедились, что всеобщее презрение давит слишком тяжело и даже любовь не в силах облегчить эту тяжесть. Медовый месяц пролетает слишком быстро… Вспомним Анну Каренину, которая бросается под поезд. Лев Толстой, впрочем, читал Бальзака, во всяком случае, один из его романов наверняка: «пустяковину под названием „Лилия в долине“». Жаль, что он не читал «Беатрису»!
«Я чувствовал себя несчастным, когда писал „Беатрису“», — признавался Бальзак Еве Ганской в феврале 1840 года. И поспешил раскрыть свои «детские» секреты: «Да, Сара — это госпожа де Висконти, да, мадемуазель де Туш — это Жорж Санд, да, Беатриса — бесспорно, Мари д’Агу».
В посвящении к «Беатрисе» упоминается Сара. 10 февраля 1840 года Бальзак расскажет о ней Еве Ганской, называя «одной из самых любезных женщин, существом бесконечной, удивительной доброты, красивым изящной и тонкой красотой. Она очень помогает мне переносить тяготы жизни, она нежна и сдержанна, она тверда и непоколебима в своих убеждениях. На нее можно смело положиться во всем, она не отвернется от друга в беде».
В Париже Бальзак снова увиделся с Жорж Санд. В 1839 году она поселилась на улице Пигаль, в «доме, окруженном садом и возвышающимся над конюшней и каретным сараем; столовую она обставила мебелью из резного дуба — так описывал Бальзак ее жилище. — Маленькая гостиная обита тканью цвета кофе с молоком, а в большой гостиной, где хозяйка принимает гостей, полно изумительных китайских ваз. В жардиньерке всегда свежие цветы. Мебель выдержана в зеленых тонах. Здесь же горка с разными диковинами, на стенах картины Делакруа и ее собственный портрет кисти Каламатта. (…) Изумительный палисандровый рояль квадратной формы. Впрочем, она не расстается с Шопеном. Курит она исключительно сигареты и больше ничего. Поднимается не раньше четырех часов, как раз к этому времени Шопен заканчивает свои уроки. В жилые помещения ведет так называемая мельничная лестница, прямая и крутая. Спальня обита коричневыми обоями, а постель устроена по-турецки и представляет собой два матраца, уложенных прямо на пол. Ессо, contessa![43] У нее прелестные, маленькие, совершенно детские ручки».
В ПОГОНЕ ЗА СОКРОВИЩЕМ
15 марта 1838 года Бальзак заказал дилижанс на Марсель, на империале которого ему предстояло провести «четыре дня и пять ночей». 22 марта он сел на корабль в Тулоне и 23-го высадился в Аяччо. Здесь, «едва забрезжил рассвет», его, окруженного сворой свирепых сторожевых собак, обнаружил молодой лейтенант 13-го линейного полка Жуэн д’Эгриньи д’Эрвиль. «Я успел как раз вовремя и, выхватив саблю, спас знаменитого писателя», — вспоминал он[44].
«Выброшенный в Аяччо и приземлившийся на гранитной скамье», Бальзак смертельно скучал и дошел даже до того, что отправился в местную библиотеку, где и прочел «Клариссу Гарлоу» Ричардсона. Вместе с тем Корсика показалась ему «красивейшим на земле местом. Франция не хочет или не умеет извлечь всю пользу из этой прекрасной земли, на которой могло бы жить не меньше пяти миллионов человек, в то время как сейчас живет всего 300 тысяч».
4 апреля ему удалось нанять небольшую барку, которая перевезла его в Альгеро на Сардинии. Пятидневный морской переход закончился благополучно, вот только спать пришлось на корме, где кишели блохи, и питаться совершеннейшей мерзостью, которую именовали «супом». Но Бальзак не унывал. У него в голове уже созрел план разработки серебряных рудников, о которых он слышал еще в Женеве. Провожая его в эту экспедицию, мать ссудила ему 100 франков, а его врач Накар и портной Бюисон также вручили энную сумму денег. Вот только майор Карро отказался участвовать в предприятии. Определенно, ему не хватает предпринимательского духа!
С 10 по 15 апреля Бальзак изучал обстановку. В Аржантьере уже существовало Марсельское общество по переработке отходов серебряных рудников. Конечно, человек — общественное животное, но только не в том, что касается добычи драгоценных металлов. Бальзак снова пустился в дорогу, отправившись в Сассари, откуда он добрался на дилижансе до Кальяри, а затем — морем до Генуи. В пути ему пришлось есть «ужасный хлеб из зеленых желудей» и наблюдать за «полуголыми мужчинами и женщинами, вместо одежды носящими набедренные повязки». На фоне этих картин нищеты «процветают богатые деревни».
В мае Бальзак предпринял поездку в Италию, скорее всего, ради собственного удовольствия. Он посетил Милан и Турин, возможно, побывал во Флоренции. В Саронно он увидел «Бракосочетание Мадонны» Рафаэля, о которой упоминает в «Крестьянах».
Ну почему он не может вести такую же жизнь, как Лист?! Три концерта в Санкт-Петербурге — и 10 тысяч франков в кармане! В Милане говорят, что «благодаря клавишам из слоновой кости он может купить себе дворец!»
Париж далеко, но и из этой дали до Бальзака доносится недовольное ворчание издателей, которые ждут новых рукописей, и гул оскорблений, на которые столь скоры журналисты… Париж ждет его, чтобы снова напомнить о долгах и национальной гвардии. 6 июня он возвращается в «любимый ад», потому что осознал, что «нет тяжелее недуга, чем ностальгия».
Возвращение несколько омрачено поджидающим его письмом Евы Ганской, в котором она упрекает Бальзака в бродяжничестве и легкомыслии. С какой стати его потянуло в Италию, на Сардинию? В ответ он сообщает, что человек, пишущий роман, не может жить, «рассчитывая каждый свой шаг, подобно рантье, выводящему на прогулку по бульварам свою собаку, читающему „Конститюсьонель“, неизменно возвращающемуся к обеду домой, а по вечерам отправляющемуся играть на биллиарде». Если бы Бальзак последовал советам Евы и отдался на волю Провидения, он уже давно коротал бы свои дни в тюрьме Клиши.
К тому же ему нравилось ночевать в империале.
ЖАРДИ
Еще до отъезда Бальзак поручил предпринимателю Юберу заняться устройством маленького дома, который купил в Севре. К июлю 1838 года он расширил свои владения, прикупив несколько небольших участков земли, и теперь вполне мог здесь обосноваться. Он обставил свое жилище с предельной скромностью, углем нацарапав на стенах: «палисандровая обшивка», «гобелены», «венецианское стекло», «картина Рафаэля».
Почва в имении оказалась глинистой, а участок неровным. Гости Бальзака восхищались ловкостью, с какой хозяин перемещался по саду, держа в руках булыжники, которые по мере необходимости кидал себе под ноги.
Подумать только, через год он сможет добраться до Парижа поездом!
В июле-августе он был завален работой. Требовалось срочно оплатить счета и векселя, выданные для обустройства Жарди. В парке Сен-Клу распевали птицы, зеленая сень деревьев навевала сладкие сны, а он корпел над первой частью «Блеска и нищеты куртизанок».
Окончательный текст этого романа был опубликован только в августе 1844-го с датировкой 1845 года, а до этого в печати появились многочисленные отрывки и варианты.
В августе Бальзак принялся за переработку «Сельского священника» и «Крестьян», пока что озаглавленных «Кто с землей, тот с войной».
Одновременно он написал «Дом Нусингенов», а с 22 сентября по 8 октября в «Конститюсьонель» появился его «Музей древностей» — своего рода заключение к «Старой деве». Правда, Алансон в этом романе не упоминается, а сюжет разворачивается вокруг молодого аристократа Виктюрниана д’Эгриньона, который приезжает в Париж, связывается с компанией кутил и гуляк, а затем, стараясь угодить своей любовнице Диане де Мофриньез, совершает подлог. Фигуры второстепенных персонажей, заимствованные из провинции, «становятся барельефами на стенах склепа». Аристократы вроде д’Эгриньона, которым в 1818 году было под семьдесят, мечтают о возвращении своих огромных состояний. Отсюда название — «Музей древностей», потому что именно так называли собрания этих людей. Если Париж для жителей Алансона — это цитадель удовольствий, то парижане видят в провинции мирную гавань, в которую они стремятся, скрываясь от долгов, спасаясь от любовных скандалов, а то и от обвинений в подлоге или убийстве. За последнее преступление правосудие карает жестоко: виновного на два часа выставляют на всеобщее обозрение, как во времена позорного столба, затем клеймят каленым железом и отправляют на каторжные работы в Тулон. Бальзак знал, что один из родственников Эжена Делакруа подвергся именно такому наказанию.
15 июня 1839 года Бальзак добавил к своему владению в Жарди еще один земельный участок. Теперь у него было два дома и еще один, построенный Юбером, а также 4,4 гектара земли. Земля обошлась в 10 тысяч франков, постройки — в 42 тысячи. Но где взять эти деньги? Бальзак чувствовал, что силы его на исходе. Неужели снова «бросаться в работу, словно в бездонную пропасть»? Не лучше ли продать авансом свои будущие произведения, скажем, на десять лет вперед? Но и в том и в другом случае его ждет жизнь, полная лишений: «Какое несчастье родиться бедным, но с сердцем художника!»
2 июня, прогуливаясь по саду, он упал. Пришлось провести в постели 40 долгих дней. Кончился хлеб, кончились свечи, кончилась бумага. Не было покоя от кредиторов, на его след снова напала национальная гвардия. В январе 1839-го он уже побывал в тюрьме. В августе он отправил Еве Ганской одно из самых горьких писем:
«Жарди грозит гибель. А ведь я уже почти закончил стройку, остались какие-то пустяки. Но мне все равно не жить спокойно, пока я не расплачусь со всеми, кому должен, а должен я целое состояние. Тысячефранковые билеты проваливаются, как суденышки в море. Литературный труд становится все неблагодарнее. Издатели хотят получить все рукописи сразу, а критики считают, что я слишком много пишу».
Тем не менее в Жарди Бальзак пережил и радостные моменты. К нему приезжали друзья, веселые люди, с которыми ему было приятно проводить время. В числе самых верных почитателей — Леон Гозлан, впоследствии написавший книгу «Бальзак в домашних туфлях», Шарль Лазайи, «человек с крупным телом, управляемым не менее крупным носом», Лоран-Жан, любивший называть Бальзака «деткой», «дорогушей» и «любимым».
Лоран-Жан занимался интерьерами парижских особняков, в частности, оформлял жилье барону Джеймсу де Ротшильду. Не чужд он был и литературы, но сам себя именовал «лакеем Бальзака».
4 августа 1877 года «Жокей» поместил подписанный Морисом Регаром некролог, посвященный Лорану-Жану. В нем описывается внешний облик этого человека: «Лицо асимметричное, фигура совершенно перекошенная… Он не ходил, а словно подпрыгивал, опираясь на палку. Худ был настолько, что гвоздь в его присутствии сгорел бы от стыда за свою тучность. Нос его больше всего напоминал нос хищной птицы». Лоран-Жан нередко именовал себя «мизантропом без тени угрызений совести». При этом его преданность Бальзаку не знала границ. «Добродетели Бальзака, — говорил он, — посрамляют мои собственные, в том числе самую достойную — ничегонеделанье». Будучи завзятым остряком, он особенно ценил в других чувство юмора.
Как и во времена «Истории Тринадцати», Бальзак, не забывший девиз «Один за всех и все за одного», мечтал собрать вокруг себя преданных друг другу единомышленников в некое общество или ассоциацию. Журналисты, конечно, «злыдни», но без них не обойтись. Не может быть, чтобы в редакциях газет совсем не нашлось порядочных людей, верных и надежных. Пускай Леон Гозлан завяжет с ними знакомство, а Бальзак пригласит их потом к себе на обед. Необходимо вооружиться «копьями „Пресс“, алебардами „Котидьена“, ружьями „Журналь де деба“, мушкетами „Сьекля“. Только так можно править миром».
Гозлан составил список. Бальзак просмотрел его и против каждого имени сделал пометку: такой-то не понял «Серафиту», такой-то осудил безнравственность Горио, этот вообще никогда не писал о Бальзаке, этот жалкий трус, про которого и говорить не стоит… Одним словом, безгрешных в списке не оказалось.
По-настоящему счастливо он прожил в Жарди только одно лето 1839 года. Он радовался, что сбежал от сырости и духоты Парижа под сень могучих деревьев; мечтал, что разведет плантацию редких культур (ананасов и апельсинов, особенно ценимых гурманами), будет продавать их на бульварах, а на вырученные деньги жить.
Эгоизм творчества не давал Бальзаку страдать от одиночества, а когда ему становилось слишком грустно, он писал Еве Ганской: «Я вижу в вас лучшую часть собственного „я“. Работать для меня значит любить вас. […] Вы — воплощение моей честности и порядочности».
16 августа Бальзак добился-таки того, что его избрали президентом Общества литераторов, а затем переизбрали 25 декабря. 9 января 1840 года его сменил на этом посту Виктор Гюго.
Он не мог знать, что и здесь его подстерегут акулы бизнеса. Постоянно нуждаясь в деньгах, Бальзак занял у неких дельцов энную сумму под свои будущие театральные постановки. И в сентябре 1840 года в его мирный уголок Жарди явилась целая армия судебных исполнителей в сопровождении мускулистых грузчиков, чтобы помочь ему поскорее освободить помещение.
ДЕЛО ПЕЙТЕЛЯ, ИЛИ ЖЕРТВА ЛЮБВИ
11 ноября 1838 года на Андерском мосту, близ Беллея, некий нотариус по имени Себастьян Пейтель, бывший по совместительству критиком в газете Жирардена, застрелил из пистолета свою жену. Правда, сам Пейтель заявил, что жену убил не он, а Луи Рей, слуга, который целился в него самого, но промахнулся, после чего разъяренный нотариус якобы нагнал убийцу и размозжил ему голову ударом молотка.
Следствие довольно быстро убедилось, что вина за оба убийства лежала на самом Пейтеле, заставшем свою жену, молоденькую креолку, с любовником — Луи Реем.
Гаварни обратился к Бальзаку: «Человека казнят, и только вам под силу его спасти». Свидетельские показания настолько не соответствовали всему, что знал Бальзак о Пейтеле, с которым прежде встречался, что он написал: «В его вспыльчивой натуре они усмотрели лицемерное вероломство и из порядочного человека поспешили сделать преступника, избавившегося от жены с целью получить наследство».
9 сентября Бальзак и Гаварни посетили Пейтеля в тюремной камере. Если Пейтель и убил, рассуждал Бальзак, то сделал это из страсти. Люди же, способные на страсть, заслуживают того, чтобы их оставили жить.
Пейтель был готов взойти на эшафот, не желая поступиться своим достоинством и признать, что жена обманывала его со слугой.
Бальзак ничем не смог помочь Пейтелю. Пейтель был осужден и 28 октября 1839 года казнен на гильотине.
Почему Бальзак принял так близко к сердцу это безнадежное дело? Может быть, его память воскресила дядю Луи Бальса, казненного в Альби в 1819 году? Бернар-Франсуа страшно не любил, когда в семье вспоминали про этого дядю. Не всколыхнуло ли дело Пейтеля в душе Бальзака застарелые угрызения совести? Во всяком случае, оно стало еще одним доказательством того, что помимо суда юридического со всеми его кассациями и прошениями о помиловании существует и другой суд — суд писателя. В «Сельском священнике» Жан-Франсуа Ташрон, подобно Пейтелю, никому не откроет имя женщины, ради которой он пошел на убийство. Отчаянные головы черпают свои силы в гордыне; не признавая себя виновными, они, как им кажется, очищаются внутренне от своих грехов.
«ОЖИДАЯ ОТ БУДУЩЕГО ОДНИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПРОСЛЫТЬ ПРОРОКОМ»[45]
Опубликованный в апреле-мае 1839 года в «Сьекль» роман «Беатриса» вызвал бурю возмущения «добродетельной публики». Шутливое описание «костлявой» Беатрис крайне не понравилось мадам Луи Денуайе, тощей, как гвоздь, жене главного редактора. Набрасывая портрет женщины, Бальзак осмелился подробно остановиться на ее груди, он употребил слово «сладострастие», вложив в него самый плотский смысл в отличие, например, от Сент-Бёва (Бальзак называл его «Сент-Бевю»[46]), который в подобном контексте предпочитал говорить «мрачное наслаждение».
12 и 13 мая 1839 года в Париже вспыхнуло восстание республиканцев, которые заняли городскую ратушу и Дворец правосудия. Обыватели страшно перепугались, и виновные понесли самое суровое наказание: Барбеса приговорили к смертной казни, изменив затем приговор на вечную высылку из страны. Месяц спустя, 2 июня, Бальзак поранил ногу и на 40 дней свалился в постель. В этих обстоятельствах он написал свое «Письмо Жана Фету бедным людям».
Жан Фету — просвещенный провинциал, прибывший в столицу, чтобы разобраться в причине беспорядков. «У нас во Франции хватает несчастий, вот только мы никак не можем составить себе о них ясное представление». Фету разделяет всех людей на три группы: «1) те, кто все понимает и правдиво рассказывает об увиденном остальным; 2) те, кто все понимает, но лжет; 3) те, кто не понимает ничего и способен верить любой чепухе».
Наиболее опасна вторая категория, то есть лжецы. Типичный представитель этой группы пользуется в обществе всеми правами, потому что не считает себя никому ничем обязанным. Его, этого «жирного борова», заботит лишь то, чтобы в летнюю жару он мог пить холодное вино, а зимой подогретое бордо, Францией же он управляет, меньше всего думая об ответственности. Бальзак придумал для такого персонажа прозвище «господин Соглашатель».
Такой господин произносит пустые речи, слегка сдобренные оптимизмом, и любит рассуждать о новом обществе.
14 мая Бальзак, купивший еще один небольшой дом с двумя комнатами на первом и втором этажах, на три летних месяца сдал одну из них Гидобони-Висконти. Он мечтал об устройстве парка, о покупке других домов, ведь благодаря железной дороге от Севра до Парижа стало возможным добираться за какие-нибудь четверть часа. Ему хотелось заняться разведением редких культур, все тех же ананасов или «синих» роз, за которые цветоводческое общество обещало премию в 5 тысяч франков.
На глинистой почве трудно заниматься земледелием; но еще большие проблемы возникли с постройками. В апреле обрушилась стена дома. Надо было вызывать землекопов и поднимать участок, подмываемый водой. Хорошо еще было бы нанять садовника, лучше всего — с женой. Для поездок в Париж необходимо было обзавестись экипажем, сделать планировку сада, закупить растения, заплатить архитектору Юберу, у которого векселей скопилось на 2795 франков, и большая их часть ничем не была обеспечена. Бальзак смотрел на «швейцарскую долину» Виль-д’Аврей, опирающуюся на гору Сен-Клу и спускающуюся к Сене, и чувствовал, как сам он катится куда-то под откос.
Славно было бы исчезнуть, остаться лишь строкой в энциклопедии: «Мне кажется, я скоро покину Францию и пущусь в какую-нибудь сумасшедшую авантюру где-нибудь в Бразилии. Эта мысль греет меня именно своим безумием. Я больше не в силах влачить существование, которое вынужден влачить. Довольно пустых хлопот. Бумаги и письма сожгу. Останется мебель, останется Жарди, а я уеду, доверив пустяки, которыми дорожу, дружбе сестры. Она сохранит эти сокровища получше любого дракона. Выдам кому-нибудь доверенность, пусть используют мои сочинения, отправлюсь ловить фортуну, которая от меня ускользает, а потом или вернусь, разбогатев, или никто так и не узнает, что со мной сталось. Я тщательно продумал этот план и к его осуществлению приступлю уже зимой. Мой труд не дает мне средств, чтобы расплатиться с долгами, значит, следует поискать нечто иное. У меня осталось еще лет десять активной жизни, и, если я ими не воспользуюсь, значит, я никчемный человек. Мой отъезд могут ускорить некоторые обстоятельства, но как бы срочно я ни был вынужден действовать, с вами попрощаться успею. Если получите письмо с маркой из Гавра или Бордо, вы все поймете!»
Это письмо написано 3 июля 1840 года.
В начале этого года Бальзак связывал свои надежды с пьесой «Вотрен», в которой главную роль предстояло сыграть знаменитому актеру Фредерику Леметру, с триумфом выступавшему в «Кине и Роберте Макейре». Согласно правилам 16 января автор передал текст пьесы в цензурную комиссию. Уже 23 января он получил ответ: в постановке отказать. Бальзак немного переделал пьесу, но снова получил отказ: «Произведение представляет опасность для нравственности и общественного порядка». Руководство театра «Порт-Сен-Мартен» решилось проигнорировать мнение цензуры, и в марте приступили к репетициям. Действительно, министр внутренних дел Шарль де Ремюза и директор департамента изящных искусств Каве не особенно пристально прислушивались к рекомендациям цензурной комиссии. Премьера состоялась 14 марта. Три первых акта показались публике затянутыми и не очень понятными, кое-кто засобирался уходить, когда в четвертом акте на сцене наконец появился Леметр-Вотрен в образе генерала Крустаменте — посланника императора Мексики, молодого государства, добившегося независимости от Испании. Он весь был увешан ожерельями, бриллиантовыми бляхами, носил шляпу в перьях и длинную саблю. Одним словом, одет был, как попугай. Говорил он гортанным голосом, подражая мавру. Накладные волосы и бакенбарды делали его похожим на карикатурное изображение Луи-Филиппа. Пресса встретила пьесу в штыки, а министр внутренних дел запретил ее дальнейший показ. Директор театра Арель подсчитал убытки, составившие 600 тысяч франков, и объявил себя банкротом. Бальзак, с которым приключился «приступ горячки», укрылся у сестры, в доме 28 по улице Фобур-Пуасоньер.
Рассчитывая на прибыль от постановки «Вотрена», Бальзак заранее продал авторские права на нее за 5 тысяч франков плюс ростовщический процент в две с половиной тысячи Антуану Помье, агенту Общества литераторов, президентом которого он больше не являлся, и Пьеру-Анри Фуллону. Оба эти кредитора в судебном порядке потребовали продажи мебели и построек в Жарди. В апреле Бальзак предложил Фредерику Леметру еще две вещи — «Ричарда Губчатое Сердце» и «Меркаде», но актер, зная, что театр «Амбигю» готовился восстановить «Кина» Дюма, ему даже не ответил. 17 ноября по иску «литераторов» Помье и Фуллона судебный исполнитель арестовал имущество Бальзака. В Жарди ему оставили только кровать и постельные принадлежности.
«Я почти превратился в бродячего пса», — писал Бальзак матери.
Его неудачи взволновали весь Париж. Шарль Рабу писал Филарету Шаслю о том, что «Бальзака скоро продадут с потрохами». Против него начата настоящая травля. Где он ночует? Может быть, прячется под кроватью у Дельфины Гей? Ламартин представил в Палату доклад о литературной собственности и потребовал создания общей литературной кассы. На обсуждение явились только Бальзак и Виньи. Депутаты отклонили проект Ламартина. 25 марта Жирарден дал обед, на котором об этой неприятности уже никто не вспоминал. Были приглашены Ламартин, Гюго, который произвел на всех сильнейшее впечатление, Бальзак, развлекавший общество, Россини, тонкий ценитель женской кожи, уверявший, что «парижский атлас» ни в какое сравнение не идет с «русской шкуркой».
Еще 1 октября 1840 года Бальзак перевез свои вещи из дома 19 по улице Рейнуан в дом 19 по улице Бас в Пасси, который и стал отныне его жилищем. Арендная плата в размере 650 франков в год была внесена от имени Этьена-Дезире Грандемена и Филиберты Луизы Бреньо, родившейся в 1804 году в Ньевре. С этой дамой, бывшей любовницей Анри Латуша, Бальзака познакомила Марселина Деборд-Вальмор. Он слегка переиначил ее фамилию в Брюньоль. Почтовый адрес Бальзака, по которому ему писала Ева Ганская, на некоторое время стал таков: Пасси, улица Басс, дом 19, господину де Брюньолю.
Бальзаку страшно не хотелось терять Жарди. Ему удалось найти человека, согласившегося оформить на свое имя официальную продажу имения. Им стал архитектор Жан-Мари Кларе, проживавший на улице Мартир в доме 23. Лишь три года спустя, в 1843 году, Бальзак на самом деле продал то, что сам называл «своим безумием». Затея с имением обошлась ему в 100 тысяч франков, а Сильвену Пьеру Бонавентуре Гаво, с 1840 по 1844 год выступавшему в роли «опекуна» Бальзака, удалось найти покупателя всего лишь на 20 тысяч.
Во всех этих передрягах Бальзака спасало лишь то, что он сознательно настроился принимать от жизни все, включая «нищету и битву с нищетой», но в любых обстоятельствах «хранить благородство характера и не ломаться под ударами судьбы».
В своем будущем романе «Альбер Саварус» он расскажет о человеке, который беззаветно и горячо влюблен в женщину и которого преследует одно несчастье за другим. Сам Бальзак уже давно понял, что единственный способ победить несчастье заключается в том, чтобы оставаться к нему равнодушным.
Только поэтому он не падал поверженный очередным ударом судьбы, а вновь и вновь пробуждался к жизни, словно весенний цветок. Ему нужны были отвага и мужество, чтобы не переставать восхищаться собой, уважать себя и любить себя так, как его никто не любил.
МИЛОСТЬ ГОСПОДА
10 мая 1840 года Бальзак написал Еве Ганской, что заканчивает работу над новым романом. Он имел в виду «Сельского священника», в котором хотел показать, как «в цивилизованном обществе проявляет себя кающийся католик».
Первые наброски он сделал в сентябре 1838 года, однако эту работу приходилось все время откладывать. 2 июня 1839 года он упал, затем его поглотило дело Пейтеля, затем провалился «Вотрен», затем последовал арест имущества в Жарди… Несмотря на все эти события, с 1 по 7 января в «Пресс» была опубликована первая часть «Сельского священника» (вторая появилась 30 июня — 13 июля того же года). Издатель Суверен ждал от него окончания романа. 8 августа 1840 года он отправил к Бальзаку посыльного, и тот вернулся с 68 страницами рукописи.
В октябре у Бальзака под руками уже был готовый набор, и он приступил к переделке текста. 20 февраля 1841 года «Сельский священник» вышел книгой, а чуть позже, 8–13 марта в «Мессаже» появились четыре отрывка из романа.
Действие «Сельского священника» разворачивается в Лиможе. Бальзак побывал в этом городе в августе 1832 года вместе с молодым Ниве, племянником Зульмы Карро.
В доме ярмарочного торговца, женатого на дочери жестянщика, в 1802 году родилась девочка Вероника — существо удивительной красоты, «кроткая, как агнец». Вероника росла, а став девушкой, поражала родителей тем, что по вечерам читала им «Жития святых» и «Душеспасительные письма». Однажды ей под руку попался роман «Поль и Виргиния», и благодаря этой книге с ее глаз «спала пелена, под которой до поры были скрыты тайны Природы».
Лицо Вероники, обезображенное оспой, в минуты молитвы преображалось и становилось прекрасным.
Настал день, когда крупнейший лиможский банкир Пьер Граслен, «чудовище лицом», попросил руки Вероники. На свадебной церемонии ее усыпали драгоценностями и цветами, а жить ей отныне предстояло в самом красивом доме города.
В замужестве Вероника подурнела и стала еще строже, так что ее прозвали святошей. На самом деле она чувствует зависть окружающих и борется с ней своими средствами, отказываясь от любых благ этого мира. У нее нет ни лошадей, ни экипажа, ни повара. Вероника ни гроша не тратит на себя, щедро раздает милостыню.
Перед смертью отец Вероники советует ей обратить внимание на одного «необыкновенного человека» — рабочего фарфорового завода Жана-Франсуа Ташрона.
В марте 1829 года в Лиможе произошло чрезвычайное событие. Местный скряга папаша Пенгре, имевший привычку по ночам ходить на поле люцерны, где у него закопаны горшки с золотом, чтобы добавить к своему сокровищу новую монетку, найден мертвым. Убита и его служанка.
Все подозрения падают на Ташрона. Он покупал металл, чтобы сделать отмычку, клочок его рабочей блузы, оторвавшийся во время схватки, найден рядом с местом преступления, вечером в день убийства его видели слоняющимся возле дома Пенгре, наконец, он не ночевал в ту ночь у себя. Правда, всем известно, что этот кроткий и смирный молодой человек в последний год часто не ночевал дома, иногда по нескольку дней сряду.
Количество украденного золота было так велико, что Ташрон не мог унести его один. Ташрона арестовывают, заодно прихватывают и его сестру. Ни тот ни другая ни в чем не сознаются, но и ни слова не говорят в свою защиту. Они молчат, как если бы поставили своей целью кого-то выгородить. В городе болтают, что речь идет о некоей светской даме, с которой у Ташрона завязался роман, так что дело якобы дошло до того, что оба собирались бежать в Северную Америку.
Заслуживает ли Ташрон казни? Мнения судей разделились. Если его отправят на гильотину, наследникам Пенгре никогда не узнать, куда он спрятал золото на 100 тысяч франков.
Есть лишь один человек, аббат Бонне, который служит в Монтеньяке, родной деревне Ташрона, где по-прежнему живут его родители, и который может убедить его во всем сознаться. Должен же он рассказать, где припрятал денежки! Именно такого мнения придерживается викарий епископа Дютей, с которым полностью согласен епископ Лиможа.
Ташрон ничего не рассказал кюре Бонне, хотя исповедовался перед казнью. Перед тем как приговор привели в исполнение, он успел сообщить сестре и брату, что сокровища Пенгре спрятаны на одном из островов реки Вьенны. Деньги следует вернуть наследникам.
В те самые дни, когда совершается казнь над Жаном-Франсуа, у Вероники рождается сын. Спустя два года умирает ее муж, но Вероника отказывается от нового замужества и переезжает в Монтеньяк, где муж когда-то по ее просьбе купил ей имение на деньги от ее приданого. Монтеньяк представляет собой совершенные развалины, но Вероника с помощью бывшего каторжанина Фаррабеша принимается его обустраивать. У Фаррабеша золотые руки, и никто лучше него не умеет возиться с саженцами, ухаживать за посадками и очищать лес от сухостоя. В образе Фаррабеша нашла воплощение давняя идея, которой горел еще отец Бальзака: не нужно ни тюрем, ни каторги; преступников следует перевоспитывать в особых мастерских, какие должны быть в каждом округе.
Благодаря системе ирригации, созданной инженером, напоминающим Сюрвиля, Монтеньяк превращается в райское местечко, утопающее в зелени садов и парков. И вода, которая весело журчит, сбегая в долину, словно бы смывает с души Вероники память о совершенных грехах, ибо читатель уже догадался, что сообщницей Ташрона была конечно же она. Жизнь ее постепенно становится «чистой, как зеркало вод, и безмятежной, как небо». Деятельный труд на благо людям «наполнил ее душу миром, какого она давно не испытывала».
Урок «Сельского священника» прост. Любовь к земле и к людям помогает Веронике сделать Монтеньяк цветущим садом. «Душу следует возделывать», как возделывают сад. То же самое относится и ко всей Франции. Бальзак со страхом наблюдает, как во Франции поднимается пролетарская волна, он считает, что необходимо любым путем противостоять раздроблению крупных владений и даже вернуться к обсуждению вопроса о принадлежности земель, национализированных с 1793 по 1798 год.
Французам пора перестать заниматься пустой болтовней и осознать, что им необходима «политика оздоровления». Следует восстановить природную среду в том виде, в каком ее оставили предки, а затем перейти к спасению нации через семью, вырвать у прессы ее «ядовитое жало» и оставить только те газеты, которые могут приносить пользу, заставить Палату заниматься своим настоящим делом, и тогда «религия снова обретет свои права над народом».
— Что ж, господин кюре, у вас, оказывается, имеется целая программа! — говорит инженер Жерар аббату Бонне.
Бальзак все подвергает сомнению. В 1840 году он пишет статью «О рабочих». Чтобы на земле цвели сады и осуществлялось промышленное развитие, нужен мир, а мир — это труд под руководством власти, сосредоточенной в руках единого правительства. «Государственные деятели доверяют миру внутри страны меньше, чем за ее пределами. Они все шарят глазами в поисках какого-нибудь гения власти, одного из тех, кто устраивает 18 брюмера и 13 вандемьера, и ждут, что он явится установить свою власть, потому что те, кто правит сейчас, восстановить ее не могут».
Бальзак выступал за сильную власть. Порядок в человеческой вселенной базируется на единой власти, благодаря которой разрозненные фантазии индивидуумов складываются в общее действо. Власть не обязательно означает тиранию, ибо она служит выражением жизненного духа. Каждый должен сказать себе, что субъект, заключенный внутри каждого из нас, это не просто я, но вся Вселенная, частицей которой является Человек. Успешное становление Человека на земле — необходимое условие прогресса, условие всеобщего выживания. Нельзя сказать, что Творение устремлено к Богу, как нельзя сказать, что оно заложено в нас изначально, а мы лишь разыгрываем сценарий, принятый задолго до начала существования мира. Всякое творение есть наше преображение, и оно следует путями преображения. Мы живем в Творении и вместе с ним. Оно — наш неразлучный спутник.
Таким образом, Человек у Бальзака также становится создателем жизни, которая является его неотъемлемой собственностью.
БУНТ БАЛЬЗАКА
Когда доходит до последнего, остается лишь молчать.
Сьейес
13 июля 1840 года Бальзак подписал договор с Арманом Дютаком, конкурентом Жирардена. Оба издателя окончательно разошлись, когда в июле 1836 года лопнул их план совместного выпуска недорогой ежедневной газеты. С тех пор Жирарден возглавил «Пресс», Дютак — «Сьекль». Обе эти газеты выходили ежедневно, цена годовой подписки не превышала 40 франков, что стало возможным благодаря активной рекламной деятельности. Широкое распространение этих газет представляло собой уникальный в мировом масштабе феномен.
К концу 1836 года Дютак организовал трест, объединивший пять-шесть газет, в том числе «Шаривари», «Карикатюр», «Газет дез анфан», «Геп». Чуть позже к ним присоединилась «Ревю литерер» Альфонса Карра. Кроме того, Дютак владел типографией и имел собственный театр — Театр дю водевиль. К Бальзаку он относился с уважительным восхищением и только в течение 1840 года опубликовал шесть романов и эссе писателя (в «Сьекль» и «Карикатюр»), Он же напечатал впоследствии «Дочь Евы», «Беатрису», «Пьеретту», «Маленькие неприятности супружеской жизни», «Письмо о процессе над Пейтелем». В июле 1840 года Дютак предложил Бальзаку стать его компаньоном и основать журнал «Ревю паризьен» — ежемесячное издание объемом в 125 страниц, которое предполагалось продавать по одному франку за экземпляр. По условиям договора Бальзак бесплатно предоставлял в распоряжение редакции рукопись, за что ему причиталось участие в прибыли.
К 25 сентября 1840 года в свет вышли три номера «Ревю паризьен». Расходы составили 7173 франка, доход — 5372 франка. Для первого номера Бальзак предоставил рассказ «З. Маркас», выражавший отношение автора к режиму Июльской монархии. Молодежь обобрали, говорится в рассказе. Революция, которую она совершила, стала «добычей сов, боящихся дневного света. […] Но опасность не за горами, и когда она настанет, молодежь снова поднимется, как поднялась в 1793 году, готовая на новые прекрасные свершения. […] Не верю, что нынешние силы продержатся еще десять лет». Зефирен Маркас умирает в 1838 году от нервной горячки, потому что «слишком глубоко влез в кратер власти». Умирая, он видит наступление Республики, когда, после смены двадцатого по счету министра, начнется агония власти.
Бальзак обязался вести в «Ревю паризьен» рубрику литературной хроники. Здесь он высмеял роман Сент-Бёва «Пор-Рояль», назвав его «мелким дождичком, пробирающим до костей». «Пармскую обитель» он сравнил с чудом, хотя позволил себе несколько критических замечаний в отношении композиции и с ошибкой написал фамилию Стендаля. Виктора Гюго он неизменно хвалил, именуя его «величайшим поэтом XIX века». Одобрительного отзыва заслужил и Фурье, по мнению Бальзака, продолжатель дела Иисуса, который сумел претворить на практике добрые побуждения, систематизировать их и «впрячь в социальную телегу». В своей статье «О рабочих», опубликованной 25 сентября 1840 года, Бальзак вслед за Фурье рассуждал о том, что необходимо «добиться равновесия», унифицировать сколь возможно производительные силы, разукрупнить заводы и создать промышленно-сельскохозяйственные объединения. Тогда продукция сельского хозяйства будет потребляться рабочими на месте. Крестьянин будет продавать свой урожай, рабочий будет сыт, а на долю посредников ничего не останется.
В номере «Ревю паризьен» от 25 августа 1840 года Бальзак поведал читателям о том, что при правительстве существует некое бюро общественного сознания, возглавляемое бывшим банкиром Авасом. Он первым получает газеты со всего мира и каждое утро докладывает Тьеру — «великому знатоку мелочей» — о состоянии общественного мнения. Полиция также поставляет ему информацию. Сотрудники Тьера на основании полученных данных составляют бюллетень, который через префектуры рассылается в редакции газет. Журналисты именуют этот бюллетень «хозяйским гласом». Бальзак выступил с разоблачением этого «министерского эскадрона». Утром Тьер у себя в особняке принимает своих верных посланцев. «Здесь, под руководством мадам Доне, мажутся маслом бутерброды, которые предстоит проглотить публике».
Таким образом государство, объединившись с крупнейшим банком, надзирает и руководит прессой, промышленностью, финансами. Это тюремная политика, смягчаемая хорошо обкатанными фразами.
Бальзак взывает в своей статье к «героям», которыми, как он полагает, не оскудела еще земля Франции. Распознать героя несложно: «Во Франции великим может оставаться лишь отверженный».
ТРУД КАК ЛУЧШЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
14 апреля 1841-го, а затем 2 октября того же года Бальзак подписал договор на издание 20-томного собрания своих сочинений. Каждый том предполагалось издать тиражом три тысячи экземпляров, авторский гонорар должен был составить 50 сантимов с тома, то есть 30 тысяч франков, из которых половина выплачивалась автору немедленно. Название цикла — «Человеческая комедия» — впервые упомянуто в 1840 году; в договоре с Шарлем Фюрном (1794–1859) от 2 октября оно было повторено снова.
Сын торговца с улицы Сен-Дени Фюрн некоторое время служил в управлении таможни, а в 1825 году открыл типографию на улице Огюстен, 37. Он специализировался на выпуске книг по истории, и в числе печатаемых им авторов фигурировали Тьер, Минье, Анри Мартен. Он стал единственным из подписавших с Бальзаком договор издателей, кто полностью осуществил выпуск «Человеческой комедии». Свои права на это издание в 1846 году он передал своему приказчику Александру Уссио.
В 1839 году Бальзак отправил Еве Ганской всего четыре письма, в 1840-м — шесть, в 1841 году — пять. Переезд Бальзака из Жарди в Пасси под именем господина де Брюньоля запутал Ганскую, и отныне она адресовала свои письма его издателю Суверену. Она полагала, что Бальзак женился. «Письма мои редки оттого, что не всегда у меня есть деньги на почтовые марки». Действительно, оплата маркой тяжелого письма в Россию стоила 10 франков. Бальзак уверял, что вынужден ютиться в крысиной норе. По сравнению с тремя домами в Севре его квартира на улице Рейнуар и в самом деле казалась тесной. Рабочий кабинет и библиотека были объединены в одну «ячейку». С декабря 1840 года он был вынужден поселить у себя мать, которая совершенно лишилась средств. 63-летняя дама прибыла на новое место жительства со своей периной, своими стенными часами, подсвечником, парой простыней и бельем.
Мадам де Бальзак «свела бы с ума любого, а я и так близок к помешательству под грузом своих замыслов, работы и вечных неприятностей». Между Оноре и старой дамой тлела давняя ненависть, в основе которой была ненависть ребенка, искренне привязанного к равнодушной матери. Теперь мать словно решила окончательно испортить ему жизнь. К тому же она слишком уж старательно играла роль «нищенки».
«Мадам де Брюньоль» сумела навести в доме на улице Рейнуар видимость хоть какого-то порядка. Она вела домашнее хозяйство, следила за оплатой счетов и помогала Бальзаку держать в порядке бумаги, потому что ему приходилось одновременно работать над «Беатрисой» для «Сьекль» и над «Великим провинциалом в Париже» для «Пресс».
И, наконец, «мадам де Брюньоль» охраняла его от ненужных приключений. Так, в определенный момент в его жизни возникла некая Анетта, которую Бальзак вскоре отправил к Дютаку, чтобы тот ее пристроил, специально подчеркнув, что «верить этой даме ни в коем случае нельзя». Затем была история с Элен Валетт, дочерью капитан-лейтенанта из Рошфора. В 17 лет эта девушка вышла замуж за нотариуса господина Горжона, но уже через 22 месяца овдовела и вступила в связь с романистом Эдмоном Кадором. Одновременно она поддерживала самые близкие отношения с неким офицером и даже имела от него ребенка. В 1839 году она приехала в Жарди, но, не застав Бальзака, убралась восвояси. Перед премьерой «Вотрена» Элен ссудила Бальзаку 10 тысяч франков, который в благодарность посвятил ей «Сельского священника». Весьма вероятно, что Бальзак вместе с ней ездил в Бретань с 25 апреля по 8 мая 1841 года.
За весь 1841 год Бальзак не получил от Евы Ганской ни одного письма. Она не поздравила его ни с Новым годом, ни с именинами, ни с 42-летием. Неужто она заболела? Оноре так волновался, что даже обратился за консультацией к некоему Бальтазару — магу-сомнамбуле, по случаю не брезговавшему и абортами. (В 1842 году Бальтазар был осужден на десять лет каторжных работ.) Бальзак ходил к нему несколько месяцев. Ясновидец описал ему Еву Ганскую и сказал: «Вы любите друг друга уже давно. Что касается вас, то вы никогда не любили никого, кроме нее». «Каждое его слово, — вспоминал Бальзак, — заставляло меня глубоко осознать собственную глупость». Бальтазар предсказал получение важного письма через шесть дней, шесть недель или шесть месяцев. Письмо пришло 5 января 1842 года, и из него Бальзак узнал о кончине господина Ганского, последовавшей 29 ноября 1841 года. Ева Ганская потеряла не только мужа, но и ребенка, которому едва исполнилось два года. Таким образом, из пятерых ее детей в живых оставалась только старшая дочь, 14-летняя Анна. Бальзак посвятил Анне «Пьеретту» — один из самых жестоких своих рассказов. Его Пьеретта — это та же Козетта, живущая у Тенардье, хотя действие рассказа происходит в прекрасном Провене.
К брату и сестре Рогронам, темным и непросвещенным торговцам с улицы Сен-Дени, приезжает кузина, Пьеретта Лорен. Весь Провен восхищается молоденькой девушкой, тогда как ее родственники всячески третируют бедную Пьеретту: кормят кое-как и заставляют делать всю черную работу по дому. Они мечтают, что от недоедания и тяжкого труда она умрет, и тогда они получат наследство. Но тут появляется друг детства Жак Бриго, который вырывает Пьеретту из рук алчных родственников. Увы! Слишком поздно. Жак уже ничем не может помочь Пьеретте, разве что своими руками сделать для нее гроб и предать тело несчастной девушки земле.
Теперь, когда Ева овдовела, Бальзак придумал целый план, касающийся Анны. Анну «нужно выдать замуж за умного и богатого человека». Тогда за Евой останется право распоряжаться всем своим имуществом, Анна будет богатой, а Ева свободной! «О! Напишите же мне, что ваше существование отныне навсегда связано со мной!»
«Жить в Париже? — отвечает она. — Никогда!» Ева послушно повторила урок, внушенный теткой, Розалией Ржевуской. Напомним, что мать этой дамы закончила свои дни 30 июня 1794 года на гильотине.
Впечатлительная Ева уже видела и себя, и дочь жертвами республиканцев-французов: «Если у меня отнимут мое бедное дитя, я умру».
Бальзак чувствовал, что почва уходит у него из-под ног:
«Вы используете свою дочь против меня. Вы говорите, что должны стать всем для дочери, потому что в ней ваше утешение, а я не значу для вас ровно ничего, хотя вы знаете, что вы — для меня все». Для пущей убедительности Бальзак вспоминает все свои любовные приключения. Он смело в них признался, ничего не утаив и не боясь осуждения. Каждый шаг в своей жизни он совершал под знаком любви к Еве. Он оплатил эту любовь мужеством и высшей требовательностью к себе. «[…] Ко мне приходила не одна женщина, но никто из них не смог выдержать эгоизма (ложного!) моего постоянного труда. Все они сбежали. Да, моя дорогая, самое нежное в мире существо (получающее примерно десять удовольствий в год) живет в полнейшей изоляции и в глубочайшем одиночестве. Посчитайте сами. Вот уже 18 месяцев я живу в Пасси, работаю день и ночь, а до этого я жил в Жарди, где вообще не слыхал ни о каких развлечениях. […] Чтобы заработать 30 тысяч франков в год, мне нужно написать четыре книги, а что такое три месяца для работы над целым романом, который я еще к тому же должен выправить так, как привык править (у меня нет ни одной страницы, которую не пришлось бы набирать 17–18 раз)! […] Вспомните обо мне вечером 14 марта!»[47]
КИНОЛА, ИЛИ УДАЧИ И ПРОВАЛЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Как все новаторы, правоту которых подтвердило будущее, — изобретатель ткацкого станка Жозеф Мари Жаккар (1752–1834) или придумавший льняное волокно Филипп де Жирар (1775–1845), — при жизни Кинола встречает одно непонимание. Век испанского золота, в который ему выпало жить, отнюдь не облегчил его существование. Он изобретает пароход, на котором золото и серебро с американских рудников можно гораздо быстрее доставлять в испанские порты, но глава инквизиции усматривает в использовании пара происки дьявола: «И пар, и Кальвин… Это уж слишком». Моряки также против паровой машины на корабле.
В «Одеон» эту пьесу принес актер Проспер Вальмор, женатый на Марселине Деборд-Вальмор. Театр потребовал от автора внести кое-какие изменения: подчеркнуть характерные черты героев, подработать главный женский образ Фостины, которая «должна харкать кровью, повергая зрителя в дрожь», наконец, добавить действия в пятом акте.
Бальзак уже прикидывал, сколько ему принесет постановка. Гонорар перечисляли на имя некоего Шарля-Франсуа Стюбера, проживавшего по улице Лиль в доме 97. Вероятно, Стюбер был подставным лицом.
Выступит ли в роли Фостины Бранкадори Мари Дорвать? Ее участие наверняка принесло бы спектаклю успех. Актриса велела Бальзаку прочитать ей пьесу… Читка «Кинолы» состоялась в театре «Одеон» 29 декабря 1841 года. Четвертого и пятого актов еще не было, и автор импровизировал на ходу. Кажется, ему удалось выкрутиться. Тем не менее Мари Дорваль играть отказалась. Не согласилась на роль Фостины и мадемуазель Жорж. Окончательный выбор пал на Елену Гансен, до того не выступавшую в главных ролях и наверняка не умевшую «харкать кровью».
Начались репетиции. Бальзак крутился как волчок, ухитряясь бывать в десяти местах одновременно. К тексту пьесы он относился точно так же, как к любому другому своему произведению, никогда не считая его «окончательно доработанным». Он вносил поправки в диалоги, переделал весь заключительный акт. Актеры раздражались, не понимая, для чего они учили текст, который назавтра следовало забыть.
Генеральная репетиция «Кинолы» состоялась 16 марта 1842 года, премьеру назначили на 19 марта. Бальзак рассказывал позже о «настоящей битве», напомнившей ему премьеру «Эрнани». Здесь он, пожалуй, немного преувеличил, хотя без шума не обошлось. Во-первых, он сразу отказался оплачивать услуги клаки, и представители этой почтенной профессии, все-таки явившиеся на спектакль, были полны мстительных чувств к автору. Во-вторых, он не разослал бесплатных билетов критикам, вместо этого организовав продажу билетов по цене, втрое превосходящей обычную, в конторе, устроенной на улице Вожирар, 37[48]. Критики как ни в чем не бывало пришли в театр и обнаружили, что на «их» местах восседают маркиз де Лас Марисмас, Александр Мари Агуадо, господа де Варона и Мартинес де Ла Роза, герцогиня де Кастри, барон и баронесса Ротшильды… «Нахальство, с каким господин Бальзак решил проблему распределения билетов, граничит с грубостью», — написала после премьеры «Монитор».
19 марта пьесу освистали. Свою неблаговидную роль в этом, конечно, сыграла мстительная клака, не получившая привычной платы. Не отставали от клакеров и оскорбленные критики. К пятому акту спектакль стал разваливаться на глазах. Актеры запаниковали и начали лепить ошибку за ошибкой. В итоге зрелище получилось действительно жалким.
«Провал „Кинолы“, — написал Рене Гиз, — знаменовал чрезвычайно важный этап в жизни Бальзака. Он означал крушение больше десяти лет лелеянных надежд добиться „финансовой независимости“».
После неудачи в театре Бальзак выпустил эту пьесу отдельным изданием по 6 франков за экземпляр. «Купите лучше Мольера за 5 франков, — писал в этой связи журнал „Ревю эндепандант“, — еще целый франк сэкономите».
«Пьеса плоха, — отзывался о ней Генрих Гейне, — но это произведение, проникнутое творческим духом. Я прочитал разгромные рецензии и возмущен до глубины души. Можно подумать, что их писали евнухи, тыкающие пальцем в мужчину, от которого родился горбатый ребенок».
5 апреля 1842 года Бальзак писал матери, просившей у него помощи, что мадам де Брюньоль собирается уехать из Пасси, жизнь в котором стала невыносимой. За последний год его литературные дела пошатнулись. Продажа Жарди не в силах переломить ситуацию: «У меня останется лишь мое перо и чердак». Подходили сроки платежей сразу по нескольким векселям, и Бальзак съехал из маленькой квартиры на улице Ришелье, 100, где обычно отсиживался, когда его особенно донимали кредиторы. Провал «Кинолы» мог серьезно повредить продаже томов «Человеческой комедии», первый из которых должен был выйти в свет 16 апреля 1842 года, второй ожидался в сентябре, а третий — в ноябре.
О ПРИВИДЕНИЯХ И ДОХОДАХ
20 декабря 1841 года русский путешественник Владимир Муханов познакомился у секретаря посланника России в Париже с «неким господином де Бальзаком». «Этот господин утверждает, что скоро в Париже будет не достать молока, потому что земельную собственность в конце концов разделят на слишком крохотные кусочки».
Мадлен Фаржо обнаружила в рукописях Бальзака наброски романа «Крупный землевладелец», речь в котором идет именно о разделе земли. Проблема «дробления земли между наследниками» давно занимала Бальзака и стала одной из его навязчивых идей. Этой теме он посвятил «Маркиза де Карабаса в вотчине Кокатрикса», написанного еще в 1832 году. Сюжет романа разворачивается вокруг молодой девушки-сироты, вынужденно покидающей фамильный замок. Урсулу Мируэ выживает троица родственников — дядя, племянник и его любовница, которая, получив дядино наследство, выходит за племянника замуж. Примерно та же интрига, основанная на алчности завистливых родственников, легла в основу романа «Возмутительница»: проживающие в Немуре семьи Массенов, Левро и Миноре ждут не дождутся кончины 80-летнего Миноре, знаменитого лекаря Наполеона, богача-миллионера.
Бальзак, замышлявший одно время «Историю наследования маркиза де Карабаса», в 1836 году набрасывает «Наследников Буаруж», предполагая обобщить в этом романе свои соображения о спорных наследствах. Отголоски этого замысла прослеживаются в трех его произведениях: «Урсуле Мируэ», «Крестьянах» и «Возмутительнице», написанных примерно в одно и то же время, то есть в 1842 году, хотя роман «Крестьяне» так и остался незавершенным.
Перенесемся теперь в Польшу и попробуем узнать, что поделывает овдовевшая Ева Ганская.
Ее тоже окружает свора наследников, претендующих на имущество покойного Ганского.
По условиям брачного контракта Ева Ганская получила право пользования всем имуществом мужа. Но тут на горизонте возник один из кузенов Ганского, некто Карл Ганский, потребовавший себе пожизненную ренту. Кузена, впрочем, беспокоила не столько доля наследства, сколько утрата фамильного поместья, которой он опасался в случае нового замужества вдовы. Кузен оказался человеком чрезвычайно энергичным, и уже в январе киевский губернатор вынес решение, в соответствии с которым единственной наследницей была признана Анна, а ее опекуном назначен, разумеется, Карл Ганский.
Бальзак не мог не увидеть в этой истории развитие сюжета «Наследников Буаруж» и «Урсулы Мируэ». Бедная сиротка Урсула — это, разумеется, Анна. Умерший отец Анны в «Урсуле Мируэ» превращается в ее здравствующего крестного — доктора Миноре, который приютил у себя в Немуре «приемную племянницу», очаровательную белокурую девушку. В своем белом муслиновом платье она так мила и грациозна! Урсула даже ухитряется вытащить своего крестного, с презрением называвшего Церковь «бабской причудой», к обедне. Успешно «уловив» заблудшую душу, Урсула может, в свою очередь, рассчитывать на недурной улов в виде завещания, хотя на наследство доктора Миноре она не имеет никаких прав, если, конечно, доктор не решит на ней жениться.
Вокруг Урсулы и доктора роем вьются родственники. На их стороне судья Бонгран, бывший поверенный из Мелена, «который повидал на своем веку столько, что давно разучился удивляться, и которому ведомо, какие бездны разверзаются в сердцах, когда ими заправляет интерес». Упорнее остальных ведет себя Миноре-Левро, который в конце концов и добьется наследства, заручившись поддержкой судьи и некоего клерка по фамилии Гупий. Миноре-Левро заведует местной почтой, и в городе его называют «хозяином Немура», что не мешает его жене с успехом водить его за курносый нос. Внешне это слоноподобный гигант, напоминающий «Атласа, но без царя в голове». Ради наследства доктора Миноре, — а это 40 тысяч ливров ренты, — он готов на все: «Не успел доктор сомкнуть веки», как он сжег письмо с завещанием, лишающим его и двух других соискателей вожделенного наследства. Он ничего не боится, потому что уверен, что «закон охраняет мошенников».
Как помочь Еве и Анне Ганским защитить свои интересы? Бальзак много думал над этим: «Наследство, как красивая женщина, требует ухода, без которого и то и другое недолговечно».
Бальзак предлагает Еве и Анне средство, изобретенное им для спасения Урсулы Мируэ. В январе-феврале 1842 года, готовясь к майскому изданию «Урсулы Мируэ», он тщательно изучил тот раздел французского права, который защищает наследников от алчных родственников.
Он нашел «путь, которым Господь ведет невинность к победе». Речь идет о фидеикомиссе — завещательном отказе в пользу лиц, поименованных в бухгалтерской книге.
Урсула пойдет именно этим путем, подсказанным не нотариусами, судьями или поверенными, а гласом судьбы, которую олицетворяет провидица-сомнамбула. Доктор Миноре советовался с сомнамбулой в Париже, хотя той ничего не стоит оказаться где угодно: «Хоть за двадцать лье отсюда, хоть в Китае».
«Попросите ее перенестись ко мне домой, в Немур».
И сомнамбула видит дом доктора, Урсулу с кормилицей в саду. «Кормилица работает в саду», а Урсула… мечтает о любви «сына живущей напротив дамы» — Савиньяна де Портандюэра.
«— Урсула любит меня! — воскликнул доктор Миноре.
— Почти так же, как Господа Бога, — с улыбкой отвечала сомнамбула. — Вот почему она так страдает от вашей недоверчивости».
Миноре проверил, правдиво ли было видение гадалки. Оно оказалось точным. На доктора снизошла благодать, и он проникся религиозным чувством.
После смерти доктор Миноре в виде архангела четырежды является Урсуле, но его гонят прочь из дома, и он находит приют в харчевне Буживаля. Призрак касается своей ледяной рукой плеча Урсулы и замогильным голосом говорит: «Мертвым следует повиноваться». Из его пустых глазниц капают слезы. В свое четвертое появление доктор сулит скорую смерть сыну Миноре-Левро, укравшему завещание, если Урсуле не вернут замок Рувра и 80 тысяч франков ренты.
Урсула выходит замуж за Савиньяна де Портандюэра, и они образуют «всеми любимую пару». Миноре-Левро, согласно зловещему предсказанию, становится развалиной.
Но Ева Ганская не захотела воспользоваться рецептом, данным в «Урсуле Мируэ», и отозвалась о романе как о «девичьем рукоделии».
ПОРОШОК ДЛЯ ЖДУЩИХ НАСЛЕДСТВА
Это снадобье, которым во времена Людовика XIV торговали Лезаж, Ля Вуазен и Ля Вигуре, помогало нетерпеливым наследникам приблизить желанный миг получения наследства.
Сюжет «Возмутительницы» построен на цепи убийств, совершаемых внутри одной семьи. Читателю становится ясно, что такие методы, как моральное унижение, кража, подстрекательство старика к разврату, а женщины к алкоголю, действуют не менее смертоносно, чем пресловутый «порошок».
Рене Гиз относит возникновение замысла «Возмутительницы» к 1830–1831 годам. Канва романа проста: племянник мечтает о наследстве и подсовывает дядюшке «восхитительную любовницу»; дядюшка умирает, племянник женится на любовнице, а законным наследникам ничего не достается. Как и «Урсула Мируэ», «Возмутительница» является фрагментом более крупного замысла — романа «Наследники Буаруж», который так и не осуществился.
Действие романа происходит в Иссудене, где мы знакомимся с довольно странным семейством. У доктора Руже двое детей, сын и дочь. Доктора терзают сомнения относительно Агаты, которая, как он подозревает, появилась на свет вследствие неверности жены. Ему не хочется видеть дочь, и он отсылает ее в Париж, где она выходит замуж за секретаря министерства внутренних дел Бридо. Отец с самого начала избрал своим единственным наследником своего сына Жан-Жака, а дочери решил не оставлять ничего.
«Возмутительницей» доктор Руже прозвал одну 12-летнюю девочку, которую случайно увидел во время купания. Она плескалась в ручье, и прозрачная вода вокруг нее поднималась мутными волнами. Автор поясняет, что выражение «мутить воду» в Берри конкретно означало шлепать по воде «разлапистой веткой, отчего притаившиеся на дне раки всплывают и попадают прямо в ловушку, расставленную рыбаком».
Крестьянская девочка вскоре станет служанкой доктора, а затем и любовницей его сына — отъявленного шалопая, которого только любовь и могла немного образумить.
Вынужденные переезды Бальзака с места на место, смерть Ганского, а затем и появление «Парижских тайн» с их героиней — уличной певицей, чем-то похожей на его собственную «возмутительницу», как считает Рене Гиз, «привели к тому, что работа над романом, замысел которого полностью сформировался, заняла более двух лет, одновременно придав окончательному варианту удивительную широту, богатство, плотность и многообразие».
«Возмутительница» Флора Бразье к своим двадцати семи годам успевает сделаться полновластной хозяйкой в доме Жан-Жака Руже, богатого человека, располагающего сорока тысячами франков ренты. Она сладко ест и мягко спит, эта «свежая толстушка, дебелая, словно фермерша из Бессена». Будь она получше воспитана, вполне могла бы походить на знаменитую актрису «мадемуазель Жорж периода расцвета».
Любовница-служанка по-прежнему моет и скребет, ходит на рынок и готовит еду, «изнуряя себя работой» с утра до вечера. Жан Саван полагал, что прототипом этого образа послужила Филиберта де Брюньоль — домоправительница Бальзака на улице Басс.
У Флоры Бразье имеется и любовник — красавец Максанс Жиле, которого в округе считают незаконным сыном доктора Руже. Бывший солдат и участник Испанской войны, он попал в плен и провел немало времени в плавучей тюрьме в Кабрере, этой «школе скорби», где заключенным, чтобы выжить, приходилось убивать друг друга ради корки хлеба и глотка свежего воздуха.
В 1817 году Максанса избирают в Иссудене «великим магистром ордена кавалеров Праздности».
В изобретении этого «ордена Бездельников» проявилась любовь Бальзака к фарсу, которая не покидала его несмотря на все несчастья. Проделки Максанса и его банды возмущают весь Иссуден. Так, «рыцари-бездельники» прознали, что местный переплетчик страшно боится бесов, и, переодевшись в чертей, прокрались в его лавку. Бедняга решил, что заживо угодил в ад. У сборщика налогов, который вечно жаловался, что ему холодно, эти молодцы перебрали камин, да так, что из того начал валить густой и удушливый дым. Некая набожная женщина, часами молившаяся у лампады, в один прекрасный день обнаружила, что ее лампада превратилась в огнедышащий вулкан. Из дома скупца, жалевшего дрова на отопление, они вытащили во двор печь и сожгли под открытым небом весь его дровяной запас. Близким и дальним родственникам одной старухи, с нетерпением ожидавшим, когда та отправится в мир иной и оставит им наследство, они разослали письма с приглашением присутствовать на вскрытии завещания и потешались, наблюдая, как в гости к почтенной даме явилось «80 человек, облаченных в траур».
Агата Бридо к этому времени овдовела. Она по-прежнему живет в Париже, и у нее растут два сына. Старший из них, Филипп, поступает на военную службу. В 1815 году он уже подполковник, но в 20-летнем возрасте на половинном жалованье выходит в отставку и уезжает в Соединенные Штаты. Эта поездка производит в его душе самые ужасные перемены, потому что назад он возвращается совершенно испорченным человеком, настоящим шалопаем. Пьер Ситрон полагает, что в образе Филиппа Бридо Бальзак, словно в кривом зеркале, отобразил все собственные недостатки — навязчивые мысли о самоубийстве, вытягивание денег у матери, постоянные долги, всю свою непутевую жизнь. Второй сын Агаты, Жозеф, служит «идеальным зеркалом». Этот молодой человек сосредоточил в себе лучшие и достойнейшие качества. Талантливый и требовательный к себе художник, он стремится к успеху, не жалея сил и демонстрируя мужество и волю. Агата тем не менее любит и жалеет лишь Филиппа, а Жозефа бросает прозябать в нищете.
Филиппу Бридо запрещено покидать пределы страны, и он решает поселиться в Иссудене, где живет его дядя, Жан-Жак Руже. Здесь он затевает ссору с Максансом Жиле. Молодые люди дерутся на дуэли, и Филипп убивает Максанса. Затем он устраивает так, что его богатенький дядюшка женится на «возмутительнице», которая должна чересчур острыми для старика удовольствиями ускорить его конец. Филипп отправляет «молодоженов» в Париж, где проститутка Лолотта угощает дядю таким плотным обедом, от которого тот испускает дух. «Возмутительница» получает наследство и тут же выходит замуж за Филиппа. Но это еще не конец. Филипп намерен в очередной раз прибегнуть к помощи волшебного «порошка». Он постепенно приучает жену к алкоголю, и Флора Бразье быстро спивается.
Между тем Филипп, словно хищный ястреб, уже почувствовал вкус власти. В годы правления Карла X он возвращает себе звание подполковника; добивается представления дофину и дофине; поступает в национальную гвардию; получает титул графа де Бранденбурга; сватается к мадемуазель де Суланж; становится командором Почетного легиона и ордена Святого Людовика.
Однажды дождливым вечером мать и брат, пешком возвращающиеся домой, встречают Филиппа, который проезжает мимо них в роскошной карете, обитой желтым шелком и украшенной гербами с графской короной. На нем парадный мундир с орденскими лентами, и он направляется на праздник в королевский дворец. Филипп презрительно «посмотрел на мать и брата взглядом, полным превосходства».
Великолепная сцена! В ней Бальзаку удалось взглянуть на карьериста теми же глазами, какими Данте с Вергилием взирали на грешников, осужденных на вечные муки.
«И МОЕ СЕРДЦЕ НЕ ЛИШЕНО ВООБРАЖЕНИЯ»
Наверное, Ева Ганская считала, что помогает Бальзаку в творчестве, когда посылала ему лоскутки своих старых платьев для «чистки перьев». Так оно и было. Писатель называл эти «драгоценные черные тряпочки» напоминанием о милой Лине.
В апреле 1842 года он заперся дома и погрузился в напряженную работу над романом «Альбер Саварус», историей человека, потерпевшего неудачу во всех своих начинаниях. Как и сам Бальзак, его герой легко переносит мелкие уколы судьбы, но только не равнодушие любимой женщины: «Если я ей надоем, это разорвет мне сердце. От одной этой мысли я страдаю больше, чем от ударов всех камней, какими в меня бросали».
В своем новом романе Бальзак именно так и ставит вопрос: что будет, если «я ей надоем»?
Альбер Саварус — это Бальзак в начале своей карьеры, когда он стремился к славе — сначала литературной, затем и политической — только ради того, чтобы быть любимым.
Кабинет Альбера Саваруса удивительно напоминает кабинет его создателя. Прямо напротив рабочего стола у него висит картина, изображающая поместье Верховня — такую же картину пришлось обрезать по краям, потому что в кабинете Бальзака на улице Басс для нее не хватало места. Альбер Саварус хранит портрет своей возлюбленной, — сам Бальзак хранил вначале копию, а затем и оригинал портрета Ганской работы Дефингера. Благодаря этому присутствию своей «вечной супруги», озаряющему его волшебным сиянием, он чувствует, что его существование наполняется глубоким смыслом.
Альбер Саварус, подобно Бальзаку, прежде всего — корнелевский герой, превыше всего ставящий долг. В своей автобиографии, озаглавленной «Любовь толкает к славе», он пишет о «необходимости добиться известности, чтобы соответствовать тому высокому социальному положению, которое занимает его кумир». Он мечтает о депутатском кресле, жаждет испытать свои силы в мире власти. Но чтобы стать депутатом и набрать необходимое число голосов легитимистов, необходимо жениться. Но разве может он жениться, если у него уже есть «идеальная супруга» — герцогиня д’Аргайоло, чей ангельский и в то же время неукротимый лик глядит на него с портрета? «Люди с таким характером всегда живут под девизом — все или ничего». И Альбер Саварус снимает свою кандидатуру с голосования.
«Вы свободны», — написала Бальзаку Ева Ганская в письме, которое он получил 21 февраля 1842 года. «Вы даже не представляете, сколько душевных сил убило во мне ваше письмо», — отвечает он. Бальзак «готов ждать», он снова и снова пишет об этом Еве. В отличие от него, Альбер Саварус смирился со своей долей. Узнав, что герцогиня выходит замуж за герцога де Реторе, он переезжает в Трап и становится нотариусом.
«Кто ты? — вопрошал Бальзак Еву. — Ты говоришь мне: „Вы свободны…“ Для чего тебе понадобилось убивать меня?»
В ноябре 1842 года Ева Ганская переехала в Санкт-Петербург, где рассчитывала выиграть судебный процесс против Карла Ганского. В этом городе она свела знакомство с графом Петром Федоровичем Балком, истинным джентльменом, бывшим любовником мадам де Сталь и Жюльетты Рекамье. 66-летний «старик»-граф поражает окружающих «благородством и изысканностью». И принимается ухаживать за Евой Ганской. Неужели «Альбер Саварус» превратится в зловещее предзнаменование?
«„Альбер Саварус“ — очень мужская книга», — отзывается Ева Ганская о романе. Бальзака удивило, почему ее «не тронула такая сильная и самоотверженная любовь, ради которой Альбер перечеркнул свою жизнь».
Впрочем, как выяснилось, Бальзак несколько сгустил краски и испугался раньше времени. Ева Ганская — отнюдь не герцогиня д’Аргайоло, она заверяет, что ждет его в Санкт-Петербурге.
Дни бегут быстро, и вот уже на дворе июль 1843 года. Буквально за несколько ночей Бальзак сочиняет «Онорину», затем пишет роман «Муза департамента», опубликованный с продолжением в газете. В июне 1842 года Бальзак во время выборов побывал в Арси-сюр-Об. Результатом поездки стал замысел романа «Депутат из Арси». Бальзак намеревался создать его как политический роман, повествующий об истории жизни Максима де Трайя — «гуляки», решившего остепениться, обзавестись женой и сделаться заправским депутатом. Бальзак надеялся отразить в этом полотне весь спектр политической жизни своего времени.
Этот роман должен был стать такой же картиной политической жизни, какой в отношении культурной жизни стали «Утраченные иллюзии», но Бальзак вскоре отказался от реализации своего замысла.
16 ноября 1842 года он подписал кабальный договор с банкиром из Ланьи Луи-Фортюне Локеном. За 7 тысяч франков он обязался представить по истечении пяти месяцев рукопись трех новых романов.
Поэтому, прежде чем собираться в дальнюю дорогу, ему следовало подумать об исполнении условий контракта.
ТРУД, ДОСТОЙНЫЙ ГЕРАКЛА
26 апреля 1843 хода Бальзак писал банкиру Луи-Фортюне Локену:
«Нынешнее состояние вещей таково, что „Жизненный дебют“ вы сможете опубликовать с 15 сентября нынешнего года. […] Однако вы просите также немедленно приступить к работе над „Давидом Сешаром, или Муками изобретателя“.
Текст „Жизненного дебюта“ Локен получил, ему оставалось лишь разбить его на части для публикации в нескольких выпусках газеты „Лежислатюр“ (с 26 июля по 4 сентября).
Второй роман под названием „Давид Сешар“ Бальзак предложил банкиру взамен „Провинциального депутата“. Локен согласился, ибо полагал, что чем дальше от политики, тем лучше.
Оставался еще третий роман. Бальзак решил воспользоваться сюжетом „Рыбы-ската“, которую предлагал Жирардену после публикации в 1836 году „Старой девы“. Но подписчики сочли „Старую деву“ непристойной, и напуганный Жирарден потребовал от автора, чтобы тот изложил ему содержание будущего произведения. „Рыбой-скатом“ завсегдатаи дома терпимости прозвали одну из проституток за ее способность одурманивать клиентов и доводить их наслаждением до изнеможения. Ни один человек не в силах противостоять колдунье. „Рыба-скат“ могла бы ввести в оцепенение самого Наполеона».
И хотя в 1836 году Жирардена называли «Наполеоном прессы», он отказался печатать «Рыбу-скат».
В 1838 году, в Жарди, Бальзак набросал начало этой повести, в котором описывалось, как куртизанка решила покончить с собой. «Над мостом Искусств» — так назвал автор этот набросок. Эстер Гобсек, перебывавшая любовницей едва ли не каждого «кутилы» из числа персонажей «Человеческой комедии», жила в закрытом пансионе, пока ей не захотелось испытать свою душу в большой настоящей любви. В новом варианте романа Бальзак ввел уже знакомых читателю действующих лиц: Жака Колена, Вотрена из «Отца Горио», Рюбампре и Нусингена. Изменился и заголовок. Теперь роман должен был называться «Любовь старого миллионера» или «Любовь банкира».
С 21 мая 1843 года этот текст начал выпусками печататься в газете «Паризьен» под названием «Эстер, или Любовь старого банкира». В качестве продолжения читателю были предложены фрагменты «Блеска и нищеты куртизанок». Но окончание цикла, запланированное на 2 июля, так и не увидело свет. «Паризьен» отказалась его печатать, и ни одна другая газета не выразила желания перенять эстафету. Подписчикам газет не полагалось сочувствовать «продажным женщинам», даже если последние вели себя, как истинные «барышни».
В виде книги роман был впервые издан Поттером в августе 1844 года. «Блеск и нищета куртизанок» вошли в XI том «Человеческой комедии», увидевший свет в том же 1844 году. Затем, в ноябре 1846 года, «Эпок» напечатала «Преступное воспитание» — третью часть «Блеска и нищеты куртизанок».
Помня об этой хронологии, нам легче представить себе, в каком напряжении пребывал Бальзак, принимая 4 июня 1843 года решение перебраться для работы непосредственно в типографию Ланьи. Он собирался сделаться «машиной по производству фраз», деля жизнь и быт типографских рабочих. Это означало работать сутками напролет, ночевать здесь же, на походной кровати, «не тратя времени на беготню и пустые споры».
«ПИСАТЬ ПОД ДИКТОВКУ ПАМЯТИ»[49]
«Мое сердце полно мертвецов, словно кладбище…» — писал Флобер. Роль писателя как раз в том и состоит, чтобы этих «мертвецов» оживить, неважно, нравятся они автору или нет.
Бальзак уже рассказал о том, что сталось с Люсьеном де Рюбампре в Париже («Великий провинциал в Париже», июнь 1839 года). Теперь ему захотелось по принципу контраста описать, как жил в Ангулеме друг Люсьена Давид Сешар. Именно над этим текстом, обещанным «Эпок» и Локену, он и работал в Ланьи.
Бальзак давно вынашивал замысел романа, посвященного типографскому делу, которое, так же как писательство, требует целостности. Человеку, решившемуся заниматься этим ремеслом, следует выбирать между истинным профессионализмом и общественной деятельностью. Герой Бальзака отличается редкими душевными качествами, он относится к своему делу добросовестно и в общем-то преуспевает.
Отец Давида Сешара держит в Ангулеме типографию, в которой и работает его сын. Молодому человеку кажется недостаточным просто продолжать семейное предприятие, к тому же в нем сильна изобретательская жилка. Ему хочется усовершенствовать типографское дело, и он готов ради этого многим рискнуть. Мастером цеха у него работает Люсьен де Рюбампре, впрочем, пока что просто Люсьен Шардон. Давид очень привязан к другу, и когда тот уезжает в Париж, женится на его сестре Еве. Он же ссужает Люсьену две тысячи франков — все, чем сам располагает.
Идея Давида Сешара, этого «Жаккарда бумажной промышленности», заключается в том, чтобы производить бумагу из сорных растений: камыша, крапивы, чертополоха. Отметим, что действие романа, создававшегося в 1843 году, происходит в 1823-м, а уже с конца XVIII века многие умы бились над тем, как использовать в производстве бумаги растительные волокна. Чуткий к новым веяниям Давид Сешар — в сущности, двойник самого Бальзака — фактически на 30 лет опередил время, потому что соответствующий патент был получен Мелье лишь в 1854 году.
Как и предвидел Сешар, уже начиная с 1875 года в производстве бумаги отказались от использования слишком дорогих тряпичных отходов, правда, не в пользу «сорняков», а в пользу целлюлозы, получаемой путем химической обработки древесины.
Применение новой технологии не только удешевило бумагу, но и снизило вес готовой продукции. Ценой изобретения стало уменьшение долговечности книг: «Из двух миллионов книг, изданных во Франции с 1875 по 1960 год и хранившихся в Национальной библиотеке, 90 тысяч пришли в полную негодность, 580 тысяч находятся в крайне плохом, а еще 600 тысяч — в относительно плохом состоянии»[50].
Столь далеко Давид Сешар не заглядывал. Собственное открытие совершенно захватило его. Он отмахивается от предостережений отца, который считает, что негоже коммерсанту превращаться в изобретателя, и устанавливает во дворе типографии огромную печь с медным котлом, в котором кипит и пенится растительная смесь. Наконец настает день, когда печь выдает волокно, по плотности напоминающее «конский волос». Он зовет отца, тот, как истинный ремесленник, пробует волокно «на вкус» и одобрительно кивает. Но Давиду кажется, что качество бумаги все еще недостаточно высоко и что опыты следует продолжить. Увы, денег больше нет.
Давиду грозит долговая тюрьма, и он вынужден заключить договор с владельцем крупнейшей в Ангулеме типографии Куэнте. Патент на изобретение получает Куэнте. Из всех открытий Сешара он берет себе лишь то, что может безотлагательно принести доход: способ производства веленевой и почтовой бумаги. Книгоиздание его не интересует.
Куэнте выбирают депутатом, а при Луи-Филиппе он становится пэром Франции. Удачная женитьба дает ему шансы претендовать на пост министра торговли. На долю изобретателя Давида Сешара остаются одни разочарования. Брошенный всеми, он влачит свои дни на жалкое наследство, оставшееся от отца. Правда, рядом с ним любящая жена и дети, благодаря которым жизнь его превращается в «размеренное существование», которое обычно ведут «мечтатели и коллекционеры».
Открытие Сешара, пишет Бальзак, «напитало огромное голодное тело французской промышленности».
Работа над «Давидом Сешаром» всколыхнула в душе Бальзака уснувшие было воспоминания о его собственном опыте предпринимательства.
Ведь в 1828 году мир безвозвратно потерял Бальзака-бизнесмена, получив взамен Бальзака-писателя.
Впрочем, он сам хранил убеждение, что одно вовсе не мешает другому. Большой писатель, как и великий мистик, обладает практическим складом ума. Деловое чутье у него в крови. Он вовсе не похож на того чудака не от мира сего, каким его принято изображать, а если подчас и принимает отсутствующий вид, то лишь потому, что мысли его заняты делом.
И точно так же, как Бернар Палисси, как и сам Бальзак, Давид Сешар, художник и гениальный практик, становится жертвой нечистоплотных людей, строящих свое благополучие за счет окружающих. «Одни ведут свое происхождение от Авеля, другие — от Каина».
29-летний Бальзак со всем пылом молодости принялся за устройство современной типографии. Он доверял людям, которые собирались его использовать; он искренне верил, что Берни относятся к нему с любовью, тогда как они ждали от него конкретных результатов. И за полгода у него накопилась куча опротестованных векселей, неоплаченных счетов, предупреждений, платежных распоряжений и расписок. На всех этих бумагах стояла его, Бальзака, личная подпись.
Одной из самых волнующих страниц во всей переписке Бальзака с Евой Ганской можно смело назвать ту, на которой он рассказывает ей о двух своих коробках: в одной он держал письма Евы, во второй — бумаги, которые его убедили подписать Берни. Долги свалились на него в «самые суровые годы», а Александр де Берни, не затратив ни гроша, завладел делом, и при этом Бальзак и в 1843 году все еще оставался его должником.
В МАСКЕ И БЕЗ
Лишь те, кого мы любим, знают нас. Но те, с кем мы проводим время, изучают нас и пытаются угадать, что скрывается за нашим внешним обликом. По обрывкам впечатлений они пытаются восстановить целое, и каждый делает это в меру своего понимания. Осознание собственного «я» рождается под многими любопытными взглядами. Мы старательно носим маску, веря, что надежно спрятались от всех, а потом обижаемся, когда нас не понимают… Вот этой, по наитию ведущейся игре и посвящен роман «Блеск и нищета куртизанок».
В книге четыре главных персонажа, и всех их объединяет одно — желание. Этакая коллективная оргия! Скорость, с какой создавался роман, помешала Бальзаку детально прописать каждый образ. Единственный раз он решился обойтись без подробных описаний, и мы не знаем ни выражений лиц, ни особенностей внешности героев. Все их поведение мотивировано инстинктом, который подчас ставит на их пути опасные ловушки. «Обнаженное сердце» — вот то главное правило, покоряясь которому действующие лица «Блеска и нищеты куртизанок», утолив жажду чувственных и душевных наслаждений, стремительно несутся к смерти, венчающей слишком короткую жизнь. Первая часть романа посвящена Эстер, которая кончает самоубийством. Во второй части ей на смену приходит Люсьен, который в финале также не видит для себя иного выхода, нежели веревка висельника.
Главные герои, таким образом, предстают перед читателем словно бы обнаженными, тогда как второстепенные персонажи, напротив, сокрыты так надежно, что их с полным основанием можно назвать людьми в масках. Андре Мальро говорил об «„этнографически убедительном существовании“ Дворца правосудия со всеми его фантастическими подробностями, населенного переодетыми в судей, адвокатов и секретарей существами, подобно тому, как замок из романа „черной серии“ населен призраками». Право же, лучше не скажешь! В «Блеске и нищете» полицейский может оказаться бывшим надзирателем, жандарм, прикинувшийся буржуа, отравителем, тетушка Жака Колена — шпионкой. Повязав голову клетчатым платком, она преображается в торговку-зеленщицу. И та же самая тетушка может появиться во дворце Консьержери в наряде от лучшего портного, с лакеем и экипажем. Под именем мадам де Сан Эстебан она преодолеет все полицейские кордоны.
Маски то ведут себя по-бандитски, то прикидываются порядочными людьми: жесткий воротничок, начищенные туфли, все как полагается. Но без них невозможно развитие интриги. Именно маски посвящают нас в глубоко скрываемую жизнь четырех главных персонажей. Эстер, Люсьен, Нусинген и Колен не догадываются, что маски, сменяя друг друга, давно следят за каждым из них, сами оставаясь неузнанными.
Бальзак понимал, что роман, основанный на инстинктах, нуждается в подробностях, то есть в красноречивых откровениях. Стоит очередной маске приблизиться к будущей жертве, как та «чувствует укол в сердце».
Мальро сравнивал эту книгу с рисунками Виктора Гюго или с домом Рогожина, героя Достоевского. Приходят также на ум верзилы, пугавшие на окраинах Лондона Оливера Твиста, или жандармы, от которых сбежал барон Отто в «Кавалере розы». Но у Бальзака эти силуэты — вовсе не бесплотные тени, а абсолютно реальные личности; они радуются жизни, врут и сплетничают, всегда обо всем знают и тем самым дают пояснения читателю.
Давид Сешар и Вотрен-Жак Колен гораздо ближе друг к другу, чем это может показаться на первый взгляд. Давид — это Бальзак, переживший неудачу и смирившийся с ней, чтобы в конце концов поддаться очарованию, вернее, миражу очарования семейной жизни. Именно о нем вспомнит Толстой, описывая в «Войне и мире» мечты о любви князя Андрея и нежной Наташи.
Жак Колен — это тоже Бальзак, но только высмеивающий мир доносчиков и преступников.
Неужели его миссия подходит к концу? Чем спастись? Горьким презрением? Нет, это не то. Горечь омрачила бы его мечту о спасительной любви к Еве. Безразличием? Но Бальзак так и не смог преодолеть в себе то естество, которое заставляло его писать. Вот Жак Колен. Он преступил не только общественные, но и природные законы, и все же, когда хоронили Люсьена, он рыдал, словно над могилой собственного сына. И Бальзак понял: его спасет смех.
Итак, герои, последовательно появляющиеся в «Утраченных иллюзиях», а затем в «Блеске и нищете куртизанок», — это отражения самого Бальзака в разные периоды его жизни. Вот молодой образованный юноша, полный честолюбивых планов, вот журналист, изобретатель, а вот и властелин душ, призывающий молодежь на штурм «гнусной буржуазии, не умеющей удержать в руках власть».
И НЕЖНОСТЬ…
В образах Люсьена де Рюбампре и Коралии из «Утраченных иллюзий» Бальзак воплотил собственную тоску по нежности. Вспомним, как Коралия в фиакре целует руки своему возлюбленному; как она встречает Люсьена, явившегося к ней пьяным, как умывает его, укладывает в постель и бдит над спящим.
Но и Люсьен примчится к умирающей Коралии.
Он получил заказ на «застольные песни» и всю ночь сочинял их при свете свеч, горящих возле ее гроба. За песенки заплатят 200 франков, и их как раз хватит на приличные похороны.
В «Блеске и нищете куртизанок» продажная женщина Эстер Гобсек мечтает осчастливить весь мир, но никто не понимает ее стремлений. Нусинген не согласен в течение сорока дней быть ей лишь отцом, хотя это к его же пользе.
Эстер без сожалений расстается с собственной добродетелью и обирает Нусингена, своего клиента. Эти деньги ей нужны для ее возлюбленного Люсьена, чтобы тот мог выгодно жениться на другой.
Люсьена мечтает осчастливить и аббат Жак Колен-Эррера: он отправляет его на бал, представляет ко двору.
Эррера заставляет нас вспомнить и о той нежности, с какой Бальзак относился к Еве Ганской, и о том, с каким участием он отнесся к Жюлю Сандо.
В 1834 году, когда Жюля Сандо, можно сказать, у него на глазах выставила вон Жорж Санд, Бальзак решил помочь молодому человеку, сделав из него «соучастника своей судьбы» и своего активного помощника.
Для Бальзака любовь — состояние, заслоняющее собой все остальное. Он не раз повторял это Еве Ганской. Охваченный любовью человек становится словно бы «женщиной, наделенной силой мужчины». Он может заменить тому, кого любит, «мать, сестру, брата, товарища, любовницу».
Любовь — единственное, что позволяет человеческим существам создать вокруг себя особый мир, проникнутый взаимопониманием и взаимоподдержкой. Даря или принимая любовь, мы перестаем быть на земле случайными гостями и становимся истинными чадами жизни.
Суждение Бальзака о Сандо совпадает с тем, как он воспринимал некоторых женщин: «Доброе сердце и трусливый характер». В Сандо оказалось вообще много женственного, включая фигуру и изящество движений. Его письма к Бальзаку проникнуты чисто женскими, обольстительно-завлекающими интонациями. Впрочем, в таком же точно духе выдержаны и письма Сандо к другим людям.
Ни Сандо, ни Люсьен не были «тетками», как на тюремном жаргоне, обожаемом Марселем Прустом, называли гомосексуалистов. Они оба любили женщин, и женщины любили их. Люсьена боготворила Коралия, затем он стал любовником Эстер. С ним обожали «нянчиться» то красавица-англичанка, то Диана де Мофринез, то мадам де Серизи. Все они готовы были отдать за него жизнь, а его смерть пережили, как катастрофу.
Зато Жак Колен женщин не любил: «Понимаешь ли ты, какая глубокая мужская дружба связывает Пьера и Жафье? Женщины на фоне этой дружбы — чепуха».
Прусту показалось, что со страниц «Утраченных иллюзий» на него повеяло «грустью педерастии», хотя сам Бальзак считал это сочинение «Илиадой продажности». Люсьен уже почти решился на самоубийство, когда Жак Колен-Эррера, полюбивший юношу, как самого себя, возвращает ему радость жизни: «Этот молодой человек, да ведь это я сам! Это я создал маркиза де Рюбампре, я запустил его в мир аристократии! […] Его величие — это творение моих рук».
Люсьен садится в карету аббата.
«Отец мой, я к вашим услугам», — говорит Люсьен, видя, как священник запускает руку в кошелек и «трижды высыпает из него по горсти золота».
Было ли в Бальзаке что-нибудь от Эрреры?
В октябре 1834 года Бальзак, устраивая Сандо на улице Кассини, первым делом попытался разобраться, на что он годен. Как секретарь юноша оказался совершенно бесполезным. Тогда Бальзак решил сделать из него писателя. Он снабдил его деньгами, хотя никаких иллюзий относительно его творческих дарований не питал: «Мы договорились, что он изведет бутылку чернил. Бедное дитя, он понятия не имеет о том, что есть такое слово — надо. Он свободен, а я пытаюсь у него эту свободу отнять. Грустно».
Бальзак не в состоянии уразуметь, как можно изменять самому себе. Он не понимает Сандо, которому все время хочется чего-то нового, ибо все на свете ему мгновенно надоедает.
К марту 1836 года, то есть полтора года спустя после того, как Бальзак ввел его в свое «логово», малыш Жюль по-прежнему «рассыпается в словах и ничего не делает». В конце концов под каким-то неясным предлогом он навсегда уходит от Бальзака. «Он сказал мне, что совершенно не способен упорно заниматься чем бы то ни было».
Близкие друзья Бальзака, похоже, восприняли дезертирство малыша Жюля трагически, но Бальзак в таком ключе никогда не высказывался. Если он и жаловался, то лишь на то, как трудно найти себе помощника. Он понимал, что несколько преданных молодых сотрудников сэкономили бы его время — внесение правки в корректуру, связь с типографиями. Ему было бы кого послать по делам… В конце концов от этой идеи ему пришлось отказаться. «Во Франции сотрудничество между мужчинами невозможно. Ему мешает не только самолюбивый эгоизм участников, но и еще по крайней мере четыре причины, делающие немыслимой любую субординацию: ум, талант, имя, состояние».
Бальзак принадлежал к числу тех гениев, которые сами не сознают своей силы, следовательно, не могут понять, что решаемые ими задачи выходят далеко за пределы обычных человеческих возможностей.
Бальзак изнурял себя работой и ждал того же от других. Лишь когда он доводил себя до полного изнеможения, ему становились нужны чьи-то забота и помощь.
10 июля 1843 года Бальзак наконец развязался с кабальным договором, заключенным в Ланьи. Теперь он чувствовал, что готов «лететь» в Санкт-Петербург. Исхудавший, измученный, едва державшийся на ногах, он именно в таком виде решился предстать перед Ганской. Если она согласится принять его таким, если найдет в себе силы залечить его раны, сумеет отнестись к нему, как к больному ребенку, значит, она действительно его любит.
В минуты слабости Бальзак становился Люсьеном де Рюбампре.
НОВОСТИ ХОРОШИЕ И ДУРНЫЕ
18 июля 1843 года Бальзак выехал из Парижа в Дюнкерк. Портной Бюиссон, с 1836 года не получивший от него ни гроша, снабдил его в дорогу гардеробом на 800 франков; ювелир Жаниссе притащил ему на 810 франков драгоценностей, в том числе три обручальных кольца. Каким образом Бальзак собирался расплачиваться? Газета «Эта», в которой печатался «Давид Сешар», прекратила выходить еще 21 июня. Продолжение «Давида Сешара» смогло увидеть свет лишь позже, 28 июля — 14 августа, в новом издании, озаглавленном «Паризьен-Эта».
Бальзак поручил Гаво проследить за соблюдением его авторских прав и получить от Локена причитавшиеся ему 3 тысячи франков. Локен получил-таки свои три романа: «Давида Сешара», «Жизненный дебют» и «Блеск и нищету куртизанок». На их написание у автора ушло меньше девяти месяцев.
В 1843 году Бальзак, до сих пор не имевший права открыто выказать свою давнюю любовь к Еве Ганской, наконец-то смог прилюдно появиться рядом с ней. 28 и 29 июля парижские газеты сообщили своим читательницам бальзаковского возраста грустную новость: любимый писатель бросает их и «едет за женой в Россию».
В самой России эта новость затронула в основном официальные круги.
5 августа 1843 года графиня Нессельроде, жена канцлера, писала своему сыну Дмитрию: «В стенах нашего дома находится тот, кто лучше всех описал чувства женщин. Причиной, притянувшей его в Россию, стала, как мне кажется, одна польская дама, сестра графа Ревутского (!), приехавшая сюда судиться. Они познакомились еще несколько лет назад во время путешествия».
Русская и польская колонии Парижа с 1836 года были в курсе отношений Евы и Оноре. Одна из подруг мадам Гидобони-Висконти, София Козловская, сама ввела Бальзака в несколько гостиных, и то, что она рассказывала о нем, никого не могло оставить равнодушным: этим «низеньким, толстым, большеголовым человечком с носом, словно вылепленным из мягкой резины», восхищается одна полька из высшего света. В этих гостиных Бальзак с успехом и по немыслимым ценам продавал билеты на премьеру своего «Кинолы».
Содержало ли «сентиментальное путешествие» Бальзака еще и пропагандистскую подоплеку?
За несколько лет до этих событий вышла книга Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». И Бальзак, и Ева Ганская эту книгу, конечно, читали, хотя в России ее запретила цензура. Де Кюстин оставил по себе весьма дурную память, Бальзак же искренне стремился оставить добрую. Здесь все зависело от Евы Ганской. Знакомые уже поздравляли ее в самых льстивых выражениях. 31 июля друг Ганской, русский офицер Лев Нарышкин, писал ей: «Я узнал вчера от Императора о недавнем приезде некоего персонажа, на мой взгляд, лучше всех понявшего и описавшего женское сердце. Это вовсе не тот любопытный путешественник, что явился, чтобы описать страну в своем пасквиле; это художник, создавший портрет идеальной женщины и нуждающийся, чтобы поддержать свой гений, в том, чтобы еще разок взглянуть на оригинал».
До отъезда в Россию Бальзаку пришлось обратиться в посольство за визой. Оформить документы ему помог друг, поверенный в делах Павел Киселев. Он знал о бедственном положении Бальзака и наверняка рассчитывал, что с ним можно будет договориться, поручив написать «опровержение клеветнической книги де Кюстина». Наверное, Киселев сформулировал свою идею еще более определенно, не исключено, что он просто приказал секретарю «купить Бальзака», потому что секретарь оставил такие воспоминания: «Впустите, сказал я лакею. Сейчас же предо мной предстал невысокий толстый человек с фигурой хлеботорговца, с повадками сапожника, с плечами бондаря, одетый, как кабатчик. Скажите на милость! У него нет ни гроша, и он едет в Россию! Он едет в Россию, потому что у него нет ни гроша!»
Прибытие «Девоншира» в Санкт-Петербург 29 июля прошло незамеченным. О том, что среди его пассажиров находился Бальзак, пять дней спустя сообщила «Северная пчела», да и то лишь для того, чтобы походя охаять творчество писателя. Бальзак отнесся к этому укусу хладнокровно, посчитав его «рикошетом»: «Я получил оплеуху, причитающуюся Кюстину». Во всяком случае Бальзак прибыл, полный решимости помочь Еве Ганской выиграть процесс. Он надеялся понравиться, вернее, не разонравиться Еве Ганской, которая вела трудную партию. Она оказалась буквально между двух огней. Польских патриотов подозревали в подготовке покушения на царя. Если бы было доказано, что они бунтари и потенциальные убийцы, это неминуемо сказалось бы на положении всего польского народа. Ганская же, полька и католичка, чтобы не портить отношений с Санкт-Петербургом, вынуждена была изображать «коллаборационисту», как бы оправдывая тем самым полицейские репрессии против участников польского восстания, которых поддержала Франция. Русский царь не желал писать избранному королю Луи-Филиппу, ибо в таком случае он должен был обратиться к нему со словами «государь брат мой».
БЛИЗОСТЬ БЕЗ ФАМИЛЬЯРНОСТИ
Рекомендацию «не лезть другим на глаза» он, скорее всего, получил от Евы Ганской. Но и сам Бальзак ничего не имел против этого маленького затворничества. Все-таки долгих восемь лет он не видел свою милую графиню Еву. Ему нужно было ей столько сказать. Оба они стремились наладить свою жизнь, и оба оказались ни с чем: Еву жестоко разочаровала семья, особенно семья мужа; Оноре же вконец замучили кредиторы и парижские критики. Он предпочел бы остаться с ней в одном доме, прекрасном доме Кутайсова с его сундуками и самоваром, маленьким диванчиком с двумя подушками и синим канапе… Для Бальзака все эти предметы олицетворяли то, что он называл семейным уютом. Он долго будет вспоминать о них…
Рано утром Бальзак сбежал из дома Петрова, замученный клопами. Вероятно, Ева поселила его туда из опасения, что на более комфортабельное жилище у Оноре не хватит средств.
В полдень, никем не замеченный, он уже был у Евы и ждал, когда она выйдет. Листал недавно вышедшие книги и прислушивался, не зашелестело ли платье, не скрипнула ли дверь…
Ева часто меняла наряды. Если она выходила в бело-желтом платье, это означало, что они пойдут куда-нибудь вместе. Если в кружевном — значит, она отправится за покупками одна.
Ева частенько оставляла его одного с книгой. Так, она предложила ему прочесть переписку Гёте с Беттиной фон Арним. Любовь старика и молоденькой девушки, свободная от плотской составляющей. Эта сверхчистота вывела Бальзака из себя. Он с яростью швырнул книгу на пол и закричал: «Это уже не литература, а фармацевтика!» Чтобы любовь жила, нужны по меньшей мере два тела!
Бальзак открывал для себя Санкт-Петербург глазами Евы. Он помнил, как они присели на скамью в Летнем саду и она дала ему свою руку; помнил, как они гуляли по Зимнему дворцу, восхищаясь выставленными на обозрение бриллиантами. При виде этих бриллиантов, этого жемчуга Бальзак особенно остро чувствовал, как ограничены его собственные возможности. Никогда он не сможет подарить таких украшений своей Эвелине! И пытается «спасти лицо»: «Капля росы, освещенная лучом солнца, кажется мне во сто крат прекрасней, чем самый лучший в мире бриллиант!» Но как, скажите на милость, повесишь на шею любимой женщине эту «каплю росы»?..
ДВА КРЕСТЬЯНИНА
По вечерам они сидели дома, наслаждаясь покоем. С ними была дочь Евы Анна, так что приходилось вести себя безукоризненно.
В свет они выходили редко, оберегая репутацию. В русском обществе блистали тогда подтянутые молодые люди и ошеломляюще прекрасные молодые женщины. На их фоне Оноре и Ева выглядели простолюдинами: польская графиня и сын альбигойского крестьянина в конце концов действительно стали похожи даже внешне. Она — «полная, если не сказать толстая, сорокалетняя дама маленького роста, с широким лицом и довольно неуклюжей походкой», и он — «маленький и тоже толстый человек с длинными мужицкими волосами, расплывшимся и словно заспанным лицом, похожий на майора интендантских войск».
Собственное постоянство кажется им добрым знаком. Говорят, с годами любовь угасает. К ним это не относится. Все эти годы они не прекращали переписки, они пережили разлуку, разочарования и обиды. Бальзак с детской радостью снова и снова вспоминал первые дни их знакомства.
Она так и осталась для него важной дамой, сохранившей ему верность. Он знал, что это не пустые слова. В апреле 1843 года в Санкт-Петербург приезжал Лист. Бальзак, желая угодить Еве, познакомил Ганских с великим композитором. Они уговорились, что маэстро даст несколько уроков музыки Анне.
Лист очаровал Еву с первой встречи. Она отметила «сладострастный изгиб его влажных губ» и сказала, что, когда он улыбается, «хочется воспарить к облакам». К счастью для Бальзака, от Евы не ускользнуло и недоброе выражение его глаз. «Сразу видно, что дух зла одержал в его душе не одну победу». В мае Лист был частым гостем в доме Ганских. По поручению Бальзака он передавал Еве переводные векселя. Бальзак посвятил ему «Герцогиню де Ланже». С каждым новым визитом Листа Ева делалась все восторженнее, она уже сравнивала его с «сияющей вершиной Альп». Однажды Бальзаку пришлось даже умерить ее пыл: «Вы не можете судить о Листе, пока не слышали Шопена. Если венгр — демон, то поляк — ангел».
Так оно и было. Вершины Листа обрывались в бездну. Ева вовремя разгадала это и продолжала принимать музыканта только ради 15-летней Анны. Бальзаку она пообещала быть с Листом «сверхосторожной», чем заслужила его похвалу.
Можно сказать, что Бальзак и Ева сознательно раздули пожар, чтобы потом радоваться, что им удалось его погасить. Все же эти страсти не на шутку растревожили Еву, которая писала в июне 1843 года: «Признаюсь, отъезд Листа оставил некую пустоту в моей душе. Чувствую, что еще долго мне будет его не хватать… Самые недостатки его казались мне милыми; наверное, его общество действительно таит опасность для юного создания, поэтому я постаралась держать Анну подальше от этого безумного огня, чьи загадочные искры манят к себе и заводят в пропасть».
Бальзак должен был радоваться такой трезвой оценке. Желая успокоить мать взрослеющей дочери, он принялся убеждать Еву, что красота Анны достигла своего пика и в дальнейшем ей грозит лишь угасание. Поэтому, дескать, Анну следует выдать замуж именно теперь. Пройдет совсем немного времени, и она располнеет, а тогда будет гораздо труднее подыскать для нее хорошую партию. Зато Ева вечно останется молодой, потому что ее легкая полнота — признак отличного здоровья.
Верила ли Ева этим откровенным комплиментам? Не будем гадать. Будущее покажет. Пока же она явно видела в Бальзаке большого ребенка, слишком слабого и восторженного, чтобы стать подходящим мужем для такой старой женщины, как она. Она уверяла себя, что как только Анна выйдет замуж, дальнейшее потеряет для нее смысл, и она уйдет в монастырь, чтобы все оставшиеся дни спокойно перебирать четки, вместо того чтобы брать на себя ответственность за глупости своего возлюбленного.
КРАСНОЕ СЕЛО. СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
21 августа граф Александр Бенкендорф передал Еве Ганской приглашение для Бальзака на ежегодный парад императорской гвардии в Красном Селе. Смотр продолжался целый день, войска, выставив вперед штыки, шли и шли по плацу. Приглашение для Бальзака было составлено не совсем по форме. Лев Нарышкин просто нацарапал на листке несколько слов. В конце концов писателя в России лишь терпели, потому ему не следовало афишировать свое присутствие. Ева должна была передать Бальзаку, чтобы он остановился в доме напротив церкви, где разместилась свита императора, оттуда она должна была привезти его в дом к Нарышкину, а уж тот собирался проводить писателя на парад.
Бальзаку нашли место буквально в пяти метрах от царя, откуда от мог рассмотреть его прекрасное, жизнерадостное лицо аристократа. В его бесстрастном выражении Бальзаку чудилась внушенная свыше решимость политическими путями привести свой народ к истине. Русский император один во всей Европе олицетворял принцип самодержавной власти на фоне общей анархии, и Бальзак увидел в личности российского монарха воплощение божественной идеи о том, каким должен быть водитель священного народа. Властью, данной ему Богом, и личной волей император приобщает своих подданных к этой высокой идее, олицетворяя в народном сознании веру в воплощенное Слово Божие.
Стоя рядом с графиней, которая позаботилась о том, чтобы он выглядел прилично и украсила его голову маленькой серой шляпой, Бальзак восхищался разворачивающимся перед его глазами грандиозным спектаклем. Смысл выражения «Мы, милостью Божией Государь и Император всея Руси», которое воспроизведет в своем романе «Мишель Строгов» (1876) Жюль Верн, проник в те минуты в самую душу Бальзака, наполнив ее глубоким пониманием. Впрочем, в его восторженности оставалось место и для трезвой оценки, которую он выскажет в своих позднейших письмах, уверенный, что в них не заглянет цензура. Там он назовет русского царя «букой».
Солнце пекло нещадно, а смотр все длился. Бальзак задыхался от жары, ему становилось все труднее держаться прямо, но он мужественно терпел, пока не почувствовал себя совсем худо. Кончилось все обмороком, похожим на тот, что когда-то свалил его в Саше. На сей раз Бальзак счел себя жертвой солнечного удара. Еще долго после этого у него при малейшем движении нестерпимо болела голова.
ДОРОГАМИ ЕВРОПЫ
Бальзак уезжал в Санкт-Петербург с полной уверенностью, что своим незаурядным умом поможет Еве Ганской выиграть процесс. Но ситуация развивалась для Ганской вполне благоприятно, поэтому ему не довелось применить на практике всю свою мощь, существовавшую, впрочем, лишь в его воображении.
Он уезжал в надежде вернуться если не женатым, то хотя бы уверенным в своей дальнейшей судьбе человеком. Но Ева Ганская никогда не говорила ему ничего определенного о своих планах относительно замужества. Из опасения получить категорический отказ Оноре тоже не решался затронуть эту тему и внести ясность в их отношения.
В письмах он, не позволяя себе даже задуматься над некоторыми недостатками Евы, называл ее самыми ласковыми именами: Эвелиной и Эвеленой, Эвелеттой, Эвелинеттой и просто Линеттой… Конечно, он знал, что она временами бывает злючкой, умеет покрикивать. Общие знакомые в один голос утверждали, что Ева ревнива и подозрительна, что из любого пустяка она умеет раздуть ссору. Многие из тех, кто принимал ее за мягкосердечное и слабое создание, жестоко ошибались. При малейшем намеке на обиду Ева гордо выпрямляла спину, принимая вид «высокомерной и надменной» дамы света.
В решении денежных вопросов ей явно не хватало опытности. Она боялась остаться без необходимого и в итоге тратила на себя и дочь гораздо больше разумного.
Дружба с Бальзаком ей льстила, хотя она едва ли задумывалась о возможном браке с ним.
Во всяком случае, пока она не собиралась даже обсуждать этот вопрос. При малейшем намеке Бальзака она внутренне напрягалась. Да и как он это себе представляет? Неужто она бросит родные украинские просторы, чтобы помчаться в Париж за человеком, который без конца говорит об особняке и роскошной мебели, о славе и состоянии, но всегда в сослагательном наклонении?! Ведь у него даже нет постоянного адреса, зато есть долги, с которыми он не может разделаться уже 20 лет, увеличивая их своими безумными тратами!
7 октября, поняв, что не стоит ждать, пока наступающая зима отрежет Россию от мира, Бальзак собирался в обратный путь.
Он не забыл, как худо ему пришлось во время морского путешествия, и решил ехать домой по земле. От Санкт-Петербурга до Таураге ходил дилижанс, в нем он и поедет. Он не знал, что трое с половиной суток ему придется провести в духоте обитой войлоком повозки, подпрыгивавшей на ухабах. С каждым таким прыжком его голова отзывалась мучительной болью. Грохот внутри кареты стоял страшный, и если кто-то из пассажиров открывал рот, расслышать, что он говорит, было невозможно. Это расстраивало Бальзака, потому что ему попался интересный попутчик — известный русский скульптор, немного говоривший по-французски, к тому же большой весельчак. Его звали Н. А. Рамазанов, а ехал он в Рим. Они познакомились перед самым отъездом, на вокзальной платформе, когда Рамазанов увидел Бальзака «закутанным в шубу, обутым в огромные меховые сапоги, в меховой шапке на голове. Засунув руки в женскую муфту, он притоптывал ногами и ворчал себе под нос: „Ну и городок!“»
О нормальном сне не приходилось и мечтать, о нормальной еде тоже. Хорошо, что Ева Ганская, знавшая порядки на дорогах, велела повару приготовить для Оноре корзинку с провизией: фаршированный язык и несколько бутылок вина.
За неделю путешествия поспать удалось только в Тильзите, где остановились на 12 часов. Позади остались Нарва, Рига, Митава, Таураге; впереди — Кенигсберг и, наконец, Берлин.
В Берлин прибыли 14 октября в шесть часов утра. Голова болела по-прежнему нестерпимо, но Бальзак держался. Вместе с Рамазановым они «за час» обежали берлинские памятники. По сравнению со скучным Санкт-Петербургом, где по огромным пустынным проспектам бродили редкие прохожие, прусская столица с ее «магазинами и толпой» показалась Бальзаку символом «непосредственности, вернее, свободы нравов».
Но уже на следующий день Берлин ему наскучил, ибо он как никто умел за внешней стороной видеть другую, скрытую, зачастую совершенно не похожую на первую.
В гостях у художника Жерара он познакомился с известным натуралистом Александром фон Гумбольдтом, автором «Опыта физического описания мира». Бальзак часто упоминал его книгу, которую называл «Космосом». С Гумбольдтом он состоял в переписке. О том, что слава Бальзака шагнула за пределы Франции, говорит тот факт, что Гумбольдт сам выразил желание нанести писателю короткий визит и передать «приветствие от имени короля и принцессы Пруссии». Бальзака всегда восхищали крупные ученые — Бюффон, Кювье, Гумбольдт, проникшие в тайны мироздания. Автор «Человеческой комедии» видел в них людей посвященных. Они сумели объяснить жизнь земли с помощью безупречной логики и при этом не утратить представления о ее безмерности, в отличие от, например, математиков, пытавшихся свести все знание к абстракции геометрических фигур, или философов, втискивавших его в рамки собственных концепций.
Какой была земля, пока не было человека, какой она станет, когда человек исчезнет? Эти грандиозные вопросы волновали Бальзака.
Во французском посольстве, на приеме у графа де Брессона, Бальзак встретил еще одну знакомую — герцогиню Талейран, бывшую Дино. Хотя со времени их первой встречи прошли годы, она не изменила своего мнения о писателе, по-прежнему находя его «грузным и неоригинальным»: «Он произвел на меня самое неблагоприятное впечатление, которое теперь только усилилось».
Бальзак устал от переездов, но ему пора было собираться в дальнейший путь. Впереди его ждали Лейпциг и Дрезден. Он обдумывал замысел нового крупного произведения — романа «Битва», который должен был занять центральное место в цикле «Сцен военной жизни». 18 сентября 1806 года в Дрездене началось крупное наступление на Пруссию, завершившееся Иеной и Ауэштадтом. «Никогда еще прусская армия не знала такого разгрома. Она была окончательно уничтожена». Замысел этот он так и не осуществил.
В картинной галерее он долго стоял возле «Сикстинской мадонны» Рафаэля, написанной в 1514 году. Картины этого художника вообще производили на Бальзака совершенно особое, завораживающее впечатление. Особенно это относилось к тем полотнам, на которых изображенные женщины играли на музыкальных инструментах, как, например, «Святая Цецилия» из галереи в Болонье. Бальзак словно слышал не только ту земную музыку, что лилась из-под ее пальцев, но и иную, высшую музыку, летящую из бесконечности, с небес… «Сикстинской мадонной» восторгались многие писатели. Для А. В. Шлегеля она воплощала вершину искусства, «высшее наслаждение». Об этом полотне часто упоминает на своих страницах и Достоевский, возможно, не без влияния Бальзака.
Бальзак, как и Рафаэль, сознательно впитал в себя все созданное до него искусство, чтобы развивать его дальше. Романы Бальзака никогда не появились бы на свет, не будь Бюффона, Вольтера, Руссо, Шатобриана, Бенжамена Констана, Сенанкура, мадам де Сталь, Вальтера Скотта, Фенимора Купера. Но в Бальзаке, так же как и в Рафаэле, жил великий новатор, раздвигающий границы дозволенного.
Произведение искусства таит в себе «всегдашнюю радость». Но Бальзаку важно, чтобы этой радостью могли насладиться двое. И он мечтает о дне, когда придет в Дрезденскую галерею вместе с Евой. Здесь же он открыл для себя шедевр Гольбейна Старшего, по всей видимости, «Серую страсть» — часть алтарной картины, написанную около 1500 года, в то время практически неизвестную широкой публике. Восхитили его и «рубенсовские женщины», напомнившие ему Еву.
Короткими переездами он добрался до Майнца. Германия все еще была разбита на отдельные земли, и хотя всю ее территорию уже пересекала железная дорога, каждый город, имевший свою станцию, существовал словно сам по себе. На остановках пассажиры выходили из вагонов, закусывали, выпивали. «Во Франции почтовая карета тащится быстрее, чем эти поезда», — заметил Бальзак.
Зато медлительность немецкой железной дороги дала ему возможность на несколько дней ускользнуть от бдительного ока Евы, которая следила за его передвижениями с помощью почтовых штемпелей на письмах.
ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ИЛИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ?
Из Майнца Бальзак вверх по Рейну добирался до Кельна. Жан Саван предполагает, что в этой части путешествия его сопровождала Луиза де Брюньоль.
Хорошо известно, как не любил Бальзак ездить в одиночестве. Путешествия он считал развлечением, а развлекаться гораздо приятнее в женском обществе.
Встречался ли он с баронессой Луизой де Борнштедт (1806–1870)? В январе 1843 года она прислала ему письмо, в котором делилась планами о переводе на немецкий язык «Человеческой комедии». Это была поэтесса с сильной склонностью к мистике; она оставила интересное описание Бальзака, тонко уловив в нем то сочетание искреннего чувства с трезвым рассудком, которое делало его неотразимым.
У баронессы Борнштедт имелась в Париже корреспондентка — графиня Визар де Бокарне (1797–1872). Именно в гостях у этой дамы в доме 17 на улице Бюффо Бальзак и познакомился с мадам де Борнштедт. Графиня де Бокарне родилась в Германии в семье бельгийского эмигранта. Вместе с мужем, также бельгийцем, она провела несколько лет на острове Ява, где он занимал пост вице-губернатора. В 1827 году муж уехал по делам в Соединенные Штаты, забрав с собой сына, и графиня осталась скучать одна в замке Бюри, неподалеку от Турне. Ее отношение к Бальзаку было действительно восторженным. Она неплохо владела кистью и старательно перерисовала герб Бальзаков д’Антрег, а затем воссоздала даже геральдику «Человеческой комедии».
Уже в апреле 1843 года мадам де Бокарне загорелась идеей издать произведения Бальзака и не оставила этой идеи по его возвращении в Париж в ноябре. Поручить издание и распространение книг она решила графу Адаму Шлендовскому, польскому эмигранту, хорошо известному в свете, который как раз намеревался посвятить себя издательской деятельности.
Поскольку Бальзак постоянно нуждался в деньгах, наряду с публикацией новых романов он никогда не отказывался от переиздания ранее написанного. Шлендовский предложил ему за четыре года издать 32 тома его сочинений за 16 тысяч франков. Примерно такую же сумму выручил Суверен от продажи томов «Человеческой комедии». Бальзак верил, что она легко может быть удвоена. Для этого следовало лишь расширить читательскую аудиторию за пределами Франции. Такой человек, как Шлендовский, имевший связи в Бельгии, вполне мог взять на себя труд пресечь нелегальные бельгийские издания Бальзака. Шлендовский, сам не имевший ни гроша, в свою очередь, рассчитывал на связи графини де Бокарне, с помощью которых можно было заполучить подписчиков. На их средства он и предполагал организовать крупное издательство. Союз Бальзак — Шлендовский на самом деле представлял собой чистой воды химеру, поскольку оба образовавших его участника забыли, что «синица в руках дороже журавля в небе».
Начиная с апреля 1843 года Шлендовский в сотрудничестве с Сувереном выпустил три работы Бальзака, посвященные Екатерине Медичи, под названием «Мученик-кальвинист».
В декабре 1843 года Бальзак записал в графу «Доходы» сумму в тридцать две тысячи франков, которые он рассчитывал получить от Шлендовского. 11 июня 1844 года компаньоны подписали новый договор, по условиям которого авторский гонорар уменьшился вдвое, но и этих денег, как и обещанных раньше, Бальзак не увидел. Он довольно быстро разобрался в Шлендовском, которого называл человеком с протянутой рукой. Правда, не уточнив, с какой целью тянется эта рука — то ли за подаянием, то ли затем, чтобы влезть в чужой карман. Во всяком случае, то, что Шлендовский — «продувная бестия», больше не вызывало сомнения.
В 1847 году Шлендовский приступил к изданию «Бедных родственников»: «Кузины Бетты» и «Кузена Понса». Из двенадцати обещанных томов вышли только шесть.
27 марта эстафету у Шлендовского подхватил издатель и книготорговец Луи Петьон, заплативший Бальзаку 6 тысяч франков. Он намеревался напечатать «Кузена Понса», за которого Бальзак уже получил 22 074 франка от газеты «Конститюсьонель», взявшей рукопись романа для публикации с продолжением.
И Шлендовский, и Петьон вскоре обанкротились, оставив Бальзаку подписанные и опротестованные кредиторами векселя. Мать Бальзака, которой он пообещал 5 тысяч франков, оказалась в отчаянном положении.
18 декабря 1846 года Бальзак получил приглашение на свадьбу сына Шлендовского. По дороге он упал прямо на обледенелую дорогу. Это было уже третье его падение, новый симптом болезни Кушинга — неизвестного тогда заболевания гипофиза, при котором происходит постепенная атрофия нижних конечностей, при увеличении размеров торса и головы. Бальзак все больше становился похожим на собственное карикатурное изображение в виде перевернутого туза пик.
ОБОЖЕСТВЛЯЕМЫЙ ЕВОЙ
3 ноября, едва Бальзак вернулся в Париж, доктор Накар уложил его в постель, прописав травяные и овощные отвары. Чтобы согнать лишнюю жидкость, накопившуюся в организме, а главное, снять головные боли, усилившиеся после обморока в Красном Селе, доктор лечил больного пиявками, кровопусканием, обтираниями, заставлял парить ноги в горчице. От этого лечения Бальзак совсем ослаб. Он часами валялся в постели, лениво листая «Семейный музей», не в силах прочитать ни строчки.
Тем не менее, собравшись с силами, он съездил в Гавр и получил свой багаж, отправленный из Санкт-Петербурга морем.
Остается только пожалеть, что Ева Ганская не догадалась вложить туда несколько страничек, исписанных ее рукой на полях его посвящения, датированных днем его приезда в Петербург.
Бальзак тогда написал: «Ева приняла меня как старого друга, и я понял, как долги, холодны и несчастны были все часы, проведенные вдали от нее».
Комментарий Евы: «Что я могу добавить к этим словам, трогательность которых ничуть не ослабляет впечатления от их изысканной и наивной правдивости?» Она пишет еще много всякого. Загадочная женщина! В этих строчках она предстает не просто прекрасной дамой, но и чутким знатоком тончайших душевных переживаний.
Почему-то еще никому из исследователей не пришло в голову вглядеться в то, как странно временами раздваивалась личность этой женщины. Она могла казаться мелочной и придирчивой, недоверчивой и корыстной, свято блюла интересы семейного клана и душой и сердцем была предана дочери, потакая любым ее капризам.
Но вот в ее жизни появляется Бальзак, и небосклон ее бытия словно озаряется волшебным светом: «Упоительный восторг, истинное счастье, восхитительный Идеал, чистая и невинная радость… Голоса, которые повторяют в моей душе, словно эхо, трепетные звуки любимого голоса, пусть же они принесут мне утешение в одиночестве и не дадут угаснуть надежде… Пусть не угаснет память… Как звездочка, сорвавшаяся с неба, он рухнул прямо в мое сердце… Не гасни же, но смешай свой свет со светом других, мимолетных огней, лишь бы продлился этот миг… Боже мой! Дай мне прожить так же еще хотя бы день или два, а потом… Пусть навеки закроются мои глаза, но раньше дай мне опять пожать его руку. А потом я с криком гибнущего в кораблекрушении взмолюсь: Господи, Господи! Помилуй меня…»
22 октября Бальзак прочел что-то похожее на приведенные выше строки, которые Ева написала 3 октября накануне новой разлуки. Прочел и сказал: «Нет ничего трогательнее этих трех строчек. Они словно целебный бальзам, обещающий мне надежду и счастье. Любовь, написавшая их, выше гения».
Бальзак стал ее ангелом-хранителем, но ему нелегко было исполнять эту роль, сопряженную скорее с тревогами, чем с радостями. В своих возвышенных мечтах Ева словно отождествляла себя с «убегающей женщиной» из Апокалипсиса. Она готова была отказаться от собственной плотской сущности, чтобы подняться до высоты того божества, которым виделся ей Бальзак, чтобы стать его отблеском:
«Как же не говорить о Нем в той книге, где я хочу выплеснуть всю свою душу? Как не рассказать, сколько величия и доброты, нежности и понимания, ослепительного ума и юношеского задора в этом благородном, весеннем сердце, которому нет равных, которое бьется так же молодо, как в первый день нашей встречи. Его чувства так же свежи, как чувства 16-летнего юноши. Ах, я слишком стара и душой и телом, чтобы быть достойной такой любви. Мне стыдно, мне горько… Сколько раз, слушая его, умеющего силой несравненного разума выразить самые искренние чувства, я с грустью думала, что этого счастья слишком много для меня, что я его не стою…»
Нет, ей решительно ничего другого не оставалось, как уйти в монастырь!
«СТАРЬЕ БЕРЕМ!»
Бродить по лавкам старьевщиков и выгодно покупать у тех, кто сам не знает истинно и цены своего товара.
В конце 1843 года Бальзак, все еще не оправившийся после болезни, все-таки исхитрился доставить себе целых три удовольствия.
В конце ноября, улучив момент между двумя сеансами лечебных пиявок, он посетил скульптора Давида д’Анжера, задумавшего изваять монументальный бюст писателя. Работа Бальзаку понравилась. Теперь он мог быть уверен, что потомки не посмеют взирать на него с таким же презрением, как слишком многие из современников. Конечно, возраст и тяжкий писательский труд наложили на него свой отпечаток, но после лечения доктора Накара он похудел и даже помолодел.
В ноябре Бальзак перечел «Шуанов» для третьего переиздания и решил, что в его романе «весь Купер и весь Вальтер Скотт, плюс страсть и сила духа, которой нет ни у одного из них».
20 декабря за 1400 франков Бальзак присмотрел у Дюфура на набережной Мадлен «два буфета черного дерева с инкрустацией из меди и перламутра». Бальзаку было известно, что именно в этом «магазине случайных вещей» некий коллекционер приобрел однажды «гобелены из спальни Людовика XIV». Он нисколько не сомневался, что приобретенная им мебель, «способная украсить любой дворец», «красовалась в спальне Марии Медичи»: оба буфета были украшены тонкой и изысканной резьбой, к тому же на них красовался герб рода Медичи.
Луиза де Брюньоль выделила 150 франков, чтобы торговец оставил мебель за Бальзаком, который уже мечтал перепродать ее за 20, нет, за 30 тысяч королеве, если, конечно, раньше не подвернется какой-нибудь английский аристократ, который с радостью выложит за буфеты все 60 тысяч!
Этим двум буфетам, вернее, комодам, предстояло положить начало своего рода мебельному складу, в который постепенно превращалась квартира на улице Басс.
При этом Бальзак-коллекционер считал себя достаточно осторожным: покупая, всегда есть риск переплатить, а продавцы только и думают, как бы сплавить подделку.
Тем не менее Ева Ганская отругала его за эту покупку. «Я приобрел их для нашего будущего дома», — парировал он. Сколько бы она его ни журила, он знал: она сама обожает ходить по магазинам и делать покупки.
Да и что такое эти милые перебранки для двоих, которых ожидает еще 30 лет совместной жизни!
Обдумывая будущее житье, Бальзак проявлял чудеса изобретательности. Им придется запастись огромным количеством обивочных тканей, «чтобы приглушить слишком громкий голос писателя»; он будет сидеть в своем «гнезде, скорлупе, коконе», а хозяйка дома, словно жемчужина в золотой оправе, будет нежиться на «бархате, обитом марокеном».
Бальзак любил в Еве не только ее душу, но и ее личность, поэтому культ любимой женщины он мечтал окружить конкретными предметами, в том числе портретами. 2 февраля 1844 года он получил оригинал портрета Евы работы Дафингера: «Для меня вы всегда останетесь такой, какой запечатлел вас Дафингер». Не забудем и про «памятки милой Лины» — обрезки ее платьев, которыми он вытирает перья. Эти кусочки ткани полны для него глубокого смысла, она словно говорит ему: «Пиши побольше строчек ради нашего будущего благосостояния». Бальзак часто вспоминал в этой связи стих из «Рая» Данте и, перефразируя его, говорил: «Ева — вот богатство, которого нельзя лишиться».
«ВЫ — ОРУДИЕ МОЕЙ МЕСТИ»
Вот что писал Бальзак Еве Ганской 20 февраля 1844 года:
«Из всех моих воспоминаний самым мощным остается то, что связывает меня с „поэмой“ Берни. Но вы, дорогая Лина, возвращаете меня в милое детство, которого у меня не было; вы явились, чтобы отомстить всем тем, кто заставил меня страдать; вы единственная моя любовь; вы будите во мне ту необъяснимую страсть, которую некоторые мужчины испытывают к женщинам и которая влечет их к ним, невзирая на любые пороки и измены. […] Но прежде всего и более всего вы — та женская половина моей души и тела, которой мне недостает; вы принадлежите к тем святым, благородным и преданным созданиям, к ногам которых хочется с чистой решимостью положить всю свою жизнь, все свое счастье, весь свой успех. Вы — маяк, вы — счастливая звезда».
Никогда еще Бальзак не выражал своих чувств столь красноречиво. Такая женщина, как Ева Ганская, не может быть «объектом для завоевания», она может быть только требовательной и властной возлюбленной. Влюбленный мужчина, властвуя в жизни, перед лицом своей дамы готов превратиться в вассала. Он — ее слуга, ее пленник. Гордая и достойная дама способна подвигнуть его на подвиги ради любви.
С маркизой де Кастри Бальзак потерпел сокрушительное поражение, еще не зная, что оно станет для него выходом. Неудача в любви заставила его подняться еще выше и найти себе возлюбленную не в рядах французской аристократии, побитой революцией 1789 года и годами эмиграции, но истинную аристократку из самодержавной России, в полной мере сознающую высоту своего положения.
Пыл, с каким Бальзак бросился служить Еве, грел его самолюбие и поднимал его в собственных глазах. Она действительно отомстила за все вынесенные им унижения и помогла ему осознать свое истинное величие. Бальзак, как мы уже упоминали, всегда оставался «корнелевским героем». Для него «долг и сердце — одно». Полюбив высокое начало в Еве, он возвысил свою душу и обрел способность к героическим свершениям. Действительно, разве не подвигом с его стороны была работа над двумя романами в Ланьи и над «Человеческой комедией», созданной всего лишь за пять лет?
Игра велась серьезная, и отступать в ней было нельзя. Но постоянное перенапряжение сил временами приводило к тому, что его охватывали приступы слабости и меланхолии. Стоило ему на миг забыть о своих честолюбивых планах, как он терял веру в себя.
В том же самом письме, несколькими строками ниже, Бальзак вдруг открывает свою слабость. Он всем обязан Еве, но если она бросит его, он откажется от дела всей своей жизни, уедет куда-нибудь в Арьеж, в Пиренеи, и станет влачить существование простого крестьянина.
Он откажется от гордого имени «де Бальзак», чтобы снова стать одним из Бальса, альбигойским мужиком, внуком своих дедов.
Он даже обдумал, как закончит свои дни:
«С тремя тысячами франков ренты мы поселимся в каком-нибудь скромном имении, и, забыв про весь мир, я буду спокойно ждать смерти».
Ева теряется в догадках: кто это «мы»? Бальзак, естественно, не сообщает ей, что имеет в виду Луизу де Брюньоль, «фею» его домашнего очага.
И тогда «пелена наконец спала у нее с глаз».
Ева пришла в большое волнение. Она представляла себе Бальзака закоренелым холостяком, день и ночь корпящим над бумагами, перекусывающим на ходу, а потом ненадолго укладывающимся вздремнуть на жесткое и неудобное ложе. Великий эгоизм запрещал ей думать о том, какой именно жизнью жил Бальзак в Париже. Она видела его исключительно рабом литературного труда, создаваемого ей во славу.
Оказывается, ничего подобного! Оказывается, он там создал себе скромный райский уголок и живет — не тужит! Его экономка мила и энергична. Дом содержится в чистоте, его работе никто не мешает, его вовремя и вкусно кормят. И он видит перед собой долгую череду тихих и спокойных дней, которые завершаются и будут завершаться сладостными ночами!
Ева не испытывала к Бальзаку любви в привычном смысле слова. Он внушал ей уважение, ей льстила его дружба, поднимавшая ее над обыденностью.
Представить себе, что этот гений, это почти божество, имел обычный семейный очаг! Нет, это решительно невозможно! Она этого не потерпит. Ее долг — оторвать от Бальзака эту женщину, своей заботой и лаской насильно привязавшую его к себе.
«Когда один из нас умрет, я перееду жить в деревню», — имел неосторожность написать своей молодой жене Козиме Рихард Вагнер. Она никогда не простила ему этих слов.
Бальзак тоже совершил непростительную оплошность.
«Вы приняли мою служанку за любовницу!» — станет он оправдываться в следующих письмах. Ах, что уж тут скажешь?
Думается, следует привести здесь весь этот отрывок:
«Как я вам и писал, я не собираюсь ехать в Шартрез, а думаю перебраться в какой-нибудь глухой угол и там доживать свои дни никого не видя и не слыша, не занимаясь ничем, одним словом, существовать, как существуют звери. Вы приняли мою служанку за любовницу, и это очень дурно. Не будем сейчас касаться этой темы. Если вы не ощутите холода, когда будете читать эти строки, знайте: сейчас, когда я пишу их, у меня кровь стынет в жилах. Насколько я помню, я уже говорил вам: не в моих принципах себя убивать, но я уеду в глухой угол именно умирать, потому что не хочу больше ни видеть, ни слышать кого бы то ни было».
МОНАХИНЯ
Мольер. Тартюф[51]
- И пусть в лишениях, в стенах монастыря
- Угаснет дней моих унылая заря.
В Польше, в течение трех лет, что продолжался судебный процесс, поместье Верховня находилось в ведении временного управляющего. Он расхищал имущество, спекулировал им, а земли тем временем приходили в запустение. У крестьян вошло в привычку отлынивать от работы. Было необходимо срочно все привести в порядок, погасить долги, заплатить кредиторам, адвокатам и стряпчим, которые помогли выиграть дело. В ходе судебного разбирательства Ева Ганская потеряла сумму, эквивалентную двухгодовому доходу.
В мае 1844 года Ева Ганская возвратилась в Верховню, чтобы содействовать исполнению царского указа, отменившего постановление судебной палаты Киева.
Бальзак написал Еве, что намеревается приехать, и забросал ее вопросами:
«Какую одежду мне следует взять с собой: зимнюю или летнюю?»
«Есть ли в вашей библиотеке мемуары о Французской революции?»
«Можете ли вы сыскать мне хороший путеводитель?»
Бестактность, несдержанность, слишком деятельный характер, простодушие Бальзака делали его присутствие в Верховне весьма нежелательным. Большое украинское поместье должно было подчиниться воле одного-единственного домоправителя, и Ева Ганская хотела решать все вопросы самолично.
14 июня 1844 года Анриетта Борель, гувернантка Анны Ганской, приехала в Париж. Она привезла крест мученичества, тот самый крест, который сестры доминиканского ордена Санкт-Петербурга, преследуемые царем, хотели передать своим парижским единоверцам. Бальзак провел с Анриеттой Борель десять дней. Она не пожелала осматривать достопримечательности Парижа и посетила только святые места (собор Парижской Богоматери, церковь Святой Магдалины). Она не знала жалости к мирскому Парижу: «Лоретта глупа, как гусыня, и по любому поводу изображает из себя смиренную жертву… Уж и не знаю, чем она могла быть вам полезна», — писал Бальзак своей Лине.
Приезд Анриетты в Париж принес Бальзаку некоторое успокоение. И эта ничтожная женщина сумела пробудить у Евы желание удалиться от мира, светского общества и заставила ее полюбить монастыри!
Бальзак не переставал задавать один и тот же вопрос: выйдет ли Ева за него замуж?
Набожная Анриетта, одержимая своей идеей, пребывала в твердом убеждении, что Ева последует за ней в монастырь.
Тогда же Бальзак получил странное письмо: когда Анна выйдет замуж, Ева примет монашеский постриг.
Ева станет монахиней! Бальзак заметался, словно его ужалила змея. Эта новость несла с собой смерть.
Когда птица попадает в силок, она не сопротивляется. Она погибает.
Бальзак заболел желтухой.
«Плохо излеченный гепатит делает жизнь невыносимой». Бальзак был обречен не двигаться в течение сорока дней. Он был не в состоянии писать, читать и даже есть. Во рту он ощущал солоновато-сладковатый привкус, который делал несъедобной любую пищу, даже молоко.
Болезнь начала отступать в начале мая 1844 года, и доктор обнадежил Бальзака: Наккар обещал скорое выздоровление, если больной отправится на воды в Карлсбад.
На воды? Ева прикинулась глухой. В этом году о водах не может быть и речи. Она останется в Верховне, а Бальзак — в Пасси.
Принятое решение жить далеко друг от друга, возможно, было мудрым. Весной 1844 года Бальзак плохо выглядел и не мог появляться в обществе. Сладковатый привкус во рту портил вкус всех блюд, даже пересоленных. Он по каждому поводу приходил в ярость и вступал в ожесточенную перепалку с сиделкой, которая хотела во что бы то ни стало накормить его посытнее, тогда как Наккар предписал больному строжайшую диету. Несколько докторов, собравшись на консилиум у его изголовья, высказали противоположные суждения. Бальзак резко отчитал их… Когда ярость проходила, Бальзак начинал злиться на себя. Он возненавидел человека, в которого превратился, и поэтому решил умереть. Больше всего он боялся, что никогда уже не сможет написать ни строчки. Этот страх, если и не питал его болезнь, то по меньшей мере беспокоил его мысли. «Причуды воображения» неизменно утверждали его в мысли, что он «болван».
Однажды «болван» решился выйти на улицу. В трехстах метрах от дома он упал. Обратно пришлось нести его на носилках.
Когда наступило лето, Наккар решил перевести своего пациента на фруктовую диету. Бальзак теперь должен был ежедневно съедать по две вазочки клубники! Увы! Для него это была непозволительная роскошь.
В июле, желая вернуться к работе, Бальзак вновь принялся поглощать в невероятном количестве кофе. Его кофе представлял собой любопытную смесь, от которой он все больше впадал в зависимость. Покупая разные сорта кофе в трех магазинчиках, он смешивал бербон, кофе с Мартиники и мокко. Он варил кофе в кофейнике по рецепту Жана Шапталя, непременно кипятя его несколько минут. Порой он выпивал более литра кофе как днем, так и ночью.
К гепатиту добавился бронхит. Бальзак хрипел и все время кашлял, но ему непременно надо было работать: «Я каждый вечер встаю в полночь, пишу до восьми часов, делаю 15-минутный перерыв, работаю до пяти часов, обедаю, ложусь спать и снова просыпаюсь в полночь. Результатом подобного труда являются пять томов, созданные за 40 дней».
Если ему суждено теперь умереть, то он сделает это достойно.
На протяжении всей болезни Бальзак неотступно думал о том, что поделывает и о чем думает Эвелинетта. Изредка он получал о ней известия от польских друзей, с которыми она встречалась, иногда она писала ему короткие письма, где с дьявольским наслаждением обескураживала его. Ева утверждала, что воплощает собой несбыточную мечту Бальзака. Все, что он предпринимал ради нее, не имело никакого практического значения и даже являлось насмешкой с точки зрения Господа. Он отвечал ей, воскрешая в памяти сросшиеся тени Серафита и Серафиты, «двуединость которых вечна».
МОДЕСТА МИНЬОН. РОМАН-ПРОШЕНИЕ
Лицо следует позаимствовать у просителя.
Расин
Для писателя не существует более гнетущего труда, нежели создание заказного произведения на тему, которая его нисколько не вдохновляет.
Точно так же весьма прискорбно посылать в никуда любовные письма.
Поскольку его обольстительные речи оставались безответными, Бальзак попытался воспользоваться своим преимуществом романиста. Он решил написать для Евы Ганской любовный роман в письмах. Ради этой книги Бальзак в который раз отложил своих «Крестьян», так и оставшихся незавершенными. Он забросил работу над последней частью романа «Блеск и нищета куртизанок», который обещал Потте и который будет заменен «Онориной». Он не закончил роман «Мадам де Ла Шантери». Вторая его часть, «Посвященный», появится лишь в августовских и сентябрьских номерах журнала «Спектатер републикен» 1848 года.
Роман, который превратил все прочие начинания в тягостную принудительную рутину, посвящен «Полячке», которую уже в посвящении Бальзак превозносит до небес и одновременно ниспровергает, как капризную и чересчур требовательную особу.
Именно Ева подсказала этот сюжет Бальзаку.
Очень богатая девушка ведет переписку со знаменитым писателем. Но писатель — слишком занятой человек, и поэтому поручает отвечать на ее письма своему секретарю. Кто покорит девичье сердце? Чувствительный, великодушный секретарь или писатель-проходимец?
Бальзак хотел доказать Еве Ганской, что существует лишь одна ипостась любви, которая отнюдь не бессильна и не вероломна. И она выше всякой гениальности. Бальзак вступил в борьбу не столько с химерами, сколько с конкретными людьми, например с Листом. Бальзак узнал, что великий пианист, дававший концерты в Лионе и Марселе, устраивал повсюду прощальные обеды, и каждый приглашенный находил на своей тарелке памятную шоколадную медаль с портретом музыканта. Лист собирался выступать с концертами в Дрездене, куда весной намеревалась приехать Ева Ганская.
Лист мог приурочить свое пребывание в Дрездене к приезду графини, что вполне соответствовало манерам этого беззастенчивого человека.
Ева непременно должна была удостовериться в том, что Оноре неподражаем и незаменим, поскольку именно умеет любить.
«Модеста Миньон» разоблачает горячность и вместе с тем нелепость безрассудной любви. Бальзак призывает Еву к осмотрительности. Самые интимные и самые естественные отношения между мужчиной и женщиной построены на доверии, следовательно, на брачных узах, которые не только являются источником удовольствий, но и формируют супругов.
В Гавре прозябает юная девушка по имени Модеста Миньон. Она томится сомнениями и питает иллюзорные мечты. Прототипом Модесты стала Ева Ганская: тот же одухотворенный лоб, тот же сладострастный изгиб губ, та же «полу-матовая» кожа. Модеста также похожа, как сообщал Еве Бальзак, «на вашу кузину Калисту», девушку, которую оплакивала княгиня Розалия Ржевуская, прямая родственница по нисходящей линии Марии Лещинской, супруги Людовика XV и королевы Франции. Калиста Ржевуская среди родни слыла образованной девушкой. Она была замужем за князем де Теано. Умерла она в 1842 году.
Как Калиста и как Ева, Модеста обладает меланхолическим характером. Она живет для того, чтобы читать и грезить. Родители решили выдать ее замуж, чтобы она наконец спустилась с небес на землю и отказалась от своих иллюзий: Модеста Миньон пишет любовные письма поэту Каналису, чьи произведения обожает. Они переписываются в течение трех месяцев, а затем Каналис наносит ей визит. Однако, совсем как в комедии Мариво, это лже-Каналис. К Модесте приходит секретарь поэта. Каналис получает столько писем от женщин, что не в состоянии их все прочитать. Поэтому он поручает составлять ответы своим помощникам.
Секретарь Каналиса, Эрнест де Ла Бриер, наделен всеми возможными достоинствами. Он придерживается «твердых нравственных принципов», отчего производит благоприятное впечатление на родителей Модесты. Но самое главное, у него есть бесценное качество, которое выгодно отличает его от других мужчин: он никогда не был любим.
Но Модесту Миньон не так просто в чем-либо убедить. Она хочет поближе познакомиться с Каналисом, чтобы испытать тот сладкий миг, когда в письмах «их души поведут меж собой приятную беседу».
Господин Дюме, секретарь господина Миньона, перехватывает письмо Модесты и наносит Каналису визит. Господин Дюме хочет составить представление о чувствах, питаемых поэтом к Модесте.
Поэт приходит в изумление:
«Чтоб я соблазнил девушку?.. Да всему Парижу известно о моих пристрастиях!»
Интерес к Модесте Миньон пробуждается у Каналиса только тогда, когда он узнает, что состояние этой девушки на выданье оценивается в шесть миллионов. Каналис негодует на своего секретаря Ла Бриера, который смеет «важно щеголять в лучах его славы. Что за плагиат, ведь оригинал — я!»
Модеста Миньон безрассудно бросается в объятия Каналиса, однако все заканчивается хорошо: Модеста раскаивается и выходит замуж за господина де Ла Бриера. Она станет «гордостью и счастьем своего супруга». Вот и Еве Ганской не следует впадать в заблуждение. Она должна распрощаться с безрассудной любовью и мистическими устремлениями во имя супружества.
Бальзак писал «Модесту Миньон» с начала марта до 15 июля 1844 года. Несколько раз он прерывал работу, поскольку чувствовал себя настолько больным, что любое усилие могло свести его в могилу.
В этом романе Бальзак предписывал Еве, каким взглядом она должна сразить Листа, если они встретятся в Дрездене: «Ее глаза метали на поэта красные языки пламени, глубоко проникая в его сердце».
Читая «Модесту Миньон», Ева увидит, что Бальзака вдохновлял на создание романа именно ее дражайший образ. Ее присутствие здесь ощущается на каждой странице… На нее похожи все женщины романа. В первую очередь, конечно, Модеста, но также и любовница Каналиса, герцогиня де Шолье, «белоснежная шея, восхитительно выточенные грудь и плечи, ослепительные обнаженные руки» которой воспроизводят портрет Евы, подаренный Бальзаку.
Ла Бриера, лже-Каналиса, этого верного жениха Модесты Бальзак изобразил мало похожим на себя. Но любовные письма Ла Бриера к Модесте написаны тем же пером, что и письма, которые Бальзак упрямо посылал Еве, хотя она отвечала ему нехотя и очень редко.
Прошло десять лет, и Бальзак вновь обрел радость писать любовные письма, как в былые времена, когда он переписывался с Евой, не будучи с ней знакомым.
«Счастье, моя дорогая неизвестная красавица, состоит в том, о чем вы мечтаете: полное слияние чувств, полнейшее душевное соответствие, живой отпечаток прекрасного идеала на повседневных насущных заботах».
«Можно ли утверждать, что мы идем на жертвы, когда речь заходит о возвышенном благе, мечте поэтов, мечте младых девиц…»
«Наша жизнь, по меньшей мере для меня, превратится в безоблачное блаженство».
«Да, я мужественно предвижу нашу совместную старость и ваши седые волосы, и мы будем по-прежнему возбуждаемы ничуть не изменившейся привязанностью».
«Или вы решили больше не писать, или вы подаете мне надежды? Либо я увижусь с вами, либо выхожу из игры».
Ла Бриер воспевает супружество, Каналис же отвергает его. В письмах к герцогине де Шолье он встает на защиту свободной любви, любви вне брака, которую выбирают тщеславные и бессердечные люди.
Когда Бальзак начал приходить в себя после тяжелой болезни, а это совпало с созданием «Модесты Миньон», его пришли проведать графиня де Бокарме и графиня Хлендовская. Им удалось выманить у него эту книгу, которую Хлендовский опубликовал в ноябре-декабре 1844 года. В «Журналь де деба» роман, прерванный из-за болезни Бальзака, был напечатан тремя частями 4–18 апреля, затем 17 мая — 1 июня и 5–21 июля.
Нам не известно о реакции Евы Ганской на это произведение. Известно лишь, что еще несколько лет Бальзак оставался для нее «нашим верным другом».
«Я ИЗНУРЯЮ СЕБЯ»
Жажда счастья изнуряет смертных.
Жермена де Сталь
Ева Ганская представила дело так, будто 15 февраля 1845 года будет ожидать Бальзака в Майнце или во Франкфурте. Сама же она задержалась в Дрездене и уклончиво говорила о дне своего отъезда. Она вела себя с Бальзаком так, словно он был человеком, которым она имела право помыкать. Она держала его в состоянии полной зависимости, что пробуждало у него желание «с головой погрузиться во всепоглощающую работу», но как мог он это сделать, если назавтра рассчитывал получить от нее долгожданную весточку?
Ева не скрывала от Бальзака, что в Дрездене вела веселый образ жизни, и это было ему не по душе. В словах ее родственников и друзей проскальзывали злорадные нотки. Что это означало? Она предпочитала хранить молчание.
Бальзак умолял Еву стойко и ревностно противостоять клевете. Если, например, княгиня Голицына, бывшая супруга кузена Хлодкевича, или какая-либо еще дама света пожелает озлобить ее сердце, пусть она соизволит встать на защиту Бальзака и пусть не боится даже переусердствовать: «Когда в твоем присутствии говорят обо мне, тебе остается только одно: посмеяться над клеветниками, перещеголяв их. Если они утверждают, что я вор, скажи им, что я убийца. Так поступал Дюма. Когда некто сказал, что его отец или мать были черными (sic!), он ответил: „Мой дед был обезьяной“».
На самом деле Ева не хотела ни уезжать из Дрездена во Франкфурт, ни искать заступничества Бальзака. Она приехала в Дрезден с намерением выдать замуж свою дочь. Дрезден, обитель европейского бомонда и приличного общества, с этой точки зрения представлял собой обетованную землю.
Начиная с XVIII века богатые русские, украинцы, поляки проводили зиму в Дрездене.
Для того чтобы найти выгодную партию для своей дочери, Ева завела новые знакомства. Это светское до мозга костей общество осудило бы образ жизни Бальзака, его устремления, порывистый характер, жизненную силу.
Но Бальзак об этом даже не догадывался. Он только знал, что за последние полгода его рука не вывела ни одной строчки. Ожидание губило его талант.
В марте 1845 года Ева наконец решилась произнести решающие слова: она не хочет видеть Бальзака в Дрездене.
«Я повинуюсь вам. Я не приеду».
Он поставил ее в известность, что, поддерживая его любовные мечтания и надежды, обернувшиеся пустыми фантазиями, она способствовала тому, что он потерял 30 тысяч франков, которые должно было принести ему издание романа «Крестьяне» плюс 10 тысяч — гонорар за журнальную публикацию. Но самое главное, он лишился душевного спокойствия, без которого был не в состоянии творить.
«Я изнуряю себя», — написал Бальзак 30 марта 1845 года. Для того чтобы воспрять духом, он принялся делать подсчеты. Жарди выставлен на продажу, иными словами, это доход в 28 тысяч франков. Законченные «Крестьяне» принесут 40 тысяч, продолжение «Человеческой комедии» — 15. Итого: 85 тысяч франков. Эти деньги положат конец долгам, по меньшей мере тем, которые могут повлечь за собой неприятные последствия. Самые старые, самые близкие друзья не откажутся подождать. Это «добрейшая» госпожа Деланнуа, дочь лучшего друга его отца, которой он должен 32 тысячи франков. Это Даблен, торговец скобяными товарами, — 5 тысяч. Это архитектор Юбер, обустроивший Жарди: он получит деньги от продажи поместья. Это Гаво, его поверенный, настойчиво напоминающий о восьми тысячах. Это портной Бюиссон — 20 тысяч. При этом Бальзак начисто забыл о своей матери. 11 июня 1846 года госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак напомнила о себе. Она устала ждать ежемесячной пенсии, которую уже давно не получала, а потому обратилась к своему родственнику Седийо с просьбой подсчитать со скрупулезной тщательностью, сколько ей задолжал сын, учитывая набежавшие проценты. Финансист Седийо насчитал 57 тысяч франков. «Устрашающая сумма, — писал Бальзак. — Даже не стоит о ней думать. Это безумие!»
Едва выкрутившись из затруднений, Бальзак принялся мечтать о покупке великолепного дома с садом, двором и хозяйственными пристройками. Бальзак вбил себе в голову, что именно тогда Ева загорится страстным желанием поселиться в Париже. Конечно, она может демонстрировать равнодушие, живя в Дрездене, но, избавившись от своих родственников и покинув гнездо светского общества, она целиком будет принадлежать только ему, и они поженятся.
Но где найти деньги, чтобы купить дом, это вместилище их любви?
Бальзак начал действовать: госпожа Деланнуа выставила на продажу дом на улице Нев-дэ-Матюрен. Но она установила слишком высокую цену и испытывала опасение, что Бальзак станет злостным неплательщиком. В Пасси, прямо напротив улицы Басс, продавалось бывшее владение княгини де Ламбалль. Продавались также еще несколько земельных участков, которые могли оказаться хорошим вложением капитала: на Елисейских Полях, в саду Монсо. «Риск невелик, а доходы обеспечены».
В январе 1845 года Ева Ганская отправила Бальзаку 10 тысяч франков в государственных облигациях, оплачиваемых наличными. Явилось ли это первым капиталовложением в счет их свадьбы? Император, угрожавший украинским католикам конфискацией имущества, в один прекрасный день мог принять решение: тогда Ева Ганская сможет эмигрировать лишь при условии, что ничего не вывезет с собой.
Что касается покупки дома, то Бальзак ждал уверенного, содержательного, утешительного ответа.
Ева не написала ни единого слова.
Молчание — знак согласия?
Вряд ли! Все, что Бальзак создал, мечтая об их совместной жизни, Еве не нравилось; всякий раз она утверждала, что он перестарался.
Но главное — Ева хотела пристроить дочь. Она рассчитывала на блестящую партию.
К тому же она продолжала вести судебную тяжбу о вступлении в наследство: судебная палата Киева отказалась придать силу царскому указу.
Предполагаемая свадьба дочери и, как следствие, приданое, наведение порядка в поместье Верховня, разграбленном управляющими и арендаторами, ущерб, нанесенный заморозками, пожары буквально разорили Еву.
А Бальзак продолжал выводить ее из себя, давая наставления: «Боюсь, вы недостаточно предприимчивы, чтобы стать рачительной помещицей… Вам не хватает умения выгодно продавать свою продукцию».
Бальзак был счастлив известить Еву, что французский флот закупает хлеб для своих нужд в Польше. Почему бы Бальзаку вместе с Сюрвилем не заняться зерновыми, выращиваемыми в Верховне? Собрав урожай, они изготовят сухари, которые затем продадут французскому флоту.
Ева испытывала большие сомнения по поводу этого коммандитного товарищества, которое ей пришлось бы финансировать, и ничего не отвечала. Оноре сделал вывод, что поведение этой женщины, «наперекор ее инстинктам, определяется необходимостью, благополучием ее ребенка и чувством долга».
Но Бальзак продолжал упорствовать: в тот день, когда Ева освободится от своей дочери, которая представляет для нее смысл жизни, она станет наконец деловой женщиной и любящей женой.
БРОДЯЧИЕ АКРОБАТЫ
18 августа пришло письмо. Какая радость! Сколько пролито счастливых слез! Он был готов прочитать это письмо всему Парижу.
«Мне хотелось бы увидеться с тобой». И Бальзак отвечает: «Я все послал к чертям. И „Человеческую комедию“, и „Крестьян“, и прессу, и читателей, и задуманный небольшой сборник „Мысли и изречения господина де Бальзака“». В спешке Бальзак забыл о «Маленьких невзгодах супружеской жизни», проданных Хлендовскому и вышедших в свет летом 1846 года.
За период своего отсутствия с апреля по август 1845 года Бальзак ни разу не позаботился о письмах, которые шли к нему практически отовсюду. Издатели и редакторы выражали свое разочарование, грозили подать в суд. Бальзака перестали печатать в толстых журналах, на страницах которых восторжествовал Эжен Сю со своим «обывательским романом» «Вечный жид».
Бальзак выехал из Парижа 25 апреля и прибыл в Дрезден 1 мая. Он остановился в гостинице «Штадт-Ром».
Когда люди, разделенные тремя тысячами километров, пишут друг другу письма, приходящие к адресату через три недели, им ничего не бывает известно об умонастроении того или той, к кому они обращаются. После Санкт-Петербурга Оноре и Ева балансировали на краю пропасти, и в них обоих пробуждалась природная неистовая сила.
Ева была разорившейся помещицей, боявшейся допустить какую-либо оплошность. Остатки своей нежности она сберегала для дочери. С остальными вела себя запальчиво, в высшей степени жестко. Необходимость беспрерывно работать либо для того, чтобы прокормить себя и заплатить долги, либо для того, чтобы сколотить состояние, что по сути одно и то же, свело на нет у Бальзака, как он говорил, «отправление чувств».
«Дрезден, — напишет позднее Бальзак, — это голод и жажда, это нищета в счастье, это бедняк, набрасывающийся на богача».
Внезапно он ощутимо осознал свою бедность. Он, безудержно смелый и дерзкий, был уже не в состоянии вызывающе смотреть на окружающих. Ему приходилось разговаривать с ними, потупив взор. Впрочем, представители этого общества никогда не имели привычки смотреть друг другу прямо в глаза. Они затрачивали слишком много времени, проводя часы напролет перед зеркалом, и у них просто не хватало сил обращать внимание на других. К тому же не замечать никого вокруг считалось верхом изысканности.
Однако все менялось на вечерних приемах. Там считалось хорошим тоном расточать любезности. Приглашенным не о чем было вести беседу, но они поздравляли кого-либо с прибытием, благодарили в ответ, приветствовали собравшихся, представляли их друг другу, исполняли свой долг, рассыпаясь в обязательных комплиментах и наконец откланивались, убивая таким образом часть ночи.
Бальзак знал, что этот чопорный мирок пристально следит за каждым его шагом и непрестанно болтает о нем самые сальные гнусности: дескать, он двоеженец, игрок и к тому же у него слишком большие залысины для длинных волос.
У Евы о Бальзаке уже сложилось определенное мнение, и ничто не способно было его поколебать. Впрочем, она всецело была поглощена заботой о дочери. Анне удалось наконец заполучить завидного жениха, графа Георга Мнишека. Графу исполнился 21 год. Отец Георга, Шарль-Филипп, имел двух сыновей. Второй его сын, Андре, родился в 1824 году. В семейной собственности у них был Вишневец, самое обширное поместье на Волынщине, расположенное около Радзивилова.
Марина Мнишек, прародительница Георга, приобщает нас к истории «Бориса Годунова». Чешка по происхождению, она в 1605 году вышла замуж за Лжедмитрия, человека, который выдавал себя за сына Ивана Грозного. Марина Мнишек царствовала в России в течение года, вплоть до того дня, когда был убит ее супруг. Во время последовавшей за этим убийством Смуты еще один самозванец объявил себя настоящим Дмитрием. Марина была вынуждена признать в нем своего мужа. Ее казнили 21 февраля 1613 года[52] после избрания на царство Михаила Федоровича, основателя династии Романовых, правившей до 1917 года.
Дед Андре, Мишель Георг Мнишек (1748–1808) женился в 1781 году на Урсуле Замойской, племяннице Станислава II Августа Понятовского (1737–1798), последнего короля Польши.
В феврале Ева Ганская уведомила Бальзака о готовящейся свадьбе. К этому известию Бальзак отнесся сдержанно.
В Дрездене он продолжал стоять на своем. Анне следовало бы выйти замуж за пруссака. Став женой поляка, Анна ни в чем не может быть уверена. Если этот поляк легкомыслен, он ее разорит. Если он полон отваги, то закончит свои дни в Сибири. Впрочем, Бальзак полагал, что над всей Польшей висит проклятие: «Злая волшебница наложила заклятие на эту нацию. „Опасайся даров, преподнесенных тебе моими сестрами, — сказала она ей. — Ты никогда не будешь той, какой хочешь стать“». Бальзак был убежден, что у поляков нет ни принципов, ни твердых убеждений. Они наделены лишь живым воображением. Они сражаются друг с другом с той же решимостью, с какой противостоят русским. Бальзак предсказывал погибель Польши. Finis Poloniae наступит тогда, когда потерпит поражение Турция. Карта Европы будет перекроена: «Польша попадет под власть Пруссии. Берега Рейна станут французскими, а четыре австрийских княжества — русскими. Черное море превратится в русское озеро, и участь мира будет решаться, как всегда, в районе Средиземноморья. Превращение в пруссаков, вот что вас ожидает в будущем».
Увидев юного графа, потомка царицы, Бальзак пришел в крайнее изумление от его золотушного вида. Граф был красивым молодым человеком, с голубыми глазами, правильными чертами лица, блондинистой бородой, но создавалось впечатление, что он едва оправился от болезни: бледный, глаза воспалены, губы опухли. К тому же он страдал желудочными расстройствами.
Анне, избалованной и легкоранимой девушке, вскоре начнут доставлять страдание манеры Георга, который не отличался «ни учтивостью, достойной его положения в обществе, ни приветливостью знатного вельможи». Бальзаку оставалось лишь развести руками. Он сожалел, что в жизни юного графа не было пожилой сладострастной светской дамы, которая научила бы его искусству нравиться женщинам. В Польше госпожи де Берни, эти «няньки-любовницы», встречались крайне редко.
В конце концов Бальзак нашел Георга занятным: тот неплохо рисовал и страстно увлекался коллекционированием раковин и насекомых. Он — «сумеречная-чешуекрылая-жесткокрылая бабочка, но, надеюсь, не ископаемая». Ласковее насмехаться невозможно.
После Санкт-Петербурга Бальзак встречался с Евой лишь в присутствии Анны. Но теперь Анна была помолвлена, и, когда она выйдет замуж, Бальзак безраздельно завладеет Евой.
На востоке Европы родители и дети долго живут под одной крышей. Еще несколько лет за Бальзаком будет следовать эскорт во главе с будущим зятем.
11 мая семья в полном составе покинула Дрезден и отправилась на воды Бад-Хомбург, в небольшой городок, расположенный недалеко от Франкфурта. В конце мая Ева Ганская решила переехать в Канштадт, пригород Штутгарта. Ей приходилось все время давать отпор домогательствам Оноре: «Канштадт — это лакомства на десерт, это гурман, безуспешно старающийся привыкнуть к утонченной гастрономии».
В конце июня Ева и Анна согласились провести месяц в Париже. Для того чтобы успокоить Еву, Бальзак принялся за методичные подсчеты. Ева должна была дать ему 6 тысяч французских франков золотом. Он также изучил расписание дилижансов и составил туристский маршрут вдоль берегов Луары ради посещения замков и долины Роны.
В один из июньских дней граф Гийом Вюртембергский, троюродный брат короля Вюртемберга Вильгельма I, пригласил Еву и Оноре. Год спустя Бальзак вспомнил об этом приеме в замке Лихтенштейн, современном замке, возведенном вблизи Ройтлингена. Бальзак подарил графу экземпляр «Человеческой комедии», принеся извинения за громоздкий пакет, содержащий произведение «устрашающих размеров».
В 1846 году Оноре был уверен в своей неминуемой свадьбе с Евой и считал, что принц, выступив в роли свидетеля, оказал бы ему великую честь.
В Кёльне семья присутствовала на представлении «уличных акробатов» Теофиля Дюмерсана и Шарля Варена. Этот спектакль Бальзак уже видел в 1831 году в театре «Варьете». Анна сочла, что Бальзак похож на Бильбоке, который так и сыпал каламбурами. С тех пор Бальзак превратился в Бильбоке, Эвелина — в Аталу, Анна — в Зеферину, а Георг — в Грингале.
ЕВА И ОНОРЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ВО ФРАНЦИЮ
Бальзак обрел неожиданного союзника: Анна горела желанием увидеть Париж. Как быть? Путь в столицу демократов был заказан для подданных царя. Правда, можно было въехать во Францию инкогнито: в Страсбурге не слишком внимательно проверяли паспорта. Ева превратилась в сестру Бальзака, Анна стала его племянницей.
В Париже Ева только и думала о том, как бы заставить Бальзака распрощаться с улицей Басс, иначе говоря с экономкой Луизой де Брюньоль, чтобы вернуть его в лоно более последовательного целибата.
Квартира на улице Басс была снята на имя домоправительницы. Выгнав ее, Бальзак неминуемо оказался бы без крова. Он не мог купить дом, не удовлетворив кредиторов, преследовавших его по пятам. Где питаться? Где работать? Кто станет делать покупки, носить рукописи в типографию и редакции газет? До сих пор Бальзак был если не рабом Евы Ганской, то рабом своего творчества.
Причины комедии, которую он вот уже в течение пяти лет ломал с любовницей-экономкой, были хорошо известны. Так больше продолжаться не могло. Ева хотела жить с Бальзаком тогда, когда ей это было бы угодно, а когда ее нет рядом, пусть он будет один.
До появления Евы и ее дочери в Париже Бальзак пытался усыпить бдительность Луизы де Брюньоль: Вы, «наделенная все той же ласковой и доброй душой», постараетесь снять квартиру на свое имя, поскольку у дам не будет паспортов. «Госпожа Ганская теперь хочет, чтобы там и для меня была комната, в которой я мог бы поселиться. Все это надо хранить в строжайшем секрете».
Госпожа де Брюньоль исправно выполнила поручение — подыскала квартиру на улице Тур. В нее она перевезла мебель и ковры, хранившиеся в чуланах квартиры на улице Басс.
Ева, жившая в Польше в окружении многочисленной челяди, не захотела иметь прислугу в Париже. На сей счет у Бальзака имелась своя теория: в былые времена кухарки, покупая провизию, обсчитывали хозяев, «чтобы приобрести лотерейный билет. Теперь они выгадывают 50 франков, чтобы поместить их в сберегательную кассу». Ева не хотела также посещать парижские рестораны, где собирались польские эмигранты, поскольку это могло ее скомпрометировать. Обедать дамы собирались на улице Басс.
Эвелина не забыла о своем желании принять постриг. Парижская толпа, где смешались грубые рабочие и самодовольные и легкомысленные ветреники, внушала ей ужас. Она выезжала в свет лишь в случае крайней необходимости. Чтобы доставить удовольствие Анне и содействовать расширению ее кругозора. Госпожа де Брюньоль подписалась на «Антракт» на имя господ Полини, проживавших на улице Тур, в доме 18.
Когда Бальзак скрывался в квартире портного Бюиссона на улице Ришелье, он пристально наблюдал за жизнью бульваров. Его рассказы доставляли удовольствие Анне. Он завел об этом речь еще и потому, что в 1844 году ему представилась возможность привести в порядок свои парижские воспоминания для создания новеллы «Комедианты, неведомо для себя».
Бальзак был непревзойденным рассказчиком всяческих историй о парикмахерах. Они еще не превратились в мастеров по уходу за волосами, но уже стали директорами парикмахерских салонов. Самым известным из них был мастер Мариюс. Он первым создал школу. Парикмахеры, которые обучались у него, прикрепляли к витринам табличку «ученик Мариюса». Его парикмахерская была одновременно и музыкальным салоном: там играл квартет или пели певцы. Мариюс добился для себя монополии на парики, подобно тому как несколько бакалейщиков владели монополией на трюфели. Те, кого называли покупателями, после 1830 года превратились в клиентов. Словари еще долго будут отказывать слову «клиент» в праве на существование. «У торговца есть покупатели, а не клиенты», — настаивал «Литтре». У той Франции, которая еще не предала забвению гуманизм, слово «клиент» пробуждало в памяти образ бедного гражданина Рима, вверявшего себя покровительству богатого патриция.
Мозольные операторы также превратились в весьма значительных особ. Бальзак был знаком с одним из тех, кто «срезал мозоли по предварительной записи». Он походил на Марата и страстно мечтал о новой революции, еще более кровавой, нежели революция 1793 года.
В 1845 году торговля под навесами и в мелких лавочках, которую Бальзак так любил, поскольку она придавала достоинство его предкам Саламбье, зажиточным торговцам из квартала Марэ, исчезла в Париже, уступив место первым крупным магазинам. Торговый дом «Труа-Картье» являл собой дворец, где царила гармония мрамора, дерева, зеркал и разрисованных фарфоровых ваз. Как только покупатель переступал порог магазина, продавец, которого теперь называли «торговым служащим», сразу же вручал ему «проспект» — еще одно новое словцо, — с помощью которого тот узнавал, что находится в продаже. Уходя, клиент получал уже не список того, за что должен, а «счет-фактуру».
Во время обедов на улице Басс у Евы Ганской было достаточно времени, чтобы наблюдать за госпожой де Брюньоль, жившей там словно у себя дома. Ева изъявила горячее желание, чтобы госпожа де Брюньоль съехала как можно скорее. Оноре все понял. Он присмирел и в письме от 16 декабря 1845 года попытался успокоить Еву: «Не стоит волноваться из-за экономки. Я ее выгнал. Все улажено. Участь ее решена. Она попросила позволить ей навещать меня. Я ответил: „Никогда“».
С 15 июля по 30 августа Ева, Оноре и Анна жили в Фонтенбло, затем в Руане. Это было началом длительного путешествия по Франции, Голландии, Бельгии.
13 декабря, когда Бальзак перебирал в памяти все посещенные города, воспоминания роем теснились в его голове. Он насчитал 23 города и для того, чтобы не перепутать их, придумал герб для каждого: «Петербург — манящий к себе палец. Дрезден опирается на виолу. Канштадт сидит в кресле. Карлсруэ держит саблю. Фонтенбло сжимает факел. Бурж опирается на золотой шар. Тур протягивает три миндаля. Блуа держит грушу. Париж сжимает в руках пять корон. А Пасси, Фонтенбло! Это гений Бетховена, это возвышенное! Брюссель достоин Канштадта и нас. Это триумф двух соединившихся нежностей». Были еще Баланс и Седлиц, где Бальзаку пришлось пить целебные воды, чтобы унять приступ колики.
Лион получил «пальму первенства». По счастливому стечению обстоятельств Эвелинетта принадлежала теперь только одному лишь Оноре: «Потребовались мгновения свободы в Лионе, чтобы я догадался, какая ты очаровательная, какая божественная красавица!» В Лионе Бальзак превратился в Шиболета, доброго гения, одаривавшего спутницу всевозможными наслаждениями.
Нежная Эвелинетта могла внезапно превратиться в безжалостную волчицу, когда Бальзак отказывался сократить расходы. В Роттердаме Атала устроила Бильбоке скандал из-за того, что тот купил шкаф из черного дерева за 375 флоринов. «О! Как я страдал на набережной Роттердама. Об этом известно лишь мне да Господу Богу». Но Эвелина тут же получила прощение, ведь причиной ее гнева послужил «излишек слишком крепкого чая».
2 сентября Бальзак находился в Пасси, а 26 сентября он уже отправился в Баден-Баден, чтобы 4 октября вернуться оттуда на улицу Басс.
Путешествие осенью 1846 года стало настоящим блаженством. После него Бальзак не захотел больше видеть рыдающую госпожу де Брюньоль. Он не захотел видеть судебных исполнителей, которые в очередной раз угрожали ему тюрьмой. Бальзак представил к учету неплатежеспособного издателя Хландовского два векселя. Наконец, он не захотел видеть владельца дома на улице Басс, грозившего его выселить.
Бальзак вдоль и поперек исколесил Пасси, подыскивая дом по своему вкусу: с разросшимся садом, огородом, фонтанчиками, зеленой лужайкой, чтобы все это находилось неподалеку от главного фонтана Пасси.
10 октября госпожа Ганская решила, что не стоит изменять укоренившимся традициям: она намеревалась провести зиму в Неаполе. 20 октября Ганская приехала в Страсбург, а оттуда отправилась в Шалон, чтобы добраться до Тулона по Соне и Роне.
Бальзак как нельзя кстати прочел на почтамте объявление, что «1 ноября великолепный пароход государственной компании отправляется из Марселя в Неаполь». И он догнал Еву, Анну и Георга в Шалоне. Шесть дней путешествия на пароходе, и вот они уже в Марселе. Адмирал Шарль Боден, морской префект Тулона, пригласил их осмотреть рейд на катере. В альбоме адмирала Бальзак записал: «Рассеянная женщина похожа на зоркую рысь».
Пароход «Леонид», как и было объявлено, отправился из Марселя в Неаполь 1 ноября. Он сделал остановку в Чивитавеккиа. Пассажиры разместились в гостинице «Виктория». В течение многих лет консул Анри Бейль мечтал о приезде в этот унылый городишко женщины, похожей на Эвелину, которая согласилась бы отправиться с ним в путешествие в Рим.
8 ноября, проведя в Неаполе три дня, Бальзак поднялся на борт парохода «Танкред», шедшего обратно в Марсель.
«Кругом только море и свежий ветер». Под проливным дождем, во время грозы и шторма Бальзак не мог сдержать дрожь. Но, как сказал Байрон: «Когда твое сердце вмещает в себя один океан, он укрощает другой». И шампанское полилось рекой. Бальзак выпил шесть бутылок.
В Марселе Бальзак обошел всех торговцев редкими и диковинными товарами. Он купил 95 тарелок и набор супниц, соусников и блюд на сумму в 1500 франков. Не успев ступить на берег, он сделал в Марселе заказ на рожки из китайского фарфора, великолепные резные книжные шкафы высотой 3 метра и шириной 10 метров и турецкий ковер.
Капитану корабля, на котором Бальзак возвращался из Неаполя, он устроил прощальный ужин. Но 72 часа тряски в почтовой карете по пути в Париж отрезвили Бальзака.
«Итак, отправляйтесь работать», — сказала ему ласковая Эвелинетта, впрочем, порой дававшая понять своему любовнику, что их счастье совсем рядом, словно ангел-хранитель.
На этот раз Бальзак осознал: пора платить по счетам. Хлендовский разорился, что составило убыток в 10 тысяч франков. Жирарден оспаривал цену, назначенную Бальзаком за свои статьи. «Такая цена установлена за эксклюзивное сотрудничество с Дюма. Я буду вынужден отказаться от ваших услуг, если вы потребуете больше 40 сантимов за строчку».
Апатия вновь охватила Бальзака. Он больше не защищался и перестал работать. Он опять погрузился в сладостную грезу: он мечтал поехать в Неаполь «хотя бы на одну неделю».
В 46 лет Бальзак познал всю прелесть жизни: «В этот год я был слишком счастлив и поэтому не хотел ничего, кроме счастья. Более всего я не хотел вновь возвращаться в тюремную камеру».
В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ
Во вторник 2 декабря 1845 года Бальзак присутствовал «на похоронах», то есть на церемонии посвящения в монахини Анриетты Борель. Он прибыл в монастырь в половине второго, а уехал оттуда в половине шестого. В течение целого часа сестры, преклонив колени, внимали словам возвышенной клятвы. Затем три новопосвящаемые бросились ничком на землю. Их покрыли саваном, в то время как остальные читали заупокойные молитвы. В последние мгновения своей светской жизни Анриетта и ее спутницы были одеты в подвенечные наряды. Они принесли обет стать женами Иисуса Христа.
Луи-Филипп оставил духовенству лишь «право на церковное имущество»: аренду скамей и стульев, отпевание усопших, продажу свечей. Выполняя требования монастыря, Анриетта Борель передала в дар ордену все, что она заработала, будучи гувернанткой Анны.
Своим животрепещущим рассказом о пострижении Анриетты Бальзак постарался напугать Эвелину, которая продолжала рассматривать монастырь как свое последнее прибежище. Пострижение в монахини влечет за собой смерть.
После монастыря — тюрьма.
В лицее Карла Великого и на юридическом факультете Бальзак подружился с Жюстеном Гландазом. 28 июня 1847 года, при составлении завещания, Бальзак назначил Гландаза своим душеприказчиком.
Жюстен Гландаз, получивший в декабре 1845 года должность заместителя прокурора, сумел обеспечить Бальзаку доступ в тюрьму Консьержери.
Роман «Блеск и нищета куртизанок» Бальзак заканчивает описанием судебного процесса над Люсьеном де Рюбампре и его смертью. Бальзак чувствовал необходимость посетить эти места, чтобы самому проникнуться ужасом беззащитного, опустошенного, потерявшего веру в себя заключенного, представшего перед судьями.
Виктор Гюго оставил о Консьержери леденящие душу записки. Бальзак же вынес о тюрьме весьма трогательные впечатления. Даже там он думал о Еве Ганской. Он захотел посетить камеру, где томилась Мария Антуанетта, а также камеру Елизаветы, которая умерла как святая. Но особенно он желал увидеть камеру, где содержались тетя Евы Ганской, княгиня Роза Любомирская, гильотинированная 30 июня 1794 года, и ее 6-летняя дочь, избежавшая смерти и ставшая впоследствии графиней Розалией Ржевуской (1788–1865), той самой графиней, что сказала Еве: «Париж? Никогда!»
Жюстен Гландаз добился для Бальзака разрешения присутствовать на уголовном процессе. Он обеспечил ему лучшее место, возле секретаря суда, совсем близко от обвиняемой, госпожи Коломес. Эта 45-летняя женщина приходилась племянницей маршалу Сульту, герцогу Далматийскому, бывшему министру Луи-Филиппа. Она вышла замуж за Шарля-Жозефа Коломеса де Жюйана, депутата от департамента Верхние Пиренеи. Ей вменялось в вину мелкое мошенничество, и что внушало страх: «Она вылитая копия госпожи де Берни». Ее преступление заключалось в том, что она, чувствуя себя совершенно счастливой, давала деньги молодому человеку, «который тратил их на актрис, подвизавшихся около ворот Сен-Мартен. Она подделывала документы и продавала векселя, подписанные вымышленными векселедателями». Рыдающая госпожа Коломес хотела лишь одного: спасти сбежавшего любовника. Она говорила ему: «Я прошу тебя лишь об одном: обманывай меня так ловко, чтобы я продолжала считать себя любимой».
ЧИСТОГАН
Жалость, которую Бальзак испытывал к госпоже Коломес, подсказала ему идею и, скажем прямо, смелость создать образ Аделины Юло из «Кузины Бетты». Этот роман был начат только в августе 1846 года, но уже в июне Бальзак говорил госпоже Ганской об «Истории бедных родственников», включающей в себя «Кузена Понса» и «Кузину Бетту».
Аделина — превосходная жена и мать, но ей не удалось пробудить чувства у своего мужа, барона Юло. Несомненно, Юло воспринимает достоинства своей жены как благодать, но в то же самое время он испытывает потребность в ласках красавицы Валери Марнеф, которая использует его страсть, как проститутка из предместий. Аделина смирилась с похождениями мужа. Более того, она готова их оплачивать ради сохранения семьи и счастья мужа.
Когда Юло «остался гол как сокол», а от него потребовали незамедлительно заплатить 200 тысяч франков, Аделина бросилась за помощью к Кревелю, богатому коммерсанту и заместителю мэра Парижа. Аделина берет на себя смелость попросить 200 тысяч франков у Кревеля, который уже давно смотрит на нее с вожделением. Она даже делает ему авансы, утверждая, что готова на все… Но Кревель обескуражен: ничья добродетель не стоит 200 тысяч франков. Затем он наглеет: «25 лет, добродетельно прожитых, похожи на недолеченную болезнь. А ваша добродетель покрылась толстым слоем плесени, дорогуша».
Тем не менее Кревель предлагает Аделине заключить с ним постыдную сделку. Он познакомит ее с миллионером, «который готов дать 100 тысяч экю за любовь порядочной женщины».
Сцена заканчивается тем, что Аделина выставляет Кревеля за дверь. Ей стыдно. Она вела себя как те проститутки, что разорили ее мужа.
По сути порок и добродетель тождественны. Деньги не пахнут. Но для Бальзака они неприятно отдают пороком, хотя для того, чтобы остаться добродетельным, требуются деньги. Добродетель означает роскошь. В тот день, когда иссякают деньги, Добродетель оборачивается Пороком, который ничего не требует, ибо ему все платят добровольно.
«О НЕБЕСА! СКОЛЬКО ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ВЫ ЗАСТАВЛЯЕТЕ МЕНЯ НЕНАВИДЕТЬ!»
«Кузина Бетта» — это еще и воплощение многочисленных унижений тех, кого Бальзак называл «бедными родственниками». Он и сам не раз подвергался таким унижениям, поскольку тоже был бедным родственником.
Бальзак говорил, что прототипом Элизабет Фишер, кузины Бетты, послужила его собственная мать. В 1828 году госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак заставила своего сына пойти на безумные спекуляции. Элизабет поощряет Юло, когда тот бросает деньги на ветер, обустраивая жилище Валери Марнеф. Госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак требовала, чтобы ее сын немедленно вернул ей свои долги. Точно так же Элизабет хочет посадить в тюрьму скульптора Стейнбока, который задолжал ей деньги и который к тому же отказывался жениться на ней. Элизабет, переодевшаяся в нищенку, это госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак, пришедшая к сыну просить «кусок хлеба».
Но создавая образ Элизабет, Бальзак передал и собственное унижение, которое испытал у маркизы де Кастри, а затем, совсем недавно — в Дрездене, подле Евы, в некоторых семействах… Он знал, какими чувствами переполнено израненное сердце. И с помощью вымышленного персонажа безнаказанно выместил свою потаенную ненависть. Наконец, Элизабет, как говорил сам Бальзак, это Марселина Деборд-Вальмор. Именно она в 1840 году свела с Бальзаком Луизу де Брюньоль. 25 сентября 1840 года она писала: «Не пошевелив и пальцем, я некоторым образом способствовала ее удовлетворению, а также удовлетворению лица, которое взяло ее к себе». Следовательно, и она бросила женщину в объятия Бальзака. Женщину, которая от этого только выиграла. В 1841 году Марселина Деборд-Вальмор сочла, что «Луиза принесла свою жизнь в жертву этому литератору». Открытая внебрачная связь шокировала Марселину, и она запретила своей дочери Инес «ездить в Пасси».
В 1846–1847 годах все эти проблемы встали с особой остротой. Бальзак знал, чем обязан Луизе. В его хаотичную жизнь она привнесла размеренность. Она была его нянькой. Она занималась его счетами. Когда Бальзак устраивал приемы, она блестяще справлялась с ролью хозяйки дома. В тот момент, когда Бальзак удалился от родных, она стала его семьей.
Какое-то время Бальзак полагал, что Ева Ганская простит ему Луизу, как Аделина смирилась с существованием Валери Марнеф. Но Ева, «королева» и «принцесса», оказалась ревнивой, требовательной, нетерпимой. Она не пожелала делить Бальзака с «судомойкой».
Бальзак понимал, что если оставит у себя экономку, потеряет Еву. Но как выгнать Луизу, которая, предвидя грозившую ей опасность, продолжала быть нежной, очаровательной, предупредительной, тем самым пуская в ход «неотразимое оружие женщин»?
Бальзак решил на какое-то время прибегнуть к двойной игре. Он сделал вид, что тяготится присутствием Луизы, и в письмах к Еве Ганской называл ее не иначе, как Карга, «нечестивица», «негодяйка» и тому подобное. Тем не менее Карга продолжала оставаться хранительницей очага.
Самым верным способом освободиться от Луизы де Брюньоль было выдать ее замуж. В феврале 1844 года она подумывала о таком варианте. Претендентом стал скульптор Карл Элшоэт (1791–1856). Все складывалось как нельзя лучше. Но перед свадьбой необходимо было навести сведения о женихе. Эти сведения оказались просто ошеломляющими. Элшоэт погряз в долгах. Он также был наделен пороком, который уничтожил в глазах общественного мнения великого Кювье, Жозефа Линге, секретаря президиума Совета, Пьера-Франсуа Тиссо, члена Коллеж де Франс и Французской Академии — все они, как и Юло, были любителями девочек, которым еще не исполнилось 13 лет.
Отсюда понятно, почему в замечательной интриге романа «Кузина Бетта», написанного в августе — ноябре 1847 года, Бальзак с таким мастерством поведал нам о тревогах, исступлении, пороках и зависти, наполнявших его существование. Тем не менее в конце романа звучит гимн любви, которая изничтожает все низости жизни.
РИМ, ГДЕ «Я ЧУТЬ НЕ УМЕР ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ»
Я полагаю, что именно в этих удовольствиях кроется причина сердцебиения, когда мне кажется, что мое сердце вот-вот истечет кровью.
Между двумя приступами депрессии (февраль — декабрь) Бальзак, чувствуя, что его мозг потерял всякую работоспособность, уехал в Марсель. Там 21 марта он поднялся на борт парохода! «Ментор», 24 марта прибыл в Чивитавеккиа, а 25-го встретился с Евой Ганской в Риме. Они провели в Вечном городе, «городе цезарей, пап и всех прочих» целый месяц. Хотя «сокровищнице волчишки» (деньгам, что Ева отправила Бальзаку) был нанесен ощутимый урон, они не стали отказывать себе в удовольствии посещать «антикваров», как называли торговцев диковинками.
Ничто не могло поколебать решимость Оноре и Евы. Еще не минули времена, когда в самой убогой лавчонке можно было найти музейные редкости. Разве не так был обнаружен деревянный ковш, расписанный Тицианом? Резной камень, керамика, раковина, пергамент, возможно, скрывали в себе неведомые богатства. Искусство любит случай, а случай любит искусство. Старьевщики напоминают игроков. Они хотят овладеть умением заранее догадаться о том, что в будущем приобретет ценность.
«Рим, хотя я и пробыл там совсем немного времени, останется одним из самых прекрасных моих воспоминаний».
На Страстную неделю 1846 года в Рим съехались 50 тысяч иностранцев. Все они пришли 12 апреля на площадь перед собором Святого Петра, чтобы полюбоваться подсветкой купола.
Бальзак сообщал сестре, что Его Святейшество оказал ему «почтительный прием». Рафаэль де Сезар провел изыскания в архивах Ватикана. Он не обнаружил ни малейшего намека на официальный запрос. Вероятнее всего, Бальзак присутствовал на церемонии благословения в составе группы паломников, которые получили право «поцеловать туфлю иерарха». Впрочем, Бальзак рассказывал о «второй приватной аудиенции». Из этого путешествия он привез матери «небольшие четки, которые изобрел Лев XII. Они гораздо короче, нежели те, что были до него».
Бальзак поспешил посетить музеи Ватикана, чтобы увидеть «Станцы» Рафаэля.
Десять лет спустя римские фрески Рафаэля увидит Жорж Санд. Она была возмущена тем запустением, в какое пришли лоджии Ватикана: «Все обветшало. „Станцы“ до того почернели, что на них можно разглядеть все, что душе угодно». Она также нашла, что многие произведения были просто приписаны кисти Рафаэля: он «сделал наброски, которые его ученики размалевали красками терракотового, канареечного и лазурного цветов».
Бальзак настолько искренне восторгался Рафаэлем, что совершенно не тревожился о состоянии картин. Он привык к полотнам, почерневшим от возраста и от использования олифы. Он оставался равнодушным к свежим краскам, краскам художников современной ему эпохи. Впрочем, поклонники романтиков находили их чересчур смелыми, поскольку яркие цвета для одежды еще не были введены в обиход. Жизнь протекала под сенью полутонов.
Посетив дворец Скьярра, где была вывешена картина «Скрипач», Бальзак решил и в своем особняке, где он поселится вместе с Евой, разместить художественную галерею. Необходимо было незамедлительно начать собирать коллекцию. Бальзак купил старое поблекшее полотно «Рыцарь Мальтийского ордена», настоящие «останки картины». В Париже один из учеников Давида и Жироде при помощи своих инструментов и химических реактивов сумеет восстановить этот шедевр.
20 апреля Ева и Оноре подсчитали свои финансовые ресурсы и решили сесть 22-го на пароход, отправлявшийся из Чивитавеккиа в Геную. Там Бальзак купил кровать со стойками. «Я вовсе не испытываю пристрастие к хламу, но я испытываю пристрастие к нашей берлоге», — оправдывался Бальзак.
Влюбленные захотели посетить Граубюнден. 8–10 мая Ева и Оноре находились в Женеве, затем они отправились в Берн, где на них обратил пристальное внимание принимавший их русский посол Павел Крюденер.
Своих хозяев Бальзак очаровал пленительным рассказом о перевале Симплон и озере Орта: «Мне хотелось бы удержать в памяти каждое слово. Его лицо, озаренное воодушевлением, показалось мне менее неприятным, хотя на первый взгляд весь его облик производит отталкивающее впечатление. Он среднего роста, но полнота (которой особенно разительно отмечены две части тела: лицо и живот) могла бы придать ему уродливо-комический вид, если бы не его угрюмая и задумчивая физиономия. <…> Цвет его волос необычен, да и прическа странная: волосы ниспадают на лоб и воротник его сюртука большими неравномерными прядями, причем подстрижены они прямо, как у женщины. Довольно густые брови отбрасывают тень на глубоко посаженные, необычайно выразительные глаза. Впрочем, взгляд у него скорее рассеянный, нежели наблюдательный, и трудно поверить, что этот человек, кажущийся таким спокойным, таким умиротворенным, таким равнодушным ко всему, что его окружает, является превосходным творцом, который не имеет себе равных в самом проницательном жанре, отличающемся тончайшими наблюдениями и мельчайшими подробностями. У него очень приметный нос, а надо ртом, немного деформированным из-за отсутствия нескольких зубов, возвышаются весьма живописные усы. Его платье так же наглухо застегнуто, как и он сам, и за весь вечер он ни разу не снял белых перчаток, которые резко контрастировали с остальным его нарядом, скорее оригинальным, нежели элегантным»[53].
16 мая, когда в Базеле и Золотурне отмечали праздник святого Оноре, любовники провели незабываемую ночь.
10 июня 1846 года Ева сообщила, что беременна. Ребенок — вот кто придаст новые силы Бальзаку. Он всегда хотел занимать в обществе определенное положение. Именно на этом желании зиждились его моральные устои и воля. Теперь ему надлежало стать человеком с безупречной репутацией и удостоиться чести прижать к сердцу ребенка, который, возможно, станет его последним произведением. «В тот день, когда родится мой Виктор-Оноре, я хочу, чтобы его отец окончательно избавился от долгов. Он должен жить в собственном доме, делать первые шаги к богатству и проявлению богатства, владеть волчишкиным особняком, 175 акциями Компании Северных дорог и не иметь даже малой толики задолженности. Чем дальше я продвигаюсь, тем быстрее возрастают мои силы, а моя любовь к тебе и к нему следует за ними, и ты должна в Висбадене чувствовать, как ласкают тебя мои флюиды».
В конце мая 1846 года госпожа Ганская распрощалась с Бальзаком в Хайдельберге. 28 мая он возвратился в Париж и написал ей: «О! Когда же придет конец! Соедини браком своих детей и приезжай! Давай больше никогда не расставаться! Африканский ткачик умер. Он любит лишь в присутствии своей муравушки». Бальзак называл свой член «африканским ткачиком», поскольку эта птичка наделена «безграничной преданностью», и «даже в отсутствие розы, в отсутствие своей пери, молчаливая, грустная, она продолжает любить» свою муравушку. Ева посоветовала ему быть благоразумным и не выписывать никаких счетов. В наступившем сезоне она не собиралась изменять своим привычкам. Она переменит обстановку, только и всего. Нет ничего более прекрасного, нежели провести лето в Крейцнахе, близ Франкфурта. Она проживет там с июня по сентябрь.
ПРОРВА: ВОТ КАК Я СЕБЯ ИМЕНУЮ
Почему все время приходится возвращать долги? Нужно платить то за это, то за то. И так без конца. Покупать — другое дело! Это просто, это понятно. Хотя и необходимо знать, что же ты хочешь купить.
По возвращении в Париж Бальзак был уверен, что его любовные мечты вот-вот воплотятся в жизнь, что недалек тот миг, когда он вступит в законный брак.
Следовательно, нужно было иметь дом в Париже для зимы и шале — а почему бы и не замок? — для лета. Оноре превосходно знал Турень, где родился. За 20 тысяч франков он сумеет подыскать красивый дом, где ничего не надо переделывать, следовательно, туда можно будет переехать тотчас же.
Удивительно, что никогда не возникает препятствий, если ничего не откладывать в долгий ящик!
В Турени Ева и Оноре будут проводить семь месяцев в году. У них всего будет вдоволь. Они станут питаться фруктами и овощами из своего сада. Для того чтобы платить сторожу и садовнику, они будут продавать некоторое количество домашнего вина, но самое главное — «их не побеспокоит ни одна живая душа».
Скоро вступит в действие железнодорожная ветка Париж — Тур. Весь путь займет 6 часов 14 минут. Билет в 1-м классе будет стоить всего 11,85 франка, во 2-м — 8,95 франка и 6,65 франка — в 3-м.
3 июня 1846 года Бальзак отправился в Вувре, чтобы внести себя в списки покупателей недвижимости. Он осмотрел небольшой замок с двумя башенками и два земельных участка, находившиеся в частной собственности. У подножия замка протекала Луара. Куй железо пока горячо. Это более чем вожделенный замок: «Монконтур выставлен на продажу. То, о чем я мечтал на протяжении 30 лет, воплощается или может воплотиться в жизнь». Возникла только одна проблема: за это чудо необходимо было заплатить не 20, а 80 тысяч франков. К тому же требовалось безотлагательно внести залог и оплатить дорожные издержки. Ева должна была подписать поручительство по векселю.
Но Ева никогда не потворствовала тому, что считала досужими вымыслами. Жить семь месяцев в году в загородном доме, не видеть никого, влачить свои дни в одиночестве, в которое ее хотел ввергнуть Бальзак, — это не для нее. К тому же Анна мечтала о модных магазинах, приемах, театрах. Она хотела жить в Париже, а не где-нибудь еще.
13 июня 1846 года Бальзак получил известие о смерти отца Георга, Шарля-Филиппа Мнишека. Бальзак принадлежал к числу тех оптимистов, для которых смерть не существовала, если только она не возникала где-то рядом. Это печальное событие заставило его задуматься о собственной смерти. На этот раз он счел за благо составить завещание. Перво-наперво необходимо было узаконить отношения с Евой и не мешкая жениться на ней. Анна вот-вот выйдет замуж. Она поймет, если ее мать поступит подобным образом, связав свою судьбу с «человеком, которого давно любит».
Граф Шарль Мнишек оставил в наследство своим сыновьям Георгу и Андре замок на Волынщине, который представлял собой «польский Версаль». Мнишеки владели огромными земельными угодьями, но, как и Ганские, проводили один месяц в Дрездене, другой — на водах в Германии, зиму — в Италии, лето — в Швейцарии. Когда они приезжали на Украину, то устраивали бесконечные приемы и балы, охотились или просто прогуливались. Как только заканчивался один безумный год, тут же возникала потребность думать о следующем. Какое состояние могло выдержать подобные забавы?
Для вступления в наследство Георг еще был слишком молод, и к тому же он не интересовался ничем, кроме насекомых, которых присылал ему Бальзак. Его брату Андре исполнилось всего 22 года. Ева Ганская предвидела «враждебные происки» против Анны и Георга и поэтому осталась в Польше.
И вновь письма от Евы стали приходить крайне редко. Неужели ей пришлась не по нраву мысль купить Монконтур? Бальзак пустился в объяснения: «Я хочу иметь загородный дом из-за тебя и ради экономии. Возможно, было бы предпочтительней располагать капиталом и оборачивать его». Иными словами, он намеревался купить побольше акций Компании Северных дорог, ведь железная дорога уже начала функционировать. Правда, акции продолжали падать, но ведь это делалось для того, чтобы лучше их разместить.
В течение всего лета 1846 года Бальзак прилагал невероятные усилия, чтобы писать «Бедных родственников», осматривать продававшиеся дома, любить Еву, думать о будущей совместной жизни. Улица Басс стала слишком шумной, на ней появились дети. Если он решит съехать, то куда? Должен ли он снимать квартиру? Это 3 тысячи франков. Купить? Было бы хорошо, если бы акции Компании Северных дорог значительно выросли в цене, ведь дом обошелся бы в 50–60 тысяч франков.
Лора Сюрвиль находила своего брата измученным, затравленным. Перед тем как исчезнуть с глаз долой, госпожа Брюньоль добивалась возмещения морального ущерба. Необходимо было изыскать по меньшей мере 7 тысяч франков. Чувствуя поддержку семьи Оноре, которая поднимала на смех женитьбу на польке, Луиза де Брюньоль ужесточила свои требования. Она задыхалась от ненависти и изнемогала от отчаяния, что вынуждена расставаться с Бальзаком, которого любила.
Георг Мнишек, с тех пор как умер отец, не спешил жениться на Анне. В Риме он наглядно доказал, что способен напропалую предаваться тайным любовным интрижкам. Помолвка не была разорвана, но Ева понимала, что должна находиться там, рядом со своими детьми, и неусыпно следить за ними до тех пор, пока их союз не будет освящен.
В конце июля сильная жара, мешавшая Бальзаку работать, спала. Но внезапно на улице у него разыгрался приступ холерины. Бальзак поспешил к Наккару, и тот прописал ему постельный режим. Для того чтобы побороть болезнь, Бальзак должен был соблюдать строжайшую диету, делать промывания желудка и пить воду, разбавленную сиропом.
Лежа в постели, Бальзак ломал голову: совершенно немыслимо, чтобы Ева, ставшая госпожой де Бальзак, дала жизнь ребенку, зачатому вне брака. «Я умру от горя, видя, что мой сын не будет узаконен брачным договором. Это убьет меня».
Нужно как можно скорее «связать узами» Еву и Оноре.
Независимо от возраста вступающих в брак во Франции требовалось письменное «высочайшее соизволение» родителей. Оноре попросил мать дать свое согласие, прибавив, что он «еще не сделал окончательного выбора». Мудрая предосторожность! Госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак, несомненно, не допустила бы, чтобы Бальзак женился на Еве. А Ева, позаботилась ли она о своих документах? Получить метрические свидетельства из польской глубинки — целая морока.
И вдобавок еще одно огорчение — беременность Евы протекала с осложнениями. Самыми тяжелыми были первые недели. «Она очень страдает», — говорили ее дети. Но больше всего на свете она боялась родов. Зачатому в мае ребенку уже исполнилось три месяца. Приближался день его рождения. Еве было уже 45 лет. Она плохо переносила предыдущие беременности. И теперь ей вновь придется в течение нескольких месяцев отказываться от светских удовольствий. Она чувствовала себя одинокой, забытой. Если она умрет, разве кто-нибудь станет заботиться об Анне так же хорошо, как это делала она?
2 сентября 1845 года Бальзак потерял терпение. Ева изображала страдалицу. «Люби меня, если можешь», — повторяла она. Оноре устал «лобзать» (в письмах) «каждую клеточку кожи Евы, с упоением сжимать ее в своих объятиях беззубого волка». Он поспешил к ней в Крейцнах, в пансион Гротиус.
Оноре продумал каждую мелочь. Вернувшись из Германии, он составит брачный договор в Меце.
Почему именно в Меце?
Уже в июне Бальзак намеревался тайно обвенчаться с Евой. Он посвятил в свой секрет двух друзей: Жана-Никола Лакруа, родственника доктора Наккара, занимавшего должность королевского прокурора Меца, и Жермо, префекта департамента Мозель. Бальзак не хотел, чтобы Виктор-Оноре считался незаконнорожденным ребенком, признанным «последующим браком». Таким образом, возникала необходимость, чтобы гражданские власти признали, что церковный брак уже имел место. Это будет фиктивное бракосочетание, «которое совершит сочувствующий нам священник».
Вопрос о документах оставался открытым. У Евы Ганской с собой был только паспорт, составленный на русском языке. Требовалось еще по меньшей мере свидетельство о рождении. Подобная бумага внушала ужас Еве, которая всегда молодилась. Не переставая называть себя «старой» и «усталой», она не хотела уточнять свой возраст, особенно для Бальзака.
К тому же Ева Ганская умалчивала о том, что опасалась, как бы рождение ребенка не повлекло за собой скандала не только в семье, но и при дворе, где некоторые ее родственники были приближенными царя. Она решила родить тайно, доверить ребенка Бальзаку и скрыться в Верховне, заставив всех позабыть о себе.
А тем временем Ева приехала к детям в Висбаден и поселилась в доме, располагавшемся напротив курортных зданий. В этом городе 13 октября 1846 года состоялось венчание Георга и Анны.
Никогда еще Оноре не был столь трогателен. Съездив в Мец, чтобы уладить проблемы, связанные с тайным бракосочетанием, он вернулся в Париж и лишился сна. Ему нравилось участливо заботиться о Еве: «Вечная мысль моих мыслей, сердце моего сердца, ты, которая в этот миг одарена двумя сердцами, чтобы любить меня, двумя кровями, двумя жизнями, а у меня есть лишь огромная любовь и безграничная преданность и эти два прекрасные создания, ты, которую дал мне Господь, и Виктор-Оноре, который исходит от нас».
Поняла ли Ева, до какой степени любит ее этот человек? Если бы она могла, помимо своего восхищения, проявлять к нему немного нежности. Но она осторожничала. «Делай что хочешь, — говорила она, — но не обдирай меня как липку».
А ведь скоро представится подходящий случай. И тогда придется порыться в «сокровищнице волчишки».
КАК ПРАЧЕЧНУЮ ПРЕВРАТИТЬ ВО ДВОРЕЦ
Все периоды истории развития цивилизаций сводятся к возведению городов, а этапы жизни человека — к обустройству его дома.
По возвращении Бальзак с той же энергией, которой он был обуреваем при создании романа за 50 или 100 ночей, взялся за решение вопроса о приобретении дома, где должны были поселиться Ева и Виктор-Оноре. Госпоже де Брюньоль он предоставил возможность помочь ему в этом благородном деле и полную свободу действий.
Генеральный откупщик Божон, живший во дворце на Елисейских Полях, построил себе резиденцию для галантных увеселений. В 1817 году там были оборудованы Надземный променад, или Французские горки. В 1840 году Жан-Рафаэль Блеар за 500 тысяч франков приобрел весь этот архитектурный ансамбль и земельные угодья, которые с 1845 года начал по частям продавать. В течение года цены на земельные участки выросли вдвое. Одним из покупателей был художник Теодор Гюден (1802–1880). Другой собственник, Пьер-Адольф Пеллетро, намеревался продать дом, расположенный на улице Фортюне. Госпожу де Брюньоль, наделенную «широкими полномочиями», попросили поторопиться.
Ей было поручено купить дом, где она не будет жить, куда даже не ступит ее нога. Дом, где поселится ее счастливая соперница. Жестокая участь!
В пятницу 25 сентября, после трудных торгов, госпоже де Брюньоль удалось снизить цену до 50 тысяч франков. Значительная часть суммы 32 тысячи, а также пени в размере 5 % будут внесены лишь 28 сентября 1849 года. Госпожа Оноре де Бальзак окончательно погасит долг лишь в сентябре 1850 года, когда улица Фортюне станет улицей Бальзака.
В 1846 году Бальзак «помимо суммы, оговоренной в договоре», то есть из-под полы, выплатил 18 тысяч франков в виде акций Компании Северных дорог.
Дом имел очень странный вид. Снаружи он походил скорее на сарай или заброшенную мастерскую, нежели на особняк. Блеар разместил там конторы, которые затем уступили место прачечной. В подвалах еще оставались ледники Божона. «Внешний вид дома просто ужасен, — скажет Бальзак. — Это была настоящая лачуга, которая смахивала на сумасшедший дом, поскольку на ее окна были установлены решетки. Перед домом раскинулся садик шириной в 20 метров и длиной в 24 метра, походивший на тюремный дворик». «Но что вы хотите, — говорил Бальзак герцогине де Кастри. — Я там обрел одиночество, тишину и дешевизну».
Для того чтобы Божон стал приемлем для проживания, ничего не надо было строить, только следовало «сделать ремонт и уборку». Бальзак обратился к самому дешевому архитектору. Это был итальянский художник по имени Санти, «добрый малый, честный человек, к тому же несчастный». Ему Бальзак выплатил за работу 20 наполеондоров, взяв расписку в получении денег.
С ноября 1846 года Бальзак только и делал, что занимался домом. Он обходил всех антикваров и краснодеревщиков. Грое изготовил мебель для его библиотеки, Шапталь продал ему старинную мебель, Солильаж — ткани, Пайар — бронзовые изделия. Бальзак не брезговал и посещением лавок старьевщиков, как Ремонтанк («кузен Понс»), который коллекционировал старые звонки, треснувшие блюда, весы, старинные гири, склеенные фарфоровые изделия. Лавки торговцев железом могли оказаться «волшебной шкатулкой». Любое изделие, купленное там, превращалось после реставрации в настоящую музейную реликвию, подлинный шедевр.
Бальзак, скупавший монеты, предметы мебели, всякого рода безделушки, в полной мере выказывал любознательность, экстравагантность и артистические наклонности.
Ужасная прачечная превращалась в один из самых оригинальных домов Парижа.
Бальзак писал Еве Ганской: «Когда ты увидишь этот дом, тебе покажется, что он всегда выглядел так, как теперь, и ты никогда не сможешь догадаться, в каком чудовищном состоянии он был, когда я его покупал, и ты спросишь себя, как же можно было потратить всего 23 тысячи франков на его ремонт».
Эти 23 тысячи быстро превратились в 30, затем, в июле 1847 года — в 38 тысяч франков. В августе 1847 года Бальзак оценил общие затраты на дом в 300 тысяч франков, включая обстановку. Он нашел утешение в словах Маргонна, который назначил за дом цену в 700 или даже 800 тысяч франков.
С уверенностью можно утверждать лишь одно: за целый год Бальзак не сподобился написать ни единого связного произведения. Целыми днями он следил за ходом работ, встречался с подрядчиками. Он приказал вырыть погреб, чтобы установить там калорифер. Ева проявляла осторожность. Бальзак отдал на реставрацию картины художников XVIII века, испорченные сыростью, велел вскрыть замурованные потайные двери. Он обходил антикварные лавки, перевозил мебель, подбирал занавеси в тон цвету стен.
Вскоре обличье этого дома, а вернее пребывание в этом пустом доме, куда Ева по-прежнему отказывалась переезжать, стало превращаться в «смертельный яд». Этот дом был воздвигнут игрой воображения Бальзака, при том, что разум доказывал несостоятельность его действий. «Весьма любопытно взирать на разногласия между разумом и воображением» (7 августа 1847 года). Иногда Бальзак начинал понимать самоубийц. Самоубийство — наилучший выход из невыносимого несоответствия между желанной жизнью и реальным существованием: «Вид стольких вещей, на которых ежеминутно останавливают свой взгляд мои глаза и которые напоминают мне о вожделенной, но несбыточной жизни, убивает меня».
Порой в этой ожесточенной, упорной работе он, шутки ради, позволял себе вольности. Ручка смывающего устройства в отхожем месте будет сделана из богемского стекла. В умывальной комнате он поставит «зеркало, чтобы было удобнее брить бороду, небольшой шкаф, куда я буду складывать нательное белье, и небольшую галошницу для туфель и сапог». «Над кроватью надо повесить кропильницу», портрет Марии Лещинской, двоюродной прабабки Анны Ганской, а еще лучше — портрет прадеда, «Людовика XV на коне».
Наполеон любил посудачить о своем «бедном дядюшке Людовике XVI». Бальзаку тоже не был чужд семейный дух.
Но тут госпожа Ганская окончательно вышла из себя. Под предлогом обустройства дома Бальзак удовлетворял свой «извращенный рассудок и маниакальные пристрастия». Он отвечал, что следовал примеру животных: вил гнездышко, украшал его, создавал в нем уют. Так поступают все, кто любит.
2 июля 1847 года Бальзак внезапно остановился и принял решение: «Начиная с сегодняшнего дня больше не будет никаких приобретений. Все если не доделано, то по крайней мере приведено в надлежащий порядок». 2 августа он подтвердил: «Я постарался дать вам понять, что я не какой-нибудь там коллекционер, а человек, поставивший перед собой цель: обставить дом Вашего Божества подлинными произведениями искусства по цене заурядной мебели. […] На всех моих счетах проставлено число. Если среди них вы найдете хотя бы один, подписанный позднее 2 июля (день, когда он пообещал прекратить любые траты), я дозволяю вам бросить мне в лицо, что я не люблю ни вас, ни Анну, ни Георга».
ЛЮБОВЬ — ЭТО ЖЕЛАНИЕ ДАТЬ ЖИЗНЬ НОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Как же Виктор-Оноре?
Конечно, Бальзак поторопился приобрести дом без предварительного согласия Евы, чьи акции Компании Северных дорог послужили первым взносом. То, что эта сделка была совершена впопыхах госпожой де Брюньоль; то, что Бальзак прельстился настоящим убожеством и над ним станет потешаться вся польская община; то, что, выбирая мебель, Оноре проявил, образно выражаясь, редкостную дальновидность; то, что, стремясь украсить жилище, он не знал меры в зеркалах, двойных дверях, залах для приемов; то, что он построил места общего пользования, галерею, словно для музея; то, что он намеревался привести в порядок дорогу, по которой раньше ходил Божон из дома в часовню, маленькую церковь Сен-Николя, приписанную к приходу Сен-Филипп-дю-Руль; то, что одной только Еве в Париже будет дарована королевская привилегия каждое утро, встав с постели, удовлетворять религиозные потребности в собственной церкви, где она будет слушать мессу с высокой кафедры, которая одна стоила 30 тысяч франков, — во всем этом, по его представлению, и заключалось подлинное величие. «Очень хорошо, но кто заплатит за все это кривляние?» — думала Ева Ганская.
«Ну что за мрачные мысли! — отвечал Бальзак. — Дом приобретает неслыханную ценность, ведь чем больше производится работ, тем он становится лучше и нарядней. Он буквально на глазах превращается в диковинку».
Те редкие письма, которые Бальзак получал осенью и зимой 1846/47 года, выявили «дикарские замашки» и «грубые выходки» Евы. На него градом сыпались «проклятья». Еве не нравилось, что Бальзак «выкручивал ей руки», не считаясь с ее мнением. Свадьба Анны уже состоялась. Свадьба Евы с Оноре откладывалась до греческих календ. Ева предпочитала выйти за него замуж через год и узаконить гражданское состояние Виктора-Оноре в брачном контракте. После родов она вернется на Украину во избежание лишних расходов.
И вдруг… Ева Ганская сообщила Бальзаку о преждевременных родах: «Сегодня наступил самый жестокий для меня день, ибо я похоронила столько надежд». 29 ноября 1846 года она написала своей сестре: «Я спасена». Спасена, конечно, не от Бальзака — от беременности. Дочь своего века, Ева всегда приравнивала колыбель к могиле.
С 1 декабря 1846 года по 20 января 1847-го Бальзак совсем не работал. Он писал: «Ласки женщины обрекают Музу на исчезновение и смягчают суровую твердость работника». К нему не вернется вдохновение и он не сможет закончить «Кузена Понса», если госпожа Ганская не позволит ему увидеться с ней.
Наконец, в январе 1847 года она соизволила согласиться. Он был вынужден поставить ультиматум: «Мне хотелось бы знать, поеду ли я жить в Россию или ты хочешь поселиться в Париже. Заклинаю тебя своей жизнью, реши этот вопрос» (15 января 1847 года). Она еще продолжала обороняться: «Волнения способны убить меня». Чьи волнения? Ее? Она уже все предала забвению. Конечно. Волнения безутешного, неуправляемого Оноре. Ева не желала ни «глотать слезы», ни терпеть присутствие человека, «который отныне не сможет произнести слово дитя». Оноре, самый обездоленный, самый несчастный, самый обманутый человек на всем белом свете, должен непременно выглядеть веселым, забавным, потешным, эдаким Санчо Панса. Таков его удел.
В субботу 16 января Ева дала знать, что проведет два месяца с Бальзаком в Париже: «Соблаговолит ли пухленькая, добрая, нежная и сластолюбивая Ева понять, что именно в ней заключается смысл жизни ее Оноре?»
А тем временем сын госпожи де Гидобони-Висконти вырос. Нет сомнений, что Бальзак ни разу его не видел. Он умрет в 1875 году. На портретах он как две капли воды похож на Бальзака.
ОДИН ОТЕЦ СРЕДИ ВСЕХ ПРОЧИХ
«У каждого человека есть своя правда, но писатель выражает всеобщую правду», — пишет Мадлен Фаржо. Это в высшей степени справедливо.
Во всем этом запутанном клубке чувств сохранилась часть личности Бальзака, мыслящая трезво и даже посмеивающаяся над тем, что с ним приключилось. Писатель исподтишка подтрунивал над собой. Это хорошо заметно в «Кузине Бетте», романе, в котором переплелись воедино трагедия и водевиль, как напишет Жорж Фейдо.
Валери Марнеф — отнюдь не Ева Ганская. Эта женщина, вышедшая замуж за тяжелобольного, обречена «прожигать жизнь», иными словами, позволять ухаживать за собой. Ее благосклонности добиваются четыре любовника. Забеременев, она без особого труда внушает каждому, что именно он будущий отец. Они все искренне верят ей и готовы «исполнить свой долг», чтобы помочь матери своего ребенка.
Первый отец — Юло. Барон Гектор, член Государственного совета, охотно оказывает протекцию мужу госпожи Марнеф, который изъявляет желание стать начальником канцелярии. У Юло водятся бешеные деньги. Неконтролируемые суммы плывут ему прямо в руки от незаконных спекуляций в Алжире, куда он отправил своего дядю на пост интенданта. Юло содержит для четы Марнеф квартиру на улице Вано.
Отцом ребенка Валери может с равным успехом быть и бакалейщик Кревель, очень богатый вдовец, преисполненный решимости жениться на Валери после смерти тяжелобольного Марнефа.
Отцом ребенка считает себя также и барон Анри Монтес де Монтеханос, бразильский любовник Валери, и она поддерживает его в этом убеждении. После смерти Кревеля, ведь тот долго не протянет, Валери собирается выйти замуж за Монтеса.
И наконец, скульптор Венчеслав Стейнбок, подлинный отец, которого любит Валери.
Чтобы стать отцом, необходимо всего лишь немного самодовольства, а уж этого у мужчин всегда в избытке.
ДРУЖЕСКАЯ ТРАПЕЗА
В октябре 1846 года в Висбадене и в январе 1847 года у себя дома на улице Басс Бальзак, которому все никак не удавалось жениться, присутствовал на свадьбе и разделял мечты о свадьбе.
«Мы все хоть один раз в жизни присутствовали на свадебном балу. Каждый может обратиться к своим воспоминаниям и улыбнуться», — писал Бальзак.
Итак, 13 октября 1846 года в Висбадене сыграли свадьбу Георга и Анны Мнишек. Бальзаку эта свадьба врезалась в память своим изобильным, патологическим, грубым обжорством. Переболев гепатитом, он часто теперь довольствовался на обед одним яйцом и супом. И поэтому от вина, словно от самых крепких напитков, кровь бросилась ему в голову. На свадьбе Анны «подавались самые затейливые блюда, корюшка в несравненном фритюре, рыба, выловленная в Женевском озере, и крем для плумпудинга, который мог повергнуть в изумление знаменитого доктора, составившего в Лондоне его рецепт». Если мы обратимся к роману «Кузен Понс», написанному приблизительно в это же самое время, то увидим, что Бальзак восхищался пищеварительными способностями немцев, которые много пили, оставаясь смирными и спокойными. «Нужно обедать в Германии и видеть, как одна бутылка сменяет другую. Это похоже на то, как одна волна догоняет другую на уютном пляже Средиземного моря. Содержимое бутылок исчезает так быстро, словно немцы наделены впитывающей способностью губки».
1 января 1847 года Бальзак устроил прием на улице Басс. Лора Сюрвиль хотела представить жениха Софи ее дяде, великому, известному писателю, всегда готовому выполнить любую прихоть своей племянницы «с присущей ему учтивостью».
По правде говоря, Лора рассчитывала с помощью лукавства и жизнерадостности брата немного растормошить и, возможно, подтолкнуть к принятию решения крупного лесоторговца, которому уже перевалило за сорок и который мог бы жениться на Софи. Но в девочке не было ничего, что могло бы привлечь к ней внимание, не говоря уже о назойливости ее матери, старательно соблюдавшей приличия и искоса бросавшей взгляды на дочь, умоляя ее быть полюбезнее со стариком. Свадьба так и не состоялась. Лесоторговец нанес обычный визит вежливости. Он не захотел связывать свою судьбу с девочкой, родители которой потакали всем ее прихотям и превозносили до небес ее достоинства. Родившаяся под счастливой звездой для отца и матери, которые все спускали ей с рук, эта девочка, выйдя замуж, могла принести мужу одно несчастье.
На свадьбе и на вечере знакомства Бальзак с пристальным вниманием наблюдал за пожилыми супругами. Совместная жизнь приносит страдание. Утратив способность любить, найдут ли супруги в себе силы поддерживать друг друга в трудные моменты? Или они становятся друг другу обузой, более тяжкой, нежели невежество, глупость, смерть?
На подобных приемах резко бросаются в глаза различия, даже в рамках одной семьи, между богатыми и бедными родственниками. «Есть женщины, которые озабочены тем, какой успех они произведут своими нарядами, и есть бедные родственники, чей куцый костюм навлекает на них позор». Есть «гурманы, думающие только о еде, и игроки, думающие только об игре. Все они, богатые и бедные, завистливые и любезные, философы и фантазеры, толпятся вокруг новобрачной, словно растения в корзине, которые обвивают редкий цветок. Свадебный бал — это общество в миниатюре».
«НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДРУГ»
Именно так Ева Ганская воспринимала Бальзака.
Бальзак покинул Париж 4 февраля. 6-го он приехал во Франкфурт. Они собирались провести в Париже два, возможно, три месяца. Ева взяла 7 тысяч франков, чтобы покрыть расходы: «Разве это много? Ты ведь насчитала вдвое больше». Конечно, это пока еще не слишком много, поскольку дети, Анна и Георг, должны иметь все, чтобы их семейная жизнь была по-настоящему счастливой. Оноре и Еве придется экономить. На ужин привратница будет готовить им рагу. Они будут редко покидать пятикомнатную квартиру, которую Бальзак снял в доме 12-бис по улице Нев-де-Берри, переименованной впоследствии в улицу Берри.
«Наедине друг с другом, не сдерживая более чувств, мы оба дадим волю нашим дурным характерам, и я тебя поколочу, а ты меня обругаешь».
Как только Ева оставляла детей одних и приезжала к Бальзаку, она тут же начинала подыскивать предлог для скорейшего возвращения. На этот раз она выдумала необходимость показаться врачу. Анна забеспокоилась. Она хотела иметь возможность в любой момент получать весточки от матери. Ева в свою очередь считала дни, остававшиеся до встречи с дочерью, которая составляла смысл ее жизни.
Ева непрестанно заботилась о своей репутации. Она даже не могла себе представить, чтобы кто-нибудь случайно увидел ее на террасе кафе. Последствия такой оплошности были бы просто катастрофическими. Итак, в Париже она вела унылое существование. Лишь один раз Бальзак видел, как она смеялась. Это произошло в театре «Варьете» на представлении «Всеобщего крестника»: «Как могла она так смеяться в отсутствие своей дорогой малютки?»
Иногда Ева соглашалась выходить в свет с Бальзаком. Они посещали концерты, Оперу, Итальянский театр, Салон 1847 года, где Делакруа выставил на обозрение публики шесть полотен, в том числе «Одалиску», хранящуюся ныне в Лувре, и несколько картин из марокканского цикла. Делакруа продавал картины больших размеров по 1500 франков.
По правде говоря, пребывание Евы в Париже началось с досадных неприятностей. Бальзак повез Еву в ее дом. У Евы сложилось четкое представление о замках, этих французских дворцах, которым подражала вся Европа. Она знала, что Франция буквально наводнена восхитительными дедовскими особняками в благородном стиле. Так почему же выбор Бальзака пал на этот чудовищный барак, похожий на складские помещения Санкт-Петербурга? Если бы не купол, который господствовал над зданием, можно было бы подумать, что ее взору открывалась фабрика. Покупая этот дом, Бальзак думал, конечно, о выгоде, вместо того, чтобы подумать об архитектурном убранстве или хотя бы об удобстве. Ева вошла, увидела, вышла. Одним словом, она кипела от негодования, и Бальзаку в очередной раз пришлось выслушать суровую нотацию.
Он защищался как мог: первоначальные потолки были скрыты подвесными, столяр должен был возродить старинные деревянные панели, окна и двери находились в плачевном состоянии, не говоря уже о лестницах, а еще требовалось вставить стекла, развесить зеркала, уложить битум… Короче говоря, оставалось начать и кончить.
Но доведет ли он до конца? Мастера-профессионалы за свои труды либо вовсе не получили денег, либо получили такие ничтожные суммы, что не могли больше верить Бальзаку на слово. Поставщики требовали, чтобы с ними расплачивались наличными. Зимой дом промерзал, ибо торговец углем отказывался отпускать товар в кредит, летом же превращался в раскаленную печь. Но можно ли в неотапливаемом помещении сохранить прекрасную мебель и картины?
Ева Ганская неумолимо стояла на своем. Она не даст ни гроша на обустройство этого жилища, столь же ветхого, сколь и вредного для здоровья. Прямой проход из дома в церквушку и кафедра, откуда Ева сможет слушать мессу, служили усладой амбициозным бредням Оноре, ибо к 1847 году сообщение с церковью Сен-Николя сводилось к печной трубе, откуда шел дым, заполнявший все комнаты. В ноябре 1849 года госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак посетила кюре Озура из прихода Сен-Филипп-дю-Руле. Кюре дал ей понять, что вместо того, чтобы тешить свое самолюбие собственной часовней, Бальзаку следовало бы позаботиться о бедняках прихода.
Во время пребывания Евы в Париже возникли и другие причины для тоскливого настроения. Бальзак должен был непременно закончить роман «Блеск и нищета куртизанок» и поэтому зачастую работал по ночам. Одну из глав он озаглавил «Драма в жизни светской женщины». Читала ли Ева строки о самоубийстве Люсьена де Рюбампре? В тюрьме Люсьен, привязав свой галстук к решетке камеры и встав на стол, повесился.
Когда в 1848 году этот роман выйдет из печати, смерть Люсьена заставит вспомнить о смерти некоего Дюрантона. Дюрантон, любовник Дельфины де Жирарден, разорился, истратив на нее целое состояние. В одном из писем он слезно жаловался ей на бедность. Она разразилась саркастическими насмешками. Дюрантон решил покончить с собой. Он написал о принятом решении своей любовнице. Она бросилась к нему и обнаружила его уже мертвым. История Дюрантона наделала много шума. По мнению Леона Гозлана, конец романа «Блеск и нищета куртизанок», а также сцена смерти Натана, который удавился («Дочь Евы»), вызывали у читателей ассоциации с самоубийством Дюрантона.
Разве сама Ева не получала от Бальзака писем, в которых он грозился лишить себя жизни? Разве не был он тем человеком, счастье которого разрушилось если не от бедности, то по меньшей мере от многочисленных долгов? А что Ева сделала для того, чтобы помочь ему выпутаться из затруднений? Бальзак воплощал в себе всех своих персонажей, и в то же самое время персонажи произведений Бальзака служили ему самым надежным средством избавиться от какого-либо недостатка, когда он смело преувеличивал и представлял эти недостатки в карикатурном виде. Марсель Пруст подметил эту особенность: «Порой Люсьен говорит устами Бальзака, и тот перестает быть реально существующим лицом…»
Приведем одну фразу из романа «Блеск и нищета куртизанок», к которой сводится вся суть «Переписки с госпожой Ганской»: «Разве я первый, кто отказался от честолюбивых замыслов, чтобы катиться вниз по торному пути необузданной любви?»
Вот уже целых три года, как Бальзак разъезжал по всей Европе и получал в качестве награды за любовь, в которой заключался смысл его жизни, редкие и вежливые письма: «Я тысячу раз целую твои прекрасные руки, иногда все еще пишущие мне письма». Самоубийство Люсьена означает, что Бальзак решил убить неукротимого любовника, в которого он превратился. Излечит ли смерть героя его создателя от величайшего духовного недуга: неблагополучной любви?
Бальзак из последних сил старался обеспечить Еве Ганской роскошную жизнь. Буржуазный мир — это общество, где все поставлено с ног на голову. Великие писатели преуспевают в жизни лишь в благоденствующие времена. Лапа-пелиньер содержал Рамо наравне с куртизанками, как один из «предметов роскоши». Бальзак пишет об этом в «Крестьянах»: «Как люди не поймут, что чудеса искусства невозможны в стране, где нет больших состояний и обеспеченной широты жизни!» Раньше генеральным откупщикам рубили головы, теперь писатели из кожи вон лезли, чтобы встать с ними вровень. Стремясь найти прибежище в славянском мире, Бальзак рассчитывал вновь обрести эпикурейский оптимизм XVIII века, но на деле столкнулся с деспотизмом буржуазной усредненности.
В 1847 году у него прибавилась еще одна забота: Палата депутатов настойчиво требовала привлечь к ответственности авторов некоторых романов, печатавшихся в газетах. «Появилось множество романов, толкающих на преступления». Бальзак ответил, что доселе никогда не встречал романистов-убийц. «Что за важность! — возражали блюстители нравов. — Если писатели выставляют на суд зрителей преступление, значит, они его замышляют. Виновны в намерениях».
«ПРИ СЛОВЕ „ЖЕНЩИНА“ ЕГО НАЧИНАЕТ ТОШНИТЬ»
Ты не представляешь себе, какое отвращение она вызвала у меня ко всем женщинам.
Приезд Евы Ганской спровоцировал приступ бешеной ревности у госпожи де Брюньоль, которую Бальзак был вынужден вычеркнуть из своей жизни. Для того чтобы не жить с ней под одной крышей, Бальзаку пришлось как можно скорее покинуть улицу Басс и поселиться на улице Фортюне. Суровые меры, предпринятые Евой Ганской, окончательно вывели из себя Луизу де Брюньоль, хотя Бальзак искренне верил, что ему удалось умаслить ее своими великодушными обещаниями: он дал ей 7500 франков и пообещал купить патент на торговлю табачными изделиями или марками.
15 апреля 1847 года Бальзак остался один (он сам выделил это слово). Он съехал с улицы Басс. Два месяца спустя, уже обосновавшись на улице Фортюне, он был не в состоянии навести хотя бы относительный порядок в своих бумагах, а следовательно, продолжить «Крестьян». Это означало окончательный разрыв с Жирарденом, уставшим ждать окончания романа. Бальзак чувствовал себя больным и разбитым. Вдруг выяснилось, что он не в состоянии отдавать распоряжения относительно дома, в то время как рабочим нужно было объяснять буквально каждую мелочь. Он чувствовал, что сходит с ума. У него вновь начались мучительные головные боли. Он говорил, что его болезнь вызвана воспалением паутинной оболочки. Эта болезнь постоянно давала о себе знать с тех пор, как в Санкт-Петербурге его хватил солнечный удар. Роже Пьерро склоняется к тому, что Бальзак страдал арахноидитом, то есть воспалением тонкой оболочки головного мозга.
В довершение всех неприятностей на улице Басс ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПРАВОСУДИЕ сошлись лицом к лицу. У госпожи де Брюньоль лопнуло терпение ждать обещанной компенсации за причиненный моральный ущерб, и она пригрозила снять копию с писем Евы Ганской, выбрав самые компрометирующие, те, что Ева писала, когда был жив еще господин Ганский, и те, где говорилось о беременности и преждевременных родах, которые можно было рассматривать как аборт. Это был прямой шантаж: если экономке не заплатят немедленно 30 тысяч франков, она пошлет копии писем в Верховню и Бердичев. И тогда семья Мнишек узнает, что в действительности представляет собой их сватья.
Нам известно об одном неоспоримом факте: Бальзак обратился к комиссару полиции, и тот принялся угрожать госпоже де Брюньоль тюрьмой. Если опять-таки верить Бальзаку, Луиза, представив себя на скамье подсудимых, превратилась в подавленное, жалкое существо. Пусть ее ждет тюрьма, она готова к испытаниям, она даже жаждет умереть. Она думала уже не о Еве Ганской, а о самой себе, ведь она в течение семи лет преданно служила Бальзаку, потому что любила его. Какова была ее цель? Показать сопернице, что ей лучше бы не наживать себе врага в лице Луизы де Брюньоль. Ева Ганская должна была уехать и никогда не возвращаться в Париж. И тогда жизнь на улице Басс потекла бы своим чередом. Луиза надеялась, что Бальзак останется с ней и они вместе состарятся, как мечтали в былые времена.
Испытывал ли Бальзак жалость к этой женщине, которой должен был все простить, поскольку она на самом деле любила его? Боялся ли он, как бы дело, переданное в руки правосудия, не получило огласки в парижских газетах? Догадывался ли он, что Луиза действовала не в одиночку, что за ней стояли Лора Сюрвиль и, возможно, госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак? Не исключено, что именно они подстрекали ее сеять панику в рядах польского неприятеля.
Бальзак отозвал свою жалобу. Вернее, не явился по повестке, присланной судьей Аристидом Бруссе. В то же самое время он хотел получить назад копии писем, сделанные Луизой, иначе «это было бы равносильно смерти».
Бальзак решился сказать Еве о скандале только 13 мая, после своего возвращения из Форбаха и Франкфурта, где он простился с Евой и откуда не мешкая уехал. Несомненно, он обо всем узнал гораздо раньше, но не рискнул омрачать неприятностями пребывание госпожи Ганской в Париже. «Карга хочет, — писал Бальзак Еве Ганской в понедельник, 17 мая 1847 года, — причинить тебе неприятности в Польше. <…> Встанем же вместе на защиту наших жизней, как я пытаюсь защитить их здесь».
Вначале Бальзак изображал перед Евой Ганской оскорбленного человека, требовавшего возмездия: «Она будет обесчещена. Правосудие навсегда подрежет Карге крылья. Она подохнет».
Суд вынес решение провести обыск на дому у «подлого создания». Но Оноре, похоже, меньше боялся огласки содержания украденных писем, нежели возможных рассказов Луизы де Брюньоль о том, что значил для нее Бальзак в течение всех этих семи лет.
В письмах к Еве Ганской он пошел на попятную. Карга сменила гнев на милость. Она отдаст письма. Просто она выразила желание, чтобы Бальзак пришел за ними сам. «Она вручила мне письма, сказав, что любила меня больше жизни… Ей бы хотелось получить небольшой аванс в несколько тысяч франков».
На самом деле Луиза де Брюньоль оставила у себя три подлинника и все копии.
То, что Луиза де Брюньоль сменила гнев на милость, вовсе не принесло успокоения Еве Ганской. Деньги могут положить конец шантажу, однако они не способны избавить от домогательств любящей женщины. А то, что Бальзак поднял на ноги своего друга, комиссара полиции, следователя Гландаза и свою семью, стало причиной ненужной огласки.
«Она сумасшедшая, — отвечал Бальзак, — а сумасшедшим невозможно запретить предаваться безумству». На самом деле он сам был безумней в сто раз. Он хотел ехать в Россию искать царской милости, добиваться русского подданства и права жениться на Эвелине. «Итак, у меня созрел план продать дом и все мое барахло и стать учителем французского языка, танцев и хороших манер на Украине… Я поеду в Санкт-Петербург просить разрешения поступить на службу Его Величества, хотя бы даже в украинскую полицию».
«ПЛАМЕННЫЕ ПИСЬМА СЛЕДУЕТ ПРЕДАВАТЬ ОГНЮ»[54]
В начале августа 1847 года жизнь в Париже протекала без сколько-нибудь значительных для Бальзака событий. Его мозг совсем обленился. Иногда он устраивал для себя роскошные обеды и ходил на концерты итальянского травести, который превосходно подражал шведской певице-сопрано Женни Линд.
Акции Компании Северных дорог, куда он вложил часть «волчишкиной сокровищницы», продолжали падать.
Начиная с 25 июля 1847 года Бальзак больше не говорил Еве Ганской об украденных письмах. Он выплатил госпоже де Брюньоль 5 тысяч франков. Но обещал ей, безусловно, много больше. В ноябре 1847 года Луиза де Брюньоль смогла купить магазин художественных изделий в проезде Шуазель. В былые времена Бальзак часто занимал деньги у своей домоправительницы, иногда она вообще не получала жалованья и оплачивала его долги. В июне 1848 года он признает, что должен Луизе де Брюньоль 10 тысяч франков.
Вскоре Луиза де Брюньоль утешилась и остепенилась. 30 марта 1848 года она сочеталась гражданским и церковным браком с Шарлем-Исидором Седо (1794–1868), богатым буржуа, который имел, согласно Бальзаку, 15 тысяч франков ренты. Более того, он был влюблен в свою жену.
В парижских архивах мы нашли имена свидетелей, присутствовавших на свадьбе Луизы де Брюньоль. Со стороны невесты мы встречаем там всех родственников и друзей Бальзака: зятя — Сюрвиля, Теодора Даблена. Альфонса Лоран-Жана. А в глубине церкви сидела госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак.
До 17 июля Ева Ганская не давала о себе знать. Не получая от нее вестей, Бальзак отважился написать Грингале и Зеферине. Ева ответила, что не считает себя связанной какими-либо обещаниями. «Постаревшая и уставшая», она жаловалась на некую «душевную болезнь», которая особенно проявлялась «в страхе перед чернилами». Иначе говоря, писать она будет редко и встретится с ним только через два года. Бальзак ответил ей: «За свою глупость я заслужил и не такого наказания, но я погибаю от тоски». 12 августа он окончательно впал в отчаяние. «Я бы благословил смертельную болезнь». Она посоветовала ему обратить свой взор на молодых и красивых женщин. Он повторил: «Я нуждаюсь в пожилой даме. Это жизнь. Это поэзия». Для него время остановилось в 1833 году, году их встречи. Ему всегда будет 34 года, а она навеки сохранит свой «ангельский характер».
23 августа Бальзак пообещал сжечь все письма Евы. Сделает это он 3 сентября. Он сохранит только «несколько цветов, лоскутки от платьев, пояса».
И тогда, даже не предупредив ее, 5 сентября 1847 года он отправился в Верховню.
Это было странное путешествие, которое он держал в тайне от всех, кроме сестры. Ей Бальзак сказал, что хочет отвести беду, грозящую Еве Ганской. «Он принял решение покинуть родину, если ему не улыбнется удача, и мы можем считать его конченым человеком», — писала Лора Сюрвиль.
Бальзак, словно рыцарь, уехал лишь затем, чтобы освободить свою даму сердца, «отвести беду, которую в России могут вызвать россказни госпожи де Брюньоль».
ПУТЕШЕСТВИЕ ПОСЛЕДНЕГО СТРАНСТВУЮЩЕГО РЫЦАРЯ
Наш путешественник, покинувший Париж в воскресенье 5 сентября 1847 года, взял с собой самую невзрачную одежду, чтобы остаться незамеченным. Что касается еды, то он ни в чем не испытывал недостатка: он наполнил корзину морскими сухарями, теми самыми, что рыбаки берут с собой в дальнее плавание, а также прихватил копченый язык, сахар и бутылку анисовки.
Как только Бальзак удалялся от Луизы или Евы, от судебных повесток, судебных актов с предупреждением, от романов, печатавшихся в ежедневных газетах, он сразу же становился беспомощным. Впрочем, по счастливой случайности, он сел именно на тот поезд, которым ехали две весьма известные светские дамы: жена графа Павла Киселева, урожденная Потоцкая, а следовательно, приходившаяся родственницей Еве Ганской и невесткой русскому поверенному в делах в Париже, и графиня Ольга Нарышкина, сестра госпожи Киселевой. Благодаря своим попутчицам Бальзак без затруднений пересек немецкую границу.
Прибыв в Брюссель, он пересел на поезд, следовавший по маршруту Брюссель — Кёльн. Из Кёльна на дилижансе добрался до Ганновера, затем сел в карету экстренной почты, ехавшей со скоростью французских дилижансов. Что значит скорость! Лишь бы ему успеть в Ганновере на железнодорожно-шоссейную перевозку, которая на следующий день доставит его в Берлин. Еще один день — и он уже был в Бреслау, где его взял под свое покровительство брат русского консула в Кракове, адъютант губернатора Вильно. Бальзак вручил ему рекомендательное письмо от доктора Рота, медика австрийского посольства. Из Бреслау в Краков ходил локомотив на дровяной тяге. После Глайзевица локомотив останавливался на границе. Путешественника, который вот уже пять дней жил, окутанный паровозным дымом, и изнемогал от тряски в дилижансах, вывели из себя таможенные формальности и необходимость замены головного состава. В Кракове Бальзак сел на венский курьерский поезд и пересек Галицию. В прошлом году австрийцы, подавляя вспыхнувший мятеж, перебили более ста тысяч человек. Край опустел. «Галиция, — писал Бальзак, — взывает о милости всеми своими костями».
В Бродах потребовалось вмешательство русского консула, чтобы получить пропуск в Радзивилов. Имя Бальзака производило магическое действие. Вся Европа считала его самым знаменитым из всех живущих писателей, поскольку в Австрии и в России он избежал цензуры, которая наложила запрет на множество иностранных книг, а бельгийские издатели, укравшие его произведения, хоть и лишили Бальзака авторских прав, обеспечили ему широкую известность. В Радзивилове ему был оказан триумфальный прием.
После Радзивилова Бальзака всюду встречали как знатного вельможу. Генерал Павел Хакель, директор таможенной службы, дал в честь Бальзака обед, достойный официального приема. Представители местной власти пришли засвидетельствовать ему свое почтение в салон госпожи Хакель. А затем, сев в кибитку с колокольчиками, он отправился в Дубно. В Дубно он наконец смог лечь в постель. Вот уже девять дней, как он колесил по вокзалам и мчался на почтовых лошадях. Теперь он готовился пуститься в тридцатичасовое путешествие через всю Украину. Перед его глазами предстал «великолепный Бос[55] протяженностью в 60 лье, настоящий европейский Бос. По дороге я встречал группы крестьян и крестьянок, идущих на работу или возвращающихся с работы. Они были веселы и распевали песни»[56].
13 сентября на закате солнца Бальзак прибыл в Верховню, которая походила «на своего рода Лувр, греческий храм, золотистый от лучей заходящего солнца и возвышавшийся над равниной».
Атала, Зеферина и Грингале, увидев его, были поражены. Письмо, в котором он сообщал им о своем приезде, пришло лишь через десять дней.
ЖИЗНЬ В УКРАИНСКОМ ЗАМКЕ
В Верховне Бальзак быстро понял, почему огромные земельные угодья Евы Ганской не обеспечивали ей материального благополучия. Пожар уничтожил постройки и значительную часть урожая. А следующий год, возможно, выдастся ненастным. Собранный в этот год урожай был до того обилен, что его невозможно было обмолоть из-за нехватки рабочих рук. В тот день, когда в России появятся механизмы, она станет «властительницей европейского рынка сельскохозяйственной продукции». Оба брата Мнишек, Георг и Андре, владели 20 тысячами арпанов лесов, или 60 тысячами дубов. Эта древесина могла пойти на изготовление железнодорожных шпал, в которых Западная Европа испытывала острый недостаток. Бальзак, превратившийся во время своего путешествия в предпринимателя, торопил сестру. Она непременно должна поговорить об этом с Сюрвилем, а тот пусть подсчитает себестоимость. Единственное, о чем Бальзак не подумал — о транспортных расходах. Кубический метр древесины, перевезенный во Францию с Украины, стоил астрономически дорого. Пришлось отказаться от этой затеи.
Бальзак устроился в Верховне так, словно жил здесь всю жизнь. Оранжевые цвета осеннего неба, раскинувшегося над бескрайними просторами, создавали у смертельно уставшего писателя иллюзию, что его прежняя жизнь уходит в небытие и начинается новая, совсем иная умиротворенная жизнь.
Замок в Верховне напоминал ему замок Тюндер-ден-Тронк из «Кандида», самый красивый замок в Вестфалии, «большую залу которого украшали гобелены». В Верховне вместо этого стены были увешаны зеркалами с облезлой амальгамой, в которых отражались терявшиеся за горизонтом хлеба. По вечерам мрак рассеивался светом масляных ламп. Как только наступали первые холода, начинали топить печь соломой.
Замок был расположен в такой глуши, что существовала насущная потребность содержать на месте всю обслугу: поваров, кондитеров, обойщиков, портных, сапожников, ткачей.
Ева Ганская разместила Бальзака во флигеле. В его распоряжении находились три комнаты: спальня, салон и кабинет. К Бальзаку был приставлен мужик, который падал на колени всякий раз, когда барин входил в комнату или просто вставал.
В Верховне Бальзак написал роман «Мадам де Ла Шантери», который войдет в «Изнанку современной истории». Это превосходное произведение имеет нравоучительный контекст.
Годфруа, молодого человека, попавшего, как и Рафаэль де Валантен, в отчаянное положение, от самоубийства спас не демонический антиквар. Ему на помощь пришла святая женщина, баронесса де Ла Шантери. Она — душа тайной организации, куда входят очень богатые люди, помогающие бедным, чьи человеческие качества они ценят очень высоко.
Кредо этого ордена, напоминающего основанный в 1810 году орден Рыцарей Веры в «Подражании Иисусу Христу». Годфруа читает эту книгу или, вернее, впитывает ее в себя, как это сделал Бальзак, когда Ева Ганская прислала ему «Подражание» в числе своих первых подарков. Общество, сплотившееся вокруг баронессы де Ла Шантери, не оставит Годфруа в беде и займется его образованием. Это общество будет приходить ему на помощь на протяжении всей его жизни, и тогда, когда он станет префектом, а затем полковником, генеральным откупщиком, депутатом, академиком, епископом, пэром Франции. Орден охотно привлекает к ведению дел молодую кровь, без которой не может существовать великая держава. У всех новообращенных есть время для обучения, а ведь для Бальзака время — самая большая роскошь на свете, ибо он всегда жил второпях. Все неофиты преисполнены решимости проявить в учении, а затем и в работе дух милосердия. «Высокие должности следует отдавать верующим людям, — пишет Бальзак, — поскольку только религия способна заставить народ принять как должное страдания и бесконечный пожизненный труд».
«Изнанка современной истории», будучи апологией человеколюбия, мыслимого как социальная связь и внутреннее действо, когда ближнего любят как самого себя, является памфлетом, направленным против филантропии, красноречивых и показных манифестаций дельцов от системы, столь многочисленных в XIX веке. Для Бальзака «благотворительность была тенью человеколюбия». Именно к человеколюбию прибегали тогда, когда хотели заманить сочувствующего в свои сети и с помощью агитации заставить его окончательно примкнуть к каким-либо группировкам или политическим партиям. Бальзак разразился упреками в адрес Эдме Шампьона (1764–1852), филантропа, прозванного «человеком в коротком голубом пальто». Шампьон прославился тем, что предоставлял освободившимся каторжникам и заключенным денежные суммы, помогавшие им найти место в общественной жизни. «Он хотел, чтобы не только левая рука, но и Франция, и весь мир знали о том, сколько дает его правая рука».
По вечерам в Верховне Бальзак читал вслух свой человеколюбивый роман.
Некоторые фразы он позаимствовал из «Подражания Иисусу Христу».
«Вся смертная жизнь полна таинств и осенена крестом. Не сомневайтесь в том, что ваша жизнь должна быть вечной смертью».
«Чем больше человек умирает в самом себе, тем больше он возрождается в Боге».
«Вы ошибаетесь, если начинаете стремиться к иным чувствам, отличным от страданий».
«Эта ужасная книга причиняет вам много зла», — писал Эжен Сю Бальзаку. Но Бальзак полагал, что «Подражание Иисусу Христу», напротив, надо читать, преклонив колени.
Одним из действующих лиц «Изнанки современной истории» является доктор Моиз Хальперсон, прообразом которого послужил доктор Кноте. Этот доктор-кудесник лечил госпожу Ганскую от ревматизма, заставляя ее погружать ступни в еще трепещущее чрево только что зарезанного поросенка. Бальзаку доктор Кноте прописал некие таинственные порошки. В благодарность Бальзак прислал доктору несколько скрипок, которые тот коллекционировал.
В декабре Бальзак написал нижайшее прошение на имя канцлера Российской империи, графа Нессельроде, чтобы тот посодействовал ему в получении царского разрешения вступить в брак с верноподданной Его Величества Евой Ганской. Это письмо отправлено не было. Несомненно, тут не обошлось без вмешательства Евы.
В январе Бальзак, похоже, напрочь забыл о том, что когда-либо ему придется пуститься в обратный путь. Однако 31 января наступал срок платежей по выданным Бальзаком векселям на сумму в 30 тысяч франков; акции Компании Северных дорог катастрофически падали. Необходимо было срочно изыскать средства, иначе пришлось бы лишиться всего; во Франции оппозиция, взявшая в свои руки инициативу проведения политических банкетов, дрогнула под натиском республиканцев. Париж взбунтовался. Отступать было поздно. Король, напуганный неистовой кампанией, развернутой против Гизо, вверил свою судьбу компетентным органам. Но полиция и армия укрылись в гарнизонах.
И 30 января Бальзак покинул Верховню, словно опавший листок, уносимый студеным ветром. С удовольствием ли взирала Эвелина на его отъезд в трескучий мороз? Можно с уверенностью утверждать, что она не позаботилась о том, чтобы защитить этого болезненного человека, которому в течение тридцати часов предстояло мерзнуть в санях, хотя портной Верховни и сшил для него «шинель, накидываемую поверх шубы и напоминавшую стену».
Вот и Ева Ганская оставалась непоколебимой, как стена. Правила приличия и присутствие детей вынуждали Бальзака говорить лишь намеками. Но так было даже лучше. Иначе она ответила бы ему категорическим отказом.
Эвелина по-прежнему мысленно переживала ужасные драмы. Положение ее дочери оставалось весьма уязвимым: Руликоские, родственники Анны, ведущие судебную тяжбу, намеревались отобрать у нее имущество. Здоровье Георга Мнишека вызывало беспокойство. Он был настолько тщедушным, что врачи прописали ему укрепляющую диету.
Главная мысль последующих писем Евы к Оноре сводилась к следующему: видеться — да; выйти замуж — нет. Жить в Париже — нет. Георг был самым крупным землевладельцем на Украине. Если бы он попытался покинуть свою страну по той причине, что Анна выразила желание жить в Париже вместе с матерью, его огромные земельные угодья были бы тут же конфискованы. На какие средства они стали бы жить?
15 февраля в Париже Бальзак получил объемистый пакет: Жюль-Франсуа Шамфлери, 26-летний начинающий литератор, прислал ему сборник своих произведений, предварив их длинным посвящением, которое содержало самые справедливые слова, когда-либо сказанные о Бальзаке. Читая письмо, Бальзак, возможно, повторял про себя некоторые фразы, которые доподлинно выражали его собственные мысли:
«По сути бенедиктинцы приходятся вам братьями».
«Я слышал, как обсуждали семейные проблемы, призвав на помощь не Гражданский кодекс, а ваши произведения».
«Существуют только два способа критиковать господина де Бальзака. Самый простой заключается в том, чтобы понять идею, послужившую исходным пунктом для „Человеческой комедии“. Второй способ, фактически недоступный современной литературе, состоит в том, чтобы, уединившись на год, тщательно изучить, — как изучают трудный язык, не только „Человеческую комедию“, но и все другие произведения господина де Бальзака. Это не сиюминутный труд. Возможно, лет через 20 или 50, когда десять терпеливых эрудитов соберут основополагающие материалы, человек, наделенный обширным кругозором, воспользуется плодами их работы и сведет их в большой и разносторонний комментарий».
Вскоре после смерти Бальзака Шамфлери нанесет визит вдове писателя. Он ей понравится, и она захочет вновь его увидеть. Она предложит ему безотлагательно взяться за работу, доработать незавершенные произведения «Крестьяне» и «Депутат от Арси», извлечь из беспорядочного нагромождения бумаг неопубликованные произведения.
Очень скоро Шамфлери превратится в «дражайшего малыша». Но «малыш» быстро устанет от экзальтированной и чувственной любовницы. Они окончательно расстанутся в 1851 году.
«ЭТА РЕВОЛЮЦИЯ ВОИСТИНУ СОСТАРИЛА МЕНЯ»
«Мы стоим на пороге великой революции», — написал Бальзак 20 февраля. 23-го в Париже разразилась революция, заставшая врасплох Луи-Филиппа, занятого более насущными, по его мнению, заботами: заменой правительства, реформой Конституции, подготовкой всеобщих выборов… Гизо, противник реформ, 23 февраля был отправлен в отставку[57].
23 февраля Бальзак обедал у Маргоннов. Восстание разрасталось, ширилось. Большинство приглашенных предпочли остаться дома. Под покровом ночи армия не собиралась браться за оружие. Она только пыталась разрушить баррикады. Как только возникала угроза перестрелок, национальная гвардия, которой Луи-Филипп с 1840 года не уделял должного внимания, вставала между армией и бунтовщиками. Возвращаясь на улицу Фортюне, Бальзак увидел, что столкновения произошли на авеню Руль.
В ночь на 24 февраля король принял решение отречься от престола и установить регентство герцогини Орлеанской. Он пешком покинул дворец Тюильри. Кареты ждали его на площади Согласия.
На следующее утро Бальзак, наделенный от природы любознательным характером, прошелся по Елисейским Полям вместе с толпой зевак. Около Тюильри он услышал, как Эмиль де Жирарден объявлял об отречении короля. Бальзак вошел во дворец. Он присутствовал при разграблении Тюильри и наблюдал за поведением толпы. Сначала все восторгались убранством дворца, но затем, решив, что добру нечего пропадать зря, начали набивать себе карманы. Толпа предалась грабежу, и вечером во дворце ничего не осталось. Бальзак прихватил украшения и драпировки трона, а также школьные тетради сыновей Луи-Филиппа.
Разграбив Тюильри, бунтовщики ворвались в казармы, чтобы завладеть оружием. Дворец Нейи, принадлежавший Луи-Филиппу, был сожжен.
24 февраля Бальзак окончательно сделал свой выбор в пользу репрессий: «Необходимо проводить безжалостную политику, чтобы государства твердо стояли на ногах… Я, как и прежде, одобряю и тюремные застенки Австрии, и Сибирь, и прочие методы сильной власти».
Бальзак высмеивал «фатальную троицу»: «Свободу, Равенство и Братство», смысл которой он объяснял на свой лад: «У нас есть Свобода умирать с голоду, Равенство в нищете, Братство с Каином, вот каково Евангелие Ледрю-Роллена».
Бальзак знал, что его драгоценный друг, член правительства Ламартин был единственным писателем, не считая Виктора Гюго, который голосовал за его принятие в члены Французской Академии. Что попросит Бальзак в 1848 году у Ламартина: должности в правительстве для себя и своего зятя Сюрвиля или паспорт, чтобы отправиться в изгнание?
Бальзак не испытывал ни малейшего желания становиться «французским гражданином» в лоне «суверенного народа». Он страшился этой революции с 1839 года. Он предвидел ее последствия и не уставал повторять, что будущее человечества зависит от социальных классов, соотношения сил в обществе, производства и доходов. «Буржуазия потеряет свои капиталы, а цены на национальные товары непомерно возрастут». Рабочие растратят все то, что даст им власть, и «обратят свои взоры на тех, кто использует их труд, обнаружив при этом, что являются движущей силой общества».
1 марта Бальзак узнал, что Республика намеревается национализировать железные дороги. Акции Компании Северных дорог, то есть волчишкины сокровища, превратятся отныне в ничего не значащие бумажки.
Это совершится 11 апреля. Однако в июне 1848 года Монталамбер произнес речь, где прозвучало предложение вернуться на круги своя. Рабочие транспортных предприятий выводили из строя оборудование. Тысячи мелких лавочек прекратили свое существование. «Финансовая катастрофа будет еще более разрушительной, нежели катастрофа политическая». Бальзаку хотелось, чтобы Ева Ганская позволила ему укрыться в Верховне, чтобы она спасла его… Но она ответила: «Не приезжайте». Она боялась, как бы он не заскучал. Похоже, она вообще собиралась расстаться с ним: она приписывала ему любовные увлечения актрисами и побуждала обращать внимание на молодых женщин.
НЕРАЗБЕРИХА
5 марта хоронили героев февраля. «Весь народ вышел на бульвары. Толпы любопытных, но ни единого рукоплескания».
Да разве на похоронах рукоплещут?
В Париже, ниспровергнувшем государственную власть, больше не было ни читателей, ни омнибусов, ни карнавала, ни газет, печатавших романы. Читатели превратились в зевак. Они довольствовались уличными зрелищами и даже получали наслаждение от потасовок.
Выходившими еще газетами овладела навязчивая идея выборов в Учредительное собрание. Специально для этих выборов избирательный ценз снизили до 200 франков. Поскольку Бальзак был собственником, ему не составило бы никакого труда выставить свою кандидатуру.
Как утверждают Мейньяль и Бувье, когда Бальзак уезжал с Украины, Ева дала ему некоторую сумму денег в золотых рублях, что в пересчете на франки составляло 80 или 90 тысяч.
2 июня Бальзак признался Еве Ганской, что у него осталось всего 200 франков золотом, как раз столько, сколько требовалось на еду, уплату жалованья прислуге и первоочередные расходы. Приближался срок двух платежей. Чтобы выкрутиться из затруднений, Бальзак не мог заложить дом на улице Фортюне, поскольку новыми законами запрещалось прибегать к ипотеке. Он не видел «иной возможности выйти из положения, кроме как выудить деньги из Верховни». Ева Ганская не могла взять в толк, что Бальзак начисто лишен предпринимательской жилки. Он все пускал на самотек. Он забавлялся. Ева почти перестала ему писать. Он лишился «последнего жалкого словечка, к которому может припасть сердце».
Когда люди проникаются жгучей ненавистью, они теряют интерес к литературе. Бальзак понимал, что политика надолго подменила собой литературу. Лишь несколько театров не закрыли свои двери перед публикой. Но и театр балансировал на краю пропасти. Политические сюжеты таили в себе опасность. Буржуазные драмы потеряли актуальность. Театральные сборы составляли 10–30 франков, в то время как затраты на спектакли превосходили эти суммы в 10 раз. Тем не менее в апреле Бальзак написал «Мачеху». Эта пьеса принесла ему 600 франков за пять представлений.
19 апреля Бальзак выставил свою кандидатуру на выборах в Учредительное собрание. Его программа отличалась простотой. Бальзак принимал Республику, но не последствия коалиционного правления, то есть правительственную нестабильность.
«Начиная с 1789 года Франция каждые 15 лет меняла характер своего правления. Не настала ли пора учредить некий порядок, длительное господство власти, чтобы наша собственность, наша торговля, наше искусство, которые являют собой достояние Франции, не подвергались бы периодическому пересмотру?» («Журналь де деба», 20 апреля 1848 года).
Бальзак вновь, как и в 1830 году, выступал против демократического режима, ибо не верил в то, что дискуссии способны привести к плодотворным соглашениям.
Он также относился враждебно к всеобщему голосованию.
Бальзак мог бы с полным правом сказать своему другу: «Человек всегда судит о других по себе. Он всегда голосует за свою ровню. Народ еще никогда не возводил гения на то место, которое тот заслуживает. Если бы Сю, Гейне и я баллотировались в правительство Луи-Филиппа, неужели вы полагаете, что народ избрал бы нас? Никогда».
«Нам требуется правительство, которое установит продолжительную аренду сроком от 15 до 18 лет на усмотрение лишь арендодателя! Таково мое желание, и оно соответствует всем символам веры».
23 апреля из 900 депутатских мандатов 500 получили республиканцы, придерживавшиеся умеренно-центристских взглядов. Сто народных избранников поддерживали реформаторские взгляды Ледрю-Роллена. Легитимисты получили тоже 100 мест. Бальзак и пальцем не шевельнул для своего избрания. Он собрал не больше двух десятков голосов. Ламартин торжествовал. Он получил 259 800 голосов в Париже и 1600 тысяч голосов по всей Франции. «Ламартина наверняка выберут председателем. Таким образом мы получим Ламартина I».
Бальзак предчувствовал, что Ламартин недолго удержится у власти. Луи-Наполеон сохранял все шансы. Он получил большинство в четырех департаментах: «Мы получим пародию на Империю, а закончится все это Генрихом V», графом де Шамбор.
2 апреля Банк Франции потребовал объявить заем в размере 50 миллионов франков и произвести новую эмиссию банковских билетов. Бальзак понял, что разорен. Запершись в особняке Божон, он питался хлебом, сыром и салатом.
Нервное расстройство отразилось на зрении. У него то мелькали в глазах черные мушки, то все предметы двоились. «Слепота означала бы смерть». Наккар лечил его, накладывая нарывные пластыри на уши. Мать заменила этот «щадящий бальзам» на кровопускание из височной вены. После одного дня лечения он вслепую принялся писать письма. Барышни Сюрвиль, его племянницы, выполняли для него секретарскую работу.
В субботу 3 июня, опасаясь нового всплеска революционной активности в Париже, Бальзак уехал в Саше. Беспорядки на парижских улицах и политика отравляли ему жизнь. Посвятить себя государственным делам означало бы предать забвению личную жизнь, превратиться в управляющего непредсказуемым обществом. В Саше он вновь почувствовал умиротворяющую власть работы. Ему следовало бы написать «Мелких буржуа», но он «уподобился ленивой лошади, которая перешла на шаг». На этот раз лошадь сбила себе ноги.
Теперь нервная болезнь коснулась сердца. Он захотел повторить знаменитую прогулку из Саше в Тур, описанную в романе «Лилия долины». Но «я более не могу ни подняться даже на незначительную высоту, ни быстро шагать».
Находясь в Туре, Бальзак узнал об июньских событиях. Говорили о 25 тысячах погибших. Две тысячи восставших были ранены и 1500 убиты. Национальная гвардия понесла значительные потери.
Перед своими хозяевами Бальзак любезно шутил. Он радовался, что остался в Саше. В Париже он был бы мобилизован и встретил бы смерть на баррикадах: «Мое тело послужило бы хорошей мишенью для восставших».
Бальзак покинул Саше 6 июля. В Париж он приехал 8-го и присутствовал на отпевании Шатобриана в церкви Иностранных Миссий, а затем на его торжественных похоронах в Сен-Мало. Церемония в Париже показалась ему «холодной и равнодушной».
15 сентября Бальзак написал в Академию письмо, где предложил свою кандидатуру на освободившееся место Шатобриана. В январе 1849 года на это место будет избран в первом же туре герцог де Ноай, получив 25 голосов академиков. Бальзак наберет четыре голоса. За него проголосуют Гюго, Ампи, Полжервиль и Ламартин.
20 июля Исторический театр возобновил постановку его пьесы «Мачеха». На премьере 25 мая имя Бальзака было встречено овацией. «Это его первый успех в театре», — писал Жюль Жанен. Теофиль Готье приветствовал драматического автора-новатора. И в самом деле, Бальзак стоял у истоков натуралистического направления в театре. Вот слова Готье: «Дельцы безмерно и всегда с выгодой для себя опустошали богатую сокровищницу господина де Бальзака. Так почему же этот прославленный писатель, человек, создавший после Мольера бесчисленное множество различных типажей, не разрабатывает самостоятельно золотую жилу, которой владеет?.. Если что-либо и может предотвратить досадное влияние, довлеющее ныне на театр, так это совокупность попыток, подобных тем, которые столь успешно предпринял господин де Бальзак и которые, как мы надеемся, выльются в огромные сборы. За два месяца театр состарился на 50 лет: используемые по сей день старые формы не в состоянии более соответствовать новому образу правления. Требуются новшества, а в мире не существует ничего более нового, нежели правда».
На втором майском представлении зал был заполнен лишь на треть.
Когда 26 июля «Мачеха» вновь пошла на сцене, она совсем не имела успеха. 11 августа пришлось снять пьесу с репертуара.
Неутомимый Бальзак написал еще одну пьесу, «Делец», и предложил ее «Комеди Франсез». Вначале пьесу приняли на ура. Но тут оказалось, что Бальзак ее не дописал, и содержание пятого акта он пересказал на собрании труппы. 14 декабря ему было предложено дописать пьесу, которую в противном случае театр отказался принимать.
20 августа 1848 года Бальзак все еще торопился «покинуть эту кузницу мятежей, этот рассадник монтаньяров», как он называл Париж. Он получил письмо от графа Орлова, шефа жандармов России и дипломатического советника царя: «Нашим представителям за границей были отданы указания не чинить никаких препятствий вашему въезду в Россию, поскольку вы предполагаете совершить путешествие, имеющее сугубо научные цели».
В письме, подписанном графом Уваровым, министром народного просвещения, тот от имени царя приглашал Бальзака «приобщиться к полнейшей безопасности, существующей в России. Вы увидите, что потрясения, выпавшие на долю Европы, ни на минуту не нарушили размеренного и мирного движения вперед, свидетелем которого вы были год тому назад…»
Это письмо оказалось настоящим подарком судьбы, ведь русское посольство в Париже упорно отказывалось выдать Бальзаку визу. Теперь ему сообщили, что его документы будут готовы 30 августа.
Оставалось лишь урегулировать вопрос с Евой Ганской. Она по-прежнему не изъявляла желания видеть его.
Бальзак сообщил о своем приезде Анне. Ева сказалась больной. Она «погрязла в клевете». Для того чтобы вернуть ее расположение к себе, Бальзак принялся ласково увещевать: «Муравушка госпожи Ганской готовится стать гнездышком для всех богатств африканского ткачика».
Роже Пьерро датирует отъезд Бальзака 19 сентября. Через 24 часа Бальзак прибыл в Кёльн. Оттуда, три дня спустя, поезд доставил его в Краков. 3 октября он добрался до Верховни.
21 августа 1848 года он писал: «Пусть Европа делает все что ей заблагорассудится. Отныне я всего лишь частица имения Верховни».
В Париже госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак согласилась посторожить особняк на улице Фортюне. Она поселилась там с двумя слугами. Отставной военный Франсуа Минх был нанят, чтобы защищать особняк от бунтовщиков и грабителей, наводнивших улицы. А служанка Занелла только и умела, что мыть полы.
Бальзак доверил свое творчество Лоран-Жану, дав ему полномочия блюсти свои литературные и театральные интересы. «В Верховне я буду писать пьесы так же хорошо, как и здесь».
Если верить подсчетам Бальзака, обставленный и отделанный дом, превратившийся в настоящее чудо, обошелся ему в 325 тысяч франков. Причем в счет этой суммы Бальзак еще должен был заплатить 96 тысяч франков, не говоря уже о долге в 50 тысяч за прочие расходы. Бальзак не хотел в этом признаваться, но он не был готов слишком утруждать себя и рассчитывал на великодушие госпожи Ганской.
Гнездышко было готово, не хватало только птиц.
Путешествие из Парижа в Верховню прошло хорошо. Бальзак купил дорогие фраки и халаты, которые Бюиссон отделал мехом. Правда, чемодан, отправленный по почте, прибыл только в декабре.
«В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВСЕ УЛАДИТСЯ…»
В течение всех 19 месяцев, что Бальзак провел в Верховне, он настолько тяжело болел, что совершенно не мог работать. Он лишь с трудом писал самые необходимые письма. Он продолжал непреклонно верить в методы лечения доктора Кноте, который внимательно осматривал его, щупал пульс, а затем подбирал соответствующие порошки. В глубине души Бальзак, всегда трезво смотревший на неизбежность конца, смеялся над этими лекарствами. Он испытывал чрезмерную усталость, на душе у него скребли кошки, он изнемогал от мучительных головных болей и едва держался на ногах.
К Бальзаку был приставлен мужик, чтобы разжигать и поддерживать огонь в печи. Всякий раз, когда Бальзак замерзал, он приказывал мужику, чтобы тот вскипятил большой кофейник, до краев наполненный кофе. Мужик с ужасом глядел, как Бальзак поглощал этот целебный напиток. И только тогда тело больного понемногу начинало согреваться. Кофе также перебивал отвратительный вкус местной пищи.
Ева и ее дети оказали Бальзаку участливый прием и старались предупредить все его желания. По вечерам Бальзак, если не играл в шахматы с госпожой Ганской, которая приходила в ярость, когда проигрывала, состязался с Георгом в сочинении каламбуров, которые он называл «испорченными детьми плохого вкуса и скабрезности». Иногда весь вечер они слушали музыку. Для Анны Бальзак он стал «дорогим папой», но Ева по-прежнему относилась к нему как к «обласканному гостю».
В ноябре Бальзак заболел «болотной лихорадкой», как тогда называли нарушения в работе головного мозга. Несомненно, речь идет об обострении менингиального воспаления. Бальзак писал Зюльме Карро: «С какой быстротой проявилась болезнь и какие преграды возникли на пути к счастью! Нет, это все происходит для того, чтобы вызвать отвращение к жизни».
В декабре госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак прислала сыну подробный отчет об управлении домом. Она была очень довольна собой. Она придерживалась того образа жизни, что вела в пансионе, будучи маленькой девочкой: просыпалась в половине пятого утра и молила Бога послать благополучие ее семье. В половине восьмого она шла к мессе в соседний монастырь. В половине девятого ей подавали суп, а затем она проводила беседы со слугами, каждому из них задавая обстоятельные вопросы о проделанной работе.
«Лучший способ сохранить послушных и верных слуг — это не разрешать им ни минуты бездельничать».
По вечерам Франсуа Минх приходил «проводить госпожу наверх». Он освещал ей дорогу до спальни, затем «зажигал ночник и уходил».
«Весь дом защищен, то есть все покрыто белым коленкором, даже шторы».
Бальзак выплачивал своей матери ежемесячную пенсию в 100 франков. Безусловно, госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак находилась в стесненных обстоятельствах. Оноре был должен еще много денег, а кредиторы требовали от него немедленно заплатить 20 тысяч франков.
10 декабря 1848 года Бальзак написал матери обстоятельный ответ, но о деньгах упомянул лишь вскользь: «Береги наши лотерейные билеты, хотя мы и не питаем особых иллюзий». Зато Бальзак подробно описал тревожную обстановку, в которой жили «его друзья». Судебные процессы семей Ганских и Мнишек обходились в 100 тысяч франков ежегодно, «торговля совсем замерла», запасы хлеба накапливались, но «хлеб не продавался». Впрочем, кто рискнул бы перевозить деньги из Польши в Париж, когда надо было платить комиссионный сбор, достигавший 50 %?
Поэтому пусть госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак довольствуется 100 франками, выплачиваемыми ежемесячно и «непременно в срок», пусть остается экономной собственницей, рачительной вкладчицей, пусть слуга Франсуа Минх будет опрятно одет, пусть разжигает огонь аккуратно и бережно обращается с лампами.
В декабре Бальзак написал своей сестре, что дом на улице Фортюне «принадлежит особе, у которой я нахожусь в гостях, и все в нем принадлежит ей».
Ева Ганская намеревалась управлять столь значительным подарком так же, как своим имуществом: «скаредно и предусмотрительно». Бальзак так и не понял, насколько требуется быть практичным, когда ведаешь большим состоянием. Ему не доставало осторожности. «Когда я прошу тебя сделать что-нибудь для дома, — писал Оноре матери, — то говорю это не от своего имени, а потому что так желает она» (9 апреля 1849 года).
Зимой 1849 года Бальзак заболел бронхитом, перешедшим в воспаление легких.
В июне доктор Кноте поставил диагноз «воспаление желудка». Что за болезнь и существуют ли лекарства, которые приносят облегчение? Доктор Кноте предписал Бальзаку съедать два раза в день по лимону. Лимон превосходно очищает кровь и освобождает желудок. Лимоны вызвали у Бальзака неукротимую рвоту. 25 часов он бился в агонии, затем почувствовал себя несколько лучше: «Это был жестокий бунт моей болезни и моего темперамента». Бальзак, и в этом не приходится сомневаться, искренне полагал, что легкий приступ помог ему избежать более серьезных последствий: «Он (доктор Кноте) воистину великий и совсем не признанный врач». Бальзак вспомнил о своем сопернике Фредерике Сулье. Великий фельетонист умер совсем молодым потому, что «рядом с ним не было такого доктора».
Вот уже год, как сложились такие опасные, такие тревожные обстоятельства, что возникала насущная потребность принять решение, которое положило бы им конец. Доктор Кноте обнадеживал. Его частые визиты Бальзак рассматривал как подтверждение того, что жить ему предстоит еще долго, а потому считал себя спасенным. А Ева Ганская была убеждена, что спасла свое состояние. Она отписала имущество детям, а те взамен обещали выплачивать ей ежемесячную ренту в размере 20 тысяч франков. Свадьба с Бальзаком и отъезд во Францию превращались в реальность.
ВСЕ УЛАЖИВАЕТСЯ
…
В январе 1850 года Бальзаку подарили халат из персидской или черкесской материи, чтобы его жизнь наполнилась теплом. Материя нравилась ему своей солнечной расцветкой.
Именно о солнце Бальзак мечтал, когда в разгар зимы отправился в Киев, где всем иностранцам проставляли в паспорте визу. Конечно, еще было бы слишком опасно давать объявление о бракосочетании, но 14 января 1850 года Оноре намекнул матери, что его следующее письмо будет, возможно, «уведомительным».
Ева Ганская выдвинула условие: «Она не хочет иметь долгов». Всю жизнь долги угнетали и изнуряли Бальзака. Для того чтобы установить их сумму, необходимо было хорошенько напрячь память. Всплывали все те же имена: «Даблен, Наккар, Александр де Берни, господин Пикар»: адвокат или торговец диковинными товарами? Бальзак был должен обоим. Затем Даме, поверенный Пеллетро, у которого Бальзак купил дом на улице Фортюне, семья Висконти, Ротшильд, который уже в 1832 году называл Бальзака крайне легкомысленным.
Отдавая Еве дом на улице Фортюне, Бальзак полагал, что по меньшей мере избавился от жилищных долгов. Но не тут-то было. «Больше всего из моих долгов она не приемлет тех, что связаны с домом».
В своих письмах госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак то проявляла энергию и внимание, то превращалась в просительницу, напоминая тех, кто утратил былое влияние: «Я прошу тебя», «Я заклинаю тебя».
Мать также сообщала Бальзаку парижские новости. Она не верила в принца-президента (Наполеона III). Все замечали «его умственную усталость и озабоченность. <…> Он не способен иметь непроницаемое выражение лица и зачастую отвечает „да“ вместо „нет“. В большинстве случаев он даже не понимает того, о чем ему говорят».
16 февраля из Киева пришли плохие новости. Еще будучи в Париже, Бальзак боялся даже легких сквозняков. На этот раз на него обрушился «ураганный шквал». «4 дня в лихорадке, 20 дней в постели». Во время болезни «его столь вожделенные чаяния» оставались туманными. Но он не сдавался. Он настоятельно требовал от матери, чтобы дом был «во всеоружии» к 1 апреля.
После 16 лет ожидания он наконец сможет прилюдно обнять Еву. Но хватит ли у него на это сил? Год строгого постельного режима и методы лечения Кноте ввергли больного в состояние полнейшей атонии: он еле держался на ногах.
Когда Ева Ганская получила в мае 1849 года письмо от генерала Бибикова, генерал-губернатора Киева, в котором именем царя сообщалось, что в случае замужества с господином де Бальзаком она лишается прав на собственность, возникла необходимость избежать воплощения этой угрозы в жизнь. 3 марта 1850 года Бальзак смог наконец объявить госпоже Бернар-Франсуа де Бальзак, что «ее невестка Ева приняла наконец, чтобы устранить все препятствия, героическое и в высшей степени материнское решение: она передает все свое состояние детям».
Еву и Оноре благословил и сочетал браком в приходе Святой Варвары в Бердичеве посланник епископа Житомирского, граф аббат Озаровский.
«Повторяющиеся друг за другом случайности образуют нечто вроде Провидения», — писал Бальзак в «Цезаре Биротто». Внешне он жил, полагаясь на случайности, вдохновение, капризы и творческое опьянение. В то же самое время он создал фильтр, регулирующий мировой опыт. Этот фильтр состоит из величайшего произведения «Человеческая комедия» и желания любви, которое вынудило норовистую графиню Ганскую выйти за него замуж и жить в течение 32 лет после его смерти в «любовном гнездышке» на улице Фортюне, переименованной в улицу Бальзака.
Нет ни малейшей заслуги Бальзака в том, что Ева приехала в Париж, то есть преодолела предрассудки самой традиционалистской, самой конформистской аристократии, этой самой формалистской, самой щепетильной и педантичной европейской касты. Ева Ганская была неразрывно связана с олигархическим обществом, с той частью Польши, где небольшая кучка собственников постоянно наращивала свое влияние, расширяла свои владения и увеличивала свои богатства, идя на сговор с русскими. Эти огромные владения были опутаны долгами, поскольку крупные землевладельцы вели тот же образ жизни, что и Ганские. Оторвавшись от родного народа, они развеивали свою скуку по городам и весям: в Риме, Женеве и Вене, но главным образом в Дрездене, где возвестили о себе оба саксонских короля, Август II (1687–1733), вынужденный отречься от престола в пользу Станислава Лещинского, «двоюродного деда» Евы Ганской, который вступил на трон при поддержке шведского короля Карла XII и который, впрочем, правил лишь в течение пяти лет (1704–1709). Станислав вновь стал претендовать на царство и в течение трех лет (1733–1736) был королем благодаря вмешательству своего зятя, Людовика XV. По Венскому договору 1738 года он получил в качестве компенсации Лотарингию и герцогство Бар, которые после его смерти в 1766 году вновь отошли к Франции.
Польский двор, приехавший в Лотарингию, сохранил свои знаки отличия, титулы, мудреную генеалогию. Любомирские или Ржевуские, приходившиеся Еве Ганской родственниками, все без исключения были охвачены «герцогоманией», как говорил Стендаль, или, вернее, «княземанией». Они жили воспоминаниями о въезде во Францию Марии, супруги Людовика XV. Впереди ехал ее «оруженосец» князь Жак-Александр Любомирский, получивший титул Почетного француза. Таким образом, появление Евы Ганской во Франции было подготовлено длинной чередой ее предков. Но этот дружественный союз прервала Французская революция, которая не пощадила, как мы видели, ни графиню Ржевускую, тетку Евы Ганской, брошенную в тюрьму, а затем гильотинированную, ни ее 5-летнюю дочь Розалию, брошенную в Консьержери.
Приехав в Париж, Ева Ганская поселилась в ненавистном ей доме. Но вскоре ее мнение о нем переменилось. И она прожила там вплоть до самой своей смерти, последовавшей 10 апреля 1882 года, то есть 32 года. Она вложила в этот дом очень много денег. Эта сумма исчислялась 130 тысячами франков. «Наши долги», как говорил Бальзак, были более значительными. Они достигали примерно 500 тысяч франков. Именно столько заплатит в 1882 году баронесса Саломон Ротшильд, чтобы вступить «в пользование этим домом через месяц после кончины госпожи де Бальзак».
Во время «траурного месяца» 1882 года кредиторы, антиквары, мародеры, соседи потеряли всякое стеснение. Они буквально набросились на мебель. Для того чтобы поскорее вынести ее, они выкинули на помойку все документы, все бумаги, написанные Бальзаком. Бельгийский библиофил виконт Шарль де Спелберг де Лованжуль, посещая уличных торговцев и подбирая у них все, что еще оставалось, смог воссоздать первые бальзаковские архивы, завещанные им в 1905 году Институту Франции. Нет слов, чтобы воспеть хвалу Лованжулю. Он собрал воедино разрозненные отрывки неизданных произведений и письма Бальзака, он посвятил 25 лет своей жизни отыскиванию того, что было написано его рукой. Он также предпринял попытку тщательно разобрать рукописи, проводя «с лупой в руках два дня, чтобы разобрать две страницы, исписанные его почерком».
Сила духа Бальзака и его жизненная энергия передались издателям и комментаторам писателя: сначала Лованжуль, затем Марсель Бутрон, Жан А. Дюкорно, Морис Бардеш, Роже Пьерро и бальзаковеды, которые, сплотившись вокруг Пьера-Жоржа Кастекса, опубликовали издание «Плеяды». Авторы этого издания не только сличили произведения по рукописям, но и попытались прочесть, если это представлялось возможным, зачеркнутые отрывки, вынося на суд любителей словесности текст, вырвавшийся прямо из глубины души.
Бальзак, наделенный одновременно бурным воображением и рассудительностью, как он сам не раз говорил, был неисправимым оптимистом. Он над всем смеялся. Именно в этом состояла сущность его натуры. То, что он доверительно изливал свою душу, поверял публично свои тревоги, помогало ему создавать действующих лиц, наделенных сильным характером, пренебрегающих опасностью и всегда достойно противостоящих случающимся с ними неприятностям.
Бальзак, нелюбимый ребенок, пансионер Вандомского коллежа, голодный писатель из мансарды, обанкротившийся типограф и издатель, богатырь «Человеческой комедии», который отчаянно сражался, чтобы одолеть сон, наслаждение счастьем, усталость и болезнь, сумел трансформировать самые опасные и порой самые ужасные моменты своей жизни в живительную силу. Для Бальзака «эта сила исходит из могущества самой Природы, и мы черпаем ее в неведомых источниках».
Когда в 1834 году Бальзак предложил Ганским стать их Отцом Гранде, иначе говоря поверенным, который сумел бы сделать Верховню доходной и который выгодно поместил бы их деньги в Париже, он, безусловно, шутил. В том же самом письме Бальзак советует «копить авансы». После смерти Венчеслава Ганского предложения Бальзака стали более настойчивыми. Он требовал от Евы распродать имущество и купить в Париже недвижимость. Цены на земельные участки в Монсо вырастут в 10, 100 раз, Северная железная дорога — это самое выгодное предприятие на свете, а Бальзак — превосходный управляющий. Он станет также хорошим супругом. «Мужчине надлежит работать на свою жену и сделать ее счастливой физически, морально и материально». Но 200 тысяч франков, которые он в 1847 году предполагал зарабатывать ежегодно, не должны были мешать Еве Ганской приумножить свое состояние, выгодно вложив капитал. Бальзак не проявлял личной заинтересованности. Таково было его предназначение. Став мужем, он собирался рачительно управлять совместной собственностью, уверенный в своих качествах финансиста, позволивших ему создать образы Гранде и Нусингена.
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Путь молодоженов из Верховни в Броды, проделанный ими с 24 по 30 апреля 1850 года, пролегал меж двух огней. Их подстерегали болезнь и дорожные неприятности. В течение многих часов коляска с трудом пробивалась сквозь преграды. Рыхлый снег, смешавшись с дождем, превратил дороги в сплошное месиво, по которому невозможно было продвигаться на санях. Днем и ночью коляску бросало из стороны в сторону. Порой приходилось созывать крестьян, чтобы те с помощью рычагов вытаскивали ее из грязи. Полуслепой Бальзак, прижимая руку к тяжело бившемуся сердцу, с трудом выходил из коляски и часами мок под дождем.
Андре Моруа пишет, что «милосердие, равно как любовь и слава, побудили Еву Ганскую принять решение». Ко всему этому непременно надо добавить желание угодить дочери Анне, которая мечтала жить в Париже.
Еве, охваченной мистическими устремлениями, нравилось любить Бальзака, и он был достоин этой любви, ведь очень скоро ему предстояло умереть.
В глазах Евы Бальзак стал святым мучеником. В дни его страданий она писала: «Я ничего не выдумываю относительно этого обожаемого существа. Я знаю его на протяжении 17 лет и ежедневно обнаруживаю, что он наделен достоинствами, доселе мне неизвестными».
Супруги Бальзак прибыли в Дрезден 9 мая. Оттуда Оноре написал матери. Он хотел удостовериться в том, что та до последней минуты будет присматривать за домом на улице Фортюне. Но госпоже Бернар-Франсуа де Бальзак непременно следовало покинуть «дворец» до приезда супругов. Пусть 73-летняя свекровь отправляется куда ей угодно, либо в Сюрен, либо к дочери, «ибо не только недостойно, но и неприлично, чтобы ты приняла невестку у нее в доме. Она должна сама нанести тебе визит и засвидетельствовать свое почтение».
Во Франкфурте госпожа Оноре де Бальзак обменяла 24 слитка серебра на 9817 франков и 49 985 рублей. Рубль, который в те времена равнялся четырем франкам, был дисконтирован на счет Санкт-Петербургского банка.
За полтора года госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак, экономя на еде, привыкла царить в этом доме, тесно заставленном и почти не проветриваемом из боязни повредить старинным картинам, коврам, бронзовым изделиям, деревянным скульптурам, галерее, малахитовым изделиям и т. д. В 73 года госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак превратилась в рантье от эстетики. Теперь эта безропотная рантье упаковала свои вещи, подозвала фиакр и долго беседовала со сторожем Минхом, чтобы тот уяснил, какая дому угрожает опасность. Достаточно одного открытого окна, плохо прикрытой двери, коптящей лампы… И пусть особняк сверкает огнями в честь возвращающегося хозяина!
Когда Бальзак и Ева приехали в фиакре со стороны Северного вокзала, весь дом был освещен, но никто им не отпирал. Напрасно они звонили, звали, кричали. Минх хранил гробовое молчание. Еве пришлось отправиться за слесарем.
В пустынном доме пугливому Минху, получившему слишком строгие наставления от госпожи Бернар-Франсуа де Бальзак, должно быть, снился дурной сон. Наконец он появился. Вид у него был затравленный. Он никого не узнавал. Для него этот вечер закончился в сумасшедшем доме.
ТЕРПИ, СТРАДАЙ, МОЛЧИ
Виктору Гюго пришла в голову счастливая мысль дважды посетить Бальзака.
Во время первого визита еще энергичный Бальзак сидел в кресле, но, как и все тяжелобольные, твердил одно и то же. Он упорно твердил о хорах маленькой церкви на углу улицы. Тело Бальзака вынесли в часовню Божона через дверь, ведущую в комнату Евы. Гроб с покойным простоял в церкви два дня.
Уже 20 июня Бальзак сказал Теофилю Готье, что находится «в состоянии бессловесной и неподвижной мумии».
В июле его положение стало откровенно безнадежным, но он не прекращал шутить. Он говорил, что, когда его голова падает на подушку, возникает вопрос, уж не симулирует ли он смерть.
Нет! Воспаление брюшины усугублялось, язвенно-пленчатая водянка охватывала все новые части тела. Живот до того вздулся, что доктор Наккар предписал наложить 100 пиявок.
Однажды Бальзак решил встать, но споткнулся о какую-то мебель. От удара на ноге образовался нарыв, переродившийся в гангренозную флегмону.
Стремление любыми средствами продлить жизнь больного вылилось в ужасную резню: пункции, промывания, вскрытие нарывов, кровопускание, пиявки довели больного до полного истощения.
Виктор Гюго вновь пришел 18 августа. Ему пришлось долго звонить. Служанка наконец открыла и Гюго прошел к умирающему. У изголовья и подножия кровати висели ремни — на тот случай, если бы Бальзак захотел приподняться самостоятельно. «У него было фиолетовое, почти черное лицо, перекошенное вправо, неухоженная борода и седые, коротко стриженные волосы.
Около Бальзака сидели мать, сиделка и слуга. Ева же „пошла отдыхать“».
ТОТ, КОГО МЫ ОПЛАКИВАЕМ
В конце сборника «Письма к госпоже Ганской» Роже Пьерро совершенно уместно поместил шесть писем Евы к дочери Анне, написанных между 7 июня 1850 года и 17 мая 1854 года.
В Париже Ева Ганская быстро освоилась. Она стряхнула с себя оцепенение и закружилась в вихре польского Парижа, в кругу родственников и друзей. В письме от 7 июня, написанном за полтора месяца до смерти Бальзака, Ева уделила болезни Бильбоке всего несколько строк. Она вовсе не оставалась безучастной, просто она приехала в Париж не для того, чтобы трагически воспринимать смерть своего мужа. Впрочем, и сам Бальзак не впадал в уныние. Он охотно вспоминал, как один ясновидящий нагадал ему, что «к пятидесяти годам он заболеет тяжелой болезнью, но вылечится и будет жить до 80 лет».
Наконец Эвелина познакомилась с госпожой Бернар-Франсуа де Бальзак. Это Elgantka Zastarzala, «постаревшая, старомодная щеголиха», переводит Роже Пьерро, «элегантная старая дама», — уточняет дальше госпожа Оноре де Бальзак.
Госпожа Бернар-Франсуа де Бальзак вскоре покажет, на что способна. Эта очень активная женщина резво, словно лань, разъезжала между Сюреном, где жила, и площадью Этуаль.
Ева станет платить свекрови 3 тысячи франков ежегодно, как делал ее муж.
Она заплатит 83 500 франков долга своего дорогого усопшего. К этой сумме надо прибавить 260 тысяч франков, выплаченных ранее.
В один из сентябрьских дней между Нейи и Сюреном «все было покрыто тенью, свежестью и гармонией». Для того чтобы прийти в себя, Ева де Бальзак читала наизусть строки Шатобриана, затем бралась за вышивание: «Мы плыли по Сене вдоль всех ее излучин. Слева нам встречались очаровательные сельские дома. Справа река, словно ручей, теснилась в зеленых зарослях и была покрыта лодками». У свекрови Эвелина познакомилась с Лоран-Жаном, «невыносимым, взбалмошным, капризным человеком с дурными манерами», но именно Лоран-Жану Бальзак дал полномочия блюсти свои творческие интересы.
Эвелина полюбила Лору Сюрвиль, «маленькую, совершенно круглую пышку, наделенную разумом и сердцем. Ее муж — прекрасный человек, а малышки — просто прелесть».
Необходимо было также встретиться с кредиторами. Она пошла к самому давнему, самому любезному другу, холостяку Даблену, ежегодно тратившему 25–30 тысяч франков для пополнения своей коллекции, которую он хотел завещать государству. Бальзак оставался ему должен 15 тысяч.
В сентябре 1850 года «улица Фортюне станет называться улицей Бальзака. Жители нашего квартала собирают петиции, ратующие за это переименование».
В другом письме дочери, датированном 1851 годом, Ева Ганская упоминает о «моем бедном муже». Старый легитимист из По признался ей в любви, но получил отказ. Ева, естественно, ни словом не обмолвилась о своей связи с Шамфлери, который готовил к изданию труд «Памяти господина Оноре де Бальзака». В 1852 году Ева стала любовницей художника Жана Жигу (1806–1894). Его прозвали Серой Вошью, до того он был уродлив. Жигу написал портрет Евы и выставил его в Салоне 1852 года. Они примут решение никогда не расставаться, и Жигу обустроит свою мастерскую на улице Бальзак. А Мнишеки построят себе роскошный особняк, прилегающий к дому Евы.
В это время одна из сестер Евы вышла замуж за Жюля Лакруа, брата библиофила Поля Лакруа. Он и Дютак, большой друг Бальзака, по крайней мере в 1839–1847 годах, посвятят свою жизнь изучению творчества Бальзака.
Подготовительную работу провел Шарль Фюрн (1794–1859). Он основал акционерное общество для издания «Человеческой комедии». С 1842 по 1844 год «Человеческая комедия» выходила благодаря стараниям Хецеля. Хецелю удалось убедить книгоиздателей, что те пожнут лавры, выпустив произведение, писавшееся на протяжении 15 лет.
Хецель купил долю Фюрна через посредничество Александра Уссьо. Когда Хецель и Бальзак вели судебную тяжбу, именно Уссьо опубликовал в 1848 году XVII том «Человеческой комедии» под маркой «Фюрн и К°». Хецель возглавлял секретариат министерства иностранных дел, затем стал секретарем Кавеньяка. Попав под подозрение после захвата власти Луи-Наполеоном, Хецель бежал в Бельгию.
С 1853 по 1858 год Уссьо несколько раз переиздавал 17 томов «Человеческой комедии», добавив к ним еще три тома. Это «Полное собрание сочинений в двадцати томах» будет выходить в свет и в 1865-м, и в 1868 годах… Мишель Леви (1821–1891) с помощью своего брата Кальмана (1819–1891) подготовил к печати окончательное издание «Полного собрания сочинений» Бальзака. Вначале Мишель Леви специализировался на театральных произведениях. Он купил «Мачеху» и «Дельца» (1848). Но затем начал подбирать материал для «Переписки» Бальзака, которая начала выходить с 1861 года.
МНОГО ХОРОШЕГО И МНОГО ПЛОХОГО
В 1850–1851 годах проблемы творческого наследия Бальзака отступили на второй план перед угрозой ипотеки, нависшей над имуществом детей Евы Ганской в Польше.
Пять месяцев спустя после смерти Бальзака Ева осознала, что напрасно поспешила покинуть Верховню, не дождавшись ответа царя на свое прошение, в котором она выражала желание оставить все детям в обмен на пожизненную ренту. «Выходите замуж, если хотите, но ничего не вывозите с собой», — повелел передать царь своей подданной в июле 1849 года. «Отказ от наследства» исключал пожизненную ренту. Если граф Мнишек и его жена начнут выплачивать ренту Еве, их земли могут быть конфискованы.
Ева написала графу Орлову, дипломатическому советнику царя, длинное прошение:
«Через три месяца после моего приезда в Париж меня постигло глубокое горе. Я потеряла мужа. Это была невосполнимая утрата не только для меня, так спешившей воссоединиться с ним, но и для Франции, и для Европы. Он задумал написать книгу, разоблачающую зловредные доктрины, которые вот уже столько лет подтачивают устои социального строя… Господин де Бальзак всегда ставил перед собой портрет Императора. Он говорил, что созерцание столь выдающегося лица вдохновляет его. Как могла я справиться со столь непосильным горем? Как могла я проснуться без него утром этого чудовищного дня, одинокая и покинутая на чужедальней стороне? Одному Господу Богу это ведомо. Одно время я намеревалась возвратиться в Россию, но разве мне это удалось бы? Я до сих пор не знаю, не лишило ли меня мое замужество права когда-либо вернуться на родину. Впрочем, в Париже мне предстоит разобраться в весьма запутанных наследственных делах. Следовательно, мне придется остаться. Мне придется остаться главным образом для того, чтобы не потерять права быть погребенной подле моего мужа, который ждет меня… Простите меня, господин граф, за столь длинное послание. Прошу Вас усмотреть в нем лишь глас отчаявшегося сердца и жизни, отмеченной печатью смерти. Я, несомненно, вскоре отойду в лучший, нежели этот, мир, и страдания, которые я претерпела на земле, возможно, предоставят мне право молить за Вас более могущественного повелителя, чем тот, кому вы служите так, как мне хотелось бы служить Тому, Кто меня ожидает. Я настолько привыкла обращаться к всемогуществу небес, что прониклась определенным доверием к земному всемогуществу…»[58]
Юридическую процедуру 1850 года повлекла за собой недоброжелательность младшего брата Евы Ганской, который воспользовался влиянием графа Орлова, чтобы завладеть наследством. Этот родственник Ганской приходился графу Орлову тестем. Именно ему супруги Мнишек продали Верховню.
Как и во всяком супружестве, Ева и Оноре принесли друг другу много хорошего и много плохого. Их объединили болезнь и финансовое разорение. Ева Ганская, безусловно, облегчила бы себе жизнь, выйдя замуж за высокопоставленного русского чиновника.
Еву и Бальзака объединили и даже приковали друг к другу первые же два ее письма, адресованные писателю, в которых проявилось огромное сходство в образе их чувств, мыслей и манере изливать душу. В Еве и Бальзаке есть что-то от бесконечности.
Она жила в мире богатых и скучала. Бальзак распахнул перед ней двери в мир богов.
«КРЕСТЬЯНЕ»
Нашу книгу, начатую с повествования о деревенском мальчике Бернаре-Франсуа Бальса, уместно закончить описанием нравов деревни, воспроизведенных Бальзаком в «Крестьянах». Крестьяне, живущие на жестоко оспариваемых землях, столь же свирепы, как и персонажи «Парижских тайн» Эжена Сю.
7 июля 1848 года Бальзак сообщал Еве Ганской о «неслыханных кровавых беспорядках. Деревня взбунтуется в условленный срок».
Однако Июльская монархия была по своему умонастроению деревенской. Она поменяла цветок лилии на петуха. Она вывела деревню из изоляции. В распоряжении крестьян появились проселочные дороги, проложенные на средства коммун, большаки, построенные на средства департаментов. Они могли продавать свою продукцию или делать запасы. Современный инвентарь выставлялся на сельскохозяйственных выставках. Население с удовлетворением взирало на строительство железных дорог, хотя вокруг предполагаемого маршрута шли долгие споры, поскольку каждый хотел, чтобы железнодорожное полотно обогнуло его земли и прошло по участку соседа. Во Франции стало меньше хижин и больше каменных домов с запирающимися на ключ дверьми, окнами и ставнями. Последние недороды столетия, случившиеся в 1845–1847 годах, повлекли за собой менее серьезные последствия для сельского населения, поскольку привели к повышению в среднем на 80 % цен на основные злаки: пшеницу, рожь, ячмень.
Закон 1844 года, обязавший получать разрешение на право охоты, не пользовался популярностью. Объездчик охотничьих угодий превратился в объект ненависти и травли. Лесной кодекс обходил стороной вопрос о вырубке лесов, но упразднял общинное пользование лесными богатствами. У Бальзака крестьяне занимаются поджигательством. В «Народе» (1846) Мишле жалеет «трудолюбивого и полуголодного крестьянина». «Наши скотоводы запрещают земледельцу есть мясо во имя интересов сельского хозяйства. Самый неквалифицированный рабочий ест белый хлеб, но тот, кто выращивает пшеницу, ест только черный. Они изготавливают вино, но пьет его город».
В ходе тщательной тридцатилетней работы бальзаковедов было установлено, что Бальзак все больше и больше хотел стать историком, прибегавшим к использованию художественных образов, чтобы заинтересовать, а иногда и напугать читающую публику.
Бальзак хотел создать роман-реку, вместившую в себя два потока — политический и экономический.
Таким образом, как мы уже видели, в 1835 году родилась идея создания «Крупного собственника», а в 1836-м — «Наследников Буаруж». Как доказала Мадлен Фаржо, «Урсула Мируэ» — прелюдия этого политического замысла, который со всем размахом должен был воплотиться в «Депутате от Арси» и «Крестьянах».
Под напором требований Локена, который хотел немедленно получить заказанную книгу, Бальзак отказался от своих планов. Он не мог написать «Депутата от Арси» на одном дыхании, как когда-то за одну ночь он написал «Онорину».
В «Депутате от Арси» речь должна была идти о приезде в Париж молодых именитых провинциалов, которые рвутся к власти, чтобы затем в новом качестве вернуться в родные края.
В еще одном произведении, обещанном Локену в 1842 году, «Хижина и дворец», показан раздел деревни изнутри, глазами крестьян. И эту книгу невозможно было бы написать за один присест. Тьерри Боден полагает, что Бальзак задумал этот роман еще в 1817 году. В те времена земельный вопрос будоражил общество. Будет ли земля принадлежать дворянству, возвращавшемуся из ссылки, духовенству, вновь открыто занимавшему свое место в обществе? Останется ли она собственностью тех, кто скупил государственное имущество? В принципе Хартия 1814 года гарантировала необратимость сделок, имевших место во время Революции. Но дворянство во всеуслышание выражало недовольство, а духовенство могло отказать «покупателям» в Святом причастии. Людовик XVIII не уступал. Он хотел быть «королем двух народов», неважно, из «бывших» они или якобинцы.
Карл X и Палата депутатов, избранная в 1824 году, намеревались возместить ущерб крупным землевладельцам из дворян, чьи земли были распроданы. Они должны были получить компенсацию в размере одного миллиарда франков. Но кто заплатит? Правительство решило снизить государственную ренту с 5 до 2 %. «Эта реституция станет последней язвой Революции», — заявил Карл X. Финансовый Париж наотрез отказался оплачивать урон, нанесенный землевладельцам, из средств парижских буржуа. В конце концов деньги изъяли из амортизационного фонда, то есть из Государственного казначейства.
Но ультраправые не были удовлетворены. Монархисты считали, что следовало бы поступить наоборот: выплатить компенсацию покупателям и вернуть земли эмигрантам.
Эта юридическая баталия предоставила крестьянам повод для выступлений и развязывания войны с соседями — в полном соответствии с поговоркой «Кто с землей, тот с войной».
В 1817 году Бальзак стал свидетелем этих беспорядков. Он гостил тогда у Луи де Вилле Ла-Фе. Этот придворный аббат, превратившийся в крупного землевладельца, навел в своем поместье порядок, что пришлось не по вкусу соседям-крестьянам.
В 1818 году Бальзак, узнав о смерти Поля-Луи Курье, убитого объездчиком его охотничьих угодий, окончательно убедился в крестьянском вероломстве. Страсть, которую питал объездчик к жене Курье, придавала трагедии любовный аспект, но было известно, что ненависть к Курье соседей вызвал высокий забор, возведенный им для того, чтобы никто не мог проникнуть в его поместье. Необходимость идти на нарушения делает людей злыми. Крестьянин стремится собирать хворост, заниматься браконьерством, удить рыбу, промышлять в лесу по своему усмотрению.
Еще в ранней молодости Бальзак понял, что Французская революция совершалась не столько в Париже, сколько в деревнях. «Великий страх» 1789 года оказал более сильное воздействие, нежели взятие Бастилии. Бабеф, встав во главе заговора Равных, подвел итог Революции. Суд над Бабефом и его казнь 26 мая 1797 года сделали из него мученика. Его программа всеобщего счастья благодаря равенству пользования, достигаемому фактическим равенством, относилась не только к социальной жизни, но и к жизни чувств. Это предвещало конец буржуазии, ставшей земельным собственником в 1793 году. При этом, как должен был показать «Депутат от Арси», буржуазия продолжала занимать твердые позиции в обществе.
В июне или июле 1842 года Бальзак ездил в Арси-сюр-Об. Он исходил местность вдоль и поперек и сделал множество записей для создания «портрета политического деятеля-буржуа». Он хотел воссоздать историю «этой отвратительной буржуазии, которая ворочает делами».
У Бальзака сформировался образ буржуазного генеалогического леса, богатого на побочные ответвления, как это видно из «Готского альманаха». Эти ответвления, то есть потомство, никому не известное и буржуазное до мозга костей, являлось для Франции Луи-Филиппа тем же, чем были семьи Конде или Монморанси при Старом Режиме. Генеалогические ветви, которыми эти семьи охватили страну, напоминали Бальзаку «удава, столь искусно обвившего дерево, что путешественник наивно усматривает в нем естественный феномен азиатской растительности». Эти люди сжимали, душили жизнь в провинции, как в Париже «добропорядочное» общество подминало под себя все прочие социальные слои.
Эти семейные династии действовали по простой схеме. Если семья владела банком или солидным предприятием, если она породнилась через брак с крупными землевладельцами или высокопоставленными чиновниками, если среди ее членов были дядюшки аббаты, кузены-администраторы, сборщики налогов, судебные исполнители и если у них были дети, которые становились нотариусами, прокурорами, супрефектами или префектами, в таком случае неоспоримо и величественно, как восходящее солнце, одна семья занимала небосклон «кантона, городка или супрефектуры».
Для того чтобы завоевать власть и упрочить ее, эти семьи делали вид, что проявляют заботу о народе. Чопорные в приватной жизни, они вовсю балагурили с крестьянами, а их жены занимались благотворительностью. В предвыборный период эти люди проповедовали идеи, имевшие отношение к эмоциям, но никак не к истинным убеждениям.
Так родился самый большой бальзаковский миф — медиократия (власть посредственности). Это слово, придуманное Бальзаком, будет всплывать во всех антиреспубликанских полемиках в течение последующих ста лет.
Медиократия — это партия буржуазии, «золотая середина» посредственности, вклинившаяся между уничтоженной в 1789 году аристократией и народом, на котором непременно следовало нажиться. Медиократия — «это (также) гений препятствий». Братья Гонкур создадут даже «правительство медиократов».
По Бальзаку, в 1842 году богачи были разобщены, однако накал борьбы между богатыми и бедными по-прежнему не утихал.
До 1789 года у бедняка был враг в лице аристократа, его замка и владений. В городе особняку аристократа, его лошадям, любовницам, карете завидовали. В 1843 году врагами бедняка по-прежнему оставались отдельные оставшиеся в живых аристократы. Однако в равной мере бедняки ненавидели буржуа, который с 1793 по 1796 год подменял собой Церковь и дворянство, скупив по сходной цене национальное достояние.
Против кого крестьянину выгодно бороться? Против аристократа? Но с него немного возьмешь! Уж лучше охотиться на буржуа, но осторожно! Буржуа очень осмотрителен. Он прячет свое имущество и держит в руках рычаги власти: налоги, кодексы, законы.
Миновали счастливые дни больших распродаж. Канули в Лету времена, когда треть земли во Франции принадлежала духовенству. Огромные владения оказались раздробленными. Земля поднялась в цене, а у тех, кто хотел обладать ею, не было ни гроша. Итак, речь больше не шла о том, чтобы купить, ибо это было уже невозможно. Возникла необходимость взять.
Уже в 1840 году Бальзак предчувствовал, что грядущая революция будет жестокой и решительной. Она обрушится на государственный порядок, установленный буржуазной революцией. На смену правительству представителей, в действительности бутафорскому, возглавляемому парламентом, кабинетом министров, избранным королем-гражданином, придет коллективная диктатура.
Целью этой диктатуры будет полное уничтожение принуждений, довлеющих над народом.
Принуждение к труду рассматривалось как рабство.
Другое принуждение заключалось в том, что тираническое, грабительское, несправедливое и деморализующее государство попустительствовало тем, кто обладал властью, заставляя всех прочих терпеть лишения.
Еще одним принуждением считалась собственность. Стены, решетки, сейфы должны были пасть, чтобы уступить место новой земле, новым небесам.
«Крестьяне», которых Бальзак так и не успел закончить — он остановился на четвертой главе II части, — должны были показать буржуазию, вынужденную обороняться от крестьянства.
В Бургундии хозяин поместья Эги, генерал де Монкорне отхлестал кнутом и прогнал прочь своего управляющего Гобертена. Гобертен, став лесоторговцем и мэром Виль-о-Фе, заключил союз с нотариусом Люпеном и бывшим жандармом Судри, также мэром. Подчас эти народные мэры не умеют ни читать, ни писать. Они вступают друг с другом в сговор, чтобы создать обширную сеть, в которой Бальзак усматривал мистическую и грандиозную тождественность демократическому обществу, откуда в очередной раз вылупляется пресловутая медиократия.
Очень быстро Гобертен одерживает верх над Монкорне. Гобертен стоит во главе службы по обеспечению Парижа дровами. Он управляет лесным хозяйством и наделен всеми вытекающими отсюда полномочиями. В его ведении находятся рубка деревьев, охрана, лесосплав… После того как объездчик Монкорне был убит, генерал узнал, что за его голову была назначена высокая цена. Он вынужден продать Эги. Гобертен осуществил свою мечту.
С 1836 года Бальзак писал отрывки из «Крестьян» под названием «Кто с землей, тот с войной». Он опубликовал их затем, чтобы выделить главную мысль. Из года в год, и в 1841-м, и в 1842 году Бальзак обещал «Крестьян» поочередно всем своим издателям. Но, пишет Тьерри Боден, после того как газета «Ла Пресс» «отклонила роман из-за „длиннот“, история создания „Крестьян“ превратилась в зловещую и монотонную историю последовательных провалов». «Крестьяне» отображают тот момент, когда Бальзак, доведший до совершенства свое мастерство, поддался пессимизму.
Если финансовое освобождение коммун развязало руки мэрам-спекулянтам типа Гобертена, то агрономическая отсталость французской деревни отправила в свободное плавание маргиналов, бандитов, бродяг, короче, всякий сброд.
Крестьяне Бальзака не утратили здравого смысла. Они знают, что, если они встанут во главе страны, буржуа и правительство будут вынуждены возделывать поля и собирать урожай. Чтобы не вызывать зависть, буржуа делает вид, что всегда загружен делами. При новом социальном порядке он тоже будет занят, но на сей раз — по-настоящему, на сельскохозяйственных работах. Такой представлял себе Бальзак будущую революцию.
Вопреки всем страхам Бальзака, такая революция во Франции не свершилась. Деревня хорошо приняла Вторую империю. В 1877–1878 годах крестьяне поднялись, как они понимали, за свои права, за родину, за образование, за почту, за общественные работы, за лучшую жизнь. Из крестьян выйдут «новые общественные слои», как скажет Гамбетта, окончившие хорошую школу в соседнем городе. Эти крестьянские сыновья преодолеют все ступени, ведущие от серой жизни к триумфу. Они станут депутатами или высокопоставленными чиновниками. Добротные школьные знания сделают из них профессоров, судей, адвокатов, врачей, промышленников. А если на этих поприщах им суждено потерпеть поражение, они всегда могут вернуться к родным истокам.
Век спустя история этих «новых слоев» повторила жизнь крестьянина Бернара-Франсуа Бальса, который в 1776 году отважно вступил в ряды Королевского совета.
Ошибся ли Бальзак? Монархист из гордости, католик из добропорядочности, эгоист, свято верующий в энергию, которая, по его мнению, лишь одна способна вдохнуть жизнь в массы, Бальзак представлял собой типичного буржуа, который приходил в ужас от всепоглощающего господства буржуазии только тогда, когда дело касалось денег. Вслед за Бальзаком, такими же порвавшими с условностями буржуа станут Флобер, Бодлер, братья Гонкур. Но их творчество не вызовет такого социального резонанса. Бальзак знал, что жизнь полна жестокостей, что вмешательство человека в природу не доведет до добра, что общество разделено на выскочек и жертв, но, осуждая многое в человеческой деятельности, он показал, насколько велик человек в своих устремлениях. Бальзака можно представить социалистом или реакционером. Возвысившись над келейными интересами, Бальзак призвал человечество к самосовершенствованию через повышение мощи своей нравственной силы, через совокупность знаний и опыта, накопленных эпохой, в которой мы живем. В этом смысле Бальзак, как он сам говорил, принадлежит к партии Революции, которая является партией Жизни.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ОНОРЕ БАЛЬЗАКА
1799, 30 май. В Туре, в семье чиновника Бернара-Франсуа Бальса и Анны Шарлотты Саламбье, дочери суконщика, родился сын Оноре.
1803–1813. Оноре проходит обучение сначала в пансионе Легле, затем в Вандомском коллеже ораторианского ордена.
1814. Апрель. Первая реставрация Бурбонов. Конец года. Семья Бапьзака переезжает в Париж. Оноре отдают в пансион Лепитра.
1815. Март — июнь. Возвращение Наполеона I и «Сто дней». Июль. Вторая реставрация Бурбонов. Оноре переводят в коллеж Ганзе и Безелена.
1816–1819. Бальзак учится в Школе Права и одновременно работает клерком в адвокатской конторе.
1820. Апрель. Первое литературное произведение Бальзака — трагедия «Кромвель». Осень. Начало работы над «черными» романами. Декабрь. Переезд семьи в Вальпаризи.
1821. Июнь. Знакомство с Лорой де Берни.
1821–1825. Бальзак публикует под псевдонимом восемь романов («Наследница Бирага», «Жан Луи», «Арденнский викарий», «Пират Арго» и др.), а также работает над трактатом «Физиология брака».
1825–1828. Неудачная попытка заняться издательским делом; результат — более 50 тысяч франков долга. Осень (1828). Поездка в Бретань для изучения места действия будущего романа о шуанах.
1829. Март. «Последний Шуан, или Бретань в 1799 году» — первый роман, подписанный Бальзаком. 19 июня. Смерть отца. Декабрь. Выход «Физиологии брака». Сотрудничество в газетах «Мод», «Волёр» и др.
1830. Апрель. Выход сборника «Сцены частной жизни». Очерки в газетах и журналах. 27–29 июля. Июльская революция. Август. Вступление на престол «короля банкиров» Луи-Филиппа. Ноябрь-декабрь. Бальзак присоединяется к оппозиции. Первый вариант «Папаши Гобсека».
1831. Январь — июнь. Сатирические очерки в журналах «Карикатюр», «Волёр» и др. Август. Выход «Шагреневой кожи». Сентябрь. Сборник «Философские романы и сказки». Октябрь. Поездка в Саше, работа над «Озорными рассказами». 21 ноября. Восстание лионских ткачей, отображенное в ряде произведений Бальзака.
1832. Февраль. Сотрудничество в лигитимистской прессе. Новелла «Полковник Шабер». 28 февраля. Первое письмо «чужестранки» Э. Ганской. 5–6 июня. Республиканское восстание в Париже. Август — октябрь. Путешествие в Экс с герцогиней де Кастри. Выход сборника «Новые философские рассказы»: «Луи Ламбер», «Красная гостиница» и др.
1833. Январь-февраль. Начало переписки с Ганской. Апрель-май. Поездка в Ангулем к Зюльме Карро. Июнь. Замысел «Этюдов о нравах XIX века». Июль-август. Выход продолжения «Озорных рассказов» и романа «Сельский врач». 26 сентября. Первая встреча с Ганской в Невшателе. Декабрь. Выход первых «Этюдов о нравах XIX века»: романа «Евгения Гранде», рассказа «Прославленный Годиссар» и др. Путешествие в Женеву.
1834. Апрель. Второе восстание лионских ткачей и республиканское восстание в Париже. Октябрь. Набросок будущей «Человеческой комедии». Декабрь. Выход романа «Отец Горио» в «Ревю де Пари».
1835. Март. «Отец Горио» выходит отдельной книгой. Май. Поездка в Вену. Ноябрь. Новые «Этюды о нравах XIX века»: «Брачный контракт», «Лилия в долине» и др. Второй вариант «Папаши Гобсека».
1836. Январь — апрель. Работа в «Хроник де Пари». Публикация новелл «Обедня безбожника», «Дело об опеке» и др. Пять дней тюремного заключения за отказ служить в Национальной гвардии. Июнь. Выход отдельным изданием «Лилии в долине». Конец июля. Смерть госпожи Берни. Август. Поездка в Италию.
1837. Февраль. Выход первой части «Утраченных иллюзий». Февраль — май. Путешествие в Италию. Май-октябрь. Бегство от кредиторов. Покупка земли для строительства имения Жарди. Декабрь. Выход третьей части «Озорных рассказов» и романа «Сезар Бирото».
1838. Февраль. Бальзак в гостях у Карро в Иссудене. Визит в Ноан к Жорж Санд. Март. Отъезд на Корсику и Сардинию по делу о концессии на разработку серебряных рудников. Октябрь. Сборник «Банкирский дом Нусинген», «Выдающаяся женщина», «Музей древностей» и др. Декабрь. Вступление в Общество литераторов.
1839. Июнь. Выход второй части «Утраченных иллюзий». Декабрь. Бальзак снимает свою кандидатуру в Академию в пользу Виктора Гюго. «День Евы», «Деревенский священник».
1840. 14 марта. Премьера драмы «Вотрен» и ее запрет правительством (16 марта). Июнь — август. Издание журнала «Ревю паризьен»; вышло три номера. Повесть «Пьеретта».
1841. 1 июня. Заключен договор на издание «Человеческой комедии». Июль. Продан за долги дом в Жарди. «Темное дело».
1842. Июль. Выход последнего выпуска первого тома «Человеческой комедии». Октябрь-ноябрь. Романы «Жизнь холостяка» и «Изобретательность Кинола».
1843. Июль. Путешествие в Петербург. Ноябрь-декабрь. Возвращение в Париж. Болезнь. Полностью опубликован роман «Утраченные иллюзии». Начало работы над романом «Блеск и нищета куртизанок».
1844. Сентябрь — ноябрь. Начало работы над романом «Крестьяне». Выход первой части «Блеска и нищеты куртизанок».
1845. Май-июнь. Путешествие с Ганской по Германии. Октябрь-ноябрь. Поездка в Италию. «Запоздалый роман».
1846. Март — май. Путешествие по Италии. 28 сентября. Покупка дома в Париже на улице Фортюне (позднее — улица Бальзака). Декабрь. Выход романа «Кузина Бетта».
1847. Апрель-май. Путешествие с Ганской по Рейну. Выход романа «Кузен Понс». Сентябрь. Отъезд в Верховню. Декабрь. Работа над пьесой «Мачеха».
1848. 16 февраля. Возвращение в Париж. 22–25 февраля. Февральская революция; образование временного правительства. Письмо Бальзака в «Конститюсьонель» с защитой «сильного правительства». Апрель. Провал кандидатуры Бальзака в депутаты. 15 мая. Попытка левых во главе с Бланки и Барбесом захватить власть в Париже. 25 мая. Премьера «Мачехи».
23–26 июня. Восстание парижских рабочих, подавленное генералом Кавеньяком. Август-сентябрь. Закончив комедию «Делец», Бальзак уезжает в Верховню.
1849. Январь. Кандидатура Бальзака в Академию дважды забаллотирована. Апрель. Бальзак в Верховне тяжело болен.
1850. 14 марта. Бракосочетание с Ганской в Бердичеве. 27 мая. Приезд в Париж. Июнь — август. Последняя болезнь Бальзака. 18 августа. В 23 часа 30 минут Бальзак скончался.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Бальзак в воспоминаниях современников. — М., 1986.
Грифцов Б. Как работал Бальзак. — М., 1958.
Кучборская Е. Творчество Бальзака. — М., 1970.
Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. — М., 1967.
Обломиевский Д. Бальзак: этапы творческого пути. — М., 1961.
Паевская А., Данченко В. Оноре де Бальзак: библиография русскоязычной литературы. 1830–1964. — М., 1965.
Резник Р. «Философские этюды» Бальзака. — Саратов, 1983.
Цвейг С. Бальзак. — М., 1962.