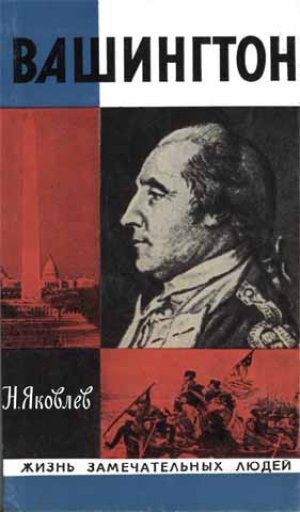
И У НЕГО БЫЛИ ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
По прихоти судьбы портрет шестидесятичетырехлетнего Вашингтона, писанный Стюартом, идеализированный и величественный, но в то же время сверхторжественный и безжизненный, стал самым популярным. В этом году он возведен в ранг «официального» портрета и красуется в каждой школе США; следовательно, грядущие поколения американских школьников будут воспитаны в представлении о Вашингтоне как о нудном старце.
С. МОРИСОН. Молодой Вашингтон, 1932 год
В наши дни обычно не заботятся о том, чтобы знать свою родословную дальше третьего поколения. Был дед, и ладно.
Жизнь стремительно летит вперед.
Иное дело век XVIII. Время не торопилось. Вечера при свечах располагали к обстоятельной беседе о ближних и дальних родственниках, можно было повздыхать по старине, когда люди были лучше и чище. Во всяком случае, крепче телом и душой, жили несравненно дольше. То, что это было совершенно неверно, во внимание не принималось. Тогда много легче верили. Вероятно, этим особенностям века мы обязаны подробному, хотя и не всегда достоверному представлению о генеалогическом древе Джорджа Вашингтона.
Предки его были англичанами и попали в Новый Свет не по большой охоте, а гонимые бурей Английской революции. В середине XVII столетия в графстве Эссекс жил в скромном достатке английский священник, преподобный отец Лоуренс Вашингтон. Он славил бога своего и любил крепкий эль. Круглоголовые пуритане, приступившие под водительством О. Кромвеля к развернутому строительству града господнего на земле, не могли допустить и мысли, чтобы «завсегдатай таверны», «скандальный, мерзостный священник» служил богу. В 1643 году во имя чистоты идеалов они изгнали распутника из прихода. Принципы восторжествовали, а Лоуренс, лишившийся средств к жизни, спустя десять лет умер в нищете.
Впоследствии утверждали, что круглоголовые покарали Лоуренса не за пьянство, а за ортодоксальность, расходившуюся с их собственной и, естественно, как бывает, в периоды революции, единственно правильную в глазах имеющих силу. Для оставшихся детей независимо от того, что судьба отца была все же лучше удела многих тысяч бедняков, результат был один — безысходная бедность. В середине пятидесятых годов двое сыновей решили искать счастья за океаном, в Америке.
В 1657 году старший из них, двадцатипятилетний Джон, ступил на землю Вирджинии, где и обосновался вместе с братом. Капитан торгового судна, на котором служил Джон, не имевший иных средств на переезд в Америку, попытался вернуть его через суд. В ответ Джон предъявил капитану обвинение в том, что тот в пути вздернул на рее женщину, объявленную без достаточных оснований ведьмой. На процесс капитана Джон не явился, сославшись на занятость — он крестил первенца Лоуренса (деда Вашингтона). Пока раскручивался маховик судебной машины, он успел жениться на дочери богатых родителей Анне Поп и пустить корни в колонии.
Джон довольно быстро достиг в Вирджинии примерно такого же социального положения, какое имел его отец в Англии. Он стал мировым судьей и берджессом — членом нижней палаты ассамблеи Вирджинии. Обзавелся недвижимой и движимой собственностью, а по смерти первой жены еще дважды сочетался браком. Вторую жену Джон знал отлично задолго до обмена с ней обручальными кольцами. Он, как мировой судья, вел ее процесс — женщина обвинялась в содержании дома терпимости. Когда умерла и вторая жена, он вступил в брак с ее сестрой, также доброй знакомой. Он судил ее по обвинению в непристойном поведении — она была пресловутой любовницей губернатора колонии. До брака с Джоном она успела овдоветь трижды. В те времена в Новом Свете женились многократно и умирали рано. Джон скончался в 1677 году, едва достигнув сорока пяти лет.
Он оставил о себе память как о цепком человеке, неуклонно стремившемся вверх и только вверх. Иногда Джон умудрялся выступить истцом в суде, где сам председательствовал. Умел вчинить иск и индейцам — хитроумным юридическим маневром он оттягал землю у целой индейской деревушки. Краснокожие от души прозвали Джона Канотакариусом, что примерно означало «похититель деревень». Непомерно злопамятные были склонны в порыве досады распространять прозвище на правнука. Джон при случае был готов и к «ратным подвигам». Он считался полковником вирджинского ополчения, на его совести, помимо иных деяний, участие в хладнокровном убийстве пяти индейских послов.
Едва ли по этому поводу он испытывал серьезные угрызения совести — колония росла, нужны были новые земли, а краснокожие с их смехотворными претензиями на охотничьи угодья и прочее считались досадной помехой. В высших интересах бога и Вирджинии их надлежало изгонять — судом белого человека или с мушкетом в руках. В зависимости от обстоятельств. Во всяком случае, жизнь Джона не выходила за рамки этики, принятой в Америке XVII столетия.
Лоуренс Вашингтон, по профессии юрист, представлял в колонии интересы лондонских купцов. Он продолжал семейную традицию, заложенную Джоном в первом браке, и взял в жены женщину, стоявшую выше на социальной лестнице. Милдред Уорнер была дочерью члена Королевского совета, верхней палаты вирджинской ассамблеи. Лоуренс округлил состояние семьи, и, когда в 1698 году, тридцати девяти лет, он ушел в лучший мир, Вашингтоны считались по масштабам Вирджинии довольно состоятельными людьми. Августину, второму сыну Лоуренса, отцу первого президента США, было тогда три года.
Вдова с двумя сыновьями и дочерью отправилась в Англию. Там по обычаям того времени она вскоре вышла замуж, а сыновей поместили в известную школу Аплби, Вестморленд. При очередных родах последовала смерть матери, неясность с наследством, юридические споры, и, наконец, Августин Вашингтон вернулся в Вирджинию и вступил в права полагавшейся ему частью имущества — примерно треть от общих земельных владений в 2000 гектаров. В 1715 году Августин, которому исполнился двадцать один год — по воззрениям вирджинцев, зрелый мужчина, — женился на Анне Батлер, принесшей порядочное приданое. От этого брака у него было трое детей — сыновья Лоуренс, Августин и дочь Джейн.
По преданиям, Августин был человеком громадного роста, сказочной физической силы и удивительной кротости. Внешний облик, конечно, интересен, но не так существен, как деловые качества Августина, а о них можно судить точно — биографы раскопали в архивах множество юридических документов. Из деловых бумаг предстает отнюдь не кроткий гигант, а делец с бульдожьей хваткой.
Земельные владения Августина, по ним-то в Вирджинии и оценивалось богатство человека, к моменту его брака занимали что-то около 700 гектаров, к исходу жизни ему принадлежало 4000 гектаров. Спекуляции землей нежданно-негаданно принесли новую выгоду — на его участке около деревни Фридриксбург были открыты залежи железной руды. Августин съездил в Англию, заинтересовал лондонских предпринимателей в деле, и с середины двадцатых годов у реки Потомак заработал рудник и было налажено доменное производство. Компания, получившая название «Принсипиа», выплавляла в год 3000 тонн чугуна, вывозившегося в Англию. Ежегодный английский импорт чугуна в то время едва достигал 20 тысяч тонн. Это происходило в то время, когда выплавка чугуна была строжайшим образом запрещена в колониях. Августин Вашингтон и его лондонские друзья, видимо, знали, как обходиться с запретами британской короны.
Компания процветала, в 1726 году Августин выкупил у сестры плантацию Хантинг-Крик на Потомаке за 180 фунтов стерлингов (стоимость 200 тонн чугуна). Плантация занимала ровно половину из 2000 гектаров земли, в свое время пожалованных полковнику Джону Вашингтону и полковнику Николасу Спенсеру за ввоз в Вирджинию из Англии 100 каторжников для особо тяжелых работ. Именно эта плантация со временем стала домом Джорджа Вашингтона — Маунт-Вернон.
Современник, образованный вирджинец, У. Бирд оставил живое описание чугунолитейного дела, поставленного на американской земле предприимчивым Августином. Побывав в окрестностях Фридриксбурга, он писал: «Обитатели деревни немногочисленны. Помимо полковника Уиллиса (который впоследствии женился на тетке Джорджа Милрид), в деревне живут торговец, портной, кузнец и трактирщик… Через реку находится рудник Инглянд, названный по имени главного управляющего, хотя земля принадлежит мистеру Вашингтону. Рудники в двух милях от плавильни, куда мистер Вашингтон доставляет на телегах руду, чугун обходится в 20 шиллингов за тонну. Плавильня стоит на ручье, впадающем в Потомак. А когда слитки готовы, их везут на телеге еще шесть миль к пристани на этой реке. Кроме мистера Вашингтона и мистера Инглянда, еще несколько человек в Англии заинтересованы в этом предприятии. Дело поставлено очень хорошо, и не щадят никаких усилий, чтобы вести его с прибылью».
В 1729 году Августин овдовел. Сыновья подросли, и он повез их в Англию, где по уже начавшей складываться семейной традиции определил в школу Аплби. В Англии Августина постигло несчастье — он выпал из экипажа, получил ранения и был вынужден отлеживаться в доме знакомых. Среди живших тогда в доме внимание Августина привлекла высокая сильная девушка, двадцатилетняя Мэри, приехавшая из Америки погостить в Англию к родственникам. Он вспомнил, что знает ее давным-давно: она жила в том же приходе в Вирджинии, что и семья Вашингтонов.
Преуспевающие Вашингтоны купили место в приходской церкви и торжественно появлялись на богослужениях — благополучный Августин, разряженная Джейн, одетые как джентльмены сыновья Лоуренс и Августин-младший. В толпе жалась сирота Мэри, потерявшая к 12 годам родителей. Ее опекун, адвокат Джордж Эскридж, был достойным человеком, а следовательно, стеснен в средствах. Девочка не получила даже того скудного образования, которое почиталось достаточным для дочерей из «приличного» общества Вирджинии. Она, в сущности, росла неграмотным, заброшенным ребенком, хотя Эскридж никогда не скупился на добрые советы.
С младых ногтей Мэри почувствовала себя хозяйкой. Отец оставил ей 160 гектаров земли, пятнадцать голов скота, трех чернокожих рабов и достаточно перьев для роскошной перины. Девочка получила в наследство еще пять платьев и отделанное шелком седло, которое пришлось очень кстати — Мэри была прекрасной наездницей. Постепенно в ней выработались незаурядная твердость и уверенность в себе, особенно в отношении своих хозяйственных способностей.
Со стороны, однако, было виднее — Мэри твердой рукой могла привести в расстройство и загубить любое хорошо поставленное хозяйство. Попросту она была суетной, бестолковой женщиной, донельзя упрямой и неизменно уверенной в своей правоте.
В 1731 году Августин ввел 23-летнюю Мэри в свой дом на плантации в графстве Вестморленд, опустевший после смерти Анны. То, что Августин был вдовцом целых два года, по тогдашним вирджинским понятиям необычайно длительный срок. Еще удивительней представлялся более чем зрелый возраст невесты, считалось, что в 23 года девушка почти безнадежно «засиделась».
У троих детей Августина появилась энергичная мачеха. Дочь от первого брака вскоре умерла, а материнская ласка для сыновей пока не была необходима — оба находились далеко в Англии.
11 февраля 1732 года родился сын. Вероятно, в честь опекуна Мэри назвала его Джорджем. В 1752 году была проведена реформа календаря, все даты сдвинулись на 11 дней вперед. С тех пор 22 февраля считается днем рождения Джорджа Вашингтона.
Когда Джордж Вашингтон появился на свет, англичане вот уже сто двадцать пять лет устраивали свои колонии на континенте Северная Америка. О том, что воды Чезапикского залива омывали целинные земли, вирджинцы успели забыть. Плантации и поселения постепенно передвигались на запад, и в дни Вашингтона под прибрежной освоенной полосой понимались территории, прилегавшие к океану и лежавшие по берегам рек (считая с севера на юг) Потомак, Раппаханнок, Йорк и Джемс до тех мест, где они были судоходными. Из общего населения колоний британской короны в Америке — 600 тысяч — 114 тысяч падало на долю старейшей из них, Вирджинии.
Освоенные земли в Вирджинии примерно равнялись площади Англии, а сходство с метрополией усугублялось национальным составом колонии. Белое население пока почти поголовно состояло из англичан, по разным причинам покинувших родину и консервировавших в Новом Свете английскую старину. Метрополия круто менялась — революция, реставрация, новые веяния и идеи. Обычаи и нравы вирджинцев, защищенных Атлантикой, застыли на месте. Во многих отношениях вирджинцы были бóльшими британцами, чем коренные жители Британских островов. Состоятельные обитатели колонии, а они и представляли ее общественное мнение, с ужасом и негодованием встретили казнь Карла I. Губернатор, заклятый роялист В. Беркли, даже носился с планами удержать колонию для Карла II, но, поразмыслив, отказался от своих намерений — вся Новая Англия разделяла идеалы пуритан. Соотношение сил сложилось не в пользу роялистов.
Вирджиния зарекомендовала себя как убежище для роялистов во времена Кромвеля, а с реставрацией вирджинцы воспрянули духом — в конце концов они оказались правы, с торжеством они поговаривали, что Карл II правил сначала в Вирджинии и только затем вернул трон отца в Англии. Политические страсти на родине улеглись, дела решились в пользу верных подданных короны, и вирджинцы со спокойной совестью занялись своими делами — колонизацией новых земель в интересах развития своеобразно сложившейся экономики колонии.
В нижнем течении четырех крупных рек Вирджинии располагались старейшие плантации. Здесь, на равнине, уходившей на запад на 100–120 километров, со времен первых поселенцев возделывался главным образом табак — основная культура колонии. Плантатору обычно принадлежало несколько участков — основной, как правило, прилегающий к реке и где был его дом, обрабатывался под непосредственным наблюдением хозяина, другие сдавались арендаторам. Ему могли принадлежать земли и в необжитых западных районах, граница которых лежала в тех местах, где равнина переходила в возвышенность, а пороги на реках препятствовали судоходству. Точные границы своих владений в девственных землях, заросших лесом и кустарником, плантатор затруднился бы указать. Иногда их сдавали в аренду немцам и ирландцам, которых занесли в Америку последние волны эмиграции, иногда их захватывали скваттеры, но по большей части западные или приграничные районы пустовали — дальше простиралась «ничейная земля», конечно в представлении плантаторов.
Богатый плантатор мог владеть десятками тысяч гектаров земли, которая обрабатывалась белыми арендаторами, «кабальными слугами» и неграми-рабами. Полагать, что экономика Вирджинии основывалась только на труде последних, было бы значительным преувеличением. Не говоря уже об общеизвестной производительности рабского труда, полезно помнить статистику: негры составляли менее одной трети от общего населения колонии. Примерно такое соотношение между свободными гражданами и рабами было в Древнем Риме. «Белые бедняки» — арендаторы или владельцы клочков земли в неудобных местах восточных районов, а в основном на западе, — и двигали хозяйство Вирджинии.
Крупные плантаторы, численно составлявшие ничтожную прослойку населения колонии, чувствовали себя полноправными хозяевами в своих владениях. О феодальной зависимости арендаторов говорить, разумеется, не приходится, но вирджинская аристократия все же недалеко ушла от феодальных сеньоров, разве что не ввела права первой ночи. Арендаторы полностью зависели от плантатора, рабы были просто собственностью. Каждая плантация была самостоятельной хозяйственной единицей. В усадьбе вокруг большого дома владельца были разбросаны хижины арендаторов и рабов. Плантатор не нуждался в посредниках в торговле с Англией — океанские суда поднимались по широким эстуариям величавых рек с приливной волной (она ощущалась почти на сто километров) к частным пристаням, забирали табак и выгружали заказанные товары, среди которых почти всегда были английские газеты и журналы. Вирджинский плантатор с небольшим запозданием был всегда в курсе последних новостей далекой родины, лондонских мод, сплетен и пересудов.
К середине XVIII века в Вирджинии было только восемь «городов», точнее деревень. Столица колонии Вильямсбург с «дворцом» губернатора, городскими резиденциями плантаторов, грязными тавернами, колониальным колледжем Уильяма и Мэри по европейским критериям была захолустьем. Высший свет Вирджинии оживлял деревню в «сезон». Здесь заседала ассамблея колонии, работал губернатор, прокламации которого прибивались на дверь его канцелярии, переписывались законопослушными подданными и читались в тавернах, а стоустая молва разносила их по колонии. Губернаторы не утруждали себя делопроизводством, докладывая в Лондон разве о заседаниях ассамблеи и о приговорах по уголовным делам. Бичом морской торговли было пиратство, и сохранились отчеты о судебных процессах начала XVIII века, например когда в Элизабет-Сити в Вирджинии был повешен квартирмейстер морского разбойника Черной Бороды «за пиратство, ибо названный Уильям Говард не испытывал страха перед богом и почтения, должного Его Величеству».
Казнь христианина требовала мотивировки, пусть предельно краткой. Отправление правосудия в отношении негров было много проще. Хотя уголовные законы Вирджинии не были строже английских, за серьезное преступление негр мог быть повешен, четвертован и даже заживо сожжен. В Вирджинии, как и в других колониях, выплачивалось вознаграждение за скальпы индейца. Все это были заурядные дела, не нарушавшие ритма жизни колонии, шедшего порядком, заведенным первыми поселенцами.
Легенда о богатом, рафинированном южанине-джентльмене еще не родилась, и жизнь избранного общества Вирджинии была проще и скромнее, чем со временем стали изображать ее романисты, создавшие прекрасную сказку о Старом Юге. Плантаторы жили в сытости и спокойствии, но их быт не был перегружен бóльшими излишествами, чем у английского дворянина средней руки. Они любили плотно поесть, как следует выпить, тщеславно гордились заморскими платьем и мебелью. Но дома были на удивление маленькими. Особой необходимости в книгах и знаниях не ощущалось, знаменитый летописец старой Вирджинии Уильям Бирд, имевший библиотеку что-то около трех тысяч томов, был редчайшим исключением. Он не предназначал свои искрящиеся остроумием наброски для печати. Но именно они, когда были разысканы и увидели свет в гонце XIX века, воссоздали неповторимый колорит жизни в колонии.
Чисто хозяйственная необходимость — проводить многие часы в седле — была объявлена прекрасным времяпрепровождением. «Мои дорогие соотечественники, — посмеивался У. Бирд, — так любят езду верхом, что часто пройдут две мили, чтобы поймать лошадь и проехать милю». Конные состязания, по крайней мере заключение пари на скачках, охота на лис считались занятиями, совершенно обязательными для джентльменов. Частые разъезды по делам, наезды к соседям в гости, при плохих дорогах — неизбежная ночевка. Из необходимости возникло пресловутое трогательное гостеприимство.
Очень большие семьи, многократные браки и ранние смерти до предела запутали родственные отношения, каждый приходился кому-то дальним родственником. Единство хозяйственных интересов, тесные родственные узы — все это привело к тому, что привилегированное общество Вирджинии стало тесно сплоченным кланом.
Марк Твен с теплым чувством юмора писал о нравах верхушки вирджинского общества, сложившихся в XVIII веке и обнаруживавших поразительную устойчивость даже в первой половине XIX века, когда Вирджиния считалась «самым главным и блистательным из всех штатов». Для американцев на Юге «человек родом из старой Вирджинии почитался высшим существом, а если он мог доказать, что происходит от Первых Поселенцев Вирджинии (ППВ), этой великой колонии, то его почитали чуть ли не сверхчеловеком».
Избранные вирджинцы видели в себе «своего рода дворянство со своими законами, хотя и неписаными, но столь же строгими и столь же четко выраженными, как любые законы, напечатанные в числе статутов государства. Потомок ППВ был рожден джентльменом; высший долг своей жизни он усматривал в том, чтобы хранить как зеницу ока сие великое наследие. Его честь должна была оставаться незапятнанной. Честь стояла на первом месте, и в законах джентльмена было с точностью сформулировано, что она собой представляет и какими особыми чертами отличается от того понятия чести, которое признают те или иные религии и общественные законы и обычаи остальной, меньшей части земного шара, потерявшей значение после того, как были намечены священные границы штата Вирджиния».
И если был пример, достойный подражания для чопорных вирджинцев, то только Рим времен расцвета республики. До классической древности руки у вирджинцев никогда бы не дошли, если бы не практические нужды. Юриспруденция и медицина требовали знания латыни. Служители культа — англиканского, католического, лютеранского или кальвинистского — все они были обязаны хотя бы поверхностно знать древнегреческий и древнееврейский языки. А чтобы христианская религия выжила в Новом Свете, нужно было готовить ее служителей на местах, не говоря уже о новом пополнении юристов и медиков.
В школах и колледжах юным американцам крепко вбивали классических авторов вместе с языками, на которых они писали. Эти дисциплины доминировали во всех девяти колониальных колледжах. Зубрили до одури Цицерона, Теренция, Вергилия, Горация, Ливия и Тацита по-латыни, корпели, разбирая речи и трактаты Демосфена, Аристотеля и Геродота. Подвигами юности гордились до самой смерти. Один из представителей богатейшей вирджинской семьи, Г. Ли, распорядился выбить на своем памятнике: «Он был весьма искусен в греческом и латинском языках…»
Со временем классическое образование расширило интеллектуальные горизонты тех, кому было суждено возглавить Американскую революцию. Они серьезно толковали о древнегреческой концепции чести и древнеримском идеале добродетели. Как консерваторы, так и радикалы черпали вдохновение из одного и того же источника — Аристотеля — и иных цитировали в доказательство верховенства закона бога и природы над человеческими установлениями.
При ссылках на античных классиков чисто материальные интересы приобретали весьма возвышенное, благородное звучание. Было нетрудно убедить других, а главное, себя, что колонии выполняют некую миссию на девственном континенте.
Излюбленной темой бесед плантаторов были земли — источник их существования и богатств. Где и как приумножить их для себя, для детей и внуков? Взоры, естественно, устремлялись на запад, грандиозные планы приобретения или захвата земель порождались не столько испорченностью человеческой натуры — обвинить всех вирджинцев в этом было бы слишком, — а коренились в суровой повседневности их жизни. Плантационная система, основанная на монокультуре, требовала беспрерывного расширения возделываемых земель. Табак был не только очень капризен, но и быстро истощал почву. Когда участок переставал приносить доход, плантатор бросал его и принимался за следующий. К середине XVIII столетия, однако, становилось все труднее и труднее изыскивать свободные земли в пределах освоенной территории. Следовательно, выход один — вперед, на Запад!
Дальний Запад манил поколения вирджинцев. Легенды о кратчайшем пути к Индийскому морю угасали с трудом. Поколение отца Джорджа Вашингтона, вероятно, с сокрушенными сердцами рассталось с мечтой, но только чтобы возобновить с величайшей энергией претензии на западные земли. Но что лежало там? Точно никто не знал. «Наша страна, — восклицал У. Бирд, — заселяется вот уже свыше ста тридцати лет, но до сих пор мы едва ли знаем что-нибудь об Аппалачских горах, которые нигде не отстоят от океана далее двухсот пятидесяти миль». Незнание только разжигало аппетиты. В 1750 году некий вирджинский лидер напомнил торговой палате Англии, что претензии колонии на запад охватывают территорию вплоть до «Южного моря» (Тихий океан), включая Калифорнию.
Быть может, почтенный (коль скоро он состоял в переписке с торговой палатой в Лондоне) вирджинец представлял себе, где Калифорния. Юный Джордж Вашингтон определенно не знал; за несколько лет до этого он написал в школьной тетрадке: «главные острова» Северной Америки суть «Колофорния», Гренландия, Исландия, «Барбадос и остальные острова в Карибском море».
Если об отдаленных территориях представления были туманными, а мнения расходились, то каждый вирджинец знал, чем нужно завладеть немедленно. По соглашениям с индейскими племенами западная граница колонии проходила по хребту Блю-Ридж, что было зафиксировано в договоре, подписанном в Олбани в 1722 году. Но уже в 1744 году по Ланкастерскому договору Вирджинии и Мэриленда с конфедерацией ирокезских племен граница отодвинулась к Аллеганским горам. Для заселения открывалась плодородная долина Шенанда, куда хлынул поток поселенцев из Вирджинии.
За смехотворную цену 400 фунтов стерлингов плюс расходы на дрянное виски, которым накачали до полусмерти ирокезских ходоков при заключении Ланкастерского договора, вирджинцы приобрели давно вожделенные земли, а также крупнейшие неприятности — в самой ближайшей перспективе столкновение с французами. Провинциальная, безмятежно дремавшая под ласковым солнцем, клевавшая по зернышку Вирджиния становилась одним из плацдармов в глобальном конфликте могущественных империй Англии и Франции.
Пока английские поселенцы неторопливо осваивали восточное побережье Америки, учредив 13 колоний, под корень истребляли индейцев, расчищали и возделывали поля, налаживали торговлю и зачатки промышленности, на Североамериканском континенте быстро строилась французская колониальная империя. Она возводилась по иным планам и другими методами. Когда в английских колониях население насчитывалось уже десятками тысяч человек, французов были считанные сотни. Однако все они находились под централизованным руководством, подчиненные одной цели — положить к ногам христианнейшего монарха Новую Францию. Построив опорные пункты на реке Святого Лаврентия, французы быстро прошли к Великим озерам, отыскали истоки рек, впадающих в Миссисипи, спустились по великому водному пути и уже в конце XVII века укрепились в устье Миссисипи, на берегу Мексиканского залива. Обширный бассейн Миссисипи французы назвали Луизианой в честь обожаемого Людовика XIV.
Бесстрашные французские путешественники и миссионеры смело углублялись в дикие чащобы. Они желанными гостями входили в индейские вигвамы. Индейцы были равнодушны к рассказам о боге белых людей, бесстрастно пропуская мимо ушей пламенные речи миссионеров, но ценили товары, которые французы обменивали на меха, особенно оружие. А торговлей мехами, в сущности, и ограничивались экономические цели французского проникновения. Индейские вожди могли легко сделать выбор: англичане захватывали земли, истребляя всех, кто стоял на их пути. Французы, хотя и строившие из бревен блокгаузы и форты в стратегических пунктах, в основном оставляли индейцев в покое. Печальный опыт многих десятилетий войн с белыми людьми показал индейцам, что пришельцев изгнать нельзя. Приходилось искать наименьшее зло — посиживая у костров и покуривая трубки, старейшины индейских племен нашли, что французы ближе им, чем англичане.
Указывая на различие в методах колонизации между французами и англичанами, академик Е. В. Тарле замечал, что первые стремились к легкой наживе, их прельщали меха, которые доставляли индейцы-охотники. Враждовать с добытчиками было экономически невыгодно, да и опасно — индейские племена по численности — значительно превосходили французов.
По этим причинам индейские племена по большей части выступали французскими союзниками.
Когда спавшие в английских колониях пробудились, то с величайшим ужасом обнаружили — Новая Франция чудовищной дугой от реки Святого Лаврентия через Великие озера, Миссисипи до Нового Орлеана охватывала английские колонии. Везде вдоль этой линии встали форты. Слов нет, линия фортов выглядела более внушительной на карте, чем на деле. Но если французы усилят их, тогда английские колонии навсегда останутся запертыми в своих границах. Прощай надежда на достижение «Южного моря» и загадочной Калифорнии!
Вирджиния почувствовала близкое присутствие французов, стоило первым поселенцам после Ланкастерского договора перевалить через хребет Блю-Ридж. Они вторглись в предполье Новой Франции, столкнулись с индейскими племенами, опиравшимися на французов. В Вирджинии было только и разговоров о коварстве французов, которые тайком, за спиной английских колоний, создали цепь фортов, что особенно возмутительно, являвшихся одновременно торговыми пунктами. Нужно было подниматься против французов во имя наисвятейших принципов наживы, но как?
Никакого единства среди 13 английских колоний не оказалось даже перед лицом французской угрозы. В Массачусетсе не желали делать ничего, если только не затрагивались непосредственно интересы этой колонии. Жители Нью-Йорка мало думали об общем благе, они заботились только о том, чтобы ирокезы, дружившие с французами, не встали на тропу войны, а продолжали продавать меха, которые нью-йоркские купцы сбывали тем же французам. Нью-Джерси далеко отстояла от беспокойных мест, а обе Каролины были слишком слабы, чтобы можно было рассчитывать на эффективную помощь. Да и сама Вирджиния отнюдь не рвалась к конфронтации с Новой Францией по всем линиям, дело не шло дальше достижения непосредственной выгоды. Собрать единое войско английских колоний было совершенно невозможно, каждому губернатору для этого предварительно пришлось бы обратиться к ассамблее за средствами. А отрицательное отношение их членов к военным тратам было общеизвестно.
Логики Сент-Джеймса в Лондоне могли только радоваться, что наконец у колоний появились собственные побудительные мотивы к схватке с Францией. Королевские министры не могли взять в толк, что колонии, солидарные в этом отношении с Англией, не желали нести никаких издержек. Им бы повнимательнее присмотреться к политике колоний во время недавнего тура англо-французских войн. В Северной Америке колонии никогда не шли дальше обеспечения собственных интересов в самом узком смысле. Если и происходили военные действия, то они отнюдь не развертывались синхронно с кампаниями на других театрах. А войну за австрийское наследство, закончившуюся в 1748 году, колонисты даже прозвали «войной короля Георга»!
С французами в Северной Америке сражалась регулярная английская армия при самой незначительной помощи со стороны местного ополчения. «Ополчение, — сардонически писал У. Бирд, — единственная постоянная военная сила в Вирджинии, и оно наслаждается благами бесконечного мира». В Лондоне получила хождение теория о том, что жители колоний просто не способны исполнять воинский долг. Теория эта оказалась поразительно живучей и впоследствии очень дорого обошлась Англии, ибо в нее поверили и английские генералы. В метрополии не видели, что «миролюбие» (которое, кстати, никак не проявлялось в кровавых расправах с индейцами) объяснялось более существенными причинами, колониальная верхушка смотрела глубже — в карман. Ни плантаторы Вирджинии, ни торговцы и банкиры Новой Англии не желали опустошать свои сундуки ради короны. А когда на карту были поставлены и их интересы, они внезапно почувствовали прилив патриотических чувств, ощутили себя подданными» заморского короля, надеясь, что английское войско отгонит французов, защитив Британию и отстояв своекорыстные интересы колоний.
Если в Сент-Джеймсе по дальности расстояния могли принять патриотическую горячку колоний за желание субсидировать войну против Франции, то королевские губернаторы на местах давно расстались с иллюзиями на этот счет. Они постоянно сталкивались с практическими результатами применения в Америке хваленого английского самоуправления. Губернатор мог получить средства на сбор ополчения и ведение боевых действий только с согласия ассамблеи колонии. В почтенных собраниях заседали тертые люди, придерживавшиеся доктрины «мы слишком горды, чтобы подчиниться, слишком сильны, чтобы нас согнули в бараний рог, и слишком просвещенны, чтобы не видеть последствий», к которым приведет безропотное повиновение, безразлично — британскому монарху или английскому парламенту.
«Правление наше так счастливо устроено, что губернатору нужно сначала перехитрить нас, и только потом он может угнетать нас. И даже если ему удастся выжать из нас деньги, он должен еще заслужить их», — шутил У. Бирд, описывая нравы Вирджинии в письме приятелю на Барбадосе. Губернаторам было не до шуток, некоторые из них умерли в должности, надорвавшись в спорах с ассамблеями, что посеяло за океаном законные сомнения в крепости короны.
Профессору (не президенту) Вудро Вильсону нельзя отказать в понимании отечественной истории страны. Его книга «Джордж Вашингтон» была, конечно, посредственной, но кое-какие наблюдения все же представляют ценность. К их числу относится анализ отношений Англии и колоний в преддверии нового вооруженного столкновения с Францией в середине XVIII столетия.
«Споры между имперской системой и независимостью колоний, — писал В. Вильсон, — наконец выдвинули на первый план ряд проблем, суть которых было трудно определить. Было очевидно, что сами колонии не объединятся, чтобы схватиться с французами и вышвырнуть их. Больше того, они не дадут ни людей, ни денег. Англия должна направить в Америку собственные армии, сражаться с Францией, как она делала в Европе, оплачивать военные расходы из своей казны, получая между тем от колоний лишь ту незначительную помощь, которую они сочтут возможным представить. Колонии тем временем будут пожинать плоды борьбы, научившись на собственном опыте, какие блага приносит эгоизм».
Все это прояснилось в тридцатые и сороковые годы XVIII века, когда Северная Америка прошла через редкую полосу неустойчивого мира. На эти два десятилетия пришлись детство и юность Джорджа Вашингтона.
Мэри Болл после Джорджа в быстрой последовательности родила еще пятерых детей. Хотя одна девочка умерла, Августин и во втором браке оказался многодетным отцом. Детьми занималась Мэри, супруг — делами. Вероятно, для Джорджа в раннем детстве отец представлялся фигурой загадочной — частые отлучки, иногда многомесячные — ему приходилось регулярно ездить в Англию. Радость встреч, томительное ожидание подарков, которые добрый и щедрый отец приводил детям из-за моря.
Когда Джорджу было три года, Августин перевез семью километров за семьдесят, на плантацию Хантинг-Крик, где она прожила около трех лет. Конечно, дом не имел ничего общего с позднейшей прославленной резиденцией Маунт-Вернон. Места раннего детства запали Джорджу на всю жизнь — холм, избранный Августином для сооружения дома, с которого открывался вид на величественный Потомак, достигавший здесь почти двухкилометровой ширины. В Хантинг-Крик жилось привольно и дышалось легко.
Бесконечные дела заставили Августина расстаться с полюбившимся маленькому Джорджу местом. В 1738 году он с семьей переехал на пятьдесят километров южнее, на плантацию Ферри-Фарм. Поблизости находился рудник, истощение которого вызвало беспокойство Августина. Вашингтоны теснились в восьмикомнатном деревянном доме, стоявшем на берегу Раппаханнок, которая, конечно, не шла ни в какое сравнение с Потомаком. Сведения о детстве Джорджа самые скудные, но, если бы Уимс был прав, Ферри-Фарм была подходящим местом для одного из мифологических подвигов юного героя — он, конечно, с известным усилием мог бы перебросить серебряный доллар или камень через реку.
В отличие от редко — заселенных мест, где находилась плантация Хантинг-Крик, Вашингтоны теперь жили в одном из самых оживленных районов Вирджинии. Ее жизнь Джордж мог легко наблюдать, стоило выйти из дому. К пристани, находившейся чуть ли не у дверей, подходили океанские суда, с величайшим трудом маневрировавшие в узкой реке. Рядом — паром, неизбежное скопление людей, лошадей и повозок. По ту сторону реки Фридриксбург, первый «город», увиденный Джорджем. Единственный каменный дом — тюрьма. Склады табака, причалы, у которых стояли корабли из далекой Англии.
На Ферри-Фарм было все необходимое для идиллического детства. В лесу поблизости он воевал с воображаемыми индейцами, на Раппаханноке удил рыбу, плавал и греб. У хижин негров (Августин держал на этой плантации двадцать невольников) молодого хозяина встречали подобострастные поклоны.
Об обучении Джорджа сведения противоречивые. По всей вероятности, грамоте и начаткам счета его научил каторжник, которого отец взял домашним учителем. В этом не было ничего странного, в партиях кандальников, прибывавших из Англии, бывали прекрасные люди, по каким-то причинам попавшие в беспощадный механизм английской карательной системы. Быть может, обучение Джорджа было не только домашним, он посещал начальную школу в Фридриксбурге.
С шести лет в жизнь Джорджа вошел человек, которого он боготворил. Сводный брат Лоуренс неожиданно оказал решающее влияние на формирование его характера. Лоуренсу было двадцать лет. Он приехал из Англии, завершив образование в Аплби. На сохранившихся портретах Лоуренс выглядит высоким стройным человеком, с лицом, которое в XX веке назвали бы интеллектуальным, глазами, глядевшими на мир с большим чувством юмора. Таким, вероятно, он был в жизни, впитав самое лучшее, что могло дать либеральное привилегированное учебное заведение.
Джордж, замирая, слушал рассказы Лоуренса о школе, со временем и он должен был отправиться за океан, в Аплби. В 1741 году Лоуренс вырос в глазах мальчика в исполинскую фигуру — не пробыв дома и года, он уехал воевать донов.
Разразилась очередная война Англии, каких было множество в XVIII веке, на этот раз с Испанией. Англичане поднимались на войну разъяренные, ибо доны дали ужасный повод к ней. Испанский корабль остановил в открытом море британский бриг «Ребекка», — заподозрив, что англичане везут товары, незаконно закупленные в испанской Вест-Индии. Товары конфисковали, а в назидание другим контрабандистам испанцы отрезали ухо капитану «Ребекки» Дженкинсу.
«Ужасающая, неслыханная жестокость!» — восклицали потрясенные члены английской палаты общин. Презренные доны поставили под угрозу не только прибыльную торговлю, но и уши британских моряков. Бравый адмирал королевского флота Вернон поклялся палате: «Дайте мне шесть кораблей, и я возьму Порто-Белло!» Слова флотоводца покрыла буря аплодисментов. Вернону выделили потребные суда.
В Вирджинии кровь закипела от негодования в жилах плантаторов — контрабандная торговля с испанскими владениями в Америке была давним занятием благочестивых колонистов. Маленький Джордж Вашингтон, по свидетельству Спаркса, муштровал своих одноклассников, готовя их к схватке с донами. Плантаторы пили за успех оружия его величества. Ухо капитана Дженкинса взывало о возмездии, и губернатор Вирджинии Гуч заявил, что готов выдать каперские свидетельства «для задержания, захвата судов и барок, принадлежащих королю Испании, его вассалам и подданным». Это подняло патриотизм вирджинских судовладельцев на новую высоту.
Для содействия британскому флоту в операциях против кровожадных донов было решено собрать полк бравых вирджинцев. Тут встретились трудности — белые бедняки предпочитали трудиться на своих участках, а не воевать за ухо Дженкинса. Пришлось ассамблее принять закон — насильственно включать в полк всех мужчин, не имеющих «законных занятий». Таковыми в основном оказались каторжники, трудившиеся как «кабальные слуги».
Под угрозой судебной расправы набрали квоту, выделенную Вирджинии, — 400 человек. К ним назначили четырех капитанов, одним из них был Лоуренс Вашингтон. В сентябре 1741 года вирджинское воинство отплыло в южные моря воевать испанца.
Попытка Вернона овладеть Картахеной была отбита с сокрушительными потерями. На Ферри-Фарм места себе не находили, беспокоясь о судьбе Лоуренса. Наконец он объявился в родных местах, в восторге от адмирала Вернона и полный негодования по поводу английского генерала, который продержал вирджинских воинов на судах, где они порядком намучились, а некоторые умерли от желтой лихорадки. Воинских лавров Лоуренс не снискал, разве что вывез от стен Картахены туберкулез, убивший его через двенадцать лет. Первого Джордж не понимал, о втором не мог знать — ему было достаточно видеть обожаемого брата в блестящем офицерском мундире. Каждое слово, исходившее из его уст, приобретало для мальчика глубокий смысл.
12 апреля 1743 года разразилась беда — умер отец. Джорджу было одиннадцать лет.
Как и было принято тогда, львиная доля наследства пошла Лоуренсу, прежде всего плантация в Хантинг-Крик и рудник. Лоуренс немедленно переименовал ее в Маунт-Вернон, в честь обожаемого адмирала, и повесил в доме громадный портрет флотоводца. Вторая большая доля имущества, включая плантацию Поп-Крик в графстве Вестморленд, где родился Джордж, досталась Августину.
Из всего имущества отца — 4000 гектаров земли и 49 рабов — на долю второй семьи осталось немногое — плантация Ферри-Фарм, 10 негров и кое-какое имущество. Едва ли утешало невероятное условие, все же оговоренное в завещании: если Лоуренс умрет бездетным, ему наследует Джордж.
Одиннадцатилетний Джордж, старший из пяти детей, остался лицом к лицу с матерью под требовательными взорами малышей — трех братьев и сестры.
Она была всегда суровой женщиной, Мэри Болл, а оставшись вдовой с ограниченными средствами, проявила еще дикую гордыню. Мягкий Лоуренс, умевший легко смотреть на жизнь, попытался наладить отношения с мачехой, войдя в ее затруднительное положение. Но очень скоро отступился. Мэри была неопрятна, невежественна, скандальна, превыше всего на свете ставила библию и в довершение всего, заподозрил Лоуренс, тайком покуривала трубку.
Мэри с мученическим сладострастием взялась нести свой крест. Она не вышла снова замуж, как можно было бы ожидать по нравам тогдашней Вирджинии, а посвятила себя семье, выполняя долг по собственному разумению. Наставляя детей на путь истинный, она подкрепляла увещевания увесистыми затрещинами и добрыми пинками. Все, что дошло до нас о Мэри, неопровержимо свидетельствует, что эта женщина повергала в панический ужас знавших ее. Один из друзей детства Джорджа вспоминал: «Я боялся ее в десять раз больше моих родителей». Другой рассказывал: «Я часто бывал с ее сыновьями, здоровыми парнями, и мы все при ней помалкивали как мыши».
При всей вспыльчивости и своеволии Мэри сообразила, что на Ферри-Фарм трудно поднять пятерых детей. Спустя несколько месяцев после смерти мужа она согласилась, чтобы Джордж жил у сводных братьев. Осенью 1743 года он отправился к Августину, а через два года к Лоуренсу. Ноги самой Мэри в этих домах никогда не было.
Хотя Мэри считала естественным возложить выполнение родительского долга на сводных братьев, она не желала, чтобы Джордж покинул родные края. По всей вероятности, именно она воспрепятствовала его отъезду в Англию, в Аплби. Это, несомненно, нанесло непоправимый ущерб его образованию, но упрямство Мэри, проявленное в другом случае, американские историки задним числом благословляют. Когда Джорджу было лет четырнадцать, она не сдалась на упорные уговоры Лоуренса и его друзей определить сына в королевский флот.
Ее упрямство, возможно продиктованное родительским инстинктом, опиралось и на совет брата, жившего в Англии. Достойный родственник в ответ на просьбу Мэри сообщить свое мнение высказался с обескураживающей откровенностью: «Я думаю, что лучше отдать в подмастерье к меднику, где его обломают, будут обращаться как с негром или скорее как с собакой. Если бы он выбился в капитаны вирджинского судна (что чрезвычайно трудно), то плантатор, имеющий 120–160 гектаров земли, трех-четырех рабов, при надлежащем прилежании лучший добытчик для семьи, чем такой капитан».
Годам к шестнадцати отношения Джорджа с матерью приобрели холодный и формальный характер. Ничего от немногого, связывавшего их, не осталось. Трагедия Мэри заключалась в том, что, высоко ценя свою деспотическую родительскую любовь, она полагала, что дети перед ней в неоплатном долгу, и пыталась властно взыскать все. Джордж (не без содействия Лоуренса) вырвался из ее рук, других детей она просто сломала. Чарлз спился и умер, Самюэль скончался, подорвав силы развратом. Последний сын — безвольный Джон — не видел никаких недостатков у Мэри. В 1772 году она переехала с Ферри-Фарм в Фридриксбург к дочери и жила с ее семьей.
Только Джордж вышел на большую дорогу жизни, и Мэри никогда не простила ему этого. Отношения между прославленным генералом и его матерью приобрели столь скандальный характер, что современники стыдливо умалчивали о существовании Мэри. После смерти Вашингтона бойкие биографы попытались изобразить Мэри в духе матерей древней Спарты — она-де много ожидала от своего сына и поэтому никогда не удовлетворялась его достижениями.
Мэри действительно никогда не выражала ни малейшего удовлетворения по поводу побед, одержанных под предводительством Вашингтона. «Ему слишком много льстят», — во всеуслышание повторяла она. Рассказывают, что в годы войны за независимость Мэри выражала твердую уверенность желавшим слушать, что «Джорджа все равно поймают и вздернут». Но она никогда не упускала случая напомнить сыну, что живет в страшной нужде, и постоянно требовала денег. Он был щедр, но требования Мэри все возрастали.
В 1781 году жалобы Мэри растопили даже каменные сердца джентльменов, заседавших в вирджинской ассамблее, и они принялись обсуждать вопрос о назначении пенсии матери Вашингтона. Когда он узнал об этом, то написал конфиденциальное письмо спикеру ассамблеи, решительно высказавшись против, ибо жадность Мэри клала пятно и на его репутацию. Вашингтон указал, что купил матери дом, обстановку, она имеет рабов, живет в полном довольстве. «Я, — добавил Вашингтон, — уверен, что все ее дети готовы разделить с ней последнюю полушку, если бы было нужно избавить ее от настоящей нищеты. Я неоднократно заверял ее в этом, и все мы были бы смертельно обижены, зная, что мать получает пенсию в то время, как мы в состоянии содержать ее. Она имеет более чем достаточный собственный доход».
Для вирджинской ассамблеи объяснений было достаточно. Мэри тем не менее продолжала плакаться. Тогда Вашингтон пишет брату Джону: «Из надежных рук я узнал, что она при каждом случае и в любом обществе жалуется на трудные времена, что она в нужде и если не прямо, то достаточно прозрачными намеками выпрашивает подачки, что выставляет в неблагоприятном свете не только ее, но и всех связанных с ней. Что у нее нет неудовлетворенных нужд, я уверен. Воображаемые же нужды понять невозможно, и часто их нельзя удовлетворить, ибо они беспричинны и всегда изменчивы. Выясни, в чем же она действительно нуждается, чтобы удовлетворить ее».
По сохранившимся шести письмам Джорджа к матери (четыре написаны в 1755 году, а два в 1787 году) видно, что Мэри постоянно выставляла абсурдные претензии, которые сын отклонял, ссылаясь на собственные стесненные обстоятельства. Самое большое письмо (от 15 февраля 1787 года) выглядит как пространная бухгалтерская справка о доходах плантаций и о том, почему он не может сделать для матери большего.
Известно, что Мэри никогда не бывала в доме сына после его брака. Это можно только частично отнести за счет ее характера. Прославленный генерал предупредил мать, что его дом напоминает «многолюдную таверну». Вследствие этого «если тебе придется быть в нем, то перед тобой встанет выбор: 1) всегда быть одетой, чтобы появиться в обществе; 2) выходить… неприбранной; 3) сидеть узником в спальне. Первое не понравится тебе… второе не понравится мне… а третье… будет неприятно нам обоим».
В 1789 году Мэри мучительно долго и трудно умирала от рака на восемьдесят третьем году жизни. На смертном одре она пробормотала: «Мне бы только весточку, писанную его рукой, о том, что он жив и здоров». Письма она не получила, сын — первый президент США — был в Нью-Йорке. Она скончалась в Фридриксбурге 25 августа 1789 года, завещав Джорджу негритенка-раба, кровать, зеркало, туалетный столик, подушку, две простыни, одеяло и участок земли, который Вашингтон так и не получил.
Неисправимый завистник Вашингтона, второй президент США Д. Адамс изрек: «Что Вашингтон не был ученым, ясно, что он был слишком невежествен, неучен и неначитан для своего положения, также не нуждается в доказательстве». Бесспорно, Вашингтон не мог тягаться с плеядой блестяще образованных людей, возглавлявших Американскую революцию. Его нельзя сравнить с земляками-вирджинцами Томасом Джефферсоном и Джеймсом Мэдисоном. Он даже отдаленно не походил на крупного ученого своего времени Бенджамина Франклина. Все это дошло через многие поколения и в США ныне является общеизвестной истиной. Джон Ф. Кеннеди, принимая лауреатов Нобелевской премии, напомнил о разнообразных дарованиях Т. Джефферсона и шутливо добавил: «Никогда еще в Белом доме не собиралось столько талантов и знаний, кроме разве случаев, когда Томас Джефферсон обедал здесь в одиночестве».
Вашингтон всю жизнь остро чувствовал недостаток образования, и его пресловутая сдержанность, во всяком случае в обществе, способном свободно рассуждать о разнообразных высоких материях, наилучшим образом объясняется именно этим. В молодости он страдал от незнания французского языка, а в зрелые годы отклонил предложение посетить Францию, сославшись на необходимость вести разговор через переводчика. Молодежи Вашингтон на склоне лет завещал учиться, подчеркивая, что все знание стоит на фундаменте из книг, предостерегая только против получения образования в Европе. Там, опасался старик, молодые люди могут-де набраться принципов, «враждебных республиканскому образу правления и правам человека».
В молодости Джордж по-иному смотрел на вещи. Когда ему было около тридцати лет, он признался, что невозможность поехать в Аплби уязвила его, «ибо многие годы я жаждал побывать в Англии». Образование, полученное Вашингтоном, если его можно назвать таковым, носило узкоприкладной характер. Он проявил большое прилежание в математике, особенно геометрии. Дошедшие до биографов школьные тетрадки Джорджа — свидетельство упорства в выработке почерка, умения чертить. В этом отношении он достиг внушительных успехов, но одновременно они, увы, доказывают, что уже тогда вступил в борьбу с орфографией, которую вел с переменным успехом всю жизнь, так не добившись конечной победы. Настойчивость Джорджа в овладении начатками математических знаний понятна — вероятно, в ранней юности он по необходимости задумывался о куске хлеба и готовил себя к профессии нужной и почетной в колониальной Вирджинии — землемера.
Помимо аккуратно исполненных чертежей, решения задач и упражнений по измерению площадей, тетрадки Джорджа заполняли тщательно переписанные образцы разнообразных деловых документов. Договоры о купле и продаже, сдаче в аренду и расписки о займах, свидетельства о праве владения участками, закладные, документы на «кабальных слуг» и негров-рабов и т. д. На первый взгляд может создаться впечатление, что он готовился стать приказчиком у купца или клерком в конторе нотариуса. Дело объяснялось много проще — Джордж понимал, что каждый плантатор обязан сам вести свое хозяйство, и, видимо, готовил себя к этой роли. Во всяком случае, он знал, что преуспевающий вирджинский плантатор никогда не полагается на других в деловой переписке.
Все же большую часть детства и ранней юности Джордж провел не в душных классах, а на воздухе. Один из первых биографов Вашингтона, Д. Хэмфри, проливал горькие слезы по поводу того, что смерть отца помешала Джорджу учиться в Аплби. Хэмфри сокрушался, однако, не потому, что мальчик недополучил знаний, а потому, что рухнул благороднейший замысел отца — уберечь сына от развращающего воспитания в среде плантаторов, где вошло в обычай «давать мальчику лошадь и слугу, как только он мог взобраться в седло», в результате отпрыски состоятельных семей «подвергались угрозе стать своевольными и беспомощными». Страшная опасность во всем объеме наверняка постигла Джорджа, ибо о нем известно, что он был великолепным наездником. Правда, никто не находил его «беспомощным».
За расчищенными и обработанными полями в Вирджинии поднималась стена девственных лесов, совсем недавно охотничьих угодьев индейцев. Хотя краснокожих в обжитых пределах колонии больше не было — индеец не мог появиться здесь без пропуска, леса изобиловали зверьем, встречались даже медведи. Джордж должен был охотиться на оленей, фазанов. Он был неплохим стрелком, неутомимым охотником и ходоком.
Едва ли Джордж занимался собственно работой по хозяйству, помогая матери, для этого были рабы и слуги. Конечно, он отдавал распоряжения ломающимся голосом, и жизнь плантации не проходила мимо него. Из достоверных источников мы знаем, что Джордж, будучи подростком, объезжая жеребца, загнал его до смерти. Биографы умилились — парень тут же правдиво рассказал матери, как именно он нанес ущерб скромному хозяйству. Поступить иначе Джордж не мог, ибо мужи в Древнем Риме, о которых он уже понаслышался, говорили правду. Подросток стал воспитывать в себе качества джентльмена, благо под рукой нашлось надлежащее руководство.
В 1888 году были опубликованы «Правила приличного поведения», писанные рукой четырнадцатилетнего Вашингтона. Сначала восторженные биографы сочли, что 110 подробно изложенных правил принадлежали юному Джорджу, способному уже тогда проявить преждевременную зрелость и мудрость. Кой-какая исследовательская работа привела к обоснованному заключению: «Правила поведения» были небольшим перифразом книжки монаха иезуитского ордена, появившейся во французском переводе в 1617 году, либо, что более вероятно, взяты из переведенного на английский язык Фрэнсисом Хоукинсом в 1640 году французского наставления «Как надлежит отроку вести себя, или Приличие в беседах среди господ». Но, каков бы ни был источник аккуратной рукописи, она проливает свет на то, о чем думал молодой Вашингтон, и, помимо прочего, ставит его в должной перспективе как человека, вступившего в мир XVIII века, а отнюдь не предвосхитившего буржуазную мораль XIX века, что ему приписывали с легкой руки Уимса.
Из 110 истин, вероятно, только три правила, заключающие пространный перечень, заслужили бы одобрение Уимса: «108. Говори о боге серьезно и почтительно. Чти и повинуйся родителям, хотя бы они были бедны. 109. Развлекайся как подобает мужу, а не грешнику. 110. Трудись, чтобы сохранить в груди искру небесного огня, именуемого совестью». Все остальные 107 правил направлены к доказательству немудреного тезиса — должное поведение будет вознаграждено должным образом на земле, а не в царстве небесном. Советов, как попасть в рай, не дается, как не рекомендуется говорить правду, хотя и предлагается умело симулировать ее в надлежащих случаях. Действовать «вопреки моральным правилам» запрещается только в присутствии нижестоящих.
В сумме наставления сводятся к тому, чтобы быть обходительным: «любое действие в обществе должно производиться с определенным уважением к присутствующим», «не делай ничего другу, что могло бы обидеть его», «в присутствии других не напевай под нос, не стучи пальцами и ногами», «будучи на людях, не клади руки на те части тела, которые прикрыты одеждой», «не тряси головой, не качай ногами, не вращай глазами, не поднимай одну бровь выше другой, не допускай, чтобы твоя слюна попала в лицо другому, поэтому не приближайся к нему вплотную во время беседы», «если нужно дать совет или сделать упрек, подумай, как поступить — сказать на людях или с глазу на глаз, когда и в каких выражениях, а говоря, не показывай раздражения, будь кроток и мягок в выражениях», «когда видишь наказание преступника, ты можешь быть внутренне рад, но всегда внешне вырази сострадание к несчастному» и т. д. и т. п.
Зачем все это и стоит ли руководствоваться похвальными правилами? Биограф Шелби Литтл с женской наблюдательностью схватила только внешнюю сторону, сообщив в 1929 году: «Их было 110 правил, и он пытался помнить все без изъятия. Вероятно, он перестарался. Замечали, что Джордж Вашингтон был немного, всегда немного, напряжен». Историка С. Морисона все же недаром ставили в пример за то, что он глубже других проник в юношескую психологию. В очерке о молодом Вашингтоне Морисон писал: «Одно из самых трогательных и человечных представлений о Вашингтоне — переросший школьник со священным трепетом чеканит древние наставления Хоукинса — «не чешись за столом, не ковыряй вилкой в зубах, не дави блох на людях, в противном случае донельзя опрохвостишься в домах сильных мира сего».
Джорджу не было еще шестнадцати лет, как он попал в дом человека, сильного в масштабах Вирджинии. Лоуренс пригласил его жить в Маунт-Вернон. Под школьным образованием была подведена черта, начинались университеты жизни.
Лоуренс Вашингтон женился в 1743 году, спустя три месяца после смерти отца. Он сделал партию, о которой мог только мечтать: ему отдала руку Анна Фэрфакс, старшая дочь богатейшего соседа У. Фэрфакса. Плантация Фэрфакса Бельвуар была поблизости от Маунт-Вернона. Фэрфаксы, тесно связанные с английской аристократией, были одной из самых влиятельных семей в Вирджинии. Отец Анны входил в Королевский Совет, верхнюю палату ассамблеи Вирджинии, состоявший из двенадцати человек. Брак открыл Лоуренсу двери в высший свет колонии.
Хорошенькая Анна внесла в дом такое веселье, которое едва ли было по плечу занятому по горло Лоуренсу. На нем лежало большое хозяйство, он серьезно относился к обязанностям члена нижней палаты вирджинской ассамблеи и чину майора ополчения, заработанному в злополучной экспедиции Вернона. Положительный во всех отношениях муж раздражал развеселую, как все Фэрфаксы, Анну. Ему не нравилась ее безалаберная жизнь, она жаловалась на все ухудшающееся здоровье супруга. Вечный бал в Маунт-Верноне, разъезды по гостям прерывались только частыми родами Анны. Дети вскоре умирали.
В этом доме появился Джордж. Анна нашла юношу забавным увальнем. Громадного роста, сильный («таких больших рук я не видел больше ни у кого», — вспоминал Лафайет), в гостиных он жался к стенам и вспыхивал, когда к нему обращались. Анна быстро научила его танцевать, веселые друзья посвятили Джорджа в тайны виста и объяснили, как джентльмены играют на бильярде. Анна постоянно таскала Джорджа по домам соседних плантаторов. Если представлялась возможность, он старался избегать опасных знакомств с разбитными юными леди, предпочитая молча сопровождать Лоуренса в частых разъездах по хозяйству. Джордж порой чувствовал себя одиноким, тосковал по прежним приятелям и в глубочайшей тайне занялся рифмоплетством. Он вообразил, что несколько раз испытал сильнейшие муки любви, оставшиеся без взаимности. Наверное, потому, что о любви Джордж рассказал только бумаге, на которой царапал юношеские стихи, а в заученных им назубок 110 правилах поведения ничего не говорилось о женском обществе.
Сероглазый, атлетически сложенный гигант, рассудительно и медленно говоривший, отпугивал беззаботных вирджинок, над которыми он возвышался по крайней мере на полторы головы. Для плантаторов независимо от возраста он олицетворял идеал мужчины, вступающего в жизнь. Не только Лоуренс, но и многие другие были готовы протянуть руку юноше, о котором знали, что он хорошего происхождения и почти не имеет средств. Сословная солидарность делала свое дело, тем более что цвет вирджинского общества слышал и читал — так поступали древние римляне.
Если молодой человек был мужествен, смел, был прекрасным наездником, умел проявить скромность и исполненное достоинства почтение к старшим, тогда о разрыве поколений не могло быть и речи. Достаточно суровый быт Вирджинии создавал известное братство между плантаторами, невзирая на возраст. Вся их жизнь проходила на вольном воздухе в поле, в лесу. Спорт — травля лисиц, охота выделяли и делали самыми достойными сильнейших. Джордж — превосходный наездник, гордый и почтительный юноша — отвечал всем требованиям, необходимым для хорошего старта в жизни. Он полностью завоевал сердце отца Анны Уильямса Фэрфакса, которому было пятьдесят шесть лет, когда Лоуренс представил ему Джорджа.
В лице У. Фэрфакса зеленый вирджинец впервые столкнулся с родовитой английской аристократией и накрепко выучил правила игры, которых надлежало придерживаться юноше, чтобы преуспеть в англосаксонском мире XVIII века. Много позднее, когда его благодетель и наставник давно ушел из жизни, Вашингтон с негодованием отзывался об этих правилах как о «проклятом состоянии прислужничества и зависимости». Опыт приходит с годами, а тогда Джордж жадно впитывал мудрость жизни аристократии, тем более что ее источником был чуть ли не самый могущественный человек в Вирджинии.
Главный урок — найти патрона, имеющего «интерес» к молодому человеку. Патрону нужно служить беззаветно, не огрызаясь на пинки, дабы «не замутить свой разум». Именно так, наставлял Уильям Фэрфакс в задушевных беседах, вели себя в Древнем Риме, дающем вечный пример. Семья Фэрфаксов принадлежала к тому поколению английских джентри (помещиков средней руки) — вигов, которые по нормам, принятым в обществе, исповедовали принципы христианской морали, но черпали свое вдохновение у Марка Аврелия, Плутарха и философов-стоиков. Наилучший идеал им дали стоики — благородная простота жизни и спокойное принятие ее, долг перед родиной, щедрость к соотечественникам, неизменное мужество и непоколебимая честность. Философия стоиков, конечно, в большей степени, чем что-либо другое у древних, совпадала, хотя далеко не полностью, с христианской этикой.
Стоик, учил Фэрфакс Джорджа, не бежит от жизни, а встречает ее лицом к лицу. Он не избегает ответственности, а берет ее на себя. Высший долг — благородными делами заслужить уважение соотечественников. Лицо Джорджа каменело, а глаза приобретали стальной оттенок, когда он слушал неторопливые речи старика.
Если устных убеждений было недостаточно, Джордж мог обратиться к библиотеке Бельвуара, где был Плутарх в переводе Норса, сборник трудов древних и, конечно, любимый Фэрфаксом Сенека. Хотя Вашингтон никогда не был прилежным читателем, он купил основные «Диалоги» Сенеки. Названия глав книги, несомненно, были созвучны настроению Джорджа после бесед с Фэрфаксом: «Честного человека нельзя превзойти в учтивости. Хороший человек никогда не может быть несчастным, а плохой человек — счастливым. Чувственная жизнь — несчастная жизнь. Презрение к смерти дает возможность преодолеть все тяготы жизни».
Философские экскурсы Фэрфакса заканчивались тем, с чего начинались, — нужно верно служить патрону. Джорджу не требовалось большей догадливости, чтобы понять: Уильям Фэрфакс, полюбивший его как сына, считал себя таковым. Сын Фэрфакса — Джордж Уильям Фэрфакс, хотя был на семь лет старше Вашингтона, стал его ближайшим другом. Он приехал в Вирджинию из Англии двадцати одного года и постоянно вздыхал по оставленной прекрасной стране. Фэрфакс-младший рассказывал пораженному Джорджу о великолепии жизни английской аристократии. Отцовский Бельвуар, который Вашингтон считал верхом роскоши, по словам приятеля, был «сносным коттеджем в лесном крае». Иногда он намекал, что если смерти родственников последуют в надлежащем порядке, то ему титула лорда Фэрфакса не миновать!
Имя Томаса Фэрфакса, шестого лорда Фэрфакса Камеронского, для вирджинцев было овеяно легендой. Ровно за сто лет до описываемых событий Карл II пожаловал своему верному слуге, предку Т. Фэрфакса, обширные земли в Вирджинии между Потомаком и Раппаханноком. Ни король, ни облагодетельствованный им в глаза не видели дара, да и серьезно отнестись к королевской милости было трудно — она была проявлена через несколько месяцев после казни Карла I. Потомок Томас Фэрфакс оказался настойчивым человеком — в 1737 году он побывал в Вирджинии, частично осмотрел земли, которые считал своими, и, вернувшись в Лондон, подал прошение в Тайный Совет. Он претендовал на два миллиона гектаров, примерно четверть от тогдашней Вирджинии, значительно расширяя ее территорию на запад.
Хотя губернатор и ассамблея Вирджинии усомнились в столь далеко идущих претензиях — они признавали за Фэрфаксом примерно 600 тысяч гектаров, — он сумел добиться своего: в 1745 году Тайный Совет полностью подтвердил его права. Оставалось вступить во владение землями, и ради этого его сиятельство в 1748 году приехал в Вирджинию, поселившись сначала в Бельвуаре, доме двоюродного брата Уильяма Фэрфакса.
Джорджу Вашингтону он должен был казаться королем, а многочисленные причуды лорда выдавали высочайшее происхождение. Его светлость имел только две страсти в жизни — травлю лис и ненависть к женщинам. Первое было великолепно организовано, и Томас Фэрфакс получил все возможное удовольствие — Джордж Вашингтон, во всяком случае, научился незаметно придерживать лошадь, чтобы трофеи доставались лорду. Его сиятельство изволил показать, как надлежит увеселять женщин — прямо к дверям Маунт-Вернон Томас Фэрфакс приносил в мешке лису и давал ее на растерзание воющей своре псов.
Просиживая долгими часами за бутылкой старого портвейна, лорд стремился обратить Джорджа в свою веру — ненавидеть женщин. Он любил размахивать перед носом неловко съежившегося громадного парня брачным контрактом, куда было внесено имя его светлости, а имя невесты вырезано. «Эта», следовал длинный ряд эпитетов, после того как были улажены все условия относительно имущества, предпочла его некоему герцогу! Что, по словам лорда, достаточно изобличало великое непостоянство женщин, их коварство, и настоящий мужчина должен остерегаться смазливого личика. Полюбить прелестницу — значит угодить прямо в лапы дьявола, который, как известно, мастер перевоплощений.
В положении Джорджа нельзя было не соглашаться — он проходил упрощенный курс «проклятого прислужничества и зависимости», приспособленный к простому, по лондонской мерке, быту королевской колонии. Он не мог не видеть, что близкие ему, включая Лоуренса и Уильяма Фэрфакса, столь возвышенно толковавшего о добродетелях античного Рима, взяли лорда в тесное кольцо. Они относились к его светлости как к своей собственности, расставив локти, чтобы к Томасу Фэрфаксу не проскользнул никто из просителей и сомнительных родственников, домогавшихся теплых местечек, а главное, земли.
Решение Тайного Совета, даровавшего лорду 2 миллиона гектаров, положительно свело с ума испытывавших ненасытный земельный голод плантаторов. Они приветствовали дальнейшее продвижение границы на запад, а скваттеры (колонисты, занимавшие свободные участки земли) уже перевалили хребет Блю-Ридж и селились в плодородной долине Шенанда. Там было, по приблизительным подсчетам, до 300 семей. Эти земли как раз и были закреплены за лордом Фэрфаксом. Далеко не все скваттеры были готовы признать право англичанина, гонявшегося в Вирджинии со сворой за лисами, на их участки, вырванные изнурительным трудом у девственного леса.
Фэрфаксу нужно было без промедления закрепить свои права, то есть обмерить дарованные ему земли, нарезать там принятые для фермы участки по 160 гектаров, пустить их в продажу или получить деньги с уже построивших бревенчатые хижины на его земле. Ранней весной 1748 года в долину Шенанда отправилась партия землемеров. Помощниками и соглядатаями при опытном землемере Д. Дженне отправились молодой Фэрфакс и Джордж Вашингтон. Томас Фэрфакс положил шестнадцатилетнему юноше щедрую плату — дублон (старинная золотая испанская монета, 7,5 грамма золота) в день.
Они месяц провели в долине в сезон, отнюдь не способствующий приятной поездке, — снег только-только сошел, а листва на деревьях еще не появилась. Именно в это время и работали землемеры — зелень не загораживала поле зрения теодолитов. На ногах от зари до заката, под дождем, вымокшие и измученные, они преодолевали разлившиеся реки и ручьи. Редкие поселенцы встречали их с неприязненным любопытством: пришли люди Фэрфакса взыскивать за то, что принадлежало пионерам по праву первой заимки.
Джордж набивал руку в профессии землемера, делал чертежи и пунктуально вел дневник. «Встретили толпу людей, — записывал он, — мужчин, женщин и детей, которые сопровождали нас через лес. Они показали свою примитивную утварь. По моему глубокому убеждению, они столь же невежественны, как индейцы». Как пришел к такому выводу не бог весть какой образованный парень: «Они не знают английского, а все говорят по-голландски». Для доброго вирджинца любой неангличанин представлялся варваром. Психология молодого патриция, объезжающего по хозяйственным делам владения Рима!
Юноша впервые почувствовал, что такое американский Запад. Они остановились на ночь. «Хозяин — благословение богу! — говорил по-английски. Я разделся, сложил одежду и улегся в то, что они называют постелью. К моему удивлению, я обнаружил, что вся постель состоит из охапки соломы без простынь и только с истрепанным одеялом, вес которого вдвое превышал вес вшей, блох и иных паразитов на нем. Я был рад встать (как только вынесли свет), оделся и лег спать одетым, как и мои товарищи на полу».
Просто ужасно, сокрушался отнюдь не избалованный Джордж, «за исключением нескольких ночей, я не раздевался, а спал в одежде, как негр». Джордж, несомненно, укрепился в убеждении, что является носителем высшей цивилизации, во всяком случае, он во время злополучного ночлега под крышей гостеприимного англичанина не выпрыгнул из постели при свете, опасаясь обидеть хозяина.
Повстречались индейцы: «Мы были приятно удивлены, что группа из тридцати с лишним индейцев возвращается с войны, неся только один скальп». Землемеры, имевшие при себе запас виски, крепко угостили индейцев, и те отблагодарили их, исполнив военный танец, который Джордж нашел «чрезвычайно комичным». Вашингтон, вне всякого сомнения, решил, что теперь знает индейцев достаточно, ибо на другой день ограничился краткой пометкой в дневнике: «Ничего примечательного… Провели с индейцами целый день».
Из поездки Джордж вынес массу впечатлений: увидел, что за границей обжитых земель лежат необъятные просторы — Вирджинии есть куда расти. Пересчитывая полученное вознаграждение, он высоко оценил профессию землемера. Зимой 1748/49 года Джордж прошел краткий курс теории в колледже Уильяма и Мэри в Вильямсбурге, сдал экзамен и, «дав обычные клятвы в верности королю и правительству», получил свидетельство землемера. Джордж хлопотал о месте штатного землемера графства Калпепер. С помощью Лоуренса он получил его.
Два года с весны 1748 года Вашингтон занимался объездом и обмером земель. Он помог распланировать город, который закладывался примерно в двадцати километрах от Маунт-Вернона, по просьбе соседей уточнял размеры плантаций — и снова за Блю-Ридж. С каждым годом население в районе Аппалачских гор увеличивалось, сюда эмигрировали преимущественно из Пенсильвании немцы и ирландцы. Складывалась типичная американская «граница» с демократическими нравами, уверенностью в себе, традиционным презрением к властям. К 1776 году эти районы стали «сверкающим острием границы». В дни, когда молодой землемер побывал там, группа поселенцев подала в суд, не признавая прав лорда Фэрфакса на занятые ими земли. Начался один из самых известных процессов в Вирджинии, закончившийся победой истцов, когда ни их, ни ответчика давно не было в живых.
Джордж, поглядев на порядки границы, уверился в своей правоте. Там живут, писал он другу, преимущественно «голландцы», они «варвары, совершенно неотесанные люди», жить среди них «совершенно невозможно без приличного вознаграждения». Оно последовало без большого промедления — на заработанные деньги в 1750 году он купил 600 гектаров земли в облюбованном им, профессиональным землемером, месте — в долине Шенанда, уже прозванной Вирджинской Аркадией, а на следующий год прикупил еще 150 гектаров. Когда совершалась первая из этих сделок, Джорджу еще не исполнилось 19 лет. Он мог считать себя удачливым дельцом и с учетом возраста был таковым.
Вашингтон занимался в доступных ему масштабах тем, что составляло смысл жизни самых уважаемых джентльменов, спешивших захватить все новые и новые земли, чтобы либо спекулировать ими, либо налаживать там торговлю с индейцами. В этом отношении Джордж был в главном русле деловой активности Вирджинии. Спекуляция как таковая отнюдь не считалась скверным занятием. Первоначальное значение этого слова в английском языке — «глубокое раздумье», только в 1774 году согласно толковому «Оксфордскому словарю» термин приобрел смысл: «занятие любыми деловыми предприятиями или сделками авантюристического или рискованного характера, дающими шансы на достижение большей… выгоды». Это определение как нельзя лучше применимо к тому предприятию, которое основали самые влиятельные вирджинцы в конце сороковых годов, — компании Огайо.
Толчок честолюбивому проекту, несомненно, дала та легкость, с которой лорд Фэрфакс получил 2 миллиона гектаров. Лоуренс Вашингтон, заручившись поддержкой Фэрфаксов, председателя Королевского Совета Вирджинии и плантаторов, отправился в Лондон, где в 1749 году добился утверждения короной статута компании Огайо — ей даровалось 200 тысяч гектаров с условием в течение семи лет поселить на этих землях 200 семей и построить форт. По выполнении этого компании обещались новые земли. Центром всей деятельности компания наметила обширный район, где слияние Аллегани и Мононгахила дает начало реке Огайо. В Лондоне пайщиками компании стали герцог Бедфордский, влиятельнейший купец Д. Ханбери и Р. Динвидди. Последний уже собирался за океан — ему предстояло сесть в кресло губернатора Вирджинии.
Наступило лихорадочное предвкушение великих и волнующих дней, когда будут заняты плодороднейшие долины реки Огайо, где, помимо удобных для обработки земель, вирджинцы точно знали, есть уголь. Форт даст возможность покупать меха у индейцев. Учредители компании, управляющим которой стал Лоуренс Вашингтон, прекрасно видели и основное препятствие — они вторгались в область прямых французских интересов. Это их не пугало — продвигая на запад границу колонии, они чувствовали за спиной Британскую империю!
Джордж не мог не быть в курсе великого начинания, больше того, он связывал свои надежды на будущее с процветанием компании Огайо. К этому определенно шло дело, но так же ясно ухудшалось здоровье Лоуренса. Его съедал туберкулез.
Местные врачи, истощив вконец силы больного частыми кровопусканиями, рекомендовали лечение в тропиках. В сентябре 1751 года Джордж отплыл с «лучшим другом» Лоуренсом на Барбадос. То была единственная в жизни поездка Вашингтона за пределы страны. Лечение во влажном климате не принесло Лоуренсу облегчения, Джордж заболел оспой. Лоуренс кашлял кровью, обещал уйти скоро в лучший мир, а в ожидании этого решил продолжить лечение на Бермудах, куда и уехал. Джордж, оправившись от оспы, вернулся в Маунт-Вернон. Он думал, что его постигло величайшее несчастье — небольшие следы на лице от перенесенной болезни. Будущее предвидеть трудно! Оспа 1751 года оказалась благословением в годы войны за независимость — у Джорджа выработался иммунитет от болезни, опустошавшей ряды его армии сильнее, чем пули и картечь англичан.
Летом 1752 года Лоуренс вернулся домой. Конец был близок, медицинского заключения не требовалось. Лоуренс уже рекомендовал девятнадцатилетнего Джорджа на свой пост майора ополчения. Конечно, у молодого человека не было никаких данных для занятия должности. Лоуренс быстро угасал в Маунт-Верноне, а Джордж объезжал влиятельных соседей, деликатно упоминая о воле умирающего брата. Ему пошли навстречу. Итак, майор ополчения с окладом в 100 фунтов стерлингов в год, правда ответственный за самый захудалый, отдаленный район колонии.
В июле 1752 года тридцатичетырехлетний Лоуренс умер. По завещанию Маунт-Вернон переходил дочери по достижении совершеннолетия, если же она не оставит потомства — Джорджу. Жена получала пожизненно доходы с плантаций. Только жизнь грудной девочки стояла между Джорджем и Маунт-Верноном, который он давно считал своим домом. Через несколько недель после смерти отца и эта жизнь угасла.
Миновало еще четыре месяца. Неунывавшая Анна вышла замуж и съехала с плантации. В 1754 году она уступила доходы от Маунт-Верыона Джорджу на льготных условиях — 82 фунта стерлингов в год. Анна не зажилась на этом свете и через семь лет скончалась.
Джордж обоснованно мог считать себя прочно устроившимся в жизни. Он имел Маунт-Вернон, хорошо налаженную плантацию, занимавшую 1600 гектаров, с 18 рабами плюс 750 гектаров земель, приобретенных им самим. Должность землемера графства давала 50 фунтов стерлингов в год. Он вступил в масонскую ложу. Несколько смущало, что район, где он числился майором ополчения и никогда не был, находился далеко. В 1753 году Джордж поправил дело. Новый губернатор Динвидди разделил Вирджинию на четыре округа. Вашингтон после нового утомительного обивания порогов у влиятельных лиц добился назначения адъютантом (начальником) Северного округа поблизости от дома. Граница округа проходила в тех местах, откуда пыталась развить свою деятельность компания Огайо, не утратившая энергии со смертью Лоуренса.
Джорджу шел двадцать второй год.
Пайщики компании Огайо хорошо помнили условие, выставленное Лондоном, — за семь лет — заселить пусть символически дарованные земли. Прошло четыре года, а успехов практически не было. Поселенцы, соблазненные посулами компании, отправлялись на Запад, где в непроходимых лесах их поджидали враждебные англичанам индейские племена. Разыгрывались трагедии — иные безвестно погибали, оставив в память о себе только скальп, другие, претерпев страшные мытарства, попадали пленниками в руки французов, слабые духом возвращались налегке, бросив скудное имущество, и разносили леденящие кровь вести об ужасах лесов.
Террор руками индейцев был рассчитанной политикой французов. В резиденции французского губернатора в Монреале прекрасно знали, что если могучая волна английской колонизации из Вирджинии и Пенсильвании захлестнет бассейн Огайо, то ее не остановит никакая плотина. На Запад двигался вооруженный народ, шла голытьба, которой скверно жилось и под плантаторами, и под купцами-лихоимцами в прибрежных районах. Эти люди, приехавшие в Новый Свет вырвать счастье, были готовы добыть его даже ценой жизни. Они были неграмотными, но понимали одно: если хлеб нужно добыть с боя, пусть будет так. Преграждавших путь французов они считали естественными врагами, а с богачами плантаторами не вступали в открытый конфликт, ибо последние поддерживали экспансию на Запад, разумеется, не ради благоденствия скваттеров.
В это время губернатором Новой Франции был назначен опытный военный маркиз Дюкень. Он не стал вдаваться в тонкости политики, а с солдатской прямотой заключил — нужно силой остановить англичан. Маркизу в отличие от губернаторов 13 английских колоний не приходилось тратить время в склоках с ассамблеями — в Новой Франции все делалось по его первому слову и повелению. В 1753 году он направил полуторатысячный отряд укрепить район от озера Эри до долины Огайо. С молниеносной быстротой французы построили три форта — Преск-Иль на южном берегу озера Эри и прямо на юг от него — форты Лебеф и Венанго. Было совершенно очевидно, что французы устремились к «развилке Огайо», где компания Огайо намеревалась соорудить собственный форт и факторию. Два встречных потока экспансии столкнулись.
В Вильямсбурге губернатор Динвидди пришел в бешенство. Шестидесятилетний шотландец, вышколенный на службе в конторах купцов, видел, что рушатся не только планы компании Огайо, но и вырисовывается угроза самой Вирджинии. Подстрекаемые французами индейские племена превратили северную границу колонии в арену бесчисленных стычек. Заколебались и племена, считавшиеся союзниками англичан. Однако даже в этих условиях было трудно поднять всю Вирджинию на борьбу. Скаредные члены ассамблеи, стоило заикнуться о необходимости отстоять достоинство короны в бассейне Огайо, немедленно бы указали: речь идет о другом — интересах компании Огайо, в которых лично заинтересован губернатор.
Динвидди мог только взывать, открыв ассамблею: «Страх — рабское чувство, и разум всегда стремится избавиться от него». Члены ассамблеи пожали плечами и занялись текущими делами. Тогда губернатор отправил донесение в Лондон, в котором в ярких красках расписал французское нашествие на британские владения. Ответ пришел в октябре 1753 года. Король Георг II приказывал губернатору направить эмиссара в район французского продвижения, удостовериться, действительно ли они на английской (в понимании компании Огайо) территории, и если так, потребовать от них уйти. В случае отказа губернатору поручалось «изгнать их силой оружия». В любом случае монарх требовал, чтобы Вирджиния позаботилась построить форты на Огайо.
Все это оборотистый губернатор проделал за спиной ассамблеи, которую хотел поставить перед совершившимся фактом, заставив наконец всю колонию отстаивать интересы компании Огайо. Поэтому к выбору эмиссара нужно было подойти с величайшей осмотрительностью — первым и обязательным условием было найти человека, который был бы кровно заинтересован в благополучии компании. По зрелом размышлении губернатор решил поручить деликатную миссию майору Джорджу Вашингтону, который с радостью согласился. Представился случай отличиться.
Официально майор отправился послом от имени Георга II, дабы выразить французскому коменданту «озабоченность и удивление» его величества по поводу вторжения французов и убедить их убраться с английской территории. Миссию Вашингтона можно было именовать и по-другому — губернатор вручил ему подробную инструкцию, что именно высмотреть во вражеском стане. Попутно Динвидди поручил майору убедить сашемов (вождей) дружеских индейских племен не отступаться от белых «отцов»-англичан.
Вашингтон взял проводником служащего компании Огайо Джиста, поседевшего в странствованиях по лесам, и переводчика, старого солдата Вана Браама, который, судя по скверному английскому, должен был быть искусным во французском. Собрались и с четырьмя слугами 15 ноября тронулись в путь. Предстояло пройти 800 километров до форта Лебеф в отвратительную погоду — осень никак не уступала зиме. В этих местах, по словам одного англичанина, «не было ничего, кроме индейцев, медведей и гремучих змей».
Через три недели добрались до стойбища дружеского индейского племени, вождя которого англичане именовали Хафкинг (полукороль). Лукавый старый индеец клялся, что хочет прогнать французов со своей земли. Вашингтон сообщил, что по странному совпадению именно в этом и состоит его миссия. О намерении компании Огайо забрать как раз земли Хафкинга майор по веским причинам умолчал. Подогретый обильными возлияниями — Вашингтон вез с собой порядочный запас рома, — Хафкинг вызвался сопровождать миссию до форта Лебеф и поддержать там пламенный протест англичан.
По дороге останавливались во французских укреплениях, окруженных бревенчатыми палисадами. Везде попойки. Джорджа, казавшегося гигантом среди французов — его рост достигал почти 190 сантиметров при весе около ста килограммов, — было нелегко свалить с ног. В дневнике он тщательно фиксировал увиденное и услышанное. После встречи с французскими офицерами в форту Венанго он записал: «Вино, которым они нагрузились сверх меры, скоро развязало им языки… Они заверили меня, что в любом случае, черт возьми, захватят Огайо. Хотя они знают, что англичане могут выставить два человека на каждого из них, они уверены, что англичане медлительны и никогда не смогут воспрепятствовать их предприятиям».
Одного этого было достаточно. Чрезвычайно учтивая встреча с французским комендантом в форту Лебеф не добавила ничего существенного. Изысканно вежливый комендант сожалел, что, будучи солдатом, должен выполнять приказ и оставаться где находится, выразил еще большее сожаление по поводу того, что полученные им приказы противоречат желаниям такого редкого и приятного в глуши гостя, но такова жизнь. Все это прискорбно, покусывая ус, заключил француз. Он не помешал Джорджу осмотреть форт и вручил вежливый ответ Динвидди, из которого следовало, что французам совершенно безразличны как внушения губернатора, так и пожелания Георга II.
«Он клялся в любви и дружбе… — разгневанно писал Джордж в дневнике, — а я видел, что все ухищрения изобретательного ума пущены в ход, дабы перетянуть Хафкинга на их сторону». Запас спиртных напитков в погребе форта Лебеф казался неисчерпаемым, и качество их превосходило ром Вашингтона. Хафкинг внезапно припомнил, что сопровождает Канотакариуса. В ответ на недоуменный вопрос Джорджа старый индейский вождь любезно разъяснил, что так прозвали его предка, ловко отнимавшего земли у предков Хафкинга. Майору не оставалось ничего другого, как прочитать Хафкингу постную лекцию о пользе сохранения верности договорным обязательствам и пагубности спиртных напитков.
Дорога домой оказалась еще мучительнее. Индейцы оставили их, пришлось бросить слуг и истощенных лошадей. Вашингтон и Джист проделали остаток пути пешком, с котомками за плечами и мушкетами в руках. Встреченный ими индеец вызвался быть проводником. Улучив момент, он выстрелил в них в упор, но промахнулся. Справедливо заключив, что индейцы, вероятно, в сговоре с французами, охотятся за их скальпами, путники не шли, а крались через покрытые мокрым снегом леса и заросли. С облегчением вышли к реке Аллегани. Новое разочарование — темная бурная река не замерзла. Соорудили наскоро плот, который Вашингтон опрокинул посредине реки. Расталкивая льдины, выплыли на остров, где, вымокшие до нитки, провели ночь в трескучий мороз. Утром увидели, что лед сковал реку, и перебрались на восточный берег. Многоопытный Джист отморозил пальцы, Джордж не пострадал.
Самые тяжкие предчувствия терзали Вашингтона, когда он, пробыв в отъезде два месяца, в середине января 1754 года предстал перед губернатором. Полный провал возложенной на него дипломатической миссии, рассуждал майор, никак не компенсирует рассказ о перенесенных испытаниях. К крайнему удивлению Джорджа, Динвидди был беспредельно доволен. Сидя в жарко натопленной комнате губернаторского дворца, он с мрачным удовлетворением прочитал торопливо написанное донесение, согласно кивая париком. «Оправдались худшие предположения, — разъяснил он Джорджу, — упрямая ассамблея не хотела слушать его, посмотрим, как она прореагирует на сообщение из первых рук о коварных замыслах французов».
Губернатор, не теряя ни минуты, назначил на следующий день заседание Королевского совета. Смертельно усталый Вашингтон получил одну ночь на подготовку доклада к печати. Это, естественно, сказалось на тексте, что понимал и молодой автор. В наспех набросанном предисловии он сказал: «Поскольку его честь губернатор счел необходимым предать гласности мой отчет о путешествии к французам и обратно, мне только остается извиниться за его бесчисленные недостатки». Но губернатор хорошо рассчитал. «Дневник майора Вашингтона» сделал сенсацию — автор сообщил достаточно, чтобы каждый читатель мог усмотреть злодейские намерения французов. Отчет был напечатан в Вирджинии и Лондоне, Динвидди расстарался разослать брошюру губернаторам всех колоний, министрам в Лондоне и многим влиятельным лицам.
Имя Вашингтона зазвучало. Он пожинал славу среди тех, кто рвался на Запад. Но большинство вирджинцев, горестно заключил автор, очернили его служение родине, объявив, что он претерпел муки только ради собственной выгоды. Они, говорил Вашингтон, сочли рассказ о поездке «выдумкой с целью содействовать интересам частной компании».
В ассамблее Вирджинии в честности майора не усомнились. Отцы колонии перевели выдающееся мужество Вашингтона, шедшего на смертельный риск, в твердую валюту — 50 фунтов стерлингов, каковые вручили страннику «в знак одобрения его поведения в поездке на Огайо».
Вашингтон был уязвлен до глубины души. «Меня послали, — заметил он, — в путешествие зимой (на которое пошли бы немногие, если вообще нашлись такие люди), и что я получил взамен? Возмещение моих расходов!» Бедность — плохой учитель. Судьба, сделавшая его состоятельным плантатором, еще не успела отучить подсчитывать копеечную выгоду от каждого шага.
Громкая известность молодого майора Джорджа Вашингтона была дороже чистого золота. Он пока этого не знал.
В 1798 году Джордж Вашингтон встречал свою шестьдесят седьмую весну. Новую знакомую и незнакомую встречу с пьянящей, буйной вирджинской весной он остро ощутил — впервые за десятилетия не давил сокрушительный груз государственных забот. Позади президентство, войны. Немного напыщенно он простился с народом и жил полубогом в устроенном по собственным планам любимом Маунт-Верноне. Поблизости, рукой подать, суетились землемеры, архитекторы — разбивалась столица страны. Он знал, городу суждено носить его имя. Жизнь прожита.
Думы, мучительные думы, которые он многие годы, до отказа забитые делами, отгонял, овладевали стариком. Был ли виноват ветер с Потомака, так же величаво несшего свои воды, или запах все тех же цветущих кустарников под окнами, он не знал. Всплывали, обретали жизнь полузабытые образы далекой молодости. Он грезил наяву, подставляя ветру усталую голову. Что это и где он? На реке много судов, их столько не было в молодости. Провел языком по беззубым деснам — сомнений не было: старик! Всю жизнь он ненавидел душевный нюдизм, по тут ощутил непреодолимое желание излить то, что накопилось за долгие годы. 16 мая 1798 года он написал письмо в Англию.
«Многоуважаемая мадам, — тщательно подбирал слова Отец Страны, — прошло почти пять и еще двадцать лет с тех пор, как я, постоянный обитатель сих мест, общался здесь с моими милыми друзьями лично или письмами. За истекшее время произошло так много важных событий, так сильно изменились люди и вещи, что в письме совершенно невозможно сколько-нибудь обстоятельно сказать об этом. Ни одно из этих событий, однако, и все они в совокупности не смогли изгладить в моей памяти воспоминания о тех счастливых моментах, самых счастливых за всю мою жизнь, которые я пережил в Вашем обществе.
Глубокая печаль овладевает мной, когда я бросаю взор в направлении Бельвуара, что я часто делаю, и горестно размышляю о том, что прежних обитателей сего места, с которыми мы жили в таком согласии и дружбе, больше там нет, только руины дома напоминают давно канувшие в прошлое радости. Разрешите мне добавить — я часто размышляю и над тем, почему, если Ваши ближайшие родственники живут в нашей стране, Вам бы не предпочесть провести вечер жизни среди них, а не заканчивать земной путь в другой стране, хотя у Вас, возможно, множество знакомых, искреннюю дружбу которых Вы могли снискать…»
Преклонные годы автора письма, занятое им положение начисто исключают самое предположение о каких-либо задних мыслях. Так пишет человек, когда разожмутся тиски долга и перед лицом вечности взвешивающий, что истинно, а что суетно в прожитой жизни. Чаша весов, на которую Вашингтон бросил свои чувства к женщине, на склоне лет перевесила в его понимании все, что сделал Отец Страны для Америки: главнокомандующий вооруженных сил, дважды президент, возможно, самый богатый землевладелец США.
Письмо было адресовано Салли Фэрфакс, женщине, которой всю жизнь безраздельно принадлежало сердце Вашингтона и с которой он, вероятно, никогда не был близок. Даже на пороге могилы он не увидел ее — Салли не откликнулась на зов и не приехала. Неизвестно, что она ответила Вашингтону, и бездетной вдовой в большой бедности умерла в Англии. В бумагах покойной родственники нашли цитированное письмо. К этому времени Джорджа Вашингтона давно не было, Салли скончалась на 82-м году.
По мере того как на протяжении сотни лет накапливались скудные данные об отношениях Вашингтона и Салли, досужие биографы-романисты все глубже разрабатывали золотую жилу. Они сочиняли трогательные и, конечно, возвышенные книги, пока история не приобрела абсурдно неправдоподобный характер. Едва ли есть необходимость вставать на эту зыбкую почву и домысливать там, где известного достаточно, чтобы бросить взгляд на внутренний мир молодого Вашингтона.
В тот год, когда Вашингтон овладевал тайнами теодолита (1748 год), его друг Джордж Фэрфакс женился. Он привез в Бельвуар лучшее, что могла предложить Вирджиния. Салли происходила из семьи Кэри — плантаторов средней руки, владения которых раскинулись у реки Джеймс. С середины XVII столетия Кэри выделялись среди высшего слоя вирджинцев не столько богатством, сколько утонченностью вкусов и стилем жизни. Дед Салли был ректором колледжа Уильяма и Мэри в Вильямсбурге, отец окончил Тринити-колледж в английском Кембридже. Салли выросла среди книг, в доме Кэри получались все важнейшие английские журналы: «Ландон мэгэзин», «Джентльмэнз мэгэзин», «Анюал Реджистер».
Когда шестнадцатилетний Джордж впервые увидел восемнадцатилетнюю жену друга, его наверняка больше всего поразил живой ум юной женщины, развитый запойным чтением. Она бегло говорила по-французски и знала все, жила в прекрасном мире, недоступном Джорджу. Он, мастер преодолевать препятствия, решил проникнуть в манящий мир, но, так и не проломив стену, оказался пленником у ног кокетливой насмешницы Салли.
Как она выглядела, точно сказать нельзя — единственный сохранившийся ее портрет примитивно исполнен, художник вложил в него больше вдохновения, чем мастерства. Продолговатое лицо, черные глаза, длинная шея и покатые плечи — и против этих прелестей Джордж, по собственному признанию, не мог устоять? Сводить все к красоте, а она спорна даже по критериям XVIII века, значит плохо думать о нашем герое. Скорее его привлекло то, что в XX веке назвали бы интеллигентностью, и перед этим он оказался беспомощным. Он не знал этого термина и поэтому не мог ответить на свой вопрос: «В ней доброе расположение, легкость ума и что же еще?»
Можно не сомневаться, что Салли, подвергнув обстоятельному осмотру умственный багаж юноши, осталась недовольной. Но что можно было требовать от большого мальчика с серьезными глазами, почти пажа Фэрфаксов? Ей, конечно, льстили его беспредельное внимание, преданность и тихое обожание, отчаянные мальчишеские выходки на коне, чтобы заслужить ее беглую улыбку. В первые годы знакомства Джордж и помышлять не мог о большем — его бедность и два года разницы в возрасте представлялись непреодолимой пропастью, отношения не шли дальше трогательной любовной игры.
Джордж повзрослел, получил Маунт-Вернон. Мог сложиться и пресловутый треугольник, но не сложился. Влюбленный Джордж был много моложе Джорджа Фэрфакса, тем не менее буквально вел его на поводу. Внутренне Салли не могла не сравнивать, все преимущества были на стороне Вашингтона, не говоря уже о том, что ее брак с Фэрфаксом был продиктован не чувствами, а деловыми соображениями. Однако для Джорджа было немыслимым соблазнить жену друга. Развод и новый брак для Салли были по условиям Вирджинии почти невозможны. Хотя в колонии благополучие прихода часто зависело только от каприза плантатора, который не пускал местного священника дальше порога и кормил его на кухне, голос св. Павла звучал в колонии много строже, чем в Англии. Церковь Англии сурово надзирала за духовным здравием заокеанской паствы.
Так случилось, что Джордж был близко и неблизок с любимой. Семь лет он оставался одним из самых завидных женихов Вирджинии. Маунт-Вернон пустовал в ожидании хозяйки. Салли провожала его в опасный путь на Огайо, по возвращении он торопился к Динвидди, тем не менее провел день у Фэрфаксов. Джорджу физически было необходимо увидеть блеск глаз Салли, когда он скупо рассказывал о своих приключениях.
Даже если бы они решились бросить вызов общественному мнению, ни он, ни она не могли преодолеть внутреннего барьера. Трудно представить, чтобы Салли была крупным философом, еще менее вероятно, чтобы Джордж был таковым. Тем не менее оба причисляли себя к стоикам. Они свято и чисто верили в принципы, провозглашенные античными героями. В провинциальной Вирджинии они пытались чувствовать себя гражданами великого Рима. Матрона Салли, во всяком случае, вела себя так. Они не понимали, что любимые герои были ходульны, их двигали по сцене историки. От этого страдала историческая правда и страдали Джордж и Салли. Но иначе они не могли вести себя, разыгрывая в XVIII веке трагедию античных времен. Вероятно, они любовались собственной сдержанностью, черпая в ней тихую радость.
Они вдвоем прочитали трагедию Аддисона «Катон», ставшую любимой пьесой Вашингтона. Он полагал, что следовать по стопам Катона — наивернейший путь к счастью! Лучшего литературного примера Вашингтон не знал, ибо вообще мало читал. Катон вписывался в его представление о человеке, впитавшем до капли философию стоиков.
В 1758 году Вашингтон, живший беспокойной жизнью накануне последнего марша на форт Дюкень, написал Салли, вероятно, в ответ на ее сообщение о том, что дома разыгрывают любительские спектакли: «Я думаю, что мог бы много лучше провести время, играя в трагедии «Катон» вместе с упомянутыми Вами людьми, и я был бы вдвойне счастлив в роли Юбы, а Вы были бы Марцией».
Неизвестно, что писала Салли Вашингтону, — он уничтожил все ее письма. Из многочисленных посланий Вашингтона также уцелели считанные. Накануне своего брака в 1759 году Вашингтон заверил Салли, что любит только ее одну. На протяжении последующих четырнадцати лет супруги Вашингтоны поддерживали самые дружеские отношения с четой Фэрфаксов. В 1773 году Фэрфаксы навсегда уехали в Англию, обстановку Бельвуара Джордж Фэрфакс поручил продать с аукциона. Вашингтон приобрел большую часть знакомой с юных лет мебели. В 1779 году во время войны за независимость Бельвуар сгорел.
Примерно это все, что известно об отношениях Джорджа Вашингтона и Салли Фэрфакс. На этих немногих фактах, которые только по недосмотру влюбленных попали бесцеремонным биографам, написаны книги. Француз Бернард Феи построил всю жизнь Вашингтона вокруг Салли, объяснив его замкнутость неудачной любовью к «говорившей по-французски» «королеве грез».
Вашингтон, конечно, был человеком, способным на глубокое чувство. Любовь к Салли дала ему возможность осуществить во всем объеме свою самую большую страсть — поставить под контроль эмоции, подчинить их, а не быть игрушкой желаний. Престарелый Вашингтон в частном письме настаивал: «Говорят, что любовь безрассудное чувство, и поэтому утверждают далее — ей невозможно сопротивляться. Это правильно лишь отчасти, ибо любовь, подобно всему другому, если ее взрастить и обильно питать, быстро растет, но устраните питание, и любовь можно либо задушить в зародыше, либо значительно замедлить ее рост». Быть может, когда он высказывал взвешенное суждение, то думал о Салли…
Художник Стюарт, писавший портрет Вашингтона-президента, с профессиональным интересом изучал лицо старика. Встретившись с любимцем Вашингтона «генералом от легкой кавалерии» Г. Ли, живописец невзначай бросил: «Черты лица Вашингтона изобличают самые сильные и неуправляемые страсти. Если бы он родился в лесах, то был бы свирепейшим из дикарей». Стюарт тут же поправился, добавив, что Вашингтон умеет сдерживать свой «пламенный темперамент». Через несколько дней за завтраком у Вашингтонов Ли заметил:
— На днях я видел ваш портрет. Великолепное сходство! Стюарт говорит, что вы обладаете пламенным темпераментом.
— Послушайте, — вспыхнув, вставила супруга президента, — мистер Стюарт берет на себя слишком много!
— Успокойтесь, дорогая, — сказал Ли, — он еще добавил, что президент удивительно контролирует себя.
— Он совершенно прав, — заключил Вашингтон с подобием мимолетной улыбки.
СОЛДАТ ГРАНИЦЫ
Вашингтон писал брату Джону: «Я слышал свист пуль, и, поверь мне, в нем есть что-то приятное». Когда это письмо было напечатано в «Ландон магазин», Георг II заметил, что офицер колониальных войск не нашел бы его приятным, если бы ему довелось послушать свист многих пуль.
Д. ФЛЕКСНЕР, Джордж Вашингтон, т. 1, 1965
В начале 1754 года Динвидди проявил большую распорядительность. Ссылаясь на доклад майора Вашингтона, он бил в набат, звал подняться на француза. Сестры-колонии не торопились прийти на помощь Вирджинии, над головой которой, по словам Динвидди, сверкал французский меч и были занесены окровавленные томагавки.
Квакеры Пенсильвании усомнились в том, что земли в Огайо, а за них и звал встать горою Динвидди, принадлежат британской короне, и больше не пошевелили пальцем. Легислатура (законодательное собрание) Нью-Йорка заняла строго юридическую позицию, записав: «Представляется, что французы построили форт в месте, именуемом Френч-Крик, находящемся на значительном расстоянии от реки Огайо, что в свете имеющейся у нас информации может, но не обязательно означает вторжение в одну из колоний Его Величества». Ньюйоркцы обещали выделить со временем пять тысяч фунтов стерлингов, но ни одного ополченца. Только Южная Каролина выразила желание прислать людей.
Ассамблея самой Вирджинии безмерно возмутила губернатора. Ему удалось вырвать у скопидомов 10 тысяч фунтов стерлингов, но при условии — деньги даются не на войну, а для обеспечения безопасности поселенцев за Аллеганами. Больше того, ассамблея выделила комитет надзирать за действиями Динвидди. «Они заражены республиканским образом мышления», — процедил королевский губернатор и распорядился открыть вербовку ополченцев. Он наметил набрать войско в 300 человек и, двинув его в бассейн Огайо, преградить путь наглецам (смотри доклад майора Вашингтона, изобличившего французов).
По логике вещей автору замечательного открытия, вознагражденному чином подполковника, надлежало возглавить вирджинское воинство. Джордж, хотя и подковался в стратегии, прочитав записки Юлия Цезаря о Галльской войне и книжку о Фридрихе II, все же оробел, выразив настойчивое желание служить «под началом опытного офицера или разумного человека». Губернатор возвел в полковники профессора математики колледжа Уильяма и Мэри Джошиа Фрая. Полководческий талант тучного и малоподвижного Фрая не успел расцвести, он разбился насмерть, упав с боевой лошади.
Подготовка похода на Огайо целиком легла на сильные руки Джорджа, устроившего свой лагерь в долине Шенанда. На клич губернатора собирались туго. Подполковник докладывал в Вильямсбург: приходят сущие босяки, «грязные бездельники, бездомные бродяги. Некоторые явились без сапог, другие клянчат чулки, иные без рубах, немало без пальто или камзолов». Для начала их нужно одеть и обуть. Динвидди частично возместил расходы из собственного кармана. На свой страх и риск он объявил — вступившие в ополчение получат участки земли у реки Огайо, свободные от любого обложения на 15 лет. Динвидди щедро выделил 80 тысяч гектаров из незавоеванных «земель короля». Прокламация губернатора и обещание ополченцам ежедневной доброй порции рома в походе сделали свое дело — вербовка пошла веселее. К счастью для организаторов предприятия, Лондон подтвердил обещание насчет земли.
Вашингтон столкнулся с бесконечными проблемами, решать которые нужно было немедленно. Волонтеры и слышать не хотели о порядке. Подполковник кое-как дисциплинировал их, пойдя на обман: он заявил, что ассамблея уже ввела военное положение. Лошадей и повозки приходилось брать силой у взбешенных фермеров. Офицеров не было, Вашингтон добился утверждения в чине капитана восьми человек, среди них старого знакомого Ван Браама. Хотя Динвидди приказал «выступить немедленно» 15 марта, только 18 апреля войско Вашингтона — 159 человек с несколькими пушками — двинулось в путь.
Отряду предстояло пройти около 400 километров, достичь развилки Огайо и построить там форт. Туда губернатор уже выслал авангард — капитана Трента с группой ополченцев, которые начали работы. Вашингтону, в сущности, предписывалось подкрепить отряд Трента. Хотя отношения между Францией и Англией были напряженными, формально война не была объявлена, и губернатор предлагал держаться осторожно, прибегая к оружию только в случае крайней необходимости.
Поход вылился в мучительно трудное продвижение, пришлось буквально прорубаться через леса, строить дорогу для повозок и орудий. В день проходили четыре-шесть километров. А предстояло перевалить через два горных хребта, перебросить мосты через несколько рек. Ополченцы не скрывали раздражения — им шло жалованья вдвое меньше, чем солдатам регулярной английской армии. Вашингтон засыпал губернатора письмами, жалуясь на нехватку провианта: «у нас только соль и вода»; справедливо указывал на дискриминацию в оплате офицеров, они получали в день на десять шиллингов меньше, чем британские офицеры.
Внезапно выяснилось, что все усилия отряда заведомо бесплодны — им повстречались люди Трента. Оказалось, что еще 17 апреля «больше тысячи французов» с пушками приплыли к развилке Огайо. Французский командир, который, очевидно, как и Динвидди, помнил о том, что война официально не объявлена, любезно предложил вирджинцам выбор — погибнуть с честью в недостроенной фортеции или убраться восвояси с земли, принадлежащей христианнейшему королю. 33 вирджинца предпочли второе и под улюлюканье несметной толпы французских союзников-индейцев отправились навстречу Вашингтону.
Французы (их в действительности было 600 человек) быстро довели до конца работы вирджинцев и соорудили мощный по тем местам форт Дюкень. Вскоре прибыло подкрепление — еще 800 человек. Французское продвижение в бассейне Огайо подняло на ноги индейские племена, изъявившие готовность сражаться против англичан.
Вашингтон оказался в чрезвычайно опасном положении, которое по неопытности не понимал. Он добился внушительного достижения — через доселе непроходимые Аллеганы в долину Огайо прошла дорога. Однако враг мог перехватить ее в любой момент. Если к его отряду подкрепления и припасы можно было подвезти только по этому примитивному пути, французы имели в своем распоряжении реки, по которым они без труда доставляли солдат.
Тем не менее он решил идти вперед, о чем и сообщил Динвидди, а губернаторам Мэриленда и Пенсильвании бодро написал: французы обнаглели и созрели для возмездия. Новости с Огайо, объяснял он, «должны вывести нас из летаргии, пробудить героический дух каждого свободнорожденного англичанина, дабы утвердить права и привилегии нашего Короля (если мы уж не заботимся о собственных) и спасти от захвата наглым врагом имущества, достоинства и земель Его Величества».
Наконец в конце мая отряд спустился по скалистым кручам хребта Лоурел-Ридж. Подполковник облюбовал большой луг, окруженный лесистыми холмами. Он счел, что нашел великолепнейшее место для сооружения укрепления, в котором можно в крайнем случае отсидеться. Расчистили кустарник, наспех построили палисад, отрыли неглубокую траншею и окрестили укрепление — форт Необходимость. «Я подготовил прелестное поле для боя», — донес подполковник, пусть хоть «500 французов сунутся к форту».
Он полагал, что стоит на пороге великих побед. Динвидди Вашингтон гордо сообщил — вверенные ему офицеры, недовольные оплатой, давно бы ушли, если бы не «французская угроза». Вообще, учитывая более высокое жалованье британских военнослужащих, он не может понять, «почему жизнь подданных Его Величества в Вирджинии ценится дешевле». Что касается его самого, то отныне он не желает получать никакого вознаграждения за свои труды, «ибо моя служба соответствует тому, что делает лучший офицер, и для меня дело чести не получать меньше». Позднее он отказался от героического решения, а тогда определенно любовался собой — Джордж Вашингтон бескорыстным пришел на войну.
Тут нежданно-негаданно объявился Хафкинг с десятком воинов. Джордж расстался с ним прошлой зимой, так и не оттащив индейца от бочки французского вина. Подполковник отчаянно нуждался в помощи и, не моргнув глазом, рассказал Хафкингу, что французы разыскивают индейца, чтобы предать его смерти. «Это имело желанный результат, — записал Джордж. — Они не раздумывая согласились сопровождать нас воевать французов». Индейский вождь припомнил, что французы «убили, сварили и съели моего отца». Беспощадная месть им!
Индейцы сообщили, что видели неподалеку французский отряд, скрытно продвигавшийся в лесу. Решение созрело мгновенно — атаковать! Взяв около сорока человек и сопровождаемый дюжиной индейцев во главе с Хафкингом, Вашингтон немедленно выступил в поход. Шли глубокой ночью по узкой тропинке, спотыкаясь, разбивая лбы и носы. Семь человек заблудились. Утром 28 мая подполковник собственными глазами узрел неприятеля: примерно тридцать французов мирно отдыхали в небольшой лощине, окруженной скалами.
Вашингтон в первом своем сражении применил тактику, ставшую для него обычной в войне за независимость, — направил одну колонну в обход, а две колонны с флангов, сам пойдя с правой. Залп почти в упор из-за скал и деревьев положил на месте треть неприятельского отряда, остальные, что-то крича, бросились к оружию и попытались оказать сопротивление. Вашингтон писал, что только «чудом избежал смерти». Вероятно, преувеличение — из полусотни человек, бывших с ним, лишь один был убит и двое ранены.
В считанные минуты подполковник одолел неприятеля, десять человек были убиты, включая командира, младшего лейтенанта Жозефа де Жюмонвиля, двадцать два взяты в плен. Раненых не оказалось, ибо индейцы тут же добили неспособных подняться с земли, заодно оскальпировав их. Они было рванулись резать пленных, но Вашингтон по-рыцарски защитил французов, бросивших оружие.
Радость победы омрачило крайне неприятное открытие — пленные истерически обвиняли вирджинцев в том, что они прикончили «посла». Разъяренный француз бросился к трупу Жюмонвиля и извлек окровавленный пакет. Там были официальные инструкции убитому офицеру — найти англичан, выразить им желание жить в мире и предостеречь против вторжения во владения короля Франции. Вашингтон, придерживавшийся вирджинской версии о принадлежности бассейна Огайо, был возмущен. В его глазах подобные утверждения были «отъявленной наглостью».
В донесении Динвидди о «выдающейся» (по собственной оценке) победе он выразил мнение, подкрепленное ссылкой на эксперта Хафкинга: дипломатический статус французского отряда не что иное, как уловка. На самом деле Жюмонвиль со своими спутниками были теплой компанией низких «шпионов», в инструкциях ведь ясно говорилось, что им надлежит собрать информацию об англичанах. Утверждение пленных, что они в начале схватки кричали, прося прекратить огонь, Вашингтон отвел, заявил, что он лично ничего подобного не слышал. Ему не пришло в голову провести параллель — всего полгода назад он сам ездил на французскую территорию в форт Лебеф, выполняя миссию, аналогичную возложенной на Жюмонвиля. Тем не менее подполковник был несколько смущен, реляция о бое в лесу заключала длинное письмо губернатору, полное привычных жалоб на скверную оплату вирджинских офицеров по сравнению со служившими в регулярной армии. Героическая сага заняла в письме значительно меньше места, чем бухгалтерские выкладки.
Динвидди был явно озадачен распорядительностью молодого подполковника. На всякий случай поздравив его с победой, губернатор сообщил о подвиге вирджинцев кабинету в Лондон в осторожных словах: «Эту маленькую стычку учинили Хафкинг и индейцы. Мы лишь поддерживали их, ибо я приказал командиру нашей части только обороняться».
Расторопность Вашингтона в темном лесу снискала ему европейскую, а в XVIII веке, следовательно, всемирную известность: во Франции, изыскивавшей предлог для войны с Англией, случившееся в далекой Америке было даром небес, подполковника надолго наградили титулом «убийца Вашингтон». В Лондоне были озабочены — провинциальный офицер колониального ополчения сумел выставить себя, Вирджинию и Британскую империю нападающей стороной.
Не будет преувеличением сказать, что Вашингтон сделал первый выстрел Семилетней войны, хотя официально она была объявлена почти через два года. Современники, во всяком случае, придерживались такого мнения. Вольтер заметил: «Политические интересы настолько осложнились, что один пушечный выстрел в Америке погрузил всю Европу в пламя войны». Вольтер ошибся только в одном — калибре примененного Вашингтоном оружия.
До всего этого еще должно было пройти время. В дебрях Огайо Вашингтон думал не о политике европейских держав и даже не о том, как увенчать себя новыми лаврами. По веским соображениям он не помышлял об отступлении, напротив, собирался дать бой французам, не смущаясь неблагоприятным соотношением сил. Ход мысли Вашингтона не был неразумным. Он постепенно набирался опыта и понимал, что успех или неуспех его отряда определит поведение многочисленных индейских племен. Нерешительность, несомненно, толкнет индейцев в объятия французов, что будет иметь неисчислимые губительные последствия для английских колоний.
Сложные переговоры, которые он попытался провести с представителями индейских племен, не увенчались никаким успехом. Сашемы считались не с обещаниями Вашингтона, а подсчитывали наличных солдат у французов и вирджинцев. Последних было плачевно мало — с прибывшими подкреплениями у подполковника было примерно 400 человек. Правда, в разболтанной толпе ополченцев выделялась в лучшую сторону рота, пришедшая из Южной Каролины. Но она разбередила раны Вашингтона — командир роты капитан Д. Маккей, прослуживший в регулярной английской армии 18 лет, категорически отказался признать старшинство 22-летнего Джорджа. Сердце Маккея не растопила радостная весть, сообщенная ему Вашингтоном, о производстве в полковники вирджинского ополчения. Склока между командирами приобрела хронический характер и заняла выдающееся место в переписке полковника с губернатором.
Бездеятельность была чужда Вашингтону, и, разругавшись с Маккеем, оставшимся в форту Необходимость со своими солдатами, полковник двинулся с вирджинцами на север, в направлении французского форта Дюкень. В одном из писем губернатору Вашингтон как-то заметил: «За себя я могу отвечать, мое телосложение позволяет вынести самые суровые испытания, и я льщу себя надеждой, что способен сделать все, что в человеческих силах». Это было правдой. Едва ли в отряде Вашингтона был хоть один человек, способный тягаться с ним в выносливости. Этого полковник не учитывал. Что для него было тяжело — совершенно невыносимо для рядового ополченца. Понукая, взывая и показывая личный пример, полковник побудил измученных ополченцев продолжить неслыханно тяжелый труд — прорубать дорогу через лесную чащу. И куда? Отнюдь не в неизвестность, а навстречу превосходящим силам врага!
На считавшихся дружественными индейцев Вашингтон махнул рукой, даже единственный союзник Хафкинг оставил его. Лукавый вождь видел, что полковник прорубается навстречу верной гибели, и почел за благо развязаться с ним. Хафкинг, записал пенсильванец, ведший торговлю с индейцами, «горько жаловался на поведение полковника Вашингтона в отношении его (хотя и сдержанно говоря, что полковник по натуре хороший человек, только неопытный). Он говорил, что полковник командовал индейцами как рабами, заставлял их ежедневно вести разведку и нападать на врага, но никогда не соглашался с советами индейцев. Просидев в одном месте от луны до луны, он не построил никаких укреплений, не считая этой мелочи на лугу, где, он думает, французы встретятся с ним в открытом поле. Если бы он послушался совета Хафкинга и сделал бы такие укрепления, как Хафкинг рекомендовал, он сумел бы отбить французов».
Над отрядом Вашингтона сгущались тучи. Французский комендант выслал против него 500 солдат. В стиле тех времен он обратился к индейским племенам. «Англичане убили моих детей, мое сердце разбито. Завтра я посылаю моих солдат отомстить за них… и я приглашаю вас присоединиться к французскому отцу помочь уничтожить убийц». Приглашение не нужно было повторять, до 500 индейских воинов выступили вместе с французами. Узнав в конце июня о приближении неприятеля, Вашингтон сосредоточил в ожидании битвы все свои силы — 400 человек в форту Необходимость. Они сгрудились в тесноте за палисадом, загнав туда же лошадей и коров. На неоконченные площадки выдвинули 9 небольших пушек.
Утром 3 июля французы и индейцы с дикими воплями бросились на штурм. Картечь и частый мушкетный огонь остановили наступавших. Торжествовать победу не пришлось, случилось предсказанное стратегом Хафкингом. Нападавшие разместились на холмах, господствовавших над палисадом, и, укрывшись за деревьями, открыли убийственный огонь. Орудия замолкли — прислуга была перебита. Стрельба из мушкетов едва ли приносила урон французам, вирджинцы целились по дымкам выстрелов невидимых врагов. Хлынул проливной дождь, скоро мелкая траншея, опоясывавшая палисад, наполнилась водой. Порох подмок, постепенно все солдаты Вашингтона стянулись за палисад, но внутри форта, простреливавшегося перекрестным огнем, спасения не было.
Вашингтон, скользя и падая в грязи, смешанной с кровью, как мог ободрял защитников, но действительность была страшной — по истечении девяти часов непрерывного обстрела тридцать человек лежали убитыми и семьдесят было ранено. Идти на вылазку было бы самоубийством, лишь немногие вирджинцы имели штыки, а судя по воинственному реву из кустов, французы привели множество индейцев с томагавками. Вашингтону лишь удалось поддерживать темп ответного огня.
Сгустились сумерки, казалось, все было потеряно. Уйти было невозможно, враг перестрелял всех лошадей, еще один день осады — и конец. Внезапно французы предложили вступить в переговоры. Джордж отрядил к ним под белым флагом знаменитого знатока французского языка Ван Браама. В глубоком унынии он ожидал возвращения посланца. К всеобщему удивлению, Ван Браам явился промокший до нитки и улыбаясь во весь рот — французы, оказывается, за почетную капитуляцию. Невероятно!
При скудном отблеске свечи Вашингтон с офицерами склонились над мокрым клочком бумаги, на котором расплывались каракули, торопливо набросанные Кулоном де Вайером, братом убитого Жюмонвиля. Он явился лично отомстить за смерть брата. Ван Браам, запинаясь, переводил, и изумленный Вашингтон убедился, что он легко отделался. Французы разрешали вирджинцам с воинскими почестями и одной пушкой покинуть форт. Побитому военачальнику надлежало от имени Вирджинии дать обязательство год не вторгаться на французскую территорию. Поскольку он был в счастливом убеждении, что бассейн Огайо принадлежит англичанам, в его глазах условие не имело никакого смысла. Побежденный также подписывался под обязательством вернуть пленных, взятых при нападении на отряд Жюмонвиля, и выражал сожаление по поводу гибели благороднейшего француза.
Полковник не стал вдаваться в причины неожиданной сговорчивости французов и подписал соглашение о капитуляции. Вероятно, он имел преувеличенное представление о меткости огня вирджинцев, отметив в отчете о бое — убито «по минимальной оценке» 300 человек. Французы официально объявили о своих потерях — 2 убитых и 17 раненых.
4 июля 1754 года полковник Вашингтон с барабанным боем вывел своих воинов из укрепления и во главе колонны направился на восток. Слов нет, они стойко держались в бою, но теперь, измотанные, голодные, являли прискорбное зрелище. Не нашлось ни одного, кто бы оказался в состоянии поднять тяжелое знамя, пушку бросили, едва отойдя от форта. Неся на импровизированных носилках или поддерживая раненых, они с опаской поглядывали по сторонам — краснокожие грозили расправой. Индейцам удалось отбить, убить и оскальпировать двух раненых. Только вмешательство французских командиров предотвратило кровавую бойню.
Хафкинг, наблюдавший за боем с безопасного расстояния, резюмировал: «Англичане сражались как дураки, французы как трусы».
Оставив разбитый отряд, Вашингтон поторопился в Вильямсбург лично доложить Динвидди о неудаче. Тот принял полковника с отменной безличной любезностью (в аристократическом обществе — верный признак утраты интереса), приказав вернуться к остаткам разгромленного полка. Губернатор холодно заявил, что обещание Вашингтона вернуть пленных французов не будет выполнено. Морально по неписаному кодексу века Вашингтон оказался в незавидном положении.
Дальше — много хуже. Французы опубликовали текст соглашения о капитуляции в форту Необходимость. Только тогда Вашингтон понял причину сговорчивости французов. Победители, имея в виду, что официально Англия и Франция не находились в войне, открыли соглашение, бездумно подписанное Вашингтоном, преамбулой. В ней говорилось: «В наше намерение никогда не входило нарушать мир и согласие, существующее между двумя царствующими домами, мы только отомстили за убийство одного из наших офицеров, носителя официального послания». Ван Браам перевел слово «убийство» как «смерть». Вашингтон задним числом проклинал скверного переводчика, доказывая, что не понял содержание документа. Знавшие его, а таких было мало, верили, но в Европе малоизвестный полковник предстал как человек, виновный в убийстве и скрепивший признание своей подписью.
В 1756 году, когда уже бушевала Семилетняя война, Министерство иностранных дел Франции выпустило в свет официальную публикацию: «Меморандум, содержащий точные факты с подкрепляющими их документами, служащий ответом на заявление английских министров, разосланное по дворам Европы». На страницах 109–147 воспроизводился дневник Вашингтона, который он забыл в форту Необходимость. Публикация была переведена на английский язык, напечатана в Лондоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Вашингтон громко жаловался, что никогда не вел систематического дневника, а делал «записи наскоро… Текст, конечно, претерпел странную метаморфозу, некоторые части исключены, а многое добавлено». Однако он не дал никаких поправок американским издателям, которые с радостью бы приняли их — еще до выхода книжки в свет они показали перевод Вашингтону. Не поверив своим глазам, он нанял переводчика сделать перевод специально для него. И оставил дело без последствий.
Из дневника ясно, что поездка Вашингтона в форт Лебеф была разведкой. Он предстал как человек, не щадивший усилий, разжигая военный конфликт. Губернатор Новой Франции Дюкень писал: «Нет ничего более недостойного, низкого и даже грязного, чем взгляды и образ мышления этого Вашингтона. Было бы приятно прочитать вслух прямо перед его носом этот отвратительный дневник».
В походе весной и летом 1754 года, который не удался, потому что не мог удаться, Вашингтон продемонстрировал качества волевого командира. Не имея возможности прибегнуть к палочной дисциплине, отличавшей тогдашние армии, он обуздал вольницу ополчения, превратив вчерашних охотников и земледельцев в неплохих солдат. Большего искусства ведения переговоров с индейцами или знания основ фортификационного дела от 22-летнего воина-любителя требовать было бы излишне.
Поражение в форту Необходимость укрепило в Европе представление о жителях английских колоний как неспособных держать в руках оружие. Британский посол во Франции генерал Албемарл писал герцогу Ньюкаслскому: «Вашингтон и многие подобные ему могут быть мужественными и решительными, но у них нет ни знаний, ни опыта в нашей профессии. Следовательно, на них нельзя полагаться». Динвидди постарался отмежеваться от неудачника, сообщив в Лондон: «Последнее дело с французами меня очень обеспокоило. Мои приказы командиру отнюдь не предусматривали нападение на врага до сбора всех сил».
Отношения между губернатором и Вашингтоном, никогда не отличавшиеся особой теплотой, отныне были окончательно испорчены.
Новое поражение вызвало озабоченность в колониях, докатившуюся до Лондона. На волне негодования Динвидди попытался, как и раньше, изобразить алчность компании Огайо делом государственной важности. Он приказал Вашингтону увеличить численность полка вирджинского ополчения до 300 человек и вновь идти по тому же пути на французов.
Проученный и обозленный Вашингтон отрезал: предприятие совершенно невозможное. При первых же известиях о новом походе ополченцы разбегутся. Если не ввести смертной казни за дезертирство, сохранить дисциплину не удастся. Губернатор заметил, что все дело в командирах. Коль скоро вирджинцы не могут составить полк, тогда ополчение следует разбить на роты, включив в королевскую армию. Вашингтону будет обеспечен ранг капитана. Оскорбленный Джордж подал в отставку.
Он вернулся в Маунт-Вернон, к управлению плантацией, травле лисиц, визитам в Бельвуар к Фэрфаксам, философским беседам с несравненной Салли. Синий с золотыми галунами мундир полковника вирджинского ополчения был запрятан в чулан.
Пока Джордж переживал обиду, губернаторы колоний совещались. Советовались и министры короля в Лондоне. Хотя по поводу конкретных мер мнения расходились, все были согласны в одном — настало время не только проучить французов, но изгнать их вообще из Америки. Весной 1755 года стало известно, что французы на 18 кораблях перебрасывают в Канаду три тысячи солдат.
Британская империя уже приняла сходные меры. За океан отправились два полка неполной численности (тысяча человек) под командованием ветерана генерал-майора Э. Брэддока, назначенного главнокомандующим всех вооруженных сил в английских колониях. Для лондонских политиков, взоры которых приковывали Европа, вечно бунтующая Ирландия и баснословно богатая Индия, экспедиция Брэддока не представлялась чрезвычайно важной. Солдат послали, ибо, как выяснилось, жители колоний не могут защитить себя. Лорд Гренвиль (в 1763–1765 годах премьер Англии) пробормотал, что едва ли «из-за кучки дерьма» стоит «омрачать отношения с соседями». Для колоний прибытие регулярной английской армии было величайшим событием, могучая Британская империя пришла на помощь в скорбный час смятения и опасности.
20 февраля 1755 года Брэддок с войсками высадился в Александрии, поблизости от Маунт-Вернона. Появление английских полков послужило поводом для торжеств во всей округе, Джорджа как магнит притягивал лагерь, устроенный по всем правилам военного искусства, о которых он столько слышал. Брэддок не хотел ударить лицом в грязь перед вирджинцами, которых, впрочем, открыто презирал. Краснолицый, винолюбивый генерал устраивал парады, красовался на балах местной знати, где перекрикивал всех. Вашингтон потерял голову — стальная щетина штыков, грохот барабанов, «марш гренадеров» сводили его с ума.
Брэддок объявил, что без промедления откроет наступление по всему фронту на Новую Францию. Основную операцию — против форта Дюкень — он проведет сам во главе непобедимых королевских солдат. С замечательным полководцем спешили познакомиться все выдающиеся деятели американских колоний. Приехал почтмейстер Пенсильвании Б. Франклин. Брэддок изъяснил большелобому посетителю с проницательными глазами план кампании в выражениях, доступных пониманию штатскому, — овладение фортом Дюкень потребует «три-четыре дня», а затем вперед на Ниагару! На зимние квартиры армия станет в Филадельфии, где уже изготовляют ракеты для праздничных фейерверков. Франклин обратил его внимание на риск длительных маршей в диких лесах, кишащих враждебными индейскими племенами. «Он улыбнулся, — вспомнил Франклин, — по поводу моего невежества и ответил: «Эти дикари могут быть опасным противником для зеленого американского ополчения, но совершенно невероятно, чтобы они произвели хоть какое-нибудь впечатление на регулярные и дисциплинированные войска Его Величества». Я понял, что неуместно спорить по профессиональным вопросам с военным, и умолк».
Вашингтон сделал все возможное и невозможное, чтобы блистательный воин взял его в поход. Ради этого он мужественно глотал спиртное на бесконечных попойках английских офицеров. Брэддоку сообщили, что отставной полковник только что прошел путь, на который вступают королевские гренадеры. Генерал небрежно бросил — наверное, неплохо иметь адъютанта из местных, тем более не этот ли Вашингтон прислал ему учтивое письмо, поздравляя с прибытием в Вирджинию. Собутыльники с готовностью подтвердили. Джордж стал одним из трех адъютантов Брэддока на положении волонтера, без зачисления на службу. А подготовка экспедиции натолкнулась на те же трудности, которые он уже знал, только в соответственно больших масштабах.
Ассамблеи вотировали средства, но генерал не мог тратить их по своему усмотрению. Ему было обещано 2500 лошадей и 200 повозок. Но торговцы, прослышав о военных закупках, бешено взвинтили цены. Драгоценное время упускалось в бесконечных торгах по любому поводу — от лошадей до продовольствия и фуража. Брэддок, впервые в жизни столкнувшийся с таким стяжательством, был вне себя, пенсильванцам он пригрозил, что вторгнется в колонию, перебьет скот на мясо, уведет лошадей, а их жилища сожжет, ибо они «банда предателей короля». Угрозы тучного, по большей части пьяного генерала не произвели большого впечатления на вольнолюбивых американцев, опьяненных оргией наживы.
Новый адъютант, известный в армии как «мистер Вашингтон, в прошлом служивший в вирджинском ополчении», делал все, что мог, помогая великому человеку. Брэддок отметил его рвение. Их отношения стали развиваться в сложном комплексе ненависти и взаимного уважения. «Генерал, — писал Джордж, — в результате частого невыполнения контрактов совершенно вышел из себя, и, поскольку он несдержан, что приличествует в подобных обстоятельствах, я опасаюсь, что он выставит нас в виде, который мы едва ли заслужили. Вместо того чтобы по справедливости винить отдельных лиц, он относит свои разочарования за счет всеобщего стяжательства и смотрит на страну как совершенно лишенную чести и совести. Мы часто спорим по этому поводу ожесточенно с обеих сторон, особенно с его».
В спорах с Брэддоком Вашингтон пытался защитить честь вирджинцев, успешно или нет — другое дело. Землякам он заявил о солидарности с разгневанным генералом, написав друзьям: «Собрать у нас армию почти то же, что и попытка оживить мертвеца». Брэддок добился создания вспомогательного отряда из 450 вирджинцев, мстительно приказав одеть их в военную форму, «чтобы они хоть походили на солдат».
Мытарства генерала от бесстыдно мошенничавших торговцев не шли ни в какое сравнение с интригой, затеянной компанией Огайо в связи с походом на форт Дюкень. Через влиятельных покровителей в Лондоне Динвидди и его единомышленники добились того, чтобы Брэддок пошел на форт не кратчайшим путем, через Пенсильванию, а повторил маршрут Вашингтона. Компания надеялась нажиться на поставках войскам на всем пути, и что еще важнее — поход Брэддока должен был закрепить за ней долину Огайо. Об этих обстоятельствах ни Брэддок, ни даже Вашингтон не догадывались.
Только к середине июня войска Брэддока стянулись к старой пограничной фактории компании Огайо Уилс-Крик — теперь передовой форт Камберленд. Брэддок отправил саперов расширить примитивную дорогу, проложенную отрядом Вашингтона, и окончательно распростился с надеждами на помощь индейцев. Хафкинг умер, твердя, что французы извели его колдовством. Вожди нескольких племен, приходившие к Брэддоку, получали дары, их приветствовали орудийными залпами, но не поили — генерал, ревнитель воинской дисциплины, запретил давать индейцам ром. Все его усилия завоевать расположение сашемов пропали даром.
В середине июня Брэддок наконец выступил из форта Камберленд. Повторилось знакомое Вашингтону во всех мучительных подробностях — колонна, насчитывавшая около 2000 человек, обремененная артиллерией и обозом, продвигалась едва по пять километров в день, а до форта Дюкень 250 километров. Наконец, Брэддок послушался совета Вашингтона — выдвинуть вперед 1200 человек с 30 пушками, обоз и тяжелая артиллерия должны следовать позади. Вашингтону не посчастливилось долго любоваться торжеством предложенного им порядка движения. Он заболел дизентерией, и 17 июня Брэддок отправил его трястись в санитарной фуре в обозе.
Только 8 июля, подвязав к седлу подушку, чтобы смягчить толчки — все тело невыносимо болело, Вашингтон прискакал в передовой отряд Брэддока. На следующий день войска должны были выйти к осиному гнезду французов — форту Дюкень — в десяти с небольшим километрах. Он не мог пропустить долгожданную баталию.
Великолепное утро 9 июля как нельзя лучше соответствовало праздничному настроению штаба Брэддока — взошло солнце победы. Вашингтон навсегда запомнил этот прекрасный летний день. Генерал приказал войскам маршировать как на параде — пусть французские лазутчики, которые могли скрываться в лесу, знают, что их ждет. Над ровными рядами солдат в ярко-красных мундирах реяли знамена, били барабаны, оркестр оглашал лес звуками «Марша гренадеров». Даже вирджинцы в скромных синих мундирах старались держать строй, выпячивая груди, выкатывая глаза и надувая щеки, когда мимо них проносилась блистательная кавалькада офицеров.
Колонна дважды перешла вброд реку Мононгахила. Офицеры поднимали руки, поздравляя друг друга — французы по глупости не использовали последнее место, где можно было устроить засаду. Авангард — 300 человек — углубился в поросшее лесом дефиле, за ним на расстоянии мушкетного выстрела следовали главные силы и Брэддок со штабом.
Внезапно в стороне авангарда началась сильная пальба, скоро нельзя было различить отдельных выстрелов. Слитный рев, вопли, топот. Через несколько минут обезумевшая толпа солдат авангарда ринулась на остановившуюся главную колонну. Ряды смешались, всюду раздавались крики, падали люди — значит, стреляли по ним! Но врага не было видно, свинцовый ливень хлестал из-за деревьев и кустов. Офицеры тщетно пытались восстановить порядок, что в их понимании означало построить солдат ровными рядами, дать залп и атаковать неприятеля в сомкнутом строю. Они нещадно били метавшихся солдат саблями плашмя, но безрезультатно.
И только вирджинцы не растерялись, часть их, рассыпавшись в редкую цепь, попыталась атаковать невидимого врага, другие залегли за поваленными деревьями и открыли ответный огонь. Английские солдаты, не видя настоящих врагов, приняли за них вирджинцев и несколькими залпами разметали ополченцев. «Эти трусливые англичане, — писал впоследствии Вашингтон, — пораженные смертельной паникой… стреляли во всех, находившихся перед ними». Под Вашингтоном были убиты две лошади, пули пронизали платье, сбили шляпу, он остался невредим, отнеся это за счет «чудесной заботы Провидения, защитившего меня вопреки всем ожиданиям».
Охрипший Брэддок метался на дороге, все еще пытаясь выстроить солдат для правильного боя. Когда он взобрался на пятую лошадь (четыре были убиты), то получил пулю в легкое. Тяжелое ранение генерала послужило сигналом к всеобщему бегству. Бросив знамена, пушки, барабаны и флейты, беспорядочная толпа устремилась назад по той самой дороге, по которой всего час назад войска выступали церемониальным маршем.
Сзади раздавались душераздирающие крики оставленных раненых, индейцы набросились на них, приканчивая с неописуемой жестокостью, снимая скальпы и деля богатую добычу. Вероятно, это задержало победителей, дав возможность остаткам войска Брэддока уйти от преследования. Потери были ужасающими — из 86 офицеров 63 были убиты или ранены. Такая убыль в офицерском составе понятна — противник целил прежде всего в гарцевавших на лошадях. Из 1373 рядовых невредимыми осталось только 459 человек. Побоище учинил враг, значительно уступавший Брэддоку по силам, — 100 французов, 150 канадцев и 650 индейцев.
Разбитые войска с невероятной резвостью бежали к обозу, к провианту и тяжелым орудиям. «Когда мы пытались собрать их, — комментировал Вашингтон, — то достигли таких же успехов, как если бы мы попытались остановить диких горных медведей».
Умиравший Брэддок полностью положился на Вашингтона, единственного нераненого адъютанта. Вашингтон распоряжался всем, включая похороны генерала. Именно ему пришла в голову идея захоронить тело Брэддока посередине дороги, поблизости от развалин форта Необходимость. Оставшиеся повозки проехали по могиле, чтобы стереть все следы. Иначе, объяснил Вашингтон, индейцы найдут труп и надругаются над ним. Верные слуга и конь покойного генерала перешли в Вашингтону. Они служили ему многие годы.
Полковник Данбар, начальник тылового отряда, уничтожив большую часть орудий, отошел в форт Камберленд. 2 августа он покинул его, направившись с остатками войск на зимние квартиры в Филадельфию. В губернаторском дворце воцарился ужас. Ничто не стояло между свирепыми победителями, опьяненными успехом, и Вирджинией. Западная граница колонии полыхала.
Вашингтон был разъярен. Слабый, не оправившийся от болезни, он укрылся в Маунт-Верноне. Оттуда в письме одному из друзей он дал волю обуревавшим его чувствам. «Нас побили, постыдно побила кучка врагов, которые намеревались только помешать нашему продвижению. Меньше всего они ожидали победы. Поразмысли о непостижимых путях Провидения, бренности всего живущего! За несколько мгновений до этого мы считали, что почти равны по силам канадцам, они надеялись всего-навсего досадить нам. Однако вопреки всем ожиданиям п вопреки даже логике нас разбили наголову, мы потеряли все, а они этим обогатились… Я от всего сердца согласен с тобой, что, когда случившееся войдет в анналы истории, к этому отнесутся недоверчиво, с негодованием, ибо, если бы я не был живым очевидцем в тот день, я бы уже теперь не поверил, что так могло произойти».
Только годы спустя, вернувшись к злополучному бою, Вашингтон указывал, что к поражению привело нежелание Брэддока противопоставить индейцам их же тактику, что попытались сделать только ополченцы-вирджинцы. В первое время после постыдного разгрома Вашингтон не был способен к анализу, подменяя спокойное рассмотрение событий эмоциями. Он вновь и вновь подчеркивал «трусость» регулярных войск, которые вели себя в бою как «мерзавцы». Беззащитная колония срочно нуждалась в героях, и Вашингтон стал первым из них. С амвонов ему возносилась хвала, молились за его здоровье. В пламенной проповеди, прочитанной притихшим прихожанам, один священник задал риторический вопрос, не сохранило ли Провидение «юношу героя… таким замечательным образом», ибо предназначает его «славно послужить стране». Из уст в уста передавалось: Брэддок в смертный час хвалил вирджинское ополчение (что было правдой). Со своей стороны, Вашингтон заверил земляков — ополченцы «сражались как мужчины и умирали как солдаты». О недавнем поражении самого Вашингтона забыли. Он представал спасителем колонии.
Вашингтон имел и личные причины сожалеть о поражении — в походе он потерял четырех лошадей и надежду получить офицерское звание от короля. Последнее особенно удручало Джорджа, ибо Брэддок твердо обещал ему по завершении кампании добиться благоприятного решения. Теперь, со смертью генерала, вожделенные эполеты оставались мечтой.
Погоня за офицерским званием королевской армии поразительным образом характеризует Вашингтона 1753–1758 годов. Он шел на ненужные унижения, прибегал к неуклюжей лести. И ради чего? Ради чина полковника, на меньшее Джордж не был согласен. Правда, он никогда точно не говорил, на что претендовал. Погоня за эполетами полковника, которую можно во всех деталях проследить по его многим письмам-прошениям, побудила некоторых историков сделать гипотетический вывод — если бы король пожаловал их, Вашингтон навсегда остался бы роялистом и не связал бы свою судьбу с борьбой за независимость.
Этот тезис при всей его привлекательности все же притянут за волосы. Много проще помнить о молодом честолюбии и Салли. Кроме того, Вашингтоном двигали чисто практические соображения. Чин в королевской армии давал прочное положение, при выходе в отставку — половину содержания. Чин можно было продать или купить. О последнем Джордж не помышлял, хотя был в состоянии приобрести, скажем, звание майора, стоившее 2000 фунтов стерлингов. Он полагал, что уже заслужил производство на поле брани.
Если в Лондоне никогда так и не стали на эту точку зрения, то в Вильямсбурге воздали Вашингтону должное. Цепь поражений, за которые, несомненно, и Динвидди нес большую долю ответственности, резко увеличила авторитет ассамблеи. С влиятельными членами ее Вашингтон поддерживал переписку. Они знали, что полковник готов вернуться на военную службу, но только на собственных условиях.
14 августа 1755 года ассамблея вотировала 40 тысяч фунтов на военные расходы, решив создать полк в 1000 человек для защиты колонии.
Командование предложили Вашингтону. Помня о его постоянных жалобах на то, что он за два года только терял на службе колонии, ассамблея проявила неслыханную щедрость. Вашингтону было выдано 300 фунтов стерлингов в возмещение прежних затрат, положено жалованье полтора фунта в день, на расходы 100 фунтов в год и 2 процента комиссионных со всех закупок для полка. В тот же день губернатор назначил Вашингтона «главнокомандующим армии, создаваемой для защиты колонии Его Величества». Образ действия — «наступать или обороняться» — целиком оставлялся на его усмотрение. Он мог подбирать офицеров по собственному выбору.
Свалив всю полноту ответственности на молодого главнокомандующего, в Вильямсбурге с острым любопытством стали ожидать результатов.
Вашингтон куда как круто взялся за дело, насаждая хваленую воинскую дисциплину, о которой наслышался от Брэддока. Он не усмотрел разницы между воспитательным значением различных мер принуждения в давно существующей армии и в части, создававшейся почти на голом месте. Приказы Вашингтона звучали грозно, а непокорные вирджинцы либо бунтовали, либо разбегались. Полковник распорядился заковывать в кандалы и бросать в тюрьму зачинщиков. Он направо и налево щедро расточал обещания перевешать нарушителей порядка, а пока широко практиковал «старый метод наказания — хорошенько высечь», вбивая палками и плетками понимание воинского долга. Даже это не производило должного впечатления, полк никак не приобретал уставного вида, хотя и носил желто-голубые мундиры.
Тогда Вашингтон обратился к ассамблее с ультиматумом — либо он уходит в отставку, либо в колонии вводится военное положение. Все нации вводили его в случае нужды, просветил главнокомандующий ассамблею, и «я беру на себя смелость выразить определенное удивление, что только мы так носимся со своей свободой, что не прибегаем к силе, отчего воспоследствовали бы самые великолепные результаты». Ассамблея приняла драконовский закон, предусматривавший смертную казнь за неповиновение и дезертирство. Вашингтон расстарался построить виселицу почти пятнадцатиметровой высоты. На глазах согнанных ополченцев на ней повесили двух закоренелых смутьянов. Отныне дезертиров нельзя было сыскать днем с огнем, они запомнили петлю. Отчаявшись, юный полководец принялся открывать в законе лазейки, не замеченные даже составителями, обещая помилование беглецам. Идеи, так манившие в устах Брэддока, по-иному оборачивались в Вирджинии.
Жестокость никогда не была свойственна натуре Вашингтона, но обстоятельства не позволяли действовать иначе — более чем пятисоткилометровую границу могло прикрыть дисциплинированное войско, а не разболтанное ополчение. Все время поступали сообщения о нападениях индейцев, высылаемые отряды прибывали поздно — они находили сожженные дома и хоронили изуродованные трупы пионеров и их семей. Кошмар постоянно преследовал Вашингтона — если неприятель крупными силами прорвется через практически не защищенную границу и достигнет обжитой части Вирджинии, там может вспыхнуть восстание чернокожих рабов. О судьбе родных и близких тогда гадать не приходилось. Следовательно, любой ценой запереть границу.
Официальное объявление войны между Англией и Францией 16 мая 1756 года усугубило мрачное настроений Вашингтона. Он не мог знать, что Вирджиния теперь избавлена от вражеского нашествия. Центр тяжести боевых действий переместился на север, куда ушли французские войска, а за ними потянулись индейские племена. В свою очередь, Северная Америка стала играть все меньшую роль в глобальной стратегии воюющих сторон. Вашингтон и его полк превратились в забытых солдат забытого фронта. Логика Семилетней войны, но не усилия Вирджинии в конечном итоге определили положение колонии. Все это со временем прояснилось, а пока на границах колонии крепко пахло пороховым дымом.
Вирджинцам приходилось иметь дело со спорадическими налетами индейцев. У Вашингтона оказалось достаточно времени для руководства военными действиями и препирательств с губернатором по самым различным поводам, главным из которых оставалась неудовлетворенная жажда к мундиру королевской армии. Капитан Дагворти, занимавший с крошечным отрядом мэрилендцев форт Камберленд, разбередил старые раны. 44-летний Дагворти не желал признавать 23-летнего полковника, ссылаясь на то, что он носил чин, пожалованный королем. Кампания против упрямого капитана поглотила всю энергию Джорджа. Привычные жалобы и всегда пускавшаяся в ход угроза уйти в отставку не подействовали, Дагворти смеялся над вирджинцами — форт Камберленд находился на территории Мэриленда.
Вашингтон, относившийся к спору о старшинстве с величайшей серьезностью, решил лично объясниться с губернатором Массачусетса Ширли, считавшимся после смерти Брэддока главнокомандующим. Дабы в выгодном свете представить Вирджинию и собственную честь, Вашингтон срочно заказал в Лондоне новые мундиры себе, сопровождающему офицеру и ливреи для слуг. Инструкции по пошиву формы носили детальный характер (Джордж вообще имел склонность к щегольству): «Грудь шинели отделать красным сукном, такие же отвороты с серебряным шитьем, красный жилет, простроченный серебряной лентой, спние панталоны, отделанная серебром шляпа». Улучшенный образец мундира вирджинского полка, сделанный по собственноручным эскизам Джорджа.
Подвесив шпагу к отделанной золотом портупее, Вашингтон отправился в путь — всего 1800 километров. Группа всадников производила внушительное впечатление, особенно новый бело-красный плащ полковника и треуголка, прочно сидевшая на густо напудренных волосах. Светло-коричневые ливреи, отделанные красной лентой, прекрасно гармонировали с черными лицами слуг. Разряженные офицеры-южане показали себя в Филадельфии и Нью-Йорке. Между балами, театром, беготней по портным, шляпникам, лавкам ювелиров и седельщиков Вашингтон увлекся некой дамой в Нью-Йорке и поручил вежливо попросить ее руки. Предложение не имело последствий.
В столице Массачусетса Бостоне он сделал громадный заказ портному на платье, заплатив почти 100 фунтов стерлингов, и встретился с Ширли. Главнокомандующий успокоил Вашингтона, не сходя с места, набросал письмо Дагворти, напомнив упрямцу, что он не в королевской армии, а служит колонии Мэриленд. Вопрос о старшинстве, терзавший Вашингтона, разрешился. Он остался недовольным — Ширли пропустил мимо ушей просьбу о пожаловании звания в королевской армии. По возвращении из многомесячного путешествия Джордж твердо решил подать в отставку.
История трагикомическая и не делает чести ее герою. Вашингтон с годами понял это. Главнокомандующий континентальной армии спустя много лет провел различие между участием в революции, где цель — «не слава, не захват земель», и «обычными схватками империй и честолюбий». Во время последних, заключил Вашингтон, «честь солдата не затрагивается и он имеет право настаивать на признании за ним желанного ранга и добиваться получения всего сполна».
В Вильямсбурге он убедился, что уходить на покой было бы бесчестно — отряды индейцев во главе с французскими офицерами бесчинствовали на границе. Фермеры толпами бежали во внутренние районы колонии. Вирджинию охватила страшная паника.
Вашингтон бросился наводить порядок. Все привычно, как давно мучившая его зубная боль, — местные ополченцы не желали покидать жен и детей и защищать соседей. Они даже не содействовали солдатам полка, преследовавшим обнаруженного врага. «Приказы исполняются только под угрозой солдатских штыков или моей обнаженной шпаги, — докладывал Вашингтон в Вильямсбург, — иначе нельзя получить ни одной лошади даже при самой крайней необходимости, до такой наглости дошли эти люди, которым до сих пор потакали. Однако я не уступлю ни на дюйм, где затрагиваются интересы службы королю и где мои действия оправдываются полученными указаниями, если они только не исполнят свою угрозу — вышибут мне мозги».
Беженцы, а число их постоянно возрастало, молили о помощи. Бесподобный принцип американцев — каждый заботится о себе, а об остальных — дьявол — предстал во всем блеске. Ни по долгу службы, ни по голосу совести Вашингтон не мог так рассуждать.
Чувствуя себя бессильным, хотя Вирджиния была объектом только дерзких рейдов индейцев, полковник порой терял самообладание. В один из таких моментов он писал Динвидди: «Я не владею, сэр, достаточно изобразительными средствами языка, чтобы попытаться описать разлившееся море горя, хотя наделен великодушием, чувством распознавать зло и желанием оказывать благодеяния. Что я могу поделать? …Жалобный плач женщин, трогательные обращения мужчин повергли меня в такую глубокую печаль, что я, зная себя, торжественно клянусь: я готов принести себя в жертву кровожадному врагу, если это принесет облегчение народу… Если нужен я, истекающий кровью, умирающий, чтобы удовлетворить их ненасытную месть, я готов отдаться ярости дикарей, и пусть меня изрежут на куски ради народа! Я вижу его положение, знаю, каким опасностям он подвергается, разделяю его горести, однако не в состоянии оказать большей помощи, чем раздавать мутные обещания». Нет сомнения в искренности автора письма.
С железной настойчивостью он твердит ассамблее и губернатору: ополчение — ненадежный шит колонии. Нужны регулярные части, а для этого требуются деньги и деньги. В 1756 году Вашингтон столкнулся с теми же трудностями, которые будут приводить его в бешенство в 1776 году. Он извлек урок из вирджинского опыта, континентальному конгрессу пришлось учиться заново. Отцам Вирджинии полковник Вашингтон в 1756 году разъяснял: беда ополчения в том, что «каждый грязный тип имеет собственное невежественное представление о событиях и способах действия. Если его советы игнорируют, он надувается, обижается и компенсирует нанесенное ему, по его мнению, оскорбление тем, что отправляется домой».
О плачевном состоянии дел Вашингтон сообщал не только в Вильямсбург, но и друзьям. У. Фэрфакс поддержал дух молодого человека двумя письмами. Как бы продолжая застольные беседы, он писал: «Все пьют за твое здоровье и успехи. У римлян всеобщее уважение к любому из их вождей всегда почиталось высокой честью и с благодарностью принималось». В другом письме, коснувшись сетований Вашингтона на ополчение, Фэрфакс разъяснил: вероятно, основания к недовольству есть. Но «почитай «комментарии» Цезаря и Квинта Курция (автора жизнеописания Александра Македонского). Там узреешь, что римские военачальники преодолевали куда большие трудности». Если они «нарушают твой душевный покой, я не сомневаюсь, что ты перенесешь их с тем же присутствием духа, как эти замечательные герои».
Значит, следовать благородному примеру, дисциплина превыше всего. Полковник ввел таксу — Двадцать пять ударов за сквернословие, пятьдесят за пьянство. Он придавал большое значение материальным стимулам — цена за скальп неприятеля повысилась с 10 фунтов в 1755 году до 45 фунтов стерлингов в 1758 году, — но не упускал из виду и моральные. Как известно, должное сочетание их всегда залог успеха. Вашингтон обратился к спикеру ассамблеи с просьбой прикомандировать к полку священника «с тем, чтобы мы по крайней мере внешне имели пристойный вид, ведь нам твердят — нужно внутренне верить». Священника полк не получил.
Тут разразился скандал. Бежавшие из-под властолюбивой руки полковника обратились в вирджинские газеты, напечатавшие статьи, подписанные звучными псевдонимами, взятыми у Плутарха, касательно распутства, безделья и прочих пороков, которым предаются офицеры полка. Иные авторы, надо думать, писали под сильным личным впечатлением — Вашингтон, сжав огромные кулачищи, с побагровевшим от гнева лицом, набросился на некоего Джона Бейлиса, осмелившегося подвергнуть сомнению воинские порядки. Критики и офицеры, горой стоявшие за полковника, были правы по-своему. Недовольные принадлежали к беднейшим слоям населения и уже по этой причине, не имея выбора, были склонны превозносить пуританские добродетели. Офицеры, пытавшиеся подражать английской аристократии, вели себя так, как они считали уместным для избранных.
Обиженные горестно сообщали — офицеры завели любовниц. Вашингтон в одном известном случае взглянул на дело практически. Когда его подчиненного обвинили в уводе женщины — «кабальной служанки», он не усмотрел нарушения норм морали, а распорядился, чтобы похититель возместил ее владельцу стоимость недополученных услуг. К женскому вопросу в военном лагере он подходил, руководствуясь нормами солдатской морали XVIII века. Кроме того, все они были очень молоды — самому Вашингтону было двадцать пять лет. Его любимчик — капитан Мерсер, — посланный по делам в Южную Каролину, в числе наиважнейших новостей информировал главнокомандующего о следующем: «Вы удивлены, что я еще не упомянул местных красоток». Увы, у девушек в Южной Каролине «нет манящих, тяжелых, трепещущих, привлекательных больших бюстов, которые обычны для наших северных красавиц».
Командиры полка, конечно, не были монахами. Они любили выпить, а полковник строго надзирал: к столу подавать достаточно вина, чтобы «все были довольны». Играли в карты, танцевали, ревели хором, полагая, что поют. Вашингтон неукоснительно следил разве за тем, чтобы никто не терял облика джентльмена — пить только до возникновения неудержимого желания встать на четвереньки или хвататься за стены. Когда лейтенанта полка поймали на плутовстве в карточной игре, полковник обратился к офицерам с просьбой не тратить слишком много времени на такие «развлечения». Коль скоро «у нас нет возможности улучшить себя на живых примерах, давайте читать». Он порекомендовал офицерам изучить «Трактат о воинской дисциплине» X. Брэнда, только что выписанный из Англии.
Штаб-квартиру Вашингтон учредил в Винчестере, довольно далеко от границы. Это дало повод недовольным в Вирджинии действиями полка глухо обвинять Вашингтона в трусости. Его отношения с ассамблеей начали портиться. Стратеги в Вильямсбурге потребовали соорудить вдоль западной границы 27 фортов, а Вашингтону перенести свою ставку на линию огня, в форт Камберленд. Вашингтон разъяснил, что, по его мнению, нужна не пассивная оборона, а увеличение численности полка, ибо местные ополченцы непригодны к службе. «Трусость обитателей сих мест, — сообщал он, — можно сравнить только с их порочностью». Вашингтон упрекал вильямсбургские власти в том, что они не сумели обзавестись союзниками среди индейских племен. Отсюда все несчастья.
Осенью 1756 года он отправился в почти месячную инспекционную поездку вдоль границы, дабы добыть новые аргументы в подтверждение своей точки зрения. Хотя сам Вашингтон в этих диких местах не услышал ни свиста пуль, ни воинственных индейских возгласов, он увидел достаточно. В Вильямсбург полковник отправил грозную депешу, призывая к порядку ассамблею и губернатора. «Катастрофическое положение на границе и громадные потери земель за последние двенадцать месяцев могут представиться невероятными не видевшим это собственными глазами. Полоса шириной в 80 километров богатых и еще недавно густозаселенных земель, тянущаяся от Мэриленда до Южной Каролины, ныне полностью покинута, территория, прилегающая к ней в Вирджинии, также в значительной степени опустела, люди бегут из-за страха… Целые поселения раздумывают, сняться с насиженных мест или остаться». Он настаивал на принятии его предложений, эвакуации форта Камберленд и сосредоточении сил полка в Винчестере.
Капитальная ошибка! Такие выводы могла бы делать следственная комиссия, но никак не командир, которому была вверена защита границы. Динвидди и ассамблея показали зубы. Вашингтон получил категорический приказ — сделать форт Камберленд основной базой, укрепить границу и вообще выполнять свои обязанности. Полковник, убедившись, что в Вильямсбурге засели враги его стратегических предначертаний, был вынужден подчиниться, но не смирился.
В это время из Англии прибыл новый английский главнокомандующий — лорд Лаудон. Вашингтон, как ему представлялось, задумал хитроумнейший дипломатический ход — с границы он направил в Филадельфию Лаудону длинное послание. Полковник описал свои труды на службе королю (наивно надеясь, что за это воспоследствует производство в чин королевской армии), обругал Динвидди и ассамблею, пожаловался на вильямсбургских упрямцев, отвергающих его военные планы, и пообещал победу над французами — нужно идти прямо на форт Дюкень. Вообще, Вашингтон открылся лорду, он намеревался подать в отставку, и его удержала «заря надежды», взошедшая в тот миг, когда нога Лаудона ступила на американскую землю. «Только не думайте, мой лорд, — заключал послайие полковник, — что я собираюсь льстить, хотя я чрезвычайно высоко ценю ваши достоинства и уважаю ваш пост, я не намереваюсь восхвалять. Моя натура открыта, честна и свободна от раболепства!»
Как следовало ожидать, полковник, очернив попутно местные власти, добиться чего-то от британского лорда не смог. Эпизод, справедливо замечает Д. Флекснер, показал, что, «несмотря на обучение у Уильяма Фэрфакса, молодой человек не обладал складом ума придворного. Что до его попыток польстить, то они по изяществу походили на попытку слона сделать глубокий придворный поклон». Вашингтон добавил еще один ложный шаг — отправился в Филадельфию на поклон к Лаудону. Лорд принял полковника с величайшей холодностью, конечно, не стал обсуждать с ним привезенных планов кампании, а отдал сухие распоряжения, как надлежит действовать. Сердце англичанина не растопило льстивое сообщение Вашингтона — отныне Винчестер носит название форт Лаудон.
1757 год для Вашингтона оказался очень тяжелым морально. Склока с Динвидди переросла в острую вражду. Накануне окончательного отъезда в Англию в начала 1758 года губернатор упрекнул полковника в «неблагодарности». На границе по-прежнему было неспокойно. Укрепить ополчение было совершенно невозможно — ассамблея не желала призвать на службу ни одного человека, кто имел бы право голоса. Избирателями были только мужчины, имевшие плантации площадью не менее 10 гектаров с домом или владевшие участком земли не менее 40 гектаров. В ополчение загоняли бедняков, не горевших желанием сложить голову за толстосумов.
Сооруженные наспех пограничные форты с малочисленными гарнизонами не могли прикрыть границу. Вашингтон, поставленный на место, больше не издавал громогласных протестов, а воевал как мог, отражая бесчисленные вылазки индейцев. Он мрачно предрекал — если на будущий год не будет организована крупная военная экспедиция на запад или если Вирджиния не увеличит свои военные силы, «следующей осенью по ту сторону Блю-Ридж не останется ни души». Соответствующие, но теперь очень вежливые представления в Вильямсбурге последствий не имели. Там с большим интересом следили за военными операциями на главном театре далеко на севере, полагая, что Вашингтон как-то выкрутится на границе.
Военная служба, где приходилось делить внимание по крайней мере поровну между неприятелем и Вильямсбургом, глубоко опротивела Вашингтону. Разочаровавшись в возможности снискать лавры в боях, он исподволь стал готовиться к переходу к мирной жизни. Джордж, наконец всерьез занялся Маунт-Верноном, стремясь наладить запущенную плантацию. Осенью умер Уильям Фэрфакс, муж Салли отправился в Англию хлопотать о вводе в наследство. Она осталась в Бельвуаре одна. И той же осенью заболел дизентерией Вашингтон. Его привезли в Маунт-Вернон, где одно время он всерьез готовился к смерти — сказались тяжкие испытания последних лет, усугубленные крахом надежд на военную карьеру.
Вероятно, он пытался получить утешение от Салли. Хлопотала ли она у постели тяжелобольного? Историки не знают. О состоянии духа Вашингтона говорит лаконичная записка. Получив письмо с сообщением о возвращении Джорджа Фэрфакса, он переслал его Салли с припиской: «Когда у вас будет время облагодетельствовать нас визитом, мы попытаемся максимально разделить с вами радость, которую вы испытали при этом известии». О планах на будущее говорил заказ в Англию — прислать ломберный стол из красного дерева и дюжину колод карт.
Ощущение близкой смерти все же не оставляло Джорджа. За многие месяцы в постели он ослабел и наконец решился точно узнать у специалиста, сколько ему осталось жить. В марте 1758 года страждущий проделал изнурительный путь до Вильямсбурга. Даже здоровый он добирался туда из Маунт-Вернона за четыре дня, ибо расстояние считалось значительным — 250 километров. Теперь путешествие оказалось еще длиннее. За большой гонорар — 3 фунта стерлингов — он получил исчерпывающий ответ — лечиться надо от меланхолии. Смертельно больной вышел из кабинета врача здоровяком, думая не о могиле, а о жене.
Страдая от недуга и принятых тогда методов лечения кишечных заболеваний, Джордж Вашингтон провел мучительную переоценку ценностей. Никто не знает и никогда не узнает, как именно он инвентаризировал накопленный жизненный опыт. На этот счет не осталось никаких документов, да едва ли человек, прислушивающийся к болям в желудке, думает о бумаге. Главное — поступки, ибо они были конечным звеном в цепи умозаключений Вашингтона.
До тех пор у него были две цели в жизни — обладать Салли и получить производство в королевской армии. В достижении обеих он потерпел фиаско. Первая оставалась недосягаемой, хотя Салли по-прежнему иной раз кокетничала без меры. Ей стала льстить привязанность прославленного воина Вирджинии. Служба в колониальных войсках, хотя и под королевскими знаменами, принесла самолюбивому полковнику одни разочарования. По мнению Джорджа, он получил ничтожно мало, хотя бы за серьезно расстроенное здоровье. Он, безусловно честный человек, не мог без стыда вспомнить о том, как приходилось пресмыкаться ради проклятого чина. В итоге всех размышлений он пришел к скромной по мудрости мысли: «Конечно, лучше проделать бурный жизненный путь не плача, а смеясь».
Возвращаясь от врача в Вильямсбурге, Вашингтон заехал в Белый дом, плантацию на реке Паманки, находившуюся в двадцати километрах с небольшим от столицы Вирджинии. Там жила двадцатишестилетняя Марта Кастис, потерявшая летом 1757 года мужа. У Марты было двое детей — четырехлетний Джон и двухлетняя Марта, а также колоссальное по тем временам состояние: плантация площадью около 7 тысяч гектаров, примерно 300 рабов, вклады в английских банках, превышавшие 23 тысячи фунтов стерлингов, великолепная резиденция в Вильямсбурге. Вашингтон знал лучшего юриста Вирджинии Николаса и его совет вдове — «нужно выйти замуж за хорошего управляющего». По законам тех времен все имущество женщины, сочетавшейся браком, переходило мужу.
Итак, Джордж проезжим гостем появился в доме Марты, с которой раньше уже встречался на балах в Вильямсбурге. К ней вошел человек, «прямой, как индеец, почти 190 сантиметров ростом, весом 90 килограммов… Мускулистая фигура свидетельствовала о большой силе… У него широкие плечи, но грудь не выступает, тонкая талия, длинные руки и ноги. Голова прекрасной формы, невелика и хорошо поставлена на прекрасной шее. Длинный прямой нос, сине-серые проницательные глаза, продолговатое лицо, заканчивающееся твердым подбородком. Чистая бледная кожа, хотя и покрытая загаром. Приятное, доброе, однако властное выражение лица, каштановые волосы. Большой, обычно крепко сжатый рот, в котором, однако, можно заметить плохие зубы. Черты лица правильные, он прекрасно контролирует себя, но лицо его подвижно и способно отражать глубокие чувства. Беседуя, он смотрит вам прямо в лицо, как бы оценивая. Его движения и жесты плавны, походка величава, и он прекрасный наездник…» Так описал полковника Вашингтона его задушевный друг и почитатель Мерсер.
В хлебосольном Белом доме его встретила хозяйка, славившаяся в округе своим тактом и рассудительностью. Крошечная спокойная жейщина со склонностью к полноте, Марта, смеясь, отзывалась о себе как о «хорошенькой, здоровой девушке». Она, конечно, была далека от того, чтобы поощрять безумную любовь; такие чувства, если бы они обнаружились, наверняка повергли бы в смятение состоятельную вдову. Покойный муж был почти на двадцать лет старше ее, а она была старше Джорджа на два месяца. Марта, родив четверых детей, из которых выжили двое, несмотря на двадцать шесть лет, давно чувствовала себя зрелой женщиной. Всей душой она стремилась к спокойствию и приличию. Они, наверное, встретились как разумные коммерсанты и расстались очень довольные друг другом. Где-то летом 1758 года Джордж и Марта решили вступить в брак. Даже точнейшим образом настроенные исторические сейсмографы не зарегистрировали вулканических страстей в связи с бракосочетанием Вашингтона.
Тут представился случай достойно завершить военную карьеру — на повестку дня встало наконец овладение фортом Дюкень, о чем Вашингтон грезил наяву все годы, когда носил мундир. Операцию задумали не местные стратеги. В далекой Англии парламент возвел на пост премьер-министра способнейшего Вильяма Питта. Он немедленно сместил спесивого и инертного лорда Лаудона. Питт приказал провести против французов три кампании, одну из них в долине Огайо, предписав взять форт Дюкень. Командовать операцией был прислан энергичный генерал Джон Форбс.
Питт единым росчерком пера разрешил давно мучивший Вашингтона вопрос о старшинстве — отныне колониальные офицеры могли командовать нижестоящими по рангу офицерами королевской армии. А войско Форбс собрал порядочное — около трех тысяч пенсильванцев, несколько более полутора тысяч вирджинцев, остальные — регулярные части из Англии. Всего до семи тысяч человек. Вашингтон попросил друзей обратить на него внимание генерала: «…не корысти ради и повышения. С надеждами на это я давно расстался… Мне хочется чем-то выделиться среди провинциального офицерства, большого разноперого стада». В ожидании ответа он выехал в полк.
Новые подвиги — в будущем, а пока Джордж рассудительно готовился к скорому переходу к мирной жизни. Управляющий в Маунт-Верноне получил от него детальные инструкции привести в порядок дом к приему молодоженов с детьми. Он выставил свою кандидатуру в ассамблею колонии в округе Винчестер. Три года назад Вашингтон уже пытался добиться здесь избрания, но потерпел унизительное фиаско. За причинами не нужно было далеко ходить — добрые жители Винчестера нагляделись на распорядительного полковника, поднимавшего край на войну крутыми мерами. Они не выполнили своего обещания вышибить из него дух вон, но сумели с гиком и улюлюканьем провалить Вашингтона. Выборы были гласными.
На этот раз Вашингтон много лучше провел кампанию. Сославшись на неотложные дела, он не появился в округе, а вверил избирательную кампанию офицерам полка и друзьям. Джордж прошел громадным большинством — из 396 избирателей ему отдали свои голоса 309. Льстивый сторонник отнес успех за счет «вашего гуманного и справедливого обращения с каждым и вашего громадного рвения на пользу общего дела».
Вашингтон знал лучше, как все было. Организаторы избирательной кампании выставили за счет кандидата с учетом вкусов каждого избирателя 130 литров рома, 225 литров пунша из рома, 150 литров вина, 210 литров пива и 10 литров сидра. Полковник, не поморщившись, оплатил счет, прокомментировав: «Надеюсь, что не делалось исключения для лиц, выступавших против меня, отношение ко всем было равным и каждый получил достаточно… У меня только одно опасение — не поскупились ли вы…» Вероятно, он считал порцию полтора литра с лишним на человека умеренной по нравам того времени.
Форбс не оставил обращение полковника Вашингтона без внимания, включив его вместе с вирджинцами в предстоявшую экспедицию. Полковник был польщен, но от планов Форбса пришел в ужас. Английский генерал решил двигаться на форт Дюкень не по стопам бесславного Брэддока, а проложить дорогу к цели по прямой с запада на восток из Пенсильвании. Вашингтон стал горячо отстаивать преимущества знакомого ему пути — Брэддок протоптал дорогу почти до самого форта Дюкень, а теперь снова прорубаться через дикие чащобы. У него была и задняя мысль — по изгнании французов из Огайо торговля пойдет через Вирджинию. Одобрение плана Форбса означало бы, что все преимущества получит Пенсильвания. «Давняя, несчастная судьба бедной Вирджинии, — сокрушался Вашингтон, — она всегда жертва хитрющих соседей».
Американские военные историки согласились, что путь, предлагавшийся Вашингтоном, стратегически был менее выгоден, чем намеченный Форбсом. Вашингтон отстаивал свою точку зрения с большой горячностью и проявил, по словам Форбса, качества, «постыдные для любого офицера». В письме спикеру ассамблеи Вирджинии Робинсону полковник обозвал сторонников марша из Пенсильвании дураками и выразил готовность выехать в Лондон, чтобы разоблачить перед королем организаторов кампании, обреченной на провал: «Пусть Его Величество узнает, как нагло проституируются его честь и государственные средства». К счастью для репутации Вашингтона, поездка в Лондон не состоялась, ибо в срок, потребный для поездки, Форбс успешно завершил операцию. Было бы слишком ясно, кто остался в дураках.
А пока Вашингтон гневался по поводу длительных сборов — дорога из Пенсильвании, над которой работали две тысячи человек, сооружалась действительно крайне медленно, Форбс объявил, что проведет съезд дружественных индейских племен, к собраниям такого рода сашемы готовились очень неторопливо. Новая оттяжка! Вашингтон заподозрил, что Форбс боится рисковать и едва ли всерьез собирается брать форт Дюкень.
«Все пропало, — восклицал полковник, — все рухнуло! Наше предприятие не удастся, нынешней зимой мы остановимся у Лаврового Холма (пункт на пути к Дюкеню. — Н. Я.), но не для того, чтобы пожать лавры (если не считать тех лавров, которые растут в горах)». Он почти отчаялся и в этот момент получил письмо от Салли. Она наконец ответила на одно из его бесчисленных посланий и, наверное, если судить по ответу Вашингтона — знаменитому письму от 12 сентября 1758 года, — поддразнила: он торопит с кампанией, ибо сгорает от желания обладать Мартой.
Последняя капля переполнила чашу. Джордж отвечает 12 сентября тем письмом, которое спустя более ста лет взволновало общину историков. «Ты, наверное, допускаешь, — писал он Салли, — что можно заслужить репутацию честного человека, выступая против нынешнего образа действия (при подготовке похода. — Н. Я.), но тут же полностью уничтожаешь мою уверенность, что я веду себя достойно, приписав мое беспокойство вдохновляющей перспективе обладать г-жой Кастис. Как в действительности обстоят дела, тебе говорить излишне, можешь догадаться сама». Затем последовали по необходимости туманные — он оставлял документ, писанный своей рукой, — заверения в любви, ибо «ты заставила меня или скорее я заставил себя признать этот простой факт». В заключение меланхолического письма Джордж написал: «Жизненный опыт — увы! — прискорбно напоминает, что возвращение к прошлому невозможно, и укрепляет мое давнее убеждение — даже сверхусилия человека не могут изменить судьбу, властную над нами».
От печальных дел сердечных вновь к не менее плачевному, по мнению полковника, состоянию дел военных. Небо затянули тучи, шел октябрь. Съехались наконец сашемы индейских племен. Девятнадцать дней в английском лагере раздавались их церемонные речи. Превозмогая болезнь, Форбс терпеливо слушал, надеясь на то, что удастся вбить клин между французами и их союзниками. Он не скупился на подарки и порох для орудийных салютов. Наконец индейцы разъехались, дав не очень определенные обещания.
В слякоть, под проливным дождем отважное воинстпо тронулось в путь, бросая увязшие по ступицы в грязи интендантские фуры. Вашингтон едва скрывал свое удовлетворение — события развивались именно так, как он и предсказывал. Разве не торопил он с выступлением в поход, разве не убеждал, что вести переговоры с индейцами безрассудное расточительство времени?
Смертельно больной Форбс командовал операцией с носилок, подвязанных между двумя лошадьми. Сомнения терзали командиров — высказывались предложения остановиться на зимние квартиры, не доходя до форта.
Мрачным осенним днем Вашингтон подвергся, как он запомнил до старости, «самой большой опасности» за всю жизнь. Со стороны авангарда — части вирджинского полка — внезапно раздалась частая пальба. Форбс послал Вашингтона с подкреплением. В пустом лесу их встретил интенсивный огонь. Полковник сначала опешил, но быстро разобрался — вирджинцы стреляли по своим. Вашингтон бросился между отрядами, требуя прекратить огонь, ударами шпаги по мушкетам и головам приводя в чувство рьяных стрелков. Итог — 14 убитых, 26 раненых, а противника поблизости нет.
Смелость Вашингтона произвела впечатление на Форбса. Он назначил его командовать передовой дивизией в 2500 человек, без обоза, с несколькими легкими орудиями. Вашингтону присвоили ранг бригадного генерала и приказали форсированным маршем идти на проклятый форт. Форбс получил обнадеживавшую информацию, что там остался небольшой гарнизон, покинутый индейскими союзниками. Дивизия Вашингтона выступила в лютую стужу по бездорожью, к тому же выяснилось, что точный маршрут неизвестен, а впереди еще 80 километров.
Утром 25 декабря 1758 года кавалькада офицеров во главе с Вашингтоном выехала из леса. Перед ними простиралась унылая зимняя равнина, темная река Огайо, еще свободная от льда. На берегу дымились развалины — французы взорвали и сожгли форт Дюкень, а сами накануне бежали в лодках по реке. «Овладение этим фортом чрезвычайно удивило всю нашу армию, мы не можем не отнести это только за счет их слабости, недостатка провианта и дезертирства индейцев», — доложил Вашингтон.
Он достиг своей цели, но далеко не так, как ожидал. Без борьбы вирджинцы ходили по пеплу вражеской фортеции. На долю Вашингтона выпала честь поднять английский флаг над развалинами. Победители переименовали укрепление, назвав его форт Питт (ныне город Питтсбург), оставили для восстановления палисада и охраны 200 человек и поспешно тронулись в обратный путь.
Вашингтону было над чем поразмыслить — предприятие преуспело вопреки всем его советам. Он оказался кругом не прав, а презираемый им Форбс проявил качества прекрасного военачальника. Генерал ничего не упустил, организуя марш, сумев, помимо прочего, дипломатическими маневрами нейтрализовать союзных французам индейцев. Форбс, с блеском выполнив возложенную на него королем миссию, отправился в Филадельфию умирать, Вашингтон — в Вильямсбург жениться.
Прослышав об уходе командира в отставку, офицеры полка обратились к Вашингтону «с почтительным адресом», прося остаться на службе «еще год и вести нас, дабы довершить славный разгром врага». Офицеры воздали неслыханную похвалу полковнику, «отличному командиру, искреннему другу, приятному товарищу! Человека, наделенного всеми этими качествами, встретить величайшая редкость. Невыразимо тяжка утрата его! Прощай то отличие, которое неприятель оказывал нам среди всех войск. И где найти другого… способного отстоять столь доблестно воинскую честь Вирджинии?» Под документом подписались 27 офицеров.
В «прощальном послании» офицерам вирджинского полка Вашингтон писал: «Я попытаюсь проявить благодарность, которая составляет немалую часть характера человека, которого Вам было приятно похвалить… Тот факт, что в течение ряда лет (в необычайно трудных обстоятельствах, которые до конца познали только немногие) я мог своим поведением удовлетворить Вас, приносит мне величайшую радость, ибо я почти отчаялся в достижении этой цели. Трудно быть приятным, когда приходится действовать в неприятных обстоятельствах!.. Мне хвастаться нечем, разве неукоснительной честностью, что я сделал неуклонным правилом всех моих действий… Если бы все вели как Вы, делая все, чтобы удовлетворить меня, мне бы не пришлось познать то горе, которое я испытываю, прощаясь с полком, разделявшим мои труды и перенесшим все трудности и опасности, выпавшие на мою долю. Однако тут встают воспоминания, омрачающие мой разум, которые я должен предать забвению».
Так писал товарищам по оружию 26-летний полководец, утомленный пятилетними трудами в защите родины. Хотя война в Северной Америке продолжалась еще два года, Вашингтон к 1 января 1759 года покончил, как ему казалось навсегда, с военной службой. Ибо в «прощальном послании» он заверял соратников, что их высокая оценка его как командира вирджинского полка «составит величайшее счастье моей жизни и до гробовой доски будет пробуждать приятнейшие воспоминания».
Оборудуя для новой жизни Маунт-Вернон, Вашингтон сразу же заказал в Лондоне шесть бюстов — Александра Македонского, Юлия Цезаря, Карла XII, Фридриха II, принца Евгения Савойского и герцога Мальборо. Торговец не смог подобрать комплект означенных полководцев, предложив компенсировать нехватку бюстами поэтов и философов. Вашингтон отказался наотрез. Он не хотел видеть перед собой штатских в мраморе.
ПЛАНТАТОР И ПАТРИОТ
Теперь я навсегда осел здесь (в Маунт-Верноне) с приятнейшими удобствами для жизни и надеюсь в отставке обрести большее счастье, чем испытал в большом и бурном мире.
Д. ВАШИНГТОН, 1759 год
О том, как сочетались браком Джордж Вашингтон и Марта Кастис, известно точно только одно — это случилось 6 января 1759 года. В анналах семьи сохранился рассказ, записанный со слов слуги спустя шестьдесят лет.
«Великое было веселье в тот великолепный век старой Вирджинии, и многие собрались на свадьбу — лучшие, великие, одаренные и веселые, а вся Вирджиния радостно приветствовала молодого героя, ставшего богатым и счастливым женихом». «Вашингтон выглядел мужчиной, настоящим мужчиной, а, Калли?» — «Никогда не видел никого похожего на него, сэр, и нет таких, хотя я видел многих на моем веку. Такой высокий, такой стройный, как он сидел на коне! Да, сэр, ему не было подобных! На свадьбе было множество великолепных джентльменов с золотыми галунами, но никто не выглядел как он!»
Уже в начале XIX века свадьба Вашингтона относилась к числу легендарных, полузабытых свершений. Наверное, то был большой праздник в Белом доме. Хозяйка, вся в бриллиантах, смотрела снизу вверх сияющими глазами на великолепного жениха, явившегося в сопровождении губернатора Вирджинии. Собралось множество гостей, представлявших сливки общества колонии. Радостные поздравления и слезы умиления — дети вдовы обретали отца.
Истек положенный медовый месяц, и Вашингтон занял свое место в ассамблее Вирджинии. В. Ирвинг на основании писем современников воссоздал для читателя прошлого века первое появление Вашингтона в зале ассамблеи. Герой не смог незаметно сесть в кресло. Спикер Робинсон поднялся и произнес цветистую речь, возблагодарив воина от имени колонии за выдающуюся службу. Вашингтон приподнялся, чтобы ответить, но действие, а не слова были привычнее. Он покраснел, попытался подыскать приличествующие случаю выражения и, окончательно смешавшись, смолк. Спикер пришел на помощь, воскликнув: «Садитесь же, мистер Вашингтон, садитесь! Ваша скромность равна вашей доблести, которая превосходит все мое ораторское искусство!» Молодой человек с величайшим облегчением плюхнулся в кресло.
Ассамблея единодушно приняла благодарственный адрес Вашингтону за «верную службу Его Величеству и Вирджинии, мужественное и твердое поведение с начала военных действий против французов и индейцев и до отставки после счастливого овладения фортом Дюкень».
Итак, он решил прожить до конца дней своих плантатором. Что до служения обществу — членство в ассамблее Вирджинии с лихвой перекрыло честолюбивые чаяния отставного военного. Ему предстояло провести так шестнадцать лет. То были спокойные, счастливые годы.
Брак с Мартой дал Джорджу не только громадное состояние. Маленькая женщина создала Вашингтону семью, которой он, в сущности, никогда не имел. Джорджу еще не минуло тридцати лет, а он был патриархом, неограниченным правителем крошечной империи, на вершине которой находилась его семья. Если так, тогда прежде всего вести образ жизни, подобающий положению. В этом отношении Вашингтон старался быть джентльменом до последней пуговицы на всегда наимоднейшей одежде. Иной он не признавал.
Дом в Маунт-Верноне был значительно расширен, но не перестроен. Вашингтон удовлетворился добавлением крыльев к старому зданию. Семья прославилась своим гостеприимством, далеко превысив немалые по принятым в старой Вирджинии нормы приема гостей. С 1768 по 1775 год, например, в Маунт-Верноне побывало свыше 2000 гостей. Многие из них задерживались на день, два, а то и на неделю. Когда, что бывало чрезвычайно редко, супруги обедали одни, они, по словам хозяина, находили столовую «пустой, незнакомой и печальной». Жили на широкую ногу — держали двадцать слуг.
Выезды обставлялись с большой торжественностью. Марта восседала в элегантном экипаже, запряженном четверкой. На козлах кучер-негр, на запятках лакей в ливрее. Вашингтон сопровождал жену верхом. Иногда посещали соседей-плантаторов на берегах Потомака. Тогда пользовались причудливо разукрашенной баркой с шестью гребцами-неграми. Экипажи были предметом особой заботы Вашингтона — в Англии неизменно заказывались самые модные и, естественно, самые дорогие.
Три четверти дневников Вашингтона, которые он вел с величайшей пунктуальностью эти шестнадцать лет между войнами, сохранились, и по ним историки без труда воссоздали быт элегантного плантатора XVIII века. Из итоговой записи в дневнике «Где и как я проводил свое время» видно, например, что в 1768 году он провел сорок девять дней, охотясь на лис, пятнадцать раз посетил церковь, часто ездил в гости и принимал гостей, побывал на двух балах, трех театральных представлениях, охотился на уток и много играл в карты.
Великая страсть Вашингтона — охота — вызвала у него неиссякаемый интерес к разведению лошадей. Он содержал первоклассную конюшню, а псарня Маунт-Вернона служила предметом зависти соседей. Ни один петушиный бой в округе не проходил, чтобы на нем не видели Джорджа, — степенный плантатор совершенно преображался, азарт овладевал им. Другого Вашингтона видели и на скачках.
Захватывали Вашингтона и карты. За карточным столом он был готов встретить утро. Увещевать его было бессмысленно. Всегда сдержанный, он давал страстям волю в карточной игре, хотя никогда не делал крупных ставок. Учет выигрышей и проигрышей в дневнике выглядит сбалансированным активом и пассивом аккуратной бухгалтерской книги. Та же страсть, которая тянула Вашингтона к карточному столу, овладевала им на танцах. Весьма зрелым человеком он любил бесконечно танцевать, находя даже сходство танцев с войной, хотя па на паркете, конечно, «более изящный конфликт».
Меньше всего богатый плантатор был ригористом. В духе просвещенного XVIII века он понимал и терпел слабости других, особенно дружбу с зеленым змием. Сам он, конечно, не был трезвенником, но ограничивался стаканом-другим вина или благословенного вирджинского тодди. Зато он любил угощать друзей. В Маунт-Верноне, как и в любом другом доме плантатора, спиртное лилось рекой. Иногда нежданно-негаданно с шумом и криком вваливалась пьяная компания. Джордж и Марта радостно приветствовали всех, даже буйных во хмелю. А после успешной охоты на лис напивались.
«Приехал доктор Лори, могу добавить — пьяный», — помечает Вашингтон в дневнике, не уточняя: доктора пригласили пользовать занемогшую Марту. Вашингтон философски относился к недостаткам других: «Мы должны принимать людей, какие они есть, ибо мы не можем переделать их по-своему». Философия не абстрактная, доказательство тому — договор о найме искусного садовника Филиппа Бейтера, но, увы, алкоголика. Бейтер брал на себя письменное обязательство «не напиваться до потери сознания, кроме нижеследующих случаев», а Вашингтон согласился давать ему «четыре доллара каждое рождество; на них он может пить четыре дня и ночи, два доллара на пасху на указанные цели, еще два доллара на троицу — пить по два дня». Остальное время Бейтер обязывался не превышать «доброго глотка поутру и порции грога за обедом или в полдень».
Впрочем, Вашингтон признавал практическую пользу алкоголя, прежде всего для обеспечения победы на выборах. На протяжении шестнадцати лет он регулярно переизбирался в ассамблею сначала от округа Винчестер, а затем от округа Фэрфакс, на территории которого находился Маунт-Вернон. На каждых выборах он тратил от 40 до 75 фунтов стерлингов, основная статья расходов — оплата массовой и массированной выпивки. Коль скоро избиратели были только мужчины, выборы превращались в грандиозную попойку, кульминационным пунктом которой бывал бал после подсчета голосов. Законы Вирджинии не могли положить конец этой практике. Потребовалась очистительная буря революции, чтобы алкоголь перестал быть основным орудием избирательной кампании.
Хотя Вашингтон уважительно говорил: «Книга является основой, на которой строятся знания, почерпнутые в повседневной жизни», он не был замечен в прилежном чтении. Вероятно, в Маунт-Верноне была порядочная библиотека, во всяком случае, Вашингтон, стремившийся к законченности, заказал в Лондоне пятьсот переплетов, попросив вытиснить на обложках свой герб. Уже в этом желании добиться совершенства внешнего вида библиотеки можно усмотреть приверженность Вашингтона к стоикам. В изучении самой философии он едва ли продвинулся дальше бесед в юности с Уильямом Фэрфаксом, ибо ни латыни, ни греческого он не знал.
Демиурги мифов о Вашингтоне, конечно, приписывали ему глубокую веру в бога. Ничего не может быть дальше от истины. Он предпочитал посвящать воскресенья письмам, а не расточать время в церкви. Как богатый плантатор, он стал членом приходского совета местной церкви, но отнюдь не отдавался рьяно возложенным на него обязанностям. В религии Вашингтон ценил прежде всего ее практическое значение — цивилизующее влияние на колониальное общество. Среди многочисленных друзей и сотен людей, с которыми он поддерживал переписку, не было ни одного священника.
Религиозное вероисповедание в его глазах не имело решительно никакого значения. Касаясь найма на работу иммигрантов, он писал: «Если они хорошие работники, то безразлично, откуда они приехали — из Азии, Африки или Европы. Пусть они будут магометанами, иудеями, христианами, сектантами или атеистами». К торжественным проповедям в церкви Вашингтон относился с изрядной долей насмешки. Сославшись на то, что уж так устроена жизнь, Вашингтон писал Лафайету: «Я не ханжа в отношении того или иного вероисповедания, но склонен более терпимо относиться к профессорам христианского учения, утверждающим с кафедры, что их дорога на небеса самая прямая и легкая».
Разве истово верующему могло принадлежать шутливое письмо, написанное Вашингтоном шурину: «Многоуважаемый сэр, вы облагодетельствовали меня своим посланием в некий день 25 июля, когда вы должны были быть в церкви, молясь, как подобает доброму христианину, который за многое в ответе. Странна ваша слепота к истине, и очистительные строки евангелия не могут дойти до вас, а достойные примеры не пробуждают в вас благолепия. Если бы видели, с каким религиозным трепетом я несусь в церковь каждый божий день, это облагородило бы ваше сердце и, надеюсь, наполнило бы его таким же почитанием бога. Но увы! Мне сказали, что вы ввели в вашу семью некое совершенство и совсем потеряли голову, обозревая ее пропорциональное сложение, ее легкость и великую доступность. Вследствие этого полагают, что у вас не остается времени на размышления о будущем ваших посевов. Как же это совместить с требованиями чрезвычайного внимания и заботы, абсолютно необходимых в то время, когда наше растущее благосостояние — я разумею табак — подвергается нападениям всех вредоносных насекомых, известных со времени Ноя (коль скоро я помянул Ноя, присовокуплю — воистину он поступил неблагородно, отведя место и этим тварям в ковчеге)…»
Перед нами предстает добродушный балагур, а не человек, обуреваемый религиозными чувствами. Вашингтон, конечно, верил, что обычно не только для XVIII века, но не в бога (его он избегал поминать, обычно говорил, как Сенека, о «провидении»), а в судьбу. Абстрактно он был деистом, в жизни фаталистом; что произойдет и как, писал Вашингтон, «известно лишь великому правителю над событиями, полагаясь на его мудрость и святость, мы можем с полнейшей безопасностью ввериться ему, не утруждая себя поисками того, что лежит за пределами человеческого разумения, заботясь лишь о том, чтобы выполнить выпавшую на нашу долю роль так, как это одобрят наш разум и совесть».
По разуму и совести он выполнял обязанности главы семьи. Брак, заключенный как деловая сделка, с годами наполнялся эмоциональным содержанием. Марта в ответ на заботу о детях, о ней и ее делах платила Джорджу горячей привязанностью. Она была очень неглупой женщиной, знавшей не только как вести себя с кажущейся простотой, но и все обязанности хозяйки большого дома. Налицо были не только внешние атрибуты — позвякивающая на поясе связка ключей. Она уверенно правила домом и была великим мастером кулинарии. А последнее в те времена обеспечивало реноме дому. Посылая бочонок ветчины Лафайету, Вашингтон приписал: «Вам нужно знать, что дамы в Вирджинии оценивают друг друга по доброкачественности изготовленной ими ветчины». Под бдительным оком Марты получались окорока, таявшие во рту.
Треть состояния Марты перешла Джорджу, остальные две трети делились поровну между ее сыном и дочерью. Опекун имущества несовершеннолетних, Вашингтон с величайшим рвением исполнял выпавший на его долю долг. Он значительно приумножил состояние Джеки и Патси. Бездетный Вашингтон и Марта, безумно любившая своих детей, вконец избаловали обоих. В Англии ящиками заказывались самые дорогие игрушки. Сохранился рассказ о том, как разъяренный Вашингтон в сопровождении плачущей шестилетней девочки перерыл груз корабля, пришедшего из Англии, — торговец забыл прислать куклы. Когда сыну Марты исполнилось четырнадцать лет, он после длительных уговоров был послан в лучшую частную школу Вирджинии.
Заботливый глава семьи писал ректору, что мальчик явится в сопровождении слуги и двух лошадей, «мы с радостью будем приплачивать в год дополнительно 10–12 фунтов стерлингов, чтобы вы особо заботились о нем, ибо он многообещающий мальчик, последний в семье, и будет владеть очень большим состоянием. Добавьте к этому мою заинтересованность в том, чтобы он занимался в жизни более полезными делами, чем скачки».
Радужные надежды Вашингтона, связанные с сыном Марты, а он поначалу испытывал к нему отцовские чувства, не сбылись. Почти каждый раз юноша возвращался с каникул в школу с опозданием. Вашингтону приходилось неизменно извиняться перед ректором. Как он писал в 1770 году: «Помыслы (Джеки) почти не направлены на учебу, он занят собаками, лошадьми и ружьями…» Ректор, в свою очередь, отчаявшись наставить ученика на путь науки, сообщил семье: «Я должен признать, что за всю свою жизнь никогда не видел такого ленивого и сластолюбивого отрока. Природа, наверное, предназначила ему быть азиатским князьком».
Джеки очень рано женился, и Вашингтон с облегчением избавился от забот о его состоянии, которое за время опеки заметно возросло — Вашингтон передал приемному сыну 6 тысяч гектаров земли, около 250 негров-рабов и счет в английском банке, достигавший 10 тысяч фунтов стерлингов. Оставшуюся часть своей короткой жизни Джеки провел богатым бездельником. Джон Парк Кастис никогда даже отдаленно не заменил Вашингтону сына, которого он страстно желал. Неистраченные отцовские чувства Вашингтон проявлял в последующие годы, приближая к себе способных молодых людей.
Приемная дочь Патси, бесконечно привязанная к Вашингтону, в какой-то мере компенсировала эгоизм брата. Даже циники умолкали, глядя на отчима с приемной дочерью. Их часто видели вместе — громадный добряк Вашингтон с каким-то непонятным выражением глаз и хрупкая больная девочка — в двенадцать лет у нее случился первый эпилептический припадок. Несмотря на все заботы, бессчетные траты на врачей, болезнь прогрессировала. В 17 лет в июне 1773 года Патси не стало.
Вашингтон говорил о смерти ее в письме родственнику в необычном для него духе: «Легче представить, чем описать, горе семьи, особенно несчастных родителей нашей дорогой Патси Кастис, когда я сообщаю вам, что вчера прелестная невинная девочка ушла в более счастливый и тихий мир, чем та тропа мучений, по которой она шла до сих пор. После обеда около четырех часов она пребывала в лучшем здоровье и состоянии духа, чем случалось в последнее время. Тут ее настиг обычный припадок, и менее чем за две минуты она испустила дух, не вымолвив ни слова, не издав стона и даже глубоко не вздохнув. Внезапный и неожиданный удар, стоит ли мне добавить, вверг мою добрую жену в мрачные глубины отчаяния…»
Девушка, застенчивая и добрая при жизни, доказала свою любовь к отчиму, после смерти выяснилось, что она оставила завещание, отдав все Вашингтону. Он разделил полученное поровну с братом Патси.
Что бы ни утверждала легенда и даже иные компетентные американские историки, Вашингтон не был первым богачом колонии. Десятки плантаторов были богаче его. Но трудно было сыскать в Вирджинии другого столь рачительного хозяина, стремившегося умножить законными средствами доставшуюся ему собственность. По натуре Вашингтон был организованным человеком, склонным к методической работе. В Маунт-Верноне эти качества его характера расцвели. Первое, что он сделал, став плантатором, — выписал из Англии кучу книг, касавшихся агротехники, особо выделив труд «Система сельского хозяйства или быстрый способ разбогатеть».
Книги эти читались и перечитывались, а из специальных сочинений он делал длинные выписки, скорее всего чтобы лучше запомнить содержание и усвоить рекомендации. Большую часть дня Вашингтон был в работе — с четырех утра, когда он вставал. Очень скоро он уяснил, что в управлении плантацией можно полагаться только на себя. Рабский труд был малопроизводителен, следовательно, нужны энергичные надсмотрщики, которые, в свою очередь, требовали глаза хозяина. Рабство не пробуждало в Вашингтоне, богатом вирджинце XVIII века, каких-либо высоких соображений морального порядка. Он относился к этому институту как к принятой и одобренной всеми системе ведения хозяйства.
Негры для Вашингтона были, конечно, не людьми, а собственностью, орудиями труда. Тому, помимо прочего, учили почитаемые им древние. Если так, тогда нужна забота о них в такой же мере, как содержание в порядке сельскохозяйственного инвентаря или сохранение плодородия почвы. Маунт-Вернон был маленькой деревней, дом владельца окружали хижины рабов. Вашингтон следил за тем, чтобы негры были сыты, не болели — ежегодно возобновлялся контракт с местным врачом, лечившим их, — не разводили грязи вокруг своих жалких жилищ. Многие из негров, которых покупал Вашингтон, укрепили его в убеждении, что они отнюдь не люди, ибо несчастные попадали на плантацию прямо с борта кораблей работорговцев и не умели изъясняться по-английски.
Если негр умирал, Вашингтон аккуратно помечал денежный убыток в деловых книгах. И все. В общем, он терпимо относился к рабам, на плантации едва ли были случаи крайней жестокости. Плеть в счет не шла, считалось, что это универсальное, абсолютно необходимое средство воспитания и поддержания дисциплины. Хотя впоследствии Вашингтон несколько по-иному стал смотреть на проблему рабства. В 1766 году, посылая на продажу в Вест-Индию раба по имени Том, он не выходил за рамки обычной практики. Названный Том, указывал Вашингтон в письме-поручении капитану на продажу, «бездельник», которого надлежит держать в кандалах. «Он очень здоров и силен, что дает мне основания надеяться, что вы при должной распорядительности сумеете взять за него хорошую цену, конечно, предварительно вымыв его и подрезав ему волосы». На деньги от продажи Тома Вашингтон поручал привезти бочку патоки, бочку рома, два ящика засахаренных фруктов и так далее.
Если оперировать современной терминологией применительно к XVIII веку, то хозяйство в Маунт-Верноне велось на научной основе. Вашингтон был неутомимым экспериментатором, стремившимся всеми методами повысить свои доходы. Его дневники пестрят записями о различных опытам и их результатах. Он приказал плотникам сделать «громадный ящик» с десятью отделениями, в каждое из которых была насыпана земля с разных участков и удобрена лошадиным, коровьим и овечьим навозом. Посев пшеницы, овса и ячменя на равную глубину «был проведен с помощью машины, сделанной для этой цели… Я поливал все отделения одинаково водой, взятой из бочки, простоявшей на солнце два часа». Определенных результатов Вашингтон не получил.
То он изобретает специальный плуг, который изготовляют рабы-кузнецы, то проводит день, хронометрируя производительность труда плотников. Совершенно правильно заключив, что рабский труд непроизводителен, Вашингтон пытается увеличить число арендаторов. Он полагал, что первоначальные вложения на дома, скот и инвентарь окупятся сторицей. В Маунт-Верноне широко использовали «кабальных слуг» — белых бедняков, отрабатывавших долги, в первую очередь стоимость переезда в Америку.
Более полутораста лет благосостояние плантаторов Вирджинии зиждилось на возделывании табака. Когда Вашингтон занялся сельским хозяйством, все его плантации были ориентированы на эту монокультуру. Молодой владелец решил выращивать самые лучшие сорта, известные в долине Потомака. Решение серьезное, свидетельствовавшее о незаурядной силе воли и уверенности в себе. Организация и успешное ведение табачных плантаций было делом необычайно трудным. Урожай во многом зависел от капризов погоды, искусства сбора, сушки и упаковки табака, не говоря уже о постоянном биче — вредителях. Отставной полковник самоуверенно считал, что сумеет лучше справиться со всем этим, чем соседи. Недаром он выписал из Лондона ученые книги. Помимо их и силы характера, Вашингтон полагался на более осязаемое — он вложил в дело значительные средства, полученные от брака с Мартой.
Нет сомнений в том, что он сделал очень много, как совершенно ясно и то, что уже в 1761 году молодой плантатор оказался в трудном финансовом положении, задолжав лондонским торговцам две тысячи фунтов стерлингов. Это противоречило всем представлениям Вашингтона о ведении дел, он дебютировал с сообщением лондонскому торговому дому «Роберт Кэри и К°»: «Мое отвращение к тому, чтобы быть должником, навсегда защитит меня от этой возможности». Теперь он выражал изумление, как это могло случиться, предположив, что табак из Маунт-Вернона продается по более низким ценам, чем доставлявшийся с других плантаций. «В Вирджинии, — писал он Кэри, — нет другого плантатора, который бы тратил столько усилий, сколько я, чтобы получать самые лучшие сорта табака, и совершенно несправедливо, что я лишен должного вознаграждения». Торговый дом Кэри бесцеремонно ответил, что задолженность Вашингтона, а следовательно, и проценты на нее растут.
Он не мог ничего понять. Приданое Марты таяло, табак не приносил ожидавшихся доходов. Жизнь Вашингтона-плантатора вошла в полосу мучительных раздумий. Пока он не мог ничего придумать, кроме сокращения закупок в Англии и введения экономии в собственном хозяйстве. Вероятно, заключив, что обращение с наличными деньгами требует осмотрительности, Вашингтон поделился вновь открытой истиной с приемным сыном: «Наличные деньги растают, как снег под лучами жаркого солнца, и ты так и не поймешь, куда они девались».
Вашингтон получил чувствительный удар по самолюбию и карману, он искал и не находил выхода. Плантатор винил себя, а винить следовало колониальную политику метрополии. Дело было не в промахах Вашингтона (таковых почти не было), а в законах английского парламента и сложившейся на основании их практике торговых сношений Англии с колониями в Америке. Имелось в виду ущемить именно плантатора типа Вашингтона.
Табак, возделывавшийся в Вирджинии, запрещалось вывозить непосредственно потребителям в другие страны, а надлежало сначала доставить в английский порт, хотя в конечном счете континентальная Европа поглощала две трети вирджинского табака. Плантатор мог продать табак только британскому купцу и отправить его только на английском корабле. Он не мог приобрести нигде товаров, кроме Англии, товары любых других стран предварительно поступали в английские порты, где они перегружались на корабли, следующие в Америку.
Вирджинские плантаторы при сбыте своей продукции всецело зависели от английских торговых домов. Табак, погруженный на судно, отправлявшееся через Атлантику, оставался собственностью плантатора, и он нес весь риск при доставке груза. На его долю выпадали все расходы — ввозные пошлины, стоимость фрахта, страховка, оплата хранения, определение качества табака, погрузки, разгрузки и доставки к месту продажи. Производитель возмещал все убытки, случавшиеся с товаром во время этих многочисленных операций. Все эти расходы английский торговец вычитал из суммы, вырученной от продажи табака.
Обычно вместе с грузом табака плантатор посылал список потребных ему товаров, которые доставлялись с обратным рейсом судна. Заказанное, естественно, выбиралось за глаза, плантатор не мог знать качества посылавшихся ему изделий или оспорить цену. Так протекал этот товарообмен, принявший в описываемое время значительный размах — ежегодно в Чезапикский залив входило около 120 кораблей, забиравших из Вирджинии и Мэриленда 45 тысяч тонн табака.
Очень часто случалось так, что низкие цены на табак в Англии не покрывали расходы по доставке и стоимость заказанных товаров. Плантатор, не имевший возможности при тогдашних средствах связи узнать об этом, не мог маневрировать. С обратным кораблем он получал заказанные им товары и уведомление о размерах предоставленного торговцем кредита. Долг с большими процентами приходилось погашать из стоимости урожая следующего года. Случалось и так, что стоимость партии табака не покрывала даже различных сборов. Их уплачивал торговец, увеличивая долг плантатора. Средства на расширение плантации, покупку рабов приходилось черпать у того же лондонского купца, предоставлявшего краткосрочные займы. Поскольку плантатор не мог выплатить их, в обеспечение шло его недвижимое имущество. Краткосрочная задолженность превращалась в долгосрочную закладную, а проценты по ней в первую очередь и взыскивались с каждой партии табака.
Коль скоро плантатор попадал в зависимость к кредитору, он не мог выбирать между различными торговыми домами и был навсегда прикован к одному торговцу, оказываясь полностью в его власти при определении условий продажи продукции. Петля долга все туже сжималась на шее плантатора, подвергавшегося беззастенчивому грабежу (различные платежи поглощали до 80 процентов стоимости табака).
Выхода из заколдованного круга почти не было, ибо в Англии приходилось приобретать предметы первой необходимости. При организованном таким образом товарообмене, буквально натуральном, плантатор за всю свою жизнь мог не видеть крупной суммы наличных денег. Бумажными деньгами, имевшими хождение в Вирджинии, были квитанции на товар, выдававшиеся английскими инспекторами при погрузке табака на корабли. Из Англии не поступало валюты, в колонии расплачивались французскими луидорами, испанскими пистолями, португальскими моидорами и голландскими дублонами, часто находившиеся в обращении монеты из благородных металлов были испорчены. По оценке Джефферсона, долг Вирджинии английским купцам в канун революции достиг двух миллионов фунтов стерлингов, что в двадцать пять раз превышало стоимость всей валюты, имевшейся в колонии. По его словам, вирджинские плантаторы были «всего-навсего придатком к собственности торговых домов в Лондоне».
Жертвой хорошо отработанной системы и стал Вашингтон, ведший дела с английской фирмой «Роберт Кэри и К°». В сотнях писем в Лондон нет и намека на то, что он был хоть в малейшей степени удовлетворен их услугами. Одни жалобы и претензии, которые, конечно, не удовлетворялись: то не пришел корабль забрать табак, то ему пришлось заплатить больше за фрахт, чем другим. Партия табака была испорчена в пути через Атлантику. Вашингтон писал, что он не виноват: «Я могу доказать, что в трюме корабля было двенадцать-пятнадцать дюймов дождевой воды, поэтому только чудо могло спасти табак». Бесполезно. В другой раз он оспаривал высокую страховку — «лучше рискнуть потерей всего груза… чем расстаться с такой большой долей нынешнего урожая для сохранения оставшейся части».
Урожай одного года был продан за треть цены, на следующий «фрахт и иные сборы почти поглотили сумму, вырученную от продажи». В 1768 году он подытожил: «Из пяти лет четыре я остался в убытке, получая в Англии меньше, чем мне предлагалось здесь».
Товары, заказанные в Англии, приводили его в отчаяние. Он заподозрил, что стоило английским торговцам узиать, что у них приобретают на экспорт, как они накладывают десять-двадцать процентов и стараются сбыть хлам. По поводу партии, полученной в 1760 году, Вашингтон с горькой иронией писал: «Шерстяные, хлопчатобумажные ткани, гвозди и т. д. низки по качеству, но не по цене, в этом отношении они превосходят все известное мне». Заказанные сита — «бесполезные деревяшки». Зачастую ему присылали вещи разбитыми по дороге или без важных частей. Вашингтон, любивший все наимоднейшее, жаловался Кэри, что получает «вещи, бывшие в моде у наших предков, при царе Горохе». А плантатору меньше всего хотелось выглядеть шутом. Между тем комплект одежды, как-то полученный им, наилучшим образом подошел бы для человека этой профессии, но не для вирджинского джентльмена.
Для революционера злоключения в руках алчных лондонских купцов были бы достаточным поводом, чтобы отрицать самые основы несправедливого порядка. На них уравновешенный Вашингтон не замахнулся, а поступил проще — он решил добиться экономической независимости от Англии в доступных пределах — только для Маунт-Вернона. Подсчитав к середине шестидесятых годов актив и пассив, он расстался с табаком.
Уже с 1763 года в Маунт-Верноне проводили пробные посевы пшеницы, через пять лет Вашингтон перестал возделывать табак на землях у Потомака, и пшеница стала основной культурой. Он построил большую мельницу и к концу шестидесятых годов стал крупным экспортером муки в Вест-Индию и сбывал ее на местном рынке. Для скота и рабов он засеял порядочную площадь кукурузой. Первый шаг к достижению независимости от английского рынка был сделан — из Вест-Индии он получал сахар, ром, кофе, фрукты, орехи и — что имело первостепенное значение — наличные деньги.
Избавившись в основном от лондонских посредников, Вашингтон куда как круто повел дело — он сбывал муку через фирму в соседнем городке Александрии. Хотя фирма возглавлялась родственником Фэрфакса, стоило ей допустить, по мнению Вашингтона, ошибку, как он официальным письмом сообщает руководителям фирмы: «Либо вы оба идиоты, либо полагаете, что я — жулик, находящийся на вашей службе». Он восстановил справедливость, получив с фирмы причитавшиеся деньги.
Потомак изобиловал рыбой. Вашингтон превратил рыболовство в процветающую отрасль своего хозяйства. Переход от трудоемкой культуры табака к пшенице высвободил рабочие руки. Часть рабов рачительный хозяин превратил в рыбаков. В Маунт-Верноне завели небольшой рыболовецкий флот — с десяток лодок и даже шхуну, построенную на примитивной верфи плантации. Сиг вылавливался десятками, а сельдь сотнями тысяч штук. Сельдь засаливалась в бочках, придерживалась на складе и продавалась по весне, когда устанавливалась хорошая цена. Значительная часть улова экспортировалась в Вест-Индию.
В Маунт-Верноне, как на любой другой плантации, были ремесленники: ткачи, кузнецы, обслуживавшие нужды хозяйства. Вашингтон думал не только о том, чтобы превратить плантацию в самообеспечивающуюся единицу, но и о продаже изделий на сторону. Очень скоро он доказал, что можно производить шерстяные и хлопчатобумажные ткани, кожаные изделия дешевле, чем стоили эти товары, ввозившиеся из Англии. Плантатор изыскивал всевозможные способы, чтобы получить наличные деньги: большая пекарня, построенная в Маунт-Верноне, снабжала корабли, уходившие в долгое плавание через океан, галетами из муки собственного помола, полученной из пшеницы, собранной на полях его плантаций.
Практика Вашингтона шла вразрез с политикой метрополии, восходившей к XVII веку, — всевозможным запретам на развитие в колониях промышленности и ремесел. В Вирджинии Вашингтон оказался новатором, сумев делами показать, как можно сбросить иго британских купцов, поддерживаемых всей мощью короны. Его задолженность торговому дому Кэри резко уменьшилась. Соседи только дивились успехам Маунт-Вернона, которые покоились прежде всего и больше всего на том, что Вашингтон вел дело твердой рукой с военной точностью. Он любил и умел управлять. Плантатор, заботившийся только о собственной выгоде, выраженной предпочтительно в звонкой монете, вступил в единоборство с Британской империей. Достижение хозяйственной независимости было равносильно открытию боевых действий.
Он официально не объявил ей войны. В Лондоне, за исключением Кэри и К°, с досадой наблюдавших, как американец постепенно освобождается из долговых тисков, противник, если о нем и знали, выглядел бы ничтожной величиной. Дело было не в соотношении сил, а в столкновении принципов. Они были диаметрально противоположными. В эти годы, когда пламенные ораторы бичевали в тавернах тиранию метрополии, Вашингтон был с ними делами, последовательно направленными против Британской империи. За десять лет до первых орудийных залпов он начал войну за независимость на полях Маунт-Вернона, где дал первое сражение, оттеснив пшеницей табак.
В 1767 году Вашингтон советовал другу, впавшему в бедность, отправиться на запад, «где можно наверняка заложить основу хороших владений для твоих детей… Лучшие владения в нашей колонии и выросли на когда-то диких землях, приобретенных за бесценок, но теперь это наши лучшие земли». По завершении Семилетней войны, известной в Америке как «французские и индейские» войны, вирджинские плантаторы были твердо убеждены, что открылся волнующий тур захвата новых земель на западе. Парижский мир закреплял за Англией территории к востоку от Миссисипи, за исключением Нового Орлеана. Их английские колонии считали своей законной добычей. Вашингтон стал пайщиком компании Миссисипи, вознамерившейся выпросить у короны 1 миллион гектаров.
В Лондоне вынашивали другие планы. Английские купцы считали себя законными наследниками французской торговли мехами, которой промышляли отнюдь не жители колоний, а индейцы. На их охотничьи угодья и позарились вирджинцы. Лондонские толстосумы проявили пламенную заботу о племенах краснокожих, добившись издания королевского указа, запрещавшего заселение земель за истоками рек, впадающих в Атлантический океан. Потрясенным до глубины души плантаторам и иным — за что боролись! — Лондон хладнокровно объяснил, что действует-де в их лучших интересах: яростная вспышка воинственности индейских племен в 1763 году, известная как война Понтиака, указывает на необходимость уступок диким.
В Вирджинии чувствовали себя обобранными до нитки, рухнули надежды на расширение плантаций. Хотя корона отняла у колонии то, что ей не принадлежало, острота обиды не притупилась. Пока безуспешно оплакивались несправедливость и напрасно пролитая драгоценная кровь земляков, Вашингтон взглянул на вещи много спокойнее. К коварству англичан не привыкать, и он обзавелся удобной философией жизни, суть которой отчетливо видна из его инструкций доверенному землемеру У. Кроуфорду.
Владелец Маунт-Вернона приказал ему отправиться на запретную территорию и выбрать там «ценные земли, ибо я не могу относиться к указу иначе (между нами говоря), как к временной уловке для успокоения индейцев, от которой через несколько лет откажутся, особенно стоит индейцам согласиться на взятие нами земель. Если упустить представившуюся ныне возможность выискать хорошие земли, как-то отметив их для себя (чтобы другие не заселили их), значит навсегда утратить их… Рекомендую держать это дело в строжайшем секрете… ибо меня могут осудить за такое отношение к королевскому указу. Кроме того, если изложенный мною вам план станет известен другим, это возбудит у них тревогу, и они составят аналогичные планы (еще до того, как мы сможем заложить должное основание для собственного успеха), последует свалка между различными претендентами, что в конце концов сорвет всю комбинацию. Этого можно избежать, действуя тайком, делая вид, что все заняты совершенно другими делами».
Как и предвидел рассудительный плантатор, к исходу 1768 года новые договоры с индейцами ликвидировали запрет. Не теряя ни минуты, он бросился приобретать земли, прожив пять последующих лет в тяжкой лихорадке спекуляций. С давними надеждами на успех компании Огайо пришлось расстаться, она самоликвидировалась и влилась в такое же предприятие, основанное чужаками-пенсильванцами. Мечты, связанные с компанией Миссисипи, также не оправдались. Но оставалось достаточно — обязательство Динвидди выделить 80 тысяч гектаров солдатам, ходившим на форт Дюкень, королевский указ о предоставлении земель ветеранам французских и индейских войн и обещание компенсировать землями за убытки, причиненные войной Понтиака.
В 1769 году Вашингтон через газеты оповестил участников злополучного похода на запад пятнадцать лет назад о том, что он уладил дела с властями и им предстоит вступить во владение 80 тысячами гектаров в бассейне Огайо. Кое-кто из оставшихся в живых откликнулся на зов, другие давно утратили надежду на получение земель да и не хотели сниматься с мест ради сомнительных участков за дикими горами. Робкие живо представляли себе жизнь на уединенной ферме поблизости от мест, где покоилось тело Брэддока. Поэтому многие с благодарностью приняли предложение Вашингтона продать ему свои права. Цена была смехотворной. В результате из 80 тысяч гектаров 16 тысяч он закрепил за собой.
Какие участки брать, Вашингтон прекрасно знал; не полагаясь на труды преданного Кроуфорда, он отправился осенью 1770 года в двухмесячное путешествие. Джордж снова прошел по дороге Брэддока, а затем в каноэ проплыл около двухсот километров по Огайо.
Памятные места, пропитанная кровью земля, в которую вместе е Брэддоком полегли сотни товарищей по оружию, не вызвали у него никаких эмоций. В путевом дневнике Вашингтон деловито отметил: «Местность холмистая, едва ли заинтересует фермеров». По коммерческим, а не сентиментальным соображениям он закрепил за собой участок с обуглившимися бревнами форта Необходимость.
Сложнее оказалось реализовать претензии, вытекавшие из королевского указа о даровании земель ветеранам французских и индейских войн. Вашингтон ушел в отставку задолго до окончания Семилетней войны. Однако хитроумными маневрами он убедил губернатора колонии признать его права и сполна получил долю полковника —: 2000 гектаров.
Земельный голод завел его далеко — приобретенные участки в районе Канауха (реки, впадающей в Огайо) он больше никогда в глаза не увидел. Радостное, пьянящее чувство собственника не оставляло Вашингтона. Из Маунт-Вернона он отдавал детальные указания об организации жизни далеко на западе. Брата Кроуфорда Валентина от отправил в необжитые места с «кабальными слугами» и лесорубами расчищать на каждых 40 гектарах по участку в 2 гектара, поставив там дом, — для закрепления земель за владельцем закон требовал заселить их, Вашингтон свирепо предупредил Валентина — блюсти хозяйские интересы как свои, иначе «я подвергну тебя судебному преследованию, как совершенно чужого мне человека».
За сотни километров, в Маунт-Верноне, Вашингтон торопил с их заселением, не дожидаясь нашествия скваттеров, к которым он, аристократ, питал величайшую неприязнь. Скваттеры, конечно, не церемонились — рядом с пустыми домами, ожидавшими приезда поселенцев, они строили свои хижины. «Не применяя оружия, их нельзя изгнать», — доносил Кроуфорд. Судебная тяжба со скваттерами пережила Вашингтона, выпав на долю его наследников.
Чтобы удержать свои владения, Вашингтон попытался переселить 200 семей «кабальных слуг» из Ирландии, Шотландии или Голландии. План не удался. Тогда в 1774–1775 годах он отправил партии рабов и «кабальных слуг» для занятия своего Эльдорадо на берегах Огайо. Невольникам-поселенцам, помимо прочего, наказали приручать бизонов, организовав правильное скотоводство. Тут зашевелились индейцы, и стоило им выйти на тропу войны, как поселенцы по принуждению разбежались, бросив дома и неприрученных бизонов. Иное дело скваттеры — они пришли, чтобы остаться.
Накануне войны за независимость западные земли Вашингтона, несмотря на все его старания, в основном остались незаселенными.
К 1775 году у Вашингтона было 25 тысяч гектаров в Вирджинии, Мэриленде, Пенсильвании и на западных территориях. Энергия, проявленная им в захвате земель, изумляет, как поражает болезненная приверженность к недвижимой собственности. В жизни он никогда не был скуп, охотно ссужал деньги и не настаивал на взыскании долгов, щедро помогал товарищам, воевавшим с ним. Но земли — святое дело! Здесь Вашингтон был беспощаден. В сделках с недвижимой собственностью он исчерпал ресурсы чести, отведенные джентльмену. Биографы-«ниспровергатели» почерпнули самые убийственные аргументы против Вашингтона именно из этого периода его жизни.
Они не сделали больших открытий, а повторили эпитеты «скряга», «сутяга» и иные, которыми щедро награждали плантатора имевшие несчастье столкнуться с ним на почве земельных сделок. Рвались даже узы воинской дружбы. Когда один из ветеранов, офицер Д. Мьюз (в свое время наставлявший молодого Джорджа в ратном деле), пожаловался на несправедливость, Вашингтон ответил посланием, рисующим его с деловой стороны: «Твое бесстыжее письмо мне передали вчера. Поскольку я не привык получать таких писем ни от кого, в том числе и от тебя, не выразив своего недовольства, рекомендую остеречься и не обращаться ко мне еще в том же духе. Хотя я понимаю, что ты писал пьяным, пьянство не оправдывает мерзости». Обозвав Мьюза «глупцом» и «мерзавцем», Вашингтон указал, что его не обделили (в этом он был прав), и закончил послание так: «Единственно, о чем я сожалею, что выступал от твоего имени — неблагодарной скотины».
Вашингтон не делал ничего, что выходило бы за рамки практики земельных спекулянтов того времени, но сами рамки были весьма растяжимы. Он опробовал до конца их эластичность и вследствие этого снискал не очень лестную славу жесткого и прижимистого дельца. Нельзя сказать, чтобы заработанная в поте лица своего репутация испортила в дальнейшем карьеру полководцу и политику. Показательно только одно — по завершении войны за независимость Вашингтон категорически отказался от какого-либо вознаграждения. Он доказал, что способен обуздывать не только порывы сердца, как было с Салли, но и алчность. Победил и ее. Конечно, с годами.
Если Вашингтон в спорах из-за земли считал возможным рвать долголетнюю дружбу, то нетрудно представить обуявший его гнев и ярость, когда в 1774 году английский парламент принял Квебекский акт. Продвижение границы провинции Квебек на юг закрыло для претензий Вирджинии территорию к северу и западу от Огайо. В Лондоне считали, что заселение долины Огайо не в интересах Британской империи — там будет производиться пшеница. Трудности транспортировки от атлантического побережья до Огайо приведут к тому, что поселенцы будут обеспечивать себя сами необходимым, а не покупать товары в Англии. Следовательно, развитие этого района не поведет к росту оборота английской торговли.
Квебекский акт расстроил еще один честолюбивый проект Вашингтона — расчистить русло Потомака и сделать реку судоходной дальше на запад. Он опасался, что в противном случае торговля пройдет через Пенсильванию, а Потомак, на берегу которого стоял Маунт-Вернон, останется в стороне от «торговли поднимающейся империи». Вашингтон основал компанию, внес на ее нужды 500 фунтов стерлингов. После решения английского парламента расчистка Потомака стала проблематичной. С кем торговать?
Вашингтон громко протестовал против земельной политики, проводившейся из далекой Англии. Но добился лишь того, что губернатор Вирджинии в марте 1775 года внезапно отказался признать за ним земли в районе Канауха. Причина: их нарезал-де неквалифицированный землемер. Пришло возмездие за оплошность — гласную оппозицию предначертаниям короны.
Он чувствовал себя обобранным до нитки. Не философские соображения касательно прелестей свободы, а голая экономическая заинтересованность сурово привела богатейшего плантатора в ряды противников метрополии.
Уроки, извлеченные из личного опыта сношений с Англией, закреплялись в зале ассамблеи колонии. Один из крупнейших американских историков XX века, Генри Стил Коммаджер, совершенно прав, указывая, что отцы-основатели «думали почти исключительно о политике», Вашингтон — единственное исключение. Когда происходили описываемые события, группа речистых молодых людей еще не достигла положения «отцов» ни по возрасту, ни по влиянию. Но они умели убеждать, особенно тех, чей жизненный опыт совпадал с развивавшимися или соблазнительными доктринами.
Вашингтон не был оратором. Т. Джефферсон вспоминал: «Я служил с генералом Вашингтоном в легислатуре Вирджинии до революции, а во время ее с д-ром Франклином в конгрессе. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них говорил больше десяти минут. Они брали на себя только важнейшие вопросы, зная, что второстепенные разъяснятся сами по себе». Земляк Вашингтона дополняет: «Он скромный, здравомыслящий человек, говорит мало, но действует хладнокровно, как епископ во время проповеди». Да, человек дела, уважающий труд других, включая произнесение пламенных речей, если они по делу.
На что пытались открыть глаза согражданам молодые американцы — юристы, сочинители памфлетов, в общем, люди с хорошо подвешенным языком и отточенным пером?
По завершении Семилетней войны Англия достигла вершины своего могущества. Империя была завоевана, оставалось упорядочить и централизовать ведение дел в ней в интересах метрополии. В Лондоне считали, что американские колонии должны захлебываться от чувств признательности за оказанное благодеяние — устранение французской и индейской угрозы. Английские политики, понятно, ожидали не слов, а благодарности звонкой монетой. Корона и парламент задумали добиться выполнения многочисленных уже принятых законов о таможенных сборах и ввести налоги. Государственный долг Англии за Семилетнюю войну удвоился, подготовленные налоги и сборы, даже взысканные во всем объеме, были бы ниже тех, которые платили подданные короля на Британских островах.
Разумное с точки зрения Англии колонистам представлялось началом конца. Красноречивые ораторы еще не успели оборониться от грядущих финансовых тягот, воззвав к свободе, как банкиры и купцы Новой Англии, плантаторы Вирджинии подвели баланс. Получился пассив.
В 1763 году для борьбы с контрабандой английский флот стал патрулировать атлантическое побережье. Контроль над морской торговлей всегда в принципе существовал, но раньше на нарушения смотрели сквозь пальцы. Больше того, прежние попытки английских властей рассматривались как покушение «на полную свободу нелегальной торговли», вызывая праведное негодование как колонистов, так и английских таможенников, живших в мире и согласии с контрабандистами, каковых было великое множество. Стороны сердечно относились друг к другу. Бостонская газета «Ньюзлетер» в некрологе на достойного сборщика пошлин его величества отметила его «величайший гуманизм», выражавшийся в том, что «он учтиво инструктировал капитанов кораблей, как избегать нарушения законов о торговле».
Теперь идиллии пришел конец. Офицеры королевского флота ревностно задерживали контрабандные товары, ибо им шла половина их стоимости. Нависла и другая угроза — английские власти ввели в действие «предписания о помощи» — ордера на обыск любого помещения с целью обнаружения и изъятия запретных товаров. Свободнорожденные англичане, а таковыми считали себя состоятельные люди в колониях, взвыли — рушился принцип «мой дом — моя крепость». Перспектива появления в двери лисьей физиономии сыщика в сопровождении королевских чиновников и солдат была совершенно нетерпимой для кошелька и достоинства. «Сахарный закон» 1764 года, влекший за собой новые таможенные пошлины, показал, что парламент намерен и дальше идти по избранному пути.
В том же году парламент запретил выпуск бумажных денег в колониях, потребовав уплаты всех и всяческих сборов и пошлин серебром. Вирджинцы, находившиеся хронически в долгу, опали в отчаяние. Вашингтон пока не усмотрел в этом системы, а отнес случившееся на счет козней купцов типа Кэри. Он заметил, что возражения лондонских торговых домов против эмиссии бумажных денег в Вирджинии «несвоевременны», «полагаю, что это воспламенит всю страну… однако я воздержусь от дальнейших суждений». Что очень понятно — именно в это время он стал переводить хозяйство в Маунт-Верноне с табака на пшеницу.
Тут до Америки докатились вести о предстоящем принятии закона о гербовом сборе, первом прямом налоге на колонии. Вводилось обложение всех юридических документов, печатных изданий и даже игральных карт. Уплата — серебром. Нарушители закона подлежали суду вице-адмиралтейства, то есть отменялся суд присяжных.
В вирджинской ассамблее в мае следующего года Вашингтон впервые увидел в действии двадцатидевятилетнего Патрика Генри. Можно не сомневаться, что неряшливо одетый, неопрятный Генри визуально произвел на Вашингтона отвратительное впечатление — отставной военный, аристократ по вкусу не любил таких людей. Но стоило Генри открыть рот, как ассамблея была околдована. Молодой студент-юрист Т. Джефферсон, стоявший в проходе, воскликнул: «Он говорит, как писал Гомер».
Суть речи Генри сводилась к тому, что только Вирджиния, но никак не заокеанский парламент, может взимать налоги с живущих в колонии. Хотя по собственному материальному положению Генри особенно нечего было терять — он был неудачливым торговцем, а слава юриста еще была впереди, — ораторский пыл вознес его высоко. В век классицизма Генри, избранный от медвежьего угла колонии, легко довел себя до исступленного состояния. Наверное, ему виделся мраморный зал сената Древнего Рима, а не прилично обставленное помещение ассамблеи Вирджинии. Может быть, была виновата акустика, и Генри в экстазе воскликнул:
— У Цезаря был Брут, у Карла I — Кромвель, а Георг… — раздался испуганный возглас спикера «Измена!», подхваченный в зале, — а Георг III, — Генри ткнул указующим перстом в сторону возмущенных членов ассамблеи, — может извлечь пользу из их примера. Если уж это измена, восхвалим ее до небес!
В обстановке значительного смущения и замешательства Патрик Генри внес резолюцию о том, что только ассамблея может облагать налогом вирджинцев. Она прошла незначительным большинством. Спикер в бешенстве выскочил из зала, бормоча, что отдал бы пятьсот фунтов за голос. Дело было сделано. Вирджиния высказалась. Губернатор распустил ассамблею и назначил новые выборы, которые вернули в нее тех же представителей.
Вашингтон определил свое отношение к происходившему, он проголосовал за доведение до сведения английского парламента резолюции, проведенной Генри в смягченном варианте. Без выпадов в адрес короля, а скромное перечисление фактов. Риторика Генри не могла увлечь отставного полковника, знавшего размеры военной мощи Англии, хотя и находившейся за морями.
Осенью 1765 года по настоянию премьера Англии Гренвиля закон о гербовом сборе был все же введен. В письме родственнику Марты в Англии Вашингтон заметил: закон «доминирует в беседах спекулятивной части колонистов, которые рассматривают этот неконституционный метод налогообложения как ужасный удар по их Свободе и громко протестуют против этого нарушения. Каков будет результат этой и других (могу добавить) неразумных мер, я не берусь судить, но я склонен считать, что выгоды, проистекающие из них, будут много меньше для Родины-Матери, чем ожидает кабинет». Вашингтон практично указал, что колонисты не имеют наличных денег для оплаты пошлины, следовательно, приостановятся все деловые сделки, а в этом случае «торговцы Великобритании, имеющие дело с колонистами, будут не последними среди требующих отмены закона».
Суждения Вашингтона, да к тому же высказанные в частном письме, были более чем скромными на фоне войны протестов и демонстраций против парламента, поднявшейся в колониях. Повсеместно возникали оппозиционные организации — «Сыны свободы», «Vox Populi», «Сыны Нептуна» и т. д. В Вирджинии было много спокойнее, чем в других колониях, где текст закона о гербовом сборе печатался с изображением черепа вместо короны, в церквах раздавался погребальный звон, флаги были полуспущены, на виселицах болтались чучела министров короля, а в Массачусетсе разгромили дом губернатора. Все сборщики налогов отказались от своих мест, частично из солидарности с движением протеста, частично из страха перед физической расправой.
В октябре представители девяти колоний (Вирджиния не прислала своих делегатов) приняли в Нью-Йорке петицию к королю и парламенту, требуя отмены мерзостного закона. Торговцы договаривались не покупать английских товаров, комитеты связи, возникшие в различных городах, сговаривались о единстве действий.
В Лондоне не слишком серьезно отнеслись к шумному движению. Душевно неустойчивый Георг III, от всего сердца не любивший Гренвиля, не знал, что делать. То он склонялся к отмене закона, то, вспомнив настояния матери — «Будь королем, Георг!» — требовал проведения его в жизнь. Однако в Англии возникла сильнейщая оппозиция закону по причинам, диагностированным Вашингтоном, — попытка взимать сбор заморозила связи с колониями. Против закона выступил экс-премьер Питт. Бёрке сказал веское слово, а влиятельнейший купец Ханберн лаконично отрезал: если закон останется в силе, он готов ликвидировать свои интересы в колониях за полцены. Эти веские соображения, а не страх могущественной Британской империи перед словоохотливыми патриотами привели к отмене закона весной 1766 года.
Колонии преждевременно торжествовали победу. Парламент принимал все новые законы, стремясь не мытьем, так катаньем добиться своих целей. В следующем году вновь назначенный канцлер казначейства Тауншенд ввел очередные пошлины. Доходы от них поступали на содержание должностных лиц короны в колониях, чтобы наконец освободить их от капризов ассамблей. Из Лондона требовали выполнить в конце концов постановления об оплате английских войск, расквартированных в колониях, а также пригрозили отправить бунтовщиков для суда в Англию.
В борьбе против законов Тауншенда колонисты прибегали к уже испытанному средству — бойкоту английских товаров. К этому звали комитеты связи, различные ассоциации, действовавшие в основном нелегально. В апреле 1769 года Вашингтон получил план, по-видимому разработанный в Филадельфии Для Вирджинии, — не ввозить английских товаров до отмены законов Тауншенда. О его осведомленности о работе патриотов говорит тот факт, что он переслал план соседу, крупному плантатору Д. Масону, для сведения. Владельцу Маунт-Вернона было невдомек, что план составил Масон!
Сопроводительное письмо Вашингтона чрезвычайно важно — благополучный плантатор куда точнее измерил глубину конфликта с метрополией, чем патриоты, потрясавшие воздух пронзительными воплями и опустошавшие бочки вина во имя свободы. Вашингтон, не колеблясь, заключил, что «нужно что-то сделать для предотвращения удара и сохранения свободы, наследия наших предков, но следует обсудить, как это сделать эффективно. Я совершенно уверен, что никто не должен ни на минуту колебаться прибегнуть к оружию для защиты бесценного дара, от которого зависит все добро и зло в жизни, однако оружие, смею добавить, последнее средство». Он согласился с бойкотом, видя в этом не столько метод сопротивления метрополии, сколько средство развития внутренних промыслов.
Рачительный хозяин приветствовал бойкот, ибо это приучит по одежке протягивать ножки. «Транжиры… — писал он, — отныне получат повод жить по средствам и с радостью ухватятся за него. А то раньше как было — осмотрительность диктовала экономию, но у такого человека не хватало решимости прибегнуть к ней; как я, говаривал он, живший так-то и так-то, изменю мой образ жизни? Мне не к лицу… и продолжал жить по-прежнему, пока не прокучивал имущество». Бедные, рассуждал далее Вашингтон, получат только психологические выгоды, «их положение улучшится, поскольку снизится уровень стоящих над ними».
В духе расчетливого дельца Вашингтон и принял предложение уточнить списки товаров, которые Вирджиния обязуется не ввозить из Англии. В задушевных беседах на бравшую за живое тему соседи лучше узнали друг друга. Масон был весьма начитан в области юриспруденции и философии. Он наконец нашел слушателя, жадно впитывавшего каждое слово, а их было немало. Просвещение Вашингтона пошло вперед гигантскими шагами. «Внутренний дух свободы, — говорил он спустя несколько лет, — сначала сказал мне, что меры кабинета, проводимые в течение нескольких лет… отвратительны всем принципам естественной справедливости, а более мудрые люди, чем я, полностью убедили меня в том, что они противоречат не только естественному праву, но подрывают законы самой Великобритании, для установления которых была пролита кровь лучших людей королевства».
Образовывались для революции разными способами. Одни слушали бессвязные зажигательные речи ораторов в прокуренных тавернах над кружкой тодди. Вашингтон усваивал освободительные идеи в изысканной обстановке дома Масона. На столе сверкали хрусталь и серебро, за креслами неслышно сновали, подливая тонкие вина, слуги, негромко звучал рассудительный голос хозяина, толковавшего о свободе и иногда прерывавшего речь, чтобы отдать распоряжение рабу. Постепенно договорились о значении свободы и важности не покупать определенные категории товаров у англичан, злоумышлявших на указанную свободу. С этим в мае 1769 года выехали на сессию ассамблеи в Вильямсбург.
Губернатор чувствовал, что готовится что-то недоброе. Он решил произвести впечатление на ассамблею, приехав к Капитолию в элегантном экипаже, запряженном белоснежными лошадьми — последнее приобретение в Англии. Ассамблея единогласно вотировала «верноподданническую» петицию Георгу III с просьбой «вмешаться в пользу попранных прав Америки». Губернатор весьма учтиво распустил ассамблею.
Отпущенные за ненадобностью депутаты отправились через улицу в известную таверну Ралея, где Вашингтон вытащил из кармана проект, составленный с Масоном, об учреждении Вирджинской ассоциации противников импорта из Англии. Под шумные возгласы одобрения проект был утвержден, и заседание в таверне увенчала достойная выпивка. Провозгласили тосты за здравие короля, за вечный союз Великобритании и ее колоний, за конституционную свободу Америки. Вашингтон оплатил счет за вино — 32 шиллинга 9 пенсов и за зал — 20 шиллингов.
Первый шаг Вашингтона в революцию и первая жертва на алтарь бесценной американской свободы. Но сделано было не все. Великолепные лошади губернатора не давали ему покоя — он купил их. Символика жеста очевидна — владелец Маунт-Вернона не хуже королевского губернатора.
«Бостонское кровопролитие» 5 марта 1770 года почти не имело последствий в Вирджинии, во всяком случае, о нем нет никаких упоминаний в сохранившейся корреспонденции Вашингтона. То было дело бунтовавшего Массачусетса.
Бойкот английских товаров возымел свое действие — с приходом к власти в Англии в 1770 году кабинета Норта законы Тауншенда были отменены, за исключением пошлины на чай, носившей символический характер. Англия оставила ее, чтобы подчеркнуть главенство над колониями. Ассоциации противников импорта постепенно распались, и в тот же день, когда Вирджинская ассоциация перестала существовать, Вашингтон отправил в Лондон обширный заказ на одежду для семьи.
Хотя радикалы в Вирджинии — П. Генри и Т. Джефферсон, а в Массачусетсе Д. Отис и С. Адамс поговаривали о продолжении борьбы с Англией, плантаторы Вирджинии, и не последний среди них Вашингтон, стояли за умеренность. Движение протеста уже всколыхнуло широкие народные массы. Денежная аристократия и богачи по рождению презрительно относились к вторжению в политику «сапожников и портных». Публицисты-тори (реакционеры, сторонники монархии) высмеивали массовые собрания, где произносились крамольные речи. Стишки, сочиненные ими на злобу дня в разгар борьбы против законов Тауншенда, показательны: «Из чердаков, подвалов мчатся в комитет политиканы-выскочки — наш новый «высший свет», «Он нынче каменщик или плотник, завтра — глядь, Соломоном или Ликургом может стать» и т. д. Вашингтон с его обостренным вниманием к социальным граням, несомненно, всецело разделял такой взгляд на «чернь».
Он верил, что джентльмены по обе стороны Атлантики смогут договориться между собой. Ближайшие события показали, что он заблуждался: в Англии закусили удила. Уплата пошлины на чай превратилась в пробный камень лояльности колонистов к метрополии. Если удастся заставить платить эту пошлину, возникнет прецедент для удовлетворения других претензий короны.
В это время Ост-Индская компания оказалась на грани банкротства, она могла частично поправить дела, сбыв громадные запасы чая, скопившиеся на складах. Английское правительство решило одним выстрелом убить двух зайцев — помочь компании и взыскать пошлину в колониях. Игра представлялась беспроигрышной, даже при уплате ничтожной пошлины — три пенса на фунт веса, — импортируемый из Англии чай окажется самым дешевым на американском рынке. Поскольку, по самым скромным подсчетам, миллион американцев ежедневно пили чай, в Лондоне с дьявольским коварством надеялись, что дешевым чаем удастся залить патриотическую жажду.
Купцы в колониях, процветавшие на контрабандной торговле чаем, усмотрели угрозу разорения в гнусных планах англичан и готовились войти в сношения с ненавистными «Сынами Свободы» С. Адамса. Совсем недавно центром протестов против зловещих замыслов британских тиранов был Бостон, теперь Нью-Йорк и Филадельфия сумели взять более высокую ноту в пронзительном протесте. Оно и понятно — их оборот в контрабандной торговле чаем всегда преисполнял Бостон черной завистью. Развернулась широкая пропаганда против «этой отравы, преподносимой Америке, этого вредного для здоровья чая», ввозимого из Индии, где, как известно, кишат змеи и люди умирают миллионами от неизвестных болезней. Долг патриота — пить кофе!
В 1773 году Ост-Индская компания сделала попытку массированного прорыва блокады — в Нью-Йорк, Филадельфию, Чарлстон и Бостон доставили крупные партии чая. В первых трех портах чай не удалось продать, а бостонские патриоты, переодевшись индейцами и воткнув для большего впечатления перья различных птиц в волосы, выбросили на дно гавани 342 ящика с чаем. С. Адамс объяснил в дневнике, что событие «отмечено печатью достоинства, возвышенности и величия», энаменует собой «новую эпоху» во всемирной истории.
В отместку за «бостонское чаепитие» ранним летом 1774 года порт Бостона был закрыт до уплаты убытков компании, губернатор получил право назначать всех чиновников, в городе сосредоточились войска. Губернатором Массачусетса стал английский главнокомандующий в колониях генерал Томас Гейдж, приятель Вашингтона еще времен похода Брэддока, Отныне войска могли размещаться не только в гостиницах и пустующих зданиях, но и в частных домах.
В Америке эти распоряжения окрестили «невыносимыми законами». В колониях их рассматривали только как прелюдию к расправе «со свободой Северной Америки» (термин стал впервые широко применяться именно в это время). Рекомендовалось провести общеколониальный «день молитвы и поста».
Репрессии против Бостона кругами пошли по стране. 25 мая губернатор распустил ассамблею в Вирджинии. По уже сложившейся практике ее члены перешли в таверну Ралея, где не щадили слов в адрес угнетателей-англичан. Комитету связи предложили войти в сношения с другими колониями на предмет участия в континентальном конгрессе, а на 1 августа назначили конвент Вирджинии.
Вашингтон на этот раз был среди самых воинственных. Хотя он остался в Вильямсбурге еще на две недели, обедал и спорил с губернатором о заявках на западные земли, он вступил на дорогу революции. «1 июня, — помечено в дневнике, — ходил в церковь и постился весь день» в знак протеста против закрытия порта Бостона. «Парламент имеет не больше права запускать руку в мой карман, чем я в его», — суммирует он суть конфликта. Точная формулировка, принадлежащая «тугодуму, причем мыслительному процессу почти не помогает воображение, но приходящему к правильным выводам». Так отозвался о Вашингтоне Патрик Генри.
И снова в Маунт-Вернон, к Масону, сгоравшему от нетерпения по соседству. Они составили и провели на собрании округа Фэрфакс резолюцию солидарности с Бостоном, в которой выставлялось требование — если репрессии не будут отменены, следует вновь прибегнуть к бойкоту английских товаров, а спустя месяц прекратить экспорт в метрополию. В «резолюциях Фэрфакса» было немало примирительных фраз и энергично отрицалось «любое намерение американских колоний создать независимые государства».
1 августа Вашингтон в Вильямсбурге. Хотя он не принимал участия в комитете связи и не был особенно активен в делах распущенной ассамблеи, конвент колонии выбрал его в числе семи делегатов колонии на континентальный конгресс в Филадельфии. Привезенная им резолюция была одобрена, она соответствовала общей резолюции Вирджинии.
Краткое дополнительное заявление Вашингтона вызвало бурю восторга. «Я готов, — сказал он, — собрать тысячу человек, вооружить и одеть их на свой счет и во главе их идти на Бостон».
Героическое обещание (некоторые биографы считают, что его не было) не пришлось претворять в жизнь, через месяц из Маунт-Вернона выступило не войско, а выехали трое всадников — Вашингтон, Генри и Пенделтон — делегаты на континентальный конгресс в Филадельфию. Марта, стоя на крыльце, крикнула спутникам мужа: «Держитесь крепче, ребята, в Джордже я уверена!» Прекрасный сюжет для согбенного патриотизмом живописца — вирджинский рассвет на исходе лета, решительные лица троих мужчин. Вашингтон сосредоточен и выглядит усталым, позади бессонная ночь, проведенная в нескончаемой беседе с сердечным другом и наставником в делах политических — Масоном.
В Филадельфию съезжались люди в здравом уме и твердой памяти, отлично понимавшие, что затевается нешуточное дело, от которого по английским законам попахивало «изменой» с неизбежной виселицей. Незадолго до начала конгресса, вошедшего в историю как первый континентальный конгресс, Д. Адамс доверился дневнику: «Очень неприятное ощущение. Брут и Кассий потерпели поражение и были убиты. Хампден пал на поле боя, Сидней погиб на эшафоте, Харрингтон умер в тюрьме и т. д. Слабое утешение». Впрочем, они, 56 джентльменов со всех концов Америки, почитали себя прямыми потомками античных борцов против тирании, во всяком случае, иные из них мысленно прикидывали, по руке ли кинжал Брута. Знали и о конце Цицерона.
Несмотря на тяжкие предчувствия, делегаты конгресса воздали должное веселой Филадельфии, по крайней мере Вашингтон. В его дневнике несопоставимо больше места уделено светской жизни, чем политическим проблемам, иногда затягивавшим заседания конгресса в Доме Плотников с 6 утра до 10 вечера. За 53 дня пребывания в Филадельфии (конгресс работал с 5 сентября по 26 октября) Вашингтон отобедал у себя только семь раз, а вечера обычно проводил в тавернах. Он истратил 17 шиллингов на политические памфлеты и выиграл 7 фунтов стерлингов в карты. «Прилежный слушатель и наблюдатель», — записал Вашингтон о себе. Он говорил мало, что позволило Сайласу Дину заключить: Вашингтон «сносный оратор». Джордж производил впечатление другими качествами. Глаза делегатов, с отчаянной решимостью заговаривавших о необходимости прибегнуть к оружию, невольно останавливались на молчальнике в мундире. Вашингтон явился на конгресс в старом, слегка выцветшем и тронутом молью мундире полковника вирджинского ополчения, опоясавшись перевязью со шпагой. Представитель от колонии Род-Айленд С. Драун, высмотрев воина в суетливой толпе штатских, почувствовал уверенность в будущем, каковую выразил в скверных стихах, звучавших примерно так: «Военной поступью прошел, сверкая сталью верного клинка, герой Вирджинии — Вашинг-тон». Кто его знает, зачем поэт-любитель разбил фамилию на слоги, то ли в мучительных поисках рифмы, то ли стремясь получше передать свист извлекаемой из ножен шпаги.
На конгрессе звучали горячие речи. Гадсден из Южной Каролины предлагал идти на Бостон и напасть на англичан, пока они не получили подкреплений. Ричард Ли требовал полного разрыва экономических отношений с метрополией. Патрик Генри внушал: «Вся Америка едина. Где границы колоний? Они рухнули. Больше нет различий между вирджинцами, пенсильванцами, ньюйоркцами и жителями Новой Англии. Что до меня, то я не вирджинец, а американец!» Оборонялось и правое крыло. Руководитель его, богатейший пенсильванский купец Д. Гэллоуэй, внес предложение о «союзе между Великобританией и колониями». Для одобрения его не хватило только одного голоса.
Вашингтон твердо придерживался золотой середины. Когда Ричард Ли с горячностью выразил надежду, что Англия со временем уступит, отзовет войска, Вашингтон высказал сомнение. Из прошлого опыта он знал, что попытка ввести эмбарго на вывоз в Англию создаст невыносимые трудности для колоний. Он полагал разумным пока остановиться на полпути — запретить импорт из Англии.
В разгар споров в Филадельфию прискакал на взмыленном коне Пол Ривер с «суффолкскими резолюциями», принятыми в округе Суффолк, где находился Бостон, быстро накапливавший славу города-мученика. Написанные С. Адамсом и Д. Уорреном, они отражали господствующие настроения Массачусетса — не подчиняться «нестерпимым законам». Ссылаясь на драгоценную идейную находку XVIII века — естественное право и теорию общественного договора, составители в сильных выражениях настаивали на том, что монарх, попирающий их, — тиран. Дабы пресечь его поползновения против свободы Америки, необходимо прервать всю торговлю с Англией. Массачусетцы требовали принять «суффолкские резолюции» до точки.
Радикальные делегаты с радостью ухватились за них, но они не были в большинстве. После жарких дебатов 14 октября была принята «Декларация», а 20 октября «Ассоциация» первого континентального конгресса, в которой подчеркивалось, что колонисты «пока решили действовать лишь мирными средствами». С 1 декабря 1774 года запрещался ввоз товаров из метрополии, а если до осени в Лондоне не одумаются, то с 1 октября 1775 года намечалось ввести эмбарго на вывоз в Англию. Дабы придать большую весомость угрозе, в текст «Ассоциации» вписали обязательство — не покупать ост-индского чая, индиго и рабов, а также подвергнуть бойкоту почти все продукты Британской Вест-Индии.
В этих документах «вернейшие подданные его величества» заверяли короля в своей преданности и винили во всех бедах не монарха, а министерство в Лондоне, которое после 1763 года задалось «очевидной целью поработить население английских колоний, а затем и всей Британской империи». Хотя конгресс в общем стоял на той точке зрения, что на силу следует отвечать силой, в массе своей делегаты пока не были республиканцами и не помышляли о независимости. Корона признавалась главным связующим элементом империи.
Решения первого континентального конгресса полностью отвечали взглядам Вашингтона, поразительно походили на «резолюции Фэрфакса». В письме старому приятелю со времен индейских войн капитану Макензи, служившему под командованием Гейджа в Бостоне, Вашингтон сообщил: «Что до независимости, то ее не желает ни один здравомыслящий человек во всей Америке». На конгрессе порешили вновь собраться 10 мая.
Для наблюдения за исполнением эмбарго на местах возникли комитеты безопасности, которые ретиво взялись за дело. Орудием убеждения несогласных или лиц, заподозренных в лоялистских убеждениях, была перекладина, на которой провинившихся с гиканьем и свистом возили верхом, предварительно вымазав их в дегте и вываляв в перьях. Мерзкий вид судорожно цеплявшегося за шест негодяя, по мнению патриотов, служил достаточным наказанием за темные замыслы, расправы со смертным исходом были величайшей редкостью. Маховик революции медленно раскручивался — отправление того, что считалось правосудием, брали в руки массы, почувствовавшие себя сопричастными к великому делу.
В каждом округе для защиты местного комитета возникли вооруженные отряды «минитменов» — бойцов в «минутной готовности» взяться за оружие, расширялось ополчение. В Вирджинии срочно формировались ополченские роты, к концу 1774 года Вашингтону предложили командовать семью ротами из десяти созданных. Он хорошо знал, что стоят эти войска, и порекомендовал лучше собрать роту стрелков, обязав их носить одинаковую форму — охотничьи рубашки. В январе Вашингтон принялся обучать роту, созданную в Александрии.
От королевских губернаторов, наблюдавших за воинственными приготовлениями американцев, в Лондон летели тревожные донесения. Они сообщали, что край выходит из повиновения, власть захватывают самочинные комитеты «черни». Некоторые из высокопоставленных английских чиновников, как, например, губернатор Вирджинии лорд Данмор, черпали именно в этом надежду на лучшее будущее. Размышляя о причинах, побудивших состоятельных жителей примкнуть к «толпе», Данмор рассуждал: «Они занимаются этой позорной деятельностью с целью побудить своих многочисленных английских кредиторов присоединиться к протестам колоний, а немало из них стремятся избежать уплаты долгов, в которых по уши сидят многие заметные здесь люди». По мнению Данмора, бойкот английских товаров, особенно запрет на вывоз в метрополию, «быстро приведет к скудости и разорит тысячи семей». Богатые, конечно, продержатся год-два, но бедные через несколько месяцев станут умирать с голоду, и тогда последние «обнаружат, что их надули богачи, сами увиливающие от последствий ассоциации, губящих бедных». Между колонистами начнутся распри, и дело Англии восторжествует.
Как бы ни были логичны в отдаленной перспективе рассуждения Данмора, английские власти боялись укрепления сил вызревавшей революции. Они приступили к действиям. 18 апреля генерал Гейдж приказал направить 700 солдат в Конкорд, местечко примерно в 35 километрах к северо-западу от Бостона, Гейдж прослышал, что американцы устроили там склад оружия и пороха, и велел уничтожить его. Хотя экспедиция была задумана в глубокой тайне, патриоты узнали о ней. Поутру 19 апреля местные ополченцы встретили английский отряд в Лексингтоне, на полпути между Бостоном и Конкордом. Кто выстрелил первым — неизвестно. Залп англичан положил на месте восемь ополченцев, и колонна прошла к Конкорду. Английские солдаты уничтожили военные припасы, которые колонисты не успели вывезти.
Вести о случившемся разнеслись по округе, и на обратном пути англичан поджидала засада. Рассыпавшись за кустами, зданиями, деревьями, ополченцы поливали свинцом солдат в красных мундирах. Гейдж прислал подкрепление, и только тогда удалось пробиться назад в Бостон. Из 1800 англичан было убито или ранено 273 человека, американцы потеряли 95. В учебнике для военных училищ, выпущенном в США в 1969 году под редакцией М. Мэтлоффа, сказано: «Случившееся едва ли составило честь меткости фермеров Новой Англии, их мушкеты в этот день сделали около 75 тысяч выстрелов».
Главное — не в количестве выпущенного свинца и сожженного пороха. Американцы силой ответили на силу, пролилась первая кровь. Лексингтон и Конкорд прозвучали на всю страну. Ополчение Новой Англии осадило английский гарнизон, укрывшийся в Бостоне.
О славном сражении узнали в Маунт-Верноне как раз тогда, когда Вашингтон пребывал в тяжких раздумьях. Ему определенно не нравился крутой поворот событий. Надвигалась война, в которой ему, возможно, пришлось бы пожертвовать имуществом. Прекрасный вид на Потомак из окон Маунт-Вернона напоминал: дом в пределах прямого пушечного выстрела с реки, а меткость и сноровка канониров королевского флота сомнений не вызывали. «Толпе», легкой на восстание, нечего терять, иное дело богатый плантатор. В фатальный день 19 апреля, когда под Бостоном гремели выстрелы, Вашингтон составлял объявление для вирджинской «Газетт», обещая вознаграждение за бежавших рабов.
Не успел Вашингтон обдумать последствия Лексингтона и Конкорда, как в усадьбу ворвался задыхающийся посланец. Данмор захватил порох в арсенале Вильямсбурга. Ополченские роты в сборе. Они готовы немедленно выступить на столицу колонии под командованием прославленного воина Вирджинии и покарать зарвавшегося прислужника ненавистной Англии. Вашингтон не велел седлать коня, а связался с Вильямсбургом. Оробевший Данмор выразил желание пойти на компромисс. Вашингтон распустил ополченцев, но неистовый Патрик Генри возмутил налаживавшееся спокойствие. Во главе вооруженных ополченцев он явился в Вильямсбург и под угрозой штыков заставил губернатора расплатиться за похищенный порох.
Имя Генри на устах всех радикалов Вирджинии. И не только их. Двадцатипятилетний Д. Мэдисон презрительно бросил: Вашингтон принадлежит к числу богатых господ, живущих у реки, и, «опасаясь за свою собственность в случае гражданской войны… обнаружил трусость, несовместимую как с его профессией, так и с репутацией Вирджинии».
В приступе патриотической горячки Мэдисон определенно преувеличивал, Вашингтона уже втягивал могучий водоворот событий. В начале мая он выехал в Филадельфию на второй континентальный конгресс. Четверка породистых лошадей понесла карету по изъезженным дорогам. За окном родина, знакомая и незнакомая, в городках и деревнях снуют озабоченные люди. Иные приветствуют статного военного, другие хмурятся. Страна разделялась на глазах — патриоты и лоялисты.
По дороге к Вашингтону присоединились другие делегаты Вирджинии, и к Филадельфии они подъехали внушительной кавалькадой. Километрах в десяти от города их встретило около пятисот всадников, кортеж приобрел военный вид. У въезда в Филадельфию пронзительные, нестройные звуки труб и уханье барабанов — музыканты-дилетанты мужественно играли что-то очень и очень воинственное. Вооруженные толпы в самой пестрой одежде — наспех сформированные ополченческие роты. С шумом, гамом и барабаном импровизированный парад прошествовал по улицам крупнейшего города тогдашней Америки, оплота постных квакеров. Толпы неистово приветствовали Вашингтона. Лоялисты с отвращением отворачивались. На крышах кричали птицы.
10 мая 1775 года открылся второй континентальный конгресс. 63 делегата 13 колоний явились, исполненные большей решимости, чем в минувшем году. Мелькали знакомые лица — полномочия делегатов подтвердили революционные конвенты колоний. Господствовало мнение, что жребий брошен, оставалось определить пути и средства защиты интересов Америки. Хотя воинственное меньшинство уже поговаривало о независимости, на конгрессе все же возобладало мнение, что нужно дать отпор лондонскому «министерству», как и надлежит добрым подданным его величества короля Георга III, охраняющим дарованные им древние английские свободы. А времени на словопрения не оставалось. Конгресс поначалу думал, что нападающей стороной явятся англичане, и помышлял только об обороне. Тут получили известие — в день открытия конгресса молодцеватый Этан Аллен во главе отряда вермонтских ополченцев, поэтому именовавших себя «парни зеленой горы», внезапным налетом захватил королевский форт Тикондерога. Стоустая молва разнесла: Аллен вместе с Бенедиктом Арнольдом, имевшим сомнительное звание полковника колонии Массачусетс, потребовали-де от вооруженного до зубов английского гарнизона сдачи во имя «Великого Бога и континентального конгресса» (об обоих Аллен знал только понаслышке) и одержали достославную победу. На деле получилось куда проще — около сотни ополченцев вбежали в форт, охранявшийся несколькими десятками солдат инвалидной команды, а Аллен крикнул коменданту: «Выходи, старая мерзкая крыса!» Засим без кровопролития «парни зеленой горы» овладели Тикондерогой, где хранились 60 орудий, и, следовательно, опорным пунктом в северной части озера Джорж. Открывался путь в Канаду, или прикрывались подступы к колониям с севера — стратегическая оценка зависела от точки зрения.
Потрясенный конгресс вотировал вернуть форт королю по «восстановлении прежней гармонии» между Англией и колониями. Делегаты северных колоний, опасавшихся вторжения из Канады, негодовали. Массачусетцы, державшие в осаде войско Гейджа в Бостоне, подлили масла в огонь. Они красноречиво взывали к собранию — нужно держаться всем вместе, и попросили конгресс взять на себя руководство ополченцами колонии, уже воевавшими с англичанами. Сомнений не было — Массачусетс звал на войну. Решиться сразу было трудно, и открылись прения, затянувшиеся больше чем на месяц.
Обсуждались различные варианты действий, но приходили к одному — придется поднять оружие. Буйные толпы ополченцев, обложивших Бостон, назвали континентальной армией и обязали Нью-Йорк снабдить ее хлебом, повелели всем колониям собирать селитру и серу для изготовления пороха, а Пенсильвании, Мэриленду и Вирджинии — сформировать десять рот «опытных стрелков» и гнать их к Бостону. Вашингтон, единственный делегат конгресса, щеголявший в военном мундире, был занят по горло. Он председательствовал сразу в трех комитетах — по подготовке обороны Нью-Йорка, обеспечению армии вооружением и снаряжением и выработке уставов. Он чувствовал себя стратегом — купил пять военных книг, погрузился в их изучение. Времена наступали крутые, и он заблаговременно составил достойное завещание.
Делегаты конгресса от Новой Англии торопили с военной подготовкой. Д. Адамс не уставал разъяснять, что война на носу, а если так, то где сыскать главнокомандующего континентальной армии? Кандидатов было хоть отбавляй. Войсками под Бостоном уже командовал Артемос Уорд, «толстый престарелый джентльмен, прекрасный церковный староста», как говорил другой претендент на этот пост, Ч. Ли. Политик политиков Новой Англии, Д. Адамс видел, что от выбора главнокомандующего зависит, быть или не быть союзу колоний. Назначение северянина неизбежно привело бы к отчуждению южных колоний, в том числе сильнейшей из них — Вирджинии. С величайшим замешательством он обнаружил, что даже председатель конгресса Д. Хэнкок не прочь облачиться в генеральский мундир. Впрочем, доверился Адамс в письме жене, «каким полководцем был бы я! Я уже штудирую военные книги!» Честолюбивые помыслы многих готовили трудную судьбу тому, на кого падет жребий, а им и стал наш герой.
При взаимном устранении других кандидатур Вашингтон устраивал всех. 14 июня Д. Адамс разрубил гордиев узел высоких надежд несостоявшихся полководцев — он предложил Вашингтона. В зале заметное волнение. Хэнкок, благожелательно слушавший речь Адамса, при упоминании имени Вашингтона позеленел от злости — ему самому не бывать в генералах. Вашингтон, как только зашла речь о нем, вскочил и укрылся в соседней комнате, там была библиотека. Через неплотно прикрытую дверь он, вероятно, слышал возникший спор, и его неизбежно резанули слова делегата от Вирджийии Э. Пенделтона — полковник, конечно, приличный человек, но он ведь проигрывал все бои! Голая правда!
Адамс разбередил страсти, и конгресс в смущении разошелся[1]. Делегаты, разбившись на группы, горячо обсуждали кандидатуру Вашингтона за ужином и просидели далеко за полночь. Многие все еще сомневались, Т. Пейн в их числе. Сам Вашингтон был смущен больше остальных, он заперся в гостинице. Однако решение нельзя было больше откладывать, у Бостона шли боевые действия, а сорокатрехлетний Вашингтон производил впечатление спокойного и рассудительного человека. Почему не попробовать?
Утром 15 июня, гласит протокол заседания конгресса, «решили, что должен быть назначен генерал для командования всеми континентальными силами, уже имеющимися или которые будут созданы для защиты Американской Свободы. Ему кладется 500 долларов в месяц жалованья и на расходы. Конгресс затем приступил к выборам генерала, и эсквайр Джордж Вашингтон был единогласно избран». Через несколько дней еще одно постановление: «Конгресс сим объявляет, что будет поддерживать, помогать и хранить верность упомянутому эсквайру Джорджу Вашингтону ценою своих жизней и имущества ради общего дела».
16 июня Вашингтон в отутюженном мундире появился в зале конгресса. Ему задали риторический вопрос — согласен ли он служить главнокомандующим армии, находящейся «под контролем» конгресса. Он извлек из кармана лист бумаги и зачитал заранее написанную речь, составленную в сильных и искренних выражениях. Избранник возблагодарил за высокую честь и поделился «глубоким сожалением, проистекающим из сознания, что мои способности и военный опыт могут не соответствовать высокому доверию». Заверяя, что он сделает все, дабы послужить «славному делу», генерал просил: «Если случатся прискорбные события, бросающие тень на мою репутацию, прошу всех джентльменов, находящихся в этом зале, помнить — сегодня с величайшей искренностью я заявляю: я не думаю, что вверенное мне почетное командование мне по силам». Что до дарованных ему 500 долларов в месяц, то Вашингтон, несомненно памятуя о римлянах, никогда не извлекавших, согласно легенде, денежных выгод от службы республике, отказался от жалованья, прося конгресс возместить только его расходы. На этом закончилась простая, деловая и памятная речь.
Не вызывает никаких сомнений, что Вашингтон не рвался командовать. Высокая честь ввергла его в глубочайшее уныние. Утешало разве то, что удар не настиг внезапно. 18 июня он пишет прощальное письмо жене, душераздирающий перифраз его речи конгрессу. Главнокомандующий молит не омрачать его духа еще более тягостными письмами из дому. В другом письме родственнику Б. Бассету он заверяет: «Я могу отвечать только за следующее: твердую уверенность в правоте нашего дела, прилежное исполнение его и скрупулезную честность. Если это не заменит способностей и опыта, дело пострадает и еще вероятнее — моя репутация». Прямой и суровый человек, он не сдержался перед Патриком Генри. Со слезами на глазах, дрожащим от волнения голосом Вашингтон сказал: «И попомни, мистер Генри, мои слова — со дня вступления в командование американскими армиями я датирую начало моего падения и гибели моей репутации».
Каковы бы ни были опасения самого Вашингтона, в Филадельфии верили в него. 21 июня город бросил прощальный взгляд на генерала, отправлявшегося на войну. Он возглавил блестящую процессию — гарцевала легкая кавалерия в мундирах с иголочки, по-медвежьему топали ополченцы, скрипели колеса бесчисленных карет — главнокомандующего провожали члены конгресса. Карета Д. Адамса затерялась среди других. Массачусетский политик с внезапно вспыхнувшим острым чувством зависти припомнил свои заслуги. «Я бедное создание, — написал он любящей жене, — истощенный литературной работой ради моего хлеба и моей свободы, в подавленном состоянии духа и слабый телом, вынужден отдать другим лавры, которые посеял, другие будут есть заработанный мною хлеб — общее дело». Вероятно, не один Д. Адамс среди членов конгресса предавался размышлениям такого рода. Они все почитали себя стратегами, и каждый имел свой план войны. Догадывался ли об этом Вашингтон, ловко сидевший в седле и смотревший поверх голов непроницаемыми стальными глазами?
ГЕНЕРАЛ ВАШИНГТОН
Предстояла длительная суровая борьба с сомнительным исходом. Было известно, что ресурсы Британии, в сущности, неистощимы, ее флоты покрывали океан, а войска увенчали себя лаврами во всех уголках земного шара. Не будучи нацией, никому не известные как народ, мы не были готовы. Денег, нерва войны, не было. Пришлось ковать меч на наковальне необходимости…
Если у нас и были неизвестные врагу тайные ресурсы, то они состояли в непоколебимой решимости наших граждан, осознании правоты нашего дела и уверенности, что бог не оставит нас.
Д. ВАШИНГТОН на склоне лет
Главнокомандующий со свитой еще скакал к армии, а она уже дала самое кровопролитное сражение войны за независимость — у Банкер-Хилла.
В конце мая 1775 года королевский флот доставил в Бостон подкрепление из Англии. Гарнизон увеличился до 6,5 тысячи человек. С флагманского фрегата на берег сошел великолепный триумвират — высокомерные английские аристократы генерал-майоры У. Хоу, Г. Клинтон, Д. Бергойн. В Лондоне они понаслышались о нерасторопности Гейджа, а попав в Бостон, вознегодовали — толпы совращенной «черни» обложили войска его величества, отощавшие на скудном рационе. Этим трем генералам было суждено сыграть главную роль в проигрыше Англией войны в Америке. Но кто мог предвидеть будущее?! А пока лихой триумвират настоял на том, чтобы выдвинуть вперед английские позиции, укрепив высоты Дорчестер к югу от города.
Руководители повстанцев собрались на военный совет. Возведенный конгрессом в чин генерал-майора, И. Путман предложил ответить контрманевром — соорудить бастионы на высотах Банкер-Хилл и Брид-Хилл, что на полуострове Чарлстон, к северу от Бостона. Опасения, высказанные в совете, что укрепления окажутся под огнем английских кораблей из гавани и батарей Бостона, Путман отвел энергичным замечанием — «американцы боятся не за головы, а за ноги. Прикройте ноги, и они век будут сражаться!» Путману поверили — полуграмотный 57-летний генерал, пришедший к Бостону во главе ополчения из Коннектикута, пользовался всеобщим уважением. Ради святой свободы он ушел из-за стойки процветавшего трактира. Но солдаты помнили — до того, как Путман стал трактирщиком, он прославился в войнах с индейцами и французами, побывал в плену, чудом избежал смерти от томагавка. Английский агент доносил, что в лагере под Бостоном воинский дух «сброда» поднимали, предлагая следовать примеру Цезаря, Помпея, старины Пута и «прочих великих людей». Что же, строили по образцу и подобию Древнего Рима. То, что Путман имел обыкновение разъезжать среди своего воинства в одной рубашке, соломенной шляпе и без стремян, дела не меняло.
В ночь на 17 июня Путман повел оборванных солдат на полуостров Чарлстон копать укрепления. Воины, по большей части фермеры, бодро взялись за привычные лопаты, и, когда рассвело, англичане в Бостоне остолбенели — горы свежевырытой красной глины обозначали грозные позиции янки (таково прозвище американцев — уроженцев США). Генерал Хоу рванулся проучить распоясавшихся мятежников — в середине дня во главе двух с половиной тысяч солдат он высадился на полуостров. На редуты сбежалось примерно столько же американцев. В самой невообразимой одежде, они уже по этой причине оскорбляли глаз военного, а пестрое вооружение просто возмущало. Некоторые сжимали в руках мушкеты «браун-бесс» — стандартное оружие английской армии. Гладкоствольный мушкет заряжался свинцовыми пулями диаметром почти в два сантиметра, скорость стрельбы три выстрела в минуту. Им наносились страшные раны, но попасть в цель на расстоянии свыше 100 метров было почти невозможно. Охотники, пришедшие с запада, имели кентуккские ружья, которые начали изготовлять немецкие мастера в Пенсильвании в середине XVIII века. Длинноствольное нарезное ружье позволяло точно поразить цель величиной с человеческую голову на расстоянии до 200 метров. В руках опытного стрелка то было грозное оружие, однако трудности заряжения — приходилось вгонять шомполом пулю, обернутую в промасленный пыж, — позволяли сделать только выстрел в минуту.
Пылавшие боевым задором янки толпились на редуте, беспечно посматривая на залитый летним солнцем луг, где под грохот барабанов и визг флейт споро строились англичане — легкая и морская пехота, гренадеры в красных мундирах и медвежьих шапках. Взвинченные обильной выпивкой и патриотическими речами, американцы не сомневались, что зададут жару войскам «министерства», не смущаясь, что на мушкет приходилось по 15 зарядов. У многих были самодельные пули, отлитые из свинцовых труб, снятых с органа церкви в Кембридже. На бастионы успели притащить и наскоро установили несколько пушчонок.
Хоу решил осуществить возмездие по всем правилам европейской тактики — в войнах середины XVIII столетия пехота, выстроенная в несколько линий, мерным шагом сближалась с войсками неприятеля, находившимися в таком же построении. В 50–100 метрах от врага наступавшие останавливались, разыгрывался смехотворный и мужественный церемониал — офицеры вежливо раскланивались, оспаривая друг у друга честь принять первый залп. Обмен залпами — и в штыки! Выстоять под первым залпом врага почиталось великой привилегией и признаком несравненной воинской доблести.
Итак, три безупречные линии английских солдат двинулись в фронтальную атаку на Брид-Хилл. Хоу напутствовал их словами: «Ведите себя, как подобает англичанам и хорошим солдатам», — добавив, чтобы никто не смел хоть на шаг опередить его, генерала, шагавшего впереди. Они пошли в траве по колено, сгибаясь под грузом амуниции — на каждом солдате было навьючено до 30 килограммов, пот струился из-под медвежьих шапок, мокрые пятна расползались на спинах и подмышках. Тревожный рокот барабанов звал в достойную битву — покарать смутьянов.
На редуте кто как мог прилаживал оружие, выбирая цель. Тучный старина Пут, с неожиданной легкостью управляясь на лошади, надрывался хриплым басом: «Не стрелять, пока не увидите белки их глаз!» Все же защелкали выстрелы нетерпеливых. По брустверу побежали офицеры, грозя шпагами и ударами поднимая стволы нацеленных мушкетов. С моря загремели орудия — ядра с отвратительным шипением погружались в глину редута, изредка поражая кого-нибудь из защитников. Когда наступающие подошли на полусотню метров, их встретил сокрушающий залп. Прошло несколько мгновений — стрелки, разрядившие мушкеты, отступили, дав место товарищам с заряженными, последовал второй, не менее убийственный залп.
Все заволокло пороховым дымом, а когда он рассеялся, поле было покрыто трупами в красных мундирах, уцелевшие попятились. С американских позиций трещали выстрелы — остроглазые охотники вопреки всем принятым европейским правилам войны выбивали офицеров. Хоу перестроил войска и бросился во вторую атаку. Опять неудача! Окутанный пороховым дымом, проклятый редут казался неприступным. Но на обратной стороне холмов нарастало смятение — англичане снова готовили штурм, батареи из Бостона осыпали калеными ядрами близлежащий городишко Чарлстон. Чадно горели дома, жители бежали без оглядки. На полуостров высаживались английские подкрепления. Робкие душой покидали редут, каждого раненого сопровождал в тыл десяток товарищей. Уходившие с позиций имели массу оправданий, главное из которых было трудно оспорить — порох иссяк.
Путман бросился в тыл, к редуту на Банкер-Хилл. Там томились, постепенно набираясь страха, резервные части. Надсадно ругаясь, раздавая удары направо и налево, генерал собрал толпу ополченцев и, размахивая шпагой, погнал их на позицию. Но на каждого затащенного на редут приходилось по крайней мере три дезертира. Тем временем англичане привели себя в порядок и с величайшей яростью в третий раз бросились на штурм. Снова по ним хлестал свинцовый ливень, но поредевшие ряды защитников не могли больше сдержать наступавших. Волна красных мундиров затопила укрепление, англичане и американцы схватились врукопашную. Силы были неравными, и американцы ударились в бегство. Только теперь они смогли оценить древнюю военную мудрость: стоять насмерть на укрепленном рубеже — основные потери янки пришлись на заключительный этап боя, когда они показали спину.
Потери англичан были ужасающими — 1054 человека, из них 226 убитых. Янки потеряли 440 человек, 140 из них пали на поле боя.
Стратегически Банкер-Хилл оказался пирровой победой для обеих сторон, в положении их ничего не изменилось. Но сражение имело громадные психологические последствия — англичане научились уважать и даже переоценили силу противника. Наспех собранное воинство показало неожиданные боевые качества, отныне английские командиры не решались штурмовать в лоб укрепления. Американцы сочли было сражение своим поражением, но вскоре воспрянули духом и с типично американской бравадой стали превозносить солдата-гражданина. Лексингтон, Конкорд и Банкер-Хилл легли в основу мифа о том, что не солдат регулярной армии, а американец от плуга, верстака или прилавка — лучший воин на свете. Вследствие этого по стране стремительно распространились шапкозакидательские настроения. А Вашингтону предстояло строить регулярную армию.
«Его светлость», как стали именовать главнокомандующего, получил известие о Банкер-Хилле в Нью-Йорке, по пути к вверенным ему войскам. Из пространной депеши так и не было ясно, за кем осталось поле боя. Настроение Вашингтона не улучшилось, когда ему доложили о состоянии дел в колонии Нью-Йорк. Накануне его приезда в город революционный конвент проголосовал с мудростью, достойной библейского царя Соломона Давидовича, — одна рота торжественно встречает Вашингтона, другая — королевского губернатора (который по злосчастному совпадению прибывал из Англии в этот же день), а остальные примут участие в торжествах в зависимости от того, кто из названных лиц объявится в городе первым.
Было от чего прийти в отчаяние! В Филадельфии почтенные джентльмены, составившие континентальный конгресс, убеждали друг друга воевать, а в богатейшей колонии Нью-Йорк окончательное решение, очевидно, не принято. Что делать? Вашингтон принял также соломоново решение — он поручил следовавшему с ним из Филадельфии генерал-майору Ф. Шайлеру, родом из Нью-Йорка, остаться в городе и присматривать за губернатором. Если слуга короля посмеет вооружать лоялистов, испросить разрешение континентального конгресса на его арест. То было первое серьезное решение главнокомандующего, делегировавшего свои полномочия другим. Покончив с щекотливым делом, Вашингтон без лишней шумихи ускользнул из города, чествовавшего губернатора.
Вечером 2 июня он наконец соединился с армией. История умалчивает о деталях встречи, что всегда не менее многозначительно, чем подчеркнуто восторженное описание. Оно и понятно — вирджинец не мог вызвать горячих чувств у тех, что после Банкер-Хилла уже считали себя ветеранами. Ополченцы Новой Англии с опаской смотрели на богача с Юга, пресловутого рабовладельца. Дисциплина в понимании военного отсутствовала — офицер, в прошлом парикмахер, охотно обслуживал собственных солдат, другой — повар, засучив рукава, самозабвенно стряпал. С введения дисциплины и начал Вашингтон. Главнокомандующий разжаловал нескольких офицеров, в том числе полковника, за трусость при Банкер-Хилле, других — за воровство. Военный суд заседал почти непрерывно — виновные получали до 40 плетей, выставлялись у позорного столба, изгонялись из армии. Предложение Вашингтона увеличить наказание с библейских 39 плетей до 500 континентальный конгресс не утвердил. Увесистые удары по спине и ягодицам показали, кто хозяин.
Чтобы не затеряться среди генералов, Вашингтон за три шиллинга приобрел широкую голубую перевязь, отныне пересекавшую его грудь. В письмах друзьям он с отвращением писал о подчиненных ему войсках, в первую очередь о так называемых офицерах, которые, нашел Вашингтон, «в общем, самые равнодушные люди, каких я когда-либо встречал». Что до солдат, «то при приличных офицерах они будут неплохо сражаться, хотя все они в высшей степени мерзки и грязны». Вашингтон принял командование, воодушевленный в духе стоиков высокой целью спасти родину. Оглядевшись, он, вероятно, не нашел никого в лагере, кто мог бы соперничать с ним в бескорыстном служении Америке. «Несмотря на всевозможные общественные добродетели, приписываемые этим людям, — писал он в другом письме, — нет другой нации под солнцем (из известных мне), которая так бы поклонялась деньгам, как эта». Вирджинскому аристократу, умевшему, впрочем, прекрасно считать, был отвратителен дух плоской, копеечной наживы, который он усматривал у уроженцев Новой Англии. Ибо, скажем, пресловутый офицер-парикмахер брил своих солдат не из высших соображений товарищества, а за плату и ради сохранения клиентуры. Никто не ожидал, что война будет продолжительной.
Вашингтон бился за то, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок, по его словам, в «беспорядочной толпе». Сославшись на свой военный опыт, пусть двадцатилетней давности, главнокомандующий стал пропагандировать его: «Дисциплина — душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем». Но какова конечная цель дисциплины, какой вид должна была принять армия по замыслу Вашингтона? Европейская военная доктрина XVIII века недвусмысленно указывала: дисциплина — главный, если не единственный побудительный мотив солдат сражаться.
Послушание в армиях европейских монархов вбивалось палками, свирепым военно-полевым законодательством. Солдат шел на врага, строго сохраняя свое место в линии, ибо знал — непослушание означает верную смерть, которой он, естественно, предпочитал превратности сражения. Чтобы воспитать солдата в XVIII веке, обычно требовалось не менее двух лет зверской казарменной муштры. Между офицерским корпусом, являвшимся сколком тогдашнего жесткого сословного общества, и солдатской массой лежала непроходимая пропасть. Солдаты всегда находились под бдительным оком офицеров, стоит ослабить надзор, как солдаты просто-напросто дезертируют.
Стратегия и тактика европейских войн XVIII столетия породили профессиональные, зачастую наемные армии. Они встречались на поле боя, сражались по определенным правилам, и, как бы ни был высок процент потерь в бою, боевые действия в подавляющем большинстве носили ограниченный характер. Преследование разбитого врага обычно не доводилось до конца, ибо победитель подверг бы опасности свою армию. Разбив ее на мелкие отряды, он попросту рисковал тем, что солдаты вне рамок железной дисциплины разбегутся. Монархи отнюдь не стремились к поголовному истреблению армий друг друга, ибо в таком случае им бы пришлось оставить излюбленную забаву — войну. Отсюда широко распространенный обычай обмена пленными.
Что до самих боевых действий, то они велись чрезвычайно упорядоченно — только в теплую погоду, к декабрю армии становились на зимние квартиры. Армии, помимо сражений в открытом поле, старались перехватить коммуникации друг друга, осаждали ключевые крепости. Населенные пункты, как правило, не разрушались, ибо какой смысл монарху приобретать разоренную провинцию? Снабжение войск обеспечивалось подготовкой на театре войны крепостей и магазинов, реквизиции у населения строго контролировались. Это было вызвано отнюдь не желанием пресечь разбой и грабежи, они отмечали путь тогдашних армий. Дело в другом — официальное одобрение таких действий повело бы к тому, чего больше всего опасалось командование, — разложению войск, подрыву дисциплины. По аналогичным причинам военачальники XVIII столетия крайне неодобрительно относились к партизанской войне, опасаясь сверх того вызвать бунт «черни».
Вашингтон не мог не разделять описанных взглядов на вооруженную борьбу и методы ее ведения. Было бы легкомысленно приписывать ему глубокое понимание народной войны, которая развернулась в ходе Американской революции. И если, разумеется с большими оговорками, можно так оценивать некоторые кампании войны за независимость в США в 1775–1783 годах, то произошло это не в результате тонких расчетов главнокомандующего, а вопреки его ясно выраженной воле. «Стратегия конгресса и Вашингтона, — замечает современный английский исследователь Э. Райт, — отнюдь не поощряла партизанской войны и оправданно сбрасывала со счетов лоялистов. Большая и дисциплинированная континентальная армия должна была связать англичан, «нависнув над ними, подобно орлу над добычей, готовая нанести сокрушительный удар при удобном случае». Это давало надежду на скорую победу, которая отвратила бы опасность решительного отделения от Англии». Так представлялось дело руководителям Американской революции в начале войны за независимость, и этот взгляд нашел выражение в строительстве континентальной армии.
Простейшая задача — выяснить, сколько, собственно, солдат насчитывалось в армии, — доставила массу хлопот главнокомандующему. В первом же приказе он потребовал от командиров полков сообщить численность вверенных им частей. Несколько дней продолжалась волокита, пока Вашингтон не пригрозил «драконовскими мерами». Итог оказался неутешительным — 16,6 тысячи человек, из них 9 тысяч уроженцев Массачусетса. Еще хуже — солдаты вербовались на очень короткий срок, по истечении которого никакие угрозы или посулы не могли удержать их в рядах армии. Текучесть кадров доставила Вашингтону массу огорчений. К 10 декабря 1775 года, например, большая часть коннектикутцев, несмотря на апелляцию к их патриотизму, разошлась по домам. Их товарищи по оружию, улюлюкавшие вслед дезертирам, спустя три недели также сложили пожитки и отправились восвояси.
Когда наступил 1776 год, у Вашингтона осталось примерно 8 тысяч солдат, а по его предположению в Бостоне было 12 тысяч англичан (в действительности — 8,5 тысячи). План, предложенный Вашингтоном и горячо одобренный конгрессом, — иметь армию, насчитывавшую 20372 человека (26 полков, один полк стрелков и артиллерийский полк), — остался на бумаге.
В тогдашней Америке, громадной, слабо обжитой стране, оказалось невозможным вести войну только силами армии, построенной по европейскому образцу, как бы страстно Вашингтон этого ни желал. Постепенно вооруженные силы восставших колоний развернулись несколько по-иному. В каждом округе было свое ополчение, собиравшееся в случае опасности. Части ополченцев, конечно, не могли оказать эффективного сопротивления английской армии, но они выполняли чрезвычайно важную роль — Вашингтон всегда был в курсе последних передвижений неприятеля. Ополченцы держали англичан в состоянии постоянной тревоги. Высоко оценивая их роль, Вашингтон тем не менее твердо придерживался образа действия, избранного им с самого начала, — не допускать смешивания ополченцев с континентальной армией. Они, по мнению главнокомандующего, несли с собой опаснейшие бациллы анархии и разложения.
Отборные части — в начале войны стрелки, а позднее легкая пехота — могли при необходимости задержать, но не остановить английские войска. Они наносили внезапные, обычно ночные удары. А ядром вооруженной мощи оставалась вся континентальная армия — предмет постоянных забот Вашингтона. Так защищалась Американская революция.
Отступления от структуры, принятой в европейских армиях, шли рука об руку с изменениями методов вооруженной борьбы. Хотя Вашингтон никогда так и не утратил надежды, что ему удастся повести войну, как было принято в XVIII веке, практика скоро научила его, что в революции армия не только вооруженная сила, но и инструмент пропаганды. Концепция солдата-гражданина получила дальнейшее развитие, хотя едва ли сам главнокомандующий был от нее в восторге.
Но приходилось постоянно помнить об общей обстановке. «Нужно всегда считаться с настроениями народа, — учил он своих военачальников, — если это не нанесет серьезного ущерба нашим действиям. Это особенно верно для той войны, которую мы ведем, где моральный дух и готовность к самопожертвованию должны в значительной степени заменить принуждение». Было бы глубоко ошибочно вывести отсюда великую приверженность вирджинского плантатора к революционным методам борьбы. Их Вашингтон опасался, пожалуй, не менее, чем неприятеля.
Он отлично видел, что полное торжество концепции солдата-гражданина приведет к самым прискорбным последствиям для имущих слоев. На возможности солдата-гражданина Вашингтон смотрел с узкопрофессиональной точки зрения — только с позиции увеличения ударной мощи армии. Он отнюдь не хотел, чтобы война приняла характер глубокого социального переворота, то есть переросла в подлинную революцию.
Отсюда его постоянные настояния в пользу единства в лагере американцев, требования помнить, что крайности в ту или другую сторону пагубны. Анализируя позицию Вашингтона, его новейший биограф Д. Флекснер замечает: «Всегда существовала опасность, что произойдет размежевание в борьбе — восстание превратится в дело низших классов и будет направлено в равной степени против богачей-американцев и богачей-англичан — и состоятельные бросятся искать защиту у армии министерства». Вашингтон стремился предотвратить это всеми силами. Он писал: «Мы должны избежать рифов, на которых наш корабль развалится на части. Именно здесь таится величайшая опасность, и я буквально содрогаюсь, когда думаю о ней. Только отсутствие единства может погубить наше дело. Все рухнет, если величайшая осмотрительность, сдержанность и умеренность не восторжествуют среди нас и не станут главными принципами борющихся сторон».
С этой точки зрения всемерное укрепление континентальной армии было основным орудием достижения искомых целей. Со всеми допущениями, диктовавшимися тогдашней обстановкой, армия в руках Вашингтона оставалась строгой иерархической организацией, причем офицерский корпус был привилегированной кастой. В этом отношении Вашингтон не шел ни на какие уступки — между офицерами и солдатами должно быть резкое различие. А офицеров по штатам полагалось очень много. Полк состоял из 720 человек, делившихся на 8 рот. В роте из 90 человек было 76 рядовых и 14 офицеров и сержантов. Грубо говоря, на пятерых солдат приходился офицер или сержант.
Офицеры многотысячного сборища под Бостоном никоим образом не могли удовлетворить Вашингтона. В августе 1775 года он с отвращением писал Г. Ли: «Одно из труднейших задач, когда-либо встававших в моей жизни, — заставить этих людей поверить, что существует или может существовать опасность, пока вражеский штык не уткнется им в грудь. Это не выдающаяся удаль, а скорее следствие необъяснимой глупости низших классов, которая, поверь мне, преобладает и среди офицеров-массачусетцев. Они на одно лицо с рядовыми, что доставляет мне массу трудностей, ибо совершенно невозможно заставить таких офицеров выполнять приказы. Они только заботятся о том, чтобы снискать доброе расположение избравших их рядовых, на чьи улыбки они готовы положиться».
Вашингтону был нужен другой офицер. Он внушал континентальному конгрессу: «Людям свойственно с неохотой подчиняться тем, кого они считают незаслуженно поставленными начальниками над собой… Только состоятельные джентльмены, выходцы из достойных семей, обычно полезные офицеры». Он добился от конгресса повышения жалованья офицерам, дабы придать им «должный вид» и обеспечить нужную дистанцию между ними и солдатами.
Нехотя воздавая должное солдату-гражданину, Вашингтон тем не менее указывал континентальному конгрессу, что боеспособность рядовых определяется тремя факторами: естественной храбростью, жаждой вознаграждения и страхом перед наказанием. «Трус, — настаивал Вашингтон, — знающий, что в случае дезертирства его ждет смерть, пойдет на риск в бою». Наблюдая, как происходит вербовка солдат, Вашингтон не строил ни малейших иллюзий относительно человеческого материала, из которого формировалась армия. «Такое отсутствие общественного долга и добродетелей, — восклицал он, — такое низкое торгашество и изобретательность по части подлых штучек, лишь бы что-нибудь урвать… такой грязный дух наемничества пронизывает их всех, что меня не удивит никакая катастрофа».
Таковы, в самом грубом изложении, взгляды главнокомандующего на собственные войска. Удержать солдат в повиновении он считал возможным только в стальных тисках дисциплины. Перед солдатской массой Вашингтон представал бессердечным военачальником.
Другое лицо Вашингтона было обращено к офицерскому корпусу, особенно к его верхушке. Тем, кто, по воззрениям вирджинца, достойно носил офицерский мундир, он беспредельно доверял, возлагая на них самые различные функции. В приказах по армии строжайшим образом запрещались азартные игры, сурово преследовалось пьянство: «Пресечь мерзкую практику потребления дневного рациона рома в один присест, поручив сержантам следить за тем, чтобы ром разбавляли водой… Тогда напиток не пагубен, а весьма освежает и полезен».
Но армией командовали отнюдь не унылые трезвенники или кисляи, как говаривали в XVIII веке. Рассказывают, что во время задушевной беседы у Вашингтона ударили барабаны, ухнула сигнальная пушка — тревога! Военачальники вскочили, генерал Грин закричал, что не может найти своего парика. «Взгляните в зеркало, сэр!» — пробасил прославившийся хладнокровием генерал Ли. Грин бросился к зеркалу и увидел, что пропавший парик на его голове. Он вздохнул с облегчением — привычный вид, и тут же изумился — в зеркале смеялись два Вашингтона!..
За столом Вашингтона вино лилось рекой, он находил, что благородный напиток «оживляет» беседу. То, что для рядового было тягчайшим грехом — крепкая выпивка, — для джентльмена почиталось обычным развлечением. Двойной стандарт в оценке людей в зависимости от их социального положения был принят в XVIII веке. Вашингтон, конечно, не обгонял время.
Искореняя сквернословие среди рядовых, насаждая чистоту нравов, главнокомандующий либерально относился к слабостям джентльменов. Прослышав, что офицер в преклонных годах, обезумев от любви, женится на молоденькой девушке, Вашингтон дает отеческий совет, подобающий Отцу Страны (письмо написано, когда его уже начали признавать за такового): «Рад узнать, что мой старый знакомый полковник Уорд все еще подвержен сильным страстям. Я не буду относить смелость его предприятия за счет вспышки чувств, ибо в годы военной службы он научился отличать ложную тревогу от действительного маневра. Милосердие побуждает меня предположить, что как осмотрительный офицер он рассчитал свои силы, проверил оружие и боеприпасы, перед тем как приступить к делу. Однако если он, игнорируя все это, очертя голову бросится в бой, я бы посоветовал ему провести первую атаку на его Дульцинею из Тобосо с такой энергией, чтобы оставить глубокое впечатление, если оно не может долго продержаться или часто возобновляться».
Разве мог помыслить рядовой, насиловавший себя, чтобы не заснуть на посту, что главнокомандующий способен на такие советы? Разве не Вашингтон, поминая его добрым или недобрым словом в зависимости от склонностей, размышляли солдаты, распорядился изгнать из лагеря женщин легкого поведения? А его отеческая забота о приличии! Узрев, что солдаты купаются голыми на виду, Вашингтон страшно возмутился. Генерал-адъютант главнокомандующего Д. Рид огласил по армии приказ: «Генерал категорически запрещает всем заниматься этим на мосту в Кембридже или около него. Отсюда поступили жалобы, что многие, утратив приличие и стыд, носятся нагими по мосту, в то время по нему следуют прохожие и даже дамы общества. Поступающие таким образом чуть ли не хвастают своим постыдным поведением».
Стан континентальной армии под Бостоном довольно быстро приобрел военный вид. Полковой капеллан У. Эмерсон, дед Р. Эмерсона, записывал: «В лагере происходят великие изменения, вводятся порядок и дисциплина. Новые хозяева, новые законы. Каждый день генералы Вашингтон и Ли на передовой. Между офицерами и рядовыми проводится большее различие. Каждого заставляют знать свое место, в противном случае его вяжут и дают тридцать-сорок ударов в зависимости от тяжести проступка. Тысячи людей работают ежедневно с четырех до одиннадцати часов утра. Просто удивительно, как много делается».
Начали прибывать подкрепления — роты из Мэриленда, Вирджинии и Пенсильвании. Всеобщее восхищение вызвали бравые вирджинские молодцы Моргана, пришедшие прямо с границы (1000 километров за 21 день), в кожаных рубахах, мокасинах и с кентуккскими ружьями. По приказу Вашингтона прекратились добрые беседы часовых на передовых постах с неприятельскими, солдатами, теперь с линий укреплений настороженно вглядывались в сторону Бостона. Охотники начали подстреливать англичан как дичь, особенно метя в офицеров. Попадание в «омара» или «ростбиф» (по цвету красных мундиров) вызывало здоровый смех американцев.
Охотники становились героями среди солдат и сущим наказанием для Вашингтона. Постоянные выстрелы без приказа на передовой, не говоря уже об обычае охотников силой освобождать из-под замка товарищей, угодивших под стражу, приводили главнокомандующего в бешенство. Он страстно молил бога, чтобы славные земляки наконец убрались из лагеря, ибо вбиваемая плетьми дисциплина подрывалась удальцами на глазах.
Американцы и англичане под Бостоном не горели желанием помериться силами. У Вашингтона обнаруживались все новые нехватки. Так, выяснилось, что вместо 348 баррелей (мера объема, равная 119,24 литра) пороха, значившихся на складе, армия имела только 36. По девять выстрелов на мушкет! Вашингтон в отчаянии распустил слух, что пороха некуда девать — дескать, есть 1800 баррелей, и обратился с паническим письмом к конгрессу — раздобыть где угодно пороха. А солдатам велел изготовлять пики. Беесонными ночами он прислушивался — не загремят ли барабаны, возвещая неприятельскую атаку, последствия которой «страшно даже представить… армии и стране придет конец».
Порох наконец подвезли, а враг не шел. Вашингтон и конгресс терялись в догадках. Они считали, что у Банкер-Хилла американцы все же потерпели поражение, ибо сдали позиции. Если бы американцы могли проникнуть на военные советы у английского генерала Хоу, сменившего Гейджа! Англичане, не вдаваясь в тонкости, кто победил, помнили о чудовищных, неоправданных потерях полков его величества от рук «оборванцев». Памятуя, что подкрепления нужно везти через Атлантический океан, Хоу не рвался в бой. Англичане пока стали на зимние квартиры в Бостоне, а в штабе обдумывали, где основать в дальнейшем базу для операций, ибо находили город невыгодным в стратегическом отношении.
Хоу снискал благорасположение прелестной Бетси Лоринг, которым пользовался без помех, ибо ее достойный супруг был по уши занят: с благословения англичан он конфисковывал дома патриотов и продавал их с аукциона. В городе было голодновато, англичане сидели на солонине, некоторых подкосила болезнь. Офицеры осажденного гарнизона развлекались как могли — ставили любительские спектакли, в которых изображался главарь разбойников Вашингтон в лохмотьях, в громадном парике и с длинной ржавой саблей на боку. Шутники направили приглашение Вашингтону на представление, в заключение которого обещали ему «доставить удовольствие» — повесить.
Натуре Вашингтона не была свойственна бездеятельность. Он настойчиво испрашивал разрешения у конгресса на штурм Бостона. По политическим мотивам ему отказали — в Филадельфии опасались довести дело до полного разрыва с метрополией. Он созывал бесконечные военные советы — генералы также высказывались против, цепенея при мысли, что придется схватиться с английским войском. Главнокомандующий склонился перед их мнением, на военных советах он завел демократию — решения принимались большинством голосов. Вероятно, это было не следствием нерешительности Вашингтона, как иногда склонны предполагать, а объяснялось нежеланием спорить. Он прекрасно видел, что уроженцы Новой Англии и так с большой неохотой подчиняются набобу с Юга. Ссориться с ними было бы опасно как для дела, так и для собственного положения. По аналогичным причинам Вашингтон проявлял величайший такт и в сношениях с конгрессом.
Вознесенный на пост главнокомандующего континентальной армии, Вашингтон по-прежнему считал, что оценен сверх его способностей. «Я не военный гений, — писал он, — и не офицер с большим опытом», и если «буду действовать только по собственному суждению и своей воле», то неудачи сделают меня «объектом всеобщего недовольства». Много спустя Вашингтон, оглядываясь на ранний период своей полководческой деятельности, написал — если бы тогда он мог предвидеть будущее, «то все генералы на земле не убедили бы меня, что уместно воздержаться от штурма Бостона». Опыт пришел с годами.
Конгресс и генералы не допустили штурма Бостона. Вашингтон, стесненный на суше, развернул действия на море. Испросив разрешения конгресса, он вооружил шесть судов, которые со 2 октября 1775 года (рождение флота США) занялись каперством в прибрежных водах, иногда перехватывая английские транспорты. Флотоводческие увлечения Вашингтона судовладельцы-патриоты поддержали с величайшим энтузиазмом. Старое ремесло — пиратство — отныне объявлялось борьбой за бесценную свободу Америки.
Они взяли несколько ценных призов, доставив континентальной армии мушкеты, порох, пули и военные припасы. Вирджинец очень скоро понял, что стоит у истоков американской морской мощи. «Беды и огорчения, — признался он, — которые принесли мне экипажи всех без исключения вооруженных судов, просто неописуемы. На свете нет худших разбойников». Каждый раз, когда «наши мерзавцы каперы» возвращаются в порт, они «готовы бунтовать, если только им не разрешают своевольничать». В 1776 году Вашингтон с искренним облегчением передал контроль над «флотом» военно-морскому комитету конгресса, и с тех пор он «не имел ничего общего с морскими делами».
Каперы усилили огневую мощь армии Вашингтона. С захваченного британского брига была снята большая бронзовая мортира весом более тонны. С восторженными воплями орудие потащили на позиции, окрестили «конгресс», в знак чего генерал Путман разбил о него бутылку рома. Английские солдаты так и не услышали голоса «конгресса» — ретивые патриоты забили неслыханный заряд, и мортира при первом выстреле разлетелась на куски.
Вашингтон, крепко выругавшись, поручил артиллерийское дело спокойному бостонскому книготорговцу Г. Ноксу. По той причине, что Нокс у себя в лавке начитался военных книг, он был произведен в полковники. Нокс отправился в форт Тикондерога и с превеликими трудностями доставил к весне 1776 года под Бостон 59 трофейных английских орудий.
Англичане оставались хозяевами на море. Они где им заблагорассудится высаживали десанты, запасались продовольствием, а зачастую грабили приморски городишки. К Вашингтону потоками шли просьбы о защите. Их было так много, что оставалось только подтверждать получение. Наиболее настойчивые просители слали обращение за обращением, особенно отличился губернатор Коннектикута, доискивавшийся причин, почему главнокомандующий не защитит родных берегов. Вашингтон наконец ответил: «Если ко всем трудностям и заботам моего поста еще добавить необходимость разъяснять причины, по которым отдаются приказы, тогда главная забота (осада Бостона) по сравнению с этим окажется самой малой…»
Отделаться от просителей оказалось нетрудным, но набеги англичан учащались — они начали обстреливать и сжигать города у моря. Вашингтон, конечно, был обеспокоен. Много для защиты сделать не удалось, приходилось полагаться на временные меры. Он не исключал, что злобствовавший губернатор Вирджинии Данмор, укрывшийся на английском военном корабле, попытается подняться по Потомаку и обрушится на Маунт-Вернон. Лоялисты под водительством Данмора уже продемонстрировали, на что они способны, — небольшие отряды с корабля разбойничали по побережью.
Вашингтон позаботился о том, чтобы Марта Кастис уехала из Маунт-Вернона в безопасное место, «хотя я едва ли думаю, — писал он, — что лорд Данмор может вести себя столь низко и не по-мужски, чтобы помышлять о захвате г-жи Вашингтон в качестве мести». Но в таких делах нельзя было полагаться на случай, тем более что ожесточение нарастало с обеих сторон. Некий тайный агент был направлен в Бостон для сбора сведений о неприятеле. Вашингтон положил ему плату 3331/3 доллара (напоминание о библейских тридцати сребрениках, выданных Иуде!). Агент донес, что американцы, взятые в плен англичанами, страшно бедствуют. Это послужило поводом для обмена письмами между Вашингтоном и английскими командующими, которые оправдывали нарушение военной этики, ссылаясь на то, что все американцы — мятежники. Англичане наотрез отказались признавать какие-либо привилегии за пленными офицерами континентальной армии, заперев их в грязную тюрьму вместе с уголовниками.
Это разбередило старые раны Вашингтона — англичане верны практике, сводившей его с ума в молодые годы: не признавать офицеров местного производства, Письмо Вашингтона, подведшее итог переписке по поводу обращения с пленными, пылало давним негодованием: «Вы презираете чины, полученные из иного источника, чем ваш. Но я не могу признавать иного, более почетного, чем честный выбор мужественного и свободного народа, а это источник чистейшей воды, основа основ любой власти». Отныне, предупредил Вашингтон, обращение с пленными англичанами будет основываться на принципах взаимности.
Осень и зима 1775 года ознаменовались самой крупной воинственной вылазкой американцев за всю войну за независимость. Они пошли завоевывать Канаду, жители которой проигнорировали пламенные призывы конгресса и по-доброму не захотели стать четырнадцатой восставшей колонией. Вашингтон с величайшей радостью поддержал идею похода, выдвинутую конгрессом. Вероятно, помимо прочего, и потому, что удалось пристроить к делу вирджинских молодцов Моргана, отравлявших ему жизнь. Две колонны американских войск под командованием генерала Шайлера и полковника Арнольда должны были захватить Монреаль и Квебек, приобщив местных жителей к прелестям свободы.
Вашингтон, полагая, что освободительный поход удастся, наставлял лихих военачальников: «Сражаясь за свою свободу, мы должны быть осмотрительными и не нарушать свободу совести других, всегда памятуя, что только бог судья над сердцами людей». Жестокости любого рода «опозорят американское оружие и вызовут возмущение против нас со стороны наших товарищей — подданных».
Американцы в ходе кампании в Канаде претерпели большие лишения и преодолели громадные трудности. Войска совершили длительные марши по бездорожью, овладели Монреалем, но не смогли взять Квебек и, следовательно, потерпели неудачу. Арнольд, раненный в бою, прославился на всю Америку. Вашингтон выразил свое мнение о нем так: «Достоинства этого джентльмена велики, и я от всего сердца надеюсь, что судьба отметит его как одного из своих любимцев». Неистовый Морган с остатками отряда своих патриотов в мокасинах сдался в плен.
Канадская кампания, в которой в общей сложности принимало участие восемь тысяч американцев, летом 1776 года окончилась унизительным поражением.
Успех под Бостоном, однако, с лихвой перекрыл горечь поражения в лесах Канады. 3–4 марта по приказу Вашингтона все 59 пушек, притащенные по бездорожью Ноксом из Тикондероги, были водружены на высотах Дорчестер. Бостон и гавань оказались в пределах орудийного огня. Хоу созвал военный совет. Англичане и не помышляли о штурме высот, кровавый призрак Банкер-Хилла стоял у них перед глазами. Было решено оставить Бостон и перебросить армию в Галифакс, где переформировать ее.
Известия о том, что американцы захватили и укрепляют высоту Нук-Хилл еще ближе к Бостону, заставили англичан поторопиться. Войска поспешно грузились на суда, лишнее имущество и даже десятки орудий были оставлены. Английские генералы и адмиралы в глубочайшем смятении ожидали, что вот-вот американцы начнут бомбардировку города, и торопились убраться. Артиллерия континентальной армии зловеще молчала — Хоу и его штаб так и не узнали, что у противника не было пороха для сколько-нибудь продолжительной стрельбы.
17 марта последние английские солдаты взошли на борт корабля. Еще десять дней 170 английских судов, принявшие гарнизон и свыше тысячи лоялистов, бежавших из Бостона, стояли на внешнем рейде. Это заставило Вашингтона теряться в догадках — быть может, англичане прибегли к военной хитрости, быть может, собираются нанести удар по Нью-Йорку. Он никак не мог допустить, что враг оставил свою цитадель — Бостон. Только 27 марта, когда английский флот поднял паруса и ушел, Вашингтон успокоился. Теперь можно было в безопасности оценить размеры победы.
Описывая увиденное в городе, Вашингтон отметил: «Уничтожение припасов в лагере у Данбара после поражения Брэддока бледнеет по сравнению с тем, что произошло в Бостоне». Англичане убирались из города с «быстротой, которую просто невозможно представить себе», брошены тридцать тяжелых орудий, сотни мушкетов, военные фуры, порох и многое другое. «Бостон, — заключил Вашингтон, — был почти неприступен, были укреплены все подступы». Американцам, конечно, не могло прийти в голову, что Хоу стратегически давно считал невыгодным удерживать город и только ожидал транспорта, чтобы эвакуироваться. Орудия на высотах Дорчестер, которые английский командующий принял за предвестник штурма, разве что поторопили его с выполнением своего замысла.
Заняв город, континентальная армия принялась, в свою очередь, притеснять немногих оставшихся лоялистов, воздавая им за преследования патриотов при англичанах. Хотя крайние эксцессы были чрезвычайно редки, а по приказу Вашингтона армия взяла под охрану собственность бежавших тори, лиц, заподозренных в сочувствии к англичанам, ждала незавидная участь. Их раздевали, мазали в дегте, вываливали в перьях и верхом на шесте выпроваживали из города. Дома самых ненавистных предали огню. Имущество лоялистов пошло с молотка на аукционе. Патриоты получали не только моральное, но и материальное вознаграждение.
Овладение Бостоном подняло дух защитников революции. Коль скоро до англичан, пока убравшихся с территории восставших колоний, добраться было мудрено, патриоты расправлялись с ненавистными сторонниками короны. Суровость в наказании противников за их политические взгляды была соразмерна оценке силы континентальной армии патриотами. От Мэна до Южной Каролины лоялистов забрасывали тухлыми яйцами, заставляли, стоя на коленях, поносить короля и министров или под ударами плетей прогоняли через улицы.
Главнокомандующий, выражая дух времени, высказался в том смысле, что неплохо было бы вздернуть самых отвратительных прислужников «министерства», затесавшихся в апостольскую общину патриотов. Тем самым был бы дан полезный урок всем презренным. Но все же его отношение к бостонцам, решившим разделить судьбу войск Хоу и покинувшим город на английских судах, более показательно, чем кровожадные призывы вешать. Описывая их уход из города (а бежали самые состоятельные, принадлежавшие к тому же кругу, что Вашингтон в Вирджинии), он заключил: «Один или двое совершили то, что должны были бы сделать давным-давно многие из них, — покончили с собой. Со всех точек зрения не было более несчастных, чем являются ныне эти презренные твари». Они положились на мощь Британии и обманулись в ней. «Несчастные! Введенные в заблуждение смертные! Не лучше ли объявить всеобщую амнистию и завоевать этих людей великодушным прощением?»
Вопрос носил чисто риторический характер и не подобал по положению «его светлости», от него конгресс и страна ждали новых ратных подвигов во имя драгоценной свободы. Вашингтон получил благодарность за Бостон от конгресса, который постановил отчеканить в честь славной победы золотую медаль в Париже. Гарвард воздал должное в достойной ученых форме, присудив Вашингтону степень доктора права. Художники малевали его портреты, а поэты сочиняли хвалебные оды.
В Америке объявился собственный военный гений, страна обрела полководца. Нет ни малейших сомнений в том, что поздней весной 1776 года Вашингтон уверовал в свою счастливую звезду.
Генерал Вашингтон отвоевал Новую Англию, и конгресс на гребне успеха счел возможным распоряжаться освободившимися частями континентальной армии. Нокса отправили в Ньюпорт укреплять город, Ли — на юг, командовать в Вирджинии, подкрепления пошли в Канаду. «Это значительно ослабило наши силы», — пожаловался Вашингтон в письме брату. Публично он не возражал, всегда признавая верховенство гражданской власти над военной.
Он ожидал, что англичане нанесут сильнейший удар, скорее всего высадившись в Нью-Йорке. Туда Вашингтон и погнал армию, озаботившись новым укреплением дисциплины, в чем, как уже объяснялось, по его разумению, и состояла основа боевого духа. За проступки — от игры в карты до самовольной отлучки — теперь полагалось 100–300 ударов плетью, иногда предписывалось: «По получении последних пятидесяти ударов спину наказуемого хорошо промыть водой с солью». Чтобы крепче помнили и злее были.
За десять с небольшим лет до описываемых событий во время Семилетней войны Англия выставила армию в 300 тысяч человек. Для подавления «бунта» американских колоний никак не могли собрать войско в 55 тысяч человек, на которое отпустил средства парламент. Хоу для кампании 1776 года требовал 50 тысяч человек.
Георг III, премьер Норт и министр по делам Америки лорд Джермен — трое, вознамерившиеся вернуть короне заатлантические владения, столкнулись с оппозицией к войне в собственной стране. В парламенте звучали отвратительные для слуха монарха речи вигов — лорда Чатама (У. Питта), Бёрке, Фокса и других. Их было мало, но они громко оплакивали действия короля, подрывавшего самые основы Британской империи. Как водится в Англии, то была оппозиция его величества — виги стояли за главенство английского парламента, однако указывали, что пробил час заменить узы имперских связей содружеством наций. Практической помощи «бунтовщики» по ту сторону Атлантики от них получить не могли, единственное, чего можно было ждать от вигов, — объективное признание справедливости их дела с парламентской трибуны.
Этого было, впрочем, немало. Лучшие британские военачальники и флотоводцы, отклоняя предложения короля воевать с американцами, ссылались и на парламентариев. То, что кощунственные для Георга III речи звучали в Вестминстере, неслыханно затруднило вербовку солдат. Очень скоро выяснилось, что в Англии потребной армии не собрать. В народе смотрели на поход, затевавшийся королем, как на братоубийственную войну. Тогда Георг III по обычаям века решил купить наемников. В сентябре 1775 года он обратился к российской императрице с просьбой продать 20 тысяч казаков, о воинском мастерстве которых понаслышались и в далекой Англии.
Обращение из Лондона изрядно повеселило российский императорский двор. Георгу III был послан изысканно-вежливый отказ. Он возмутился — императрица «не проявила той теплоты, которой я ожидал от нее, она даже пренебрегла приличием и не написала ответ собственноручно». Король напрасно гневался на императрицу, будто бы не желавшую лично вникнуть в дело. Екатерина II в эти дни писала (собственноручно!) одной из своих приятельниц в тоне милой светской болтовни: «Английский король — превосходный гражданин, добрый супруг, отец и брат. Такой человек не может остаться равнодушным к смерти сестры, хотя бы ничего не стоящей, и я готова держать пари, что потеря сестры причинила ему большее горе, нежели поражение его армии в Америке. Вы знаете — его прекрасные подданные тяготятся им, и даже часто». Императрица в заключение выразила сердечное убеждение, что еще при ее жизни Америка отделится от Европы.
Проученный в России, Георг III обратился к тем, кого он знал, — немецким князькам. Они, презрительно заметил Бёрке, «жадно втянули ноздрями трупный смрад прибыльной войны» и охотно продали Англии солдат. Кузен Георга III князь Брунсвик Люненбургский продал 4300 человек. За ним последовали другие — немецкие правители содержали дворы и были чадолюбивы. Князь Ханау имел от разных женщин свыше 70 детей, а ландграф Гессен-Кассельский — около 100. Последний правитель сумел из 300 тысяч подданных собрать почти 20 тысяч солдат. Уроженцы этого ландграфства составили большинство наемников, и поэтому всех их американцы стали именовать гессенцами. В общей сложности Георг III купил в германских землях и отправил за океан 30 тысяч наемников, что обошлось Англии в 4,7 миллиона фунтов стерлингов.
Лондон не делал секрета из своих военных приготовлений, и вести о них достигали берегов Америки. Быть может, королевские министры хотели посеять панику среди восставших. Результаты получились обратные. В колониях заговорили о том, что пора рвать все связи с Англией. Собственно, терять больше было нечего, — в декабре 1775 года парламент объявил, что американские колонии больше не находятся под защитой Англии. Был санкционирован захват и конфискация американских судов в открытом море.
9 января 1776 года увидел свет памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл», сыгравший решающую роль в повороте настроений в Америке в пользу независимости. За три месяца было продано неслыханное количество экземпляров — 120 тысяч! А жило в стране не менее трех миллионов, многие были неграмотными. Пейн целил прямо в институт монархии, то есть опрокидывал последнюю надежду лоялистов. Он знал о Георге III и прочих из первых рук — Пейн приехал в Америку в ноябре 1774 года и очертя голову бросился в местный политический водоворот. Импортированные им идеи получили немедленный отклик на новой родине, где к выходу памфлета он прожил год с небольшим.
Пейн объяснил американцам, что династия английских королей, основанная Вильгельмом Завоевателем и представленная Георгом III, возникла не по воле всевышнего. «Французский ублюдок, высадившийся во главе вооруженных разбойников и воцарившийся в Англии вопреки согласию ее жителей, является, скажем прямо, весьма мерзким и низким пращуром. В таком происхождении, конечно, нет ничего божественного». Автор велеречиво обосновал справедливость отделения от Англии, причем подчеркнуто оценивал это событие в глобальных терминах и категориями меньшими, чем тысячелетия, не мыслил. «Здравый смысл» привел его в заключение к утверждениям, что американцы соорудят никак не меньше чем рай на земле. Он закончил свое внушение недавно обретенным соотечественникам весьма возвышенной тирадой: «О! Вы, которые любите человечество! Вы, кто отваживается противостоять не только тирании, но и тирану, выйдите вперед! Каждый клочок Старого Света подавлен угнетением. Свободы травят по свету. Азия и Африка давно изгнали ее. Европа считает ее чужестранкой. Англия же потребовала ее высылки. О, примите беглянку и загодя готовьте приют для всего человечества».
Читать эти строки поднявшимся против метрополии было сладостно и очень приятно. Пейн по своему разумению пытался раскрыть внутренний смысл борьбы и ее значение для истории. Вашингтон, как и другие лидеры революции, принял к сердцу «Здравый смысл». Но как военный он отвел должное место сообщенному Пейном. Коснувшись умонастроений народа, он писал 31 января 1776 года: «Еще несколько горячих аргументов типа продемонстрированных в Фалмуте и Норфолке (города, сожженные английским флотом в октябре 1775 года и январе 1776 года. — Н. Я.) в дополнение к трезвой доктрине и неопровержимой аргументации «Здравого смысла» не оставят сомнения, что отделение уместно». Спустя десять дней он добавил: «Дух свободы бьется в наших сердцах, чтобы мы могли надеть ярмо рабства, и, если ничто другое не удовлетворит тирана и его дьявольское министерство, мы преисполнены решимости порвать все связи с таким несправедливым и неестественным государством».
Да, очень могучий ветер свободы набрал силу в Америке весной 1776 года. Руководители революции горой встали за отделение от Англии, колонии должны конституироваться в независимое государство. Независимость нужна была как хлеб, как воздух, ибо светлые надежды на победу в схватке с тиранией были связаны с ожиданием помощи от давних соперников англичан — Франции и Испании. Взывавшие к оформлению бесценной свободы в государственных рамках указывали, что не удастся договориться с монархами Франции и Испании о совместной борьбе со злодеем Георгом III, если американцы не предложат в обмен гарантий и торговых преимуществ, которые может дать только независимая нация. Ясное осознание этого подстегивало патриотов. 3 марта конгресс направил в Париж Сайласа Дина договориться о помощи, вменив ему в обязанность разъяснить министру иностранных дел христианнейшего короля Людовика XVI Верженну: «Существует большая вероятность того, что колонии станут независимыми».
Колония за колонией, все чаще именовавшие себя штатами, высказывались за независимость. Решающий момент наступил 15 мая 1776 года, когда самый могучий штат Вирджиния подал голос за основание независимого государства. Конгресс формально попросил штаты образовывать собственные правительства. В июне в Филадельфии конгресс провел великие дебаты о преимуществах отделения. Т. Джефферсон, конспектируя содержание речей делегатов конгресса, подчеркнул: Вашингтон и его родной штат Вирджиния усматривали блага независимости в том, что «будут приняты немедленные меры для получения помощи со стороны иностранных государств и создана конфедерация, которая теснее свяжет колонии».
Сводя рассуждения пламенных революционеров к сути, Т. Джефферсон записал: «Только Декларация независимости в соответствии с европейскими порядками даст возможность европейским державам иметь дела с нами и даже принять нашего посла. До объявления о ней они не будут принимать наших судов в своих портах, не будут признавать законным захват нами английских судов. Хотя Франция и Испания могут ревниво отнестись к росту нашей мощи, они решат, что она будет еще больше, если к ней прибавится Великобритания, и поэтому в их интересах воспрепятствовать возникновению такой коалиции. Если они откажутся (помочь американцам. — Н. Я.), наше положение не изменится, в то время как, если мы не сделаем попытки (объявив независимость), мы так и не узнаем, помогут они нам или нет. Нынешняя кампания (после взятия Бостона. — Н. Я.) может окончиться неудачей, и поэтому нам лучше предложить им союз, пока наши дела благоприятны. Ожидать исхода кампании — значит терять время, ибо в течение лета Франция сможет эффективно помочь нам, отрезав доставку припасов из Англии и Ирландии, от которых зависят здесь вражеские армии, или введя в действие крупные силы, которыми она располагает в Вест-Индии, заставив врага защищать его владения там. Бесполезно говорить об условиях союза, пока мы не решили вступить в него. Нельзя терять времени с открытием торговли для нашего народа, которому нужны товары и потребуются деньги для уплаты налогов. Единственный промах — почему мы не вступили в союз с Францией на шесть месяцев раньше, ибо это, помимо открытия французских портов для нашего прошлогоднего урожая, дало бы возможность Франции двинуть войска в Германию и помешать тамошним князькам продавать своих несчастных подданных для подавления нас».
Хотя члены конгресса, рассуждая о месте своей страны в мировых делах, определенно хватили через край и даже со смехотворной уверенностью судили и рядили за Францию, им нельзя отказать в реализме. Практичные буржуа смотрели в корень и надеялись побить тиранию главным образом руками других, вознаградив иностранных тираноборцев и совсем недавних собственных лютых врагов — французов обещаниями различных торговых преимуществ. Впрочем, едва ли они поступились бы многим и в этой области. Мотивы стремления к независимости именно в тот, а не в другой момент сомнений не вызывают, как и то, что по соображениям того же голого практицизма представлялось совершенно невозможным объявить о них во всеуслышание.
На конгрессе, посовещавшись, поручили Т. Джефферсону сочинить Декларацию независимости со всеми приличествующими великими принципами. Его выбрали по той же причине, что и вручили жезл главнокомандующего Вашингтону, — Джефферсон происходил из сильнейшего штата Вирджиния. Тридцатитрехлетний философ, запершись в комнатушке, снятой у каменщика, засел за документ. Книг под рукой не было, и Джефферсон воспроизводил свободолюбивые идеи по памяти. 2 июля текст был представлен конгрессу, и последовало двухдневное обсуждение, в ходе которого были ликвидированы некоторые красоты Декларации. Была вычеркнута длинная филиппика насчет английского народа, который недостаточно энергично выступал против политики своего правительства в отношении Америки. Из пространного перечисления злодеяний Георга III убрали указание на то, что он препятствовал прекрасным намерениям колоний ограничить рабство и работорговлю. В этой связи той же рукой, что и писались объявления о вознаграждении за поимку бежавших рабов, со знанием дела был пригвожден к позорному столбу институт рабства.
Большую часть Декларации занимало довольно склочное и мелочное перечисление «беспрестанных несправедливостей и узурпации, имевших своей прямой целью установление неограниченной тирании над нашими штатами». Георг III соответственно обзывался «тираном, непригодным для правления над свободным народом». Философская часть документа, для которой потребовалось всего-навсего 300 слов, а она и составила славу Декларации в американской истории, провозглашала «самоочевидными» истины о том, что «все люди созданы равными, наделены богом некоторыми неотчуждаемыми правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью». Для обеспечения этих прав учреждаются правительства, каковые в случае, если они становятся тираническими, должны быть изменены или упразднены народом, имеющим право и обязанным учредить формы правления, «какие представятся народу наиболее пригодными для обеспечения его безопасности и счастья». В конце документа, «обратившись к Верховному судье мира в доказательство чистоты наших помыслов», конгресс объявил о полном разрыве с британской короной, своем праве «вести войну, заключать мир, союзы, торговать и делать все то, что могут делать по справедливости независимые государства».
4 июля 1776 года конгресс торжественно одобрил Декларацию независимости. Возникло новое государство Соединенные Штаты. Хотя пороха не хватало, гремели салюты, звонили колокола. Американцы упивались вином независимости. Декларация читалась и перечитывалась публично. Она вызывала громадное, ни с чем не сравнимое воодушевление. Имена 55 подписавших ее стали известны только 18 января 1777 года. Отнюдь не авторская скромность тому причина. На первых порах они предпочли остаться в безвестности, ибо король грозил петлей «бунтовщикам».
Последующая судьба США приковала к Декларации самое пристальное внимание. Исследователи обнаружили, что то был волнующе революционный документ. Прогрессивный американский историк Г. Аптекер нашел: «Идеи эти имели международное происхождение. Конкретно, когда речь идет об американцах XVIII столетия, одобривших их, они коренились в гуманистической и вольнолюбивой аргументации Древней Греции и Рима. Они коренились во всем блистательном Веке Разума с его титанами борьбы против догмы и авторитаризма».
Так разъясняет значение Декларации Г. Аптекер в книге «Американская революция 1763–1783 гг.», выпущенной в США в 1960 году. Почти два столетия, прошедшие с распубликовавши документа, позволили автору обнажить его глубокие исторические корни. Т. Джефферсон не имел этого преимущества. Вспоминая в старости об истории Декларации, всего через 49 лет после ее появления, он написал 30 августа 1823 года: «Заимствовал ли я мои идеи из книг или пришел к ним путем размышлений — не знаю. Я знаю только то, что при написании ее не обращался ни к книгам, ни к брошюрам. Я не считал, что в мои обязанности входило изобретать новые идеи, и я не выразил никаких взглядов, которые уже не были известны».
Действительно, Декларация независимости, трактовавшая о всеобщем равенстве, не предусматривала политических прав для «кабальных слуг» и бедняков вообще. Негры, конечно, также не входили в человечество, которое собирались просветить великие американские революционеры. А о женщинах и говорить не приходится. Умнейшая Эбигейл Адамс, супруга Д. Адамса, сухо написала мужу, имевшему обыкновение советоваться с ней в политических делах: «Не могу сказать, чтобы я считала вас очень великодушным по отношению к женщинам, ибо, провозглашая мир и добрую волю для мужчин, освобождая все нации, вы настаиваете на сохранении абсолютной власти над женами». Она определенно недопоняла прекрасных намерений супруга и К°, они брали за основу модель античной олигархической республики. Тосковали по ней и стремились воплотить в жизнь те самые волнующие принципы. Как говорил Э. Рандольф, американцы идут не по новой земле, «но по республиканской земле Греции и Рима».
Судья У. Драйтон из Южной Каролины был весьма приметной фигурой среди предводителей восстания. Он слыл и был радикалом. Сразу после подписания Декларации он вывел некую закономерность существования империй. «Рим, — объявил он, — возник из самого скромного начала и стал самым могучим государством под солнцем, мир склонился перед императорскими орлами… По естественным причинам и общими усилиями Американские штаты порвали с британским владычеством… Сомневаться в наши дни, что Америка разорвала узы с Британией, значит бесцеремонным образом ставить под сомнение вечную мудрость провидения… Всевышний избрал нынешнее поколение, чтобы создать Американскую империю. Благодарные, каковыми мы и должны быть, этой самой блистательной миссии, каждый из нас должен напрячь все усилия в выполнении этого важнейшего дела, которым руководит сам Иегова. Ибо при ближайшем рассмотрении очевидно, что замысел этой работы — не дело рук человеческих».
Очень вероятно, что Драйтон был не слишком тверд в истории. Он путал республику и империю Древнего Рима. Не в этом суть, главное — филадельфийские революционеры были свято убеждены, что они приступают к переделке мира по образцу, созданному ими.
Причины появления благороднейшего документа, очевидные в Филадельфии, по-иному выглядели в Европе, отделенной от Америки Атлантическим океаном. Уже по дальности расстояния европейские вольнодумцы не могли четко рассмотреть контуры «отцов-основателей» юной республики. Им представлялось, что там, в благословенной Америке, пекутся о свободе всех, не различая, что дело идет о куда более узком понятии — независимости США. Свобода, как мы видели, готовилась далеко не для всех американцев, ее блага предусматривались только для избранных и богатых. Слова Декларации вольнодумцы были склонны принять за чистое золото. Поразительное смешение понятий, открывшее путь для триумфального шествия оглушающих сентенций Т. Джефферсона по миру.
Джордж Вашингтон был далек от споров, волнений и надежд, связанных с Декларацией независимости. Для него, пребывавшего в исторические дни рождения нации в Нью-Йорке, неминуемое вторжение англичан значило куда больше, чем документ, привезенный курьером к армии 9 июля. Для военных Декларация, конечно, была находкой — все становилось на свои места: тори подлежали аресту, а американец признавался равным любому другому. 10 июля Вашингтон отдал приказ: «Конгресс был вынужден объявить объединенные колонии Северной Америки свободными и независимыми государствами. Сегодня вывести несколько бригад в шесть вечера и провести парады. Во время их внятно прочитать декларацию конгресса». Сам он остался в штабе и не вышел к войскам, беспокойно прислушиваясь к громким крикам одобрения воинов. Кажется, кричали достаточно, что и подтвердили вернувшиеся со смотра офицеры.
На следующий день Вашингтон поблагодарил конгресс за проделанную работу и выразил надежду, что Декларация независимости «чрезвычайно интересна… и обеспечит ту свободу и привилегии, в которых нам отказали вопреки голосу Природы и Британской конституции». Позднейшие, особенно иностранные, интерпретации Декларации привели бы в изумление рабовладельца и джентльмена Вашингтона.
Он сообщил конгрессу о куда более неотложных вещах: «Прибывает ополчение из Коннектикута, батальоны неполные. Они говорят, что люди заняты на сенокосе». И еще одно осложнение — солдаты, смешавшись с толпой, в едином патриотическом порыве с уханьем низвергли конную статую Георга III в Нью-Йорке. «Деяние, — огорчился Вашингтон, — походило на бунт и указывает на недостаток порядка в армии». Он выразил мнение, что уничтожение изображений тирана, пусть продиктованное чистейшими побуждениями, входит в компетенцию гражданских властей.
Для филадельфийских революционеров, взявшихся переустраивать дела планеты, было бы просто неестественно не считать себя и знатоками военных дел. Вдали от армии философы-оптимисты и языкатые адвокаты рассуждали о стратегии. О них-то и вырвалось у Вашингтона: «…с жаром героев, греющих зады у камина». Они придавали большое значение р-р-революционности войны и посему полагали возможным лишить неприятеля армии методами, которые в XX веке относят к сфере психологической войны.
Прослышав о том, что Георг III направляет в Америку гессенцев, конгресс 14 августа 1776 года принял обращенную к ним прокламацию, в которой красочно описал справедливость дела США, ведших войну лишь потому, что они «отказались обменять свободу на рабство». Конгресс обратился к наемникам: «После того как они нарушат все христианские и моральные принципы, вторгнувшись и попытавшись уничтожить тех, кто не причинил им ни малейшего вреда, избежавших смерти или плена ждет единственная награда — вернуться под деспотизм князя, который вновь продаст их в рабство какому-нибудь другому врагу человечества». Конгресс подкрепил моральные стимулы материальными, призвав гессенцев дезертировать и селиться в США, где они бесплатно обретут благословенные гражданские права и по участку земли в 20 гектаров. Дабы призыв достиг наемников, прокламация конгресса печаталась и на обертке табачных пачек. К глубокому разочарованию сочинителей обращения, считанные гессенцы вняли ему.
В Лондоне также попытались внести политический элемент в военные планы. Пронзительные жалобы лоялистов оглушили кабинет Норта, где рассудили, что стоит красным мундирам появиться в Америке, как к ним сбегутся несчетные толпы истосковавшихся по королю. Было поэтому намечено высадить войска в Чарлстоне, Южной Каролине и Нью-Йорке, местах, где, по слухам, изобиловали лоялисты. В том, что их там было великое множество, в Лондоне не ошиблись, но грубо просчитались в воинственности тех, кто продолжал считать себя подданными Георга III. Десант генерала Клинтона в Чарлстоне 28 июня был отбит, английский адмирал Паркер не смог разрушить бомбардировкой форт. Англичане убедились, что Чарлстон нелепо, но сильно укреплен, и Клинтон с поредевшим войском отплыл к Нью-Йорку, где назревали главные события.
Стратегический план братьев — генерала и адмирала Хоу — был неплох. Они замыслили взять Нью-Йорк, великолепная гавань которого могла принять любой флот. Усилившись за счет лоялистов, англичане затем собирались двинуться на северо-запад вдоль Гудзона навстречу армии генерала Карлтона, выступавшей из Канады. Соединившись где-то в районе Олбани, королевские войска вбили бы клин между Новой Англией — центром восстания, как считал кабинет Норта, и Югом. Это, надеялись братья, а вместе с ними в Лондоне, даст возможность быстро расправиться с мятежниками.
Едва ли Вашингтон, ожидавший англичан в Нью-Йорке, знал в деталях о честолюбивом плане, но он был твердо убежден, что бой захватчикам придется дать в городе, и готовился к схватке. «Нам предстоит кровавое лето», — писал он.
Хотя некоторые трезво мыслившие в лагере восставших предлагали сжечь Нью-Йорк (оплот лоялистов!) и заблаговременно отступить в глубь страны, конгресс и Вашингтон решили защищать выдвинутые вперед позиции. Тогдашний Нью-Йорк занимал часть острова Манхэттен, который омывают Гудзон, Гарлем и Ист-Ривер. Вашингтон полагал, что прикрыть Манхэттен лучше всего, обороняя Лонг-Айленд, на котором приказал укрепить и занять высоты Бруклин. Желание быть сильными во всех пунктах привело к разделению армии на две части — одна оставалась в Нью-Йорке, другая ушла на Лонг-Айленд.
На бумаге было 28,5 тысячи человек, в действительности пригодными к бою оказалось не более 19 тысяч. В подавляющей части войска не были обстреляны, с трудом подчинялись дисциплине. Чтобы часовые не засыпали, Вашингтон, отчаявшись в других методах воздействия, приказал убрать с постов все, на чем можно было присесть. Воины, призванные защищать крупный город — в Нью-Йорке насчитывалось до 30 тысяч жителей, — не всегда были стойки перед соблазнами. У недавних фермеров глаза разбегались — винные лавки и бич армии — толпы проституток, намертво взявшие войско в кольцо. Ко всему прочему в городе кишели лоялисты, в тавернах открыто пили за здоровье короля.
Вашингтон тщетно пытался пробудить солдат к осознанию опасности, нависшей над горячо любимой родиной. Нещадно драли пьяниц и любителей общества беспутных женщин. Обнаружились дела и посерьезней — королевский губернатор колонии Нью-Йорк руководил заговором, целью которого было покушение на жизнь Вашингтона. Душегубы послали ему отравленные сливы, которые по чистой случайности генерал не съел. Смертоносное действие ядовитых плодов проверили на цыплятах — птицы тут же сдохли. Поговаривали, что в момент высадки англичан предатели откроют огонь из пушек по своим. То, что армия имела артиллерию, вне всяких сомнений, доказывало существование зловещих планов. Вашингтон распорядился арестовать и препроводить в отдаленное место мэра города, закоренелого лоялиста Мэтьюза, с сообщниками.
Он приказал предать суду военного трибунала сержанта личной охраны Хики и других, которым вменялось в обязанность убить генерала. «Других» так и не судили, а Хики в конце июня при большом стечении народа повесили. Вашингтон в приказе по армии в связи с «заговором Хики» благоразумно отвлек внимание от политических аспектов дела, указав: «Самый надежный путь» — не соблазниться на предательство, «избегать беспутных женщин, которые, по предсмертному признанию несчастного преступника, и толкнули его на путь, закончившийся преждевременной и бесславной смертью».
С конца июня англичане стали высаживаться на остров Статен у входа в гавань Нью-Йорка. Там не было американских войск, и Вашингтон в бессильной ярости получил сообщение о том, что местные жители охотно снабжают врага продовольствием, а некоторые даже вызвались служить в войсках короля. Он сокрушался, что дьявольское золото захватчиков подрывает рвение соотечественников в защите страны. Враг готовился, а солдаты континентальной армии, у которых истек срок службы, расходились по домам. Вашингтон бомбардировал Филадельфию просьбами помочь создать постоянную армию. Конгресс наконец внял голосу рассудка, учредив среди своих бесчисленных комитетов военное управление под председательством Д. Адамса и предложив премию в 10 долларов согласному подписать контракт на трехлетнюю службу в армии.
Англичане, готовя самую крупную десантную операцию XVIII столетия — у Хоу было 32 тысячи солдат, из них 9 тысяч гессенцев, — попытались по приказу министерства вести политику кнута и пряника. 15 июля к Вашингтону явился под белым флагом парламентер. После длительных препирательств главнокомандующий выслушал посланца, но так и не взял адресованного ему письма, ибо на нем значилось: «Эсквайру Джорджу Вашингтону и т. д. и т. п.», настаивая, что подобающий ему титул — «Его светлость, генерал». Выяснилось, что полномочия Хоу на ведение переговоров ограничивались обещанием прощения. На что Вашингтон резонно возразил: «Мы не совершили никаких проступков, требующих прощения, и мы всего лишь защищаем то, что считаем нашим неотъемлемым правом». На том и расстались.
Напряжение в Нью-Йорке нарастало — англичане прощупывали прочность обороны. Как-то несколько вражеских кораблей, воспользовавшись свежим ветром, вошли в Гудзон и приблизились к городу. Вашингтон был убежден, что путь по реке англичанам прегражден — на берегу заблаговременно выставили батареи. Но стоило показаться парусам английских кораблей, возмущенно писал он, как артиллеристы, вместо того чтобы броситься к орудиям, высыпали к воде «глазеть на корабли… Праздное любопытство в такие минуты делает людей низкими и презренными». Англичане обстреляли город, где вспыхнули пожары. Жители разбегались. «Крики и вопли бедняг, метавшихся с детьми, были прискорбны, они произвели нежелательное воздействие на уши и умы наших молодых и неопытных солдат», — заключил полководец. Надежды на то, что английский флот не сможет бесчинствовать в зоне огня американских батарей, рухнули, беспорядочная пальба с берега не нанесла англичанам видимого ущерба. Что и отметил Вашингтон, наблюдавший за перестрелкой в подзорную трубу.
Новые приказы по континентальной армии — поднять боеготовность и бдить, а на острове Статен росла уверенность в победе. Некий английский офицер, отпрыск аристократического семейства, пишет приятелю о буднях в предвкушении успеха: «Скромные нимфы сего острова в сладостном волнении, ибо на свежем мясе, которое мы получаем здесь, войска стали похотливы, как сатиры. Ни одна девушка не может нагнуться в кустах за розой, чтобы не подвергнуться немедленной опасности, а они столь мало привыкли к энергичным методам, что не относятся к ним с должным смирением, и потому каждый день у нас самые забавные разбирательства. Женщина пришла с жалобой не на то, что ею овладели семеро — «Слава богу, это пустяки», — но они отняли у нее любимый молитвенник. Вчера девушка пожаловалась лорду Перси, что ее обесчестили гренадеры. Лорд спросил ее, откуда она знает, что действовали гренадеры, ведь было темно. «Бог мой, — воскликнула она, — никто другой не мог этого сделать, и, если ваша светлость обследует меня, вы убедитесь, что дело обстоит именно так!» Все английские войска, высаженные на остров, здоровы и преисполнены решимости… Первые же янки-псалмопевцы, которые встанут на пути их сабель, окажутся в весьма затруднительном положении. Если моей бабушке нужны украшения для домашней церкви, я думаю, ей можно поставить по дешевке отборные головы… Недавно прибыли гессенцы, рвущиеся схватиться с бунтовщиками, которых они презирают… Скоро мы вступим в дело, и последствия для мятежников будут фатальными».
Наконец свершилось — 22 августа ликующие войска Хоу высадились на Лонг-Айленде, на берег сошло 20 тысяч человек. Разведав местность и выяснив диспозицию американцев — их на острове было 5 тысяч, Хоу составил план сражения. Он установил, что левый фланг противника не только не защищен, но и не охраняется. В ночь на 26 августа он двинул главные силы в обход. Проводники-тори охотно повели врагов в тыл соотечественникам. Оставшиеся войска, в центре которых были гессенцы, должны были атаковать американцев с фронта по условному сигналу — два пушечных выстрела, означающие, что охват завершен.
В девять утра Вашингтон услышал пушечный выстрел слева и с тыла, за ним другой. Там не должно было быть орудий! Но тут же его внимание привлек центр позиции — с пением гимнов зеленые и синие ряды усатых гессенцев пришли в движение и с точностью автоматов двинулись на американцев. В считанные минуты все. смешалось — удар с фронта, натиск густых колонн англичан с тыла. Враг везде. Американцы побежали, только отдельные части с отчаянной решимостью и руганью дрались. Многие растерявшиеся поднимали руки, и горе тем, кого хватали гессенцы, — они тут же вешали пленных, избивали всех бросивших оружие.
В дикой панике, охватившей войска, Вашингтон ничего не мог поделать и поторопился на Бруклинские высоты — укрепленную позицию в тылу, откуда прекрасно был виден разгром армии. В эти критические часы он, несомненно, был убежден, что все потеряно, — на высоты сбегались солдаты, вырвавшиеся из пекла у их подножья, окровавленные, а главное, перепуганные до полусмерти.
А внизу страшное зрелище — наголову разгромив американцев, бесчисленные английские полки (Вашингтону еще не приходилось видеть столько войск сразу) строились для штурма Бруклинских высот. Офицеры равняли ряды, отдавали команды, и вот, взяв ружья на плечо, они двинулись вперед, но, пройдя несколько шагов, сделали поворот кругом и пошли обратно. Чудо! Отказ от взятия Бруклинских высот военные историки единодушно считают величайшей ошибкой Хоу, он упустил верный шанс наголову разбить армию Вашингтона. Несомненно, перед мысленным взором Хоу стоял Банкер-Хилл, менее вероятно допущение иных историков — английский генерал втайне сочувствовал делу восставших.
Англичане решили взять Бруклинские высоты по всем правилам — заложили параллельную траншею, за ней отрыли бы другую, третью, подтащили бы пушки и так далее. Потрясенный Вашингтон не стал ждать неминуемой развязки — приближения вражеских укреплений и последнего страшного натиска. В дождливую и туманную ночь 29 августа он скрытно перевез армию через реку почти в полтора километра шириной на остров Манхэттен. Маневр был выполнен с величайшей хитростью — отходившие войска грузились в лодки в твердой уверенности, что их сменяют свежие части. Таковых и в помине не было.
Американцы проиграли сражение, потеряв около 1500 человек, из них более тысячи пленных. Хоу недосчитался около 400 человек. Но Вашингтон спас армию. В Нью-Йорке он упал в обморок. Оправившись, отправил конгрессу донесение о битве, объяснив задержку сообщения тем, что «до сих пор я не был в состоянии ни диктовать, ни писать», ибо с момента высадки англичан до отхода в Нью-Йорк шесть суток «я почти не слезал с коня и ни на миг не смежил век».
Хотя Вашингтон попытался преуменьшить значение случившегося, распорядившись опубликовать фантастические данные об английских потерях, он знал, что положение из рук вон плохо. «С величайшей тревогой, — пишет он конгрессу, — я вынужден признаться, что не верю в боеспособность войск… До недавнего времени я не сомневался, что смогу защищать это место, но теперь отчаялся». Главнокомандующий никак не мог смириться с мыслью, что солдаты не повинуются приказам, а при опасности бегут без оглядки на офицеров.
Он еще не понял, что величайшая мобильность армии (в том числе, мягко говоря, при отходе) была преимуществом перед англичанами. В любом случае они не были в состоянии оккупировать обширные пространства, а уничтожить боевую силу американцев не представлялось возможным — уж очень они были легки на ногу. Ополчение доставляло одни огорчения — после отступления с Лонг-Айленда, сообщал Вашингтон конгрессу, ополченцы дезертировали «иногда почти целыми полками», из восьмитысячного коннектикутского ополчения за неделю осталось едва две тысячи, и «их пример заражает другие части армии».
Филадельфийские философы носились с концепцией солдата-гражданина, Вашингтон и офицеры вокруг него знали лучше цену как ораторам, так и своей армии. Генерал-адъютант главнокомандующего Д. Рид в эти дни с величайшим отвращением писал жене: «Когда я оглядываюсь и вижу, что из множества столь высокопарно разглагольствовавших о смерти и чести таковых здесь так мало… я поражаюсь до глубины души. Иные джентльмены из Филадельфии, наносящие сюда визиты, при первом же орудийном выстреле разбегаются в страшной панике. Ваши шумные сыны свободы на поле боя тише воды, ниже травы…» Английский путешественник Н. Кресвелл, видевший американскую армию, записал в дневнике: «Здесь стоят янки, поистине создание дьявола. Человеку, чьи органы обоняния отличаются от свиньи, нельзя провести и дня в их зловонном лагере. Их армия многочисленна, но оборванна, грязна, масса больных и скверная дисциплина».
Через шпионов Хоу знал о плачевном состоянии в стане восставших и снова предложил переговоры, которые состоялись в начале сентября 1776 года на борту английского корабля. Доводы Хоу не убедили представителей конгресса, хотя он, будучи вигом, распинался в любви к делу восставших. Он заверил посланцев конгресса, что «в случае падения Америки он будет оплакивать это как потерю брата». На что Франклин серьезно заверил: «Мы сделаем все, чтобы не огорчать ваше сиятельство». Получив отчет о переговорах, Вашингтон заметил: «Лорду Хоу нечего предложить, за исключением того, что, если мы сдадимся, его величество решит, перевешать нас или нет». Миссия Хоу, вероятно, все же наложила определенный отпечаток на его действия, которые далеко не всегда были столь энергичными, как требовали обстоятельства.
Перед лицом превосходящего врага Вашингтон согласился с теми, кто давно предлагал сжечь Нью-Йорк и тем самым лишить англичан базы. Две трети имущества в городе принадлежало заклятым лоялистам. 8 сентября Вашингтон обратился к конгрессу с предложением оставить город. «Наш опыт, — писал он, — советы наших способных друзей в Европе и даже Декларация конгресса указывают, что нам следует вести оборонительную войну». Зная теперь боевые качества своей армии, он разъяснил конгрессу, что в этой войне нельзя вступать в решительное сражение с врагом, больше того, даже ожидать англичан в укреплении, ибо во вверенных ему войсках, «признаюсь, я не обнаружил готовности защищать их любой ценой». Ему приказали удерживать Нью-Йорк.
Остров Манхэттен тянется примерно на двадцать километров с севера на юг, имея в ширину около трех километров. Южную часть острова на два с небольшим километра занимал Нью-Йорк, затем километров десять тянулись поля фермеров, а на северной оконечности Манхэттена — скалистые высоты Гарлем. Даже дилетанту было ясно, что держать всю армию в городе значило подвергнуть ее смертельной опасности — при господстве англичан на море они могли высадиться в любом месте и отрезать американцев от единственного пути отхода — моста в северной части острова.
Вашингтон отвел главные силы (9 тысяч человек) на сравнительно безопасные высоты Гарлем, 5 тысяч осталось в городе и еще 5 тысяч охраняло побережье.
С утра 15 сентября в штабе Вашингтона в Гарлеме услышали рев канонады; английские корабли обстреливали остров со стороны Гудзона, то есть с запада. Вашингтон уже успел изучить повадки братьев Хоу и поэтому поторопился на восточную часть острова. Там, в заливе Кипс-Бей, на полпути между Нью-Йорком и Гарлемом, высаживался десант. 450 зеленых ополченцев, разинув рты, наблюдали за невиданным зрелищем — к берегу шли 84 шестнадцативесельных баркаса. Красные мундиры англичан, синие и зеленые мундиры гессенцев издалека выглядели как клеверное поле в цвету. Очарование длилось недолго, с кораблей ударили пушки, расчищая дорогу десанту. Стоило первым ядрам засвистеть над головами, как ополченцы резво побежали. Столбом взвилась пыль на дороге от сотен ног.
В пыльном облаке чертом вертелся Вашингтон, поднимая коня на дыбы, пытаясь остановить бегство. Куда там! Ополченцы мчались без оглядки. Едва улеглась пыль, как Вашингтон вздохнул с облегчением — к нему поспешали беглым шагом две бригады. Генерал наскоро указал позицию, в горячке он вылетел вперед, размашистыми жестами показывая, кому стать за стенами, разделявшими поля, кому залечь в кукурузе. Тут появился вражеский отряд не более 60–70 человек. Вашингтон оглянулся на своих молодцов и увидел их спины. Без единого выстрела бригады бежали по той же дороге, по которой только что промчались ополченцы. Они бросили орудия, мушкеты, ранцы, подсумки.
Вашингтон сорвал с себя шляпу, швырнул ее на землю и завопил: «И с этими я должен защищать Америку! Великий боже, что за армия!» Простоволосый генерал с трудом догнал на коне бегущую толпу и, врезавшись в нее, свидетельствует очевидец, «выхватил седельные пистолеты, направил их на солдат, нажал курки. Пистолеты не выстрелили. Говорят, что он обнажил шпагу, грозя рубить бегущих. Он бил их плетью по плечам в бешеной злобе за трусость. Он лупил не только солдат, но и офицеров, стегал полковников, избил бригадного генерала».
Ничего не помогало. В конце концов обессиленный Вашингтон остался один на дороге. Гессенцы были шагах в восьмидесяти, когда расторопный адъютант сообразил, что генерал, потеряв в отчаянии голову, сознательно ищет смерти, схватил лошадь Вашингтона за уздечку, и они ускакали.
Обезумев от стыда, Вашингтон прискакал в свой штаб в Гарлеме. До глубокой ночи он молча стоял в дверях дома, вглядываясь в лица все новых беглецов, появлявшихся в лагере. Когда стемнело, генерал немного успокоился — кажется, весь нью-йоркский гарнизон прибежал в Гарлем. Достопамятный пробег — двадцать километров за день. Казалось, они спаслись чудом. Легенда, составленная в патриотическом духе, гласит, что англичане не успели перерезать отход из города, так как некая прекрасная дама Мэррей зазвала Хоу в свой элегантный дом и там на несколько часов генерал забыл, что идет война. Другая легенда относит случившееся за счет симпатии Хоу к делу американской свободы. Каковы бы ни были истинные причины, Хоу, конечно, упустил врага, его четырнадцатитысячный десант потратил целый день, чтобы покрыть три километра до западного берега острова.
Англичане торжественно вступили в Нью-Йорк, а на Гарлемских высотах Вашингтон горестно подсчитывал издержки — потеряно больше половины артиллерии, обозы. «Все это можно было бы легко спасти, если бы войска оказали хоть слабое сопротивление врагу», — с гневом писал он.
На следующий день — новая схватка. Небольшой английский отряд подошел к высотам. Завидя американцев, горнист поднес горн к губам, и в чистом утреннем воздухе раздался до боли знакомый Вашингтону сигнал: «Трави лисицу!» Крайняя степень позора, намек для страстного любителя охоты на лис Вашингтона был понятен. Он повелел покарать наглецов, выслав против них превосходящие силы. Не доверяя солдатам, Вашингтон погнал возглавить отряд лучших генералов. Стычка окончилась победой — англичане ретировались. Моральный дух войска поднялся.
Вашингтону было суждено провести около месяца в укрепленном лагере на высотах Гарлем. Впереди была зима, и он предавался тягостным раздумьям — армия разбегалась. Дезертировали уже сотнями. Ежедневно в штабе толпились заплаканные женщины, мрачные мужчины — все жаловались на повальные грабежи.
Он пишет конгрессу: «В нашей армии развились такие настроения, что ни общественная, ни частная собственность не находятся в безопасности. Каждый час приходят жалобы на наших солдат, которые стали несравненно опаснее беднягам фермерам и обывателям, чем общий враг. Выпрягают и крадут лошадей от военных фур, разворовывают вещи офицеров и медицинские припасы, даже генералы не защищены от грабежа. Если не будут немедленно приняты свирепые и показательные наказания, армия развалится». Конгресс ввел смертную казнь за серьезные воинские преступления. Вашингтон, признавая необходимость вешать, все же считал, что решение вопроса не в этом.
Снова и снова он разъясняет конгрессу, что спасение в создании постоянной армии, солдат следует вербовать не на три года, а на всю войну. 24 сентября с Гарлема он пишет пространное письмо президенту конгресса Хэнкоку, в который раз излагая свои взгляды на строительство армии. Прежде всего повысить жалованье офицерам. («Почему, например, капитан континентальной армии получает 5 шиллингов в день за исполнение таких же функций, как капитан в английской армии, получающий 10 шиллингов? Этого я никак не могу понять».) Офицерам нужно платить столько, чтобы они могли «жить джентльменами». Рядовым, вступающим в армию, следует немедленно выдавать денежную ссуду, бесплатную форму и постельные принадлежности, закреплять «по крайней мере» 40–60 гектаров земли. Если не положить конец такой ситуации, когда «относятся к офицеру как к равному… не может быть ни порядка, ни дисциплины, офицер никогда не будет пользоваться тем уважением, которое жизненно необходимо для субординации».
Имея в виду безответственную болтовню в Филадельфии насчет высоких моральных качеств солдата-гражданина, Вашингтон писал: «Полагаться в какой-то степени на ополчение, конечно, смешно. Люди, оторванные от сладостей личной жизни, непривычные к звону оружия, совершенно незнакомые с военным делом, не уверенные в себе при встрече с подготовленными и дисциплинированными войсками, искусными в военном деле, робеют и готовы бежать от собственной тени».
Жестокие слова, глубоко ранившие политических мыслителей. Они полагали, что добродетельный пахарь, бросающий плуг и хватающий оружие, чтобы отразить наемников тирана, существует на самом деле. Жизнеспособность и реальность благородной концепции никогда не вызывали и тени сомнений у просвещенных, возвышенно мысливших юристов, рабовладельцев, торговцев и прочих заседавших в конгрессе. Теперь им приходилось признать, что, по крайней мере, в руках Вашингтона она определенно не действовала. Он требовал армию не из одухотворенных борцов за свободу, а из скованных железной дисциплиной солдат-профессионалов.
Главнокомандующий, конечно, не понимал положения конгресса, который не мог выполнить его пожелания. Члены конгресса представляли штаты, только-только обретшие автономию, а Вашингтон стоял за армию, совершенно не подчиненную тринадцати правительствам. На ум невольно приходили привычные сравнения с Древним Римом — разве диктаторы не начинали с того, что отнимали у республики ее вооруженную мощь, подчинив армию только себе? Не положит ли континентальная армия начало континентальному, тираническому правительству?
Каковы бы ни были опасения депутатов конгресса, выполнение настояний Вашингтона не терпело промедления. Конгресс вотировал создание армии из 88 полков и содержание ее на протяжении всей войны. Но штаты должны были не только формировать и снабжать их, но и назначать офицеров. Подбор офицерского корпуса зависел не от главнокомандующего, а от политиков в столицах штатов. По опыту минувшего года он знал, что солдаты не будут вступать в армию, пока не выяснят, кто именно будет ими командовать. Из штатов явятся, конечно, офицеры ополчения, а с ними, настаивал Вашингтон, «ни один человек, дорожащий своей репутацией, не может отвечать за последствия».
А война продолжалась…
В ночь на 20 сентября Вашингтона разбудили. Он выскочил на улицу, над Нью-Йорком стояло зарево — город горел! Он пробормотал: «Провидение или какой-нибудь добрый человек сделал для нас больше, чем мы были готовы сделать сами». Огонь уничтожил около пятисот домов, примерно четвертую часть города. Англичане и лоялисты не сомневались, что пожар — дело рук врага. Нескольких несчастных, объявленных «поджигателями», повесили за ноги или бросили живыми в огонь.
В эти дни офицер континентальной армии двадцатичетырехлетний Натаниэль Хейл, посланный собрать сведения об англичанах, попал в их руки. Хоу, разъяренный пожаром, наскоро допросил молодого человека и велел повесить его, что и было сделано в Нью-Йорке 22 сентября. С петлей на шее Хэйл провозгласил: «Я сожалею лишь о том, что я могу отдать за родину только одну жизнь».
Успешное овладение Нью-Йорком было только частью английского плана, другая часть — двинуться из Канады на соединение с армией Хоу — не была выполнена. Английский генерал Карлтон, правда, сумел побить противостоящие ему войска под командованием Бенедикта Арнольда, но понес большие потери и не рискнул наступать на Тикондерогу, а в начале октября отошел на зимние квартиры в Монреаль. Арнольда можно было с достаточными основаниями считать полководцем (разумеется, по масштабам схватки), предотвратившим катастрофу. Вашингтон, во всяком случае, не мог им нахвалиться.
Промешкав с месяц в Нью-Йорке, Хоу в середине октября возобновил наступление, высадив в тылу Вашингтона крупные силы в Пеллз-Пойнт. Американцы справедливо заподозрили, что их хотят поймать в ловушку в Гарлеме. Вашингтон пошел прямо на англичан, и 28 октября армии встретились: американцы заняли более или менее укрепленную позицию у Уайт-Плейнс, англичане провели очень вялую атаку и успокоились. Затем Хоу по причинам, так и не выясненным (позднее он загадочно бросил в парламенте: «По политическим соображениям»), отказался развить стычку в сражение, в котором с учетом соотношения сил американская армия была бы неизбежно уничтожена. Вашингтон не стал искушать судьбу и поспешно отошел. Тут же совершенно непонятно отступил Хоу. Он определенно готовил новый удар, но в каком направлении?
Разномыслие в штабе Вашингтона разделило американскую армию на четыре части, с тем чтобы парировать все возможные маневры врага. Гудзон заперли наспех сооруженные укрепления — форты Вашингтон и Ли, стоявшие один против другого. Там сел с пятитысячным гарнизоном генерал Н. Грин, еще три тысячи солдат стали километров на пятьдесят выше по течению. Полкам из Новой Англии под командованием Ч. Ли Вашингтон приказал отойти на восток и прикрыть эту часть страны. Семитысячный отряд Ли сосредоточился в районе Норс-Касл. Сам Вашингтон с двумя тысячами перешел на восточный берег Гудзона, решив остаться в Нью-Джерси — он полагал, что на пути к Филадельфии Хоу может двинуться сюда.
Разделение армии на четыре части служило предметом споров среди американских историков, далеко не все признали это разумным. Вашингтон, вероятно, не видел в рассредоточении войск большой беды, он полагался на большую подвижность американцев по сравнению с врагом. Кроме того, он наверняка верил, что сам в Нью-Джерси, а Ли в Новой Англии быстро сумеют набрать еще солдат. Последнее не оправдалось, хотя Вашингтон, преодолев отвращение, кликнул ополчение. Ополченцы штата Нью-Йорк ответили, что генерал Хоу обещал им «мир, свободу и безопасность, большего им не нужно».
Против всех ожиданий англичане пока не пошли далеко, а обрушились на цель под рукой — форт Вашингтон на западном берегу Гудзона. В скверно построенном укреплении было около трех тысяч американцев. 16 ноября против них двинулось тринадцать тысяч англичан и гессенцев.
Вашингтон поспел к решающему часу. Он прискакал в форт Ли с генералами Грином и Путманом и переправился в лодке на западный берег Гудзона. Впереди, очень близко, — гром орудий, мушкетная пальба. «Мы все остановились, попав в весьма неловкое положение, — писал позднее Грин, — поскольку все распоряжения были отданы, а враг надвигался, мы не осмеливались вмешиваться, больше того, мы не видели, чтобы что-нибудь было упущено. Мы все умоляли Его светлость уйти. Я вызвался остаться. То же самое предлагали генерал Путман и генерал Мерсер, однако Его светлость решили, что самое лучшее уйти нам всем, что мы и сделали за полчаса до того, как неприятель окружил форт».
Генералы вернулись к форту Ли. Вашингтон с высокого правого берега реки наблюдал за развязкой, которая не заставила себя ждать. Англичане пригрозили в случае продолжения сопротивления перебить гарнизон. Свирепые физиономии гессенцев подтвердили серьезность намерений врага. Потеряв 59 человек убитыми, 2634 защитника форта сложили оружие. Неприятель забрал 146 орудий, различные запасы. То было тяжкое и унизительное поражение. Задним числом Вашингтон доказывал, что Грин не понял его приказа эвакуировать форт. Однако он не сделал Грина козлом отпущения, а, напротив, еще более приблизил к себе.
Воодушевленный победой Хоу больше не медлил, в ночь на 19 ноября шеститысячный отряд генерала Корнваллиса форсировал Гудзон и пошел на форт Ли. Вашингтон приказал ретироваться. Было брошено все, успели вывезти только две двенадцатифунтовые пушки. Английский офицер описывал увиденное в оставленном укреплении: «На кострах еще кипели котлы, были накрыты столы для офицеров. В форту нашли всего двенадцать человек, все мертвецки пьяные. Обнаружено 40–50 заряженных орудий, включая две большие морские мортиры, громадные запасы боеприпасов, продовольствия, палатки не были сняты». Победители упивались успехом, другой английский офицер записывал: «Бунтовщики бежали как зайцы… Они оставили скверную ветчину и немало грязных прокламаций, среди них обращения того мерзавца автора «Здравого смысла», которые мы теперь можем читать на досуге, взяв один из «неприступных редутов» господина Вашингтона».
Под проливным дождем, превратившим дороги в грязное месиво, Вашингтон отступал через штат Нью-Джерси, преследуемый по пятам Корнваллисом. Скорбный путь испугал многих, измученные, обовшивевшие солдаты дезертировали. Робким душам представлялось, что все кончено — неприятель улучит момент и разгонит армию. Население Нью-Джерси склоняло головы перед англичанами и гессенцами, самые настырные добивались письменных «прощений» от имени Хоу. Попытки Вашингтона добыть теплые вещи и хоть раз досыта накормить изголодавшихся солдат не удались — фермеры не принимали денежные знаки континентального конгресса.
Мрачные думы овладели Вашингтоном, он был на грани отчаяния. В тысячный раз он клял себя за потерю форта Вашингтон, справедливо относя это за счет собственных «колебаний и нерешительности». Он понимал, что, вступив в Нью-Джерси, англичане могут повернуть на восток и легко взять близлежащую Филадельфию. Сил защитить столицу не было, любое сражение оставшихся у него примерно трех тысяч с врагом закончится окончательным разгромом.
В эти дни он пишет родственникам: «Наша единственная надежда теперь на быстрое создание новой армии. Если это не удастся, игра кончится довольно быстро». И в другом письме: «Вы не можете представить сложность моего положения. Наверное, никто не имел такого богатейшего выбора трудностей и меньше средств выпутаться из них».
Слабую надежду на спасение сулило отступление за реку Делавэр. Там, в Пенсильвании, отгородившись пока не замерзшим водным рубежом, можно было дать передышку измученным людям и приступить к формированию новой армии. А тем временем собрать войска, рассредоточенные ранее, и, главное, вызвать на подмогу в Пенсильванию генерала Ли с его людьми. Вашингтон слал к нему гонца за гонцом. Ли не торопился. В момент, когда дело восставших повисло на волоске, он занялся интригами.
Бесподобный генерал сожалел и постоянно повторял: «Прискорбно родиться не в славные третье или четвертое столетие существования Рима». Судьба, по разумению Ли, обошлась с ним круто — он возглавлял не железные когорты римлян, а толпы мятежных американцев.
С самого начала войны Ли считался и считал себя смыслящим в ратном деле куда больше Вашингтона. Офицер британской службы, он осел в Вирджинии в 1773 году, рассказывая всем и каждому о своих военных подвигах. Он воевал в Америке с индейцами и французами, дрался в Испании, побывал в Польше и даже навязался в русскую армию в войне с турками. Поразительно тощий и на удивление неопрятный, наполненный желчью, Ли говаривал: «Поистине лучшее доказательство доброго сердца любить собак, а не людей», и посему расхаживал окруженный сворой псов.
Эксцентричные манеры и особенно длинный язык Ли поразили простаков американцев. Он приобрел репутацию человека № 2 континентальной армии. Удача под Чарлстоном разожгла его честолюбие, а многие в Америке стали сокрушаться — почему вооруженные силы не вверены великому воину. «Генерала Ли ждут с часу на час, — съязвил английский офицер, — посланцем небес с легионом ангелов с огненными мечами». Генерал-адъютант Вашингтона Рид был недалек от такого мнения. В дни тягостного отступления он написал паническое письмо Ли, понося Вашингтона за нерешительность и умоляя генерала поспешить к попавшей в беду армии. Тут Вашингтон послал Рида в Пенсильванию сделать приготовления для отступавших войск.
В мрачный зимний день курьер вручил Вашингтону письмо, адресованное Риду. Главнокомандующий, полагая, что это деловой документ, сломал печать и погрузился в чтение: «Я получил ваше самое лестное письмо и вместе с вами оплакиваю ту фатальную нерешительность, которая на войне много хуже глупости и даже недостатка храбрости, случай может помочь ошибающемуся, однако если проклятье самого лучшего человека — нерешительность, — тогда его удел вечные поражения…» Вашингтон медленно сложил письмо, он совершил поступок, недостойный джентльмена, читал личную переписку других!
Он тут же схватил перо и, тщательно подбирая выражения, написал Риду: «Прилагаемое письмо доставил мне курьер, прибывший из Уайт-Плейнз. Не имея ни малейшего понятия, что это личная переписка и еще менее о ее характере, я вскрыл послание, как читаю все другие письма вам оттуда и из Пикз-Хилл по делам вашей должности. Это извиняет мое ознакомление с содержанием письма, чего я вовсе не желал. Благодарю вас за труды в поездке в Барлингтон, искренно надеюсь, что они увенчаются успехом. С наилучшими пожеланиями г-же Рид остаюсь и т. д. Джордж Вашингтон».
Рид сгорал от стыда — Вашингтон беспредельно доверял ему. Он подал в отставку, Вашингтон убедил его взять прошение обратно, памятуя о высших интересах отчизны. Разбитая дружба больше не склеилась, спустя три месяца Вашингтон назначил Рида командовать кавалерией. Снедаемый угрызениями совести, Рид, прощаясь со штабом, выразил глубокое сожаление по поводу случившегося. Вашингтон ответил дружеским и спокойным письмом, упрекнув Рида только за то, что «мнение не было доведено непосредственно до моего сведения. Благоприятный прием, который встречали ваши суждения во всех случаях, учет их, мое искреннее желание выслушивать их давали мне, я думаю, право получать от вас советы, в которых я, как казалось, нуждался…»
1 декабря Корнваллис приблизился к армии Вашингтона на 15 километров. И надо же было так случиться, что в этот день истекал срок службы многих солдат. Несмотря на уговоры Вашингтона, служивые разошлись по домам. Попытки собрать ополчение в Нью-Джерси не увенчались успехом, да и спрашивать не с кого — конвент штата разбежался.
А Ли, промедлив почти месяц, только 2 декабря тронулся с места и неторопливо пошел в Пенсильванию. Он подчинял себе части, дислоцировавшиеся по соседству, и вообще вел себя как грядущий спаситель США. Вашингтон приписал это избытку патриотического рвения, на деле Ли вступил в оживленную переписку как с генералами, так и с членами конгресса, недвусмысленно намекая, что только он способен отстоять страну в грозный час.
13 декабря Ли с армией был в двухдневном переходе от Вашингтона. Он любил ночевать в незнакомых домах и с незнакомыми женщинами, на этот раз избрав для ночлега уютную гостиницу, содержавшуюся разбитной вдовой. Несколько километров, отделявших гостиницу от бивака его войск, придали ей особую прелесть в глазах Ли.
Утром, плотно позавтракав, генерал принялся за привычное дело — поливать грязью Вашингтона. Он написал письмо генералу Г. Гейтсу, где изложил свои взгляды на высшую стратегию и поносил на все лады главнокомандующего, который-де, «между нами говоря, ни к черту не годится». Генерал собирался подписать письмо, как раздался испуганный возглас адъютанта: «Сэр, английская кавалерия!» К дому карьером летели драгуны, небольшой разъезд. Они окружили гостиницу, пригрозив, что если генерал не выйдет, то дом подожгут. Ли отвергнул великодушное предложение хозяйки спрятаться в постели, мужественно вышел к врагам как был — в шлепанцах, халате и без шляпы. Драгуны схватили его, сунули в седло и повлекли в плен. Получив известие о захвате Ли, Вашингтон схватился за голову: позор, а он одно время был готов уступить место рукастому и горластому полководцу!
В день, когда драгуны уволокли Ли, в лагерь Вашингтона примчался гонец из Филадельфии — насмерть перепуганный конгресс оповещал, что переезжает в Балтимору. Отцы американской независимости не озаботились призвать к стойкой защите столицы, где звучали их соблазнительные речи насчет свободы, а пеклись о личной безопасности. В горячке сборов они наскоро приняли резолюцию — воззвали к офицерам действующей армии добиваться морального совершенства, высказались против излишнего сквернословия на военной службе, а также постановили: «Пока конгресс не решит иначе, генерал Вашингтон располагает всей полнотой власти… для ведения войны».
Обстоятельства Вашингтона сравнивали с положением Цезаря и Ганнибала. Раздались крики: «Диктатор!» Сбежавшие конгрессмены не на того напали. Вирджинец чувствовал себя отнюдь не диктатором, а генералом, брошенным вдохновителями революции с голодными и раздетыми солдатами на произвол судьбы. А будущее могло действительно оказаться мрачным — Хоу развлекался как мог, грозя пленному Ли петлей. Главнокомандующий учтиво поблагодарил конгресс за высокое доверие, разъяснив представителю «революционеров», сбежавших в Балтимору, банкиру Моррису (он один остался в Филадельфии): «Отнюдь не считая себя освобожденным от всех обязательств перед гражданскими властями этим знаком их доверия, напротив, я постоянно памятую, что поскольку меч — последнее средство обеспечения наших свобод, его надлежит сложить первым, как только эти свободы будут твердо установлены».
«Диктатор» смиренно просил богача Морриса дать бумажных денег для уплаты обещанных премий служивым и особенно «звонкой монеты для расплаты с определенными людьми» — тайные агенты, конечно, не желали рисковать своей шкурой ради сомнительного доллара, выпущенного правительством, ударившимся в бега. Моррис, чем и заслужил вечное расположение Вашингтона, без промедления прислал пятьдесят тысяч долларов и два мешочка с серебряными и золотыми монетами. Мало вязалось с представлением о «диктаторе» и послание Вашингтона комитету безопасности Пенсильвании: «От всего сердца благодарю за собранные вами старые вещи для армии, они очень нужны и будут розданы самым нуждающимся».
Бегство конгресса развязало руки Вашингтону-полководцу. Впервые с начала войны за независимость он освободился от назойливых советов десятков стратегов-тыловиков. 14 декабря он принял решение контратаковать, ведь приближалось 1 января, когда вся армия практически растает. «Пытаться остановить уход полков по истечении срока их службы, — говорил он, — равносильно попытке остановить ветры или движение солнца». Если немедленно не одержать внушительной победы, тогда никакой силой не заманить новых солдат под знамена свободы. А без вооруженной силы дело революции погибнет.
В середине декабря у Вашингтона под ружьем было около семи тысяч человек. Большинство этих воинов революции считали дни, оставшиеся до 1 января. Их бедствия было почти невозможно преувеличить, однако англичане оказались способны на это. Хоу стал на зимние квартиры, заняв населенные пункты на восточном берегу Делавэра относительно сильными гарнизонами. 21 декабря командир почти полуторатысячного отряда гессенцев в деревне Трентон полковник Ралл получил разъяснение штаба: американская армия, «по существу, нага, умирает с голоду, солдаты не имеют одеял и очень плохо питаются». Прочитав успокоительное сообщение, полковник стал готовиться достойно встретить рождество, а Вашингтон — к атаке Трентона в рождественскую ночь.
Т. Пейн, деливший трудности похода с солдатами, в эти дни написал первый памфлет, открывший серию статей «Американский кризис». 23 декабря Вашингтон, прочитав творение Пейна, велел огласить зажигательные слова перед строем оборванных воинов: «В эти времена души людей проходят испытание. Летние солдаты и патриоты, нежащиеся под солнцем, в этот кризис бросят службу стране, но оставшийся заслужит любовь и благодарность всех. Тиранию, как ад, победить нелегко, но у нас есть утешение — чем тяжелее война, тем величественнее триумф. Что достается дешево, то и не ценится, ценность всему придает только дороговизна. Небо знает, какую цену назначать на свои товары, и было бы поистине странно, если бы такой предмет небесного происхождения, как Свобода, не был бы дорог…»
Набрасывая в бликах костра пламенные строки на барабане вместо стола, Пейн, как видим, сумел доходчиво объяснить солдатам цену свободы. Армия воспрянула духом и в ночь на 26 декабря вслед за Вашингтоном приступила к форсированию Делавэра. Солдаты, по уши укутавшись в тряпье, отталкивали веслами и баграми льдины. Переправа орудий обессилила людей. Из трех отрядов, на которые разделил армию Вашингтон, чтобы полностью окружить Трентон, только находившиеся под его командованием 2400 человек с 18 орудиями смогли перебраться через зимнюю реку. К четырем утра полки Вашингтона собрались на противоположном берегу.
Он понимал, что идет на отчаянный риск. Впереди буквально победа или смерть. Объезжая колонну призраков, ковылявших по дороге к Трентону, Вашингтон негромко заклинал: «Солдаты, держитесь офицеров, ради всего святого, держитесь офицеров!» Пошел ледяной дождь, смешанный со снегом, на полпути к деревне сделали привал — весь путь составлял свыше 12 километров. Двоих, присевших на снег, так и не разбудили. Колонна разделилась — одна дивизия пошла в обход Трентона. Ее командир генерал Салливан доложил, что порох подмок. «Передайте генералу Салливану действовать штыками», — утешил Вашингтон. К восьми утра вышли к Трентону, пройденный путь можно было легко различить — кровавые следы. Многие шли в развалившихся башмаках и изранили ноги.
Как и ожидал Вашингтон, гессенцы не могли и помыслить, что на них нападут в такую погоду. Они отдыхали от славной рождественской попойки. Когда американцы, сбив охранение, ворвались в Трентон, три гессенских полка попытались построиться в боевой порядок. Тщетно! Молодой Александр Гамильтон успел выкатить орудия к началу двух длинных улиц Трентона, и картечь вымела гессенцев. Ралл был убит. Падение с лошади командира положило конец сопротивлению. Гессенцы сложили оружие. Бой продолжался едва полчаса.
Наступил мутный зимний день — американцы наскоро пересчитали пленных — 918 человек! Около 400 гессенцев, однако, ускользнули. Враг потерял 40 человек убитыми, у американцев четверо убитых и четверо раненых, среди последних — юный лейтенант Д. Монро, один из будущих президентов США. Офицеры, перекрикивая друг друга, требовали преследовать врага. Вашингтон приказал, не теряя ни минуты, отступить за реку. Голодные солдаты смертельно устали. Хотя офицеры выполнили распоряжение главнокомандующего — сразу по взятии Трентона разбить винный склад гессенцев и вылить ром на землю, по улицам уже слонялись пьяные воины. Американцы, захватив пленных, ушли за Делавэр.
Случившемуся в Трентоне Хоу сначала не поверил: «Разве можно, чтобы три старых полка народа, для которого война профессия, сложили оружие перед оборванным и недисциплинированным ополчением!» Разобравшись, он приказал генералу Корнваллису с 7 тысячами человек поспешить к Трентону и проучить наглецов, а тем временем 29 декабря Вашингтон перешел Делавэр и снова занял Трентон.
Он стремился выиграть состязание со временем — через двое суток армия разойдется. По крайней мере, река затруднит уход. На месте недавней победы генерал выстроил полки и обратился к ним с речью, умоляя послужить еще шесть недель. Он обещал каждому оставшемуся по 10 долларов в твердой валюте, а также воззвал: «Вы окажете такую услугу делу свободы и вашей стране, которой, вероятно, больше не представится. Нынешний кризис решит нашу судьбу». Около полутора тысяч солдат вышли из рядов и вняли просьбе главнокомандующего. Серьезность его намерений сомнений не вызывала — он обещал в обеспечение денежного вознаграждения пустить все свое имущество, включая Маунт-Вернон. Вашингтон отлично усвоил неотразимую в американских условиях логику убеждения Томаса Пейна.
К исходу 2 января 1777 года Корнваллис с 5,5 тысячами вышел к Трентону. Вашингтон оказался в чрезвычайно опасном положении — его армия была прижата к реке. Офицеры штаба английского генерала убеждали его атаковать не мешкая. Он сослался на усталость войск, пообещав поутру «сунуть в мешок старого лиса», который, однако, думал по-иному.
В ночь на 3 января Вашингтон решил нанести удар.
Примерно 400 солдатам было приказано поддерживать огонь в кострах и шумно долбить мерзлую землю, остальная армия — до 6 тысяч человек — тихо снялась с места и по проселочной дороге двинулась в тыл Корнваллиса к Принстону, где был его резерв 1200 человек. Снова, как и неделю назад, шли, оставляя кровь на снегу. На привалах засыпали шеренгами, офицеры с трудом расталкивали солдат и звали вперед. Продвигались почти бесшумно, колеса орудий, копыта лошадей обмотали тряпками. За ночь покрыли 20 километров и утром столкнулись у Принстона с английскими войсками, направлявшимися к Трентону.
Свежие английские солдаты опрокинули было передовую американскую бригаду, возникла опасность паники. Американцы выдвинули два орудия, в рядах смущенных солдат появился на белом коне Вашингтон. Сцена, просящаяся на полотно художника-баталиста. Попятившаяся бригада приободрилась. Кое-как равняя ряды, американцы устремились за генералом. Англичане остановились и рассыпались за изгородью. Когда до них оставалось едва тридцать метров, Вашингтон крикнул: «Стой, залп!» Он совпал с залпом врага. Вашингтон между стенами огня. Адъютант полковник Фицжеральд закрыл лицо руками, боясь увидеть смерть главнокомандующего. Когда он взглянул, Вашингтон в клубах порохового дыма по-прежнему прочно сидел в седле и вел в атаку американцев.
Теперь побежали англичане. Вашингтон в гуще боя гнался за ними. Слышали, как он кричал: «Трави лису» ребята!» Понукать не приходилось: солдаты исправно работали штыком и прикладом. Они вихрем ворвались в Принстон, захватили около трехсот пленных и так же стремительно ушли из города. Вашингтон знал, что пылающий местью Корнваллис торопится на место боя. Он повел армию на восток, к высотам вокруг Морристауна, где собирался провести несколько дней, а остался на пять месяцев.
Корнваллис счел за благо не преследовать «старого лиса» и отвел войска почти из всего штата Нью-Джерси. Передовым английским аванпостом стал Брунсвик, в пятнадцати километрах от острова Статен, где англичане начали кампанию 1776 года. Только небольшие английские отряды отныне осмеливались углубляться в Нью-Джерси, в руках Хоу остался Нью-Йорк с небольшой прилегающей к нему территорией.
Трентон и Принстон сделали Вашингтона героем дня, заложили краеугольный камень его культа. По всем Соединенным Штатам его славили как нового Цезаря. Кресвелл — свидетель торжества свободолюбивых американцев — пометил в дневнике: «Имя Вашингтона превозносится до неба. Александр Македонский, Помпей и Ганнибал ныне по сравнению с ним пигмеи».
До начала марта 1777 года — возвращения конгресса в Филадельфию — Вашингтон около трех месяцев был «диктатором». Это далеко не радовало его. Он повторял, что получил «власть, которую весьма опасно вверять кому-либо. Могу только добавить, что лечение опасных болезней требует опасных средств, но я не рвусь к власти и страстно хочу перековать меч в плуг».
Пользуясь своим исключительным положением, он распорядился сформировать, помимо 88 полков, санкционированных конгрессом, еще 22, подчеркнув, что они не должны быть связаны с конкретными штатами. Эти дополнительные полки символизировали единство штатов, подвергавшееся серьезным испытаниям. Он основал три полка артиллерии. Конечно, вся эта вооруженная мощь осталась в основном на бумаге.
Освободив Нью-Джерси и укрепившись у Морристауна, примерно в сорока километрах прямо на запад от Нью-Йорка, Вашингтон встал перед проблемой, что делать с жителями штата, которые при вступлении английских войск поклялись в верности королю. Горячие патриоты, естественно, осаждали его с кровавыми планами расправы. Он отмахнулся от них — не нужно «мучеников». Вашингтон приказал всем давшим присягу англичанам явиться в ближайший американский штаб и там принести присягу на верность США. Тех, кто откажется или будет замечен в открытых враждебных актах, предписывалось вежливо препроводить к английским линиям и предложить убраться к врагам. Семьи изгнанников могли остаться в своих домах.
Жаждавшие крови, в том числе в конгрессе, осуждали мягкосердечие генерала, но он оказался совершенно прав. Англичане в Нью-Йорке не встречали изгнанников с распростертыми объятиями, они (часто состоятельные люди) влачили там нищенское существование. Нью-Йорк под британским военным управлением быстро излечивал от роялистских убеждений.
Вторжение англичан и гессенцев в Нью-Джерси повернуло сердца колебавшихся. Грабежи и насилие войск, особенно гессенцев, приобрели широкий размах. Очевидец сообщал Джефферсону: «Позоря цивилизацию, они насилуют прекрасный пол — от десяти до семидесяти лет». Комиссия конгресса, обследовавшая положение в Нью-Джерси и Нью-Йорке, сообщила об оргии убийств пленных, насилиях и грабеже. Когда в 1779 году английский парламент провел расследование поведения войск Хоу на американской земле, то свидетель, английский генерал Робинсон, указал, что в Америке допускались эксцессы, которых не могло быть на занятой территории в Европе.
Вашингтон считал, что вражеское нашествие — великая школа воспитания патриотизма, а чтобы уроки были наглядны, все время внушал служивым вести себя прилично. Запрещая, например, в приказе 1 января 1777 года «всем офицерам, солдатам континентальной армии и ополченцам грабить любого, тори он или нет», главнокомандующий подчеркивал, что «человечность и вежливость к женщинам и детям будут отличать смелых американцев, сражающихся за свободу, от презренных наемных разбойников, как англичан, так и гессенцев».
Приказы, однако, никак не могли образумить американскую армию. Некий священник Малленберг, местечко которого освободили бравые воины, отправился в свой «храм и, к глубокому сожалению, нашел, что полк пенсильванского ополчения захватил церковь и школу. Храм был переполнен вооруженными офицерами и солдатами, один из них играл на органе, остальные подпевали хором. На полу солома и грязь, алтарь осквернен. Я не счел благоразумным обращаться к толпе, ибо они стали издеваться, а офицеры потребовали от игравшего на органе исполнить гессенский марш. Я нашел полковника Данлопа, вопросив его: «Что, это и есть обещанная защита религии и гражданских свобод?» Не получив вразумительного ответа, преподобный отец с местным учителем отправились по домам, где все было разграблено. «Стоит вымолвить хоть словечко по поводу этого, как кричат: «Тори!» — и грозят сжечь дом, а другая сторона обзывает нас бунтовщиками». В общем, куда ни кинь, везде клин.
Вашингтон не опускался до уровня понимания событий, который в наше время назвали бы обывательским, а видел высший смысл происходившего — революция защищалась. Во время стояния у Морристауна он наконец приискал полезное занятие для ополченцев, вменив им в обязанность не допускать вылазок врага на американскую территорию, перехватывать и, если возможно, истреблять английских фуражиров, уничтожать припасы, которые могут попасть в руки солдат Хоу. Развернулась своего рода партизанская война, в которой ополченцы брали верх. Англичане чувствовали себя в Нью-Йорке как в осажденной крепости. Идеи, дорогие сердцу лондонского кабинета, вроде того, что в Америке полным-полно лоялистов, дали серьезную трещину. Хоу задним числом был вынужден объяснять покорность ньюджерсийцев под англичанами не верноподданническими чувствами, а развитым инстинктом самосохранения.
Раньше англичане считали, что умиротворение обширных просторов Америки не потребует больших издержек. Королевские войска очищают территорию, оставляют небольшие гарнизоны, опирающиеся на лоялистов, и идут дальше. Теперь выяснилось, что к покорности население таким способом не привести. Каждый район должен быть занят крупным отрядом, но стоит ему уйти, как бунтовщики возьмутся за свое. Английские стратеги справедливо рассудили, что это будет продолжаться, пока существует континентальная армия. Уничтожение ее, а не занятие территории представлялось задачей первостепенной важности. Стоит разбить Вашингтона, как исчезнет надежда на помощь и народ склонит голову перед королем.
То были не бог весть какие сложные расчеты, которые отлично понимал Вашингтон. Он делал все, чтобы сохранить и укрепить армию, ибо, пока на горизонте маячила вооруженная мощь республики, у Англии не было надежд на окончательную победу. И снова все по тому же кругу — как заманить солдат под знамя родины. В марте 1777 года Вашингтон сообщал конгрессу, что у него осталось едва три тысячи бойцов, по-прежнему голодных, разутых, раздетых. Открылась новая кампания вербовки в континентальную армию, а штаты, особенно Массачусетс и Коннектикут, обещали за службу в ополчении большую плату и в твердой валюте. Вашингтон ввел смертную казнь для ловкачей, несколько раз вступавших на военную службу и, следовательно, обогащавшихся. Он заподозрил, что некоторые офицеры принимали па службу «мертвые души», по отчетам дезертирство в их частях достигло абсурдных размеров. Значит, прикарманиваются деньги, отпущенные на вступительное пособие защитникам республики. Он отказался от героического решения не брать никого, кто не соглашается служить менее трех лет, вернувшись к прежнему одногодичному сроку.
Доллар катастрофически обесценивался. К концу войны лошадь стала стоить 150 тысяч, пара сапог — 600, пара чулок — 700 долларов, на «воз долларов нельзя было купить воз продовольствия». Лоялистская газета в Нью-Йорке поместила объявление — закоренелый тори приобретал доллары на оклейку квартиры вместо обоев. Фермеры и торговцы не продавали ничего за подозрительные бумажки. Вашингтон приказал реквизировать продовольствие. Но он не мог приказать, чтобы в армии прекратились эпидемии. Больные лежали на грязной соломе в примитивных госпиталях. Попасть туда — означало идти на верную смерть. Легионы вшей с остывших трупов притягивало тепло живых, лежавших рядом.
К весне 1777 года американцы потеряли убитыми и пленными около пяти тысяч человек, еще несколько тысяч унесли болезни. Грубо говоря, выбыла примерно половина тех, кто взялся за оружие, чтобы отстоять независимость. Солдаты, вырвавшиеся из армии, разносили по стране вести об ужасах, которые они пережили. Каждый, понятно, преувеличивал личный опыт.
На все эти беды у Вашингтона был единственный ответ — нужна дисциплина. Она, конечно, помогала в борьбе с пьянством, или, как говаривали в армии, «бочковой лихорадкой». Но оспа и тиф не повиновались приказам. Вашингтон требовал поддерживать чистоту в лагере, заставлял всех делать прививки примитивными методами, известными веку. В поучение трусам он уговорил жену, наезжавшую в лагерь, сделать прививку против оспы. Хотя Вашингтон торопился собрать армию, все новобранцы проходили прививку — они переносили болезнь в легкой форме, что обычно занимало месяц. Церкви Морристауна приютили толпы этих людей.
Только поздней весной армия начала медленно расти, достигнув к июню 8 тысяч человек. Вероятно, Вашингтон мог бы иметь больше людей, но он пуще всего боялся отойти от установленного принципа — не смешивать континентальную армию с ополчением. Впрочем, даже жители Морристауна думали, что в армии, по крайней мере, 40 тысяч штыков. Разместив части на значительном удалении друг от друга, Вашингтон отлично поставил дезинформацию, и при каждом удобном случае к англичанам просачивались фантастические данные об их численности. Как-то офицер ворвался в штаб, требуя ордера на арест английского шпиона. Вашингтон успокоил его, порекомендовал подружиться с агентом и дать ему возможность стащить документы, преувеличивавшие вооруженную мощь республики.
С начала 1777 года начали сказываться усилия конгресса относительно того, чтобы заручиться помощью за рубежом. В Париже трудился Дин, действовавший под видом торговца, что, впрочем, вполне соответствовало его склонностям. В сентябре 1776 года во Францию отправился Франклин. Американским представителям не нужно было перенапрягать себя, добиваясь поддержки Франции. Людовик XVI и его министры горели желанием рассчитаться с Англией за Семилетнюю войну. Перу Пьера Корона (Бомарше) принадлежала не только комедия «Севильский цирюльник» и многие пьесы, но и хитроумный план снабжения восставших в Америке вооружением, снаряжением и прочим. Объяснив королю великие блага для Франции от достижения колониями независимости, Бомарше получил первую субсидию — 1 миллион ливров — и основал подставное акционерное общество «Родригес Хорталес и К°».
Французские политики надеялись, вызвав к жизни Новый Свет, выправить баланс сил в Старом Свете, нарушенный английскими победами в Семилетней войне. 18 августа 1776 года Бомарше пишет континентальному конгрессу: «Мы будем снабжать вас всем — одеждой, порохом, мушкетами, пушками и даже золотом для оплаты войск и вообще всем, что вам нужно в благородной войне, которую вы ведете. Не ожидая ответа от вас, я уже приобрел для ваших нужд около двухсот бронзовых четырехфунтовых пушек, двести тысяч фунтов пороха, двадцать тысяч отличных мушкетов, несколько бронзовых мортир, ядра, бомбы, штыки, одежду и т. д. для войск, свинец для мушкетных пуль. Офицер превосходнейших качеств и знаток артиллерии в сопровождении артиллеристов, канониров и пр., который вам, мы думаем, весьма нужен, отправится в Филадельфию раньше, чем вы получите мое первое письмо. Этот джентльмен один из величайших подарков, который могло дать мое уважение к вам».
Бомарше восхвалял де Кудрея, который явился к Вашингтону с группой из 18 офицеров и 10 сержантов. Он сослался на С. Дина, обещавшего ему командование артиллерией континентальной армии. Вступив на американскую землю, де Кудрей был произведен конгрессом в генерал-майоры, причем признан по старшинству выше туземных генералов — Грина, Нокса и Салливана. Те возмутились и потребовали от конгресса восстановить справедливость, грозя отставкой. В конгрессе донельзя разъярились, ибо давно считали любое покушение на права достойного собрания однозначным подрыву американской свободы. Д. Адамс в бешенстве заметил: «И пусть все они убираются в отставку. Со своей стороны, я бы проголосовал за истинный принцип республиканизма — ежегодно избирать генералов».
Трудно сказать — репутация ли континентальной армии, или преклонение перед заморскими знатоками было причиной, но конгресс цепенел при виде воинов, приезжавших в США. Они получали высокие чины и, преисполненные сознания собственного величия, являлись в армию. Конфликт с де Кудреем не успел принять угрожающих размеров: с генералом случилось несчастье — он утонул. С другими у Вашингтона было хлопот хоть отбавляй.
Сначала он с отвращением относился ко всем французам без разбора. Уже французская речь будила в нем воспоминания о пятидесятых годах, беспощадных схватках с ними, злейшими врагами колонистов. «Все они, — ворчал Вашингтон, — голодные авантюристы». Но жизнь брала свое — армии действительно были нужны специалисты, а при ближайшем рассмотрении не все приезжавшие из-за океана покушались на святая святых славной республики — ее деньги. Полковник Л. Дюпортей возглавил инженерное дело в армии, другие помогали организовывать артиллерию. Вашингтон не мог нахвалиться полковником Т. Конвеем, получившим чин бригадного генерала. В этом человеке, как показали ближайшие события, он крепко ошибся.
1 марта 1777 года в приказе по армии объявлялось, что «эсквайр Александр Гамильтон назначен адъютантом главнокомандующего, его следует уважать и слушаться в этом качестве». Двадцатилетний Гамильтон отличился как способный артиллерийский офицер. Несмотря на разницу в возрасте, а скорее из-за этого, Гамильтон стал ближайшим соратником Вашингтона. Он был первым из группы молодых людей, испытавших на себе нерастраченные отцовские чувства Вашингтона.
Итак, армия приходила в порядок, вооружалась и одевалась в основном поставками изобретательного Бомарше и готовилась к новым боям. Все оставалось в руках Вашингтона; что до конгресса, то к этому времени главнокомандующий выработал для себя определенные правила обращения с представителями, как они считали себя, всего народа. Вашингтон признавал главенство гражданских властей над военными. Этот принцип в его глазах был непоколебим. В не меньшей степени он был убежден, что гражданская власть, воплощенная в тогдашнем составе конгресса, оставляла желать много лучшего. Поэтому он повиновался институту, а не собранию конкретных лиц, служил высокой идее, внутренне презирая ее носителей. Он наверняка полагал, что лучше понимает ее, чем шумные и склочные конгрессмены.
Переписка главнокомандующего с конгрессом по форме была безупречной, с соблюдением всех необходимых правил приличия и уважения. По существу, Вашингтон обращался с членами конгресса как с детьми, да он и был старше многих, — из его пространных донесений нельзя было составить истинного представления о положении дел в армии. О собственных потерях почти не говорилось, неприятельские исчислялись астрономическими цифрами. Поражения именовались отходами, армии — отрядами и т. д.
В доверительном письме одному из считанных людей дела, Моррису, Вашингтон в это время открылся: «Не в моей власти заставить к-с отдать себе полный отчет в нашем истинном положении… Сидя на расстоянии, они думают, что стоит сказать — сделай то, и все делается, другими словами, они принимают решение, не вникнув или, по-видимому, не понимая трудностей и сложностей, стоящих перед теми, кому приходится выполнять их решение. Действительно, сэр, ваши замечания о том, что в этом уважаемом сенате не хватает множества умных людей, как нельзя лучше обоснованы».
Вероятно, между боями и трудами Вашингтон часто обращался мыслями к древним, как они вели дела. Отсюда описка, вскрывающая внутренний мир героя, именовавшего конгресс сенатом.
Пока Вашингтон укрывался с армией в холмах у Морристауна, английская пропаганда и языки американских тори работали без устали. В Лондоне вышла подложная переписка Вашингтона с женой и генералами. Поводом для появления фальшивок был, несомненно, рыцарский жест Хоу — когда ему доставили перехваченное письмо Вашингтона к Марте, он велел вернуть письмо, не распечатывая.
В тщательно подделанных письмах, будто бы попавших в руки англичан, Вашингтон представал как коварный муж, но заверявший супругу в великой любви. Генералу Гаррисону приписывались труды на специфическом поприще — он-де соблазнял негритянок в Маунт-Верноне в ожидании возвращения хозяина. Это самое возвращение, заверяли сочинители пасквилей, воспоследствует в самое ближайшее время — читайте сами — Вашингтон-де ненавидит жителей Новой Англии и ждет не дождется, когда развяжется с военной службой, Тори были склонны верить худшему, и самые грязные сплетни из уст в уста распространялись по Америке. Недруги Вашингтона видели во вздорных поклепах резон — разве предводитель бунтовщиков не должен превзойти джентльмена Хоу, коротавшего время в обществе очаровательной бостонки Лоринг?
В действительности Вашингтон в Морристауне вел идиллическую жизнь. К нему приехала погостить Марта, собрались друзья из Вирджинии. Одна из дам писала своей сестре о буднях Вашингтона: «Благородный и приятный командующий командует всеми, ибо подчинил оба пола — один великим искусством в делах военных, другой способностью, изысканностью и вниманием». До обеда он занят службой, «с обеда до вечера он отдается светской жизни. Его достойная супруга вся светится довольством рядом со стариком (так она называет его). Мы часто совершаем прогулки верхом, тогда генерал Вашингтон сбрасывает с себя облик героя, становится разговорчивым и приятным. Иногда он бывает совсем дерзким, а такую дерзость мы с тобой, Фанни, любим».
Таким Вашингтона видели самые близкие люди в официальных случаях, а постепенно вся его жизнь приобретала такой характер, он стал утрачивать «быстрый и понимающий взгляд», поражал чопорностью и высокомерием. Величественные движения, поднятый подбородок не оставляли сомнения — шествует хозяин вооруженной мощи республики. Наверное, иным он сразу внушал почтение и даже трепет. Серьезный человек, занятый серьезными делами, которые действительно были таковыми.
1777 год нес новые испытания Соединенным Штатам. От английского кабинета не укрылась тесная дружба американцев с Францией, дело определенно шло к оформлению союза между ними, а значит, появлению на стороне США армии и флота Людовика XVI. Отсюда следовал простой вывод — нужно раздавить по возможности скорее бунтовщиков, предотвратив очередную англо-французскую войну, а быть может, образование против Англии даже коалиции ее злейших врагов. По крайней мере, одержать звонкие победы в Америке, которые отобьют охоту у других соваться в имперские дела.
После некоторых колебаний Хоу поставил основной целью предстоявшей кампании овладение Филадельфией. Король и кабинет утвердили план, а следом — операции, предложенные английским генералом Бергойном, добившимся самостоятельного командования в Канаде. Он намеревался наступать на юго-восток, вдоль Гудзона, и «соединиться с Хоу». Как именно должно было произойти это соединение, уже сорвавшееся в прошлом году, осталось необъясненным. Ведь Хоу намеревался взять в экспедицию против Филадельфии основные силы своей армии, оставив в Нью-Йорке генерала Клинтона с относительно небольшим гарнизоном. Клинтон не был в состоянии содействовать Бергойну, выступив ему навстречу.
Нелепый план мог поставить в тупик кого угодно. Вашингтон, внимательно следивший за неприятелем, естественно, терялся в догадках. Он никак не мог отказать английскому командованию в здравом смысле и ожидал, что Хоу скорей всего двинется навстречу Бергойну или сосредоточит все усилия на овладении Филадельфией. О том, что Хоу и Бергойн собирались вести самостоятельные кампании, разумному человеку и в голову не приходило. А военный ужаснулся бы — в стратегических наставлениях давным-давно убедительно повествовалось о гибельных последствиях разделения командования.
С конца июня Хоу совершал таинственные маневры — то он вступал в Нью-Джерси, то отходил, затем следовало новое вторжение. Он полагал, что действует чрезвычайно хитроумно. Вашингтон придерживался иного мнения. Англичане явно хотели выманить континентальную армию с позиций у Морристауна и разбить ее в открытом поле. Хоу не удалось перехитрить «старого лиса» — Вашингтон также маневрировал, только с тем расчетом, чтобы в случае похода англичан на Филадельфию перерезать их коммуникации и, если возможно, нанести удар с тыла.
Отчаявшись вызвать американцев на бой на своих условиях, Хоу вернулся в Нью-Йорк. Все было странно и непонятно. Вашингтон заподозрил, что англичане двинутся на север, на соединение с Бергойном. Из Канады пришли неутешительные вести — форт Тикондерога пал без единого выстрела (а он был умело укреплен польским волонтером Костюшко), американские генералы рассорились между собой, и войска Бергойна в сопровождении союзных индейских племен хотя медленно, но продвигаются через лесные чащобы и гиблые места. Вашингтон отправил отряд на помощь северной армии, а сам двинулся к Гудзону. Тут случилось известие — 24 июля англичане погрузились на суда в Нью-Йорке, и скоро паруса армады — 260 судов с 15 тысячами солдат — скрылись за горизонтом. Хоу исчез, но куда?
Наверное, решил Вашингтон, Хоу морем перевезет армию к Филадельфии и попытается взять столицу. Он погнал усталые от бесконечных переходов войска туда, заверив конгресс, что не «перестает оглядываться назад», ибо «маневр генерала Хоу, бросившего генерала Бергойна, совершенно непонятен». Рационализировать иррациональное было бесполезно — Хоу всецело разделял европейские предрассудки о вредности американского климата летом и счел полезным для здоровья солдат продержать их почти месяц на судах в открытом море. Со своей стороны, Вашингтон был уверен, что вода пагубна для американцев, и, когда на подходе к Филадельфии измученные солдаты затеяли купание в реке, он строго приказал «соблюдать умеренность!».
В Филадельфии конгресс раздирала склока — кто виноват в падении Тикондероги и кого назначить новым командующим на севере? Вашингтон наотрез отказался принимать участие в свалке и не проронил ни слова, когда конгресс остановился на кандидатуре генерала Гейтса. Тот отбыл на север, а Вашингтон остался в определенной душевной подавленности — Гейтс уже зарекомендовал себя человеком, склонным к неподчинению и интриганству.
В столице Вашингтону представили новых французов, только что прибывших в США. Среди них был двадцатилетний маркиз де Лафайет, близкий ко двору Людовика XVI. Он снарядил на свои средства корабль и приплыл в США сражаться против англичан. Рвение и богатство маркиза произвели сильнейшее впечатление на конгресс, который сразу произвел его в генерал-майоры, хотя в Париже молодой человек был всего капитаном. В этом качестве он и предстал перед Вашингтоном. Сначала главнокомандующий принял маркиза очень холодно, полагая, что перед ним очередной кондотьер. Искренность Лафайета, его неподдельный интерес к делу борцов за американскую свободу, дравшихся с врагами Людовика XVI, быстро растопили сердце Вашингтона. Они как-то потянулись друг к другу — Лафайет, осиротевший в детстве, и бездетный Вашингтон стал относиться к нему как к сыну, Лафайет платил горячей привязанностью. Французский маркиз стал одним из самых близких к Вашингтону, если не самым любимым генералом. Найдя друг друга, Вашингтон и Лафайет подчеркнуто гордились отцовско-сыновними отношениями.
Перу Лафайета принадлежит описание тогдашней американской армии, он говорит о ней в третьем лице: «Их около 11 тысяч человек, неважно вооруженных и еще хуже одетых, они являли странное зрелище для глаз молодого француза. Пестрая одежда, а многие почти наги, Лучше всех были одеты те, кто носил охотничьи рубашки — просторные серые хлопчатобумажные пальто». Об офицерах, напудривших парики в предвидении встречи с ним, маркиз лишь заметил — они «полны рвения». Он заключил, что в американской армии «добродетель заменяет военную науку». Вашингтон сконфузился: «Нам очень стыдно показываться перед офицером, только что покинувшим ряды французской армии». На что Лафайет учтиво ответил: «Я приехал сюда не учить, а учиться».
22 августа поступили сообщения — английский флот объявился в Чезапикском заливе. Хоу не стал подниматься к Филадельфии по Делавэру, ибо американцы успели соорудить укрепления на берегах реки, прикрывшие подступы к столице водным путем. Англичане высадились в Чезапикском заливе. Маневр был совершенно непонятен — в июне Хоу в Нью-Джерси находился примерно в 100 километрах от Филадельфии, теперь он перебросил армию морем на 650 километров, чтобы оказаться в 100 километрах от города. Но раздумывать над причудами английского генерала было некогда. Вашингтон рванулся защищать столицу. Чтобы поднять боевой дух, он распорядился провести войско церемониальным маршем через город.
В приказе о параде Вашингтон указал: «Оркестры должны играть быстрый марш, но умеренно, чтобы солдаты шли под музыку легко, отнюдь не пританцовывая или полностью игнорируя заданный ритм, как часто случалось в прошлом… Офицерам обратить особое внимание, чтобы солдаты держали свое оружие как следует и выглядели приличными, как надлежит в этих обстоятельствах… В рядах не должно быть ни одной женщины, находящейся с армией». Каждому надлежало быть в шляпе, а если таковой нет, воткнуть в волосы ветку с зелеными листьями. В знак надежды. Филадельфийцы два часа наблюдали за прохождением войск. Обыватели нашли, что видны некоторые признаки военной подготовки, строй держали, хотя солдаты и не отбивали шаг как положено.
Последние приготовления перед сечей. Вашингтон распорядился регулярно выдавать солдатам ром. Он наставляет конгресс: «Рекомендую устроить государственные винокурни в различных штатах. Польза от умеренного потребления крепких спиртных напитков установлена во всех армиях и не подлежит сомнению». Распорядительность главнокомандующего восхитила конгресс. Д. Адамс пишет: «Генерал Вашингтон подает прекрасный пример. Он изгнал вино со своего стола и потчует друзей ромом с водой. Это делает большую честь его мудрости, его политике и его патриотизму». Тем, кто упрекал Вашингтона в местничестве, неисправимом пристрастии к Югу, крыть было нечем. Ром — продукт Новой Англии.
Нерешительность и колебания, сопутствовавшие летней кампании 1777 года, проявились и при попытке Вашингтона защитить Филадельфию. Они удваивались и обстоятельствами — континентальная армия вступила в края, заселенные квакерами. Они не были поголовно предателями, как склонны были утверждать ревностные патриоты, а просто, верные своим доктринам, были против любого кровопролития. Давать армии Вашингтона информацию о враге в глазах прекраснодушного квакера означало способствовать убийству, и поэтому местные жители с легкими сердцами притворялись, что они далеки от дел ратных. Континентальная армия шла навстречу неприятелю буквально с завязанными глазами, было неясно, с кем придется сражаться. Впрочем, выбор рубежа, на котором надлежало встретить Хоу, не зависел от местных жителей. Вашингтон рассчитал, что англичанам в любом случае на пути к Филадельфии придется форсировать реку Брандисвайн, где и стал с 11 тысячами.
Хоу решил повторить маневр, уже давший ему победу на Лонг-Айленде, — демонстративная атака в центре и обход главными силами американского фланга, на этот раз правого. И сентября разыгралось сражение. Вашингтон был твердо убежден, что задаст англичанам жару — их было около 15 тысяч. Он даже намеревался атаковать, как внезапно в штаб привели босоногого фермера. Тот клялся и божился, что прибежал к начальству доложить — несметные полчища движутся в тыл американцев. 10 тысяч Корнваллиса уже форсировали Брандисвайн выше по течению и спешат к месту боя. Вашингтон обменялся понимающими улыбками с генералами — проклятый предатель-тори подослан, чтобы сбить с толку защитников свободы. Они не успели решить, что сделать с негодяем, как канонада в тылу прекратила споры.
Вновь и в который раз американцы побежали, и снова так стремительно, что солдаты Хоу не могли настичь врага. Хотя и потрепанная, континентальная армия еще раз спаслась. Конгресс в ознаменование «доблестного поведения» армии в сражении при Брандисвайне вотировал выдать войску тридцать бочек рома. Два дня Вашингтон в относительной безопасности от врага «освежал» солдат, а затем — снова в поход. Он правильно рассудил, что цель Хоу в первую очередь уничтожить континентальную армию, занятие столицы дело второстепенное. Он отступил на восток в предгорье Аллеган, оказавшись примерно в 60 километрах от Филадельфии, где надеялся выждать и ударить в тыл англичанам, когда они пойдут на Филадельфию.
И снова те же заботы — армия, совершавшая почти полтора месяца непрерывные переходы, обносилась, обувь разваливалась. Вашингтон срочно отправил Гамильтона в Филадельфию приобрести одежду и обувь для солдат. Посланец натолкнулся на саботаж — торговцы не желали ничего продавать, ожидая вступления англичан в город, которые будут расплачиваться золотом, а не сомнительными долларами. Вашингтон приказал реквизировать потребное, но торговцы сумели так попрятать товары, что распорядительному Гамильтону почти ничего не удалось собрать, а он с солдатами перевернул лавки и склады вверх дном.
Хотя отступившая армия не пала духом (англичанам все же не удалось разбить ее), нарекания на Вашингтона множились. Поговаривали, что он по-прежнему нерешителен, малоспособен к командованию.
Тут случилась новая беда. Для наблюдения за неприятелем Вашингтон оставил неподалеку от Филадельфии легкую бригаду под командованием опрометчивого генерала Вайна. Он расположился лагерем около таверны Паоли. Разузнав о местонахождении бригады, англичане в ночь на 21 сентября напали на беспечных американцев, спавших у костров. Английские командиры рассудили, что лучше действовать штыками, и даже распорядились снять замки у мушкетов, чтобы случайным выстрелом не потревожить противника. В страшной ночной бойне было заколото около 200 американцев, несколько сот ранено, а 70 взято в плен. Англичане потеряли 7 человек.
Вести о бойне у Паоли вызвали трепет у молодых солдат континентальной армии, многим из них на биваках под открытым небом мерещился английский штык у груди. Они не хотели страшной молчаливой смерти и дезертировали. Гамильтон, натолкнувшийся в своих разъездах на большой отряд англичан поблизости от Филадельфии, счел долгом предупредить конгресс об опасности вражеского нашествия. Члены конгресса давно собрали вещи в дорогу и, получив ужасную весть, глухой ночью бежали из столицы сначала в Ланкастер, а затем в Йорк в Пенсильвании. Оказавшись в безопасности, «революционеры» стали роптать — какой толк в командовании Вашингтона, если он не может выиграть ни одной битвы? Что было совершенно несправедливо — генерал не переставал изыскивать случай расправиться с захватчиками.
26 сентября гренадеры и легкие драгуны Корнваллиса вступили в Филадельфию. Англичане поздравляли друг друга — труды были ненапрасными, наконец они в городе, буквально кишащем лоялистами. Толпы на улицах восторженно приветствовали войска, военный оркестр играл «Боже, храни короля». Все было волнующе и очень приятно, а впереди — сладостная гарнизонная жизнь в дружественном городе. Хоу пока не разделял восторгов своих воинов и потому распорядился большую часть армии — 9 тысяч человек — расквартировать в Джермантауне, что севернее Филадельфии, дабы быть между континентальной армией и столицей. Здесь же он стал со штабом.
Вашингтон, узнав от лазутчиков о последних распоряжениях Хоу, пришел в восторг: враг рассредоточил свои силы. Есть возможность повторить славную битву у Трентона. К этому времени он начитался военной литературы и замахнулся на Канны, на меньшее Вашингтон не был согласен. Ганнибал, как известно, осуществил двусторонний охват противника, Вашингтон спланировал то же самое, но четырьмя колоннами. Был составлен весьма внушительный план, предусматривавший ночной двадцатипятикилометровый марш и молодецкий штыковой удар поутру 4 октября на Джермантаун. Колонна генерала Салливана (с ней был Вашингтон) на рассвете вышла к городу и даже опрокинула застигнутый врасплох английский батальон. Впервые за всю войну в красных рядах горны протрубили сигнал к отступлению, которому королевские солдаты повиновались охотно, и было отчего. Атакующих возглавляли уцелевшие во время резни в Паоли. Вайн, перекрывая треск мушкетных выстрелов, свирепо рычал: «Вперед на кровавых собак! Отомстим за Паоли!» Солдаты Вайна в плен не брали, убивая и тех, кто сложил оружие.
Утро выдалось туманное, клубы порохового дыма еще ухудшили видимость. В дымной мгле сотня с небольшим английских солдат укрылась в прочном каменном доме как раз на пути наступавших. Вероятно, нужно было обойти дом, поставив около него небольшой заслон. Но американцы решили воевать по всем правилам военной науки, а потому Нокс предложил Вашингтону сокрушить «форт» артиллерийским огнем. Канны требовали издержек, и Вашингтон согласился. Подтащили пушки и начали обстрел дома, стены которого оказались на диво толстыми. Время шло, враг не нес видимого ущерба.
Тут подоспела вторая колонна генерала Грина, ударившая по англичанам на левом фланге Вайна. Охват как будто получился, если бы не злополучный дом — грохот орудий Нокса в американском тылу убедил Вайна, что коварные англичане, в свою очередь, как-то обошли американцев. Он повернул свою дивизию назад и лоб в лоб столкнулся с одной из дивизий Грина, потерявшей ориентировку. Американцы вступили в жаркую схватку между собой. Тут опомнившийся Хоу нанес удар, и континентальная армия вновь продемонстрировала свою способность стремительно отрываться от врага.
Беспорядочные толпы солдат бежали, Вашингтон, метавшийся среди них на коне, кричал, что они бегут от победы. Напрасно. Многие воины, расстрелявшие без толку порох, молча поднимали над головой пустые подсумки и со всех ног летели в тыл.
Канны не получились. Обе колонны континентальных войск убежали, две колонны ополчения, которым надлежало провести глубокий охват, ночью сбились с дороги и так и не появились на поле боя. К счастью, Хоу и Корнваллис, крайне удивленные дерзостью нападения, не упорствовали в преследовании, дав уйти континентальной армии.
На следующий день Вашингтон доложил конгрессу: «В целом можно сказать, что сражение было скорее несчастливым, чем тяжким для нас. Мы не потерпели больших потерь и вывезли всю артиллерию, за исключением одного орудия». Но очень скоро он узнал, что потери достигали почти тысячи человек. И новое огорчение — английский перебежчик рассказал, что противник собирался отойти как раз в тот момент, когда американцы ударились в бегство. Вашингтон пишет конгрессу: «С величайшим прискорбием я должен добавить, что все данные подтверждают мое первоначальное мнение — наши солдаты отступили как раз в тот момент, когда победа склонялась на нашу сторону… Я не вижу никаких причин, которые могут объяснить, почему мы не воспользовались этой возможностью, кроме отвратительной погоды».
Пятая встреча Вашингтона с Хоу на поле боя окончилась очередной неудачей. В приказе он воззвал к войскам: «Мы Великая Американская Армия. Мы покроем себя стыдом и позором, если каждый раз нас будут бить». Солдаты мрачно выслушали справедливые слова главнокомандующего и с удвоенным рвением стали ругать командиров, и это было справедливо. По ту линию фронта достижения англичан также не вызывали бурного восторга. Некий лоялист обозленно заметил: «Любой другой генерал, только не Хоу, побил бы генерала Вашингтона, а любой другой генерал, только не Вашингтон, побил бы Хоу».
Полководцы не питали друг к другу личного озлобления и в дыму сражений остались джентльменами. Вскоре после сражения у Джермантауна Вашинтгон, как он писал, выполнил «приятный долг» — со специальным нарочным в английский лагерь он отправил собаку, попавшую к американцам, которая, «как видно по надписи на ошейнике, по-видимому, принадлежит генералу Хоу».
В тот фатальный октябрь, когда армия Вашингтона не преуспела против Хоу, на севере страны судьба широко улыбнулась американцам. Талантливый драматург, но посредственный военачальник Бергойн с шеститысячным войском был окружен у Саратоги превосходящими силами — 5 тысячами солдат континентальной армии и 12 тысячами ополченцев. Англичане съели продовольствие, расстреляли порох, и, не видя иного исхода, 17 октября Бергойн сдался. По Соединенным Штатам разлилась волна торжества — крупная по масштабам войны английская армия сложила оружие. Ликованию по поводу капитуляции не было конца, хотя Бергойн сдался на условиях, отнюдь не дававших основания говорить о ней.
Вое солдаты Бергойна по сдаче оружия должны были быть отправлены в Европу с условием, что они никогда не будут больше воевать против США. Лондон даже при выполнении обязательств смог сменить ими другие войска, которые, несомненно, явятся в США. Впрочем, до таких хитроумных расчетов английские генералы не поднялись — они уже постановили: перебросить побитую армию в Нью-Йорк, перевооружить и немедленно употребить ее для дальнейших боевых действий. Не зная всего этого, Вашингтон и конгресс тем не менее распорядились — ни под каким видом не отпускать пленных. Они были задержаны до окончания войны и только в 1785 году вернулись на родину. К тому времени из пяти тысяч пленных полторы тысячи решили поселиться в США.
Но все это произойдет в будущем, а в октябре 1777 года Америка приветствовала победителя при Саратоге генерала Гейтса как спасителя страны. Языкатые патриоты не замедлили указать на резкое различие между северной армией Гейтса и южной армией Вашингтона. Саратога поравняла Гейтса с главнокомандующим, а в глазах многих, и в первую очередь самого триумфатора, сделала его верховным военным вождем республики. Он, сын мелкого домовладельца, уже видел себя таковым и повел соответственно, поторопившись прежде всего дать прочувствовать свое новое положение Вашингтону.
В штабе континентальной армии под Филадельфией тщетно ожидали официальных вестей с севера. Гейтс сообщался прямо с конгрессом, оставив Вашингтона с его генералами питаться слухами. Главнокомандующий, поздравив Гейтса с «выдающейся победой», мягко упрекнул его: «Не могу не выразить сожаления, что столь важное дело и столь затрагивающее весь ход войны стало мне известно только по слухам и письмам, а не из сообщения, пусть краткого, одной строчки, но за вашей подписью, что соответствовало бы значимости этого события». Естественно, Вашингтону нужно было объяснять очевидный контраст положения дел на южном и северном театрах, что он не уставал делать в бесчисленных письмах.
Успех Гейтса у Саратоги был бы невозможен без своевременной помощи южной армии. Вашингтон послал на север вирджинских стрелков Моргана, способнейших военачальников Линкольна из Массачусетса и Арнольда. Теперь главнокомандующий считал себя вправе получить, в свою очередь, поддержку Гейтса. Он направил к нему Гамильтона с требованием немедленно отрядить на юг по крайней мере двадцать полков.
В Йорке, где обосновался конгресс, звезда Вашингтона медленно меркла. Их осталось мало, первоначальных членов конгресса, — только шестеро из числа одобривших в 1775 году кандидатуру вирджинского джентльмена на пост главнокомандующего. А на заседании конгресса нередко собиралось менее двадцати человек. От этого их критика Вашингтона не становилась слабее. Конгресс постановил отметить Саратогу днем молитвы, а Д. Адамc прокомментировал в письме жене: «Одна из причин празднования состоит в том, что слава в этой схватке не принадлежит непосредственно главнокомандующему или южным войскам. Если бы это было так, тогда идолопоклонство оказалось бы безграничным, что поставило бы под угрозу наши свободы». В конгрессе Адамc оплакивал «религиозное почитание, которое иной раз имеет место в отношении генерала Вашингтона», сурово осудив тех коллег, кто «склонен собственными руками творить себе кумира».
Недовольство конгресса подогревалось интригой в высшем командовании армии. В толпах иностранных офицеров, навербованных в Европе Дином и Франклином, был полковник французской службы Т. Конвей, которому конгресс присвоил чин генерала в обход многих претендентов-американцев. Хвастливый и, что еще хуже, говоривший без умолку, Конвей почитал себя стратегом и, хотя был обласкан Вашингтоном, претендовал на большее. Он решил связать свою судьбу с Гейтсом, о чем уведомил генерала льстивым письмом, в котором заодно поносил Вашингтона. Доброхоты немедленно донесли обо всем главнокомандующему, который в изрядных муках творчества сочинил короткое и достойное послание зазнавшемуся генералу: «Сэр, в письме, полученном мною вчера, содержится следующее утверждение: «В письме генерала Конвея генералу Гейтсу сказано — Небеса решили спасти вашу страну, ибо в противном случае слабый генерал с дурными советниками погубили бы ее». Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой. Джордж Вашингтон». «Дурные советники», ворчал Вашингтон, в штабе, и Конвей «один из них».
Конвей, конечно, стал объясняться. Гейтс, в свою очередь, дознавшись, кто виновен в разглашении переписки, нашел виновного — собственного адъютанта — и обошелся с ним так, что тот вызвал начальника на дуэль. Победитель при Саратоге предпочел помириться с обиженным и поступил очень разумно — нужно было думать не о прошлом, а о будущем. Конгресс открыл перед генералом блистательные перспективы — формально в ответ на настойчивые просьбы Вашингтона найти «новые средства» помочь армии было решено основать Военное управление; реорганизовав уже существующий комитет конгресса. Гейтс был поставлен во главе нового ведомства, на бумаге выше Вашингтона. Конвей занял вновь учрежденный пост генерал-инспектора.
Они все, ненавистники Вашингтона, собрались там, в Военном управлении, и стали судить и рядить, как вести войну. Конвей победоносно явился в штаб Вашингтона и вручил ему резолюцию конгресса о последних новшествах. Глядя в лицо наглецу, главнокомандующий сдержанно осведомился, привез ли генерал-инспектор указания Военного управления о дальнейших операциях. Конвей признался, что у него ничего нет. Тогда, спокойно продолжал Вашингтон, ему следует подождать поступления их, а адъютанту приказал показать Конвею дверь.
Конвей с удвоенной энергией принялся поливать грязью Вашингтона, а заодно американских генералов вообще. Издевательские письма Конвея, в которых он отзывался о Вашингтоне как о дилетанте в военном деле, открыли старые раны главнокомандующего. В памяти всплыли мучительные воспоминания об оскорблениях в годы индейских и французских войн, когда его, полковника вирджинского ополчения, третировали офицеры британской армии. Одно время Вашингтон носился с мыслью вызвать Конвея на дуэль и пристрелить его как собаку. Но образумился, ибо куда более проворные интриганы орудовали в Йорке.
В Военном управлении подвизался Миффлин, еще недавно начальник тыла континентальной армии, дезертировавший со своего поста и пригретый в Йорке. Вашингтон не без оснований подозревал, что интендант нагревал руки на военных поставках. Миффлин полагал, что надежно защищен от гнева главнокомандующего, разве не сам Вашингтон просил тыловиков продать по сходной цене 50–100 выбракованных лошадей для Маунт-Вернона, предупреждая держать дело в тайне, ибо «хорошо известно, что самые невинные и честные действия часто ложно истолковываются».
Мышиная возня в Йорке наконец завершилась гигантским проектом — организовать зимнее вторжение в Канаду. Военное управление убедило конгресс, что это наиразумнейшая операция, профессионалы с Вашингтоном во главе высмеяли саму идею, выставив против нее убедительные аргументы. Тем временем причитания Конвея по поводу некомпетентности американских военных вызвали яростное негодование в армии. Вашингтон с неоспоримым чувством юмора наблюдал за тем, как офицеры континентальной армии повадились ездить в Йорк, где запугивали политиканов. Адъютант генерала Грина рассудительно разъяснял желавшим слушать за стаканом рома, как «несколько унций пороха в надлежащем ружье достигнут прекрасной цели». Один из зловредных сплетников, член Военного управления Петерс, закрыл рот — за ним по грязным улицам Йорка тенью ходил некий гигант с кентуккским ружьем. Миффлин с трудом избежал дуэли с разъяренным генералом. Конвей не сумел увернуться — преданный Вашингтону генерал на дуэли прострелил «иностранцу» шею. Оправившись от раны, Конвей убрался во Францию.
Таково было лицо событий, приведших к провалу планов сместить Вашингтона или заставить его уйти в отставку. Изнанка их была много сложней. Горячие сторонники Гейтса, вознесшие его после Саратоги, с течением времени призадумались. Генерал олицетворял в глазах имущих, а они и заседали в Йорке, ненавистную «чернь». Припомнили, что он вдохновлял ополченцев достаточно прозрачными речами насчет социальных изменений. Гейтс представлял левое крыло революции, плантаторы и банкиры не могли не заключить — он бы наделал бед, если бы получил вооруженные силы республики.
Перед этой опасностью, конечно, пока только эвентуальной, меркли подозрения в отношении Вашингтона в том, что он, подобно полководцам времен Древнего Рима, домогается тоги диктатора и, будучи вождем постоянной армии, может когда-нибудь выступить свободогасителем в Америке. Во всяком случае, в Йорке были твердо убеждены, что имеют сильнейшее противоядие яду честолюбия, если оно овладеет полководцем. В ноябре 1777 года конгресс разослал штатам «Статьи конфедерации» — первую американскую конституцию. В ней центральная власть подчеркнуто ослаблялась. Хотя в США была континентальная армия, в «Статьях конфедерации» трактовалось о том, что каждый штат будет иметь свои собственные вооруженные силы. Но даже в этом виде конституция вызвала острые споры и была ратифицирована штатами только в 1781 году.
Политическое мышление Вашингтона оставило позади осторожные схемы конгресса. В то время как в Йорке пеклись о том, какие препятствия поставить на пути усиления центральной власти, Вашингтон полагал, что только в континентальной армии и войне выковывается единство нации. Когда был заключен мир, он заметил: «Сто лет нормальных взаимоотношений» между штатами не сделали бы для американской государственности столько, сколько «дали семь лет вооруженного сотрудничества».
Зимой 1777/78 года помянутое оружие единства страны — континентальная армия впала в самое плачевное состояние, и отнюдь не по вине Вашингтона.
То была поистине глухая ночь войны, во мраке которой родилась самая волнующая, нет, душераздирающая легенда революции — Вэлли-Фордж.
Армии нужно было стать на зимние квартиры, и Вашингтон нашел место, точнее, его вынудила к этому легислатура Пенсильвании, боявшаяся ухода войск из штата, на безлюдных, унылых холмах примерно в тридцати километрах к северо-западу от Филадельфии. Оно и называлось Вэлли-Фордж. Художник, рисовавший летом сельские пасторали в духе XVIII века, вероятно, нашел бы холмы прелестными и даже романтическими — солдаты, которых привел сюда Вашингтон в середине декабря 1777 года, отчаянно ругались. Им предстояло стать лагерем на всю зиму в местах, где не было жилья, в округе, опустошенной войной.
Вашингтон распорядился строить жилье — домики четыре на пять метров с земляным полом, каждый на двенадцать солдат. В офицерских домах пока единственное отличие — деревянные полы. Всего 1100 домиков. Велено было соорудить госпитали, склады. Пока устроились, солдаты неделями спали в палатках и у костров.
Не хватало всего — одежды, обуви, продовольствия. Не успели прийти в Вэлли-Фордж, как Вашингтону доложили: 2898 солдат «босы или голы». Спустя несколько недель цифра подскочила до 4000. Вашингтон объявил премию — десять долларов умельцу, который изобретет «замену башмакам». Дело далеко не подвинулось — солдаты пятнали снег кровавыми следами, заодно затоптав и патриотическую летопись войны за независимость. Разве страдания в Вэлли-Фордж, где умерло от болезней и истощения около двух с половиной тысяч человек, были неизбежны?
Американские историки единодушно отвечают — нет! Континентальная армия претерпела страшные муки той зимой не столько от врага, сколько от алчности соотечественников. Слов нет, в Вэлли-Фордж прокормиться было трудно, но вокруг всего было в изобилии. Солдаты голодали, ибо окрестные фермеры предпочитали продавать свои продукты англичанам в Филадельфию за твердую валюту. Торговцы зерном в Нью-Йорке по тем же соображениям предпочитали снабжать английскую армию, а поставщики в Бостоне отказывались опустошить содержание складов, если прибыль была менее 1000–1800 процентов. Америка сражалась за свою независимость в тяжком пароксизме спекуляции и бесстыдной наживы. Фуражиры, высылавшиеся из Вэлли-Фордж, иногда перехватывали тяжело груженные подводы, направлявшиеся в Филадельфию, и без лишних слов заворачивали их в свой лагерь. Владельцев, если они настаивали на священном праве частной собственности, пристреливали или вешали.
Вашингтон не одобрял этой практики, вносившей ненавистный ему элемент анархии в ведение войны. Он взывал к конгрессу, требуя расследовать, почему армия раздета и разута, «ведь тот факт, что у нас нет одежды, вызывает всеобщее удивление — всем известно, что только восточные штаты могут дать одежды на 100 тысяч человек». И личная нотка. В письме генерал-интенданту главнокомандующий негодовал: «Я даже не могу достать одежду для моих слуг вопреки неоднократным обращениям в течение двух последних месяцев. Один из них, прислуживающий лично мне за столом, неприлично и постыдно наг». Звучал голос респектабельного плантатора, но отнюдь не главнокомандующего армии революции. Джентльмен не уточнил, в чем именно нуждался тот самый слуга, ибо политес XVIII века диктовал свои законы. Французские офицеры, принесшие на американскую землю куда более свободные нравы, стали обзывать сборище в Вэлли-Фордж «санкюлотами», что, как известно, означает «бесштанники». Термин этот, вскоре прогремевший во время французской революции, родился именно здесь.
Обозревая прискорбное состояние армии — голые и босые солдаты, пушки, вмерзшие в землю, и без надежды сдвинуть их, ибо лошади передохли, Вашингтон 23 декабря разразился яростной филиппикой в адрес конгресса. Обычно он писал сухими и банальными фразами, но на этот раз, казалось, сердце рвалось у него из груди: «Ныне я убежден, вне всякого сомнения, что, если не будут немедленно проведены коренные изменения, нашу армию ждет один из следующих трех исходов — умереть с голоду, распасться или разбежаться, чтобы добыть себе пропитание как можно». Описав прискорбное состояние вверенных ему войск, Вашингтон с плохо сдержанным гневом отозвался о политиках, ждавших от армии энергичной зимней кампании. «Могу заверить этих господ, что значительно легче сочинять упреки в уютной комнате у теплого камина, чем занимать промерзший унылый холм и спать под снегом на морозе без одежды и одеял. Но, если этих господ, вероятно, не трогает судьба нагого и бедствующего солдата, я всем сердцем с ним, от всей души оплакиваю его ужасное положение, которое не в состоянии исправить».
Когда главнокомандующий, погруженный в тяжкие раздумья, медленно прохаживался по лагерю, солдаты высовывали головы из лачуг и негромко, но достаточно внятно провожали его возгласами: «Нет хлеба, нет солдата». Он слышал эти голоса, пристально вглядывался в огромные на исхудавших грязных лицах глаза. В одном из посланий конгрессу Вашингтон жаловался, что в лагере нет мыла, но, саркастически добавил он, люди в нем почти не нуждаются, так как «лишь у немногих есть больше одной рубашки, у многих только лохмотья, а иные вообще голы». Спекулянты в это время наживались за счет бедствующей армии, в лагерь доставлялось мало продовольствия и одежды и по бешеной цене.
Вашингтон не столько боялся врага, сколько со дня на день ожидал бунта и мысленно прикидывал, что предпринять на крайний случай. Наконец, день настал — адъютант доложил, что к дверям штаба пришла толпа солдат и требует (неслыханный случай!) переговорить с генералом. Вашингтон внутренне сжался — вот оно, долгожданное. Его глаза сузились, в уме он подыскивал убедительные слова, но скоро слезы заструились по его щекам. Дрожавшие на холоде люди (иные были закутаны в рваные одеяла, через которые просвечивало тело) заверили, что они понимают трудности своего генерала и просят только подтвердить, что и он знает об их участи. «Они наги и умирают с голоду, — писал Вашингтон, — но мы не можем не нахвалиться несравненными терпением и верностью солдатской массы». В приказе по армии он поздравил ее с тем, что в труднейших условиях личный состав показал себя «достойным завидной привилегии отстаивать права человека».
Минул тяжелый январь, а с февраля 1778 года положение постепенно улучшилось. Быть может, сначала это объяснялось уменьшением числа едоков — помимо умерших, около двух тысяч дезертировало только в Филадельфию, до трехсот офицеров отказались от дальнейшей службы. Оставшиеся, пережив жуткую по лишениям, но не холоду зиму, осваивались в Вэлли-Фордж. К Вашингтону приехала Марта, постаравшаяся облегчить словом и делом страдавших в примитивных госпиталях. Французский доброволец, видавший ее, записал: «Она напоминает мне римскую матрону, о которых я столько читал, и я считаю, что она по достоинству спутница жизни и друг величайшего человека нашего времени». Сравнения с античными временами в дни Вэлли-Фордж, конечно, были в ходу. Д-р А. Уолдо из Коннектикута лаконично помечал в дневнике: «Скверная еда, скверное жилье, холод, усталость, нет одежды, мерзкое питание — меня рвет полдня, дым от костра ест глаза, черт возьми, больше не могу. Ну вот несут миску супа, полную горелых листьев и грязи, тошнотворного, даже Гектор отплюнулся бы, к дьяволу ее, ребята, я буду жить, как хамелеон, питаясь воздухом!»
Среди неописуемых страданий в среде офицеров рождалось братство по оружию. Они как могли развлекались, молодость брала свое, а в XVIII веке великие по масштабам века люди редко были старше сорока лет. Безусые юнцы считали себя зрелыми людьми и многоопытными солдатами. Группа юных офицеров дала званый обед. На него приглашались только те, кто после тщательного осмотра не мог предъявить целых брюк. Из того, что при большом воображении можно было назвать ромом, сделали пунш, подожгли отвратительную сивуху и пили «саламандру» как есть — горящую. Голосами, какими зовут паром с дальнего берега широкой реки, ревели песни и баллады. «Столь веселых оборванцев, — изумлялся французский офицер, — никогда не видывали». Такова была другая сторона Вэлли-Фордж, армия привыкла к лагерю, обстроилась и устроилась. Никто больше не чувствовал себя «Ионой в чреве кита» (слова д-ра Уолдо), как в первые недели. Давали любительские театральные представления, и заметно поседевший Вашингтон с невыразимой печалью смотрел, как новое поколение играло роли в той самой драме Аддисона «Катон». Он приветствовал выбор пьесы.
Дни становились длиннее и теплее, лица солдат округлялись — удалось наконец наладить доставку продовольствия. В один из погожих дней поздней зимы Вашингтон выехал встретить высокопоставленного добровольца, найденного в Европе Дином и Франклином, — генерал-лейтенанта прусской службы Фредерика Вильяма Августа Фердинанда барона фон Штебена. На боевом коне он являл собой, величественное зрелище: старый воин, овеянный пороховым дымом в сражениях Фридриха Великого. На груди ослепительно начищенная медаль размером с тарелку и сияние бриллиантов ордена. Штебен уже заверил Вашингтона специальным письмом: «Ваше превосходительство — единственный человек, под командованием которого я хочу после службы королю Пруссии отдаться возлюбленному мною искусству, которому я посвятил всю свою жизнь».
Когда великолепный Штебен сошел с коня, все увидели пожилого немца с короткими кривыми ногами. Вскоре выяснилось, что не был он ни бароном, ни генералом, а служил капитаном под прусскими знаменами. Не теряя ни минуты, Штебен начал обучать неуклюжих парней тонкостям прусского строя, и в суровом ратном деле раскрылись его качества доброго человека. На грязном снегу под смех глазевших избранные для обучения роты, а потом полки совершали перестроения, учились держать мушкеты на европейский манер. Ряды сначала путались, колонны никак не получались, а в дьявольской сумятице метался Штебен. Он не знал английского, и команды переводил офицер, кое-как понимавший скверный французский немца. Штебен дополнял их жестикуляцией, энергично ругаясь на родном языке. Он попытался быстро освоить английскую брань. Неизбежные ошибки Штебена в незнакомом языке удваивали неразбериху на плацу. Тогда он звал адъютанта, и они вместе принимались поносить этих «болванов».
Пусть со смехом, руганью и криком, но дело пошло. Штебен оказался способнейшим педагогом, быстро обнаружив разницу между американцами и европейцами. Он писал приятелю в Европу: «Эту нацию нельзя сравнить с французами, пруссаками или австрийцами. Ты говоришь своему солдату — делай так, и он выполняет, но я вынужден сначала объяснить, зачем это нужно, и тогда местный солдат повинуется». Офицеры армии республики испытали, общаясь со Штебеном, крайне неприятное потрясение. Они, взявшиеся воевать за свободу и дравшие нос перед рабами монархов, увидели: европеец встает с рассветом, весь день в грязи на плацу, учит собственным примером. Он очень неодобрительно отнесся к тому, что американские офицеры устроили себе в конце концов в Вэлли-Фордж удобные дома подальше от рядов грязных солдатских жилищ, использовали солдат в качестве слуг, а главное, передоверили обучение солдат сержантам. За несколько месяцев усилиями Штебена все изменилось, американский офицер стал ближе к солдату.
Вероятно, под влиянием неистового немца, которого Вашингтон искренне полюбил, пришлось главнокомандующему поступиться частью своих взглядов, особенно о величине дистанции между офицерами и солдатами. Теоретически плантатор, вне сомнения, обнаружил прекрасные стороны характера и у простых людей. Но он считал, что воины республики, прошедшие через испытания войны, перезимовавшие в Вэлли-Фордж, заслуживали большего, чем похвалы в приказах. Объясняя конгрессу необходимость сохранения за офицерами, уходящими в отставку, половины содержания и выдачи пособия солдатам, Вашингтон под свежим впечатлением зимы 1777/78 года писал:
«Даже поверхностное знание человеческой натуры убеждает нас, что для подавляющей части человечества руководящий принцип — личный интерес и почти каждый человек в той или иной степени находится под его влиянием. Мотивы общественного блага могут на время и в особых обстоятельствах побудить человека к бескорыстному поведению, однако самих по себе их недостаточно для обеспечения постоянной верности возвышенным велениям и обязательствам общественного долга. Только немногие способны продолжительное время жертвовать всеми личными интересами или выгодами ради всеобщего блага. Тщетно в этой связи проклинать испорченность человеческой натуры, просто таков факт, подтвержденный опытом всех веков и народов. Мы должны были бы значительно изменить людей, прежде чем ожидать, что они будут поступать по-иному». Таков был итог размышлений Вашингтона в горниле войны за независимость. Даже обаятельный и распрекрасный Штебен «туманно признался» (как выразился Вашингтон), что не может позволить себе служить без вознаграждения. О своих трудах на поприще защиты отчизны Вашингтон думал по-другому, взывая к патриотизму. Что до континентальной армии, то после зимовки в этих негостеприимных местах она стала походить на организованную вооруженную силу, а Штебен (которого иногда называют отцом американской армии) научился ругаться на трех языках одновременно.
Слухи эти согревали в зиму тревоги, придавали неповторимое очарование долгожданной весне — наголодавшиеся защитники прав человека ожидали выручки от христианнейшего короля Людовика XVI. Французские волонтеры долгими зимними вечерами рассказывали провинциалам-американцам о Париже, мощи Франции, ее неоспоримой ненависти к Англии и добром сердце дражайшего монарха. В те времена новостей из Старого Света приходилось дожидаться месяцами, и фантазеры часто живо рисовали, что происходит в эту самую минуту в далеком Версале.
Присутствие Франции уже было ощутимо — в сражениях, приведших к капитуляции англичан при Саратоге, американцы почти поголовно были вооружены французским оружием. В ту зиму в Вэлли-Фордж армия получила несколько тысяч башмаков из Франции, к глубокому разочарованию, в них оказалось невозможным обуть босых: европейская обувь не лезла на медвежьи лапы здоровяков американцев. Вашингтон был готов видеть королевские лилии рядом со звездным знаменем. Он не абсолютизировал свои воспоминания молодости, а судил по фактам. «Франция, — писал главнокомандующий, — своими припасами спасла нас от ига».
Поздней весной армия жадно ожидала официального сообщения о вступлении Франции в войну, неизбежность которого, заверяли французские офицеры, несомненна. Вашингтон слал депешу за депешей конгрессу, прося скорее обрадовать войска. Из Йорка пока ни слова. Но 5 мая 1778 года в лагерь попал экземпляр трехдневной давности «Пенсильвания газетт» с сообщением о том, что Людовик XVI обнажил шпагу в интересах независимости США. Лафайет плакал от радости, Вашингтон, поглядывая на любимца, принялся диктовать приказ, давая волю чувствам, затопившим штаб:
«Общий приказ. 5 мая 1778 года, 6 вечера. Всемогущий Правитель Вселенной милостиво защищает дело Соединенных Американских Штатов и наконец дает им в друзья одного из могущественнейших монархов на земле, дабы установить нашу Свободу и Независимость на прочном основании. Нам надлежит посвятить день, дабы отблагодарить за небесную Доброту и отпраздновать событие, которому мы обязаны Его благосклонному вмешательству. Завтра в 9 утра построить бригады, а капелланам огласить сообщение «Газетт» от 2 мая, произнести благодарственную молитву и выступить с речью, приличествующей случаю». Засим предписывалось провести смотр боевой готовности армии, отдавались распоряжения насчет салютов, о выдаче каждому солдату по доброй чарке рома. В торжественный день всем офицерам и солдатам приказывалось прикрепить по букетику цветов к головному убору.
Импресарио Штебен с несомненной любовью к драматическим эффектам организовал парад как нельзя лучше. Когда отзвучали речи капелланов и бригады, взяв оружие, перестроились в боевые порядки, сомнений быть не могло: перед Вашингтоном была дисциплинированная армия. На поле раздавался лай команд, подававшихся вниз по инстанции от бригадных генералов до сержантов. Колонны быстро развернулись в длинные линии. Пауза, тринадцать орудийных выстрелов, и вот затрещали выстрелы. Стреляли плутонгами, начиная с правого фланга. Огонь весело проносился по шеренгам солдат. Снова салют и торжественный марш — военные музыканты сыгрались, и перед Вашингтоном, ощетинившись штыками, прошествовали бригады. Парад завершили оглушительные вопли: «Да здравствует король Франции! Да здравствуют дружественные европейские державы!» И наконец торжествующее — «Да здравствуют Американские штаты!».
Солдат распустили, а офицеры направились к празднично накрытым столам. Супруги Джордж и Марта величественно приветствовали гостей, пристойно поглощая обильный обед под взглядами сотен глаз — столы были составлены в виде амфитеатра. Было много вина, цветов и музыки. «Я никогда не видел, — писал один из штабных офицеров, — такой искренней радости на лицах. Обед закончился серией патриотических тостов, покрывавшихся криками «ура!». Когда генерал встал, чтобы уйти, со всех сторон раздались аплодисменты, прерывавшиеся здравицами в его честь. Это продолжалось, пока он не удалился на четверть мили, в воздух взлетали тысячи шляп. Его светлость повернулся со своей свитой и, в свою очередь, несколько раз возгласил «ура!».
Вернувшись в свою резиденцию, слегка опьяненный радостью и вином, Вашингтон быстро стряхнул память о прекрасном дне. Он обратился к делам. Теперь, когда Франция схватилась с Англией, разразится война в Европе, Америка приобретет для Лондона второстепенное значение. Быть может, его славную армию больше не ждет новая кампания. «Спокойствие и ясность, — писал он, — вероятно, в известной степени сменят мрачные грозовые тучи, которые моментами, казалось, были готовы поглотить нас. Игра независимо от того, плохо или хорошо она велась до сих пор, вероятно, быстро приближается к благоприятному исходу». От мыслей государственных только шаг к делам личным. Вашингтон набрасывает письмо приемному сыну, категорически запрещая расстаться хотя бы с акром земли, каковы бы ни были финансовые затруднения. «Земля, — наставляет он, — вечна, цены на нее стремительно растут и будут очень высоки, когда мы обретем независимость».
Вашингтон был совершенно прав. Вступление Франции в войну против Англии круто изменило стратегическую обстановку. По договору о союзе, подписанному 6 февраля 1778 года, Франция и США провозглашали, что их цель — «достижение полной и ничем не ограниченной независимости Соединенных Штатов». Союзники взаимно гарантировали владения друг друга в Америке, которыми они могут располагать в конце войны. Следовательно, Франция обязывалась защищать американскую территорию, а США — французские владения в Вест-Индии. Стороны обязывались не заключать сепаратного мира. Был также подписан договор о дружбе и торговле, предусматривавший, помимо прочего, оказание взаимной помощи в войне на море.
В Лондоне пытались сначала предвосхитить, а затем нейтрализовать последствия вступления Франции в войну. Английский кабинет обратился к США с новыми мирными предложениями, очень либеральными по прежним временам. Министры короля опоздали — эти предложения американцы, без сомнения, приняли бы в 1775–1776 годах. Но теперь, когда на стороне США стояла Франция, а Испания и Голландия проявляли растущую враждебность к Англии, конгресс не желал и слышать о мире. О чем высокомерно и сообщили английским представителям, явившимся в мае 1778 года в Америку. Генерал Вашингтон горячо поддержал политиков. Помимо прочего, он подвергся новому тяжкому оскорблению — до него дошли достоверные сведения, что в Лондоне считали главнокомандующего континентальной армии способным принять взятку и помочь осуществлению английских планов. Для джентльмена из Вирджинии это было просто нетерпимо, он всегда считал, что живет по куда более высокому кодексу чести, чем знать, пресмыкавшаяся при дворах европейских монархов.
Генерал Хоу, проведший очень веселую зиму в дружественной Филадельфии, пока воины Вашингтона мучились неподалеку в Вэлли-Фордж, серьезно отнесся к союзу мятежников с Францией. Война в Америке ему смертельно надоела. Зимой 1777/78 года он неизменно игнорировал добрые советы лоялистов выступить и уничтожить армию Вашингтона, о бедственном положении которой англичане прекрасно знали. Хоу предпочитал балы, театральные представления и прочее в обществе Бетси Лоринг превратностям зимней кампании. Из бесконечных стычек с голодными фуражирами континентальной армии, иной раз добиравшихся до окраин Филадельфии, в штабе Хоу вывели неприятное заключение — как бы ни бедствовали янки на тех холмах, они люди решительные и жестокие. В перспективе никак не виделось приятной, упорядоченной кампании, а мрачная кровавая схватка с озлобленными солдатами Вашингтона, даже если она выльется в утомительное преследование.
Теперь, когда союз США с Францией грозил превратить тыл английской армии — Атлантику — в театр морской войны, Хоу решил: с него достаточно. Он обратился к лорду Джермену с просьбой освободить его от «очень тягостной службы». В начале мая 1778 года он передал командование генералу Клинтону, приехавшему в Филадельфию из Нью-Йорка. 24 мая Хоу отбыл в Англию, на прощание сердечно посоветовав лоялистам помириться с мятежниками. Лоялисты, измученные бездействием Хоу минувшей зимой, были повергнуты в ужас, когда новый английский командующий хладнокровно объявил свое решение: королевская армия оставляет Филадельфию. Он действовал по приказу Джермена, знавшего о том, что сильный французский флот адмирала д'Эстэнга покинул Тулон и плывет к американским берегам. Хотя и в Англии снаряжалась новая эскадра в американские воды, французы должны были прийти туда первыми и могли натворить бед, во всяком случае, закупорить эстуарий Делавэра. Английская армия в Филадельфии оказалась бы между двух огней. Клинтон, не мешкая, погрузил снаряжение армии на корабли, на борт которых поднялось также около трех тысяч лоялистов, опасавшихся мести патриотов. С десятитысячной армией он решил вернуться через Нью-Джерси в Нью-Йорк по суше. Конечно, англичане предпочли бы перебросить в Нью-Йорк всю армию морем, но на кораблях не хватало места для лошадей. Без помпы, пышных проводов и речей английские войска 18 июня 1778 года оставили Филадельфию. Как сказал житель города, видевший исход англичан: «Они не ушли, а просто исчезли».
Все эти недели в Вэлли-Фордж, в штабе Вашингтона, энергично обсуждали предстоявшую летнюю кампанию. Лазутчики доносили о несомненной подготовке англичан к эвакуации города. Что делать? Подспудно американские стратеги, размышлявшие в тени французского союза, приходили к выводу — лучше ничего не делать, а ожидать союзной армады с легионом воинов, которые вышвырнут англичан из Америки во имя свободы и Людовика XVI. Господствовавшее настроение позволило Вашингтону пока заняться делом — свести счеты с интриганами.
К весне он записал в актив много — в Вэлли-Фордж стояла почти двенадцатитысячная, неплохо снаряженная, вооруженная и обученная армия. Подвиг полководца? Несомненно. Наученный горькой зимой, Вашингтон махнул рукой на конгресс и проявил большую личную распорядительность. Он обратился с личными письмами к губернаторам штатов, точно изложив нужды войска. Затем последовало циркулярное письмо главнокомандующего губернаторам и ассамблеям, которые вняли его призыву. То, что армия была теперь одета, обута, накормлена, а главное, пополнена, было результатом работы Вашингтона. Он имел все основания гордиться — в войсках даже была создана военная полиция. Конгресс к этим достижениям имел весьма отдаленное отношение, хотя все делалось, конечно, от его имени.
Военное управление, следственно, осталось в стороне, и, когда в Вэлли-Фордж явились Гейтс и Миффлин обсуждать грядущие операции, Вашингтон был в бешенстве. Лишь по совету штаба он сохранил в отношении их «приличие». 8 мая собрался военный совет. Вашингтон доложил, что вооруженные силы республики насчитывают 11,8 тысячи в Вэлли-Фордж, 1400 — вблизи Филадельфии и 1800 — на Гудзоне, то есть немногим уступают 15-тысячной армии, которую имеют англичане в Америке, 10 тысяч в Филадельфии и 5 тысяч в Нью-Йорке. Начинать наступление или ничего не делать? Вашингтон предложил ждать, то есть ничего не делать. Военный совет единодушно согласился с ним. Гейтс и Миффлин не осмелились вымолвить слова.
Оба потеряли всякий вес в глазах конгресса. Гейтса отправили командовать на Гудзон. Из Йорка поступило довольно робкое предложение взять Миффлина генерал-майором в действующую армию. В ответ в ледяном письме Вашингтон указал: Миффлин ушел в отставку, «когда над нами сгустилась темная туча… Но если он может примирить такое поведение с его убеждениями как офицера и собственной честью, а конгресс не имеет возражений против его ухода из Военного управления, я лично, не возражая против всего этого, тем не менее считаю, что назначение джентльмена, бросающегося из стороны в сторону в зависимости от того, сияет ли солнце или скрывается за тучами, не совсем то, не совсем справедливо в отношении офицеров, преодолевших самое трудное». Миффлин не получил назначение, напротив, конгресс распорядился открыть следствие по поводу его прошлой деятельности на посту начальника тыла армии. Он плакался, что за этим стоит Вашингтон, последний любезно отпустил его из лагеря для дачи объяснений надлежащей комиссии.
Но континентальная армия отчаянно нуждалась в генералах. Какие бы сомнения Вашингтон ни испытывал в верности многих из них, имя плененного Ли постоянно было на его устах. С большим трудом он добился обмена Ли. В тот день, когда стало известно, что англичане наконец отпускают генерала, в Вэлли-Фордж было великое торжество. На парад вывели всю армию, составили сводный оркестр. Вашингтон со штабом выехал на шесть километров, чтобы встретить мученика. Очевидец описывал дальнейшее: «Генерал Вашингтон слез с коня и принял генерала Ли как брата. Он провел его через ряды офицеров и солдат, воздававших Ли высшие воинские почести, и привел в штаб, где в его честь был дан пышный обед, на котором присутствовала миссис Вашингтон. Музыка играла все время. Ли отвели комнату рядом с гостиной миссис Вашингтон.
На следующий день он встал очень поздно, и из-за него задержали завтрак. Он вышел таким грязным, как будто провел на улице всю ночь. Вскоре я выяснил, что он привез с собой отвратительную грязную потаскуху (жену английского сержанта) из Филадельфии, которую впустил в свою комнату тайком через заднюю дверь, и спал с ней всю ночь. Генерал Вашингтон вверил ему командование правым крылом армии, но перед тем, как приступить к своим обязанностям, Ли испросил разрешение отправиться в Йорк посетить конгресс. Это ему с готовностью разрешили. Перед отъездом я встретился с ним. Он заявил, что нашел армию в худшем состоянии, чем ожидал, а генерал Вашингтон не способен командовать даже взводом».
В Йорке в беседах с членами конгресса Ли высмеивал все сделанное Вашингтоном и Штебеном. По его мнению, армии не получилось; сколько ни учи американца, внушал он, «в строю он все равно смешон, над ним будет смеяться враг, и армия потерпит поражение в любом столкновении, требующем маневра». Ли предложил перейти к войне типа партизанских действий, опираясь на местные формирования. Генерал, отставший от жизни, твердил зады, проповедовал принципы, уже отвергнутые при строительстве континентальной армии. Такого рода прожекты никогда не вызывали симпатий у Вашингтона, ибо, не говоря уже об их сомнительной ценности с военной точки зрения, они погрузили бы страну в пучину гражданской войны.
Ненависть между лоялистами и патриотами особенно остро проявлялась на местах. Стоило превратить ополчение в основное орудие борьбы, как самые радикальные среди них стали бы обрушиваться на консервативно настроенных, те, в свою очередь, объединились бы, и вместо борьбы с внешним врагом началось бы то, что радикалы именовали бы настоящей революцией, а руководители войны за независимость квалифицировали бы как резню.
Профессиональный кондотьер, каким был Ли, разглядел, что континентальная армия все же дырявый щит для прикрытия от регулярных войск врага, но не понимал ее роли как надежного прикрытия от возможных социальных потрясений. Впрочем, ему, вояке и задире, была чужда социальная алгебра, он не выходил за рамки военной арифметики. А вообще в войне за независимость пламя партизанской борьбы ярко разгоралось только там, где не было соединений континентальной армии или они были слабы.
Вашингтону не хватало времени разобраться с Ли. Уход англичан 18 июня из Филадельфии поставил на повестку дня активные боевые действия — войска Клинтона не сидели больше за укреплениями, а, вытянувшиеся длинной колонной по дороге к Нью-Йорку, были уязвимы. Отдав приказ Арнольду занять Филадельфию небольшим отрядом и поддерживать там порядок до восстановления гражданского управления, Вашингтон 24 июня собрал военный совет. Указав, что за неделю войска Клинтона прошли немногим больше 60 километров и, следовательно, испытывают серьезные трудности (частично за счет разрушения мостов, порчи дороги и пр.), он спрашивал мнение генералов, что делать — навалиться всеми силами на Клинтона, ударить по арьергарду или вообще ничего не делать? Ли, считавший себя вторым в армии после Вашингтона, в обычной резкой манере вопросил — «не идиотизм ли, когда союз с Францией гарантирует конечную победу», рисковать? Он очень высоко отозвался о боевых качествах англичан и предрек одни неприятности от нового боя с ними. Штебен, борясь с английским языком, требовал наступать, молодежь — Лафайет и Гамильтон — рвалась в бой. Обсуждение закончилось компромиссом — усилить 2,5-тысячный отряд, уже действовавший на флангах Клинтона, еще 1500 человек и при удобном случае нанести удар по тылу вражеской колонны. Главные силы континентальной армии будут поблизости, чтобы при нужде оказать помощь.
Положение Клинтона было довольно серьезным — его 10 тысяч человек очень растянулись, только от головы до конца обоза было 18 километров. На флангах армию беспокоили отряды американцев, а по пятам шла континентальная армия. Вашингтон мог выставить против Клинтона в общей сложности до 14 тысяч солдат. Соблазн напасть был велик, и наконец Вашингтон отрядил примерно половину армии против арьергарда врага. Командовать отрядом было поручено Лафайету.
Стоило Ли прослышать об этом, как он заявил, что столь ответственное дело лучше поручить ему, ветерану. Против этого было трудно возразить. Ли получил командование и приказ — поутру 27 июня напасть на англичан, когда они тронутся со своего бивака около Монмус-Корт-Хауз.
В тот день Вашингтон быстро повел оставшиеся у него 7800 человек к полю предстоящего боя, где, как ожидалось, шеститысячный отряд Ли уже схватился с врагом. Его план не был совсем ясен, из отданных приказов не следовало, что он собирался дать генеральное сражение.
Стояла ужасающая жара, солдаты выбивались из сил на песчаной дороге, некоторые умирали от солнечного удара. Вашингтон торопил армию, время от времени бригады переходили на бег. Наконец послышались долгожданные звуки боя, но орудийные выстрелы не слились в могучую симфонию, напротив, они быстро угасли, как костер без топлива.
Восседая, как обычно, на прекрасном белом коне, Вашингтон был во главе колонны. До боли знакомая картина — стали попадаться бегущие люди. Генерал остановил одного, несомненно солдата, — тот сбивчиво рассказал, что Ли отступает. Приказав взять солдата под стражу и пригрозив «крепко выдрать», если он вымолвит хоть слово войскам, Вашингтон устремился вперед. Наконец среди шедшего в беспорядке отряда показалась знакомая фигура генерала Ли на лошади. Рядом своры псов.
Бледный от злости Вашингтон потребовал объяснений. Что произошло между ними точно, конечно, неизвестно, как существуют и большие противоречия в оценке уместности отступления Ли. Вероятно, все же он поступил осмотрительно — когда завязался бой, Клинтон внезапно повернул всю армию, и американцы оказались перед лицом превосходящих сил, побежала и бригада Лафайета. Уже по той причине Лафайет даже спустя тридцать семь лет в мемуарах с удовлетворением отмечал, что Вашингтон обозвал Ли «подлым трусом». Наверное, сказано было многое. Генерал Скотт, прославившийся сквернословием, вспоминал: «Да, сэр, он ругался в тот день так, что листья мелко задрожали на деревьях! Никогда я не наслаждался такой бранью ни раньше, ни потом. Сэр, в тот памятный день он ругался, как ангел, слетевший с неба!» Правда, Скотт не был на месте действия… Одно несомненно — Вашингтон был крайне недоволен.
Препираться было некогда: выяснилось, что Клинтон, не ограничившись тем, что опрокинул отряд Ли, идет дальше. К счастью для американцев или, как выразился Вашингтон, «благодаря Провидению, никогда не оставлявшему нас в тяжкий час», он встретился с Ли в таком месте, которое представляло прекрасную позицию, на склоне холма, понижавшегося в сторону англичан. Фланги прикрывал лес, а на пути войск Клинтона, стоит им развернуться и сойти с дороги, — болото. Результаты трудов Штебена сказались — американские бригады в считанные минуты стали так, как приказал Вашингтон, и заняли оборонительный порядок.
Когда появилась английская кавалерия, ее отогнали убийственным залпом почти в упор. Недаром Штебен настаивал на дисциплине огня! Легкая пехота и гренадеры Клинтона атаковали с обычной напористостью, выискивая слабые места в обороне. На этот раз они не добились успеха — американские бригады довольно умело маневрировали, црикрывая возникшие опасные бреши. К вечеру Клинтон прекратил бой. Американцы удержали свои позиции. Вашингтон и Лафайет провели ночь на земле под одним одеялом. Они обсуждали «поведение генерала Ли» и стратегию предстоявшего сражения.
Едва забрезжил рассвет, как Вашингтон схватился за подзорную трубу и обшарил взором поле боя. Никого! Выяснилось, что в полночь Клинтон незаметно ушел. Преследовать не имело смысла — английские войска сумели оторваться от американцев. Стороны потеряли в бою примерно поровну — по 350 человек убитыми, ранеными и пленными, хотя Вашингтон, как водилось, преувеличил потери врага, доложив конгрессу, что Монмус-Корт-Хауз обошелся Клинтону по крайней мере в 1500 человек. Конгресс соответственно распорядился выбить еще одну победную медаль. С таким же основанием на нее мог претендовать и Клинтон.
Коль скоро стратегия больше не отнимала времени у Вашингтона, он смог составить детальное обвинение против Ли, имевшего несчастье в силу болезненной склочности вернуться к вопросу о том, кто же повинен в туманном исходе сражения. Он потребовал у Вашингтона извинений и выразил готовность предстать перед военно-полевым судом. Вашингтон велел арестовать Ли, а вскоре состоялся и суд, нашедший Ли виновным в беспорядочном отступлении и неповиновении. Ли был на год отстранен от службы. Он пожаловался конгрессу, в котором с большими колебаниями поддержали приговор.
Теперь вступили адъютанты Вашингтона, удрученные нападками Ли на обожаемого главнокомандующего. Один из них, Лоренс, вызвал Ли на дуэль, на которой секундантом выступил другой — Гамильтон. Ли получил легкое ранение, но куда больше его мучила позорная отставка. Он публично продолжал злоязычничать о Вашингтоне, который сохранял молчание, сколько ни изощрялся обиженный. В июле 1780 года конгресс счел очередное письмо Ли в свой адрес клеветническим, и генерала уволили. С политической арены, а вскоре из жизни ушел самый неистовый критик Вашингтона в среде профессиональных военных. В 1782 году Ли умер в Филадельфии.
Недоброжелатели Вашингтона прикусили языки, содержание мрачных писем Ли незадолго до его смерти широко разнеслось. Ли, например, писал Гейтсу: «Я убежден как в своем существовании, что рассчитанная цель этого темного интригана, преисполненного честолюбия мстительного хама В. — стереть меня с лица земли, убив прямо или косвенно, а также навсегда подорвать вашу славу и благополучие».
Приписывать такие замыслы Вашингтону слишком. По поводу обвинений Ли он позднее высказался, благостно заметив: «Если бы я когда-нибудь претендовал на роль военного гения и опытного военачальника и под этим фальшивым знаменем выпрашивал командование, которым мне оказали честь, или если бы после моего назначения я опрометчиво действовал, руководствуясь только собственным суждением, а неудачи были бы следствием моего упрямства и своеволия, но не обстоятельств, тогда я был бы должным объектом для поношения не только его, но и других и заслужил бы общественное недовольство. Но ведь все знают, что командование было мне навязано, и… одно перечисление фактов опровергает все его утверждения, хотя они и делаются с наглостью, на которую способны лишь немногие, бесчестящей само имя человека».
Дело было не только в судьбе сумасброда Ли. После Вэлли-Фордж Вашингтон стал почти неуязвим. Д. Адамс продолжал ворчать, но только в письмах жене: «Отец страны, Основатель Американской Республики, Основатель Американской Империи и т. д. и т. д. и т. д. Эти эпитеты неприменимы к одному! Их нельзя применить и к двадцати, к сотне и тысяче!» Американцы все же отдавали их одному — Джорджу Вашингтону.
По американским критериям он, дав описанные сражения, зарекомендовал себя полководцем. Большего в чисто военной области он лично не сделал, ибо с лета 1778 года и до конца войны за независимость внимание Вашингтона все в возрастающей степени поглощали проблемы политической стратегии.
Американский публицист Ф. Беллами в книге «Личная жизнь Джорджа Вашингтона», выпущенной в 1951 году, писал: «У американцев ныне есть основательные причины, когда они никак не могут вспомнить, что происходило с Вашингтоном и континентальной армией в промежуток между Монмус-Корт-Хауз в 1778 году и Йорктауном в 1781 году. Дело же в том, что после Монмус-Корт-Хауз наши предки, положившись на союз с Францией, беспредельно захваливали Вашингтона и оказывали ему все меньше практической помощи… Печально, но факт — американцы тогда вели себя так, что желание многих историков забыть об этом периоде понятно».
Война в представлении американцев приобрела иные очертания, они благословляли свою искусную дипломатию, сумевшую будто бы поставить на службу США королевскую Францию. Расчетливые руководители революции надеялись вести отныне боевые действия главным образом чужими руками, не без оснований полагая, что решающие схватки с Англией предстоят далеко за пределами Северной Америки и, следовательно, обойдут их страну стороной. Они не были совсем не правы. В Лондоне с появлением нового врага Франции были озабочены безопасностью самих Британских островов. Адмиралтейство смертельно боялось появления в отечественных водах соединенного франко-испанского флота, а посему озаботилось держать крупный флот в метрополии. В то же время для охраны британских островных владений в Вест-Индии перебрасывались войска, которые были взяты у Клинтона. Контуры этой стратегии не могли остаться тайной для американцев, и они, естественно, ожидали ослабления натиска врага.
В конгрессе правильно рассчитали, что Англия не сможет направить против США новые части регулярной армии, и отсюда сделали совершенно неправильный вывод, что можно пропустить мимо ушей настояния Вашингтона укреплять континентальную армию. Не придали также должного внимания угрозе Клинтона, о которой по долгу службы Вашингтон доложил конгрессу: отчаявшись получить подкрепление, английский командующий укрепился в Нью-Йорке и заявил, что «изменит характер войны, превратив ее в борьбу на истребление и уничтожение». Он разослал агентов по индейским племенам уговаривать краснокожих обрушиться на западную границу США, спланировал зимнюю кампанию в южных штатах и опустошительные набеги с кораблей королевского флота не только на побережье, но и по Гудзону.
Уже 4 июля 1778 года, своеобразно отмечая день американской независимости, английский полковник Батлер во главе индейцев вторгся в долину Вайоминг в Пенсильвании. Он устроил кровавую баню, сотни мирных жителей погибли. На глазах обезумевших семей мужчин бросали на кучи раскаленных углей и, придерживая вилами, заживо сжигали, отрезали головы, снимали скальпы. Очень скоро вся приграничная полоса стала ареной ужасающего кровопролития.
Континентальная армия не могла ничего поделать. Вашингтон привел ее вслед за Клинтоном к Нью-Йорку. Туда же подошла эскадра д'Эстэнга, прибывшая к американским берегам 8 июля. Логично было бы овладеть Нью-Йорком, сил, казалось, было достаточно — континентальная армия плюс четыре тысячи французских солдат, привезенных д'Эстэнгом. Но адмирал нашел, что его глубокосидящие корабли не войдут в гавань Нью-Йорка. Операция не состоялась. Тогда Вашингтон попытался очистить остров Ньюпорт, разгромив занимавший его сильный гарнизон. Соединенные американо-французские силы высадились на остров, но сражения не произошло. Д'Эстэнг, получив сообщение о подходе английского флота, торопливо погрузил своих солдат и отплыл. Тут разразился сильный шторм, потрепавший французскую эскадру. Д'Эстэнг заявил, что необходимо отремонтировать корабли, и укрылся в гавани Бостона. Затем он отплыл, не поставив в известность союзников о месте назначения. Вашингтон предположил — в Вест-Индию, ибо вслед за французским флотом из Нью-Йорка ушла английская эскадра, взявшая на борт пять тысяч солдат. Между тем шел уже ноябрь, и кампания континентальной армии 1778 года закончилась. Вашингтон расположился на зимние квартиры, заняв зигзагообразную линию протяженностью сто с небольшим километров к западу от района Нью-Йорка.
Первый опыт сотрудничества с французами оставил горький осадок. После неудачи на Ньюпорте около пяти тысяч ополченцев, обозлившись на союзников, разошлись по домам. Происходили стычки между американскими и французскими солдатами. Стороны обменивались острыми упреками. Вашингтон как мог сохранял дипломатическую выдержку, но в частном письме воскликнул: «От всего сердца хотел бы, чтобы у нас не было ни одного иностранного офицера, за исключением маркиза Лафайета!» Но даже пылкий маркиз терял терпение, на оскорбления своих соотечественников он отвечал колкостями, а Вашингтону пожаловался: «Я чувствую себя больше на войне в американских линиях, чем при приближении к английским линиям у Ньюпорта».
Трения трениями, а война продолжалась, и требовалось вынести безотлагательное решение, что предпринять на границе, где индейские племена, подстрекаемые англичанами, сделали жизнь совершенно нетерпимой. Радикальным решением было бы массированное вторжение в Канаду, овладение провинцией и ликвидация осиных гнезд, откуда совершались набеги. Лафайет был всецело «за» и составил подробный план — двенадцатитысячная армия захватит Детройт, Ниагару, Монреаль и т. д., а французский флот, поднявшись по реке Св. Лаврентия, поддержит ее. Лафайет считал, что, если вторжение возглавят французские офицеры, это поднимет местное население против англичан, и успех предприятия обеспечен. Себя он уже видел командующим победоносной армией.
Не согласовав план с Вашингтоном, он поспешил в Филадельфию, где очаровал конгресс блистательными перспективами нанесения смертельного удара врагу в Северной Америке. Политики пришли в восторг и высказались за операцию. Когда Лафайет явился к Вашингтону, главнокомандующий выслушал его внешне благожелательно. Но внутренне он пришел в ужас, особенно узнав, что конгресс считает необходимым обратиться в Версаль за помощью для овладения Канадой. В официальном письме конгрессу Вашингтон высказался против операции по чисто военным причинам. В конфиденциальном письме президенту конгресса Лоренсу он прибег к совершенно иной аргументации: «По мере того как маркиз развивал свой прожект, мне представилось, что идея была только его, но вовсе не невероятно, что она зародилась у французского кабинета и искусно замаскирована, чтобы ее легче приняли. Думаю, что на лицах некоторых в этой связи я читаю больше, чем незаинтересованное рвение. Надеюсь, что я ошибаюсь».
Идея действительно принадлежала только Лафайету, но подозрительный Вашингтон не поверил. Он указывал, что было бы безумием разрешить французам вновь укрепиться в Канаде, «связанной с ними узами крови, обычаев, религии и прежнего правления». В результате по достижении независимости США окажутся лицом к лицу с французской империей от Нью-Орлеана до Канады. И пусть конгресс не думает, что Франция остережется вновь толкнуть США в объятия Англии, ибо к тому времени Франция с союзной Испанией будут господствовать на море. «А на нашу долю останутся только недовольство, упреки и подчинение».
В заключение Вашингтон предостерег: «Людям очень свойственны крайности. Ненависть к Англии может подтолкнуть иных к чрезмерному доверию к Франции, особенно когда принимаются во внимание чувства благодарности. Такие люди не захотят поверить, что Франция способна действовать эгоистически… Однако история человечества дает всеобщий принцип — не следует доверять ни одной нации дальше ее собственных интересов. Ни один осмотрительный государственный деятель или политик не осмелится отклониться от него». Ситуация, понимал Вашингтон, конечно, щекотливая — Лоренс не мог придать огласке его конфиденциальное письмо, в то время как официальное послание конгрессу могло показаться неубедительным, особенно учитывая эмоции — кровь ежедневно погибавших под томагавками людей взывала об отмщении. Континентальную армию уже упрекали в бездеятельности.
Главнокомандующий нашел выход — он убедил горячо любимого Лафайета отправиться на родину. Искренний маркиз едва ли мог заподозрить коварство в предложениях Вашингтона, ибо они были продиктованы как заботой о государственном благе, так и вниманием к молодому человеку. «Если у вас есть мысль, дорогой маркиз, — отечески писал Вашингтон, — нанести визит (французскому) двору, Вашей даме и Вашим друзьям этой зимой, но Вы колеблетесь из-за экспедиции в Канаду, то дружба побуждает меня сказать — нет необходимости откладывать поездку». Вашингтон лукаво заверил честолюбивого Лафайета, что он принесет больше пользы в Европе, склоняя Испанию к вступлению в войну, чем занимаясь куда менее важными делами в США. Польщенный Лафайет отправился во Францию, осознавая ответственность своей миссии, а великая экспедиция в Канаду заглохла.
Генералу пришлось выехать в Филадельфию объясняться с конгрессом, почему он отказывается идти войной на Канаду рука об руку с войсками христианнейшего короля. В городе он провел около полутора месяцев и вдоволь налюбовался американским тылом. По улицам грохотали тяжелые кареты с ливрейными лакеями в напудренных париках на запятках, ежедневно давались балы, где вино лилось рекой, а столы ломились от яств. Вашингтон протирал глаза — он, видевший лишения на фронте, не мог поверить, что за спинами сражающихся купаются в роскоши. Генерала захваливали, таскали с одного бала на другой, по театрам, концертам, давали в его честь званые обеды. Кругом беспечная болтовня, политики по уши заняты светской жизнью, самые неотложные дела стоят. Высокий худой Вашингтон с изможденным лицом был явно неуместен в гостиных. Уже облик генерала напоминал — идет война, что, естественно, побуждало упитанных джентльменов отводить глаза и не вглядываться ему в лицо.
Он писал из Филадельфии: «Ничто, что я видел со дня приезда сюда, не изменило моего мнения о людях, напротив, у меня основательнейшие причины быть убежденным, что наши дела в самом тягостном и катастрофическом положении, когда-либо складывавшемся с начала войны… Если бы мне поручили нарисовать картину нравов и людей, то из того, что видел, слышал и частично знаю, я бы, одним словом, определил — безделие, распутство и роскошь овладели большинством. Спекуляция, казнокрадство, ненасытная страсть к наживе подавили все другие соображения и охватили людей всех состояний. Партийные распри и личные склоки — основное занятие, в то время как жизненно важные проблемы страны — громадный и все возрастающий долг, подорванные финансы, отсутствие кредита (а это означает отсутствие всего) — считаются второстепенными и решение их откладывается со дня на день, с недели на неделю, как будто наши дела обстоят блестяще».
В конгрессе и на заседаниях его комитетов Вашингтон пытался показать реальную обстановку. Он объяснял, что служба в армии невыгодна, когда любой способный человек, оставивший армию, может рассчитывать на быстрое обогащение в частном бизнесе. Нужно немедленно поднять жалованье офицерам, иначе они разойдутся. Слушали очень уважительно, понимающе кивали головами, но практически палец о палец не ударили, а иные циники за спиной Вашингтона глубокомысленно рассуждали — генерал-то не страдает, он, принимая на себя многотрудные обязанности, договорился с конгрессом о возмещении личных расходов по окончании войны, а не о ежемесячном жалованье. Мудрейший человек, вздыхали спекулянты, предвидел инфляцию!
Все это было вздором, инфляция, когда доллар обесценивался на пять процентов ежедневно, конечно, затрагивала Вашингтона, хотя менее болезненно — вирджинский плантатор владел недвижимостью, а не капиталом, способным быстро обесцениться. Деловая переписка Вашингтона с управляющим Маунт-Верноном в это время изобличает громадную тревогу плантатора по поводу состояния его личных дел — арендаторы платили долларами, которые практически ничего не стоили, должники спешили погасить ими свои долги, а профессиональные шутники забавлялись — облепив собак бумажными долларами, водили их напоказ по столице.
В середине февраля 1779 года Вашингтон наконец вырвался из опостылевшей Филадельфии, выплыл из водоворота пышных балов, которые, по словам близкого, генерала Грина, доставляли ему «больше боли, чем радости». Он проявил твердость характера — тщательно скрывал гнев под личиной развлекающегося джентльмена. Он запомнился филадельфийским дамам как неутомимый танцор. Они только расходились во мнениях по поводу выражения лица располневшей Марты, которая больше не танцевала, но не отрывала глаз от супруга, выделывавшего замысловатые па на ослепительно натертом паркете.
Вашингтон увозил для армии из Филадельфии немногое — обещание конгресса выплачивать пенсии офицерам семь лет по окончании войны, рекомендации штатам пожизненно обеспечить офицеров по выходе в отставку половиной содержания. Кто будет финансировать это, оставалось неясным, но, по крайней мере, ссылаясь на посулы конгресса, можно было задержать людей на службе.
Вернувшись в штаб, Вашингтон засыпал друзей письмами. Теперь он не сдерживался. Каждая строчка была полна беспокойства за судьбу страны и негодования по поводу происходившего в тылу в час мучительных испытаний. Нескольких извлечений из писем достаточно, чтобы понять душевное состояние генерала на исходе четвертого года войны за независимость.
«Спекуляция, казнокрадство, нажива со всеми их последствиями дают слишком много печальных доказательств упадка общественной добродетели и слишком явных примеров, что только это интересует многих». В другом письме Вашингтон настаивал: «Ничто другое, убежден, кроме обесценения нашей валюты, происходящей главным образом по упомянутым причинам, чему помогают склоки и партийные распри, не питало в такой мере надежды врага и дало возможность Британии по сей день держать свои армии в Америке. Враги, не колеблясь, говорят об этом и добавляют, что мы сами победим себя».
Временами он впадал в риторику, странно звучавшую в устах человека, которому была вверена армия революции: «Разве не может родина нас всех — Америка обладать достаточной добродетелью, чтобы разочаровать наших врагов? Должна ли жалкая, ничтожная погоня индивидуумов за презренным металлом соперничать с основными правами и свободами как нынешнего поколения, так и с интересами еще не рожденных миллионов? Погубят ли считанные хитрецы, трудящиеся ради собственного обогащения и удовлетворения алчности, прекрасное здание, которое мы сооружаем, тратя на это столько времени, крови и средств? Падем ли мы в конце концов жертвами собственной ужасающей корысти? Боже, не допусти этого! Пусть каждый штат и все штаты в совокупности примут законы, пресекающие рост этого чудовищного зла и восстанавливающие изначальную чистоту дела войны!»
Иногда письма дышали поистине праведным гневом, а предлагавшиеся меры свидетельствовали о большой твердости характера: «Убийцы нашего дела должны быть преданы примерному наказанию… Молюсь Всевышнему, чтобы каждый штат вздернул самого зловредного (из числа спекулянтов. — Н. Я.) на виселицу, которая, по крайней мере, в пять раз выше, чем библейская. Для человека, составляющего состояние на гибели страны, по моему мнению, нет достаточного наказания».
Страшные слова остались словами. Вашингтон не мог переделать высшие классы Америки по своему образу и подобию. Он должен был работать с имевшимся человеческим материалом. Будучи реалистом, Вашингтон сообразовывал свои планы с имевшимися возможностями, подрезал крылья собственной мечте.
Конечно, Вашингтон всей душой и сердцем рвался положить конец войне, увенчав победой славное дело. Но он лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что республика не в состоянии восторжествовать собственными силами. Помимо естественного желания достичь успеха малой кровью, над помыслами его властно довлела блистательная мысль — добыть победу руками других. Эти соображения диктовали особую осторожность, а главное, ненавистную необходимость ждать.
В этом отношении не было решительно никакой разницы между Вашингтоном и презираемыми им спекулянтами, хотя мотивы сознательной затяжки войны у них были глубоко различными. Вашингтон ожидал перелома в борьбе против Англии на других театрах, то есть успехов французского оружия в Европе и Вест-Индии. Что до наживавшихся на военной конъюнктуре, то Вашингтон укрепился в подозрении: «Ныне спекулянты, ловкачи всех видов стоят за продолжение войны ради своего обогащения… Мы еще не испили до конца чашу позора».
Затяжка войны была неизбежна, и Вашингтон надеялся, пока французы дерутся с англичанами, упорядочить дела в собственной стране. В 1779 году он не планировал крупных операций и, следственно, не требовал от конгресса средств на расширение армии, полагая, что тем самым удастся добиться экономии. США выпутаются из финансовых затруднений, а там видно будет — в зависимости от хода войны между Англией и Францией.
На главном фронте — перед Нью-Йорком — царило затишье, если не считать отдельных вылазок англичан и действий континентальной армии местного значения. Пока главные армии смотрели друг на друга из-за укреплений, американцы занялись привычным, ныне совершенно неотложным делом. Вашингтон отправил генерала Салливана с пятью тысячами человек «полностью разрушить и стереть с лица земли» деревни ирокезов, бесчинствовавших на границе. Хотя не так стремительно, как хотелось бы Вашингтону, Салливан летом 1779 года огнем и мечом прошел по землям ирокезов, уничтожив свыше 40 поселений, а главное, начисто сжег их посевы, вырубил сады и уничтожил запасы продовольствия. Вашингтон публично признал «полный успех» экспедиции Салливана, подготовившей голодную смерть сотням индейских семей грядущей лютой зимой. Но американцы не дошли до Ниагары, откуда англичане руководили набегами индейцев.
Тем временем на юге страны дела американцев шли плачевно. Еще в конце 1778 года Клинтон направил в Джорджию 3,5-тысячный отряд, захвативший Саванну — порт, дававший доступ в южные штаты и связывавший их с Вест-Индией. Разбив местное ополчение, англичане вернули короне Джорджию и начали медленно овладевать Южной Каролиной. Недавние патриоты, видя превосходство врага, торопились присягнуть на верность королю.
Вашингтон считал, и совершенно справедливо, что конгресс и Военное управление изъяли из его компетенции операции на юге. Они касались континентальной армии лишь в той мере, в какой было необходимо отправить туда подкрепление. На юг ушло около двухсот всадников под командованием польского добровольца Казимира Пулаского и несколько сот солдат континентальной армии. Осенью 1778 года Вашингтон с удивлением узнал, что эскадра д'Эстэнга из Вест-Индии пошла не к Нью-Йорку, как ожидалось, а появилась у берегов Джорджии. Французский адмирал затеял осаду Саванны и, хотя имел более чем двойное превосходство в силах — 5 тысяч французов и американцев против 2400 англичан, был с позором отбит. Пулаский, возглавивший безумно смелую кавалерийскую атаку, пал на поле боя. Поражение на юге подняло дух лоялистов по всей стране, посеяло глубокое уныние в Филадельфии, но не лишило присутствия духа Вашингтона.
Генерал научился стойко переносить неудачи, что значило одно, другое поражение, да к тому же на юге, когда враги Англии умножались. 16 июня 1779 года в войну вступила Испания, хотя и не признавшая независимости Американских штатов. Оно понятно — Испания сама имела обширные колонии в западном полушарии, и побудительным мотивом для нее взяться за оружие было желание захватить Гибралтар и Минорку. Вашингтон упивался известиями, приходившими в те времена с большим запозданием, о схватках далеко от Америки.
1779 год дал пищу для любителей авантюрного чтения: прославился американский флотоводец — капитан Джон Поль Джонс. Он выполнил долгожданное — перенес войну в моря, омывающие Британские острова. Базируясь на Брест, корабли Джонса нападали на английские порты, его бравые молодцы, высадившись на берег, похитили столовое серебро у графа Селкирка и вообще причинили врагу много хлопот. Но честолюбивые планы — конгресс одобрил экспедицию по поджогу Лондона и уничтожению королевского дворца, — конечно, были слишком дерзки и не поддавались исполнению. Куда успешнее действовали американские каперы, воевавшие на море ради личной наживы. Добыча каперов заложила основу ряда крупных состояний в США. Б. Франклин признал, что каперство больше обогатило американцев, чем торговля. Что до морской войны по всем правилам, то с появлением французского и испанского флотов конгресс счел усиление американского флота излишним. Если в 1777 году США имели 34 корабля, то в 1781-м — только 7. Зачем собственный флот, когда намечалось вторжение французов и испанцев на Британские острова?
За годы войны конгресс выдал 1700 каперских свидетельств и не менее 2000 свидетельств власти штатов. Каперы имели водоизмещение от 100 до 500 тонн, иные имели по 20 орудий и экипажи свыше 100 человек. В общей сложности они взяли 600 призов стоимостью в 18 миллионов долларов. Каперство, граничившее с пиратством, заняло в разное время до 60 тысяч человек. Неслыханный патриотический подъем, буквально исход американцев в море, когда малолюдство было бичом континентальной армии! Если для Вашингтона было проблемой набрать тысячу-другую солдат, то в портах толпы осаждали капитанов каперов.
Не только нежелание конгресса тратиться на государственный флот, но и массовое дезертирство военных моряков на каперы не давали возможности США обзавестись должной морской мощью, способной оказать влияние на ход войны. Вашингтон находил это положение ненормальным и в апреле 1779 года, видя, что военные корабли простаивают в портах без экипажей, предложил сдать их в аренду энергичным капитанам с условием, что «они будут иметь исключительные права на все захваченное, но действовать поодиночке или вместе по указанию конгресса». Он предвидел великие преимущества от осуществления этого плана: «С нашими военно-морскими силами мы можем захватить или уничтожить все английские корабли и транспорты у Джорджии, а тогда их войска на берегу постигнет катастрофа. При нынешнем положении наши корабли не только дóроги и абсолютно бесполезны в портах, но иной раз требуют отвлечения сухопутных войск для охраны».
План Вашингтона — вписать операции на море в общую стратегию войны — был построен на песке — каперы рвались в море не ради великих принципов, а в интересах наживы. Они внесли серьезное расстройство в торговое мореходство, не гнушаясь иной раз ограбить судно дружественной страны, но никогда не причинили заметного ущерба английским воинским перевозкам в Америку. Транспорты обычно шли в конвоях с сильным охранением.
Вероятно, Вашингтон убедился, что дракона спекуляции и наживы ему не одолеть, и, коль скоро военные действия в районах дислокации континентальной армии затихли, он вернулся к образу жизни богатого вирджинского плантатора. Впервые с начала войны в 1779 году Вашингтон решил отдохнуть, не в филадельфийских масштабах, конечно, а насколько позволяла обстановка военного лагеря. Он стал приглашать на званые обеды дам, было отмечено, что генерал способен танцевать три часа подряд. В корреспонденции Вашингтона появились шутливые письма.
Подал весточку о себе из Франции сердечный друг Лафайет, галантно сообщив, что его юная супруга «без ума» от Вашингтона. Любезнейший генерал ответил: «Скажи ей (если ты, конечно, не перепутал и не предложил вместо ее свою любовь), что мое сердце чувствительно к нежной страсти и я уже настолько хорошо думаю о ней, что пусть она остережется и не подносит любовный факел к нему, ибо ты раздуваешь пламя. Слышу, как ты говоришь — «не боюсь. Моя жена молода, ты стареешь, и вас разделяет Атлантика». Все это верно, душевный друг, но помни, что никакие расстояния не разлучат надолго пламенных влюбленных, и чудеса прежних времен могут повториться в наше. Увы! Ты тут же заявишь, что среди чудес, описанных в священном писании, нет одного — случая, когда молодая женщина по истинной склонности предпочла бы старика. Против меня так много всего, что опасаюсь, я не смогу оспаривать приз у тебя, однако при твоем уже известном поощрении я включаю себя в список претендентов на завидное сокровище».
Когда же Лафайет, ухватившись за светские любезности, попытался обратить их на пользу родины и пригласил Вашингтона по окончании войны посетить Францию, где он собственными глазами сможет лицезреть ослепительную маркизу, «старый лис» ответил отказом, облеченным, однако, в изящную форму. Вашингтон сокрушался, что стар, чтобы выучить французский, а «говорить через переводчика, особенно с дамами, столь затруднительно, скучно и неуместно, что я просто не могу представить себя в такой роли». Пусть лучше Лафайет с супругой посетят США «в моем скромном сельском доме, домашний уют и сердечный прием заменят тонкости дорогостоящей светской жизни».
Во всех случаях жизни Вашингтон предпочитал быть хозяином, но не гостем.
Осенью 1779 года он оставил тон стареющего жуира. Это видно из письма Р. Моррису: «Я пью и ощущаю вкус вина только в праздничной обстановке», «Ныне я не способен к светским развлечениям». Зима в Вэлли-Фордж была воспроизведена в еще худшей форме в 1779/80 году. Стояли трескучие морозы, замерзла даже гавань Нью-Йорка. Вьюги замели метровым слоем снега солдатские хижины и палатки. Армия снова голодала. «Мы не видывали таких трудностей за всю войну, — признался Вашингтон, — солдаты едят все виды лошадиного корма, кроме разве сена».
Доллар совершенно обесценился, и пришлось силой реквизировать продовольствие. Беседы с фермерами с приставленным к их носу острием штыка вызывали взаимное озлобление. В обмен на продукты фуражиры вручали сертификаты, вносившие дальнейший хаос в денежное обращение. В Морристауне, где был штаб, Вашингтон метался, изыскивая источники снабжения, хотя, как и в прежние годы, страна отнюдь не бедствовала. Снова та же проблема — голодные солдаты и разжиревшие спекулянты. Конгресс признал свое банкротство, приняв решение, что, поскольку федеральная валюта обесценилась, каждый штат должен взять на себя снабжение полков, составленных из его уроженцев. Последовала невыносимая неразбериха.
Что делать с дополнительными полками, учрежденными Вашингтоном на континентальной основе, то есть комплектовавшимися независимо от принадлежности солдат к тому или иному штату? Он особенно гордился ими. Несколько полков удалось приписать к штатам с филантропически настроенными ассамблеями. Но 16 полков, не нашедших благодетелей, пришлось распустить, масса офицеров, и притом лучших из лучших, осталась не у дел. В континентальной армии у Морристауна было немногим больше трех тысяч человек. «Не было другого этапа войны, — сообщал Вашингтон конгрессу, — на котором недовольство приобрело бы столь общий и тревожный характер». До тех пор армию цементировал «общественный долг», подкреплявшийся «неустанными усилиями примирить ее с обстоятельствами. Но все это не сможет долго противостоять влиянию постоянно действующих факторов, усугубляющихся с каждым днем… Офицеры уходят в отставку… Солдаты не имеют этого выхода, поэтому они ропщут, вынашивают недовольство и теперь стали проявлять склонность входить в мятежный сговор».
Обращаться к конгрессу было равносильно произнесению речей в вату. В Филадельфии, конечно, пугались, но предоставляли Вашингтону самому справляться с армией. Кое-как перезимовали, и континентальная армия была счастлива, ибо враг не предпринял против нее никаких действий.
Клинтон понимал, что американцы не в состоянии наступать на Нью-Йорк. Зимой он с легким сердцем перебросил на юг лучшие части — до 8,5 тысячи человек, вверив оборону города гессенцам и лоялистам. Клинтон надеялся, опираясь на замиренную Джорджию, овладеть обеими Каролинами, Вирджинией и, если не удастся захватить всю страну, по крайней мере, закрепить за короной эти колонии. Американцы послали на юг подкрепления, но Вашингтон отклонил предложение ряда членов конгресса отправиться на юг биться с англичанами. Доводы, что английскими войсками на юге командует Клинтон и логично поставить там во главе американских Вашингтона, не произвели на него никакого впечатления.
Англичане осадили Чарлстон, гарнизон которого 12 мая 1780 года капитулировал. То было ужасающее поражение — вместе с командующим генералом Линкольном подняли руки свыше 5 тысяч американцев, из них 2500 солдат континентальной армии. Торжествующий Клинтон вернулся в Нью-Йорк, оставив на юге лорда Корнваллиса. Конгресс назначил на юг победителя при Саратоге генерала Гейтса. Между Вашингтоном и южным театром легла непреодолимая пропасть. Он заметил, что находится в столь «щекотливом положении… в отношении генерала Гейтса», что не хочет даже «конфиденциально» высказывать какие-либо суждения по поводу операций там, «дабы мое мнение, если оно станет известным, не было неблагоприятно истолковано недружественно настроенными людьми».
16 августа Гейтс с 1400 солдатами континентальной армии и 2 тысячами ополченцев дал бой Корнваллису у Камдена в Южной Каролине. Англичане, уступавшие по силам американцам, тем не менее быстро разгромили их. Это положило конец организованному сопротивлению в южных штатах и карьере Гейтса. Патриотов особенно возмутил тот факт, что битый генерал остановился, чтобы написать донесение конгрессу, только тогда, когда между англичанами и им было свыше 100 километров. Гамильтон язвил: «Прекрасное достижение для человека его возраста!» Вашингтон отнесся к позорному бегству Гейтса с пониманием, заявив: «Безрассудно занимать позицию вблизи превосходящего по силам врага». Конгресс сместил Гейтса и открыл надлежащее следствие. Вашингтон тактично винил не полководца, а ополчение, указав — Камден дал новый предметный урок касательно «фатальных последствий зависимости от ополчения».
Те в Филадельфии, кто еще недавно видел в Гейтсе противовес Вашингтону, склонили головы. Конгресс теперь был готов возложить на главнокомандующего и ответственность за операции на юге, предложив самому избрать генерала для руководства там боевыми действиями. Он назначил Грина, излюбленную жертву нападок политиканов. Сообщая о своем выборе, Вашингтон мстительно приписал: «Я очень высоко ценю новое доказательство доверия конгресса, выразившееся в предоставлении мне права самому назначить генерала на столь ответственный пост». Крыть было нечем, и в Филадельфии молча проглотили пилюлю.
Отправляя на юг Грина, Вашингтон прикомандировал к нему «легкой кавалерии генерала Г. Ли» — на обширных слабозаселенных пространствах было где развернуться конникам и Штебену, ибо «предстояло создать армию». С южного театра уже поступили сведения, что там развернулась партизанская борьба, которая в конечном итоге решила исход дела в этих штатах. Вашингтон все же не верил в успех иррегулярных частей, поэтому он свирепо предостерег Грина: «Мы должны располагать постоянной армией, а не колеблющимся ополчением, которое тает под нами, как цоколь из снега под тяжестью статуи в летний день».
Давным-давно известно, что самое легкое дело давать советы. Вашингтон рекомендовал Грину обзавестись регулярными войсками на юге, а как с комплектованием самой континентальной армии? В пользу ее решительного расширения говорило многое — катастрофа на юге и прибытие наконец из Франции долгожданных войск союзника. 10 июля эскадра адмирала Тени бросила якоря в Ньюпорте, благоразумно оставленном англичанами. Она доставила семитысячный экспедиционный корпус под командованием генерал-лейтенанта Рошамбо. Взгляд на карту — Ньюпорт лежит севернее Нью-Йорка — подсказывал грандиозный стратегический план — зажать англичан в клещи между континентальной армией и экспедиционными силами Рошамбо, а французский флот блокирует побережье.
Вашингтон решил, что час решительного наступления пробил. Он требует увеличения континентальной армии до 25 тысяч и ополчения до 17 тысяч, а также немедленно прилично одеть служивых. Ибо «ужасно и прискорбно» оскорблять французских воинов видом стоящих с ними плечом к плечу оборванцев. Вашингтон потребовал от офицеров «приложить все усилия», чтобы надлежащим образом экипироваться. В приказе сообщались формы одежды (моделирование их всегда доставляло великую радость Вашингтону). Генерал-майорам, например, предписывалось щеголять «в синем мундире, лацканы с вышивкой, желтыми пуговицами, белой с кружевами рубашке, эполетами, на каждом из них две звезды, черными и белыми перьями на шляпе». Офицерам иметь на шляпе кокарду, шпагу на боку или, по крайней мере, «легкий штык».
Если армию в преддверии совместных действий с союзниками удалось кое-как приодеть, главным образом за счет поставок из Франции, то с пополнением дело обстояло много хуже. Титанические усилия вербовщиков дали весьма скромный результат — в континентальной армии значилось 6143 человека, в ополчении — 3700. В 1780 году на один год завербовалось менее половины солдат, чем в 1776-м на трехлетний срок. Оно и понятно: было широко известно, что солдаты практически не получают жалованья, дурно снабжаются, а рассказы о зимовках в Вэлли-Фордж и Морристауне повергали в ужас.
Что бы ни делал Вашингтон, пытаясь пустить пыль в глаза союзникам, Рошамбо очень быстро уяснил истинное положение. Он вежливо отклонил предложение Вашингтона об операции против главных сил врага в Нью-Йорке, а в Версаль писал: «Шлите нам войска, корабли и деньги, но не полагайтесь ни на этих людей, ни на их средства: у них нет ни денег, ни кредита, их возможности сопротивления носят преходящий характер, они поднимаются только тогда, когда на них нападают в собственных домах». Горячее желание Вашингтона, имевшего, по оценке Рошамбо, три тысячи солдат, наступать французский генерал объяснил тем, что «американский главнокомандующий внутренне убежден — ввиду тяжкого финансового положения эта кампания будет последней вспышкой сходящего на нет патриотизма».
Английские победы на юге, тупик под Нью-Йорком придали новую уверенность тори. Дело не ограничивалось тоской по старым добрым временем под скипетром короля, из тори формировались части, сражавшиеся на стороне англичан. До 50 тысяч тори с оружием в руках защищали прежний порядок. В общей сложности было 69 лоялистских полков, хотя только 21 из них по численности оправдывал это название. В середине 1780 года лорд Джермен счел возможным доверительно ободрить Клинтона: «Силы мятежников ныне презренны. Не следует опасаться сопротивления, которое серьезно помешает быстрому сокрушению восстания… Американцев на службе короля теперь больше, чем солдат во всей континентальной армии». Предательство в США действительно достигло внушительных размеров.
Самыми серьезными последствиями могла бы обернуться работа на англичан Бенедикта Арнольда. Прославленный американский военачальник начала войны, Арнольд претерпел немало унижений от конгресса. Вашингтон, высоко ценивший военный талант генерала, тем не менее не был в состоянии удовлетворить все его претензии. В Филадельфии весной 1779 года сорокалетний Арнольд женился на восемнадцатилетней местной красавице Пегги Шеппард, дочери влиятельного лоялиста. Версии о причинах его предательства различны, но все они сходятся в одном — Арнольд был крайне недоволен службой. Хотя раны, полученные в боях, зажили, отношение конгресса к нему оставило кровоточившую рану. Пегги очень скоро ввела мужа в громадные долги — поощряя ее тщеславие, он поставил дом в Филадельфии на широкую ногу. Для Арнольда, человека XVIII века, война и личное обогащение были синонимами. Он никак не понимал, почему его дискриминируют на общей оргии наживы. Вокруг сколачивались состояния отъявленными мошенниками, его попытка нагреть руки вызвала скандал. Разве не имел права на это боевой офицер?
Дело кое-как замяли, военный суд приговорил Арнольда к самому мягкому наказанию — выговору Вашингтона. Выполнив неприятную обязанность, Вашингтон предложил Арнольду убраться от филадельфийских склочников и занять «почетный пост» в армии. Арнольд растрогал покровителя своим рвением — он, превозмогая боль в искалеченной ноге, тянулся, рвался в строй. Понаблюдав за израненным ветераном, Вашингтон решил, что лучше всего поручить ему работу, не требующую большого физического напряжения. 3 августа 1780 года Арнольд стал комендантом крепости Вест-Пойнт, запиравшей Гудзон в нескольких десятках километров севернее Нью-Йорка.
О таком назначении Арнольд и англичане, на тайной службе у которых он состоял уже почти полтора года, могли только мечтать. Континентальная армия, потоптавшись у Нью-Йорка, должна была уйти южнее, в Нью-Джерси, где было легче с продовольствием и фуражом. Тогда Вест-Пойнт с трехтысячным гарнизоном приобретал исключительное значение — Арнольду надлежало связать англичан в случае их наступления по Гудзону в направлении Канады, дав возможность Вашингтону подойти с главными силами. Потеря Вест-Пойнта грозила катастрофическими последствиями, могли бы стать явью английские планы, вынашивавшиеся с самого начала войны, — отрезать Новую Англию от юга. Не случайно американцы более трех лет строили укрепления в Вест-Пойнте, и, когда Арнольд сел в кресло коменданта, он командовал сильнейшей крепостью США. Жерла орудий с бастионов зорко стерегли Гудзон.
Арнольд предложил Клинтону сдать крепость за 10 тысяч фунтов стерлингов и чин генерала в английской армии. Клинтон согласился, и для уточнения деталей генерал-адъютант английской армии майор Андре встретился с Арнольдом в районе Вест-Пойнта. Обговорив предательскую сделку, Андре 23 сентября тронулся в обратный путь в Нью-Йорк. Он ехал верхом, в штатском платье, а документы, компрометировавшие Арнольда, спрятал в ботинок. Уже на территории, контролировавшейся англичанами, его случайно задержали трое американских ополченцев, обыскали и, обнаружив малопонятные бумаги, потащили в Вест-Пойнт. Американский офицер решил порадовать Арнольда — он поспешил впереди сообщить коменданту о поимке английского шпиона. Выслушав сообщение, Арнольд немедленно бежал к англичанам, оставив в своем доме жену и ребенка.
По чистейшему совпадению именно в этот день Вашингтон намеревался посетить Вест-Пойнт, начав визит, естественно, с дома коменданта. Едва простыл след Арнольда, не прошло и часа, как у дома Арнольда спешились кавалеристы — Вашингтон, Лафайет, Гамильтон с многочисленной свитой и охраной. Главнокомандующий был неприятно поражен — он уведомил о приезде, а нет и признаков подготовки к встрече. Комендант куда-то запропастился, Пегги, говорят, больна и лежит в комнате наверху. Вашингтон с отвращением съел наскоро сервированный завтрак и отправился в крепость — Арнольд наверняка строит гарнизон для торжественной встречи. Вошли в крепость. Слоняющиеся солдаты в изумлении таращат глаза — пожаловал сам Вашингтон! Пробежав по укреплениям, крайне раздраженный невежливостью Арнольда, главнокомандующий вернулся в дом коменданта.
В четыре дня все открылось. Гонец молча передал Вашингтону пачку измятых бумаг — план Арнольда и Андре сдать Вест-Пойнт! Крик Вашингтона поднял всех на ноги, Гамильтон и Лафайет вбежали в комнату. Задыхающийся генерал ревел: «Арнольд предал нас!» Помедлив, он произнес упавшим голосом: «Кому теперь верить?»
Гамильтон с отрядом всадников бросился в погоню — быть может, удастся схватить предателя. Вашингтон в сильнейшем волнении разбирал бумаги, ужасаясь коварству тщательно разработанного плана. Тут ему доложили, что очаровательная Пегги рехнулась — почти обнаженная, она бегает по комнатам верхнего этажа, утверждая, что у нее на голове раскаленный утюг и только генерал Вашингтон может снять его. Верный рыцарь, каким был Вашингтон, отправился наверх. Юная красавица раскинулась в постели и, отчаянно жестикулируя, вследствие чего присутствующие могли обозреть все ее прелести, объяснила — мужа «унесли на небеса духи, он ушел навсегда». Она отказалась признать склонившегося над кроватью Вашингтона, утверждая, что перед ней злодей, намеревающийся убить ее ребенка. И тут же добавила, что муж исчез, ибо не был в силах предотвратить злодеяние.
Бормоча слова утешения, Вашингтон неловко отступил. Он спустился вниз и с достоинством обратился к присутствовавшим: «Миссис Арнольд больна, а генерала Арнольда нет. Мы должны обедать без них». Звучало так странно, неуместно.
Вечером поступило донесение от Гамильтона — Арнольд не только ускользнул к англичанам, но успел прислать письма — Вашингтону, в котором настаивал, что только «истинный патриотизм» побудил его перебежать к англичанам, и письмо Пегги. Вашингтон, не открывая, отправил его наверх, приписав, что, хотя его долг схватить Арнольда, он рад успокоить супругу — муж вне опасности. Главнокомандующий распорядился не трогать даму, предложив обеспечить ей проезд к мужу. Она предпочла отправиться к отцу в Филадельфию, но вскоре присоединилась к Арнольду за британскими линиями. Патриоты питали серьезные подозрения в отношении Пегги, ее активное участие в заговоре было полностью доказано спустя более полутораста лет — в 1930 году, когда был изучен архив Клинтона.
В руках американцев остался майор Андре. Когда его доставили к Вашингтону, генерал не мог подавить волнения — такой же блестящий молодой человек, как Лафайет, и наверняка занимавший сходное положение у Клинтона. Перед лицом неизбежной смерти Андре вел себя спокойно, с достоинством и был даже весел. Вашингтон проклинал все: должность, войну, жизнь — нужно казнить джентльмена. Он ухватился за спасительную мысль — обменять Андре на Арнольда. Клинтон отказался, прислав пространное письмо, доказывавшее, что майор не был рядовым низким шпионом. Пощадить Андре было совершенно невозможно — нужен был предметный урок всем, особенно тем, кто попытался бы склонить офицеров континентальной армии к предательству.
Андре не питал иллюзий, выразив в личном письме Вашингтону надежду, что не умрет не подобающей солдату смертью в петле. Вашингтон не счел возможным изменять способ казни, приказав только, чтобы рафинированный английский джентльмен увидел виселицу в последний момент. В полдень 2 октября на глазах выстроенных войск Андре был казнен. Он с достоинством принял смерть, а многие стоявшие вокруг не скрывали слез. Плакали навзрыд в штабе, где заперся на время казни Вашингтон с высшими офицерами. Они не успели вытереть слезы, как доставили запоздавшее послание от Арнольда — он грозил страшными карами, если Андре умрет. Англичане прочно закрепили за Вашингтоном прозвище «убийцы», припомнив и давнее дело Жюмонвиля, еще до Семилетней войны. Английские карикатуристы изображали его в виде кровожадного чудовища.
Клинтон выполнил свою часть сделки с Арнольдом, выплатив ему 6315 фунтов стерлингов и обеспечив Пегги пенсией в 500 фунтов стерлингов в год. Он стал генералом английской службы и вскоре возглавил опустошительные набеги. Для американцев Арнольд — символ предательства. В Саратоге стоит безымянный памятник, на котором красуется сапог, что означает: только нога, в которую Арнольд был ранен дважды, заслуживает уважения. В старой военной церкви в Вест-Пойнте на мраморной доске с именами всех генералов войны за независимость значится: «Генерал-майор… родился в 1740 году».
Шестая зима войны… В Нью-Йорке англичане и тори готовились отпраздновать Новый год. В Ньюпорте, где обосновались союзники — французы не сделали ни шага оттуда с прибытия в США, — в теплых домах уютно и весело. А континентальная армия! Послушаем Вашингтона:
«У нас нет ни денег, ни кредита, чтобы купить хотя бы досок и сделать двери для наших хижин… Если бы солдаты могли, подобно хамелеонам, питаться воздухом или, как медведи, сосать лапу и так перебиться в суровые дни наступающей зимы… Собрав все наше тряпье, мы едва ли обеспечим их теплой одеждой. И что особенно прискорбно — меня положительно заверили — во Франции наготове десять тысяч мундиров. Они лежат там только потому, что наши представители не могут договориться, кому отправить их».
Раздетая армия не годилась для проведения даже небольших операций. Лафайет попытался побудить Вашингтона нанести все же удары по англичанам, напомнить о Трентоне и Принстоне. «Французский двор, — писал он генералу, — часто жаловался мне на неактивность американской армии, которая до заключения союза отличалась предприимчивостью. При дворе мне постоянно говорили: «Твои друзья бросили нас воевать за них, а сами не хотят рисковать». На что Вашингтон ответил: «Невозможно, дорогой маркиз, желать более страстно, чем я, закончить кампанию удачным ударом. Но нам следует сообразовываться с имеющимися возможностями, а не желаниями и не пытаться улучшить наше положение предприятиями, которые могут только ухудшить ее». Собственно, Вашингтон пожинал плоды американской политики — США всецело положились на союз с Францией, а армия Бурбонов пока не рвалась в бой на американской земле.
Континентальная армия была низведена до жалкого положения. Только «невероятная пассивность» врага, писал Вашингтон, позволила удержать в ту осень Вест-Пойнт, «дала нам возможность маячить у их квартир (у Нью-Йорка. — Н. Я.), в то время как у нас едва-едва хватало солдат, чтобы выставлять обычное охранение». Накануне нового, 1781 года Вашингтон писал генералу Кедваладеру: «Я не вижу ничего впереди, кроме новых бед. Половину времени мы сидим без продовольствия, и так будет дальше. У нас нет складов и нет средств на создание их. Очень скоро мы останемся и без солдат, ибо у нас нет денег, чтобы платить им. Мы кое-как держались, но всему приходит конец. Одним словом, история этой войны — история ложных надежд».
1 января 1781 года случилось то, что давно предсказывал и ожидал Вашингтон, — войска восстали. Поднялись все полки из Пенсильвании, расквартированные в Морристауне, — 2400 человек. Солдаты убили капитана, ранили несколько офицеров и, захватив шесть орудий, пошли на Филадельфию. Полки возглавили сержанты. Генерал Вайн попытался задержать восставших, он угрожал зачинщикам пистолетами, в ответ над его головой прогремел залп. Вайн расстегнул мундир и драматическим жестом предложил поразить его сердце. Солдаты разъяснили, что они не таят зла на боевого генерала, а намерены добиться справедливости у конгресса, забывшего об армии. Нельзя, кричали они, потрясая мушкетами, больше так жить и служить — голодными, без обмундирования, получать жалованье бумажками.
Вашингтон, узнавший о восстании, осмотрительно не покинул Вест-Пойнт, солдаты крепости были ненадежны, «они только дожидались результатов мятежа пенсильванцев». Он поручил разузнать настроения частей из Новой Англии, результат обескураживающий — солдаты не выступят на подавление своих товарищей. Лафайет попробовал свои силы — он встретился с восставшими. «Эти смелые люди, — писал он, — страдали вместе с нами четыре года». Они не получали жалованья пятнадцать месяцев, их задержали на год против обещанного срока службы. «Было бы весьма неуместно», признался он, поднять меч на восставших, ибо «вероятность сокрушения их недостаточна, чтобы решиться нанести удар». Полк, посланный отобрать орудия, уже присоединился к восставшим.
Волей-неволей пришлось идти на уступки. Вашингтон рекомендовал конгрессу не бежать из Филадельфии, а отрядить представителей для переговоров с мятежными пенсильванцами. Одновременно он обратился с требованием к губернаторам штатов Новой Англии немедленно предоставить деньги и обмундирование. Президент конгресса Рид встретил восставшие полки в Принстоне. Начался унизительный для конгресса торг. Ветераны демонстрировали свои рубища, шрамы от ран, заверяли, что «сама идея стать арнольдами им ненавистна», но упорно отказывались передать до удовлетворения их требований двух английских эмиссаров, которых успел прислать к ним Клинтон с самыми соблазнительными посулами.
Рид уступил всем требованиям. В обмен на выдачу английских агентов (оба были немедленно повешены) и прекращение восстания пенсильванцы получили все просимые материальные компенсации, были одеты, обуты, накормлены. Половина восставших с разрешения конгресса немедленно расходилась по домам, вторая половина последовала за ними в середине апреля 1781 года. Пенсильванские полки, по крайней мере временно, перестали существовать. Вашингтон лишился многих ветеранов, на подготовку которых было затрачено столько сил и средств.
Пример пенсильванцев оказался заразительным. 21 января восстали солдаты из Нью-Джерси. Вашингтон вздохнул с облегчением — мятежников всего около двухсот, они направились на столицу штата Трентон с требованиями, аналогичными выставленным пенсильванцами. У Вашингтона был наготове карательный отряд — шестьсот человек генерала Хоу, которых первоначально хотели использовать против пенсильванцев, но не решились. С начала января этих людей кормили и поили на убой. Они были тепло одеты и отлично вооружены. Вашингтон приказал Хоу подавить восстание.
Сообщая циркуляром губернаторам тринадцати штатов о принятых мерах, Вашингтон писал: «Будучи убежденным, что, если решительными мерами не подавить этот опасный дух, им будет заражена вся армия, я приказал отряду, максимальному по численности, который мы только смогли выделить, проследовать во главе с генерал-майором Хоу с приказом заставить мятежников безоговорочно капитулировать, не выслушивать никаких их условий, пока они готовы оказать сопротивление, а по капитуляции немедленно казнить нескольких зачинщиков. Я не знаю, как поведут себя посланные для этой цели войска, но льщу себя надеждой, что они выполнят свой долг. Я предпочитаю любые эксцессы со стороны войск из Нью-Джерси компромиссу».
Вашингтон считал это небольшое восстание небесным даром — представлялся случай преподать урок всей армии. Что случилось бы, если восстание было большое по масштабам! Он выехал в санях вслед за отрядом Хоу. Когда каратели прибыли к месту назначения, Вашингтон был обескуражен — офицеры уже договорились с мятежниками — им обещали, если они разойдутся, освободить от наказания. Вашингтон был вне себя от бешенства — глупцы в офицерских мундирах сорвали великолепный замысел на примере мятежников проучить армию. Он вызвал офицеров и подробно опросил, кто-то заметил, что солдаты все еще «полностью не повинуются». Вот он, искомый предлог! Вашингтон постановил — мятеж продолжается, и каратели приступили к делу.
Хижины нью-джерсийских солдат окружили, удивленным людям приказали построиться, и двое зачинщиков были на месте расстреляны. Это поручили двенадцати их ближайшим товарищам. Они роптали, плакали, но повиновались.
«Само существование армии, — комментировал Вашингтон, — требовало примера». Он добавил: «гражданские свободы» не могут существовать, если солдаты «диктуют свои условия родине». В общем приказе по армии 30 января Вашингтон разъяснил: «Генерал глубоко понимает страдания армии. Он делает все, чтобы облегчить их, и убежден, что конгресс и ряд штатов также прилагают все усилия для достижения этого. Однако, когда мы ожидаем от страны выполнения ее обязательств, мы должны помнить о ее сложном положении. Мы начали борьбу за свободу и независимость с очень ограниченными средствами для ведения войны, полагая, что патриотизм компенсирует нехватку их. Мы ожидали тяготы, и мы не должны пасовать перед ними, равно как не бросать вызов закону и порядку, дабы добиться облегчения».
В эти тяжелые месяцы Вашингтоном всецело овладела идея — наказать предателя, изловить и повесить Арнольда! Хитроумный план выкрасть его из Нью-Йорка рухнул, а вскоре Арнольд объявился в Вирджинии во главе полуторатысячного отряда. Клинтон дал ему этих солдат, чтобы развернуть кампанию на юге. Для Арнольда представилась возможность осуществить личную месть. Он шел по Вирджинии, оставляя за собой пепелища плантаций, разгоняя местное ополчение. Над родным штатом Вашингтона нависла смертельная опасность. Главнокомандующий отправил в Вирджинию Лафайета с войсками. Но тот не мог ничего поделать — весной Корнваллис, уставший гоняться за неуловимым Грином, бросил Северную Каролину и вторгся в Вирджинию. Лафайету с его трехтысячным отрядом, состоявшим в основном из ополченцев, было не до Арнольда, во имя самосохранения он должен был держаться подальше от семитысячного корпуса Корнваллиса. Тем более что лорд поклялся изловить «молокососа».
Мрачные известия накапливались буквально с каждым днем, они вывели Вашингтона из себя. Он стал срываться по пустякам, буквально превратился в грозу даже для самых близких. По пустячному поводу он грубо оскорбил Гамильтона, тот вспыхнул как порох и отказался от адъютантства. Хотя, одумавшись, Вашингтон передал Гамильтону извинения, честолюбивый офицер отказался принять их. Тестю генералу Шайлеру Гамильтон объяснил: «В течение трех лет я не испытывал никаких дружественных чувств к нему и не заикался о них. Наши характеры противоположны, и моя честь не позволяет мне выражать то, чего нет. Более того, когда он обратился с извинениями, они были встречены так, чтобы не осталось сомнения — я не желаю их и предпочитаю вести с ним дела на основе военной службы, а не личной привязанности». Гамильтон ушел из штаба, получив командование батальоном легкой пехоты.
Беда в отношениях с Вашингтоном заключалась в том, что он был в прямом и фигуральном смысле на голову выше окружающих. Природный ум, отточенный в годы военных испытаний, позволял ему быстрее схватывать суть событий, он соображал молниеносно и не скрывал раздражения, когда близкие люди не успевали усмотреть то, что представлялось ему очевидным. Если ему нравился кто-либо, как было с Гамильтоном, то Вашингтон не мог представить себе, почему данный человек осмеливается иметь мнение, отличное от его. Разве дружественное расположение главнокомандующего не порука беспредельного взаимного доверия? Вашингтон всегда болезненно переживал, когда обнаруживалось, что обласканный дерзал свое сужденье иметь. Все это усугублялось тем, что Вашингтон часто испытывал жуткие головные боли. Ему было почти пятьдесят лет, он был издерган, тогдашние дантисты скрепили больные зубы проволокой, и они кое-как держались. Можно было удалить их, но представить главнокомандующего шамкающим беззубым ртом! Это было слишком для джентльмена, а сделать протезы в военном лагере было невозможно.
Как будто мало было ударов судьбы по Вашингтону как военачальнику, на него свалилась личная беда. В апреле 1782 года курьер привез письмо Лафайета из Вирджинии. Верный маркиз сообщал, что английский корабль бросил якорь напротив Маунт-Вернона. «Когда враги вошли в ваш дом, — докладывал Лафайет, — многие негры были готовы присоединиться к ним, но эти дела меня мало интересуют. Однако вы не можете представить себе, как я был опечален, узнав, что м-р Лунд Вашингтон отправился на вражеский корабль и согласился снабдить его провиантом. Поведение человека, отвечающего за вашу собственность, конечно, произведет дурное впечатление, и оно резко отличается от поведения некоторых соседей, дома которых из-за сопротивления были сожжены. Вы можете поступать как заблагорассудится, но чувства дружбы заставляют меня доверительно довести до вашего сведения эти факты».
Материальные потери были невелики — с англичанами, обещавшими свободу, ушли семнадцать негров, но моральный ущерб престижу главнокомандующего не поддавался исчислению. Радость по поводу того, что родной дом уцелел, сменил гнев. Вашингтон выговаривает Лунду: «Я, конечно, сожалею о понесенных мною убытках, но что куда больше беспокоит меня — как вы могли пойти на вражеский корабль и снабдить его продовольствием? Мне было бы легче услышать, что в результате вашего отказа повиноваться мой дом сожжен, а плантации в руинах. Вам нужно было вести себя как моему представителю, и вы должны были бы подумать о дурном примере, который дает связь с врагом и добровольное предоставление ему продовольствия, чтобы избежать разорения. Вы, конечно, не были в состоянии противодействовать их высадке, и вы правильно встретились с ними. Но дальше, как только стала ясна их цель, вам следовало ясно заявить, что вы не можете уступить. После чего, если бы они взяли продовольствие силой, вы бы подчинились. Такой образ действия (коль скоро у вас нет средств защиты) предпочтительнее слабому сопротивлению, которое служит только предлогом для поджога и уничтожения всего».
Весьма поучительное письмо! В нем весь рассудительный Вашингтон, учивший сохранять лицо в невозможных обстоятельствах. Во всяком случае, он нашел третий выход, что задним числом и втолковывал преданному тугодуму Лунду.
Конгресс постепенно привык полагаться на Вашингтона, используя даже его популярность. Чрезвычайным и полномочным послом США в Версаль отправили двадцатишестилетнего полковника Д. Лоренса. Основной мотив — его близость к главнокомандующему. Ему Вашингтон мог писать откровенно и весной 1781 года отправил шифрованное послание. Генерал заклинал своего ученика добиться новых субсидий при дворе Людовика XVI:
«Будь уверен, мой дорогой Лоренс, день не следует за ночью с большей регулярностью, чем очевидно, — происходят все новые и новые доказательства: невозможно продолжать войну без помощи, которую вас послали просить. Как честный и откровенный человек, все будущее которого зависит от счастливого завершения нынешней войны, я решительно заверяю — без иностранного займа наши нынешние силы (в сущности, только остатки армии) не могут быть сохранены для нынешней кампании… Если Франция не окажет в этот момент своевременной и широкой помощи, позднее она будет бесполезна. Мы висим на волоске, вы должны помнить — мы не можем доставить продовольствие, ибо не можем расплатиться с возчиками, которые больше не хотят работать за сертификаты. В равной степени очевидно, что наши солдаты очень скоро будут раздеты, нам не во что одеть их, в госпиталях нет медикаментов… Но стоит ли мне продолжать, когда можно заявить одним словом — мы дошли до предела, и спасение должно прийти ныне или никогда?»
Не сгущал ли Вашингтон краски? Обратимся к статистике (данные о численности войск округлены, а финансовые затраты пересчитаны в стабильных долларах):
Союз с Францией, как красноречиво свидетельствуют эти данные, явился поводом, чтобы ослабить военные усилия США. Франция, конечно, не могла сделать все за американцев, но сделала много — ее помощь оценивалась в 8 миллионов долларов. Обстановка, как видел ее Вашингтон, складывалась безнадежная, и впервые с начала войны он заговорил о компромиссном мире, допуская, что за англичанами останется территория США, попавшая под их контроль. Франклину в Париж он пишет: «В нашем нынешнем положении жизненно важны две вещи — мир или самая энергичная помощь со стороны союзников, особенно деньгами». Он прекрасно понимал, что ресурсы США далеко не исчерпаны, но мобилизовать их, то есть поднять людей на справедливую войну, можно только за хорошую плату.
Компромиссный мир явился бы катастрофой лично для Вашингтона — англичане бесчинствовали в Вирджинии и фактически захватили родной штат. В случае мира Вирджиния осталась бы за короной, Вашингтон был бы разорен и навсегда превратился в изгнанника. Губернатор Т. Джефферсон от имени земляков умолял Вашингтона вернуться в Вирджинию и возглавить борьбу против англичан. Вашингтон отказался. Это делало ему честь — вирджинцы изнывали от желания видеть Вашингтона у себя не просто генералом, а диктатором. Разбежавшиеся от английских войск плантаторы юга, и не одни они, считали, что страну может спасти только диктатура Вашингтона. Он же полагал, что это будет означать не только нарушение высоких республиканских принципов, но и предательство дела всей войны. И если летом и осенью 1781 года центр боевых действий переместился в Вирджинию, то произошло это скорее против воли Вашингтона и отнюдь не было связано с защитой родного штата.
Используя все средства убеждения, Вашингтон неизменно стремился побудить Рошамбо вместе с континентальной армией взять Нью-Йорк. Французский командующий внимательно слушал Вашингтона, читал его пламенные письма и убеждался в близорукости американцев. С военной точки зрения кампания на юге вместо штурма бастионов Клинтона обещала много больше. На юге можно было быстро использовать французские войска и флот из Вест-Индии и нанести решительное поражение англичанам. Внушения Вашингтона, что континентальная армия-де — серьезная боевая сила, вызывали у Рошамбо улыбку — он не верил, что истощенное и недисциплинированное воинство сможет эффективно действовать против укрепленного Нью-Йорка.
Щадя чувства союзников, занятых священной борьбой за свободу, Рошамбо согласился, что объединенные франко-американские силы пойдут на Нью-Йорк. Вашингтон ликовал, хотя не понимал многого в поведении французов. Так, было договорено, что эскадра французского адмирала Барраса покинет Ньюпорт и будет содействовать операциям на суше против Нью-Йорка. Вашингтон уже уточнил детали разгрома Клинтона, как прискакал посланец Рошамбо, сверхэлегантный герцог де Лоцан. Он передал решение французского военного совета — эскадра остается в Ньюпорте. Изящный герцог, искусно скрывая улыбку, наблюдал, как предводитель едва отесанных варваров настолько разъярился, что три дня не мог написать ответ Рошамбо. Любимец двора и любовник Марии-Антуанетты де Лоцан забавлялся от всей души. Он оказался в США, как и многие отпрыски французских великосветских семей, пресыщенные Версалем, в поисках развлечений и приключений.
Вашингтону было не до шуток — Рошамбо внешне учтиво показал генералу, что французская армия отнюдь не под его командованием. Вашингтону в конце концов пришлось согласиться с решенным без него и против его воли. Ему нужно было поддерживать фикцию — американцы-де руководят союзными силами. Он взывал к штатам — пополнить континентальную армию, ибо впереди ослепительная победа над Клинтоном, которой помогут французы. Но сколько-нибудь значительных подкреплений Вашингтон не получил, ибо поток новобранцев был прямо пропорционален размерам кассы армии. А она была пуста. Единственное утешение — в конце мая Лоренс сообщил из Парижа, что французский кабинет выделил США еще шесть миллионов ливров, часть из них Вашингтон может истратить по своему усмотрению. Но деньги нужно было еще получить, путь из Франции долог.
Примерно в двадцати километрах к северу от Манхэттена, в Доббс-Ферри, Вашингтон приготовил лагерь для объединенных сил, куда только 6 июля пришел Рошамбо с армией. Впервые союзники могли вплотную осмотреть друг друга. Армия Бурбонов в белоснежных мундирах (полки различались только по цвету лацканов, воротников и пуговиц мундиров) и оборванное американское воинство, оцепеневшее, когда под рокот барабанов французы устроили парад. Вашингтон потчевал чем мог французских офицеров. Они, переглядываясь, нашли стол американского вождя примитивным — только одна тарелка, салат нещадно полит уксусом, кофе слабый и совершенно невыносимые вино и ром. Аристократы с трудом вынесли пытку трапезы у благодушного Вашингтона, многочасовое сидение за обедом, затянувшееся до позднего вечера, крики и хвастовство американских офицеров. Король, несомненно, выбрал себе странных друзей. Но дурное общество не слишком шокировало французов, они были преисполнены легкомысленной воинственности, отличающей престарелые монархии.
Вашингтон выезжал с Рошамбо на рекогносцировки около Нью-Йорка, американец все объяснял, а француз согласно кивал головой. Увиденное лишь убедило Рошамбо в правильности уже избранного за спиной Вашингтона курса. Он списался с командующим французским флотом в Вест-Индии адмиралом де Грассом и договорился — удар будет нанесен Корнваллису в Вирджинии. Де Грасс согласился в середине сентября прибыть к Чезапикскому заливу, куда подойдет Рошамбо и, если угодно американцам, континентальная армия. «Эти люди здесь, — писал Рошамбо де Грассу, имея в виду Вашингтона с армией, — достигли предела своих ресурсов. У Вашингтона нет и половины войск, на которые он рассчитывал. Хотя он и скрывает, я думаю, у него нет и шести тысяч… Таково состояние дел и таков глубокий кризис, который переживает Америка, особенно в южных штатах. Прибытие графа де Грасса может спасти ее, все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, бесполезны без его помощи и обеспечения им господства на море». Эскадра Барраса получила приказ также прибыть в сентябре к Чезапикскому заливу, доставив артиллерию и припасы французов.
14 августа Вашингтону, готовившему викторию у Нью-Йорка, наконец сообщили французский план. Он вознегодовал, ругался, но быстро смирился — де Грасс имел 28 линейных кораблей с тремя тысячами солдат на борту. Отказаться принять участие в операции было бы смешно, французы провели бы ее сами, бросив континентальную армию у Нью-Йорка. Чтобы успеть прибыть в Вирджинию к подходу эскадры де Грасса, войскам Рошамбо и Вашингтона предстояло пройти форсированным маршем около 750 километров. Операция не могла не увенчаться успехом — Корнваллис совершил фатальную ошибку, отведя свой корпус к Йорктауну, где он мог быть заперт де Грассом с моря и атакован Рошамбо и Вашингтоном с суши. Когда Вашингтон узнал об этом, он загорелся кампанией на юге и, беспощадно понукая армию, двинулся в Вирджинию, за ним без лишней спешки, но споро пошли войска Рошамбо.
Вот и родной штат, Вашингтон горел нетерпением, шел седьмой год, и он впервые должен был увидеть Маунт-Вернон! 9 сентября, проскакав с адъютантом за день почти сто километров, Вашингтон спешился у дверей дома. Позади разоренный войной край, здесь ничего не изменилось — испуганные лица маленьких детей, которые родились в его отсутствие, — трое внучек и внук. Безупречно одетый приемный сын Джон Кастис прячет блудливые глаза — он определенно побаивался Вашингтона. Все эти годы Джон не нюхал пороха, а вел беспутную жизнь. С пьяными гостями он ставил на стол среди бутылок крошечную девочку, и под одобрительный рев она читала непристойные стихи, заученные под руководством отца.
Вашингтон пробыл в Маунт-Верноне три дня, потчуя французских генералов. Рошамбо и другие оценили гостеприимство плантатора, а Джон Кастис, очарованный французскими аристократами, вызвался идти волонтером под Йорктаун. Война в таком обществе представлялась приятной прогулкой. Вашингтон, более чем прохладно относившийся к бездельнику и моту, понадеялся было на Марту — она отговорит любимое дитя. Куда там! Марта светилась материнской гордостью. Предвидя только неприятности от появления приемного сына в армии, Вашингтон нехотя согласился. Утешало разве то, что Джон произвел самое благоприятное впечатление на великосветских лоботрясов, кишевших вокруг Рошамбо.
А на борту 110-пушечного флагмана «Город Париж» (крупнейшего военного корабля в мире по тем временам) уже бесновался де Грасс. Он рассчитал, что может оставаться в Чезапикском заливе только до 15 октября, а затем вернуться в Вест-Индию драться с англичанами. Великолепный адмирал раскаивался, что связался с осадой Йорктауна. Он опасался вражеского флота — уже пришлось отбить эскадру английского адмирала Грейвса. Этот флотоводец был нерешительным, но американские воды бороздили эскадры отважных морских волков адмиралов Худа и Роднея. Де Грасс боялся неблагоприятной погоды, опасался за судьбу кораблей Барраса (им удалось благополучно проскользнуть) и поносил на чем свет стоит опаздывавшие войска с севера, забыв, что сам явился на место действия ранее обещанного. Вашингтон получил от него письмо, как будто он был неисправный подчиненный. Адмирал выражал «досаду» по поводу задержки континентальной армии и добавлял: «Приближается такое время года, когда я вопреки моему желанию буду вынужден оставить своих союзников, для которых я сделал все и даже больше, чем можно было ожидать».
17 сентября Вашингтон поднялся на борт величественного флагмана «Город Париж». Американцы уже были оглушены и ошеломлены воинскими почестями — холостыми залпами, музыкой, приветствиями, но подлинное испытание ожидало главнокомандующего на палубе. Де Грасс, гигант и толстяк, схватил в объятия Вашингтона и, обдавая запахом спиртного, заорал: «Вот и ты, мой дорогой крошка генерал!» Общий смех, Нокс хлопал руками по собственному исполинскому животу, демонстрируя, что уж он-то не уступает де Грассу. Вашингтон побелел, он, придававший такое значение ритуалу, был уязвлен до глубины души. Бесцеремонный моряк покусился на достоинство Соединенных Штатов! Он немедленно зачислил и де Грасса в число недоброжелателей великих американских принципов, отзываясь о нем как о «смелом», но «совершенно бестактном» офицере.
Новые испытания и унижения — на ежедневных штабных совещаниях французы бойко сыпали специальными терминами и горячо обсуждали малопонятные дела, связанные со взятием Йорктауна правильной осадой. Надуваясь важностью, Вашингтон молча слушал… и соглашался. Он хранил достоинство номинального главнокомандующего, в то время как французские артиллеристы решали тактические вопросы. 9 октября, обложив Йорктаун и отрыв первую параллель, союзники открыли артиллерийский огонь по редутам Корнваллиса. Честь сделать первый выстрел была предоставлена Вашингтону. Он с удивлением увидел, что ядро точно легло в предназначенное место. Когда же загремели американские батареи, французы едва сдерживались от смеха. Ядра не поражали цели, бомбы часто не взрывались. Вашингтону объяснили, что у французов были новые пушки и хороший порох…
Рошамбо снисходительно заметил: «Нужно воздать американцам должное — они проявляли рвение, мужество и старались подражать… хотя они совершенно невежественны в проведении осады». Французский генерал не был прав во всем — если осаждавшие Корнваллиса 17 тысяч человек делились примерно поровну между французами и американцами, то французские потери при взятии Йорктауна более чем в два раза превысили американские. Континентальная армия наверняка куда лучше умела укрываться, частично за спинами французов. Что до Вашингтона, то он проявил должное мужество и невозмутимость, зафиксированные впоследствии в его жизнеописаниях.
Сцена первая. Ядро, упав рядом с Вашингтоном и капелланом, преподобным отцом Эвансом, засыпало землей шляпу служителя бога. Сняв ее, Эванс крикнул Вашингтону:
— Взгляните, генерал!
— Мистер Эванс, свезите лучше шляпу домой и покажите вашей жене и детям, — ответил Вашингтон.
Сцена вторая. Вашингтон и адъютант ожидают начала атаки вражеского редута. Пока тихо. Адъютант прикоснулся к руке Вашингтона и умоляюще произнес:
— Сэр, здесь вы стоите слишком открыто. Не лучше ли отступить немного назад?
— Полковник Кобб, если вы боитесь, вы вольны отойти!
Осада шла как по маслу по принципам великого в XVIII веке французского фортификатора Вобана. Заложили вторую параллель, перетащили на нее орудия и стали осыпать ядрами и бомбами не только Йорктаун, но и английские корабли, стоявшие в порту. Корнваллис, потеряв их, утрачивал возможность уйти из осажденного города. Лорда, прославившегося решительностью, в дни осады как подменили. Он не проявил нужной распорядительности и тратил время в основном на ругань в адрес Клинтона, который неразумными распоряжениями загнал его корпус в мышеловку. Он положился на выручку флота из Нью-Йорка, но подготовка экспедиции задержалась. Корнваллис сделал последнюю попытку — собрал лодки, чтобы перебросить личный состав корпуса через реку Йорк и уйти по суше от врага. Сильный шторм помешал осуществлению плана.
В боях под Йорктауном Вашингтон не забыл Гамильтона, дав ему возможность отличиться. Во главе четырехсот солдат Гамильтон взял в ночь с 14 на 15 октября английский редут, чтобы выровнять вторую параллель. На этом активные действия закончились — американцы потеряли 88 человек, французы — 186. Дело продолжили артиллеристы. Выдержав еще два дня бомбардировки — общие потери Корнваллиса достигли 482 человек, — 17 октября он послал парламентеров договариваться о сдаче — ровно за неделю до прибытия к Чезапикскому заливу эскадры, посланной Клинтоном на помощь из Нью-Йорка.
Церемония капитуляции состоялась 19 октября 1781 года. Вдоль дороги из Йорктауна в два ряда выстроились союзные армии — французы слева, американцы справа. В дальнем конце коридора, образованного шеренгами солдат, Вашингтон, Рошамбо и множество генералов на конях. Нервное ожидание разрядили оркестры — французские играли «великолепно», американские «терпимо». Наконец из Йорктауна появилась колонна войск Корнваллиса. С первого взгляда было видно, что англичане и гессенцы не потеряли напрасно ночь перед капитуляцией — они медленно маршировали в парадных мундирах. Блестели начищенные пуговицы и штыки. Красные ряды англичан по своему великолепию могли соперничать только с белоснежными шеренгами французов.
Английские офицеры скомандовали равнение направо, и войска шли, пристально вглядываясь в лица французов, подчеркивая, что капитулируют перед равной армией, но не перед сбродом, толпившимся слева. Глухо рокотали барабаны, пронзительные волынки английского оркестра выводили песенку «Мир перевернулся вверх тормашками». Лафайет, гордо стоявший перед своей оборванной дивизией, не мог вынести такого бесчестья своих американских друзей. Он дал знак, и американский оркестр оглушительно грянул варварскую мелодию «Янки дудль». Английские солдаты, вздрогнув, инстинктивно взглянули в сторону, откуда доносился ужасающий шум. Американцы вовсю скалили зубы, строили рожи, приплясывали от восторга и грозили побежденным. Нет, лучше смотреть на французов, на лицах их офицеров, по крайней мере, братское сочувствие.
По мере приближения головы колонны Вашингтон жадно вглядывался в генерала, возглавлявшего ее. Он определенно не был Корнваллисом, много моложе и в мундире бригадного генерала. Корнваллис, сказавшись больным, прислал вместо себя генерала О'Хара. Англичанин повернул лошадь к группе французских генералов и осведомился, где Рошамбо. Французы поняли намерение О'Хара вручить шпагу их военачальнику и адресовали представителя Корнваллиса к Вашингтону. Тот с видимой неохотой подъехал к американским генералам. В тонкостях этикета Вашингтон ориентировался молниеносно. Он указал О'Хара на генерала Линкольна, совсем недавно сдавшего Чарлстон, выменянного из плена и теперь красовавшегося среди торжествующих победителей.
Армия Корнваллиса сдалась. В плен пошло свыше 8 тысяч англичан и гессенцев, грубо говоря, четвертая часть сил, которыми Англия располагала в Северной Америке. Вечером Вашингтон дал банкет в честь командования трех армий. Американцы негодовали по поводу сверхвнимательного отношения французов и англичан друг к другу, их объединял дух «законных» армий монархов. Вашингтон возгласил тост за короля Франций.
Победу над Йорктауном США встретили колокольным звоном, фейерверками, банкетами. Толпы кричали «ура!» и чествовали патриотов. Конгресс благодарил направо и налево. Он вотировал преподнести два взятых английских знамени Вашингтону; по трофейной пушке Рошамбо и де Гpaccy; лошадь и шпагу гонцу, привезшему в Филадельфию весть о победе. Получение из Франции наконец бочонков с золотыми монетами (очередной заем) поднял энтузиазм почтенного собрания на невиданные высоты. Постановили воздвигнуть в Йорктауне мраморную колонну, увенчанную эмблемами союза между США и Францией с надписью-рассказом о достопамятной осаде и капитуляции. Республика расправляла крылья — начав с назидательных латинских изречений о вредоносных тиранах, намалеванных на щитах, обращенных к неприятелю во время осады, теперь надпись на мраморе на века!
Трудно сказать, что именно было на уме Вашингтона, но он очень сдержанно сообщал о победе, превозносившейся всей страной. Ревниво оберегая свои прерогативы главнокомандующего, Вашингтон сухо поблагодарил Рошамбо и его армию за «одобряющую и умелую помощь», а американским солдатам предложил «от всего сердца выразить благодарность, которую требует от нас повторное и удивительное вмешательство Провидения». Если под «Провидением» разуметь, что победа была достигнута по французским планам и вопреки первоначальным замыслам Вашингтона, то для посвященных слова звучали иронически. Только в 1788 году Вашингтон нашел силы публично признать, что кампанию, приведшую к Йорктауну, подготовили французские стратеги.
Вашингтон попытался побудить де Грасса продолжить боевые действия — англичане удерживали Вилмингтон в Северной Каролине и Чарлстон. Он выступил в ненавистной роли просителя, использовал «все аргументы и средства убеждения», но де Грасс был неумолим. Адмирал рвался воевать в Вест-Индии. Вашингтону пришлось подчиниться. Де Грасс с флотом, солдатами и трофейной пушкой исчез с североамериканской сцены, он направился навстречу своей судьбе — на следующий год английский адмирал Родней наголову разгромил его флот у Гваделупы, взяв неунывавшего толстяка в плен. Рошамбо с войсками стал на зимние квартиры в гостеприимной (французы платили твердой валютой) Вирджинии.
Большую часть континентальной армии Вашингтон отправил на север, а сам решил отдохнуть в Маунт-Вер-ноне. Он неторопливо ехал домой, нанося визиты людям, которых почти забыл, как узнал — Джон Кастис умирает в доме знакомых. Вашингтон поспешил к смертному одру приемного сына. 5 ноября Джон скончался от дизентерии, именовавшейся тогдашними эскулапами «лагерной лихорадкой». Вашингтон, хотя двадцать два года и был «папой» бездельника, не мог заставить себя выразить личное горе, но стенания Марты и невестки тронули его. Он скорбел с ними и быстро устал в похоронной атмосфере Маунт-Вернона. Генерал отправился в Филадельфию. 16 ноября он пишет Грину: «Я попытаюсь побудить конгресс наилучшим образом использовать наш недавний успех, приняв самые энергичные и эффективные меры, дабы быть готовыми рано открыть решительную кампанию на следующий год. Я больше всего боюсь, что конгресс, переоценив значение этого успеха, решит, что наши труды почти завершены, и впадет в дремоту. Чтобы предотвратить эту ошибку, я сделаю все, и если, к прискорбию, мы все же окажемся в этом фатальном состоянии, не я буду виноват».
Филадельфия встретила Вашингтона торжествами неслыханными и невиданными, его всячески превозносили. Вечерами во всех окнах выставлялись свечи, которые в домах состоятельных граждан освещали различные аллегории, героем которых был Вашингтон. Он с понятным смущением рассматривал собственные изображения с неизменной короной на голове, в самых героических позах поражающего длинным копьем или чудовищным мечом мерзко выглядевшего дракона, символизировавшего ненавистную Британию. Стоило ему появиться в театре, как с подмостков просили генерала оказать такое же покровительство музам в мире, как он оказывал свободе на войне. В прологе пьесы Гаррика «Лживый слуга» по странной прихоти драматурга Вашингтона умоляли защитить «Новые Афины, воссиявшие на Западе». В первой американской опере, скорее пародии на нее, «Замок Минервы», сочиненной Д. Хопкинсоном, хор дев во главе с молодыми дамами, изображавшими Минерву и гений Франции, восславил «увенчанного победой воинственного сына Колумбии, блистательного Вашингтона».
Наверное, он ежился в ложе, когда, подвывая, читали в его честь благостные оды или в тех же возвышенных интересах не очень мелодично пели. Спектакль в Филадельфии, а сценой был весь город, укрепил Вашингтона в худших подозрениях — американцы считали войну законченной. Он бредил новыми кампаниями, вымаливая у конгресса средства на армию. Вашингтон и в мыслях не допускал, что Лондон откажется от дальнейшей борьбы. В конгрессе иногда соглашались с ним, слали просьбы штатам, но те денег не давали. Война угасала на глазах. Вылазки ретивых тори, пытавшихся вскоре после Йорктауна разжечь партизанскую войну, пресек новый английский командующий в Северной Америке Карлтон, сменивший Клинтона. Везде, где оставались английские войска, а их насчитывалось в общей сложности до 25 тысяч человек, воцарилось затишье. В Лондоне нарастало стремление покончить дело в Северной Америке миром, Англия вела хлопотливую войну против Франции, Испании и Голландии на других театрах. Расточительство сил против США представлялось сущей бессмыслицей и даже чепухой.
Американские политики, как чуткий сейсмограф, реагировали на изменения на международной арене и считали совершенно излишним тратиться на армию. Все попытки Вашингтона убедить в противоположном и, следственно, довершить борьбу за независимость славной викторией, добытой французским оружием, но в руках американских солдат, были гласом вопиющего в пустыне. Он прибег к крайним средствам, взывая к чувству чести. В начале 1782 года в циркулярном письме губернаторам тринадцати штатов Вашингтон, как обычно, просил денег и прозрачно указал: «С прискорбием извещаю Вашу Светлость, что на основе самых достоверных сведений могу заверить Вас: французский двор очень недоволен отсутствием энергии и усилий в Штатах и тем настроением, которое представляется по меньшей мере склонностью, если пе желанием, взвалить все бремя войны в Америке на Францию».
Пятидесятилетний идеалист! Как будто война за независимость не дала достаточно доказательств, что торгаши легко расставались с честью, если вообще были знакомы с ней, но не с деньгами. Начиная от Йорктауна до мая 1782 года от всех штатов континентальная армия получила 5500 долларов, меньше ее расходов за день.
Йорктаун подвел черту под войной, хотя до официального мира между Англией и США было еще далеко.
ПОЧЕМУ НЕ ДИКТАТОР?
Наконец, дорогой маркиз, я стал частным гражданином на берегах Потомака в тени моего виноградника и моего фигового дерева. Освободившись от грома военного лагеря и суеты общественной жизни, я утешаюсь тихими радостями, почти неизвестными солдату в его постоянной погоне за славой, государственному деятелю, посвящающему напряженные дни и бессонные ночи разработке планов в интересах благоденствия своей страны и, возможно, гибели других стран (как будто земной шар мал для всех нас), придворному, вечно следящему за выражением лица своего монарха в надежде поймать благосклонную улыбку. Я не только полностью ушел от общественной деятельности, но ушел в себя и с величайшим удовлетворением буду вести личную жизнь. Не завидуя никому, я преисполнен решимости быть довольным всеми, и мой походный приказ, дорогой друг, — «спокойно дожить остаток жизни и уснуть рядом с моими отцами».
ВАШИНГТОН — Лафайету, 1784 год
В начале восьмидесятых годов XVIII столетия Соединенные Штаты явили редкое исключение в истории человечества — немало американцев не радовались неизбежному миру, а боялись его. Опасались все, кто так или иначе связал свою судьбу со складывавшимся единым государством, которое символизировал конгресс. «Статьи конфедерации», принятые и ратифицированные штатами, наделили его лишь тенью власти. Конгресс обанкротился, не было денег даже на оплату здания его казначейства!
С исчезновением военной угрозы должны были распасться узы, соединявшие тринадцать штатов. А как с финансовыми обязательствами конгресса? На руках были груды сертификатов, всевозможных расписок, по которым ожидали получить деньги великое множество людей — от бедного фермера, принявшего бумажку на выбор взамен пули от мрачных солдат континентальной армии, забравших у него сено, до богатых финансистов, открывавших (неосмотрительно, вздыхали они теперь) кредит воинству Вашингтона. Вдвойне огорчались самые предприимчивые, успевшие скупить горы сертификатов у мелких кредиторов конгресса за ничтожную часть их стоимости, но рассчитывавшие получить сполна.
В армии тревожились за будущее, пожалуй, еще больше. Офицеры и солдаты рассуждали — если конгресс не выполнял своих обязательств, когда республика находилась в опасности и нуждалась в защите, то с заключением мира армию распустят, бывшие офицеры и солдаты разойдутся по домам бедняками. Вашингтон предвидел такую перспективу даже для себя. Он пишет Лунду в Маунт-Вернон: «Я вернусь домой с пустыми карманами». Кто виноват? Вашингтон говорил Гамильтону, только что избранному в конгресс: «Половина всех осложнений, все трудности и беды армии коренятся в дурных последствиях слабой конфедерации».
Офицеры и солдаты громко роптали. Из Ньюбери под Нью-Йорком, где Вашингтон разместил штаб, он предупреждает Линкольна, занимавшего пост вроде военного министра: «Я не могу не опасаться, когда я вижу, что столько людей, обремененных тысячей воспоминаний о прошлом и ожиданием будущего, вот-вот выйдут в мир, мучимые нищетой и тем, что они называют неблагодарностью страны, в долгах по уши, не могущие принести домой ни полушки, растратив свои лучшие дни (а многие и имущество) ради достижения свободы и независимости своей родины… Терпение и долгие страдания армии почти исчерпаны».
Главнокомандующий, коль скоро боевые действия прекратились, лихорадочно искал, чем занять внимание людей на досуге. В лагере потребовал «элегантного» оформления палаток. Выдача новых головных уборов сопровождалась приказом по армии: «Надлежит быть чрезвычайно внимательным к тому, чтобы придать им вид единой военной формы, подрезав поля, нося надлежащим образом и украсив их так, как полагается». По воскресеньям, «дабы повысить мораль», предписывалось посещать религиозную службу. Это для души, для тела — многочасовая маршировка на плацу под звуки военной музыки.
Старослужащие получили право носить шевроны на рукаве. В награду «не только за выдающееся мужество, но и необычайную верность и любые важные услуги» солдаты пришивали на грудь мундира изображение сердца из «пурпурной ткани или шелка». Вашингтон назвал награду «значком за военные заслуги». Поскольку ее давали только солдатам и сержантам, Вашингтон оповестил — это доказывает: «дорога к славе в патриотической армии и свободной стране открыта всем». Первый орден, введенный Вашингтоном, был вскоре забыт и был возрожден только в 1933 году под названием «Пурпурное сердце».
Какое бы значение ни придавал главнокомандующий всему этому, в армии думали не о безделушках, шагистике и прочей военной мишуре, а о своем бедственном положении. В мае 1782 года восстание в полках из Коннектикута было предотвращено только казнью на месте зачинщиков. Это, однако, усилило озлобление в армии; Вашингтон отметил новый феномен, повергший его в ужас: «Если раньше офицеры стояли между солдатней и обществом и во многих случаях, рискуя жизнью, успокаивали опаснейшие бунты», то теперь они выражали такое же недовольство, как и рядовые.
Военным интеллигентам бунты представлялись бесперспективными, они изыскивали иные пути удовлетворения своих нужд и потребностей страны. Как и политики в Филадельфии, они приискивали прецеденты в истории для оформления американской государственности. Подняв борьбу за независимость, конгресс облек ее в форму республики. Почти семь лет республика испытывалась огнем, и армия могла судить по результатам — она, во всяком случае, находилась в плачевном положении. Полковник Л. Никола, автор первых военных наставлений в США, в мае 1782 года представил Вашингтону обширный меморандум, в котором утверждал: «Война показала всем, и в первую очередь военным, слабость республики». Нужно избрать иную форму правления. Если «некоторые люди настолько связали представление о тирании и монархии друг с другом, что их трудно разделить», то следует дать Вашингтону «какой-нибудь титул поскромнее». Никола тем не менее высказался назвать Вашингтона Джорджем I, то есть сделать королем. Никола не был одинок, идея замены республики монархией носилась в воздухе. Г. Моррис, например, писал в это время генералу Грину: «Наш союз может существовать только в форме абсолютной монархии».
Вашингтон не мог не видеть, что предложение Никола — пробный шар. Полковник лишь систематизировал взгляды, выражавшиеся многими. То, что предлагал Никола, — диктатура — противоречило убеждениям Вашингтона не потому, что он был сторонником истинной демократии, а того типа государства, который он почитал идеальным, — олигархической республики. При всей поверхности его знаний в области древней истории он твердо усвоил одно — империя погубила Рим. Теперь люди типа Никола предлагают погубить новый Рим, даже не приступив к его строительству на основе, несомненно, печального, но очень короткого периода испытания республиканской идеи на практике. Вашингтон считал, что ее нужно развивать в сторону укрепления центральной власти, а Никола стоял за прекращение всей работы в зародыше, уповая на мифические личные качества «короля».
Аристократ по убеждениям, Вашингтон не мог на равных рассуждать об этих высоких соображениях с рядовым полковником, но счел необходимым зафиксировать свою позицию так, чтобы в дальнейшем не было кривотолков. Вашингтон придавал столь серьезное значение делу, что в первый и последний раз за всю войну вызвал адъютантов и приказал им письменно подтвердить отправку ответного письма и завизировать копию, оставшуюся в делах главнокомандующего.
Он писал 22 мая 1782 года Никола: «Я внимательно ознакомился с мыслями, изложенными в Вашем письме, и вне себя от удивления и изумления. Заверяю Вас, сэр, ни одно событие за всю войну не доставило мне больше боли, чем Ваше обращение, из которого я узнал о существовании в армии таких взглядов, которые не могут не вызывать у меня отвращения и не исторгнуть у меня самый суровый укор. На этот раз я схороню их в тайниках моей души, если только новое возбуждение этого вопроса не сделает необходимым публичное разоблачение. Я ума не приложу, что в моем поведении могло побудить Вас обратиться ко мне с предложением, чреватым, на мой взгляд, величайшими бедами, какие только могут постигнуть отчизну. Если я не ошибаюсь в самом себе, Вы не могли найти человека более чуждого Вашим проискам… Так заклинаю Вас — если у Вас есть хоть капля любви к родине, заботы о самом себе или потомках, наконец, уважения ко мне, — изгоните эти мысли из своей головы и никогда не высказывайте ни от своего, ни от чуждого имени взгляды такого рода».
Экскурс Никола в сферу высшей политики был неуклюжим по сравнению с тонкой паутиной, которую плели вокруг Вашингтона люди первого положения в стране, стоявшие также за диктатуру. В застольных беседах, переписке постепенно выкристаллизовывался план объединить всех недовольных бессилием конгресса. Оба Морриса бредили созданием ассоциации кредиторов. В лагере Вашингтона на Гудзоне генералы Гейтс и Нокс охотно соглашались с тем, что армия займет видное место среди должников конгресса и, конечно, рассуждая пока абстрактно, сумеет найти средства для взыскания долгов. Александр Гамильтон быстро выдвинулся как главный оратор и душа движения. Зная Вашингтона, он понимал, что генерала трудно заставить сесть на белого коня и повторить путь Цезаря во главе бунтовщиков против законной власти, но что, если изобразить ему диктатуру как лучший способ защиты страны?
В новейшей научной биографии Вашингтона Т. Флекснера (1968 год) проблема этого движения рассматривается, пожалуй, в уместных терминах: «Такой союз между деловыми кругами и озлобленной армией в интересах дела, которое можно было представить в терминах патриотизма, обеспечения прав бедного солдата и установления порядка, современный читатель назвал бы идеальным трамплином для фашизма. В XVIII столетии фашизма не знали, но помнили о примере Древнего Рима. Моррис писал одному из активных деятелей революции, Джону Джею: «У армии в руках меч. Вы знаете достаточно историю человечества, чтобы понять больше, чем я сказал, и, возможно, больше, чем они думают». Вероятно, зная о судьбе обращения Никола, сторонники диктатуры держали Вашингтона в неведении о своих планах, надеясь поставить его перед выбором — либо возглавить движение, либо уступить место другому. Последнее заранее сбрасывалось со счетов — предполагалось, что Вашингтон никогда не откажется предать принципы, ради которых велась война, только нужно исподволь влить в них новое содержание.
Пока плелась, расширялась и углублялась интрига, Вашингтон вел себя как простодушный солдат. В тысячный раз он жаловался в Филадельфию на стесненные обстоятельства армии. Пришли в Ньюбери из Вирджинии и ушли французы (в конце 1782 года Рошамбо со своими войсками покинул США). Союзные офицеры обменивались визитами — французы обильно угощали гостей, вокруг было всего много, были бы деньги. Когда французские офицеры посещали своих американских коллег, возмущенно уведомлял Вашингтон конгресс, хозяева могут предложить только «вонючее виски, и то не всегда, и кусочек мяса без овощей». Кожей ощущая растущее озлобление армии, Вашингтон отказался от давнего намерения отдохнуть в Маунт-Верноне и остался зимовать в Ньюбери. С трудом он уговорил Марту, все еще оплакивавшую сына, приехать к нему.
Долгие зимние вечера Вашингтон коротал с генералами и офицерами у пылающего камина. Они чувствовали себя отрезанными от мира, редкий посетитель или письмо приносили известия, неполные и часто непонятные, все о том же — о мирных переговорах в Париже. Вашингтон мыслями уже был в Маунт-Верноне, требуя от управляющего подробных отчетов о плантации. Тот не торопился с ответами. В тяжких раздумьях о будущем Вашингтон сделал ему резкий выговор: «Не воображайте, что все побочные занятия моего общественного долга, пусть большие и трудоемкие, сделали нас полностью безразличными к единственному средству (плантация) обеспечения меня и моей семьи средствами к жизни».
6 февраля 1783 года в лагере устроили парад и фейерверк, отметив пятую годовщину союза с Францией. Вашингтон отпустил оставшихся пленных. Марта, тронутая их изможденным видом, раздавала гроши, велев им «идти и больше не грешить». Пленные целовали ей руку и призывали благословение бога на «леди Вашингтон». Обычный военный быт, а события назревали.
В середине февраля курьер привез письмо из Филадельфии, подписанное Гамильтоном. Он уведомлял, что «состояние наших финансов никогда не было более критическим», конгресс «руководствуется не разумом или предвидением, а обстоятельствами» и ни на что не способен. Армия должна сама заботиться о своем пропитании, а по заключении мира еще и «обеспечить справедливость себе». Витиевато рассуждая, Гамильтон предлагал, чтобы армия «умеренно, но твердо» выдвинула свои требования. Основное, к чему клонил Гамильтон: армия должна сотрудничать «со всеми разумными людьми» во введении системы федерального налогообложения, ибо «только оно способно по справедливости удовлетворить кредиторов Соединенных Штатов… и обеспечить будущие нужды правления». Гамильтон, разумеется, заверял, что «армия составляет самых достойных кредиторов», и предлагал назначить Нокса представителем Вашингтона и армии среди них. В письме разъяснялась и роль Вашингтона. «Трудность заключается в том, как сдержать недовольную и страдающую армию в рамках умеренности. Это должно сделать влияние Вашей Светлости», взяв на себя «направление» армии. Письмо, предупреждал Гамильтон, является конфиденциальным.
Вашингтон получил еще письма из Филадельфии от различных деятелей с теми же идеями. В лагерь приехал генерал-адъютант полковник Стюарт, заверивший Вашингтона, что, если дело дойдет до вооруженной схватки, гражданские кредиторы все до одного выйдут в поле бок о бок с солдатами. Вашингтон, по собственному признанию, «многие часы размышлял… над трудным положением, в которое я попал как гражданин и солдат», 4 марта он ответил Гамильтону, указав на крайнюю опасность вверять снабжение армии в ее собственные руки: «Такая мера будет иметь фатальные последствия, ныне это приведет к беспорядкам и кровопролитию. Это ужасно! Бог не допустит нас до этого!» Хотя Вашингтон и уповал на бога, со своей стороны, он мягко дал понять, что не годится для предложенной роли. Он нашел выход — пусть члены конгресса разъедутся по штатам и убедят легислатуры раскошелиться.
Тогда сторонники сильного человека решили припереть упрямца к стене — 10 марта, в лагере было распространено анонимное обращение к офицерам собраться всем на следующий день и выработать коллективные требования конгрессу. Вслед за этим призывом был распространен еще один документ, сильно и красноречиво написанный. Обращения напоминали памфлеты, которые совсем недавно поднимали американцев на войну за независимость, стоило подставить «конгресс» вместо «министерства», и тождество было полным. Дав впечатляющее описание бедствий армии, автор (Армстронг, адъютант Гейтса) спрашивал: что, после войны с роспуском армии «можешь ли ты влачить нищенское существование и прожить остаток прежней славной жизни на средства благотворителей? Если можешь — иди, подвергайся издевкам тори и презрению вигов. Будь смешным и — что еще хуже — вызывай жалость мира. Иди умирать с голода и в забвении». Есть другой выход — если придет мир, не распускать армию до удовлетворения всех требований, если война, «то под командованием нашего прославленного вождя отойдем куда-нибудь в незаселенную местность и там, в свою очередь, будем смеяться, видя, как они (конгресс) перепуганы».
Обращения были проявлением мятежа. Вашингтон, прочитав их, не запретил предложенного собрания, а велел оповестить, что 15 марта в «Храме» (громадном деревянном зале, построенном для церковных проповедей по воскресеньям и танцев в остальные дни) желающим слушать будет доложено, что конгресс делает для армии. Он сообщал, что сам не будет присутствовать на собрании.
В назначенный день «Храм», где могла поместиться целая бригада, был набит до отказа возбужденными офицерами. Председательствовал Гейтс. Только хотели открыть собрание, как неожиданно появился Вашингтон. Гробовая тишина, все опешили, но ненадолго. Впервые с вступления в командование армией он увидел поголовно враждебные лица. Вашингтон, «заметно взволнованный», произнес речь, которая не продолжалась и двадцати минут. Он осудил призыв обращения — «либо бросить родину в самый тяжкий час, либо повернуть оружие против нее — очевидно, такая цель предложения автора, если не удастся заставить конгресс быть всегда послушным». С оттенком софистики Вашингтон заметил: «Возможно, джентльмены, неуместно в моей речи к вам упоминать об анонимном произведении… Что касается совета автора подозревать любого выступающего за умеренные меры и сдержанность, я отвергаю его… Если препятствовать выражению мнения по вопросу, который может иметь самые серьезные и мрачные последствия, касающиеся всего человечества, тогда нам бесполезен разум. Тогда можно отнять свободу речи и нас, глухих и немых, поведут как овец на бойню».
Он показал себя опытным оратором — заранее похвалив собравшихся за отказ последовать за автором обращения, заключил: «Благородство вашего поведения даст возможность потомкам сказать о вашем великолепном примере человечеству — если бы не было этого дня, мир никогда бы не увидел высшей степени совершенства человеческой натуры». Вашингтон закончил, внимательно осмотрел зал. Слушатели ерзали на местах, переговаривались, но на него по-прежнему смотрели враждебные лица. Офицеры за годы войны были сыты риторикой, прошло время самых великих слов.
Вздохнув, Вашингтон развернул лист бумаги и сказал, что прочтет письмо от члена конгресса, в котором сообщается, что намерены сделать для армии. В зале притихли. Вашингтон поднес к глазам лист бумаги и запнулся. Он не мог читать. Генерал пошарил в карманах и вынул то, что видели у него самые близкие, — очки. Водружая их на носу, он невыразимо жалко и в то же время по-домашнему произнес: «Джентльмены, позвольте мне надеть очки. Ведь я не только поседел, но почти ослеп на службе родине».
Была ли сцена подготовлена сознательно или получилась экспромтом, не имеет значения — настроение зала изменилось в мгновение ока. Некоторые расплакались, другие кусали губы, пытаясь сдержаться, и почти все с любовью смотрели на генерала. Вашингтон спокойно прочитал письмо и, поняв, что битва выиграна, раскланялся и ушел. Заводилы попытались было вернуться к обсуждению обращения, но тщетно. Была внесена и принята резолюция благодарности Вашингтону за мудрый совет. Офицеры разошлись очень гордые собой — они, вняв внушению любимого вождя, не вступили на тропу греха.
Выступая против союза армии с финансовой общиной, Вашингтон правильно заподозрил то, что выяснили американские историки только в середине XX века. Денежный кризис сознательно усугублялся банкирами, надеявшимися, что доведенная до отчаяния армия обеспечит интересы всех кредиторов, с ними рассчитаются по нарицательной стоимости обязательств конгресса, а они были скуплены по дешевке. Тогда в руках банкиров окажутся внушительные средства для инвестирования. Вашингтон с отвращением писал, что по замыслу Гамильтона и Моррисов на армию возлагается «роль заурядной марионетки для создания континентальных фондов», которые уплывут в карманы менял и ростовщиков. С ними плантатору было не по пути.
В доверительном порядке он сообщил Гамильтону, что «армия… орудие, с которым играть опасно». Если конгресс не изыщет способа компенсировать офицеров и солдат, они обратятся прямо к властям штатов и будут добиваться удовлетворения своих требований у них. Быстрые разумом Гамильтон и его друзья-финансисты без труда могли предвидеть результаты — они оказались бы у разбитого корыта, ибо в этом случае обязательства конгресса вообще никогда не были бы погашены. Так рассуждали за кулисами, публично Вашингтон облек весьма прозаический спор в термины сентиментальной риторики, свойственной веку.
В письме к конгрессу, отправленном через несколько дней после памятного собрания в «Храме», Вашингтон, процитировав анонимное обращение (только что отвергнутое им самим перед офицерами), закончил: «Тогда (если требования не будут удовлетворены. — Н. Я.) я узнаю, что значит неблагодарность, тогда я познаю то, что омрачит мою жизнь до последнего дня. Но я не опасаюсь этого. Страна, спасенная их оружием от катастрофы, никогда не оставит неоплаченным долг благодарности». Он писал и отдельным членам конгресса, и все о том же. Коль скоро наличных денег нет, нужно выдать офицерам и солдатам сертификаты. В том, что уготовано их держателям, он не заблуждался — «в любом случае они тяжко пострадают, ибо нужда заставит их расстаться с сертификатами по той цене, которую им дадут, насколько они окажутся в лапах бесчувственных алчных спекулянтов, достаточно показывает прошлый опыт».
В конце мая конгресс решил вместо ранее обещанного пожизненного обеспечения офицеров половинным содержанием дать им возмещение в размере оклада за пять лет службы, а солдатам за три месяца. Вопрос о погашении задолженности должен был быть решен позднее. Это далеко не удовлетворило армию, многие офицеры сожалели, что поддались обаянию Вашингтона и оставили мысль вырвать уступки у конгресса под угрозой силы. Недовольство спорадически прорывалось, в июле пенсильванские части, расквартированные в Филадельфии, снова взбунтовались, заставив конгресс бежать в Принстон.
Не разглядев, что Вашингтон намертво сопротивлялся попыткам облечь его в тогу диктатора по очень веским причинам — плантатор не хотел, чтобы банкиры за широкой спиной генерала обделывали свои грязные дела, — Нокс и Штебен все же соблазняли его короной. Предложение, конечно, не прошло, тогда в один прекрасный день они явились к главнокомандующему с документом, который он не мог не одобрить, — уставом «Общества Цинцинната». Оно должно было объединить всех бывших офицеров континентальной армии в интересах «национальной чести, так необходимой для будущего счастья офицеров и достоинства американской империи». Членство в нем было наследственным, а пожизненными почетными членами могли быть политики и дельцы. Вашингтон стал президентом «Общества Цинцинната». Вероятно, его привлекала ассоциация с великим Римом и практические соображения — общество, как думал Вашингтон, явится своего рода филантропической организацией, заботящейся о нуждающихся отставных офицерах.
Создание «Общества Цинцинната» вызвало политический скандал. Д. Адамс и Т. Джефферсон объявили его «подрывным», легислатура Массачусетса осудила его, а штат Род-Айленд пригрозил лишить членов общества избирательных прав. Уже в 1784 году наследственный принцип был отменен, обществу было запрещено вмешиваться в политику.
Планы превратить Вашингтона в диктатора или монарха рухнули по многим причинам. Те, кто вынашивал их, не видели реальных противоречий между плантаторами Юга и торгово-промышленными кругами Новой Англии. Для Вашингтона, тысячами нитей связанного с Вирджинией, было ясно как день: диктатура была бы фикцией, удобной только для банкиров и дельцов. Они держали бы в руках «диктатора» и проводили через него политику, которая не отвечала бы интересам плантаторов, означала бы их эксплуатацию, не меньшую, чем недавнее владычество Британии. Юг оказался бы в финансовой кабале у Новой Англии.
В годы войны за независимость Вашингтон убедился, что трудности врага проистекали, помимо прочего, из очевидного обстоятельства — в США не было центра, сокрушив который можно было положить конец сопротивлению. Допустим, Вашингтон уступил бы настояниям жаждавших диктатуры и повел армию добывать для него тогу или корону. Тогда трудности, с которыми последовательно встречались все английские командующие, обернулись бы против него. Даже взяв столицы всех тринадцати штатов, он не подавил бы сопротивления, которое неизбежно усилилось бы, ибо в дело вступили демократические силы страны. Водораздел между теми, кого стали называть федералистами и поборниками прав штатов, грубо отражал политическое размежевание между консерваторами и радикалами. Этот конфликт Вашингтон старался приглушить как мог на протяжении всей войны, теперь бы он вспыхнул с громадной силой. США погрузились бы в трясину гражданской войны, а разделенные штаты могли бы стать добычей враждебной Англии и союзных Франции и Испании.
18 апреля 1783 года Вашингтон в приказе по армии сообщил о перемирии с Англией и официально поздравил войска с тем, что они «оказали помощь в защите прав человека и создании очага для бедных и угнетенных всех наций и всех религиозных вероисповеданий». Главнокомандующий на диво точно определил роль вооруженных сил США. Действительно, армия только «помогла» достижению мира и, следовательно, американской независимости, ибо Англия склонилась не перед силой оружия юной республики, а попав в сложное международное положение. Английская дипломатия откупилась, признав независимость США, и тем самым разрубила гордиев узел.
Для современников вклад армии и дипломатии США в исход войны представлялся, по крайней мере, равноценным. Вольтер, видевший, как Франклин свел с ума высший свет Парижа (Мария-Антуанетта лепетала: «О хорошие американцы», «Наши дорогие республиканцы»), называл армию Вашингтона «войсками Франклина». Адамс, поехавший в 1780 году просить заем в Голландии, писал о приеме в Гааге и Париже: «Комплимент — мосье, вы Вашингтон переговоров — повторяли мне многие…» Он выманил заем у прижимистых голландских банкиров, записав: «Мое положение в деле займа можно уподобить разве положению человека в океане, торгующегося за жизнь со стаей акул». Д. Адамс никогда не считал, что его канцелярские подвиги уступают ратным деяниям Вашингтона.
С 1781 года положение Англии резко осложнилось — на руках была война против Франции, Испании, Голландии и США, а Россия возглавила «Лигу нейтральных государств». 10 марта 1780 года Россия выступила с декларацией о «вооруженном нейтралитете»: суда нейтральных держав могут беспрепятственно посещать порты воюющих стран; собственность воюющих держав свободно пропускается на нейтральных судах (за исключением военной контрабанды); блокированным считается только тот порт, вход в который прегражден военно-морским флотом противника. Совокупность этих принципов и составляла понятие «свободы морей», за что, помимо прочего, бились США. Учреждение Россией «Лиги нейтральных» сводило на нет усилия Англии изолировать Соединенные Штаты. К декларации России присоединились Дания, Норвегия, Швеция, Священная Римская империя, Пруссия, Португалия и Королевство Обеих Сицилии. Франция и Испания также признали эти принципы.
Конгресс, видя, что на сторону США встала Россия, направил в Петербург Ф. Дейна для установления дипломатических отношений. Екатерина II связала это с подписанием окончательного мирного договора, а дабы содействовать быстрейшему прекращению кровопролития, предложила свое посредничество в заключении мирного договора, что повлекло бы установление дипломатических отношений с США. Американские представители в Европе ухватились за предложение о посредничестве России, конгресс резолюцией 15 июня 1781 года требовал следовать ему, но это не устраивало ни Лондон, ни Париж, ни Мадрид. Воюющие стороны были едины в одном — не допустить увеличения международного веса России, что неизбежно было бы следствием ее успешного посредничества.
В Лондоне решили прорвать сложившийся против Англии единый фронт почти всего тогдашнего цивилизованного мира и выбрали самое податливое звено — Соединенные Штаты. Серия поражений в Вест-Индии, захват Минорки Испанией, успехи французов на других, помимо американского, театрах привели к падению кабинета Норта. Георг III, рвавшийся продолжать войну, остался почти в одиночестве. В марте 1782 года в Англии был сформирован кабинет вигов Рокингэма, который за 17 лет до этого провел отмену закона о гербовом сборе. Парламент принял резолюцию, объявлявшую врагом Британии каждого и всякого, желающего продолжать войну в Америке, а правительство завязало тайные переговоры с американскими уполномоченными в Европе о заключении мира в США. Их повели в Париже Д. Джей, Д. Адамс и Б. Франклин.
Троице нужно было разрешить моральный парадокс — подписать мир вопреки ясно выраженной воле конгресса, запретившего вести переговоры за спиной Франции, и в нарушение союзного франко-американского договора 1778 года, по которому США обязывались не заключать сепаратного мирного договора. Что касается соотечественников, то Джей, Адамс и Франклин считали возможным вести себя за столом переговоров не менее независимо от конгресса, чем Вашингтон на полях сражений. Адамс, прекрасно знавший своих филадельфийских коллег, писал по поводу инструкций конгресса уполномоченным в Европе руководствоваться «советом и суждением» Франции в мирных переговорах: «Конгресс отрекся от собственного суверенитета и вручил его в руки французского министра. Горите от стыда, виноватые строки! Горите от стыда и сгиньте! Нарушить столь постыдные приказы — значит покрыть себя славой. Да, постыдные, ибо так их будут оценивать все наши потомки. Как можно смыть такое пятно?» И он нашел выход — в тайных переговорах с англичанами за спиной Франции.
Д. Джей горячо поддержал Адамса, ибо сам уже натерпелся в Европе. Он прибыл к столу переговоров в Париже прямо из Мадрида, где провел два с половиной года, добиваясь большей помощи испанского короля прекрасной заокеанской республике. Дипломатическое искусство Джея в Мадриде оценили по достоинству. Испанский министр иностранных дел, устав от попрошайничества настырного американца, писал о Джее: «Два его главных аргумента: Испания, признай нашу независимость, Испания, дай побольше денег». Ему удалось получить в Мадриде только небольшой заем, и, следовательно, он люто возненавидел Европу, слепую к прекрасной заре человечества, взошедшей над Америкой. Когда выяснилось, что представляется возможность наставить изрядный нос Франции, Джей не скрывал своего восторга. Он радостно отмечал: «Ни одного борца не бросали так ловко на обе лопатки, как графа де Верженна». Пока проворные Адамс и Джей свирепо торговались с англичанами, престарелый мыслитель Б. Франклин заблаговременно сочинял надлежащую аргументацию, дабы успокоить французский двор, когда станет известно о сепаратном договоре США с Англией.
30 ноября 1782 года в Париже был подписан этот самый мир, носивший, правда, название предварительного — оговаривалось, что он вступит в силу по заключении мирного договора между Англией и Францией. Англия признала независимость 13 американских колоний, их западная граница устанавливалась по Миссисипи. Согласившись на значительное расширение территории США, в Лондоне думали, что сделали ловкий ход — энергию новой страны поглотит освоение этих земель. В договоре закреплялись права английских кредиторов взыскивать долги, что затрагивало в первую очередь плантаторов юга. От имени конгресса давалось обязательство возвратить собственность тори, конфискованную в ходе войны. В договоре также предусматривалось прекращение в дальнейшем любых преследований в США по политическим мотивам. Англичане «со всей возможной быстротой» обязывались эвакуировать свои войска, еще оставшиеся в США.
Узнав о сепаратном договоре, Верженн сделал соответствующее внушение американским уполномоченным. Ответ, написанный легким пером Б. Франклина, с американской точки зрения был красноречив и убедителен. Старик философ заверил министра Бурбонов, что, подписывая договор, американцы не проявили должного «такта», что, однако, объяснялось, «не недостатком уважения к королю, которого мы все любим и чтим». Договор-де не сепаратный, ибо носит «предварительный» характер. Франклин просил, чтобы инцидент не повлек за собой разрыва с Францией, и раскрыл соображения, которыми якобы руководствовались американцы: «Англичане, как я узнал, льстят себя надеждой, что уже разделили нас. Надеюсь, что это маленькое недоразумение останется в тайне, и пусть англичане пребывают в своем заблуждении». В этом же письме Франклин попросил новый заем. Французское правительство, стоявшее на грани банкротства — до революции остались считанные годы, — выделило США еще шесть миллионов ливров. Франклин, надо думать, пожал плечами, почувствовав превосходство республиканского склада ума над монархическим. Его комментарий — французы не могут допустить, чтобы дорогостоящий костер угас из-за недостатка топлива.
Ухищрения Франклина были совершенно напрасны, в Лондоне отлично и в деталях знали обстоятельства по ту сторону неприятельского дипломатического фронта. Американские уполномоченные трудились в тесном кольце английских шпионов. Доверенный секретарь Франклина Э. Бэнкрафт был английским агентом, курьер капитан Хайнсон, перевозивший самые секретные послания из Парижа конгрессу и обратно, состоял на жалованье англичан. Шпионом был Э. Кармайкл, личный секретарь С. Дина. Помимо «звезд» первостепенной величины, в окружении американских уполномоченных толпились десятки шпионов второго положения. Арнольды не были исключением, а скорее правилом в рядах государственных служащих США при неизменном побудительном мотиве предательства — наживе. Как писал в то время французский посланник в США Верженну: «Личное бескорыстие и неподкупность отсутствуют в картине рождения Американской республики… Дух торгашеской алчности составляет, пожалуй, одну из отличительных черт американцев». Француз знал дело и широко практиковал взятки…
Предварительный договор Англии и США, прорвавший фронт противников Британской империи, совпал с рядом их неудач. Особенно большое впечатление произвел провал испанской осады Гибралтара, не говоря уже о поражении де Грасса в Вест-Индии. 20 января 1783 года Франция и Англия подписали мирный договор, а после длительных переговоров Лондона с Мадридом и Гаагой 3 сентября 1783 года был наконец заключен окончательный мирный договор, известный как Парижский мир.
Известия о происходившем в Европе в том или ином виде достигали США. Состояние войны с Англией было прекращено резолюцией конгресса 19 апреля 1783 года. 5 мая Вашингтон встретился с Карлтоном. Английский главнокомандующий не мог сообщить точного срока убытия британских войск с территории США. Генерал Вашингтон должен понять, что с судами трудно. Вашингтон понял. Особых дел не было, он заказал и получил у нью-йоркского книготорговца (препятствий больше не было) биографии Карла XII, Людовика XV, Петра Великого, Густава Адольфа. Америке нужны, вероятно, думал потенциальный читатель, начитанные великие люди, но прочесть эти книги он не успел, откладывал со дня на день, как и трактат Локка, о котором он столько понаслышался в Филадельфии.
Континентальная армия расходилась по домам как пришла — группами и в одиночку, без особой договоренности и сроков. Вашингтон тем временем планировал послевоенную армию — он точно исчислил: нужно 2631 человек для занятия Вест-Пойнта, пограничных фортов, охраны воинских складов. Да еще сильный флот. Конгресс тянул с вынесением решения. Не собирается ли генерал отковать руками законодателей массивные цепп тирании и сковать свободнорожденную республику. Пока тревожились об армии грядущей, огромное большинство офицеров и солдат континентальной армии проклинали свою судьбу. «История, — пишет Д. Флекснер, — предпочла отметить позднейшее расставание Вашингтона с офицерами, еще оставшимися на службе, умалчивая, что, когда большинство офицеров континентальной армии отправлялось по домам, они отменили, к «огорчению», как сказал полковник Стюарт, «определенных лиц», прощальный обед, на котором главнокомандующий занял бы почетное место. «Душераздирающий характер расставания в этих своеобразных обстоятельствах, — доверился Вашингтон конгрессу, — не поддается описанию».
Только 25 ноября 1783 года немногочисленные отряды континентальной армии вступили в покинутый англичанами Нью-Йорк. Они, наступая на пятки английскому арьергарду, медленно проходили по пустынным улицам: пришедшие в запустение дома, нет заборов, сараев, все давным-давно пошло на топливо. В гавани — мачты британских судов, у берега маячат баркасы. Вашингтон, величественный и гневный, обозревал с берега ненавистных врагов. Помрачневший адъютант доложил соображения о самой вероятной причине, почему переполненные баркасы болтаются у берега: американцы никак не могут поднять звездное знамя на флагштоке, что над фортом Джордж. Ретивые янки, пытавшиеся подняться по шесту с символом великой победы, неизменно скатывались вниз и постыдно шлепались на землю, На баркасах и кораблях улюлюкали: королевские солдаты, решившись зло подшутить, от души намылили шест. Наконец принесли кошки, умелец влез вверх, и пронизывающий ветер развернул звездное знамя. Рявкнули пушки — 13 залпов в честь освобождения от ига.
В обнищавшем городе устроили праздник — взлетали и лопались ракеты, били в барабаны, размахивали флагами и, конечно, пили. 4 декабря в таверне «Франсес» Вашингтон попрощался с армией, ее символизировала группа офицеров. Проводить Вашингтона в таверну сошлись три генерал-майора из двадцати девяти, один бригадный генерал из сорока четырех. Правда, штаб, адъютанты и ближайшие друзья были представлены почти полностью. Генерал поднял чашу: «С сердцем, полным любви и благодарности, я прощаюсь с вами. Молю, чтобы в будущем жизнь ваша была так зажиточна и счастлива, как были славны и честны ваши прошлые дни». Рука, державшая сосуд с приличным вином, заметно дрожала. Они все по очереди подходили к нему, прощальное объятие и прикосновение губами к выбритой щеке. Собрание «было слишком трогательным, чтобы затянуться». Генерал вышел, ударили барабаны — жидкий строй солдат. Ветераны наконец познали воинский артикул, они лихо поворачивались на каблуках и не сталкивались штыками. Подвыпивший Штебен сиял. Вашингтон сел на барку и отправился сдавать дела конгрессу.
До Аннаполиса, где тогда заседал конгресс, герой добирался почти три недели: задерживал блестящий прием во всех городах. Издававшаяся в США «Роял газетт» писала о планах туземного Цинцинната: «В Аннаполисе он вручит прошение об отставке командующего армиями Америки, вверенными ему континентальным конгрессом, затем Его Светлость проследует в свое имение, именуемое Маунт-Верноном, в Вирджинии, повторяя пример своего кумира, добродетельного римского полководца, который, одержав победу, покрытый славой, оставил военный лагерь и ушел от общественной жизни otium cum dignitate».
В беспомощном конгрессе процедурой прощания с полководцем стремились компенсировать иллюзию власти. Законодатели заранее надулись спесью и посему постановили: секретарь вводит генерала в зал и усаживает. После внушительной паузы президент изрекает: «Сэр, конгресс США готов выслушать ваше сообщение». Засим генералу надлежало встать, поклониться, а государственным мужам в ответ только поднять шляпы. По вручении отставки генерал еще раз кланяется, а члены конгресса еще раз прикасаются к шляпам. С этим генерал удаляется.
Намеченная процедура была точно воспроизведена на заседании конгресса 23 декабря. Лишь непредвиденное отступление — генерал, державший в правой руке листок с речью, сначала не мог прочитать ее, буквы прыгали перед глазами. Пришлось левой рукой подхватить подрагивавшую правую. Вашингтон сказал десяток сдержанных фраз, отняв три с половиной минуты у конгресса.
Только что избранный президентом конгресса Т. Миффлин, бывший генерал-квартирмейстер армии, интриган и казнокрад, естественно, не экономил время конгресса. Он разразился трескучей речью, адресованной к «отдаленным векам». Миффлин, между прочим, сказал: «Вы не прекращали борьбы, пока наши Соединенные Штаты с помощью великодушного монарха и его народа не сумели, осененные благим провидением, закончить войну в условиях свободы, безопасности и независимости, и по случаю этого счастливого события мы все шлем вам самые искренние поздравления».
Под военными делами подведена черта, оставалось подбить финансовый баланс. Вашингтон представил счет казначейству — 8422 фунта 16 шиллингов 4 пенса. В эту сумму он исчислил свои «законные расходы» за восемь лет служения родине. Переведенные на стабильные доллары расходы Вашингтона составили 64315 долларов, каковые были возмещены ему конгрессом.
Министерство финансов США только в 1833 году опубликовало впервые составленную Вашингтоном роспись расходов, занявшую 66 страниц. С тех пор педантичные подсчеты генерала служат неиссякаемым источником для юмора. Он включил в расходы, например, оплату шести поездок Марты к армии в два конца и один раз в один конец, что определил в 1064 фунта 1 шиллинг. Вашингтон объяснил: «хаотическое состояние наших общественных дел» вынудило его «откладывать посещение семьи, которое я планировал каждый год между окончанием одной и началом другой кампании, и, следовательно, этот расход вытекает отсюда и является результатом моего самоограничения», поэтому «он является моим собственным».
Эти и иные траты, отвечавшие этике XVIII века, изумляют людей нашего времени. Насмешники из журнала «Плейбой» ознаменовали очередной год рождения Вашингтона — 1970-й большой статьей в февральском номере журнала, в которой со смаком прочитали расходы Вашингтона статья за статьей. «Типичная неделя (1–7 декабря 1775 года) в борьбе мятежников против британской тирании: слугам… 234 доллара, за стирку… 127 долларов, парикмахеру за бритье… 175 долларов. Очевидно, только после Американской революции о войне стали говорить как об аде». Или: «Каждый знает, в каких условиях зимовали солдаты революции в Вэлли-Фордж. Рассказывают, что было так холодно, что солдаты могли согреться, только ворча по поводу 80 вшивых долларов, которые им платили ежемесячно. Генерал Вашингтон даже роздал свои одеяла, их стоимость, возможно, включена в счет. Но больше, чем одеяла, сердца рядовых согрела бы запись их вождя от 29 января 1778 года: «Капитану Гиббсу… на расходы по домашнему хозяйству 2000 долларов». Они согрелись бы еще больше, если бы знали, что 2000 долларов покрыли скромное существование генерала как раз за месяц».
Что спрашивать с зубоскалов из «Плейбоя»? Фактом все же остается, что вирджинский плантатор послужил государству рассудительно. Он избежал судьбы многих товарищей по оружию, обнищавших в годы, когда они отстаивали свободу. Тем не менее, представив счет конгрессу и погасив его, Вашингтон сокрушался: «Из-за спешки и сложности подсчетов (иначе я никак не могу объяснить дефицит) …за многое я не получил сполна».
Рождество 1783 года в Маунт-Верноне… Начиналась мирная жизнь. Оглушительная после шума военного лагеря тишина. Он рвался к ней и почти с ужасом внезапно осознал, что мысли о мирке плантации не поглощают энергию мозга, восемь долгих лет перегруженного тысячами дел, малых и больших. Частный гражданин не считал себя мельче вчерашнего прославленного полководца и коль скоро не мог по должности размышлять о судьбах страны, то стал обдумывать смысл собственной жизни вообще. Что тлен, а что истинно.
Те, кого он знал в плоти и крови, ближайшие соратники огненных лет в уединении кабинета Маунт-Вернона, виделись тенями, гонимыми беспощадным ветром времени. Вот и Лафайет, погостив неделю, уехал туда, за океан. Вслед маркизу летит письмо: «В миг расставания нашего, по пути домой и каждый час с тех пор я испытываю любовь, уважение и привязанность к тебе, рожденные годами, нашей дружбой и твоими достоинствами. Когда наши кареты разъехались, я все спрашивал себя — что, я видел тебя в последний раз? И хотя мне хотелось сказать «нет», мои страхи говорили «да»! Я припомнил дни моей юности и вижу — их не вернуть. Теперь я спускаюсь с горы, на которую карабкался пятьдесят два года, и, хотя бог наделил меня крепким сложением, в нашей семье не заживались на этом свете. Думаю, что вскоре буду навеки замурован в чертогах моих отцов. Мысли эти сгущают тени и окрашивают в печальные тона как всю картину, так и мои перспективы еще увидеться с тобой».
Предчувствия не обманули старика. Только через сорок лет Лафайет, сам старик, выбрался в Америку и, обливаясь слезами, стоял у могилы своего друга и героя, шепча бескровными губами: «Я помню, я помню…»
В Маунт-Верноне Вашингтон снова был бок о бок с Мартой. Она была достойной спутницей жизни Отца Страны, но с пугающей очевидностью он видел, что после смерти сына никто не мог заполнить ее сердца. Герой Америки рассеял врагов, а в этом был бессилен. Унизительное открытие. Ему казалось, что Марта угасает. Его бы это не удивило — на рубеже войны и мира немало людей, которых он хорошо знал, ушли в могилу. Величественный лорд Фэрфакс не пережил победы своего молодого протеже под Йорктауном, умер супруг племянницы Бетти, ушел брат Самюэль, оставив долги и недобрую память.
Марта «почти всегда нездорова… — отмечал супруг. — Лихорадка и колики высасывают из нее все силы». По профессии и темпераменту он философски относился к жизни и смерти. Но умереть без потомства! Не прошло и месяца после торжественной церемонии сложения обязанностей главнокомандующего, как Вашингтон попросил конгресс вернуть ему документ о назначении командующим всеми армиями Америки. «Бумага, — объяснял он конгрессу, — может послужить моим внукам через пятьдесят или сто лет поводом для размышлений, если они, конечно, будут склонны к ним». Он получил документ в изящном ларце, но где эти внуки? Покойных детей Марты Вашингтон все же не считал своими, он иногда говорил: «У меня нет семьи… Мне не о ком заботиться».
Теперь болезнь Марты. Если она умрет, то будет ли у него ребенок от новой жены? Он опасался, что нет, если «я женюсь на женщине моих лет». Тогда, быть может, предложить руку девушке? «Нет, пока у меня сохранится разум, я не женюсь на девушке». Заколдованный круг тягостных размышлений. Неизбежно приходила мысль: «Если г-жа Вашингтон переживет меня, совершенно очевидно, что я умру без потомства». Он мог сделать и сделал только одно — в завещании предусмотрел, что его ребенок, если таковой как-то появится, унаследует все.
А жизнь шла своим чередом. Он был патриархом большого клана — двадцать два человека значились его племянниками и племянницами. Многих живущих в тени великого человека он почти не знал, некоторых искренне любил. Вдова беспутного сына Марты Элеонора решила выйти замуж, но четверо детей от первого брака представлялись чрезмерным приданым. Марта души не чаяла в трех внучках и внуке, как хотела счастья своей невестке. Спросили совета Вашингтона, он ответил письмом, изобличавшим здоровое уважение к суждению женщин: «Отец и мать (будущие супруги) налицо и вполне компетентны дать совет, и вообще очень уместно в таком интересном деле спросить их мнение. Что до меня, то я никогда не советовал и никогда не буду советовать женщине, отправляющейся в матримониальное путешествие, во-первых, потому, что я никогда не мог уговорить хоть одну выйти замуж против ее воли, и, во-вторых, потому, что я знаю — бесполезно советовать ей не идти под венец, если она решилась на это».
Он облегчил матримониальное путешествие Элеоноры — к великой радости Марты, усыновил внучку Нелли и внука Джорджа. В Маунт-Верноне жизнь пошла по-новому и мучительно знакомому кругу, хотя годы были не те. Семья разрасталась — в нее вошла дочь покойного Самюэля, ее неряшество стало предметом заботы, помимо государственных дел, Вашингтона. Жаловавшиеся на скверное здоровье племянник Вашингтона полковник Августин и овдовевшая племянница Марты Фанни Бассетт кончили затянувшиеся курсы лечения решением пожениться. Перед тем как сочетаться браком, Августин поехал укрепить силы на целебные источники, там в свое время молодой Вашингтон был с незабвенным Лоуренсом. В письме Лафайету Вашингтон с мрачным юмором комментировал: Августин хочет набраться здоровья, «достаточного для матримониального путешествия на фрегате Ф. Бассетт, на борт которого он намеревается взобраться в октябре. Насколько предприятие безнадежно, оставляю судить тебе. Если дело так обстоит, то средство, избранное для лечения, как бы ни было приятно сначала, конечно, будет очень сильным». Вашингтон надеялся, что Августин и Фанни, ставшие супругами в конце 1785 года, будут жить постоянно в Маунт-Верноне и помогут по хозяйству. Августин сменил Лунда в качестве управляющего.
Внешне холодный человек, Вашингтон, освобожденный от руководства войной, постоянно обременял себя заботой о родственниках, друзьях и их детях. Он ссужал деньги, оплачивал образование нескольких молодых людей. Остро ощущавший всю жизнь недостаток своего образования, он высоко ценил его у других. Он вознамеревался подарить «академии» в соседнем городке тысячу фунтов стерлингов для оплаты обучения бедных студентов. Выяснив, что обещанной суммы не собрать, он удовлетворился ежегодной передачей пятидесяти фунтов, что составило бы обычный процент с тысячи. Эту сторону своей жизни Вашингтон старался держать в тени. Почти никто так и не узнал, что, когда в 1786 году скончался любимый генерал Грин, Вашингтон предложил усыновить его сына.
Вашингтоны в глазах общества были респектабельной, стареющей четой. Марта верно выполняла свою роль хозяйки дома, и если вспыхивали ссоры, то по пустякам. Она никак не могла разделить привязанности мужа к собакам. Когда любимец Вашингтона Вулкан, пес чудовищных размеров, испортил очередной званый обед, стащив с праздничного стола окорок ветчины, она разразилась бранью, помянув лающие своры, заполонившие Маунт-Вернон, и малопонятную страсть мужа. Вашингтон хохотал, но в других случаях ей не всегда удавалось быстро привлечь его внимание. Обычно Марта, которая была много ниже супруга, долго дергала его за пуговицу камзола, прежде, чем он склонял к ней улыбающееся лицо. В письме к секретарю конгресса Ч. Томсону Вашингтон как-то заметил: «Если бы г-жа Вашингтон знала о том, что я приглашаю Вас заехать, я убежден, она бы привела массу аргументов в пользу приглашения г-жи Томсон. И не успела бы она хотя бы наполовину размотать нить своей речи, более чем вероятно, что я с готовностью уступил бы силе ее доводов». Она стала неудержимо болтливой к старости, Марта Вашингтон.
Только в феврале 1785 года Вашингтон нашел в себе силы проделать короткий и знакомый путь. Он посетил место, где некогда стоял Бельвуар, сожженный в годы войны. Больше года его преследовал кошмар, вечерами, когда он выходил из дверей Маунт-Вернона, он пристально смотрел влево, надеясь вопреки надежде увидеть огоньки Бельвуара. Тьма давила, и он поникший возвращался в дом, ярко освещенный канделябрами с зеркальными отражателями. На месте Бельвуара он нашел мучительно знакомое по годам войны пепелище. Руины некогда дорогого дома ничем не отличались от многих виденных им.
Глухое отчаяние и мольба пронизывают письмо, отправленное им Фэрфаксам в Англию. «Я горячо хотел бы, чтобы Вы и г-жа Фэрфакс вновь поселились в нашей стране, и считайте Маунт-Вернон своим домом, пока Вы удобно не обстроитесь. Г-жа Вашингтон со всей искренностью присоединяется к просьбе. Я никогда не бросал взора в сторону Бельвуара, не думая прежде всего об этом. Но увы! Бельвуара больше нет. Позавчера я проехал верхом по руинам. То действительно руины. Жилой дом и два кирпичных здания истерзаны пожаром, стены очень повреждены. Другие здания заброшены и приходят в упадок под давлением времени. Я думаю, все они скоро превратятся в руины. Когда я взглянул на все это, я думал о том, что самые счастливые дни моей жизни были проведены здесь, я не мог припомнить ни одной комнаты в доме (теперь от них остались только следы), в которой мне не было бы хорошо, и я бежал оттуда. Я вернулся домой с душевной болью, усугубленной сравнением».
Фэрфаксы не согласились. Салли оставалась за океаном.
Таковы считанные факты, позволяющие, пусть условно и в грубой форме, реконструировать внутренний мир Вашингтона, то есть то, что прозаически называется личной жизнью. В его время говорили, что он был склонен к меланхолии, Т. Джефферсон, поближе узнав земляка, задумчиво отметил — Вашингтона всегда «преследовали мрачные опасения». Сам герой знал средство, как не пасть их жертвой. Быть всегда занятым, плыть в стремительном потоке дел, а для этого у него были поистине неисчерпаемые возможности.
Слава! Пьянящий водоворот с головокружительной быстротой засасывает Вашингтона. Стоило ему осесть в Маунт-Верноне, как дом стал вожделенной Меккой паломничества бескорыстных и корыстных служителей культа Отца Страны.
Явился туземный гений — скульптор Д. Райт. Он не очень надеялся на свой талант и поэтому потребовал снять маску с лица. «Я согласился, — писал Вашингтон, — довольно неохотно. Он намазал маслом мне лицо и, положив меня пластом на кушетку, стал покрывать его гипсом. Когда я был в этом смехотворном положении, в комнату вошла г-жа Вашингтон. Увидев мое лицо под слоем гипса, она невольно вскрикнула, что побудило меня улыбнуться. В результате мой рот получился искривленным, что ныне видно на бюстах, изготовленных Райтом».
Из Франции приехал прославленный скульптор Жан-Антуан Гудон с тремя помощниками. Его наняли в Париже Джефферсон и Франклин, упросив придать Вашингтону самую энергичную позу. Гудон, представлявший американцев, как и многие тогда в Европе, примерно такими, как описывали своих героев Плутарх и Тацит, заранее составил замысел — воплотить Цинцинната в мраморе и тоге. Дело оставалось за малым — точно измерить Вашингтона и снять с него маску. Французы трудились две недели и увезли с собой необходимый материал. Любознательный Вашингтон записал в дневник рецепт приготовления гипса, а Джефферсона жалобно просил: «Конечно, у меня нет достаточных знаний в области скульптуры, чтобы спорить с знатоками», но все же нельзя ли избежать древней тоги, «сделав небольшое отклонение в сторону современного костюма?»
Всю жизнь Вашингтону приходилось очень много писать, иные историки жалуются, что он оставил слишком много писем — деловых и личных. Вероятно, первые годы после окончания войны были самыми выдающимися в этом отношении. В глубоком отчаянии он сетовал, что нет покоя «от писем (часто бессмысленных) от иностранцев, запросов о Дике, Томе или Гарри, который мог где-то, когда-то служить в какой-то части континентальной армии… верительных писем, просьб, упоминаний тысяч дел времен давно прошедших, которые меня касаются не больше, чем Великого Могола». Ему посвящали книги, оды, оратории и просили покровительства. Джентльмен ограничивался бессодержательными, но вежливыми ответами. Он взял за правило не оставлять без ответа ни одного письма.
Но, когда старый друг Фрэнсис Хопкинсон прислал «Семь песен для хора с оркестром» и попросил одобрить сочинение «первого в США композитора», Вашингтон взорвался: «Нам рассказывали о магическом воздействии музыки в старые времена… Древние поэты (неизвестно, как бы они поступили в наши дни) ужасно любили чудеса, и если раньше я сомневался в их отношении к могуществу музыки, то теперь я полностью убежден в этом. Честь страны не позволяет мне допустить, чтобы древние оставили нас в чем-то далеко позади, и если они могли смирять хищных зверей, тащить за собой деревья и камни и даже зачаровать силы Ада музыкой, то я убежден, что твое произведение заключает, по крайней мере, достаточно добродетели, чтобы (без помощи голоса и инструмента) растопить лед на Делавэре и Потомаке, а тебе бы нужно было оказать честь мне, прислав его раньше первого декабря». Хопкинсу следовало бы проявить больше осмотрительности в выборе ценителя его шедевра, ибо, «если оно не удовлетворит все вкусы (а столь разнообразны мнения и желания людей, что даже одобрение Провидения не дает общего согласия), что, увы, я смогу сделать? Я не могу пропеть ни одной песни, взять ни одной ноты на любом инструменте, чтобы убедить неубежденных. Однако у меня есть единственный аргумент, который заставит согласиться людей с истинным вкусом (по крайней мере, в Америке): я мог сказать им — сочинено мистером Хопкинсом». Не только этому композитору, но и другим служителям муз так и не удалось вырвать у Вашингтона руководящих указаний в области искусства.
В Маунт-Верноне постоянно толпились посетители — друзья, знакомые, просители, любопытствующие путешественники. Часто заезжали иноземцы. Маунт-Вернон, писал Вашингтон, можно «сравнить с хорошей таверной, ибо едва ли один странник, едущий с севера на юг или с юга на север, не проведет здесь день или два». Ближайшая гостиница была в деревне Александрия в пятнадцати километрах, и, конечно, заночевать под кровом гостеприимного плантатора было много приятнее. Слуги находили также подобающее общество, а конюшни и каретные сараи были выше похвал. Друзья жили неделями.
Они знали нехитрые правила хозяина. «У меня единственное условие — поступайте как хотите, и так же буду поступать я, ни на кого не накладывается никаких ограничений». В рамках, разумеется, морального кодекса вирджинской знати. «Мой образ жизни прост, — говаривал Вашингтон. — Для гостей всегда готов стакан вина и кусок мяса. Те, кто этим удовлетворяется, желанные гости. Ожидающие большего будут разочарованы, но это не заставит изменить мои привычки». Вашингтон перестроил и расширил дом, особенно гордясь новым банкетным залом. Мрамор для камина, присланный почитателем из Англии в десяти ящиках, однако, привел плантатора в смущение. Он опасался, не будет ли отделка «слишком элегантна и дорога… для моего республиканского образа жизни». Это была ложная скромность — по тогдашним критериям Маунт-Вернон был одним из самых благоустроенных домов страны.
Только спустя полтора года после возвращения в Маунт-Вернон Вашингтон летом 1785 года пометил в дневнике: «обедали с Мартой без гостей». Удивительный случай почти не повторялся.
Маунт-Вернон прославился гостеприимством, но посетители (не друзья) видели хозяина сравнительно редко, неизменно сдержанного и даже холодного. Иной раз он появлялся только за обедом, не произносил ни слова и снова исчезал. Вашингтон вел чрезвычайно размеренный образ жизни. Вставал с рассветом (зимой при свечах), ложился обычно в девять вечера. В услугах камердинера — престарелого раба-мулата — он почти не нуждался, да и спросить с него было трудно. К вечеру камердинер бывал мертвецки пьян, хотя по утрам предполагалось, что он в состоянии ответить на короткие вопросы хозяина. Вашингтон привык к нему, со стариком пройдена вся война. После завтрака на коня и верхом по плантациям. Он любил быструю езду и почти каждый день покрывал более тридцати километров прежде, чем приходило время вернуться, переодеться и поспеть к обеду в три часа. Хозяйство было громадным — плантация простиралась на 16 километров вдоль Потомака, а в самом широком месте уходила от берега почти на 7 километров. Помимо арендаторов, негры-рабы — 124 взрослых и 92 ребенка, всего 216 душ.
Он не был в восторге от рабского труда, требовались надсмотрщики, а за ними нужен был глаз да глаз. Только так поддерживалась хотя бы скромная производительность. Еще до войны Вашингтон задумывался над будущим системы, которую он унаследовал. Она противоречила его представлениям о рентабельном хозяйстве. В 1785 году Вашингтон задался целью выяснить, чего может добиться в Вирджинии «практичный английский фермер». Это дало повод написать Фэрфаксам письмо с просьбой подыскать и прислать фермера, «знающего лучшую систему севооборота, как пахать, как сеять, как жать, как окучивать, и прежде всего похожего на Мидаса, способного превратить все, к чему он прикасается, в удобрение как первый этап на пути превращения в золото».
Год спустя на плантации появился просимый человек — Джеймс Блоксхэм. Он крутил головой и не скрывал изумления, смешанного с ужасом. Вашингтон защищал честь Вирджинии, ссылаясь на наследие девяти лет войны. Англичанин горячо взялся за порученное дело и проработал на плантации до 1790 года. Вашингтон подвел итог: Блоксхэм «прекрасно знал все виды труда фермера и особенно хорошо… как использовать быков в упряжке или для плуга… Однако, обнаружив, что в известной степени хлопотно учить негров, понуждая их следовать его методам, он скатился до их методов работы».
Наглядный пример жалкой производительности рабского труда тем более впечатлял, что в ходе войны Вашингтон оторвался от Вирджинии. Он был в других краях, с иной системой хозяйства и в окружении людей, которые осуждали институт рабства по моральным основаниям. Определенный свет на отношение Вашингтона к рабству проливает его суждение, относящееся к 1786 году. Хотя именно в это время он прилагал все усилия, чтобы сделать плантацию выгодной, назидательная сентенция была в прошлом времени: «Несчастливые обстоятельства лиц, чей труд я частично использовал, были неизбежным предметом сожаления. Стремление облегчить положение взрослых в той мере, в какой позволяло их невежество и беспечность, и заложить основы для того, чтобы подготовить подрастающее поколение к судьбе отличной, чем они были рождены, давало определенное удовлетворение моему уму и не могло, как я надеялся, быть неприятным для справедливого Создателя».
Последствия такого отношения усугубили трудности плантатора. Он, например, постановил для себя не продавать рабов без их согласия, и в результате на плантации с хозяйственной точки зрения оказались лишние рты. Идиллия солнечной жизни в Маунт-Верноне, манившая его в военные годы, разбилась о суровую действительность малопроизводительной плантации. Вашингтон даже стал помышлять: не лучше ли стать финансистом, как Р. Моррис? Но в нем прочно укоренилась неприязнь к жизни в больших городах. Во всяком случае, рабство решительно не нравилось ему. В 1794 году, отвечая соседу-плантатору, он писал: «Что касается других видов собственности (рабов), о которых вы спрашиваете мое мнение, то откровенно говорю вам — не хочу даже думать о них, а еще меньше говорить». Он кончил тем, что по завещанию освободил своих рабов.
Вашингтон, по натуре экспериментатор, пытался различными новинками поднять рентабельность хозяйства. Он не вернулся к табаку, а упорядочил севооборот — кукуруза, пшеница, кормовые травы. Вероятно, это была самая полезная находка беспокойного ума плантатора. Многие другие нововведения впечатляли, но в денежном отношении были только бременем. Он разбил «ботанический сад», обменивался семенами даже с Людовиком XVI. Построил оранжереи, посадил апельсиновые деревья и серьезно помышлял о том, чтобы стать виноделом. Виноград Франции, однако, очень плохо рос в Вирджинии. Вашингтон прилежно изучал литературу по агрономии и поддерживал оживленную переписку с Артуром Юнгом, считавшимся тогда в Англии лучшим знатоком сельского хозяйства. Ежедневно Вашингтон подробно записывал в дневник, что сделано в хозяйстве, а каждую субботу управляющие ферм или плантаций (их было шесть в Маунт-Верноне) представляли подробные отчеты, которые аккуратно подшивались. Т. Джефферсон заметил, что писанина Вашингтона по хозяйственным делам отнимала у него то время, которое другие тратят, чтобы стать начитанными людьми.
Помимо земледелия, другие честолюбивые проекты овладевали Вашингтоном. Он попытался поставить на широкую ногу рыболовство в Потомаке и частично преуспел. Ему пришла в голову идея вывести новую породу овец. Беда заключалась в том, что в Англии существовал запрет на вывоз породистых овец. Вашингтон уважал законы и поэтому не стал покупать контрабандных овец, а ограничился приобретением их потомства. Уже в 1788 году на ферме родилось больше двухсот ягнят. Коневодство также было предметом его особых забот, он необычайно гордился своим выездом — шестерка прекрасных коней, верховыми лошадьми. Как-то Вашингтон загорелся вывести невиданную породу мулов.
Он подробно рассказывал, как мул (требующий меньше корма) сделает лошадь «устарелой» в Вирджинии, и божился, что стоит ему заполучить производителя, как табуны мулов заполнят плантацию. От них проходу не будет! И вообще, хвастался энтузиаст, «через несколько лет я буду запрягать в карету только мулов». Восторги Вашингтона по поводу дивных животных достигли ушей престарелого короля Испании. В Мадриде хотели обзавестись могущественными друзьями в США (на юге и западе они граничили с испанскими владениями) и по высшим государственным соображениям решили одарить Вашингтона парой ослов на развод. Королевский двор придавал акции такое значение, что преступил закон — из Испании категорически запрещался вывоз породистых производителей.
Радостное и неожиданное известие о том, что ослы следуют на корабле в Америку, привело Вашингтона в сильнейшее волнение. Он отправил в Бостон доверенного представителя с пространной диспозицией, как встретить и доставить в Маунт-Вернон благородных животных с сопровождающими испанцами. С не меньшей тщательностью, чем составлялись военные планы, предписывалось нанять переводчика, предусматривались все случаи в дороге, включая «количество и качество вина», коим надлежало поить испанцев. Один осел сдох на корабле, другой в центре кавалькады торжественно прибыл в Маунт-Вернон, где животному оказали пышный прием. Вашингтон назвал его Ройал Гифт (Дар Короля) и велел запустить в загон, где тридцать три кобылицы ожидали заморского гостя. Вашингтон примостился у изгороди, дабы наблюдать труды Ройала Гифта во славу Вирджинии.
Несмотря на внушительные достоинства, возбудившие высокие надежды в Маунт-Верноне на основание новой породы, выходец из Испании отвергал прелестных американок. День за днем Вашингтон тщетно ждал, когда Ройал Гифт приступит к делу, но упрямое животное с отвращением отворачивалось от кобылиц. Вашингтон сообщил Лафайету, что, наверное, в королевском стойле в Мадриде он приобрел привычки придворного. Наблюдая за упрямцем, Вашингтон заподозрил, что посланец короля считает себя выше «республиканских удовольствий… полон осознания королевского величия, чтобы иметь что-нибудь общее с расой плебеев».
Вашингтона, уставшего быть праздным наблюдателем, осенила идея — к Ройалу Гифту привели ослицу. Великий экспериментатор усложнил опыт — к Ройалу Гифту сначала подводили ослицу, приводившую его в экстаз, а затем стремительно подменяли кобылицей, и мул, хотя «и медленно», огорчался Вашингтон, но «верно» выполнял свое дело.
Лафайет включился в игру, прислав несколько ослов другой породы, раздобытых на Мальте. Вашингтон тешил себя надеждой, что от этих животных пойдет более изящная порода, чем от могучего Ройала Гифта. Наконец в Маунт-Верноне завелся табун мулов. Вашингтон пытался заинтересовать соседей, расхваливая достоинства невиданных животных. «Но было больше забавы и смеха, чем для меня прибыли», — сокрушался новатор. Во всяком случае, нигде не зарегистрировано, чтобы Вашингтон выезжал в карете, запряженной мулами.
«Сельское хозяйство и деревенские забавы, — писал Вашингтон, — всю мою жизнь были самым приятным занятием и лучше всего соответствовали моему характеру». Забав было много, в том числе травля лис, скачки и пр., но мечта о прибыльной плантации не сбылась. На истощенной земле Вирджинии сказочных урожаев не получалось, а из собранного лучшее, как саранча, поедали толпы гостей, большая часть оставшегося шла арендаторам, «кабальным слугам», рабам и многочисленной дворне. Если до войны Маунт-Вернон все же носил характер товарного хозяйства, то, когда к «сельским радостям» вернулся генерал, горевший испробовать в поле идеи, родившиеся в дыму сражений, дела пошли весьма посредственно. В 1787 году плантатор заключил: «Мое хозяйство последние одиннадцать лет не могло свести концы с концами». Новатор не был во всем виноват, Маунт-Вернон пришел в запустение, пока он воевал. Пришлось добывать деньги (не на хлеб насущный, конечно) и другими занятиями.
Вашингтон никогда бы не узнал, во что лично обошлась ему война за независимость, если бы не Тобиас Лир. Тонкогубого, не по годам серьезного молодого человека президент Гарвардского университета рекомендовал герою в качестве доверенного секретаря и учителя для внуков. Лир приехал в Маунт-Вернон, как подобает самовлюбленному интеллигенту, внутренне ощетинившись, готовый отстоять свое достоинство перед великим человеком, нигде не уступить ни на дюйм. Он не слуга. Первые недели оправдали самые худшие предположения — Вашингтон был сух, надменен и высокомерно цедил слова. Лир уже было подумывал уехать, как внезапно перед ним раскрылся другой Вашингтон, каким он был со своими, — чарующе простой человек, весельчак, способный, часами потягивая вино, болтать о пустяках. Присмотревшись к молодому янки, судорожно цеплявшемуся за собственное достоинство, плантатор-южанин счел, что он хороший парень, хотя и с Севера. Стоило Лиру войти в семью, как к нему стали относиться как к сыну.
Первоначальный страх Лира перед Вашингтоном превратился в безмерное обожание, и почти все годы, вплоть до смерти Вашингтона, работящий и умный янки был его правой рукой. Лир разобрал деловые бумаги Вашингтона, накопившиеся за годы войны, и подбил итог — убытки составили по меньшей мере десять тысяч фунтов стерлингов, больше, чем компенсировал полководцу конгресс. Да и не по этой статье расходов.
Коль скоро Маунт-Вернон не обещал обогатить семью, Вашингтон задумал честолюбивый план пустить в оборот принадлежавшие ему земли в бассейне Огайо. Он дал в газеты объявления, предлагая селиться на его землях — первые три года без всякой платы, но с условием: из каждых сорока гектаров два гектара расчищаются, и ставится «комфортабельный» дом. Аренда на 999 лет! Вашингтон загорелся объехать свои владения. Район Канауха пришлось сразу исключить — там индейские племена были на тропе войны, но до земель за хребтом Блю-Ридж, западнее Аллеган, рукой подать. По разумению и силам Вашингтона, в сентябре 1784 года с группой близких и слугами («я не брал никого, кто мог устать и затруднить мое путешествие») он верхом проехал свыше 1000 километров за 34 дня.
У него вошло в привычку говорить о подступающей старости, но путешествие, напоминавшее затянувшийся пикник, едва было бы по силам старику. Запаслись вином, приправами к еде, столовым серебром. Не забыли рыболовные снасти. Ехали весело, только дела на землях Вашингтона выглядели невесело для владельца.
Некий Симпсон, арендовавший мельницу (чуть не единственную в этих краях), надул Вашингтона, по скромной оценке, на тысячу фунтов стерлингов. Он многие годы не платил арендную плату. Продать мельницу с аукциона не удалось, местные жители были настроены враждебно. Они были скваттерами и яростно схватились с Вашингтоном. Им было безразлично, что перед ними Отец Страны, они только знали, что больше десяти лет обрабатывали участок земли свыше тысячи гектаров, а теперь нежданно-негаданно явился хозяин с абсурдным требованием арендной платы. Вашингтон посетил все тринадцать ферм, методически отметил, что сделано, и начался отчаянный торг. Стороны ссылались на бога, справедливость и не договорились. По преданию, один из скваттеров, местный мировой судья, оштрафовал Вашингтона за сквернословие.
Он уехал ни с чем и подал иск в суд. Через два года дело было решено в пользу Вашингтона. В 1796 году он продал весь участок, стоивший ему в свое время 55 долларов, за 12 тысяч долларов. Удалось реализовать и некоторые другие земли на западе, но великого богатства он не приобрел. Вашингтон не избег участи бывших офицеров континентальной армии. Ему пришлось расстаться с частью сертификатов, выданных конгрессом за службу главнокомандующим. Спекулянты приобрели их за пять процентов нарицательной стоимости. Если судить по размерам недвижимой собственности, Вашингтон по американским критериям был несметно богат, но, как и любой другой плантатор, он всегда страдал от недостатка наличных денег.
Хотя Вашингтон клялся, что никогда больше не коснется государственных дел, его личные предприятия неизбежно и в возрастающей степени зависели от судьбы всей страны. Поездка на запад вызвала у него тягостные опасения — за кем пойдут скваттеры? Население в этих районах к 1785 году перевалило за пятьдесят тысяч, занятых почти поголовно сельским хозяйством. Доставлять свои продукты на восток им было практически невозможно — стоимость транспортировки была чудовищной. Но они могли легко найти выход для своей продукции на север по рекам и на юг по Миссисипи. На севере в этом случае были бы установлены тесные связи с англичанами, а на юге с испанцами, закрывшими по условиям Парижского мира 1783 года устье Миссисипи. Последствия всего этого представлялись Вашингтону грозными.
«Страны связывает друг с другом, — писал он, — только интерес. Без этого цемента население западных территорий, которое неизбежно будет состоять в большей части из иностранцев, отнюдь не предпочтет нас. Мы можем привязать их к себе только торговыми связями… Поселенцы на западе стоят на распутье. Даже прикосновение пера может повернуть их в любую сторону… Надеюсь, что не потребуется много времени для открытия путей сообщения между атлантическими штатами и западными территориями». Прежде всего по этим соображениям он вернулся к старому плану — соединить каналом Потомак с верховьями рек бассейна Огайо.
То было громадное предприятие, потребовавшее поддержки легислатур Вирджинии и Мэриленда. Вашингтон убедил законодателей, и весной 1785 года на совещании в Маунт-Верноне была учреждена «Компания реки Потомак». Инициатор был вынужден стать ее президентом. Ассамблея Вирджинии вотировала вручить Вашингтону увесистый пакет акций компании, что поставило его в тупик. В горячке работы — бесконечные совещания, осмотр местности и даже рискованное обследование порогов Потомака в каноэ — Вашингтон меньше всего думал о предприятии с финансовой точки зрения. Он мыслил категориями штата и страны. Свое основное достижение Вашингтон видел в том, что побудил согласиться подозрительные, враждующие легислатуры двух штатов, откуда могло вырасти сотрудничество и других штатов в торговле и пр., и на тебе деньги!
Совместимо ли это с его достоинством? Вашингтон разослал письма друзьям, прося совета. Он заверял: «Я хочу, чтобы мои действия, являющиеся результатом размышлений, были бы свободны и независимы, как воздух, чтобы я мог беспрепятственно (в вопросах, которые знаю) выражать свое мнение и, если необходимо, предлагать меры, соответствующие моим глубоким убеждениям, и если к моим убеждениям могут придраться, чтобы не было ни малейшего сомнения, что никакие зловещие мотивы даже незначительно не повлияли на эти предложения. Как же будет рассматриваться дело глазами мира и что он подумает, если станет известно — Джордж Вашингтон вложил все силы в эту работу и Джордж В… получил двадцать тысяч долларов и пять тысяч фунтов стерлингов общественных денег как свою долю в предприятии».
Уже тогда американские деятели приобретали привычку оценивать себя критериями мирового общественного мнения. Не меньше. Т. Джефферсон, получивший письмо Вашингтона в Париже, где он представлял США вместо Франклина, поддержал тон обращения и серьезно отметил: отказ взять акции, конечно, показал бы «чистоту» намерений Вашингтона, но, если он возьмет пакет, «это ни в коей мере не уменьшит уважение мира» к нему. Как будто мир трепетал в ожидании известий, как именно поделят акции «Компании реки Потомак»! Вашингтон взял акции, передав их опекунам «академии» в Александрии на устройство «двух благотворительных школ для бедных детей, особенно тех, отцы которых пали, защищая родину».
Пока Вашингтон трудился, организуя сотрудничество двух штатов для строительства канала, в стране стремительно раскручивались центробежные силы. Патриоты по инерции твердили, что «дух 76-го года» вызвал к жизни великую нацию; они с большими основаниями могли бы заявить — тот самый дух скорее породил целый выводок — тринадцать крошечных, враждующих наций, готовых вцепиться друг другу в глотки. Конгресс с большой помпой аккредитовал при заморских дворах американских посланников. Англия в восстановлении отношений, в которых США были остро заинтересованы, отказалась ответить взаимностью. Британский министр иностранных дел рассчитанно оскорбительно заметил — потребовалось бы послать в США тринадцать представителей.
Нормализовать отношения с бывшей метрополией, как бы того ни хотел конгресс, было совершенно невозможно, ибо штаты не собирались выполнять постановления Парижского мира 1783 года о выплате долгов английским кредиторам, возвращении собственности лоялистам и прекращении их преследований. В Вирджинии Д. Масон, да и наверняка Вашингтон часто слышали: «Если мы сейчас станем выплачивать долги британским торговцам, тогда за что мы сражались?» Легислатура Вирджинии, а штат в этом отношении не был исключением) приняла законы, препятствовавшие взысканию долгов. Некий легковерный английский кредитор, явившийся в Вирджинию за своими деньгами, зло заявил: члены легислатуры, голосуя за эти законы, стремились сохранить на себе исподнее. Оскорбленные в лучших чувствах патриоты притащили англичанина в зал ассамблеи, пинками и затрещинами заставили стать на колени и извиниться перед высоким собранием. Встав и отряхивая пыль с брюк, неукротимый англичанин возгласил: «Чертовски грязный дом!»
Английские кредиторы так и не получили по своим долгам, достигавшим 5 миллионов фунтов стерлингов. Не была возвращена и собственность, конфискованная у тори, — в общей сложности около 100 тысяч сторонников короны были вынуждены бежать из страны. Патриоты гордились своей непримиримостью, ибо так, им было доподлинно известно, поступали в великом древнем мире. «Как Ганнибал поклялся никогда не заключать мира с римлянами, — вещала массачусетская «Кроникл», — так пусть каждый виг (патриот) поклянется… никогда не заключать мира с этими исчадиями ада… этими ворами, убийцами и предателями».
Последовательно революционная линия в отношении долгов и лоялистов привела к последствиям, которые можно было без труда предвидеть — Англия до выполнения этих постановлений мирного договора отказалась эвакуировать форты на северо-западной границе США и приняла меры, стеснившие американскую торговлю. Купцы и судовладельцы США в свое время поднялись, чтобы сбросить ненавистное иго. Они получили вожделенную независимость, но когда попытались воспользоваться привилегиями, которые колонии раньше имели в рамках Британской империи, то столкнулись с поразившим их обстоятельством — метрополия теперь рассматривала США как иностранную страну. Были закрыты некогда выгодные рынки Вест-Индии, в основном пресечена торговля мехами с индейцами, а королевский указ — вся торговля Англии с Америкой будет вестись на британских судах — означал катастрофу для судовладельцев Новой Англии.
Американская буржуазия бесновалась, раздавались голоса в пользу возвращения к эмбарго на торговлю с Англией. Нью-Йорк ввел двойную пошлину на все английские товары. Массачусетс, Род-Айленд и Нью-Хэмпшир запретили экспорт на английских судах и обложили товары из Англии пошлиной в 400 процентов. Южные штаты не оценили патриотизма Новой Англии, заподозрив, что судовладельцы просто хотят избавиться от конкурентов и драть три шкуры за перевозку грузов с юга, а Коннектикут объявил, что в его портах нет никаких пошлин! Масла в огонь подлили переговоры Д. Джея (считавшегося главой зачаточного ведомства по иностранным делам) с Испанией: в августе 1786 года он подписал договор, согласившись в обмен на торговый договор с закрытием устья Миссисипи. На западе и юге негодовали, Новая Англия предала их. В Вирджинии и штатах, лежавших южнее, зрело убеждение, что, если договор войдет в силу, они выйдут из конфедерации. В поселениях в Кентукки решили в этом случае отдаться под покровительство Британии. Договор, правда, не прошел, за него отдали голоса в конгрессе представители только семи штатов (для ратификации требовалось девять), но недобрые чувства углубились, США на глазах превращались в Разъединенные Штаты.
Вашингтон с сокрушенным сердцем наблюдал за происходившим. Он был прекрасно информирован — поток писем из Нью-Йорка, где обосновался конгресс, от друзей, рассеявшихся по стране, и из Европы. Он исповедовал доктрину, которая, как казалось ему, господствовала в Римской республике, — народ добродетелен и, сбросив путы английской тирании, в конце концов выйдет на широкую дорогу к счастью. Но события с каждым днем убеждали — что-то долго не нащупывают твердой почвы под ногами и все бродят в потемках по окольным тропинкам.
В письмах Вашингтона начинает звучать тревога. Уже в октябре 1785 года он пишет: «Соперничество и местничество слишком сильно сказываются во всех наших общественных советах, чтобы возникло доброе правление союзом. Одним словом, конфедерация представляется мне тенью без сущности, а конгресс зыбким органом, на постановления которого почти не обращают внимания… С высот, на которых мы стояли, мы спускаемся в мрачную долину смятения». Действительно, штаты перестали рассматривать конгресс даже как совещательный орган, из 91 члена на заседаниях было не более 25, Делавэр и Джорджия решили, что посылать своих представителей в конгресс — пустая трата денег.
То, что государство, еще не став на ноги, разваливается, не вызывало сомнений. Штаты начали возводить друг против друга тарифные стены, приступили к бездумной эмиссии бумажных денег. Да, вздыхал Вашингтон, США похожи «на молодого наследника, который несколько преждевременно вступил в права большого наследства». Множились советы, что нужно сделать для спасения страны. Вновь пошли разговоры, ненавистные Вашингтону. В августе 1786 года он пишет: «Какие удивительные изменения могут произойти в считанные годы! Мне говорят, что ныне даже уважаемые люди без ужаса говорят о монархической системе правления. Размышление, затем речь, отсюда до действия часто один только шаг. Но роковой и громадный! Какой триумф для наших врагов — их предсказания оправдываются! Какой триумф для сторонников деспотизма обнаружить, что мы не способны управлять сами собой и система, основанная на равной свободе, просто идеал и ложна! Молю бога, чтобы своевременно были предприняты мудрые меры, дабы предотвратить последствия, которых мы имеем все основания опасаться».
Об этих мерах уже хлопотали влиятельные и консервативно настроенные люди — А. Гамильтон и Д. Мэдисон выражали их мнение. Ясно обозначилось стремление изменить «Статьи конфедерации», оформить централизованную власть. В противном случае имущие классы опасались того, что они именовали «анархией», а в действительности — возобновления революции, осуществления на практике торжественно декларированных принципов «свободы». Если хаос в хозяйственной жизни больно бил по карману людей состоятельных, то что говорить о неимущих! Ими быстро овладевало отчаяние, а виновники, спекулянты и богачи, были не за океаном, как в период войны.
По приглашению Вирджинии в сентябре 1786 года в Аннаполисе собрались представители пяти штатов, остальные не откликнулись. Им предстояло обсудить вопросы торговли и, добавили посланцы Нью-Джерси, «другие важные дела». Гамильтон, приехавший из Нью-Йорка, и вирджинец Мэдисон быстро увели толковище от обсуждения торговли (в любом случае пять штатов ничего не могли решить за конфедерацию) в сторону критики пороков существовавшей системы правления. Они убедили собрание пригласить все штаты на конвент в мае 1787 года для изменения «Статей конфедерации».
Вирджинцы открыли список своих делегатов на предстоявший конвент именем Вашингтона, хотя и не озаботились получить его согласие.
Было самое время — осенью 1786 года вспыхнуло восстание Шейса. Ветеран войны за независимость, отставной капитан континентальной армии Даниел Шейс возглавил недовольных фермеров и ремесленников Массачусетса. Чаша терпения бедного люда переполнилась — бесконечные притеснения судов, изъятие за долги земли, скота, а для обанкротившихся — долговая тюрьма. Массачусетцы, затвердившие великие принципы войны за независимость, сопоставляли их с действительностью. Выходило, что они сражались и страдали ради бесстыдных спекулянтов. Восставшие начали с нападений на суды, сжигая дела о взыскании долгов и освобождая должников из тюрем. В Уорчестере Шейс с сотней сторонников силой помешал открыть судебную сессию. Ополчение, вызванное для разгона бунтовщиков, перешло на их сторону. С величайшей быстротой восстание распространялось по Массачусетсу. Власти были повергнуты в панику, губернатор отказался от своего поста.
Цепенящий страх заползал в сердца имущих, круги от происходящего достигли Маунт-Вернона. Вашингтон жадно читал газеты и письма, сообщавшие о том, что уже перестало быть новостями. «Ради бога, — пишет Вашингтон одному из своих корреспондентов, — скажи мне честно, в чем причина волнений, происходят ли они от распущенности, являются результатом подстрекательства англичан через тори или проистекают из действительных несправедливостей, которые можно исправить? Если верно последнее, тогда почему затянули их исправление и довели до такого возмущения людей? Если же верно первое, тогда почему не была немедленно употреблена власть?»
Военный министр Нокс, посланный конгрессом в западный Массачусетс, сообщил Вашингтону — восставшие жалуются на тяжесть налогов, но это не истинная причина, «ибо они либо совсем не платили налогов, либо платили ничтожно мало. Они видят слабость правительства, ощущают свою бедность по сравнению с зажиточными и собственную силу, они преисполнены решимости употребить последнюю, чтобы выправить первое». Они хотят «ликвидировать все долги, общественные и частные», заставив принимать бумажные деньги наравне со звонкой монетой. Их кредо: «Собственность США была защищена от захвата Британией совместными усилиями всех и поэтому должна быть общей собственностью всех. Противящиеся этому кредо являются врагами равенства и справедливости и должны быть стерты с лица земли». Нокс считал, что пятая часть населения нескольких графств Массачусетса стоит за восставших, а их активные силы оценивал в 10–15 тысяч человек, то есть больше, чем обычно имела континентальная армия в годы войны.
Восставшие хотели захватить континентальный арсенал в Спрингфилде, где было до 15 тысяч мушкетов «в отличном состоянии», вооружиться и идти осаждать Бостон. Охрана арсенала несколькими жестянками картечи отбила восставших. Они рассеялись по Массачусетсу, продолжая громить суды и толковать о равенстве. Вашингтон переслал письмо Нокса Мэдисону, последний дал еще более пессимистическую оценку обстановки. Он настаивал, что конечный итог эксперимента с демократией в Америке — насильственный захват собственности беднейшими классами. Вашингтон считал, что в Вирджинии пока «царит спокойствие», но «горючий материал есть в каждом штате». Он с величайшей тревогой отметил: среди бывших офицеров, товарищей по оружию распространяется убеждение — только «Общество Цинцинната» может стать противовесом восстанию Шейса. Вашингтон получил приглашение на очередное ежегодное собрание общества в Филадельфии, намеченное на первый понедельник мая 1787 года. Он ответил, что не приедет, равно как не считает возможным переизбираться президентом. Пуще огня он боялся обозначившейся тенденции — ответить экстремизмом на противоположном конце политического спектра экстремизму, охватившему Массачусетс.
В воздухе носились различные идеи — Штебен по негласному поручению президента конгресса Н. Горхэма обратился к принцу Генриху Прусскому с просьбой ответить, не хочет ли он стать конституционным монархом в США. Конечно, шансы Генриха были ничтожны, но само обращение — показательный симптом смятения правящих классов. От имени конгресса друзья убеждали Вашингтона покончить с затворничеством, поспешить на север, и, как писал ему Г. Ли, «ваше безграничное влияние… ваше появление среди смутьянов может привести к примирению». Вашингтон на ряд обращений в таком духе сухо ответил: «Влияние — не правление». Если восставшие имеют законные причины для недовольства, устраните их. Если таковых нет, «немедленно употребите силу правительства».
Власти штата собрали наконец ополчение — 4,5 тысячи человек под командованием генерала Линкольна, которое было снаряжено на пожертвование бостонских богачей. В начале 1787 года восставшие были рассеяны. 13 руководителей во главе с Шейсом схвачены и приговорены к смертной казни, но вскоре амнистированы.
Ликвидация восстания отнюдь не успокоила людей состоятельных. Они благословляли решительных бостонцев, но помнили: когда конгресс попытался собрать континентальные войска и направить их против Шейса, законодатели в обращении к штатам не решились назвать истинную причину — они писали, что солдаты нужны-де для войны с индейцами. Пламя восстания в Массачусетсе, по всеобщему мнению, было только притушено. Южная Каролина и Род-Айленд стояли на пороге взрыва, ибо причины, поднявшие на борьбу массачусетцев, существовали в этих, как, впрочем, и в других штатах.
Вашингтон, недоумевая, почему зловещее восстание было подавлено с «небольшим кровопролитием», терзался опасениями за будущее. Он был не одинок. Мэдисон выразился точно — недовольство распространяется, страна идет «к какому-то ужасному кризису», с точки зрения правящих классов, разумеется.
Д. Джей, находившийся в гуще событий, писал Вашингтону, наслаждающемуся прелестями сельской жизни: грядет «революция». Он объяснил: «Люди в массе не мудры и не хороши, добродетель, как и другие ресурсы страны, может проявиться только на переломе, созданном умелым маневрированием, или вызвана к жизни сильным, талантливо руководимым правительством». Вашингтон был согласен, хотя не в связи с откровениями Джея. В это время он сам философствовал: «Мы, вероятно, придерживались слишком хорошего мнения о человеческой натуре, когда основывали конфедерацию. Опыт, однако, научил нас, что люди не примут и не будут выполнять меры, наилучшим образом рассчитанные для их собственного блага, без принуждения. Я не думаю, что мы сможем долго просуществовать как нация, не установив эффективной власти над всем союзом».
Одно дело философские рассуждения, другое — действия, а их настойчиво требовали от Вашингтона. Он подвергался постоянному давлению, расстояние от Нью-Йорка и Филадельфии до Маунт-Вернона не имело решительно никакого значения — умоляющие письма будоражили, его буквально прижимали к стенке. Будь кем угодно — диктатором, монархом, но возвысь голос в смятенной стране.
Он сердился. Перед Джеем, который, как и другие, звал Вашингтона вернуться к государственным делам, он открылся: «Хотя я ушел от мира, я искренно признаю, что не могу чувствовать себя посторонним зрителем. Однако, благополучно приведя корабль в порт и получив полный расчет, теперь не мое дело снова отправляться в плавание по бурному морю». Больше того, никто не прислушался к совету, «данному мною в прощальном послании самым торжественным образом. Тогда я в какой-то мере мог претендовать на внимание общественности. Теперь у меня на это оснований нет».
Никто, как Вашингтон, не знал лучше губительных последствий межштатных распрей, соперничества, продиктованного узкоместническими интересами. Главнокомандующий континентальной армии 11 раз обращался с циркулярными письмами к штатам и не менее 30 к некоторым из них, умоляя и взывая думать о стране в целом. В последнем циркуляре от 8 июня 1783 года, который Вашингтон помянул в письме Джею, было сказано: «Я по скромному разумению считаю, что для благополучия, осмелюсь даже сказать — для существования Соединенных Штатов как независимой державы жизненно необходимы четыре вещи: 1. Нерасторжимый союз штатов под руководством одного федерального главы. 2. Священное уважение к судебной системе. 3. Создание Надлежащей армии. 4. Господство среди народа Соединенных Штатов мирного и дружественного настроения, которое побудит его забыть местные предрассудки и политику, сделает взаимные уступки, необходимые для всеобщего благосостояния, и в некоторых случаях пожертвует своими индивидуальными выгодами в интересах общества».
Инструмент единства страны — континентальную армию распустили, а с ней пошли по ветру внушения главнокомандующего. Хотя он задним числом оказался прав, правота эта вызывала только горечь — оттого что неразумные пропустили мимо ушей его разумные советы, воспоследствовали шатания в потемках, свирепые удары восстания Шейса. Наверняка, рассуждал Вашингтон, восстание только острие широкого клина недовольства.
Всю зиму 1786/87 года он терзался — ехать или не ехать на конвент в Филадельфию. Постфактум сомнения просто непонятны — речь шла о конституционном конвенте, давшем США конституцию, по которой они живут по сей день. Вашингтон не мог знать этого, тогда он был склонен считать, что повторится толковище в Аннаполисе — штаты Новой Англии не пришлют представителей, новое сборище объявят фикцией, если не заговором. Ехать? Но то самое прощальное послание 8 июня 1783 года заверяло: «Я возвращаюсь к домашнему очагу, что, как известно, я оставил с величайшей неохотой, я не переставал в течение всего длительного и мучительного отсутствия вздыхать о доме, где (вдалеке от шума и тревог мира) я проведу остаток жизни в полном покое». Появиться в Филадельфии означало прослыть нарушителем слова. Наконец он уже отказался приехать на собрание «Общества Цинцинната», которое, как в насмешку, созывалось в Филадельфии почти в те же дни, что и конвент.
Но другая мысль овладела Вашингтоном — если не поехать, отказ отнесут за счет «презрения к республиканизму», желания дождаться падения правительства, с тем чтобы самому взять бразды правления и установить «тиранию». Поездка неизбежна. Как всегда бывало в жизни у Вашингтона, приняв решение, он больше не колебался, и даже ревматизм оставил его. Когда 8 мая 1787 года при свете свечей он садился в карету у дверей дома, раздражала только одна мысль: «Г-жа Вашингтон стала домоседкой и настолько поглощена внуками, что не может ехать».
В который раз торжественная встреча в Филадельфии — перезвон: колоколов, орудийные залпы. Любезнейший Роберт Моррис, считавшийся первым богачом страны, приютил Вашингтона в своем трехэтажном доме-дворце. Маунт-Вернон показался скромным домиком по сравнению с резиденцией финансиста.
14 мая, в день открытия конвента, пунктуальный Вашингтон явился в тот же дом, где двенадцать лет назад его назначили главнокомандующим. Через широкие окна солнце заливало почти пустой зал — явились делегации только Вирджинии и Пенсильвании. Доверенные «кабальные слуги» внесли кресло с престарелым Б. Франклином. Конвент, или, как именовал его Джефферсон, «ассамблея полубогов», собирался медленно. День за днем Вашингтон без толку ходил в зал. Только 25 мая набрался необходимый кворум — представители семи штатов, и конвент открылся. Когда подоспели опоздавшие, «полубоги» оказались в полном сборе — 15 плантаторов-рабовладельцев, 14 банкиров, 14 землевладельцев и спекулянтов землей, 12 торговцев, промышленников и судовладельцев, всего числом 55.
Они и взялись составлять новую конституцию для себя и страны. На первом заседании президентом конвента единодушно избрали Джорджа Вашингтона. Он извинился за неопытность, заранее попросил снисхождения за ошибки, которые сделает, и сел в кресло, занимавшееся в годы войны номинальным главой государства — президентом конгресса. «Полубоги» с острым любопытством осмотрели Вашингтона в новой роли гражданского вождя и остались очень довольны. Разве не напоминал он, заметил член вирджинской делегации В. Пирс, «спасителя страны, подобного Петру Великому… политик и государственный деятель, сущий Цинциннат?».
С не меньшим удовлетворением Вашингтон смотрел на собравшихся — в зале нет шумных теоретиков: Пейн, Джефферсон и Д. Адамс в Европе, С. Адамс не назначен в конвент, а П. Генри не приехал. Среди присутствующих четыре бывших офицера штаба Вашингтона, тринадцать офицеров континентальной армии и тринадцать офицеров ополчения. В подавляющем большинстве люди дела. Как таковые они сразу постановили — чтобы не было кривотолков, работать втайне. Ничто не должно выходить за плотно закрытые двери конституционного конвента.
Вашингтон задал тон. Ему подали бумажку с какой-то резолюцией, найденную в таком месте, где ее мог подобрать посторонний. Все заседание он крепился, а когда оно заканчивалось, дал волю обуревавшим его чувствам. Вытащив и подняв над головой смятый клочок, побледневший Вашингтон произнес сдавленным голосом: «Прошу джентльменов быть более аккуратными, чтобы наши дела не стали достоянием газет и не растревожили общественное спокойствие преждевременными предположениями. Пусть тот, кому принадлежит документ, возьмет его!» Он бросил злосчастную бумажку на стол и, повествует Пирс, «поклонился, взял шляпу и вышел из зала с таким суровым достоинством, что все были встревожены… Поразительно, что никто из присутствующих не признался, что документ принадлежит ему».
Сохранение тайны было жизненно необходимо, ибо затевалась коренная перестройка правительства. «Вирджинский план», подготовленный делегацией от штата и одобренный Вашингтоном, предусматривал создание сильного правительства. Затея была незаконная — конгресс, продолжавший работать в Нью-Йорке, ограничил компетенцию конституционного конвента только внесением изменений в «Статьи конфедерации». Вашингтон же взялся председательствовать над трудами людей, занявшихся тем, что в других условиях с достаточными основаниями было бы квалифицировано государственным переворотом. Иного выхода, понимал Вашингтон, не было. Как он говорил: «Правительство потрясено до самой основы, оно падет от дуновения ветра. Одним словом, ему пришел конец, и, если не будет быстро найдено лекарство, неизбежно воцарятся анархия и смятение».
Когда на конвенте был оглашен «вирджинский план», раздались голоса протеста — народ-де не примет радикальных изменений, нужно ограничиться полумерами. Вашингтон сказал (то была одна из двух речей, произнесенных им на конвенте): «Более чем вероятно, что ни один из предлагаемых здесь планов не будет принят. Возможно, что нам придется пройти еще через один ужасающий конфликт. Но если мы с целью понравиться народу предложим то, что сами не одобряем, как мы сможем защитить собственную работу? Давайте поднимем штандарт, к которому соберутся мудрые и честные. Дело в руках бога». Точнее, в руках Мэдисона, который напичкал Вашингтона премудростью, почерпнутой из жухлых книг. Мэдисон был подлинным отцом конституции, сумевшим облечь прозаические интересы по-молодому алчной американской буржуазии в пристойные формы, восходившие к временам Древнего Рима и Греции.
Тридцатисемилетний Мэдисон, большеголовый, с короткими и худыми ногами, обычно одетый в черное, внешне производил странное и пугающее впечатление. Эпилептик, убежденный холостяк, он провел свою жизнь затворником, корпел над старыми книгами и манускриптами, доискиваясь, в чем именно мудрость правления для того общества, к которому принадлежал, — земельной аристократии Вирджинии. У него хватило здравого смысла обожать Вашингтона и понимать, что точно воспроизвести в век Просвещения олигархическую республику античных времен немыслимо, не говоря уже об американской вольнице. Задуманная им система правления в США, как она существует с незначительными изменениями по сей день, имела в виду за тяжеловесным фасадом демократии обеспечить интересы имущего меньшинства. Он оказался искусным в софистике, разъясняя, например, поборнику аграрной демократии Джефферсону, что везде, где существует власть, есть угроза угнетения. В Америке опасность в установлении тирании масс над имущим меньшинством. «Нужно прежде всего опасаться нарушения прав частной собственности», — заключал он.
Речи Мэдисона о святости частной собственности, необходимости ее охраны, для чего и нужно сильное федеральное правительство, звучали сладкой музыкой в ушах Вашингтона. Он согласно кивал головой, одобрительно улыбался. Гримасы председательствующего, по-прежнему не раскрывавшего рта, определяли, по крайней мере, тональность выступлений. Когда занялись обсуждением прерогатив будущего главы государства — президента, то, по всей вероятности, решение наделить его широчайшими правами было вызвано натурой перед глазами — восседавшим в председательском кресле Вашингтоном. Пост президента заранее подгонялся под личные качества героя Америки. Вероятно, вера в мудрость Вашингтона освободила по конституции президента навсегда от подотчетности конгрессу.
Конституция отразила бесконечные компромиссы групп и группировок конгресса. Гамильтон, как и следовало ожидать, внушал, что республиканская форма правления не продержится в такой обширной стране, и предлагал брать пример с британской конституции. Спорили о норме представительства больших и малых штатов, таможенных пошлинах и торговле рабами. Иногда казалось, что конвент заходит в тупик. Вашингтон как-то писал Гамильтону, отлучившемуся в Нью-Йорк: «Одним словом, я почти отчаялся в том, что наш конвент придет к благоприятному исходу, и поэтому раскаиваюсь, что принял участие в этом деле». Но постепенно спорившие приходили к согласию, ибо их разъединяли лишь методы обеспечения святая святых — частной собственности. Даже проблемы, носившие на первый взгляд лишь эмоциональный характер, решались в конечном счете с учетом прежде всего экономических интересов.
Один только пример — работорговля. В конституции записали, что ввоз рабов в страну будет запрещен после 1808 года. Это было вызвано отнюдь не высшими альтруистическими соображениями, а трезвым экономическим подсчетом. Делегат конвента Эллсворс сказал: «В Вирджинии и Мэриленде рабы размножаются очень быстро, и дешевле выращивать их, чем ввозить, однако в губительных болотах необходим приток рабов из-за рубежа… Поэтому (запретив немедленно ввоз рабов. — Н. Я.) мы будем несправедливы к Южной Каролине и Джорджии. Давайте не смешивать. По мере роста населения количество бедных рабочих настолько возрастет, что сделает бесполезными рабов». Конституция оставила институт рабства в неприкосновенности, а южные штаты согласились с тем, что будущий конгресс сможет вводить протекционистские товары. Это было выгодно буржуазии северных штатов.
Проблема долгов конгресса и штатов была решена в интересах крупных спекулянтов, скупивших по оценке Ч. Бирда обязательств, по крайней мере, на 40 миллионов долларов, то есть две трети тогдашней общей задолженности в США. Теперь бумажки подлежали оплате звонкой монетой. Штатам отныне запрещался выпуск бумажных денег, эмиссия валюты становилась исключительной прерогативой федерального правительства. Ч. Бирд, исчерпывающим образом рассмотрев работы конституционного конвента, заключил: «Подавляющее большинство делегатов, по крайней мере пять шестых, были непосредственно, прямо и лично заинтересованы в исходе их трудов в Филадельфии и в большей или меньшей степени экономически выиграли от принятия конституции». И с ними Вашингтон.
Облекая в жарких спорах в пышную фразеологию меркантильные интересы, конвент как-то забыл, что собирались основать Демократическую республику. Когда текст конституции был отпечатан и роздан для окончательного утверждения, старый друг и политический наставник Вашингтона накануне войны за независимость Масон предрек: планируемое правительство кончит «либо монархией, либо коррумпированной тиранической аристократией». Где «билль о правах», спрашивал он, и немногие диссиденты? Документ, доказывал Масон, «составлен за спиной народа и не считаясь с ним». Он предложил огласить конституцию и провести затем еще один конвент, чтобы внести в нее необходимые поправки. Вашингтон был ошеломлен — и этим увенчались четырехмесячные труды! Подавляющее большинство высказалось за то, чтобы предложить конституцию, пусть несовершенную, стране. Это необходимо, подчеркнул Пинкни, «учитывая опасность всеобщего смятения и возможность конечного решения мечом». Вашингтон горячо согласился. Проспорив семь часов, постановили — конституцию можно дополнять поправками.
17 сентября 1787 года конституционный конвент завершил работу. Текст конституции направили конгрессу для рассылки штатам, а протоколы конвента, остававшиеся секретными, поручили хранить надежному Вашингтону. С тем и разъехались.
Конституционный конвент даже отдаленно не был демократическим собранием. Делегатов назначали легислатуры штатов, а не избирали на местах, пусть даже ограниченным (из-за имущественного ценза) числом избирателей. Процедура предстоявшей ратификации — для вступления в силу было необходимо согласие девяти штатов — была задумана так, чтобы массы не сказали свое слово. В штатах надлежало избрать конвенты, которым и предстояло высказаться по поводу конституции. Конвенты избирались на основе существовавшего порядка — избирателями могли быть только белые мужчины, имевшие высокий имущественный ценз. Бедняки, неграмотные, женщины и негры избирательных прав не имели. В округленных цифрах в выборах конвентов приняло участие 160 тысяч человек, пять процентов от всего населения или один из каждых четырех-пяти белых мужчин.
Споры, развернувшиеся по всей стране с обнародованием конституции, практически что-либо значили только для этих 160 тысяч. Остальным полагалось безмолвствовать, пока ораторы и писаки надрывались, толкуя о великих принципах, осеняющих путь освобожденного народа.
Пока «отцы-основатели» ссорились, спорили и соглашались за наглухо закрытыми дверьми конституционного конвента, по стране уже распространялись слухи и дикие предположения, что там решат. Поговаривали, что предложат корону сыну Георга III, иные доподлинно знали — из чувства благодарности пригласят править принца французского королевского дома. Конституция положила конец пустым разговорам, но дала пищу для новых предположений. Многие и многие не были довольны проделанным в Филадельфии. Ричард Генри Ли презрительно отозвался в конгрессе — то дело рук «молодых мечтателей».
Вашингтон, вернувшись в Маунт-Вернон, первым делом послал текст конституции нескольким уважаемым лидерам штата. П. Генри коротко ответил, что «не может примириться с предложенной конституцией». Б. Харрисон был многоречив, но не менее категоричен: «Если наше положение не катастрофично, боюсь, что лекарство окажется хуже болезни… Мои возражения в основном направлены против неограниченного права налогообложения, регулирования торговли и юрисдикции, которые вводятся во всех штатах независимо от их законов. Меч и такие права уже по самой природе вещей рано или поздно создадут тиранию, не уступающую триумвирату или сентумвирату Рима».
Бремя пропаганды идей конституции взяли на себя Гамильтон, Мэдисон и Джей, основавшие газету «Федералист». Вашингтон был в восторге — он прочитывал листок от корки до корки, ибо «Федералист» отвечал его убеждению, для успеха дела нужны «хорошие перья». Он бы сам взялся писать, но признался, что «не имел склонности и еще меньше таланта для писанины». Дело было не только и не столько в этом — Вашингтон считал полезным быть официально выше распрей между федералистами или антифедералистами. Хотя он с величайшим удовольствием рассылал друзьям листок, издававшийся единомышленниками (при условии, что они сохранят это в тайне), отстаивал их точку зрения в личной переписке, его публичных заявлений не слышали. Вероятно, то был самый разумный образ действия — тень молчаливого гиганта падала на всю страну. Никто не сомневался, на чьей стороне лежали его симпатии, а детали… то дело людей поменьше.
Под псевдонимом «Публий» в «Федералисте» изощрялся Гамильтон. Ратуя за сильное правительство, он убеждал: «Буря, от которой едва оправился Массачусетс, показывает, что опасности такого рода носят отнюдь не предположительный характер. Кто может сказать, какой результат дали бы недавние потрясения, если бы недовольных возглавлял Цезарь?» Публий-Гамильтон, как и другие государственные мужи едва становившейся на ноги республики, все примерял тогу героев Рима… Мэдисон говорил куда более современным языком, доказывая в «Федералисте»: «Разница в способностях людей, отчего проистекают права собственности, является немаловажным препятствием для единства интересов. Первая цель правительства — защита этих способностей… Самый обычный и прочный источник раздоров — это различное и неравное распределение собственности. Имеющие собственность и не имеющие ее всегда имели отличные интересы… Регулирование этих различных и противоречивых интересов составляет главную задачу современного законодательства».
Прекрасные изъяснения задач нового правительства побудили иных именовать федералистов вашингтонцами, а антифедералистов шейсовцами. Вашингтона и Франклина обычно лично не затрагивали, поборники неурезанного суверенитета штатов только говорили, что «богатые и честолюбивые» обвели первого в делах, в которых солдат ничего не смыслил, а второй дал маху по старости. Об этом твердили авторы бесчисленных памфлетов, наводнивших страну. Впрочем, один из них, защитившийся псевдонимом «Центинел» (все они укрывались под звучными латинскими псевдонимами), утверждал: Вашингтон «прирожденный дурак».
Ратификация затянулась с декабря 1787 года, когда конституцию одобрил Делавэр, до конца июня — именно Вирджиния по прихоти судьбы стала девятым штатом. Если подсчитать голоса, поданные против конституции в конвентах, то оппозиция среди избирателей составляла не менее 60 тысяч человек. Иными словами, голоса 100 тысяч человек дали Соединенным Штатам основной закон.
Считалось само собой разумеющимся, что президентом будет Вашингтон. На праздновании 4 июля в 1788 году доминировал клич: «Вашингтона в президенты!» Как провозгласили на торжественном собрании в Вилмингтоне, штат Делавэр: «Пусть фермер Вашингтон, как второй Цинциннат, бросит плуг и пойдет управлять великим народом!» Никак тогдашние американцы не могли отделаться от классических примеров и аналогий.
Что до будущего президента, то он пребывал в угнетенном состоянии духа. Ему в 57 лет определенно не хотелось ехать в шумный Нью-Йорк, заниматься государственными делами, к которым за годы войны он получил стойкое отвращение. А со всех сторон доказывали, что только Вашингтон может удержать страну от анархии. Особенно усердствовали «мальчишки» — Гамильтон, Мэдисон и даже находившийся за океаном Лафайет. Они знали старика и взывали к его развитому чувству долга. «Во имя Америки, всего человечества и собственной славы, — писал Лафайет, — умоляю вас, дорогой генерал, не отвергайте пост президента в первые годы его существования. Только вы можете пустить в дело политическую машину».
Вашингтон почти с отчаянием открывал ежедневную почту — пачки писем с просьбами дать пост в еще не существующем государственном аппарате! Это было слишком.
Оставалась последняя надежда — быть может, его все же не изберут. Вашингтон сохранял молчание, он не вел кампании в пользу избрания президентом. Но созданная «отцами-основателями» довольно неуклюжая машина президентских выборов не дала осечки. В начале января 1789 года в каждом штате по своей процедуре были выбраны или назначены выборщики, а также избран конгресс. Через месяц они проголосовали: были избраны президентом Д. Вашингтон, а вице-президентом Д. Адамс — единогласно. Соединенные Штаты еще не знали политических партий.
Начало занятий нового конгресса назначили на 4 марта. День пришел, в Нью-Йорке грохнули пушки, зазвонили колокола. Их услышали считанные избранники народа — сенаторы и члены палаты представителей не торопились к месту службы. Разочарованный город стал готовиться взять реванш — зажечь фейерверк в день прибытия в Нью-Йорк президента.
14 апреля в Маунт-Вернон явился секретарь конгресса Ч. Томсон, официально уведомивший Вашингтона, что он избран президентом, а собравшийся наконец конгресс ждет главу государства. Короткая речь Томсона и ответное слово Вашингтона прозвучали в пустом банкетном зале, которым так гордился владелец. 16 апреля Вашингтон отправился в Нью-Йорк. Видевшие его на пути отмечали холодность президента. Он не был в восторге от предстоящих трудов и, несомненно, был погружен в личные дела — весной 1789 года финансовое положение плантации было трудным. Вашингтону пришлось даже занять деньги (которые ему очень неохотно одолжили, ибо он не мог рассчитаться по старым долгам) на дорожные расходы.
Америка радушно встречала и провожала президента. В каждом местечке ожидал очередной комитет граждан, напутствовавший его неторопливыми речами, в карету впрягали лучших лошадей, неизменно пугавшихся пушечной пальбы и приветственных воплей. В городах, где он останавливался, устраивались банкеты. И опять речи. Кортеж президента был виден издалека — над ним висело исполинское облако пыли, поднятое копытами сотен лошадей, толпы федералистов, сменяя друг друга, считали совершенно обязательным провожать обожаемого героя верхом. Он задыхался в пыли, чихал, отплевывался, никто не мог различить цвета одежды путника. Приходилось терпеть любовь народа.
При въезде в Филадельфию на мосту соорудили громадную арку, увитую флагами, лентами, украшенную букетами цветов. Под ней стояла очаровательная девушка, Вашингтон не успел еще склониться в галантном поклоне, как она привела в действие хитрый механизм — с величайшей точностью прямо на голову президента рухнул громадный лавровый венец! Двадцать тысяч филадельфийцев вышли глазеть на улицы. Утром следующего дня, сославшись на дождь — неудобно ехать в карете, когда сопровождающие верхом мокнут, Вашингтон упросил не отряжать с ним кортеж всадников. Он наверняка устал от шума и криков вокруг кареты.
Трентон, место памятного сражения. Вашингтон с опаской оглядел новую арку, под которой ему предстояло проехать снова верхом. Кажется, опасность не грозит, только плакат — «Защитник матерей будет протектором дочерей». Вперед выступили тринадцать дев в белоснежных платьях. Они сладостно пропели благодарность герою за спасение, хором продекламировали о желании устлать его путь розами, выхватывая из корзин и бросая под копыта коня охапки цветов.
В день прибытия в Нью-Йорк 23 апреля Вашингтон проделал последний участок пути в 25 километров морем в украшенной барке под ярко-красным тентом. Сорок шесть первых нью-йоркских богачей сложились, чтобы построить судно специально для этого случая. Барка Вашингтона плыла мимо судов и суденышек, с палуб которых раздавались приветственные возгласы, песни, декламировались оды. В замешательстве президент услышал, что на одном судне его воспевали на мотив «Боже, храни короля». Он сошел на причале у Уолл-стрита. Насколько хватал глаз, «на полмили», прикинул Вашингтон, «тесно виднелись головы, как початки кукурузы перед жатвой». Оглушенного шумом Вашингтона повлекли в снятый для него дом. Он часто останавливался, вытирая слезы умиления. Не переставая палили пушки.
В дневнике Вашингтон записал: «Громкие приветствия, потрясавшие небо, когда я проходил, наполнили меня чувствами равно мучительными (учитывая, что может произойти противоположное после всех моих усилий творить благо) и приятными». Наверное, он никак не мог истолковать аллегорию: при подходе к причалу с «превосходно украшенного судна» кланялся ярый антифедералист публицист Ф. Френо, одетый королем из Южной Африки, окруженный ряжеными орангутангами, «удивительно похожими на людей». Было совершенно непонятно — что имел в виду злоязычный Ф. Френо?
ПРЕЗИДЕНТ США
Говорю тебе со всей искренностью (мир, конечно, едва ли поверит этому) — я иду к креслу правителя, обуреваемый чувствами, едва ли отличными от тех, какие испытывает преступник, приближающийся к месту своей казни. Так не хочу я на закате жизни, уже почти полностью поглощенной заботами о государстве, покидать мирную обитель ради океана хлопот, не умудренный в политических хитростях, не имеющий способностей и склонностей, необходимых у кормила власти.
ВАШИНГТОН — Ноксу, апрель 1789 года
Вашингтону пришлось прождать неделю в Нью-Йорке, прежде чем состоялась официальная церемония вступления на пост президента, — в конгрессе никак не могли договориться о процедуре провозглашения нового государства. Горячо спорили о том, как называть президента. Сенат проголосовал — именовать «Его Высочество президент Соединенных Штатов и протектор их прав». Недавние пламенные революционеры очень хотели видеть президента почти в королевских регалиях. Мэдисону, избранному в палату представителей, пришлось приложить немало усилий, чтобы склонить честолюбивых коллег к титулу «президент США». Много времени отняло уточнение процедуры инагурации — кто где должен стоять и сидеть, кому что говорить и т. д.
Когда наступил день принесения присяги президента — 30 апреля 1789 года, Вашингтон был зажат в стальные тиски тщательно отработанной процедуры, В полдень его вывели на балкон здания Федерал-Холл, на углу Уолл-стрита. Зеваки, переполнившие прилегающие улицы, торчавшие на крышах, высовывавшиеся из окон, увидели — Вашингтон при шпаге вслед за канцлером штата Нью-Йорк Р. Ливингстоном внятно повторил слова присяги. Хотя коротышка Ливингстон поднял библию сколько мог на вытянутой руке, Вашингтону пришлось нагнуться, чтобы коснуться губами переплета. Толпа неистово закричала, ударили пушки, зазвонили колокола, а Вашингтон, тесно окруженный должностными лицами, удалился с балкона. В большом зале он прочитал двадцатиминутную речь по поводу вступления на пост президента.
В общих фразах он призвал избегать в политике «местных предрассудков», заявил, что нужно дополнить конституцию тем, что стало впоследствии известно как «Билль о правах», и очень много говорил о Провидении, которое направит и наставит новую страну. Читал он скверно, своим обычным, удивительно слабым для крупного мужчины голосом. Сенат, ревниво относившийся к тому, чтобы никто не знал о происходившем на его заседаниях, постановил не вести пока протоколов. Поэтому описанию первых шагов Вашингтона на новом поприще историки обязаны заметкам сенатора У. Маклея, далеко не дружественно относившегося к президенту. Описывая первую речь президента, Маклей злорадно подметил: «Сей великий человек был взволнован и находился в более затруднительном положении, чем когда-то под дулами пушек и мушкетов. Он дрожал, несколько раз едва мог прочитать текст, хотя, надо думать, он много раз прочитал его раньше». Тем не менее присутствующие были взволнованы, было отмечено, что по завершении речи решительно все (включая Д. Адамса!) расплакались, вероятно от умиления.
Наверное, Маклей плакал со всеми, однако, когда в тот же день Вашингтону пришлось держать еще речь — в ответ на формальное заявление сената, сенатор был на страже и подметил решительно все. Вашингтон «вытащил бумагу (с ответной речью) из кармана камзола. Очки у него были в жилетном кармане, шляпа в левой, а бумага в правой руке. Слишком много предметов для двух рук. Он вертел шляпу так, этак, наконец прижал к левой стороне груди. Но он никак не мог изловчиться, чтобы вынуть очки из футляра, и наконец решил мучительную проблему, положив футляр на каминную доску. Приспособив очки на носу, что было нелегко, учитывая занятость рук, он прочитал ответ с терпимой точностью и без больших чувств». Маклей полагал, что Вашингтону лучше бы встретить сенат в очках, что «избавило бы его от неловких движений».
Если и проявилось у Вашингтона некоторое смущение, то оно быстро прошло — ему достоинства было не занимать. Он считал, что необходимо облечь пост президента величайшим достоинством. Откуда было взять власть авторитета в первые годы существования государства, созданного конституцией 1787 года, так пусть восторжествует авторитет власти! Конгресс создал для этого сверхдостаточные финансовые предпосылки — президенту положили неслыханное жалованье: 25 тысяч долларов в год (министр получал 3,5 тысячи долларов). Можно по-разному судить о том, был или не был доволен Вашингтон тем, что конгресс отверг его предложение — служить, как в бытность главнокомандующим, безвозмездно, но с последующим возмещением расходов. Недоброжелатели Вашингтона на этот счет сомнений не испытывали — они были убеждены: генерал был разочарован, ибо установление твердого жалованья будто бы опрокинуло его надежды извлечь выгоды на президентском посту. Все же это были домыслы, Вашингтон не собирался быть дешевым президентом не из личных соображений, а только потому, что ставил знак равенства между роскошью и достоинством главы государства.
В одном он был, несомненно, разочарован: обращение «г-н президент» сначала шокировало его. Вашингтон предпочел бы титул, сочиненный им в муках творчества, — «Его Высочество Мощь и Сила, президент США и протектор их свобод».
С самого начала Вашингтон постановил: президент не наносит визитов никому, а приглашает к себе только «официальных лиц и выдающихся людей». Республиканцы в недоумении протирали глаза — президент завел порядки, мало отличавшиеся от тех, которые, по слухам, царили при дворах европейских тиранов, не считавшихся, как известно, с подвластными им народами. Масштабы, конечно, были поменьше, но дух тот самый.
В самом деле, как происходил еженедельный прием у президента, продолжавшийся ровно час? Писал очевидец: Вашингтон «надевал костюм из черного бархата, волосы густо напудрены и сзади собраны в шелковый мешок, в желтых перчатках, в руках шляпа с полями, с кокардой и черным пером в дюйм. Брюки до колен (шелковые чулки) и башмаки с пряжками (из серебра), на левом боку длинная шпага с отлично сделанным и отполированным стальным эфесом. Камзол одет так, чтобы были видны эфес и часть шпаги, высовывавшиеся из-под фалд. Ножны из белой лакированной кожи.
Он всегда стоял спиной к камину и лицом к входной двери. Он встречал посетителя достойным поклоном, причем держал руки так, чтобы было ясно — за приветствием не последует рукопожатия. Во время приемов он никому не подавал руки, даже ближайшим друзьям, чтобы не делать различия.
По мере того как гости входили, они становились кружком в комнате. В четверть четвертого дверь закрывалась, и на этот день формирование кружка заканчивалось. Вашингтон затем обходил его, начиная справа, говорил с каждым посетителем, называя его по имени и обмениваясь считанными словами. Закончив обход, он занимал первоначальное место, а посетители по очереди подходили к нему, кланялись и уходили. В четыре часа церемония заканчивалась».
Верный Тобиас Лир облегченно вздыхал — долг выполнен, запирал двери, и они оставались в семейном кругу. Вашингтон немедленно превращался из напыщенного президента в живого, разговорчивого человека. Но стоило ему появиться на людях, как лицо каменело, спина выпрямлялась, и прохожие с благоговением взирали на первого гражданина республики, когда шестерка отличных лошадей тащила карету президента по скверным улицам Нью-Йорка. Громыхали колеса, блестел лак на стенках кареты, золотом слепил аляповатый герб на дверцах, а за стеклами — суровый лик президента.
Закоренелые республиканцы неодобрительно косились на роскошь (по тогдашним американским меркам), которой, как им представлялось, президент окружил себя. Карета — четыре лакея в ливреях на лошадях и козлах, еще два на запятках, — по мнению укрепившихся в республиканском образе мышления, давила пока хрупкую американскую свободу. Они забыли или не знали: так разъезжал плантатор в Вирджинии. И если ужасались расточительности главы государства, то Тобиас Лир знал лучше — к президентскому жалованью приходилось добавлять ежегодно пять тысяч долларов. Вашингтон не мог расстаться с привычками хлебосольного вирджинца. В доме держали 14 белых слуг и 7 рабов.
Приехала Марта, и появился повод каждую неделю устраивать вечера, где обстановка напоминала гостиную Маунт-Вернона. Напоминала до такой степени, что, по подсчетам историков, семь процентов жалованья президента шло на спиртные напитки.
На вечерах собирался высший свет Нью-Йорка, дамы, сверкавшие драгоценными камнями, в моднейших прическах. Было замечено, что Вашингтон, наскоро выполнив обязанности хозяина и быстро переговорив с мужчинами, уединялся в беспечном дамском обществе. Жена вице-президента Адамса Эбигейл очень скоро обнаружила, что мужем движут недобрые чувства, когда он за глаза обзывал Вашингтона «Его Величество». Побывав на вечерах президентской четы, она по-женски отметила: «Этот самый президент обладает такой счастливой способностью чаровать, что, не будь одним из самых добронамеренных людей, он мог бы стать опасным искусителем». И это о человеке, доживавшем шестой десяток!
Но, за исключением этих вечеров, где собирались избранные, Вашингтоны вели очень замкнутую жизнь. Марта писала: «Я живу очень скучно и не знаю, что происходит в городе. Я никогда не бываю в общественных местах. В сущности, я похожа на заключенного в тюрьме. Для меня установлены определенные границы, которые я не могу преступить». То был результат обдуманной линии поведения Вашингтона — недопустимо, чтобы президент был доступен всякому и каждому.
Над личной и светской жизнью президента и его семьи довлело правило, которому с железной последовательностью Вашингтон следовал в делах государственных, — помнить, что на заре нового государства создаются прецеденты. Поэтому тщательно обдумывать каждый шаг: что делать и что не делать.
Первые полтора года в должности президента Вашингтон провел в Нью-Йорке, налаживая правительство и правление, а затем до 1800 года столицей США была Филадельфия.
Конфедерация оставила в наследие долги и горстку должностных лиц, давным-давно не получавших жалованья. Приходилось создавать заново государственный аппарат. Относительное затишье на границах позволило не думать об армии, в ней насчитывалось 840 человек, флота не было. Еще не было учреждено ни одного поста гражданской администрации, а у Вашингтона уже лежало три тысячи прошений о зачислении на службу. Неясность, кто несет ответственность за выбор и назначение чиновников, Вашингтон быстро разрешил, взяв дело на себя. За сенатом осталось право утверждения высших должностных лиц и дипломатических представителей, рекомендованных президентом. Между прерогативами законодательной и исполнительной властей проводилась граница. Теоретически и практически подтверждалось их равенство.
В конституции предусматривался только Верховный суд, закон конгресса 1789 года создал судебную систему, как она в основном существует по сей день. Верховный суд собрался на первую сессию в начале 1790 года — судьи в великолепных мантиях, но в отличие от Англии без белых париков. Вашингтон был весьма удовлетворен, что завертелись колеса судебной машины. В судебной системе он усматривал залог стабильности нового государства, дополнительную гарантию давал Д. Джей, председатель Верховного суда, муж серьезный и рассудительный. Можно было не сомневаться, что, претерпев муки в Европе в парике дипломата, он сделает все для американизации Америки в мантии судьи — Верховный суд получил право определять конституционность решений судов штатов. Дело федерализма попало в крепкие и надежные руки.
В горячке споров на конституционном конвенте, по-видимому, не обратили внимания на крайне неуклюжую структуру намеченной высшей исполнительной власти. «Отцы-основатели», вероятно, думали, что сенат будет играть при президенте роль своего рода тайного совета, а его председатель — вице-президент — станет премьер-министром. Каковы бы ни были первоначальные намерения «отцов-основателей», Вашингтон терпеть не мог вице-президента Д. Адамса. Он хорошо помнил каверзы зловредного массачусетца во время войны, а теперь не усматривал с его стороны должного уважения. В столкновении логики составителей конституции с личными симпатиями президента первая потерпела решительное поражение. Вице-президент был задвинут на задворки исполнительной власти и там остается по сей день.
В годы войны Вашингтон приложил немалые усилия, чтобы штаб работал четко и в надлежащих случаях быстро давал советы главнокомандующему (предпочтительно совпадавшие с его мнением). Вероятно, так президент сначала отнесся к сенату. Но уже в первые месяцы пребывания у власти пришлось отказаться от представления о конгрессе как о штабе при президенте. Трагикомический эпизод открыл глаза на это. Сенаторы и конгрессмены считали, что на их плечи легла ответственность за будущее страны, и поэтому днями дебатировали сущие пустяки — какой употребить предлог или прилагательное. В разгар напряженных трудов законодателей в сенат явился Вашингтон в сопровождении Нокса, исполнявшего обязанности военного министра. Они пришли спросить мнение сената по поводу проекта договора с индейским племенем криков. Великая демократия вверяла ведение сношений с индейцами военным.
Вашингтон уселся в кресло вице-президента, смутившийся и злой Адамс нашел место в зале. Рядом с суровым президентом тяжело опустился на стул тучный Нокс. Начали читать текст договора. Из-за шума телег, доносившегося в открытые окна, услышали только, что речь идет об индейцах. Окна закрыли, и договор стали читать вторично. Сенаторы не схватили содержания на слух, последовали вопросы, неуместные замечания. Наконец внесли предложение вынести суждение после изучения договора. Вашингтон резко встал и очень громко сказал: «Мне не нужно было приходить сюда!» Указав на толстяка Нокса, президент заявил, что озаботился привести министра для дачи необходимых пояснений, а дело отложено. С негодующим видом оба покинули зал.
Через несколько дней Вашингтон снова явился в сенат выслушать вердикт. Договор был одобрен с незначительными поправками, но президенту пришлось просидеть почти целый день, напряженно вслушиваясь в пустопорожние дебаты — он стал туг на ухо. Когда Вашингтон уходил из сената, многие слышали, как он выругался: «Будь я проклят, если моя нога когда-нибудь будет здесь еще!» Пустяковый повод, а главное, обида Вашингтона на своеволие сената создали важный прецедент — отныне и до сих пор на рассмотрение сената представляются уже подписанные договоры. Таким образом, не философские размышления или сложные теоретические построения уточнили место сената в системе государственного правления.
Столкнувшись с неподобающим, по мнению джентльмена, отношением конгресса, Вашингтон обиделся, надулся и бросил свой вес в пользу расширения исполнительной власти. Конгресс создал три министерства — государственный департамент, финансов и военное. Вашингтон назначил государственным секретарем сорокашестилетнего Т. Джефферсона, тридцатидвухлетний Гамильтон стал министром финансов. Конечно, президент подтвердил в должности военного министра Нокса, а генеральным прокурором стал вирджинец Эдмонд Рандольф. Хотя он осмеливался критиковать конституцию, Вашингтон не считал, что это нанесло ущерб их давней дружбе.
Так появился кабинет министров (название стало употребляться в 1793 году), не предусмотренный конституцией. Вашингтон взял за правило спрашивать совета членов кабинета до принятия решения. Сначала они встречались с президентом с глазу на глаз, но постепенно вошли в обычай заседания кабинета. Та роль, на которую мог по конституции претендовать сенат, была безвозвратно утрачена. Возникло правительство, ответственное только перед президентом. Конгрессмен Мэдисон остался доверенным советником президента.
Полагая, что государственная машина пущена в ход, Вашингтон осенью 1789 года отправился в поездку по Новой Англии в роли президента страны. Он благодушно относился к взволнованным встречам, с достоинством улыбался. Президент посетил первые, только что основанные фабрики. В Бостоне он побывал на предприятии, производившем паруса. Девушки-работницы трудились в каторжных условиях с 8 утра до 6 вечера. Президент счел это нормальным, член его свиты записал в дневнике: «Его Высочество развеселился, заметив мастеру, что он собрал самых хорошеньких девушек Бостона».
Везде президент требовал, чтобы ему оказывался должный прием. В том же Бостоне разразился мелкий конституционный кризис — губернатор Массачусетса Хэнкок ожидал, чтобы президент первым нанес ему визит. Вашингтон требовал обратного. Губернатор сослался на болезнь. Вашингтон продолжал настаивать. Наконец у дома, занятого президентом, остановился экипаж. Мрачные слуги внесли в гостиную Хэнкока, несомненно симулировавшего недуг. Для большего впечатления он был забинтован с ног до головы. Подавляя улыбку, президент потчевал губернатора чаем. Еще один прецедент установлен. «Поскольку главным в нашем положении, — поучал президент коллег, — является создание прецедентов, я всем сердцем стремлюсь, чтобы они основывались на истинных принципах», каковые включали всемерное удлинение дистанции между президентом и даже близкими. Марта перестала именовать сверхважного супруга «папой», а обращалась к нему — «генерал».
Поставив Гамильтона министром финансов, Вашингтон не ошибся как в расторопности молодого человека, так и в том, что все его помыслы будут направлены на защиту богачей. Гамильтон давно изучил склонности президента, еще в бытность его генералом. Политические воззрения Вашингтона были для него открытой книгой — президент всей душой за обеспечение привилегий имущего меньшинства. Не менее отчетливо министр видел — старик устал, ему чужды административные восторги, и он охотно передоверит ведение дел тому, кто окажется энергичным, действуя, разумеется, в рамках политической философии Вашингтона. Гамильтон счел, что на его долю выпал счастливый жребий — определить на многие годы курс только что спущенного со стапелей американского государственного судна.
Большой циник и златоуст Гамильтон учил президента: конституция — «создание, которое не может оставаться неподвижным и пойдет назад, если не двинуть его вперед». Цитируя Демосфена, Гамильтон настаивал: задача государственного деятеля — «идти впереди событий» и «создавать их». Конечно, под «государственным деятелем» он разумел себя. В трех докладах, представленных конгрессу, — «Об общественных долгах» (январь 1790 года), «Национальный банк» (декабрь 1790 года), «О мануфактурах» (декабрь 1791 года) — Гамильтон сформулировал задачи правления как всемерное поощрение торгово-промышленной деятельности. Он верил и учил, что правительство — дело «богатых и родовитых», основные мотивы поведения людей — «честолюбие и интерес», а демократия — «ваш народ, сэр, большой зверь!».
Взгляды эти, отдававшие роялистскими убеждениями, уже тогда навлекли на Гамильтона яростную критику, вероятно, в основном за резкость суждений. Он стал противоречивой фигурой в оценках современников, обвинявших министра во всех смертных грехах. Гамильтон успешно опровергал обвинения, ссылаясь на то, что верно служит США. Богатые соглашались с этим. Тем не менее даже они не одобрили бы то, что стало известно в XX веке, — Гамильтон не только был проанглийски настроен, но являлся тайным агентом Англии. Впрочем, тогда Гамильтон был надежно защищен — он пользовался полным доверием (страна знала об этом) Вашингтона и если не всегда творил от имени президента, то никогда не поступал вразрез с его волей.
Гамильтон предложил, чтобы федеральное правительство взяло на себя оплату по нарицательной стоимости всех внешних и внутренних долгов конгресса и штатов. Объявлению мужественного решения министра финансов предшествовал бум скупки спекулянтами обесцененных сертификатов. Доказано, что о плане Гамильтона, по крайней мере, некоторые из них знали заранее. Претворение его в жизнь (и это превосходно знали) приведет к обогащению банкиров Новой Англии. Гамильтон, не оспаривая правильности обвинений, отчеканил: «Так лучше для блага страны». По его логике выходило, что в руках спекулянтов деньги дадут им капитал для вложения в новые предприятия, что принесет народу больше благ, чем компенсация тысяч мелких владельцев. Что толку для США, если фермер прикупит несколько акров или приобретет новую мебель для своего домишки? Выплата до цента внешних долгов поднимет уважение к США за рубежом. В общем, доказывал Гамильтон, «общественный долг — общественное благо», кредиторы сплотятся под национальным знаменем.
Спекулянты бешено одобрили план Гамильтона. Простой люд негодовал, задним числом сожалея, что расстался за бесценок с сертификатами. Представители южных штатов, и первый среди них Мэдисон, взывали к справедливости — в этих штатах в основном уже расплатились с кредиторами, теперь придется взять на себя соответствующую долю федерального долга, то есть платить вторично. В Вирджинии П. Генри даже заговорил о повелительной необходимости выйти из союза. Народ плохо понимал мотивы сопротивления, скажем, Мэдисона и возвел противников Гамильтона в героев, борцов за дело униженных, оскорбленных и обкрадываемых. Некий республиканец умолял художника Трамбелла засесть за полотно, изобразив Мэдисона, «отстаивающего дело справедливости и человечности в конгрессе, ангел шепчет ему в ухо, а вдовы, сироты и солдаты-калеки смотрят на него с невыразимым восторгом». Гамильтона же надлежало нарисовать в окружении шакалов и иных хищников, раздающего золото своим любимцам, а за его спиной маячат зловещие фигуры короля и лордов.
Вашингтон не высказывался публично, но все знали — он с Гамильтоном. В конгрессе спорившие зашли в тупик, к счастью для федералистов, встал другой спорный вопрос — где быть новой столице. В Филадельфии думали, что выбор падет на нее — только в этом городе были тогда мощеные улицы и примитивный водопровод. Ньюйоркцы верили, что конгресс не покинет их славный город, а южане страстно хотели видеть столицу на юге, где-нибудь на Потомаке. Вашингтон тем временем прикидывал, как соорудить город поближе к Маунт-Вернону. Вирджинец Джефферсон, недавно вернувшийся из Франции, еще не вошел в курс интриг и поддался вкрадчивому Гамильтону, внушившему, что в обмен на голоса представителей Юга, нужные для одобрения его плана, Соединенные Штаты получат столицу на Потомаке. Джефферсон бросился убеждать коллег, Вашингтон не бездействовал, план Гамильтона прошел, а столичный град постановили строить на славной реке.
Всю жизнь Джефферсон сокрушался, что Гамильтон «надул» его и обогатил своих друзей-банкиров. Но, разводил руками великий демократ, нельзя было не уступить ради «союза и спасения нас от величайшей катастрофы — полного закрытия нашего кредита в Европе». Отношения между Джефферсоном и Гамильтоном испортились, что скоро имело большие последствия.
Президент предоставил сражаться по этим делам министрам и выражал недовольство противниками Гамильтона разве в частных беседах. Но выбор столицы он, землемер, не мог не взять на себя. Конгресс определил, что федеральный округ Колумбия площадью в 100 квадратных миль будет где-то на Потомаке, предполагаемая граница округа проходила в двадцати с небольшим километрах от Маунт-Вернона. Президент отправился в родной штат и обследовал местность. Он мерил шагами поля и пустоши, сжав губы, бросал безразличные взгляды на толпу землевладельцев, ходивших за ним по пятам. Все они знали, что землица скверная — болота, комары, да и климат на человека привычного. А тут перспектива получить полновесные доллары! Вашингтон, вероятно, развлекался — он делал вид, что городу стоять совсем в другом месте, чем в действительности выбрал, — поближе к Маунт-Вернону. Можно представить себе праведный гнев землевладельцев, уже подсчитавших верную прибыль, когда по возвращении в Филадельфию Вашингтон объявил окончательное решение!
Он выбрал и архитектора будущей столицы, француза Ш. Л'Энфана, сражавшегося волонтером в континентальной армии. Вашингтон засел с ним за разработку плана столицы. Они оба чувствовали себя великими архитекторами и гордились тем, что только вторично в истории человечества после Северной Пальмиры — Петербурга в России — закладывали город в чистом поле у реки. Л'Энфан попытался воплотить черты Версаля в столице США, которой было суждено носить имя Вашингтона. Он копировал здания лучших городов Европы, трудился неустанно и вошел в резкий конфликт с руководителями стройки. Ему виделся голубой город дивной красоты, комиссионеры конгресса напомнили о расходах. Л'Энфан требовал, чтобы вся стройка подчинялась ему, скупцы говорили французу, что не он оплачивает строительство. Но даже витавший в облаках архитектор не мог не видеть, что около стройки греют руки дельцы.
Развязка наступила очень быстро — весной 1792 года Вашингтон велел рассчитать архитектора. Л'Энфан ушел, а его планы воплотились в камень. Вашингтон особо предупредил, чтобы строили строго в соответствии с намеченным Л'Энфаном. Сделанное им удовлетворяло Вашингтона, — но не удовлетворял автор. Если бы можно было сдержать майора Л'Энфана «в надлежащих границах» и если бы он «обладал менее вспыльчивым нравом!» — сокрушался президент.
Тем временем в конгрессе чередой шли дела, которые Вашингтон, конечно, одобрял, но они не затрагивали его глубоко. Без больших споров в 1791 году конгресс принял «Билль о правах», в союз вошли Южная Каролина и Род-Айленд — теперь собрались все тринадцать штатов, был учрежден банк США. Старик благожелательно председательствовал над государственными делами, но его интересовала больше светская жизнь Филадельфии и личные дела. Летом 1791 года он отправился в многомесячную поездку по южным штатам, покрыв свыше 3 тысяч километров, — ему хотелось собственными глазами увидеть процветание страны при новом правительстве. Встречавшие его «весьма достойные джентльмены» были, конечно, довольны, финансовая программа Гамильтона приводили их в экстаз. В дневнике Вашингтон отметил: народ «кажется счастливым, удовлетворенным правлением джентльменов, под которое он попал, когда дело обстоит иначе, нетрудно проследить причину — влияние какого-нибудь демагога».
Приятное и спокойное путешествие — стучали копыта четверки лошадей, мягко покачивалась карета. В дневнике — записи о подробностях встреч: он особо отмечал, сколько дам собиралось на банкеты: «около семидесяти» в Ньюберне, «шестьдесят две» в Вилмингтоне. В Чарлстоне президент был приятно поражен: «впервые мне оказали честь такого рода, которая была бы как лестна, так и примечательна». Днем к нему явилось «большое количество весьма почтенных дам», а вечером он был почетным гостем «на весьма элегантной ассамблее в здании биржи. Собрались и танцевали 256 очень хорошо одетых прекрасных дам». Со свойственной скромностью президент не добавил — на бал местные красавицы явились в платьях, украшенных красными, синими и белыми лентами (цвета флага), вместо привычных причесок каждая укрепила на голове маленький портрет Вашингтона, оплетенный косами. Все в городе, способные держать кисть, неделями малевали эти произведения патриотизма.
И снова Филадельфия, высший свет которой наслаждался столичной жизнью, стремясь наверстать упущенное с 1782 года, когда конгресс переехал в Нью-Йорк, и зная, что ей положен предел — с 1800 года правительство будет в Вашингтоне. Так без больших потрясений проходило первое президентство Вашингтона. Он беседовал о государственных делах с мужчинами и любил подробно изъяснять взгляды на себя и историю достойным дамам. В ответ на письмо большого друга этих лет госпожи Маколей Грэхэм президент написал:
«Хотя ни в наш век, ни потом никто не сможет полностью понять мои чувства, я должен сказать, что только глубокое осознание долга заставило меня опять вернуться на арену общественной жизни. Учреждение нашего нового правительства представляется последним великим экспериментом для обеспечения счастья людей путем разумного соглашения в цивилизованном. обществе. Это прежде всего в значительной степени правительство как приспособления, так и законов. Многое пришлось делать, проявляя благоразумие, примирение и твердость. Только считанные, не являющиеся философскими наблюдателями, могут понять деликатную и трудную роль, выпадающую на долю человека в моем положении. Все видят, и всех больше всего восхищает блеск, окружающий внешнее счастье высокого поста. Для меня в нем нет никакой привлекательности, кроме возможности способствовать человеческому счастью. В нашем движении к политическому счастью я занимаю новое положение и, если я могу выразиться так, иду непроторенной дорогой. Едва ли есть хоть одно действие или мысль, которые не поддаются двойственной интерпретации. Едва ли есть хоть один мой поступок, который впоследствии не может быть объявлен прецедентом».
Он изливал душу в письмах такого рода, а жизнь шла безмятежно и без тревог, разве беспокоило то, что мучило, как застарелая рана, — состояние хозяйства в Маунт-Верноне. Из душевного равновесия Вашингтона вывели не американские дела, а события за рубежом, вызвавшие отклик в Соединенных Штатах.
В год вступления Вашингтона в должность президента Европу потрясла французская революция. 14 июля 1789 года пала Бастилия. Грохот ее рушившихся стен донесся до берегов Америки только осенью. Размышляя о судьбах Франции, Вашингтон заметил: до нее так далеко, что происходившее в Париже кажется «на другой планете».
Французские корреспонденты Вашингтона спешили убедить его, что их родина также встала на путь свободы, ее светлое будущее уже обеспечено. «Старый лис» скептически отнесся к оптимистическим прогнозам. Он считал, что Франция испытала только «первый пароксизм… Революция — дело такого размаха, которое не может быть выполнено в столь краткие сроки и с такой небольшой потерей крови… Необходимы великая выдержка, твердость и предвидение… Избежать крайностей нелегко, и, если впасть в них, тогда скалы, сейчас невидимые, могут привести к кораблекрушению». Он говорил со спокойной уверенностью знатока, вероятно, с самого начала прикидывая, как скажется происходившее за океаном на США. К счастью для Вашингтона и его единомышленников, график революционного пожара во Франции отстал от консолидации американской системы правления.
Лафайет на родине применял к делу навыки революционера, добытые под знаменами континентальной армии. Он прислал Вашингтону «главный ключ» от Бастилии, «крепости деспотизма», ключ — «первый зрелый плод американских принципов, пересаженных в Европу», а также картину, изображавшую, как Бастилию сровняли с землей. Подарок, заверял Лафайет Вашингтона, «воздаст должное приемному отцу от сына, от адъютанта генералу, от миссионера свободы ее патриарху». Польщенный Вашингтон похвалил Лафайета за «целеустремленность и твердость», с какой он направляет свой политический корабль «пока безопасно через зыбучие пески и рифы, а ваш молодой король во всем, по всей вероятности, вполне настроен удовлетворять желания ныции».
Он никогда не оставлял долг неоплаченным, Джордж Вашингтон. И в обмен на ключ от Бастилии — материальный дар — послал Лафайету также осязаемое — пряжки для башмаков. «Не ввиду их стоимости, мой дорогой маркиз, но как память и потому, что они произведены в этом городе, я посылаю тебе пару пряжек для башмаков». Что вдохновило президента на этот поступок? Вот еще одна загадка для историков.
С символами французской свободы американский президент распорядился самым эффективным образом. Вероятно, полагая, что его жилище маяк для человечества, Вашингтон вывесил на стене гостиной для обозрения допускавшихся в дом упомянутые предметы — ключ и картину. Дабы подчеркнуть свою беспристрастность, он распорядился поместить рядом писанный маслом портрет Людовика XVI в мантии, со всеми королевскими регалиями. Когда христианнейший монарх лишился трона, Вашингтон, к прискорбию французских эмигрантов-роялистов, приказал снять портрет. Но скорбевшие по королю скоро успокоились — их по-прежнему принимали в доме президента, за столом которого не было видно опасных радикалов.
Из-за океана шли все более тревожные вести — амплитуда колебаний маятника революции во Франции увеличивалась. Лафайет в извиняющемся тоне сообщил, что национальная ассамблея нарушила торговый договор с США, обложив пошлиной американский табак и китовый жир. Вашингтон заверил маркиза-революционера, что США не предпримут репрессалий, а французы по зрелом размышлении пересмотрят свое решение, ибо «мы никогда не испытывали и тени сомнения по поводу дружественного отношения французского народа».
Письмо Вашингтона было проникнуто беспокойством за Лафайета, и в этой связи он развернуто объяснил свое отношение к французской революции. «Заверяю тебя, что я часто с величайшей озабоченностью думаю об опасностях, которым ты подвергаешься… Нужно всегда опасаться мятежного населения больших городов. Их слепые бесчинства на время уничтожают общественный авторитет, и последствия этого иногда велики и ужасны. В Париже, мы можем предположить, бунты ныне особенно катастрофичны, ибо умы взволнованы и (как всегда бывает в таких случаях) нет недостатка в испорченных и предприимчивых людях, целью которых является смятение и кто не поколеблется, чтобы уничтожить общественное спокойствие ради выгодного положения. Однако пока ваша конституция не будет закреплена, ваше правление не организовано, а представительные органы не обновлены, нельзя ожидать большего спокойствия, ибо, пока все это не проделано, лица, недружественно настроенные к революции, не оставят надежды вернуть прежнее положение дел».
Революция во Франции очень скоро переросла рамки, приемлемые для Лафайета. Он был вынужден бежать и в конечном итоге оказался в австрийской тюрьме, где томился четыре года. Вашингтон как мог пытался облегчить судьбу страдальца, безуспешно добивался освобождения маркиза и даже покривил душой. Зная гордость супруги маркиза и боясь оскорбить ее даже в изгнании, президент послал ей тысячу долларов, присовокупив, что он-де возвращает долг Лафайету. Перипетии революции привели во французскую тюрьму и Т. Пейна. Демократ до мозга костей, он поспешил во Францию помочь торжеству свободы. Вмешаться в его пользу Вашингтон отказался, за что был немедленно заклеймен в США друзьями и почитателями Т. Пейна.
Победное шествие принципов «свободы, равенства и братства» в далекой Франции глубоко затронуло Соединенные Штаты. Патриоты, совсем недавно освободившиеся от тирании короны, многословно убеждали друг друга, что идеи Американской революции приобрели универсальное значение. Кто сомневается, бросьте взор через океан! Только горячие поборники свободы в США из-за дальности расстояния видели лишь общие контуры происходившего и определенно смещали перспективу — события во Франции развивались далеко не так, как шествовала Американская революция под бдительным надзором «отцов-основателей» и прежде всего Вашингтона. Апостолы прав человека в США, конечно, даже отдаленно не были якобинцами. Для них свершения во Франции послужили неотразимым по силе доводом в пользу того, чтобы разобраться в собственных делах.
Споры между Гамильтоном и Джефферсоном, возникшие по конкретным вопросам, стремительно приобрели политическую окраску и выплеснулись за стены кабинета. Сторонники Гамильтона именовали себя федералистами, джефферсоновцы поначалу не озаботились назвать себя как-то по-особенному, удовлетворившись словом «антифедералисты». Французская революция подтолкнула их воображение, и они стали гордо отзываться о себе как о демократах-республиканцах или короче — республиканцах. Итак, с возникновением института президентства в США, правда, в зародыше возникли политические партии. Появление пусть пока нечетких партийных граней привело в замешательство Вашингтона — он-то надеялся быть отцом единой нации.
Джефферсон, проведший пять лет во Франции, никак не находил сходства между США и Французской республикой. Где, допытывался он у президента, желанная свобода в Америке? Вашингтон отмалчивался, Джефферсон наседал, попрекая его пышным церемониалом, установленным для президента. Негодующий Вашингтон попытался объяснить, что это было сделано по совету многих ради создания должного престижа и никого не тяготит больше, чем самого президента. Глядя в смущенные глаза старика, Джефферсон понимал, что он говорит правду. Тогда где виновник? Им неизбежно оказался очень молодой в представлении Джефферсона, приближавшегося к пятидесятилетию, Гамильтон.
Они, припоминал впоследствии Джефферсон, «бросались друг на друга на заседаниях кабинета, как боевые петухи». Спорили, ругались, приводя в глубокое уныние президента. Он попытался мудро развести спорщиков, заметив: «Люди не могут мыслить одинаково, но предпринимают различные меры ради достижения одной цели… Почему вы оба так упорствуете в своих убеждениях, не делаете уступок друг другу? Я глубоко, искренне уважаю вас обоих и горячо надеюсь, что, быть может, удастся нащупать путь, по которому вы пойдете рука об руку». Увещевания президента были совершенно бесполезны. Гамильтон был убежден, что Джефферсон, стоит дать ему волю, потопит США в анархии, а Джефферсон не менее твердо верил, что его противник строит козпи, чтобы ввести в США монархический образ правления. Но ни тот, ни другой не ставили под сомнение институт частной собственности.
Раскрыв для себя сатанинский замысел молодого честолюбца, поборник мелкобуржуазной, аграрной демократии Джефферсон решил поднять на ноги американцев, убаюканных, помимо прочего, официальным еженедельником «Газетт оф Юнайтед Стейтс», основанным в 1789 году и находившимся в руках Гамильтона. Джефферсон уговорил друга Ф. Френо создать и возглавить оппозиционный орган «Нэшнл газетт», которая начала выходить в октябре 1791 года. С первого номера «Нэшнл газетт» обрушилась на правительство, разнося в пух и в прах все его меры, за исключением исходивших от Джефферсона. В статьях Френо поносился Гамильтон и все связанное с ним. «Свободные граждане Америки не допустят, чтобы богачи топтали их», — гремела «Нэшнл газетт» и добавляла: «Нужно провести новую революцию в пользу народа».
Гамильтон сначала легкомысленно отнесся к нападкам, отвечать на них не было времени. Он делил время между министерством финансов и обаятельной миссис Рейнольдс (когда г-жа Гамильтон случалась в отлучке). Суровый Джефферсон между тем по уши погрузился в дела — в считанные месяцы он написал свыше четырех тысяч писем, вербуя сторонников и разоблачая министра финансов. «Нэшнл газетт», естественно, докопалась до миссис Рейнольдс и поделилась радостью открытия с читателями. Гамильтон схватился за перо и в сердцах обозвал Френо «лакеем Джефферсона», редактор «Нэшнл газетт» не остался в долгу и т. д.
Президент без труда выяснил, что статьи в газете Френо и высказывания Джефферсона на заседаниях кабинета совпадают до точки. Он негодовал по поводу «негодяя Френо», но оставался корректным с государственным секретарем. В свою очередь, Джефферсон с острым любопытством наблюдал за президентом. Он лицемерно сообщает Мэдисону, ставшему его единомышленником: «Президент выглядит неважно. Неделю или десять дней его трепала лихорадка, что, естественно, сказалось. Его также чрезвычайно обижают нападки в газетах. Я думаю, что они задевают его больше, чем кого бы то ни было. Я искренне сожалею по поводу всего этого».
Повергнутый в скорбь происходившим, Вашингтон попытался смягчить газетную дуэль министров, тем более что на страницах «Нэшнл газетт» стало доставаться и президенту. Нужно умерить страсти, писал он Рандольфу, «прекратить поношение должностных лиц и злобные нападки почти на все действия правительства, которыми переполнены некоторые газеты. Если так будет продолжаться, союз распадется». Трудно сказать. верил ли он в реальность угрозы, несомненно, по крайней мере, одно — президент видел, что затянувшаяся ссора министров отдаляет день его ухода от дел государственных. А он думал, что в 1793 году удастся вернуться в дорогой Маунт-Вернон, и уже сговаривался о тексте прощального обращения к стране с Мэдисоном.
Но как уйти на покой, когда Гамильтон и Джефферсон раздувают политические страсти? Вашингтон испробовал все, чтобы примирить противников, даже взывал к жалости. К сухому Гамильтону обращаться в этом плане было напрасно, и президент попробовал растопить сердце Джефферсона, о возвышенной душе которого старик, как и другие американцы, достаточно понаслышался. Зимним днем в начале 1792 года он пригласил государственного секретаря и затеял необычный разговор. Они уселись в кабинете президента, потягивали любимую Вашингтоном мадеру. И вот что последовало, если верны воспоминания Джефферсона о достопамятном дне.
— Я, как никогда раньше, чувствую холодные, мрачные дни, — пожаловался Вашингтон. — Впрочем, естественно, скоро мне стукнет шестьдесят. Старик!
— Ну нет, сэр, — ответил Джефферсон, — впереди у вас много лет, которые вы проведете в полезных трудах.
— Полезных, конечно, для моей плантации. Если только я выдержу последний год, — вздохнул президент, — с каким облегчением я уйду от государственных дел. Я сыт по горло политической смутой!
— Конечно, сэр. Стоит вам уйти, как уйду и я. Монтичелло привлекает меня не менее, чем Маунт-Вернон вас.
— Вы свет очей моих, друг мой, — разволновался Вашингтон. — У вас нет моих причин, я никогда не хотел государственного поста и принял его под сильным нажимом.
— И я не хотел государственной службы.
— Но, если я останусь у власти, люди скажут, что, вкусив ее прелести, я не могу обойтись без них.
— Никто из знающих вас не скажет этого.
— Да, но многие не знают меня. И, Джефферсон, взгляните, я старею. Здоровье пошатнулось, а память! Всегда была плохой, а теперь еще хуже. (Прервем запись Джефферсона. Той зимой Вашингтон написал свыше двадцати пространных писем управляющему Маунт-Вернона, обнаружив поразительное знание мельчайших деталей хозяйства.) Быть может, и в других отношениях я обнаруживаю упадок, который мне самому не виден. Этот кошмар преследует меня. Но моя отставка не означает вашей. Было бы весьма прискорбно, если бы я, получив заслуженный отдых, тем самым нанес удар обществу, лишив его других великих служителей общественному благу.
— Я всегда считал, — отчеканил Джефферсон, — что буду служить лишь до тех пор, пока вы президент. И я устал от трудов, не приносящих вознаграждения и радости. Другие министры так не думают, особенно министр финансов. У него планы на многие годы вперед.
— Но ваш пост много важнее, и вашу отставку сильнее ощутят. В последнее время обнаружилось великое недовольство. Оно увеличится в случае столь крутых изменений в правительстве.
— По моему мнению, — заявил Джефферсон, — существует единственный источник недовольства — министерство финансов!
Вернулись именно к тому, чего Вашингтон стремился избежать. В мае президент получил длинное письмо от Джефферсона. Государственный секретарь требовал, чтобы Вашингтон не отказывался от переизбрания. Почему это необходимо, Джефферсон объяснял в очередной филиппике против министра финансов. Обвинения в адрес Гамильтона были сведены в четкие пункты, их было 21. Тяжко вздыхая, Вашингтон собственной рукой, крупным старческим почерком переписал сочинение государственного секретаря и направил Гамильтону. Не раскрывая источника, он пометил: бумага «исходит от человека, не очень дружественного правительству». Как и следовало ожидать, Гамильтон в энергичном и менее пространном меморандуме отверг поклеп на него, особенно возмущаясь инсинуациями насчет коррупции, свившей-де гнездо в стенах его министерства.
Вашингтон метался в эти летние и осенние месяцы 1792 года. Он уезжал в Маунт-Вернон, возвращался в Филадельфию. Дряхлел на глазах, филадельфийцы недоверчиво покачивали головами, видя ссутулившегося, молчаливого президента за стеклами кареты. На заседаниях кабинета он пытливо вглядывался в лица министров — на них был написан приговор — переизбираться! Только в этом кабинет был единодушен.
Пришли выборы, кандидатура Вашингтона была одобрена единогласно. Гром разразился над головой вице-президента Д. Адамса. Республиканцы неплохо поработали. «Рептилия!», «Аристократ!», «Монархист!» — кричали их газеты и пронзительнее всех «Нэшнл газетт». Когда 13 февраля 1793 года подсчитали голоса выборщиков, выяснилось, что Адамс имел незначительное большинство. В конгресс прошло множество сторонников Джефферсона, что предвещало новые хлопоты Вашингтону.
Республиканцы повели наступление, не дожидаясь созыва нового конгресса. Примерно за пять недель до роспуска старого они потребовали отчета от министра финансов в расходах за предшествующие четыре года. Расчет представлялся безупречным — физически было невозможно в считанные дни составить гигантскую роспись доходов и расходов республики. Вашингтон пришел в отчаяние — газета Френо предвкушала изобличение Гамильтона в воровстве, что покажет в подлинном свете монархистов и, конечно, президента, пригревшего этих змей. Обвинения в коррупции открыто бросались и в конгрессе. Гамильтон разочаровал ожидания — засев в министерстве с ближайшими сотрудниками, позабыв о прекрасной миссис Рейнольде, он считал. Бледный от бессонных ночей, он явился в конгресс и представил отчеты. Цифры были безупречными. Республиканцам ничего не оставалось делать, как заявить, что они все равно не верят, ибо только коррумпированные люди, втайне вздыхающие по тирании, искушены в окаянной бухгалтерии — хитрой науке, враждебной подлинным друзьям свободы.
4 марта 1793 года Вашингтон давал присягу, он вступал во второй срок президентства. 1789 год казался далеким, золотым прошлым. Толпа, собравшаяся поглазеть на церемонию, была шумной, но нет-нет да раздавались голоса неодобрения. Сенат остался в основном федералистским, в палате представителей преобладали республиканцы.
В «Нэшнл газетт» (Френо озаботился ежедневно посылать президенту по два номера) Вашингтон мог усмотреть — огонь критики сосредоточивался на нем, покровителе монархистов. Газета высмеивала «эти глупости, оды по поводу дня рождения», приемы у президента. Времена наступали крутые, и в поисках душевного покоя Вашингтон в начале апреля отправился в Маунт-Вернон.
Он еще не объехал плантацию, как курьер из Филадельфии привез ошеломляющее известие, задержанное доставкой на пути через океан, — голова Людовика XVI скатилась на гильотине. Свежие столичные новости — на улицах Филадельфии собираются несметные толпы, поют «Марсельезу», танцуют «Карманьолу», пестрят трехцветные кокарды. Всеобщий восторг и одобрение решительных французов, недавних соратников по оружию в войне за независимость. Конечно, неизбежные споры — иные говорят, что Людовик XVI помог американцам получить свободу и уже по этой веской причине не нужно было класть его под нож гильотины. Печать республиканцев издевалась — помощь Америке оказал французский народ, а не король.
Республиканские публицисты не могли знать, что, отстаивая эту прекрасную во всех отношениях точку зрения, они готовят крупнейшие неприятности не только собственному правительству, но и поставят на карту честь юной демократии. Очень скоро случились новые известия — 1 февраля 1793 года сестра-республика Франция объявила войну злейшему врагу свободы — Англии. Теперь рев «Марсельезы» на улицах оглушал — патриоты рвались к оружию покарать лондонских злодеев, тем более что подстрекаемые англичанами индейцы вновь на несли заметный ущерб на северо-западной границе.
В Филадельфии росло недоверие к Гамильтону. Высокомерный министр, ко всеобщему убеждению, находился в подозрительных сношениях с английским посланником, наконец прибывшим ъ США. Мало того, после казни короля французский посланник, роялист Бернан прекратил ведение дел с Джефферсоном и вместо государственного департамента зачастил в министерство финансов.
Простой люд горячо одобрял казнь короля и революцию во Франции. В Филадельфии на импровизированной гильотине чучело Людовика XVI обезглавливалось 20–30 раз ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Известный публицист, федералист Коббет возмущался: «На трагический спектакль сходились мужчины, женщины и дети, и ни одна газета не пристыдила их». Народ волновала другая мысль, сформулированная «Нью-Йорк джорнэл»: «Американцы, будьте справедливы! Вспомните, кто стоял между вами и гремящими цепями деспотизма британского министерства!»
Демократы на всех перекрестках обсуждали договор 1778 года с Францией и шумно требовали выполнения его, то есть войны с Англией. Вашингтон поторопился в Филадельфию, где первым его встретил хладнокровный Гамильтон. Запершись в доме президента, министр объяснил: 90 процентов американского импорта поступает из Англии. Финансовая система, установленная в первое президентство Вашингтона, в основном покоилась на таможенных сборах. Разрыв отношений с Англией вызовет немедленное банкротство правительства. Вашингтон понимал это, а за плотно закрытыми окнами, по словам вице-президента Д. Адамса, «десять тысяч человек на улицах Филадельфии день за днем угрожали вытащить Вашингтона из его дома и произвести революцию или заставить нас объявить войну Англии на стороне французской революции».
Гамильтон для руководства президента составил список вопросов, которые надлежало поставить на заседании кабинета. Главное — сохранить мир, что касается договора 1778 года, то разве нельзя представить дело так: он подписан с правительством, которого больше нет, и, следовательно, не подлежит выполнению? Морально немыслимая позиция, но Вашингтон согласился с ней. Нужно немедленно выступить с декларацией о нейтралитете. Вооруженный инструкцией Гамильтона, президент явился на заседание, где, как и ожидалось, Джефферсон произнес зажигательную, но абстрактную речь о важности поддержки свободы в делах человеческих, а затем поддержал декларацию. Государственный секретарь добился, правда, чтобы посланнику Французской республики «гражданину Жене», уже следовавшему в США, был оказан надлежащий прием.
22 апреля прокламация (в ней не упоминалось слово «нейтралитет») была обнародована. Соединенные Штаты заявляли, что будут «дружески и беспристрастно относиться к воюющим сторонам». Американским гражданам запрещалось принимать участие в войне на море и доставлять в воюющие страны контрабандные товары. Генри Ли, не навоевавшийся в войну за независимость и жаждавший новых битв, спросил совета у президента, не стоит ли вступить во французскую армию. Ответ Вашингтона: «Как государственный деятель по поводу этого я не могу сказать ничего… Как частное лицо не хочу говорить много. Советовать не буду. Я могу только сказать… если бы дело шло обо мне, я бы хорошенько поразмыслил не только по личным, но и по государственным соображениям». Президент дал только один определенный совет — письмо по прочтении сжечь. Ли остался в США.
Прокламация о нейтралитете вызвала бурю. Гамильтон под надлежащим псевдонимом «Миротворец» защищал ее. Джефферсон пишет Мэдисону: «Ради всего святого, дорогой сэр, возьмите перо, выберите самые еретические места и сокрушите их перед лицом общественного мнения». Республиканцы так и поступили, напоминая о долге «Франции и Лафайету», уместно умалчивая о том, что на родине маркизу вынесен смертный приговор. Шквал ярости оппозиционной печати обрушился наконец с полной силой на самого президента. Теперь он был пе «отцом», а «отчимом» страны, а иные газеты находили, что Вашингтон «крокодил», «гиена», «лжец», «мошенник», «предатель» и т. д., в зависимости от изобретательности писак и их познаний в зоологии.
Вашингтон мучительно переживал буйный поток нападок, вероятно, вглядывался в зеркало и убеждался как в отсутствии сходства с названными мерзкими животными, так и в том, что за оскорбительными словами не крылось никакой разумной политики. Кто, кроме горлопанов, разумеется, в его понимании, мог идти войной на Англию? Все имевшие собственность наслаждались миром и помышляли не о военных авантюрах, а о преумножении своего благосостояния. Возможно, президент понимал, что суть спора заключалась не в столкновении высоких принципов, а в стремлении республиканцев пробиться к власти на волне демагогии. Для алчной мелкой буржуазии разговоры о демократии в связи с французской революцией давали желанную возможность утвердиться в глазах страны.
Обвинения в том, что он-де покрывает тайных монархистов, Вашингтону было нетрудно отвести как пустые. Он разъяснял, например, Генри: цель заключается в том, чтобы «Соединенные Штаты были свободны от политических связей с любой другой страной, а также зависимы от всех и не находились ни под чьим влиянием. Одним словом, я имею в виду американские интересы, с тем чтобы европейские державы убедились: мы действуем ради себя, а не ради других». В эти жаркие дни президент сдержанно и достойно указывал в одном из писем: «Я верю в искреннее желание Соединенных Штатов не иметь ничего общего с политическими интригами и склоками европейских держав, а, напротив, обмениваться товарами и жить в мире и дружбе со всеми народами земли».
Звучало так прекрасно и возвышенно, как надлежит изъясняться государственному мужу преклонных лет, согбенному тяжким политическим опытом. Это было дальнейшим развитием ранее высказанных Вашингтоном идей. Еще в 1788 году он настаивал: «Когда бы между европейцами ни возникал конфликт, если мы мудро и должным образом воспользуемся преимуществами, дарованными нам географией, мы сможем, действуя осмотрительно, извлечь выгоду из их безумств». Тур кровопролитных войн, открывшийся в Европе в девяностых годах XVIII столетия, принес осязаемые выгоды США, последовавшим советам Вашингтона. Экспорт США за четыре года с 1792 года вырос с 19 миллионов до 41 миллиона долларов, а тоннаж торгового флота за десять лет с 1789 года увеличился в пять раз, достигнув почти миллиона тонн. Перед такими внушительными фактами блекли споры федералистов и республиканцев, а деятельность «гражданина Жене» была с самого начала обречена на провал.
Посланник жирондистов Эдмон Шарль Жене вступил на американский берег в середине апреля. Корабль сбился с курса, и он высадился вместо Филадельфии в Чарлстоне. Американский посланник в Париже Г. Моррис успел предупредить Вашингтона, что «гражданин Жене» необыкновенно говорлив, и за 28 дней, пока француз добирался до столицы, он блестяще подтвердил эту репутацию. Жене по пути в Филадельфию узнал о том, что США объявили о нейтралитете, но нисколько не смутился сущим пустяком. Он считал себя не дипломатом, аккредитованным одним правительством у другого, а посланцем революционного французского народа к благородному американскому народу, и посему не стеснялся. При горячей поддержке демократов Жене звал американцев в бой против тиранов. Еще не добравшись до Филадельфии, предприимчивый «гражданин» успел начать вербовку для набега на Флориду и Луизиану — Испания вместе с Англией воевали против Франции. Он торжественно учредил «Французский революционный легион на реке Миссисипи» и выдал множество свидетельств желавшим заняться каперством во славу Франции.
Нет ничего удивительного в том, что путь до столицы отнял у Жене почти месяц. Вашингтон сначала был изумлен, потом взбешен и безмерно обеспокоен — обгоняя французского посланника, с мест летели депеши, в которых сообщалось о неслыханном приеме Жене. Уже образовавшиеся республиканские клубы с благословения француза переименовывали себя в якобинские. Добрые американцы под влиянием соблазнительных речей Жене, а он ни на минуту не закрывал рот, начинали именовать себя «гражданин» и «гражданка». Когда 16 мая Жене прибыл в Филадельфию, казалось, вернулись бурные дни Американской революции. Жители рванулись на улицы приветствовать посланца «страны свободы». Прогремели три предусмотренных орудийных залпа, и, что не было подготовлено, раздался звон колоколов.
Вашингтон, ожидавший Жене в своей резиденции, слышал приближавшиеся оглушительные вопли: «Все люди равны!», «Да здравствует Французская республика и да сгинут ее враги!» Перед ним лежала петиция трехсот виднейших купцов Филадельфии, восхвалявшая декларацию о нейтралитете. Президент оказал Жене изысканно вежливый прием. Француз ответил так же любезно, что стоило ему большого труда — в вестибюле дома президента он увидел бюст Людовика XVI. Жене ушел от президента убежденный, что «старик» совсем не такой, как о нем рассказывали в Европе, и наверняка враг свободы. Гигантский банкет, устроенный республиканцами, с лихвой компенсировал «гражданину Жене» холодноватый прием у президента. На столе красовалось «Дерево свободы», прекрасные демократы, крепко выпив, хором пели «Марсельезу» и слезно уверяли француза, что пойдут с ним до конца, до полной победы над тиранами во всем мире.
Такой прием мог вскружить голову и спокойному человеку, а Жене отнюдь не был таким. Он открыл вербовку во французскую армию, начал снаряжать каперы в портах. На вежливые напоминания о нейтралитете Жене отвечал, что, если ему будут чинить препятствия, он обратится через голову правительства к народу. Французский посланник будоражил Соединенные Штаты. Летом 1793 года о войне с Англией на улицах и в тавернах говорили как о деле решенном. «Миролюбец» Гамильтон напечатал статьи, клонившиеся к тому, что Франция, собственно, ничего не сделала ради американской свободы. Джефферсон повелел Мэдисону опровергнуть инсинуации, которые не могут не быть на руку врагам Франции.
Тут стало известно — вопреки запрещению капер «Литл-Сара», снаряженный Жене, вот-вот выйдет в море из Филадельфии. Собрался кабинет. Гамильтон предложил поставить батарею и не выпускать суденышко из гавани. Джефферсон уверял, что «Литл-Сара» не снимется с якоря. Но и он признавал, что Жене зашел далеко. Пока рассуждали, капер выскользнул из гавани. 1 августа правительство принялось обсуждать, что делать с Жене. Сошлись на том, что нужно потребовать от Франции немедленного отзыва посланника. Гамильтон воспользовался случаем и высказал все, что он думал о Джефферсоне, Жене, Франции, демократических или якобинских клубах и прочем.
Добряк Нокс решил утешить Вашингтона и поддержать Гамильтона. Он вытащил из кармана карикатуру, недавно появившуюся в одной из республиканских газет, — коронованного Вашингтона тащили на гильотину. Предельно издерганный президент вышел из себя — намек был очевиден: гильотину можно с пользой применить и к нему. Он вскочил и, непристойно ругаясь, призвал в свидетели чистоты его помыслов бога. Вашингтон истерически кричал, что предпочел бы покоиться в могиле, чем быть президентом этой страны, а его обвиняют еще в намерении стать королем! Да он не променял бы свою «ферму» на все блага императора мира!
Вопрос о Жене был решен. Революционер предпочел не возвращаться во Францию, где его неизбежно ожидала бы гильотина Робеспьера, а уехал в Нью-Йорк, спасаясь от эпидемии желтой лихорадки, разразившейся в Филадельфии в конце августа. Болезнь, подкосившая почти всех жителей города, отвлекла внимание от внешней политики. Из 45 тысяч жителей 4 тысячи умерли. Вице-президент Адамс благословлял своевременную эпидемию, он был убежден, что только она спасла от революции. Вашингтон переждал тяжкие времена в Маунт-Верноне, а когда осенью вернулся в столицу, то с падением температуры упал и революционный накал. Дело ограничивалось газетной войной. Джефферсоновцы утверждали, что федералисты «лижут сапоги англичанам». Федералисты не оставались в долгу, именуя противников «пожирателями лягушек, каннибалами, вампирами», «марионетками обезьян», «галльскими шакалами» и т. д.
Тот, кто был в центре схватки, — «гражданин Жене» — тем временем очаровывал дочь губернатора штата Нью-Йорк. Скоро революционер предстал с мисс Клинтон перед алтарем вместо гильотины. Вашингтон не счел разумным делать мученика из Жене, он не помнил зла и разрешил Жене остаться в США. Спустя четыре года он, раскаявшийся революционер, винил во всем Джефферсона, утверждая, что стал орудием в руках государственного секретаря, убедившего его, что «прекрасный человек» Вашингтон будто бы «находился под контролем англичан». Отсюда и весь шум. Возмутитель спокойствия прожил долгую жизнь добропорядочным американским буржуа.
В кризисной обстановке 1793 года Вашингтон сумел провести различие между внешней стороной и сутью ожесточенных споров. Подводя итоги, он писал в конце года: «Трудно справедливо выяснить причины поведения тех, кто выдвигает обвинения и постоянно по сей день в меру своих сил чинил препятствия политике правительства, стремящегося быть миролюбивым в отношении воюющих держав. Однако их мотивы ясны людям, имеющим доступ к фактам и изучавшим занятую ими позицию, чтобы совершить ошибку. Их заботит не дело Франции и не свободы, ибо, если бы им удалось вовлечь нашу страну в войну и позор, они были бы первыми среди тех, кто громко выступил бы против этой дорогостоящей и несвоевременной меры».
Несмотря па все свое красноречие, Джефферсон отнюдь не стоял за то, чтобы выполнить договор 1778 года с Францией, а Париж официально и не обращался с просьбой об этом к США. Последовательные французские правительства видели, что американцы, практически не имеющие флота и армии, не смогут быть полезными в военном отношении и, во всяком случае, едва ли защитят владения Франции в Вест-Индии, что особо предусматривалось договором 1778 года. США были полезнее как нейтральная страна, снабжающая продовольствием как Францию, так и ее владения в Америке. Таков был хладнокровный государственный расчет без поправок на эмоции.
Но во Франции тем, кто содействовал США в войне за независимость, было, естественно, горько. Ревностный служитель дела американской свободы Бомарше был огорчен вдвойне, ибо, помимо краха иллюзий в отношении США, он еще и разорился частично по их вине. Воспользовавшись революцией во Франции, американские власти отказались погасить долг Соединенных Штатов Бомарше, который он исчислял в 3 миллиона 600 тысяч франков. Больной и одряхлевший Бомарше в 1795 году обратился с письмом к американскому народу. Он выражал желание, если бы позволили силы, приехать в США и у дверей конгресса, лежа на носилках, «протянуть вам шапку свободы (а никто другой не сделал больше, чтобы увенчать ею вашу свободу) и умолять: «Американцы, пролейте бальзам на вашего друга, все заслуги которого получили только это вознаграждение».
Бомарше восклицал: «Американцы! Я служил вам со всем рвением. За всю мою жизнь я не получил от вас никакого вознаграждения, кроме огорчений. Я умираю вашим кредитором. На одре смерти умоляю вас, отдайте моей дочери хоть часть того, что вы должны мне». Не прошло и сорока лет, как справедливость частично восторжествовала — в 1835 году Соединенные Штаты сочли возможным выплатить наследникам Бомарше 800 тысяч франков, вычтя эту сумму из платежа, причитавшегося Франции за различные претензии и контрпретензии в эпоху Наполеона…
Французские дипломаты с неослабевающим вниманием следили за американскими делами. Довольно скоро очередной посланник Франции в США объективно оценпл усилия самого горячего поборника Французской революции Т. Джефферсона. «Г-н Джефферсон, — писал он в Париже, — любит нас, ибо он ненавидит Англию, он старается быть ближе к нам, ибо он опасается нас меньше Великобритании, но он может хоть завтра изменить свое мнение о нас, если Великобритания перестанет вселять в него страх. Хотя Джефферсон друг свободы и науки, хотя он восхищается нашими усилиями, когда мы стряхнули цепи рабства… Джефферсон, говорю я, американец и как таковой не может быть нашим искренним другом. Американец — прирожденный враг всех народов Европы».
Не возвышенные споры о свободе, а суровый реализм отношений с Англией и стал камнем преткновения в американском правительстве. Рассмотрев тенденцию Гамильтона и Вашингтона сделать все, чтобы не подорвать отношения с Лондоном, Джефферсон в декабре 1793 года ушел в отставку. Вашингтон упросил Э. Рандольфа занять вакантный пост государственного секретаря.
Ведя войну против Франции, английское правительство приказало захватывать американские суда, доставлявшие товары и продовольствие противнику. Зачастую американские моряки бросались в тюрьмы или насильственно зачислялись на службу в английский флот. В общей сложности было захвачено до 300 судов под флагом США. В Америке это расценивалось как невыносимое оскорбление национальной гордости и неприкрытый грабеж частной собственности. В свою очередь, французы попытались пресечь бойкую морскую торговлю США с Англией, также с успехом приступив к захвату американских судов.
Логично было бы ожидать, чтобы Соединенные Штаты не проводили различия между Англией и Францией и приняли ответные меры против обеих держав. Этого не случилось, и не столько из-за симпатий республиканцев к Франции, а в результате своевременных действий Лондона. Английское правительство весной 1794 года смягчило свои прежние распоряжения, допустив американскую торговлю с колониями короны в Вест-Индии, а также частично возместило стоимость уже захваченных грузов.
Гамильтон узрел спасительный свет и потребовал отправить в Англию миссию для урегулирования всех спорных вопросов. Ехать ему самому было совершенно невозможно — республиканцы немедленно обвинили бы министра финансов в сговоре с британским кабинетом. По зрелом размышлении президент отправил в Лондон поздней весной 1794 года верховного судью Джона Джея. Он, будучи человеком рассудительным, с тяжелым сердцем взял на себя миссию, печально заметив: «Никто не сможет заключить договор с Англией, не став непопулярным и отвратительным» в глазах страны.
Накал антибританских настроений нарастал с каждым днем. Правительство жадно ожидало известий из Лондона, чтобы привести доказательства миролюбия королевских министров. Но пока стало известно, что Джей был тепло встречен в придворных кругах, а на приеме у королевы приложился к ее руке. Одна джефферсоновская газета тут же нашла, что Джей «заслуживает того, чтобы ему вырезали губы до кости». Другая призывала: «Джон Джей — архипредатель, схватить его, утопить его, сжечь его заживо! Американцы, своим поцелуем он предал вас».
Кампания республиканцев против Джея и правительства вообще преисполнила Вашингтона глубоким отвращением к политическим нравам США. В середине июня он с глубоким сарказмом пишет: «Дела нашей страны не могут идти плохо. У нас такое изобилие бдительных, следящих за положением вещей, и такое множество непогрешимых руководителей, что на каждом шагу нет недостатка в ценнейших указаниях». Груз ответственности начинал сокрушать Вашингтона. Нокс, всегда посредственный администратор, вообще перестал работать. Гамильтон стал заниматься и военным министерством. Измученный текущими делами, он стал походить на тень. Гамильтон сухо уведомил президента, что он скоро уйдет в отставку — жалованье министра не давало возможности обеспечить сносное существование увеличивавшейся семье. Юридическая практика сулила много больше.
Летом 1794 года правительство было потрясено, ужас охватил Филадельфию. В западной Пенсильвании началось «восстание из-за виски». Фермеры не могли доставить на рынок свои продукты из отдаленных районов — дороговизна перевозки делала это бессмысленным. Они нашли выход, изготовляя виски. Практически не было ни одного дома фермера, в котором не было бы самогонного аппарата. Галлон виски служил расчетной единицей в торговле. Гамильтон, лихорадочно изыскивавший средства для государственной казны, ввел акциз на виски. Попытки собрать его привели к массовому недовольству, фермеры горой встали в защиту своего права варить сивуху. Сборщики налогов изгонялись, их грозили выкупать в смоле и вывалять в перьях, а иногда поджигались дома наиболее ревностных служителей финансовой системы Гамильтона.
Федералисты усмотрели в волнениях в Пенсильвании опасность самому существованию государства. Они нашли, что фермеры руководствуются политическими мотивами, а именно — желанием копировать французских якобинцев. Вашингтон давно с подозрением относился к многочисленным демократическим обществам. В борьбе за неприкосновенность примитивных самогонных аппаратов он усмотрел много больше. «Вот первые гнусные плоды» демократических обществ, бушевал президент, «и их дьявольского руководителя Жене». В ярости Вашингтон забыл, что француз уже оставил революционные затеи. Президент предупреждал — если сопротивление самогонщиков не будет сломлено, «мы можем распрощаться с любой формой правления в этой стране, кроме правления толпы и дубинки».
Он обратился к восставшим с прокламацией, требуя прекратить сопротивление закону, и повелел собирать ополчение. Конституция не предусматривала таких полномочий за президентом, ополчение находилось в ведении штатов. Вашингтон заставил губернаторов и ассамблеи штатов понять опасность. Он заверял, что сам поведет войско на непокорных самогонщиков. Осенью была собрана внушительная армия — 15 тысяч человек. Президент, облачившись в военный мундир, сделал ей придирчивый смотр и проехал на лошади часть пути с выступившими на запад ополченцами. Вездесущий Гамильтон был бок о бок с президентом, а когда Вашингтон оставил войско и вернулся в столицу, министр финансов сопровождал ополченцев почти до района восстания. Он сыграл роль своего рода политического комиссара при генералах, командовавших воинами.
Карательная экспедиция вступила в западную Пенсильванию, когда земля уже покрылась снегом. Бунтовщики не оказали никакого сопротивления, разве энергично отругивались. Воины захватили несколько из них, и глубокой зимой армия вернулась в Филадельфию. Воины под грохот барабанов промаршировали по улицам столицы, вселяя надежду в сердца федералистов. Они провели жалких пленных в лохмотьях, дрожавших от холода. Закоренелые бунтовщики были приговорены к наказанию, двое даже к смертной казни. Президент простил всех, а в декабре свирепо предостерег конгресс: демократические общества — корень зла.
Весной 1795 года в сенате в глубокой тайне началось обсуждение договора, подписанного Джеем с Англией 19 ноября 1794 года. Условия его были неудовлетворительны даже с точки зрения многих федералистов — Англия всего-навсего обещала эвакуировать форты на северо-западной границе США, то есть выполнить постановления еще договора 1783 года. США смирились с тем, что при определенных условиях грузы на американских судах, направлявшихся во Францию, могли конфисковываться англичанами, разумеется с компенсацией. Острые спорные вопросы о довоенных долгах граждан США Англии и другие подлежали арбитражу. Несмотря на явное ущемление США, Вашингтон требовал ратификации договора, ибо понимал — иного не дано, в противном случае война. Сенат одобрил договор незначительным большинством.
Когда условия договора стали достоянием гласности, страну потрясли волнения. Преобладало мнение, что Джей предал США злейшим врагам. Его чучело многократно сжигалось, ораторы-республиканцы открыто обвиняли Джея в том, что он платный шпион Англии. Гамильтон попытался публично высказаться в пользу договора в Нью-Йорке. Его забросали камнями, и он, окровавленный, едва унес ноги с трибуны. Раздавались призывы: «Проклятье Джорджу Вашингтону!», даже Джефферсон счел возможным отозваться о президенте: «К черту его добродетели, они губят страну». Все это не произвело впечатления на Вашингтона, он был преисполнен решимости удержать страну от войны и вопреки негодованию большей части соотечественников преуспел. Президент все же не сотворил чуда, ибо за ним стояли те, кто одобрил в 1789 году конституцию, — имущее меньшинство: торговые палаты, собрания купцов и банкиров Новой Англии.
К 1796 году все правительство обновилось — ушел государственный секретарь Рандольф, обвиненный в получении взяток от Франции, покинул свой пост Гамильтон, и даже Нокс распростился с кабинетом. Вашингтон набрал новых министров, они удовлетворяли единственному требованию президента — быть верными. Вашингтон мало интересовался делами, он считал, что опасный кризис позади, и помышлял только о близкой отставке. Президент не скрывал, что глубоко обижен партийными распрями, сокрушенно повторяя — после сорока пяти лет служения родине его сравнивают то с Нероном, то с карманным воришкой, он «публично обливается грязью шайкой мерзких писак». Человек, дороживший своей репутацией, каким был Вашингтон, не мог и помышлять о третьем сроке на посту, который причинил ему столько огорчений.
В сентябре 1796 года Вашингтон обратился с «прощальным посланием» к стране, предостерегая против партийных распрей и больше всего против «иностранного влияния» США. Он настаивал на том, что Америка должна быть в стороне от европейских дел. Он обосновал положение о том, что Соединенные Штаты должны стремиться всегда иметь свободу рук в международных делах.
«Нация, — наставлял президент, — которая относится к другой с привычной ненавистью или с привычными добрыми чувствами, в определенной степени является рабом. Такая нация — раб своей враждебности или своих добрых чувств, любого из двух достаточно, чтобы увести ее от своего долга и интересов… Основное правило для нас в отношениях с другими государствами заключается в том, чтобы расширять с ними торговые отношения, но иметь как можно меньше политических связей». Эти положения были канонизированы в Соединенных Штатах.
Наконец все государственные заботы позади. Он частное лицо. Д. Адамс, взобравшись на пирамиду власти, нашел основания остаться недовольным Вашингтоном. Он сварливо описал жене свою инагурацию: «Конечно, сцена была торжественной, и уважение ко мне усиливало присутствие генерала, выражение лица которого было столь же безмятежным и ясным, как день. Казалось, он наслаждается триумфом надо мной. Мне казалось, что я читаю его мысли — «A! Ну вот я ушел, а ты вступил! Посмотрим, кто из нас будет счастливее!» Зала палаты представителей была набита до отказа, я не видел ни у кого сухих глаз, только у генерала».
Он действительно был счастлив. 15 марта 1797 года Вашингтон уехал в Маунт-Вернон и, за исключением одной краткосрочной поездки в Филадельфию, больше не покидал родной дом. Старик стал тем, кем был двадцать лет назад, — плантатором, обдумывающим хозяйственные планы, занятым по горло мелкими делами.
Он так описывал свой типичный день: «Я встаю с солнцем… Я все глубже погружаюсь в дела и все отчетливее вижу раны, нанесенные моим предприятиям за восемь лет отсутствия. Ко времени, когда я кончаю с этим (вскоре после семи часов), подают завтрак… и, покончив с ним, я сажусь на лошадь и объезжаю мои фермы, что занимает время, пока не приходит пора одеваться к обеду. За столом почти всегда незнакомые лица, люди, по их словам, приезжают из уважения ко мне. Я размышляю — не объяснит ли слово «любопытство» в равной степени их цель? И как это отличается от веселой трапезы с избранными друзьями из общества! Сидим за столом, гуляю. Чай, и вот время вносить свечи, и, если мне не препятствует собрание людей в доме, я удаляюсь к своему письменному столу — пора отвечать на письма. Но я устал и не хочу заниматься этим, думая, что для него подойдет и следующий вечер. Он приходит и приносит с собой те же причины, по которым я откладываю работу, и так далее… Я не заглядывал в книги с возвращения домой и не смогу сделать этого, пока не переделаю своих дел и пока вечера не станут длиннее, а к тому времени я, может быть, буду читать книгу Судного Дня». Вечер жизни.
Смерть разредила кружок друзей, а те, кто были относительно молоды, были заняты своими делами далеко от Маунт-Вернона. Из Англии приехал один из Фэрфаксов, но не Салли. Смех седовласого Отца Страны слышали разве зеленые юнцы — дети родственников и, конечно, отрада последних лет жизни Вашингтона — приемная внучка Нелли Кастис. Она выросла под бдительным оком деда и бабки и в девятнадцать лет объявила, что никогда не выйдет замуж. Вернувшись с бала, она радостно сообщила Вашингтону, что ни один из светских молодых людей не взволновал ее. На что мудрый дед возразил: «Ты, как и другие, вероятно, поймешь, что страсти твоего пола легче возбуждаются, чем успокаиваются. Поэтому не хвастайся преждевременно своей нечувствительностью или силой своего сопротивления. Человек устроен так, что в него вложено много зажигательного материала…»
Он был прав, мудрый старик. В день его рождения в 1799 году Нелли вышла замуж за племянника Вашингтона Лоуренса Льюиса. В начале декабря она родила дочь.
Так шли дни, недели, месяцы. В дневнике Вашингтона пометки — теплый день, холодный день, дождь, мороз. Последняя запись — 13 декабря 1799 года: термометр упал, мороз. В этот день он, как обычно, объезжал фермы. Пошел холодный дождь со снегом, Вашингтон промок до нитки. Вечером, когда он вернулся домой, его бил озноб. Он рассудил, что простудил горло.
На другой день — сильный жар, воспаление легких. Съехались врачи, практиковавшие по соседству. Их было трое, они составили консилиум и постановили лечить кровопусканием. Отворили кровь раз, другой, третий. По воззрениям медиков нашего времени, это убийство, по мнению эскулапов того времени — лучшее лечение от всех болезней. Оно привело к быстрому концу.
Вашингтон чувствовал, что умирает, он попросил Марту найти завещание. Тобиас Лир не отходил от угасавшего Вашингтона, которого до последних минут не оставило присутствие духа. Истощенный кровопусканиями, он попросил верного секретаря повернуть его в постели. Лир повиновался. Задыхавшийся Вашингтон с трудом промолвил:
— Боюсь, что затрудняю тебя.
— Что вы, сэр, — пролепетал Лир.
Вашингтон улыбнулся:
— Таков наш долг друг другу. Надеюсь, что, когда тебе потребуется помощь такого рода, ты найдешь ее.
Марта сидела в кресле у ног умиравшего. У двери столпились слуги-негры. К десяти вечера Вашингтон затих, затем левой рукой сжал запястье правой. Он шевелил губами — считал пульс. Внезапно рука упала — Вашингтон отошел в вечность.
ТЕПЕРЬ О ЛЕГЕНДЕ
История нашей революции будет сплошной ложью с начала до конца. Ее суть — доктор Франклин электрическим жезлом ударил о землю, и выскочил генерал Вашингтон. Франклин наэлектризовал его, и только они вдвоем вели всю политику, приняли все законодательство и выиграли войну.
ДЖОН АДАМС, второй президент США
Столица США — Вашингтон. В стране, к прискорбию молодых почтовых работников, еще 120 «Вашингтонов» — городов и деревень. На дальнем северо-западе находится штат Вашингтон. Это имя носят семь гор, восемь рек, десять озер, тридцать три округа и девять колледжей. Суровый Вашингтон — первый среди равных «отцов-основателей» — пристально смотрит с почтовых марок и банкнотов, показывает профиль с монет. Его портреты и статуи — обязательная часть обстановки бесчисленных оффисов, а в штате Южная Дакота, на скалистом склоне ряд голов «отцов-основателей», вырубленных на века и тысячелетия, начинается с массивной головы Вашингтона — двадцать метров от макушки до подбородка. Подвиг, составивший бы гордость языческой цивилизации, затерявшейся во мраке веков, и повторенный в стране «бога и моей» к вящей славе вклада США во всемирную историю.
Зрительно перед американцем всегда облик первого президента — величественный государственный деятель с сурово поджатыми губами. Смертельно серьезный человек, абсолютно чуждый земному и помышляющий только о благе государства. Таким впервые запечатлел его американский художник Гилберт Стюарт, писавший и не дописавший портрет с натуры в 1796 году. Но и в этом виде произведение потрясло уважительных современников; художник тут же получил заказ сразу на 39 копий, которые он поспешно изготовил. От этого портрета пошло нынешнее самое распространенное изображение Отца Страны — Вашингтона.
Стюарт был беспредельно рад — он исполнил патриотический долг гражданина юной республики и расплатился с долгами. В 1775–1793 годах он работал в Англии, снискал славу прилежного живописца и человека, живущего не по средствам. Стюарт поторопился вернуться на родину, обретшую свободу от английской тирании, спасаясь от долговой ямы в Англии. Надежды на то, что работа при дворе Вашингтона озолотит его, оправдались.
Соперник удачливого живописца Рембрандт Пил, любовно выписывавший менее официальные портреты Вашингтона, так объяснял генезис сверхпопулярного полотна конкурента: «Судья Вашингтон (племянник президента Башрод. — Н. Я.) рассказывал мне, что, когда его дядя впервые позировал Стюарту, он надел новые зубные протезы из кости, которые, однако, были неважно сделаны и не давали возможности свободно говорить. Ощущение было такое, как будто во рту было полно воды (таковы точные слова судьи Вашингтона). Сам Стюарт говорил мне, что ему никогда не приходилось писать с натуры столь неразговорчивого человека, а он всегда старался беседовать с клиентом на различные темы, чтобы схватить естественное выражение лица. Повинны были искусственные зубы, и, к несчастью для мистера Стюарта, Вашингтон надевал протезы на каждый сеанс, надеясь, как оказалось — тщетно, что в конце концов они притрутся. Мне повезло — я успел закончить свой портрет до изготовления новых протезов, Вашингтон позировал передо мной в старых, сделанных много лет назад в Нью-Йорке».
Творческая гордость так и сквозит в незамысловатом рассказе, но Пил прав только отчасти. Ровно за десять лет до того, как Вашингтон предстал перед Стюартом, в 1785 году, он писал в известном письме Фрэнсису Хопкинсу, навязывавшему ему очередного живописца: «Знаешь, есть старая пословица — взялся за гуж, не говори, что не дюж. Я настолько притерпелся к прикосновениям карандашей художников, что ныне полностью в их власти и высиживаю, подобно «Терпению на цоколе», пока они малюют черты моего лица. Помимо всего прочего, это доказывает, что может сделать привычка с человеком. Сначала я бесновался и сопротивлялся, как необъезженный жеребец под седлом. Постепенно я оставил бурные протесты и сник. Теперь ни одна кляча не плетется столь покорно в свое стойло, как я в кресло к художнику».
В свете этого авторитетного свидетельства Пилу нечем особенно гордиться, он застал Вашингтона уже «прирученным» коллегами по кисти. И еще одно обстоятельство — Стюарт, проклиная скверные протезы Вашингтона, пытался исправить черты его лица, убедив натурщика нещадно набивать рот ватой! Вашингтон, как и любой на его месте, подчинился неохотно. Все это, несомненно, производило на него тягостное впечатление, он взирал на мучителя-художника с легко различимой неприязнью. Отсюда то недовольное выражение лица, неплохо схваченное все же небесталанным Стюартом, которое можно принять за суровость.
Вашингтон, позируя перед Стюартом, конечно, пребывал в размышлениях неприятного рода, понять которые до конца дано только побывавшему в мохнатых лапах дюжего протезиста, усугублявшиеся непрерывной трескотней болтливого художника. Служитель искусства наверняка ссылался на важность запечатлеть величественные черты для потомков, Америки, мира и т. д., что только раздражало старого солдата, дивившегося вертлявому щелкоперу, размахивавшему кистью. Старик презирал европейский политес.
Так получился на портрете рот, который тогдашние американские газеты непочтительно именовали «похожий на щель почтового ящика», но со временем объясненный глубокими философскими раздумьями.
Причины неземного выражения лица Вашингтона, таким образом, самые что ни на есть земные и даже чисто прозаические! О них, конечно, непосвященные не догадывались. Дальше больше.
Умнейший человек, американский мыслитель Эмерсон, украсивший свою столовую копией с портрета Стюарта, обнародовал в 1852 году результаты многодневного изучения лика президента: «Тяжелые, свинцовые глаза взирают на вас взглядом быка на пастбище. А рот таит серьезность и глубину спокойствия, как будто этот человек вобрал в себя всю возвышенность Америки, ничего не оставив беспокойным, предприимчивым, истеричным согражданам». Если Эмерсон так считал, то какой спрос с современников первого президента!
Американцы стали творить себе кумира еще при жизни Вашингтона. Отсюда предпочтение, отданное работе иконописца Стюарта перед всеми остальными. Вероятно, два обстоятельства стремительно подвинули еще прижизненную канонизацию Вашингтона. Во время Американской революции, представлявшейся людям с заячьими сердцами делом безнадежным, то, за что поднялись колонисты, легко ассоциировалось с живыми носителями идей. Вашингтон был вождем и как таковой наделялся всевозможными мыслимыми и немыслимыми добродетелями, перед которыми неодолимо тянуло упасть на колени.
Другое обстоятельство таилось в стремительном росте Соединенных Штатов. Популярный, хотя, как показано дальше, и не по очень похвальным причинам, американский историк Д. Бурстин, исследуя психологический механизм эскалации культа личности Вашингтона на рубеже XVIII–XIX веков, в 1965 году довольно точно заметил: «Новая нация возникла, не успев обзавестись историей… Национальная проблема заключалась не в том, как сделать Вашингтона исторической личностью, а в том, как превратить его в миф… Самое примечательное заключалось не в том, что Вашингтон в конце концов стал полубогом, Отцом Страны, а в том, что трансформация произошла чудовищно быстро. Нет лучшего доказательства отчаянной потребности американцев в достойном, воспеваемом национальном герое, чем их лихорадочная поспешность с возведением Вашингтона в ранг святого.
Если в Европе для канонизации таких масштабов потребовались бы столетия, у нас оказалось достаточным считанных десятилетий».
Еще только вырисовывались контуры победы в освободительной войне, а в пьесе «Падение Британской тирании» Д. Леккока фигурировал Вашингтон со всеми приличествующими герою возгласами и клятвами («Я обнажил свой меч и не вложу его в ножны, пока Америка не будет свободной, или я погибну» и т. д.). Артисты на импровизированных подмостках, а поэты в одах, торопливо сочиненных на злобу дня, щедро наделяли Вашингтона качествами, прямо почерпнутыми из античного эпоса, и даже больше. Весьма здравомыслящий Филипп Френо написал о Вашингтоне: «…отважный в битвах, чьи подвиги повергли бы в благоговейный трепет героев Рима и греческих богов».
Популярные поэты Д. Хэмфри и Д. Сиволл ввели в оборот эпитет «божественный Вашингтон». Уже в 1778 году в ежегоднике «Ланкастер альманах» издатель и составитель Ф. Бейли впервые назвал Вашингтона «Отцом Страны». Легенда о нем катилась как лавина.
Некий благочестивый квакер Поттс сообщил, что лопни его глаза, но он видел — в ту зиму в Вэлли-Фордж Вашингтон, стоя на коленях в глубоком снегу, долго и истово возносил молитвы всевышнему! История, впервые опубликованная в 1808 году Уимсом (о нем речь дальше), украсила патриотический миф. Обратившись к истории возникновения культа героя в США, Д. Вектор по проверке фактов заключил в 1941 году: «Отныне миф был неуязвим. Что Вашингтон никогда не молился на коленях даже в церкви, а стоял, не имело значения для легенды. Этот эпизод был высечен на каменной плите на здании Казначейства в Нью-Йорке, и всего десять лет назад на американской почтовой марке был изображен коленопреклоненный Вашингтон в Вэлли-Фордж. По этому случаю председатель комиссии парка Вэлли-Фордж доктор И. Пеннипэкер публично заявил безуспешный протест против увековечивания лжи».
Пальма первенства в нагромождении благостных выдумок, несомненно, принадлежит первому биографу Вашингтона пресловутому Мэсону Уимсу. Этот чрезвычайно предприимчивый человек родился в 1759 году, во время Американской революции он изучал медицину в Англии. Затем стал священником в США. В начале девяностых годов потерял кафедру, но не утратил страсти- нести людям полезные знания. Последние тридцать лет жизни (умер в 1825 году) Уимс разъезжал по стране — от Нью-Йорка до штата Джорджия, торгуя книгами назидательного содержания. При необходимости он давал прямо в фургоне представление кукольного театра и играл на скрипке, что высоко ценили на деревенских танцах, а больные могли приобрести у него «патентованные» лекарства.
Уимс жил надеждой на скорое обогащение, свято верил, что американцы рано или поздно хорошо оплатят его неустанные труды на ниве их просвещения и здравоохранения — разве не раскупали они, «как горячие пирожки», его очередной трактат — о вреде алкоголизма, который он обычно продавал в тавернах, предварительно лично показав с подходящего возвышения, до какого скотского состояния доводят человека горячительные напитки?
Помимо собственной торговли, Уимс был агентом филадельфийского издательства Кэри и Вейна. В 1799 году его осенила идея — сделать популярную книжку о Вашингтоне, ибо поторопился он написать издателям: люди «не задумаются отдать четвертак за то, что удовлетворит их ненасытное любопытство. Пусть они получат полноценный товар за свои деньги». Уимс никогда не встречался с Вашингтоном, его контакты с великим американцем ограничились получением в 1799 году вежливого письма от бывшего президента, подтверждавшего, что до Вашингтона дошло очередное произведение плодовитого автора под названием «Филантроп, или На двадцать пять центов политического любовного зелья». Брошюрка посвящалась Вашингтону.
В июне 1799 года Уимс восторженно сообщает издателям, что далеко продвинулся в работе: «Я почти завершил рукопись, которая названа или пусть будет названа «Добродетели Вашингтона», книга искусно написана, полна живых анекдотов и, по моему скромному разумению, прекрасно соответствует вкусам Народа Американского (каковой автором был поименован по-латыни. — Н. #.). Как насчет того, чтобы напечатать его под моим именем, а на титуле изобразить самого героя с надписью что-нибудь в таком духе: «Джордж Вашингтон, Ангел-хранитель страны», присовокупив: «Иди своим путем, старый Джордж, умри, когда ты пожелаешь, мы больше не увидим никого подобного тебе»?»
Не прошло и полугода, как произошло прискорбное событие — смерть Вашингтона в декабре 1799 года. Она открыла предсказанный Уимсом рынок. Нужно было спешить издавать и продавать.
Письмо бойкого литератора Кэри и Вейну по случаю кончины Отца Страны удивительно деловое: «Вашингтон, как вы знаете, ушел! Миллионам людей не терпится прочитать что-нибудь о нем. Я почти закончил приготовление чтива. Шесть месяцев тому назад я начал собирать анекдоты о нем, я жил этой работой. Вот мой план! Я рассказываю о его жизни достаточно подробно — иду с ним от рождения через французскую, индейскую, английскую и революционные войны, довожу его до кресла президента и трона в сердцах 5 миллионов людей. Я затем показываю, что неслыханному возвышению он обязан своим Великим Добродетелям: 1. Он был богопослушен и чтил религиозные принципы. 2. Его патриотизму. 3. Его великодушию. 4. Его трудолюбию. 5. Его выдержке и трезвости. 6. Его справедливости и т. д. и т. п. Все это будет примером, достойным подражания для нашей молодежи… Полагаю, что мы сможем быстро распродать книжицу за 25 или 37 центов, а она не обойдется нам дороже десяти центов».
Все перечисленные «Великие Добродетели» да и загадочные «и т. д. и т. п.» впоследствии разрослись в многотомные публикации, но никто не мог обогнать первого автора. Книга Уимса «Истинный Патриот, или Добродетели Вашингтона. Богатая биография с анекдотами, забавными и удивительными» впервые увидела свет в 1800 году. За пятьдесят лет она выдержала 59 изданий и еще 30 до 1921 года.
Уимс, конечно, не мог предвидеть того, что случилось после его смерти. Но при жизни он радовался необыкновенно. В ажиотаже массовой распродажи он восклицал: «Бог знает, что я ненавижу больше всего на свете залежалые товары, плохую торговлю, возвращение нераспроданных товаров и равнодушные взгляды (покупателей). Радость души моей — быстрая и чистая продажа, тяжело в карманах, а на сердце легко».
При несомненной любви Уимса к анекдотам (заголовок книги, подработанный в издательстве, гласил: «Жизнь Джорджа Вашингтона с удивительными анекдотами, лестными для Него и поучительными для его юных соотечественников») он все же трудился в рамках определенной идеологии. Несколько позднее она получила название теории «явного предначертания», а в начале XIX века и без названия суть ее была ясна. Одной пространной выдержки достаточно для иллюстрации, мягко говоря, исторических взглядов автора.
Книжка открывалась следующими претенциозными суждениями: «По сей день многие добрые христиане никак не могут поверить, что Вашингтон действительно родился в Вирджинии! «Что? — говорят они с улыбкой. — Ха-ха! Джордж Вашингтон из Вирджинии? Невероятно! Он, конечно, был европейцем: такой великий человек не мог родиться в Америке». Итак, великий человек якобы никогда не мог родиться в Америке! Однако славная закономерность и состоит в том, что он должен был родиться только в нашей стране! Как мы знаем, природа любит гармонию, великое — великому, так и происходит в природе. Где, например, у нас искать самое крупное творение природы — кита? Не в мельничном пруду, осмелюсь заметить, а в открытом океане, там бороздят волны большие корабли и киты резвятся во вздымаемой ими пене.
По тем же законам природы где нам искать, кроме Америки, самого великого человека — Вашингтона? Это великий континент, поднимающийся у ледяного полюса, широко простирающийся к югу почти на длину всей земли, омываемой бурными водами половины океанов мира! Соразмерно континенту и обставлена эта земля — всевышний поместил здесь горы, упирающиеся в тучи, озера, подобные морям, и могучие реки. Все так возвышенно, все настолько превосходит имеющееся на других континентах, что мы по справедливости можем заключить — Америке предначертаны великие люди и великие дела.
Таков вердикт честнейшей аналогии, и соответственно мы находим, что Америка высокочтимая колыбель Вашингтона, который и родился у Поп-Крик, в округе Вестморленд в Вирджинии, 22 февраля 1732 года.
В таком духе, постепенно увеличиваясь в размерах — с 80 страниц в первом издании до 228 страниц в шестом издании, опубликованном в 1808 году, — книжка триумфально шествовала по Америке, постоянно пополнялась новыми деталями и анекдотами, частично где-нибудь вычитанными автором, а в ряде случаев просто выдуманными. Но как можно было их проверить? На титульном листе, начиная с шестого издания, автор представлял себя: «бывший священник прихода Маунт-Вернона». Ни его, ни издателей не смущало в их глазах, вероятно, второстепенное обстоятельство — Уимс не мог быть там священником, ибо такого прихода попросту никогда не существовало.
Никто, однако, не пригвоздил предприимчивого лжеца к позорному столбу, ибо он изобразил Америку так, как ее хотели видеть раздувавшиеся от гордости за недавно обретенную независимость американские буржуа. В конечном счете Уимс пером участвовал в развернутом строительстве града господнего в Новом Свете, долженствующего помочь всему миру узреть истинный свет.
Поэтому не только безропотно проглатывались, но, по крайней мере до гражданской войны в США (1861–1865 гг.), входили в школьную программу бесстыдно наивные сочинения Уимса. В молодой заокеанской республике детские басни принимались за достоверные факты. Многие дивные подробности были уже в первом издании биографии героя, но только пятое издание украсил несравненный, классический рассказ — маленький Джордж срубил вишневое дерево в саду, и, когда отец сурово осведомился, кто виновник бесчинства, сын возгласил: «Я не могу лгать, папа, ты знаешь, я не могу лгать. Я срубил дерево топором». А затем трогательная до слез сцена. «Иди ко мне, сынок, — воскликнул в великом волнении отец, — иди ко мне на руки, я рад, Джордж, что ты убил мое дерево, ибо ты отплатил мне в тысячу раз большим. Героический поступок моего сына стоит больше тысячи деревьев, хотя бы и цветущих серебром и с плодами из чистейшего золота».
Помимо этой и других столь же впечатляющих историй о правдивости юного Джорджа, Уимс сообщил, что его и Америки герой в юности был необычайно сильным — легко перебрасывал камни и серебряные доллары (что было под рукой) через широкую реку Раппаханнок. Впрочем, чему удивляться — Геркулес был здоровым парнем, почему Вашингтону уступать ему?
Вишневое дерево осеняло поступки Джорджа, а по мере возмужания он становился поистине легендарным. «Прославленный индейский воин», сражавшийся с Вашингтоном, видя, что его противник ускакал с кровавого поля брани живым и невредимым, горестно воскликнул: «Вашингтон не рожден, чтобы быть убитым пулей! Я, тщательно прицеливаясь, семнадцать раз стрелял в него, но не поверг его!» При всей нелепости этих выдумок кто мог их проверить, когда существовало всеобщее желание верить.
В саду Вашингтонов, наверное, росли вишневые деревья, а молодой Вашингтон слышал свист пуль в стычках с индейцами. И кто, наконец, мог задним числом опровергнуть, что мать Вашингтона, нося под сердцем будущего Джорджа, не видела сна — ее сын будет великим?
Дело не в неистощимом на выдумки сочинителе, а в психологическом климате молодой страны, настойчиво и даже истерически искавшей сверхгероев, перед которыми нужно пасть ниц, и обязательно всем вместе. Ибо оставшийся стоять тем самым зримо обнаружил свою сущность суетного еретика, бросающего вызов благословенному конформизму. Только так и сколачивается (особенно на первых порах) национальное единство, разномыслие не поощряется, особенно в оценке священных идолов, выполняющих строго определенные цели — персонифицировать ценности, принятые данным обществом.
Морализировавший Уимс обожествлял те качества, из которых и складывается характер буржуа, во всяком случае, становилось ясно, каким он хочет видеть себя. Выполнение долга и проистекающая отсюда прямая денежная выгода в повествовании идут рука об руку. Вашингтон даже в детстве действует так, а не иначе, ибо знает, что будет вознагражден. Вероятно, по этим причинам о сочинении Уимса сложилось высокое мнение у одного из соратников Вашингтона, Генри Ли, известного своей деловитостью. «Самого большого одобрения, — заявил Ли, — заслуживает биограф, основная цель которого повергнуть юные умы к страстной любви добродетели, олицетворяемой дражайшим для страны человеком». Разумеется, со временем и эта сентенция заняла видное место в книжке Уимса.
Сумма идей, развитых Уимсом, полностью соответствовала общепринятым стандартам тогдашней Америки. Один из читателей и почитателей Уимса, А. Линкольн, заметил: «Будем верить, как в дни нашей юности, что Вашингтон был безупречен, ибо человек становится лучше… когда верит, что совершенство возможно». Выступая на церемонии по случаю дня рождения Вашингтона, А. Линкольн, политик, в то время почти неизвестный за пределами родного Иллинойса, счел нужным сказать: «Вашингтон — величайшее имя на земле, давным-давно самое звучное в деле гражданской свободы и еще более великое в деле моральной реформации… Добавить блеск солнцу или славе имени Вашингтона в равной степени невозможно. Пусть никто и не пытается сделать этого. В священном трепете мы произносили его имя, и уже одно оно сияет в своем величии».
Вашингтон, как постепенно ваялась и лепилась его фигура в США, представал человеком не XVIII века, а идеалом англосаксонского мира XIX века со склонностью к дидактике, занятого бурной деловой деятельностью и не забывавшего в нужных случаях опереться в доказательство чистоты своих помыслов на библейские каноны. Монументальный образ Вашингтона, созданный Уимсом, при ближайшем рассмотрении оказывался очень заземленным. Точнее, Уимс развивал викторианские идеи, задолго предвосхитив королеву Викторию.
Квалифицированный американист, английский профессор М. Канлифф попытался разрешить парадокс — как Вашингтон, задуманный Уимсом героем без страха и упрека, на деле для мыслящего человека XX столетия предстал человеком, преследующим весьма прозаические цели. «Уимс, — пишет Канлифф, — сумел навязать своего апокрифического Вашингтона целой нации на протяжении целого столетия. Уимс, без сомнения, стал бы утверждать, что он бы не смог сделать этого, если бы люди не хотели верить. Это совершенно верно. Девизом семьи Вашингтонов было «Exitus acta probat»[2]. Для собственного удобства и оправдания своих выдумок Уимс мог неверно перевести его как «Цель оправдывает средства». В конечном счете он изобразил Вашингтона безупречным человеком со всеми добродетелями XIX столетия — от мужества до пунктуальности, от скромности до бережливости. Все это достижимо для человека, и эти качества приносят успех».
Интерпретация, ставшая возможной в середине XX столетия (книга М. Канлиффа, положительно оцененная американскими знатоками вопроса, опубликована в 1958 году), отразила более глубокое понимание всемирной истории. В XIX столетии, когда в Соединенных Штатах прогресс ассоциировался с ростом капитализма, дикие выдумки Уимса-принимались и развивались с величайшим благоговением — стоит только следовать указанным им добродетелям, и любой готов в Вашингтоны.
Эпигонов Уимса расплодилось великое множество. Они без устали состязались по части красочных эпитетов и превосходных степеней применительно к герою. Г. Гастингс, например, издавший в 1845 году трогательно-назидательную «Иллюстрированную жизнь Джорджа Вашингтона», учил: «Первое слово ребенка должно быть «мать», второе — «отец», третье — «Вашингтон».
Для анализа рецептуры «творчества» Уимса и К° еще не было достаточного исторического опыта. Над ними стали посмеиваться, пожалуй, со второй половины XIX века, удивляясь главным образом неистовому размаху фантазии плодовитых авторов.
Марк Твен настаивал, что он более великий человек, чем Вашингтон, — если Вашингтон не мог лгать, то он, Марк Твен, куда-де был способен к этому, хотя не использовал часто представлявшуюся возможность.
Если Вашингтон-человек вышел из рук Уимса изрядно деформированным, а в благочестивых попытках превратить его в святого был изуродован до неузнаваемости, то еще худшая судьба ожидала Вашингтона — воина, политика и государственного деятеля в дружественных объятиях маститых, серьезных людей, частично почитавших себя историками или действительно посвятивших всю свою жизнь служению Клио. Они с самыми возвышенными намерениями втискивали Вашингтона в монументальные формы, отлитые согласно их представлению о первом президенте, беспощадно усекая и даже отсекая все лишнее. Операции были трудоемкими, но материала на первый взгляд хватало с избытком — Вашингтон оставил громадное наследие. Только личные документы Вашингтона, хранящиеся в Библиотеке конгресса, ныне собраны в 75 тысячах досье — дневники, деловые и финансовые документы, полученные и отправленные письма.
Беда, однако, в том, что сам Вашингтон терпеть не мог любопытных, сующих нос в его дела. Истинный джентльмен, по вирджинским понятиям XVIII столетия, должен превыше всего быть сдержанным, даже замкнутым. Джордж Вашингтон, по крайней мере в отношении своих личных бумаг, с лихвой выполнил эти требования. Публицист Ф. Беллами, издавший в 1951 году фундированную работу «Личная жизнь Джорджа Вашингтона», с достаточным основанием мог написать в предисловии: «На протяжении всей своей жизни Вашингтон не позволил ни одному из пишущей братии заглянуть в его бумаги. Он не беседовал с Уимсом и отказал преподобному Гордону использовать какие-либо из его бумаг, хотя этот джентльмен работал над первой историей (Американской) революции. Перед смертью он уничтожил все письма, которые, как мы знаем, супруга Джорджа Уильяма Фэрфакса написала ему. В довершение всего после кончины Вашингтона вдова Марта Кастис сожгла все письма, которыми супруги обменивались на протяжении сорока лет, за двумя-тремя такими незначительными исключениями, что историки сомневаются в подлинности сохранившихся документов».
Эти обстоятельства не смутили бы биографов Вашингтона периода до гражданской войны, даже если бы они были им известны. Их больше волновала законченность заранее начертанного образа, а не полнота документальной базы. Что до последней, то Маунт-Вернон со всем имуществом, включая документы, Вашингтон завещал Башроду, сыну любимого брата Джона, «во исполнение обещания, данного нами в холостяцкие годы». Башрод, вероятно, был не бог весть какой аккуратный человек, он роздал или одолжил часть документов и, конечно, не получил их назад. Кое-что, вероятно, безвозвратно утрачено.
Забегая вперед, чтобы покончить с историей архива Вашингтона, уместно упомянуть о судьбе интереснейшего письма молодого полковника Вашингтона Салли Фэрфакс, случайно обнаруженного в Англии и опубликованного в нью-йоркской «Геральд» 30 марта 1877 года. Из письма, датированного 12 сентября 1758 года, следовало, что, будучи обрученным, накануне свадьбы с Мартой Кастис Вашингтон по-прежнему безнадежно любил другую. «Миру нет дела знать объект этой любви, когда я пишу тебе о ней и когда я хочу скрыть это», — открылся любимой Вашингтон. Трогательное письмо, на мгновение воскресившее человека с горячей кровью, никак не могло принадлежать статуе, пусть мраморной, в которую превратили Вашингтона.
Публикация наделала много шума. Подлинник приобрел на аукционе в Нью-Йорке анонимный покупатель. Имя этого охранителя легенды о Вашингтоне осталось неизвестным. Документ нашли только в пятидесятых годах XX столетия, ныне он хранится в рукописном фонде Гарвардского университета.
В двадцатые годы, в пресловутое «позолоченное десятилетие» торжества бизнеса, мультимиллионер Д. П. Морган счел возможным выступить в роли самозваного цензора. Он торжествующе оповестил американцев, что предал огню несколько «сомнительных» по содержанию писем Вашингтона, тем самым достойно защитив память первого президента! Банальный по американским критериям эпизод (для историка равнозначный предумышленному убийству) дает новое оружие в руки тех исследователей, которые давно указывают, что монополистический капитал уродует даже души рабов капитализма, злоумышленно похищая у нации ее подлинную историю…
Его первую научную биографию написал верховный судья США Джон Маршалл. Он прочно вошел в историю США по должности, ибо просидел на ней тридцать лет вплоть до 1837 года. Что до экскурса Маршалла в тогда таинственную Вашингтониану, то странствование юриста окончилось катастрофически, хотя в начале XIX века в США и сочли, что образованнейший путешественник — официальный историограф Вашингтона.
Автор, вероятно, не совладал с массой материала. Он легко получил разрешение у наследника великого президента Башрода использовать любые документы. Иначе и быть не могло — оба принадлежали к судейскому клану. Башрод в 1798–1828 годах был заместителем судьи в Верховном суде. Пять томов монументального творения историка-юриста вышли в 1804–1807 годах. Педантично и сухо написанные, невероятно скучные, они навевали безысходную тоску, хотя, казалось бы, Маршалл мог оживить повествование собственными воспоминаниями — он был среди солдат революции в Вэлли-Фордж. Злоязычный Джон Адамc, один из тех, кто стоял у истоков американской независимости, сухо комментировал: Маршалл написал не книгу, а соорудил «памятник с основанием в 100 и высотой в 200 квадратных футов».
Ничего человеческого в Вашингтоне, изображенном Маршаллом, конечно, не было. Труд тем не менее был издан не без пользы. Ловкий Уимс занялся бесстыдным плагиатом из многотомника, заодно взявшись распространять произведение маститого автора. Цена три доллара за том быстро положила конец предприятию, одновременно побудив священника А. Банкрофта также сочинить биографию Вашингтона. В предисловии к своей работе Банкрофт выразил надежду, что она не будет лишней, ибо труд Маршалла по карману только состоятельным людям. По содержанию биография Банкрофта недалеко ушла от панегирика Маршалла.
В 1832 году исполнялось сто лет со дня рождения Вашингтона, даты, уже ежегодно отмечавшейся как национальный праздник. К этому времени иные в Соединенных Штатах громко заговорили о том, что пора повысить Вашингтона в ранге. Титул полубога больше не устраивал сверхпатриотов, хотя, как свидетельствовал европейский путешественник П. Свиньин, объехавший США примерно в то время, «каждый американец почитает священным долгом иметь в доме изображение Вашингтона, как у нас принято держать иконы святых».
Уже представлялось преуменьшением утверждение о том, что всевышний не даровал Вашингтону собственных детей, дабы он мог стать Отцом всего народа. Незадолго до 100-летия со дня рождения Вашингтона конгрессмен Б. Ховард от штата Мэриленд сообщил палате представителей: «С начала начал мира история всех времен и народов дает только два примера, когда день рождения человека празднуется после его смерти, — 22 февраля и 25 декабря». Хотя сверхпатриоты определенно перегнули палку и им не удалось потеснить Христа, заставив его разделить место с Вашингтоном, глухое эхо от их речей звучит по сей день — туристы в штате Вирджиния следуют по маршруту, обозначенному дорожными указателями «Так дойдешь до дома Матери Вашингтона Мэри».
Ливень книг о Вашингтоне обрушился на Соединенные Штаты в предвидении, после и во время празднования столетнего юбилея с его дня рождения. Воскресные школы, только что возникший, но уже процветавший новый институт в США получили от Анны Рид «Житие Вашингтона». Труд Маршалла переиздавался в различных вариантах. Плодовитый детский писатель С. Гудрич, работавший под псевдонимом «Питер Парли», в 1832 году выбросил на рынок книгу для юношества, что для него, сочинившего свыше 100 книг, большого труда, видимо, не составило. Другие вкладывали в соответствующие монографии все силы и знания без остатка. Учитель из штата Огайо Ф. Гласc спустя три года выпустил «Жизнь Джорджа Вашингтона в латинской прозе». На звучном языке древних римлян Гласc повествовал о дивных подвигах их прямых потомков по эту сторону Атлантики — Георгиуса Вашингтониуса, Томаса Джефферсониуса и других славных мужей. Учитель лукаво ввел в заголовок книги — написана «прозой», ибо оды, поэмы, стихи сыпались как из рога изобилия.
Благодатная почва Америки, обильно удобренная навозом шовинизма, довольно быстро впитала книжный поток, на поверхности остались считанные работы, продержавшиеся многие десятилетия. Довольно интересной оказалась попытка романиста Джеймса Полдинга оживить священную мумию патриотов (два тома, 1835 год). Самый весомый вклад сделал Д. Спаркс, нашедший золотую жилу — он разговорил самого Вашингтона, выпустив в течение четырех лет одиннадцать томов его документов, которые открывала в 1834 году биография, написанная Спарксом. На свет появился спарксианский герой.
Спаркс был человеком, безусловно, способным и трудолюбивым. Родившись в 1789 году в бедной семье, он упорным трудом выбился в люди в кастовом Бостоне. Но в конце концов спокойному существованию священника предпочел беспокойное ремесло публициста и историка, возглавив влиятельный журнал «Норс Американ ревью». С величайшей настойчивостью Спаркс стал убеждать Башрода Вашингтона разрешить ему издать бумаги великого дяди. Поначалу Башрод отказывался, ссылаясь на то, что у Маршалла вот-вот дойдут руки для этого. Спаркс продолжал соблазнять, предложив Башроду самому вынести суждение по поводу того, что можно, а что нельзя предавать огласке. Он взывал к честолюбию: «Если все работы Вашингтона будут представлены публике в форме, достойной предмета, это послужит национальному интересу, взволнует нацию, и можно предвидеть широкое и почетное признание».
Все было напрасно, пока Спаркс не сделал мастерский ход: доходы от публикации делятся пополам — половина ему, а половина Башроду и Маршаллу. На том в 1827 году и порешили. Спаркс засел за работу.
Он просмотрел груды материалов, произведя отбор, при котором возможности для вынесения произвольных суждений, что включать и что исключать, были велики — документов с избытком хватило бы, по крайней мере, на сорок томов. Спаркс задался целью так отобрать и отредактировать документы, чтобы показать Вашингтона гармоничным во всех отношениях. «Его моральные качества полностью гармонировали с интеллектуальными», — указал просвещенный составитель и принялся наводить образцово-показательный порядок в наследии Вашингтона.
Спаркс произвольно исключал абзацы в документах, представлявшиеся ему недостойными пера и облика основателя республики. Другие документы он переделывал по своему усмотрению. Наделенный фантастическим трудолюбием, Спаркс достиг немыслимого — Вашингтон по принуждению стал изъясняться языком, пристойным не фольклорному, а хрестоматийному герою.
Вашингтон, например, возмущенно писал об «экипажах, состоящих из негодяев» — американских каперов, действовавших из портов Новой Англии. Спарксианский Вашингтон не употреблял сочных эпитетов, в тексте осталось упоминание только об' «экипажах». Вашингтон восклицал, что войско из Коннектикута пронизано «грязным духом наемников», «грязный», конечно, исчезал, а «мерзкое поведение» коннектикутцев превращалось просто в «поведение». «Старина Пут» у Спаркса становился «генералом Путманом». Жалуясь на недостаток денег, Вашингтон писал — на имевшиеся средства можно купить «разве закуску блохе»; подправленный текст гласил: «Нам совершенно недостаточно средств для покрытия текущих нужд» и т. д. Только достойные слова исходили из уст достойного героя.
То не был злой умысел, напротив, Спаркс верно отбывал службу высокопоставленного жреца у алтаря Святого Вашингтона. Хотя исправления, точнее искажения, текста нигде не оговаривались, во «введении» к изданию Спаркс все же счел необходимым возвести общий принцип «улучшения» документов Вашингтона в великую добродетель. «Было бы непростительной несправедливостью, — писал он, — по смерти любого автора собрать его документы и особенно письма, никогда не предназначавшиеся для опубликования, и передать их в печать без предварительного тщательного редактирования».
Превыше и больше всего Спаркс стремился показать Вашингтона глубоко религиозным человеком. Ради этого он прибег к замечательной эквилибристике, объявив, что чрезвычайно редкие появления героя в храме и воздержание от участия в отправлении различных обрядов культа — лучшее доказательство его глубокой веры в бога. В специальном приложении к публикации «Религиозные взгляды» (Вашингтона. — Н. Я.) Спаркс разъяснял: «Он, надо думать, считал, что неуместно публично приобщаться к таинствам. Вследствие его серьезнейшего отношения к этому обряду он накладывал суровые ограничения на свое поведение на людях и свято верил: нельзя действовать непрактично в сложившихся условиях. Именно так надлежит думать серьезному человеку с тонкой душой и врожденным почитанием религии». А дабы окончательно убедить всех, Спаркс горячо заверил, что нигде в бумагах Вашингтона не случилось и намека на легкомысленное отношение к религии!
Компиляция Спаркса пользовалась бешеным успехом, вознаградив автора за труды во всех отношениях. С 1838 года Спаркс — первый профессор гражданской истории в США в Гарварде, д спустя 11 лет президент этого университета. Д. Ванкрофт на пороге славы крупного историка приветствовал старшего коллегу: «Вы счастливый человек, избранный благоволящим к вам Провидением, дабы привести в гавань бессмертия прекрасный корабль, и останетесь в памяти осмотрительным лоцманом».
Наследники Вашингтона, найдя труд бесподобным, преподнесли Спарксу кипарисовую тросточку, вырезанную из ветви дерева, осенявшего могилу первого президента. В свою очередь, Спаркс в 1837 году направил им обещанную долю доходов от издания. За вычетом издательских расходов общая сумма прибыли по тем временам оказалась значительной — свыше 15 тысяч долларов. На протяжении последующих лет Спаркс аккуратно пересылал семьям Вашингтонов и Маршаллов их долю доходов.
В течение нескольких десятилетий ставить под сомнение священное писание Спаркса почиталось бестактным. Ему полагалось верить до точки. Редкие еретики получали массированный отпор со стороны тех, кто считался лучшими американскими историками своего времени. Спаркса объявили основоположником исторической науки в США. Громадное преувеличение. Как заметил Самюэль Э. Морисон спустя примерно сто лет, то был «ложный рассвет» изучения истории в США. Классик американской литературы Вашингтон Ирвинг не имел возможности бросить ретроспективный взгляд во всеоружии столетнего опыта и поэтому, когда он взял на себя труд написать о Вашингтоне, то положил в основу изложения публикацию Спаркса. Пятитомный труд Ирвинга вышел в 1855–1859 годах. Писатель заключил, что Вашингтон «не имеет себе равных в истории, сияет истинным величием и славой». Ирвинг углубил представление о Вашингтоне, выведя его родословную от мифического Уильяма де Хартберна, нормандского рыцаря при дворе Вильгельма Завоевателя.
Д. Бурстин, исследовавший процесс мифотворчества в случае с Джорджем Вашингтоном, в 1965 году с определенной жалостью к писателю заметил: «Лучшей (из биографий Вашингтона середины XIX века. — Н. Я.) были пять томов Ирвинга, но и они не избежали заражения бациллой скуки. Судя по экземплярам труда Ирвинга, дожившим до XX столетия о никогда не раскрывавшимися страницами, эти тома чаще покупали, чем читали. Однако посмертная жизнь Вашингтона только начиналась».
Именно «жизнь» со всеми ее спорами, схватками и суетой, ибо безмолвная статуя Вашингтона постепенно стала вызывать вопросы, требовавшие обязательного ответа. Гражданская война в США, реконструкция несколько оттянули начало дискуссии о том, кем он, собственно говоря, был. Когда повседневные политические страсти улеглись, в стране, вступившей в эпоху зрелости, интерес к Вашингтону вспыхнул с новой силой.
Официальная трактовка послужила неиссякаемым источником для шуток и анекдотов, по большей части добродушных. Деликатно рассмеялся тот же Ирвинг. Его бессмертный Рип Ван Винкль, проспавший войну за независимость, обозревая родной край, так узнает о Вашингтоне: «Вместо высокого дерева, под сенью которого ютился когда-то мирный голландский кабачок, торчал длинный голый шест, и на конце его красовалось нечто похожее на красный ночной колпак. На этом шесте развевался также неизвестный ему пестрый флаг с изображением каких-то звезд и полос — все это было чрезвычайно странно и непонятно. Он разглядел, впрочем, на вывеске, под которой не раз выкуривал свою мирную трубку, румяное лицо короля Георга III, но и портрет тоже изменился самым удивительным образом: красный мундир стал желто-голубым, вместо скипетра в руке оказалась шпага.
Если с шуточками соотечественников в адрес Вашингтона как-то мирились, то покушения иностранцев на Отца Страны неизменно вызывали гнев. Английский классик У. Теккерей в романе «Вирджинцы» (1857–1859 гг.) невинно подтрунивал над английской и американской стариной. Сюжет романа — история о двух братьях-вирджинцах, оказавшихся во время войны за независимость в разных лагерях, затронул и Вашингтона. Даже отдаленно Теккерей не писал что-либо хоть в малейшей степени умалявшее достоинство американского святого.
В уста вирджинца, ставшего на сторону короля, писатель вложил слова не надуманные, а истинную правду: «Среди аристократов Старого Света я не видел ни одного, который бы более ценил свое достоинство и более умело отстаивал его, чем м-р Вашингтон. В этом смысле ему уступал даже король — тот самый король, против которого он поднял оружие. В глазах всего французского придворного дворянства, с удовольствием присоединившегося к крестовому походу против нас и таким образом отомстившего за Канаду, великий американский вождь всегда был «анакс андрон» (предводитель мужей — древнегреч.), и французы признавали, что лучшего джентльмена не сыщешь даже в Версале». В таком ключе и ведется повествование в романе.
И что же? Американская критика обиделась, а обидевшись, ожесточилась до крайности. Американцев не очень интересовало, что именно написал Теккерей, задело другое — как вообще посмел поднять перо на Вашингтона. Один сердитый критик написал: «Вот она, фальсификация! Вашингтон не походил ни на одного другого человека, и снижать его возвышенный образ до уровня вульгарных страстей повседневной жизни означает оболгать величайшую главу в беспристрастной истории человечества». Другой усовещал Теккерея: «Образ Вашингтона дошел до нас незапятнанным, и если вы приписываете ему небольшие слабости, являвшиеся уделом других, то величественный призрак, вызванный вами к жизни, чистый и белый, как статуя работы Гудона, и спокойный, укоризненный взор заставят вас замолчать».
Вот так кончались покушения инородцев на святого на страницах американской критики. Нельзя было и тронуть священное писание Американской революции.
В Америке все же смельчаки множились. Наконец за легенду взялся Марк Твен. К самому Вашингтону писатель относился с величайшим уважением, достаточно напомнить его сатирический очерк «В защиту генерала Фанстона». Натуру Вашингтона, утверждал Марк Твен, всегда тянуло «к моральному злату», а в очерке «Исправленный катехизис» считалось само собой разумеющимся, что первый президент — пример, достойный подражания юношества. Но ура-патриотический миф вызывал у Марка Твена тошнотворное чувство, зафиксированное в юмористических рассказах «Трогательный случай из детства Джорджа Вашингтона» и «Чернокожий слуга генерала Вашингтона».
Марк Твен посильно высмеял легенду о Вашингтоне, сочинив блестящую юмореску «Моя первая ложь и как я из нее выпутывался». Марк Твен писал: «Против сказанной им правды о вишневом деревце у меня, как я уже указывал, нет ровно никаких возражений. Но мне кажется, она была сказана по вдохновению, а не преднамеренно. Обладая острым умом военного, он, вероятно, сначала думал свалить вину за срубленное дерево на своего брата Эдварда, однако вовремя оценил таящиеся тут возможности и сам использовал их. Расчет мог быть такой: сказав правду, он удивит своего отца, отец расскажет соседям, соседи распространят эту весть дальше, она будет повторяться у каждого очага, и в конце концов именно это сделает его президентом, причем не просто президентом, а Первым Президентом! Да, мальчонка отличался дальновидностью и вполне способен был все заранее обдумать».
Марк Твен мог написать это, в общем, безнаказанно в 1899 году, ибо к этому времени американская профессиональная историческая мысль начала заново открывать Вашингтона. Процесс оказался длительным, болезненным и в конечном итоге пошел далеко не так, как думал Марк Твен, силясь разъединить человека и легенду.
В 1885 году серьезнейший американский историк Джон Б. Макмастер заявил: Вашингтон «остается совершенно неизвестным человеком», хотя основные факты его биографии «известны каждому школьнику в США. Тем не менее его подлинная биография еще не написана». Заявление Макмастера отражало теперь единодушное мнение интеллектуальной общины Соединенных Штатов, уставшей от культа Вашингтона, Последовавшее на первый взгляд походило на иконоборчество, на деле получилось лишь расширение базы легенды, а культ серьезно не пострадал.
К концу XIX столетия публикация Спаркса больше всерьез не принималась. Библиотекарь конгресса У. Форд в 1889–1893 годах выпустил 14 томов документов Вашингтона, к которым не могло быть претензий с точки зрения правильности воспроизведения текстов. Что до охвата имевшихся материалов, то проделанное Фордом отнюдь не означало существенного пополнения арсенала опубликованных материалов: по сравнению с коллекцией Спаркса собрание Форда было всего на три тома больше.
Вероятно, учитывая печальный опыт предшественника, Форд счел излишним давать личную версию жития Вашингтона. Он полагал, что 14 томов документов окажутся красноречивее. Издание С. Гамильтона в 1898–1902 годах пяти томов писем Вашингтону и относящихся к ним документов несколько расширило доступные для исследователей опубликованные источники.
Однако не публикация У. Форда при всем ее похвальном академизме, а три биографии Вашингтона, появившиеся с незначительными промежутками во времени, сделали погоду, ибо в них была предпринята первая, лишь частично удачная попытка показать живого человека. К 100-летию вступления Вашингтона на пост президента, в 1889 году, начинающий историк Генри К. Лодж приурочил выпуск энергично написанного двухтомника «Джордж Вашингтон, человек». Лодж начал с самыми высокими надеждами, призвав покончить с интерпретациями, восходившими к Уимсу, ибо они вызвали цепную реакцию, «став неисчерпаемой темой для шуток бурлеска». Он разъяснил: «Нужно описать самого человека, чтобы выяснить, кем он был в действительности, что он значил тогда, кем он является ныне и что означает он для нас и сегодняшнего мира».
В двухтомнике Вашингтон стал очень походить на политика, исповедующего кредо федералистов, хотя общеизвестно, что межпартийная борьба и партийные оценки ему были ненавистны. Описав пространно, красноречиво и популярно жизнь Вашингтона от колыбели до могилы, Лодж пришел к тому, с чего начал, — согласился с вердиктом, который, собственно, и намеревался анатомироваты «В Вашингтоне было что-то, назовем это величием, достоинством или величавостью, отличающее таких людей от всех остальных. Он принадлежит к числу тех, кого чрезвычайно трудно понять… Когда по смерти данного человека мир решит именовать его великим, тогда следует согласиться с этим… Верно или ложно такое представление, не существенно: остается сам факт».
По понятиям современной исторической науки, Лодж потерпел фиаско, полностью пройдя заколдованный круг легенды. По сравнению с этим меркнет слабое понимание автором стратегии и тактики войны за независимость. Современники тем не менее высоко оценили книгу Лоджа, по крайней мере, она была живо написана. Что до упомянутого фиаско, то, по тогдашним воззрениям, оно никак не запятнало профессиональной репутации автора.
В традиционной речи на ежегодной конференции Американской Исторической Ассоциации ее президент Д. Фишер, автор перехваленного труда «Колониальная эра» (1892), утверждал, что если бы перед историком стоял выбор — прославление или ниспровержение героя, предпочтительно первое. Бесполезно, настаивал Фишер, искать недостатки (если таковые вообще были) у Вашингтона, каждая страна нуждается, по крайней мере, в одном кумире, «справедливо окруженном почитанием народа». Итак, Лодж шел в ногу, кадил все тому же святому, хотя не в тесных стенах храма, а облачившись в доспехи мыслящего историка.
В 1896 году появилась книга «Джордж Вашингтон», сочиненная профессором Вудро Вильсоном. Уже сам факт, что перу будущего двадцать восьмого президента принадлежит работа о первом президенте, заставляет обратить на нее самое пристальное внимание. Не может не прийти на ум схватка бывших историков, а в 1919–1920 годах государственных деятелей президента В. Вильсона и председателя сенатского комитета по иностранным отношениям сенатора Г. Лоджа, имевшая серьезные последствия для американской внешней политики. Вполне допустимо предположение, что интеллектуальное соперничество между маститыми политиками восходит к тем временам, когда два молодых честолюбивых историка не поделили одного лаврового венка.
Соревнование за написание лучшей биографии Вашингтона Лодж выиграл начисто. Хотя его достижения были, как мы видели, более чем скромными, взявшись за тему, он руководствовался соображениями любомудрия. Другое дело, что задача оказалась не по плечу.
Побудительные мотивы В. Вильсона были иными. Уже в восьмидесятые годы он открыл, что исторические сочинения приносят неплохой доход, и привык работать ради гонорара. В погоне за заработками он отказался от хрупкой мечты юности — написать капитальную работу «Философия политики» и даже не хотел затрачивать весьма скромный труд на рецензии для основного американского исторического журнала «Американ хисторикал ревью», которые не оплачиваются. «Я знаю, вы, возможно, сочтете меня шарлатаном, — как-то откровенно ответил Вильсон на очередное предложение журнала, — но я никак не могу писать для вас, хотя публиковаться на страницах «Ревыо» очень лестно. Дело в том, что издатели популярных ежемесячников предлагают мне теперь такие деньги, что я развратился до мозга костей». Вильсон получил, например, 12 тысяч долларов за публикацию в «Харперз мэгэзин» извлечений из его книги «История американского народа» и еще больше за ее отдельное издание. Ему понравилось сочинять книги-однодневки, к которым принадлежала и биография Вашингтона.
Это было типично коммерческое сочинение, главы примерно одинаковой длины, с учетом интересов «Харперз мэгэзин», напечатавшего ее в 1895–1896 годах. Нехватка материалов по ранним годам жизни Вашингтона компенсировалась утомительными рассуждениями о Вирджинии XVIII века, шедшими под заголовком «В дни Вашингтона». По понятной причине — автору было суждено стать президентом США — позднейшие историки буквально с лупой в руках изучали сочинение Вильсона. Они с солидарностью, редкой для профессии, прославленной склоками, нашли, что книга научного интереса не представляет, ехидно подметив, что профессор приписал предостережение Джефферсона против «обременительных союзов» Вашингтону, и обнаружили ряд иных промахов. Но в этой книге искали другое — через призму оценки Вашингтона профессором В. Вильсоном пытались выяснить кредо государственного правления президента В. Вильсона. Исследователей постигло горькое разочарование — когда автор писал книгу, он, вероятно, думал об осязаемых выгодах, а не о том, что ему со временем суждено занять кресло Вашингтона. Иначе чем объяснить чрезвычайно поверхностный рассказ о последнем десятилетии жизни Вашингтона, на которое и падает вся его государственная деятельность?
В предисловии к переизданию книги В. Вильсона в 1969 году сказано: «Было бы неверно приписывать Вудро Вильсону более тяжкий литературный грех, чем он совершил, — он писал в терминах, принятых в его времена, по крайней мере, одобренных образованным средним классом… Когда Вудро Вильсон писал «Джорджа Вашингтона», он ни в малейшей степени не предполагал, что может стать президентом… Его помыслы ограничивались жгучим, но неопределенным желанием добиться славы государственного деятеля… Описывая карьеру Джорджа Вашингтона, он неосознанно, как случается обычно с биографами, обнаружил свои собственные глубоко скрытые надежды и опасения. Он показал свою силу: энергию, решимость, честность, ум и своего рода умение очаровывать. Он частично обнажил свою потенциальную ограниченность: упрямство, предвзятость и нежелание идти на компромисс, в сущности, консервативные воззрения, склонность к поверхностным суждениям». Вклад Вильсона в Вашингтониану невелик. Современный ему критик сказал — автор лишь «углубил гравировку на стали изображения Отца Страны», другой добавил — книга «третьеразрядная».
Если профессор В. Вильсон доверительно признавал, что «терпеть не может изнурительного труда, именуемого исследованием», что и объясняет описанные прискорбные итоги его биографического экскурса, то Пол Форд любил каторжную работу исследователя, имел легкое перо, а также брата Уортингтона Форда, издателя упоминавшейся 14-томной публикации документов Вашингтона. В том же году, когда вышел посредственный труд В. Вильсона, П. Форд выпустил в Филадельфии книгу «Джордж Вашингтон каким он был», остающуюся по сей день одной из лучших в библиотеке биографий Вашингтона. Он скромно попытался дать ответ на вопрос, почему пресловутые прагматики американцы «погрязли в таком же процессе создания героя, который дал Юпитера, Вотана, короля Артура и других». Наделение человека сверхъестественными чертами, проницательно заметил П. Форд, настолько лишает его «человеческих качеств, что задаешься вопросом — заслуживают ли такие люди похвалы за принесенные жертвы и свершенные дела».
Форд убедительно рассказал о Вашингтоне, «ограниченном человеческими недостатками, не свободном от воздействия человеческих страстей». Вне всякого сомнения, сотрудничество с братом побудило П. Форда избрать своеобразный метод изложения — на страницах его книги Вашингтон заговорил на самые разнообразные, чисто земные темы: «отношения с прекрасным полом», «вкусы и развлечения» и т. д. Вследствие этого получилось собрание очерков, а не биография в строгом смысле слова.
В начале XX века стало очевидным, что любое серьезное исследование жизни и деятельности Вашингтона зависит от общего уровня разработки проблем Американской революции. Здесь не место сколько-нибудь подробно входить в рассмотрение этого чрезвычайно сложного вопроса, который должен быть предметом отдельного изучения: достаточно указать, что разномыслие в США в оценках причин, хода и исхода войны за независимость достигло крайних пределов.
Фольклорные объяснения, конечно, больше не принимались, а создававшиеся зачастую наспех новые интерпретации, в основном клонившиеся к отрицанию революционности революции, без труда приводили в отчаяние широкого читателя и заставляли специалистов воздеть в изумлении руки. Американский историк-марксист Г. Аптекер уместно заметил: «Многие ученые занимают в вопросе о происхождении революции эклектическую позицию и объясняют ее воздействием несметного множества самостоятельных и независимых «факторов» — экономических, политических, социальных, религиозных, климатических, психологических и иных. В результате бесконечного умножения «причин» не остается и следа от самой «причины».
Этот процесс, свидетельствовавший о беспомощности буржуазной исторической науки, не имеющей подлинно научных методов исследования, происходил на фоне успехов исторического материализма, впервые в истории человечества давшего объективное объяснение основных тенденций развития мира, в том числе великих социальных переворотов — революций. Плодотворное изучение марксистами экономического фактора как в конечном счете решающего не ускользнуло от внимания мыслящих американских историков, дав толчок появлению в США школы экономического детерминизма. Типичным и очень влиятельным адептом этого направления был Чарльз А. Бирд. Вместо сентиментальной болтовни, плоских банальностей и нагромождения добронамеренных нелепиц в объяснении мотивов действий «отцов-основателей», включая Вашингтона, Бирд стал на прочную почву экономических факторов.
В серьезном, а в некоторых отношениях классическом исследовании «Экономическая интерпретация американской конституции» (1913 год) Бирд показал, что руководителями Американской революции, основывавшими новое государство, двигали «реальные экономические силы». Конечно, Бирд далеко не выполнил замечательного указания К. Маркса в предисловии к «Критике политической экономии»: «При рассмотрении таких (социальных. — Н. Я.) переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче — от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию»[3]. Тем не менее Бирд тогда двигался в направлении, указанном К. Марксом.
Бирд разбил на пять категорий основные экономические интересы «отцов-основателей», показав, что Вашингтон, «вероятно, самый богатый человек в США в то время», был прямо заинтересован в четырех из них. Походя коснувшись конфликта низов и верхов в революции (в этом слабость Бирда, намеренная или нет), он подчеркнул, что Вашингтон возглавил «консервативную реакцию», из рук которой страна и получила конституцию. Сама конституция, по определению Бирда, «была экономическим документом, составленным с величайшим искусством людьми, чьи собственнические интересы были непосредственно поставлены на карту». Члены конституционного конвента, где председательствовал Вашингтон, заключил Бирд, отнюдь не были «не заинтересованными» материально лицами, напротив, «мы вынуждены прийти к глубоко знаменательному выводу о том, что, основываясь на личном опыте ведения экономических дел, они точно знали, каких целей достигнет учреждаемое ими новое правительство».
Вторжение Бирда в деликатную для капиталистического общества область не было подкреплено новыми усилиями, его интереснейший труд остался в блистательном одиночестве в американской историографии. Да и сам автор предпочел не углублять своих исследований в этом направлении, переключившись на другие сюжеты. Бирдовский анализ, в общих чертах выяснивший громадную роль Вашингтона в становлении американского капитализма, имел неожиданные последствия. Ведущие американские историки, в первую очередь занимающиеся исследованием тенденций развития политической мысли, стали рьяно доказывать, что идейно Вашингтон не играл никакой роли в Американской революции.
Указывая на неоспоримый факт, что великий квартет — Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Д. Адамс и Д. Мэдисон — коллективно отковал идейное оружие революции и определил направление развития молодой республики, американские исследователи отвели Вашингтону роль бесцветного статиста, поочередно подпадавшего под идейное влияние этих людей, причем в конечном итоге возобладал Александр Гамильтон.
Ради этого был пущен под откос тезис, милый сердцу западных историков, о «разрыве поколений» — Гамильтон был более чем на двадцать лет моложе Вашингтона. Уже в специальной монографии К. Баурса «Гамильтон и Джефферсон» о президентстве Д. Вашингтона самому президенту не нашлось места не только в заголовке книги, но, в сущности, и в ее содержании. В. Паррингтон, выполнивший в двадцатые годы монументальное трехтомное исследование «Основные течения американской мысли», вероятно, счел, что молчание — лучший способ воздать должное прославившемуся немногословностью Вашингтону.
Тенденция эта, возникшая в двадцатые годы, постепенно набирала силу и к нашим дням типична практически для всех значительных трудов по истории развития идей в США. М. Керти, написавший в тридцатые годы обширный трактат «Рост американской мысли», на страницах труда, занявшего почти тысячу страниц, двенадцать раз поминает Вашингтона и преимущественно по второстепенным поводам. Книга Р. Хофштадтера, выполненная в конце сороковых годов, «Американская политическая традиция» — четыреста страниц убористого текста. Вашингтон упоминается пять раз. А обе эти работы неоднократно переиздавались в США и по сей день считаются шедеврами исследования американских интеллектуальных свершений. Аналогичная картина и в новейших трудах: Л. Харц «Либеральная традиция в Америке» (1955), К. Росситер «Консерватизм в Америке» (1962), А. Экирш «История американской традиции» (1963).
Авторы тем самым избегают щекотливого вопроса: к какой категории отнести Вашингтона — либерального или консервативного мыслителя? В то же время подобные трактовки не наносят решительно никакого ущерба культу Отца Страны. Мраморной статуе полагается быть безгласной, а роль Пигмалиона, как показал Бернард Шоу, иногда приводит к непредвиденным последствиям. По крайней мере, можно утратить душевный покой, творить в рамках модной ныне в США теории «согласия», то есть полного отрицания классовых конфликтов, куда спокойнее.
В двадцатые годы ревизионизм как проявление общего разочарования, пришедшего по пятам за мировой бойней, серьезно затронул американскую историческую науку. Действуя сплоченной когортой, ревизионисты, хотя и не очень многочисленные, но очень шумные, атаковали мнимый «идеализм» Белого дома и прочее, пытаясь докопаться до истинных причин вступления США в первую мировую войну. Их удары, созвучные настроениям «потерянного поколения», разили без особого разбора кондовые святыни, ибо ниспровергатели полагали, что нужно сокрушить идолов, на которых покоятся ложные ценности американского общества.
Прекраснодушные ревизионисты, как и подобает бунтующим интеллектуалам, принимающим себя всерьез, разумеется, были бы изумлены, если бы им указали — их кампания, искренне затеянная как доведение до конца «разгребания грязи», соответствовала видам правящих кругов страны. Они готовили почву для расцвета «изоляционизма» и политики «невмешательства» США на международной арене в тридцатые годы. Отсюда не только терпение сильных мира сего в США к выходкам ревизионистов, но даже благосклонное отношение к их разоблачениям — открывался предохранительный клапан, мятущиеся души интеллигентов успокаивались.
Тема Вашингтона имела ко всему этому весьма отдаленное отношение, и с точки зрения ревнителей «100-процентного американизма» нападки на него были издержками от полезной в других отношениях деятельности ревизионистов. Тем не менее в истерической атмосфере, иной раз граничившей с публицистическим хулиганством, всыпали по первое число по совокупности Джорджу Вашингтону. В 1926–1930 годах им специально занялись бизнесмен и историк-любитель У. Вудворд и профессиональный историк Р. Юз. Книга первого «Джордж Вашингтон: миф и человек» и второго «Джордж Вашингтон: человек и герой» внесли заметное смятение в сердца законопослушных американцев и вызвали за рубежом реакцию типа — «ага, мы это знали!».
Злоязычные сочинители оставили в покое сферу, обычно подавлявшую исторические сочинения, — военную и государственную деятельность Вашингтона — и с величайшим наслаждением окунулись в его личную жизнь. Открытие, что Вашингтон не персонаж из назидательной книжки для воскресной школы, привело их в дикий восторг. Вудворд единым росчерком пера покончил с благороднейшим происхождением семьи Вашингтона, сообщив, что даже если В. Ирвинг и прав, поместив у корня генеалогического древа семьи некоего рыцаря при дворе Вильгельма Завоевателя, то «семья ничем не отличалась, если не считать посредственности, последовательно отмечавшей ее многие поколения». В таком ключе Вудворд взялся за миф, сосредоточив внимание на низком меркантилизме Вашингтона, не забыв подчеркнуть, что речь идет о стяжателе-рабовладельце, любившем выпить, просидеть ночь за карточным столом, равнодушном к религии и сверх того обуреваемом низкими страстями. Салли Фэрфакс, как и следовало ожидать, заняла видное место на страницах книги. И не одна она.
Во время войны за независимость в 1775 году англичане перехватили скучнейшее политическое письмо американского генерала Б. Гаррисона главнокомандующему Вашингтону. Они опубликовали его, вписав пикантный абзац — для атамана разбойников Вашингтона-де «подготовлена дочь прачки, прелестная малышка Кейт». Рядовой ход в военной пропаганде, задуманный для компрометации противника любыми средствами. Несколько позже изобретательные мастера психологической войны, работавшие по рецептам XVIII века, превратили загадочную Кейт в октеронку-рабыню, ласки которой-дс Джефферсон и Гамильтон разделяли с Вашингтоном. По другой версии, сам Вашингтон давал ее напрокат Джефферсону, Гамильтону и Лафайету. Заурядная, давно разоблаченная фальшивка, ибо подлинник обработанного в черной канцелярии письма сохранился в архивах и историки имели возможность взглянуть на него. Тем не менее Вудворд радостно подхватил утку почтенного полуторастолетнего возраста, сурово вопросив: «Приготовили ее к чему? Ну конечно, простирнуть бельишко!»
Хотя Р. Юз обошелся несколько милостивее с Вашингтоном, чем Вудворд, он поставил ему в вину лишь то, что герой, на его взгляд, доказал только одно: «нужно одеваться с максимальным щегольством, предаваться всем видам самых дорогостоящих удовольствий, включая танцы, театр, балы, охоту, рыбную ловлю, скачки, спиртные напитки, игру в карты, сохраняя при этом спокойствие, оставаясь справедливым, честным и имея достойный вид». Но исследование жизни Вашингтона под специфическим углом зрения, надо думать, постепенно наскучило Юзу. Он прервал работу на третьем томе, доведя читателя до Йорктауна — последнего сражения войны за независимость в 1781 году.
Определенная нотка раскаяния за содеянное прозвучала в написанном им приложении к этому, последнему тому: «Чем больше я изучаю Вашингтона, тем величественнее и лучше он представляется мне, хотя и не пытаюсь показать его ни великим, ни хорошим. Я просто старался описать его, каким он был, дав ему возможность высказаться самому. Он был человеком, добившимся таких громадных неоспоримых достижений, что они не нуждаются в пропагандистских преувеличениях, в защите путем умолчания в священных текстах или прославлении речами ораторов по случаю 4 июля».
Если Вудворд и Юз что-нибудь и доказали, так только универсальность метода Уимса, пригодного для книг любого, по выбору автора, содержания. Тягостное впечатление все же осталось. Новейший биограф Вашингтона Д. Флекснер писал в 1965 году: «Библия ниспровергателей оказала поразительное влияние на целое поколение читателей, когда я несколько лет назад беседовал в Лондоне с Бертраном Расселом, он рассуждал, точно следуя линии ниспровергателей. Вашингтон был бесчестным руководителем, сражавшимся за дело революции только потому, что не хотел платить причитавшихся с него по справедливости долгов британским купцам».
В 1932 году, когда капиталистический мир сотрясался под тяжкими ударами экономического кризиса, в Соединенных Штатах грянул юбилей — отмечалось двухсотлетие со дня рождения Джорджа Вашингтона. Таких торжеств, особенно пышных на фоне океана горя и нищеты, разлившегося по стране, американцы не видывали. Зачинщик беспримерной шумихи и суеты, председатель комиссии по празднованию двухсотлетия конгрессмен С. Блум, в прошлом импресарио, верно рассчитал — обращение к прошлому, рисуемому сочными мазками, притупит горечь тусклого настоящего. Юбилей праздновался без перерыва девять месяцев!
Во вступительной статье к антологии «Джордж Вашингтон», вышедшей в 1969 году, составитель Д. Смит не мог не оценить проделанное в те девять месяцев как «невероятное». «У Блума, — писал Смит, — каждый день что-нибудь да происходило. Потребовалось пять толстых томов, чтобы зафиксировать историю юбилея. Юморист из штата Оклахома Уил Роджерс писал конгрессмену: «Ты единственный парень, оказавшийся в состоянии продлить вечеринку на девять месяцев, и это во времена сухого закона! Сол, ты заставил всю страну прочувствовать Вашингтона».
Блум хвастался, что ежедневно во время юбилея выполнялось в среднем шестнадцать тысяч «отдельных программ в связи с двухсотлетием — церквами, школами, гражданскими организациями, патриотическими обществами по всем США, в общей сложности составив 4 760 345 отдельных и отличных друг от друга программ». Хотя в заключительном отчете комиссии по проведению двухсотлетия затрагивались только самые примечательные из этих празднеств, в нем, помимо прочего, упоминалось, что председатель Блум не только захватил День матери, День памяти, День независимости и даже годовщину смерти Гёте («не было государственного деятеля крупнее Вашингтона, не было… поэта крупнее Гёте»), но был и официальным инициатором Праздника птиц, приуроченного к двухсотлетию. «Наверное, самое крупное состязание голубей, проведенное в Америке до сих пор», — говорил Блум, выпустивший десять тысяч американских птиц и птиц из других стран, тем самым «придав состязаниям международное значение».
Смит, безусловно, сознательно придал рассказу об этом юбилее форму гротеска. Празднования, сводившиеся к монотонному повторению избитых ура-патриотических суждений и полировке языком и без того ослепительного монумента Вашингтона, не могли дать новых идей. Юбилей, конечно, не имел научного значения да и едва ли был очень познавателен. Доказательство — упоминавшиеся пять громадных томов отчета о его проведении.
Юбилейные словеса канули в Лету, оставив после себя сравнительно немного, примечателен разве краткий очерк известного уже тогда американского историка С. Морисона «Молодой Вашингтон», считающийся в США классической интерпретацией героя на заре жизни. Полагают, что Морисон удовлетворительно вскрыл психологический склад юного Вашингтона, подражавшего Катону. Вероятно, можно придерживаться и такой точки зрения. Важнее, однако, то, что очерк Морисона показывает, как люди, озабоченные сползанием Соединенных Штатов в бездну кризиса, пытались опереться на сильные плечи и почерпнуть уверенность из резервуара нерастраченной энергии молодого, полного сил Вашингтона.
В очерке Морисона с железной настойчивостью развивается только один тезис — как Вашингтон, дисциплинировав себя, стал человеком долга. Это, по Морисону, предопределило все его достижения. «У него были преимущества дисциплины, — поучал Морисон, — которой могут ныне похвастаться только немногие из нас». Морисон отнес выработку, самодисциплины Вашингтоном за счет того, что он вырос в суровой атмосфере американской «границы», был фермером (!) и воином. Отнюдь не безрассудная ностальгия автора, а сознательное преувеличение способным историком традиционных американских ценностей для повседневных нужд Америки начала тридцатых годов, задыхавшейся в тисках кризиса.
Передовые люди тогда звали к переделке структуры американского общества, Морисон предложил не отрывать взора от прошлого. Можно ли по-иному истолковать нижеследующее извлечение из очерка Мориса: «Вашингтон постиг великую истину о том, что человек может быть свободным, только овладев собой. Вместо того чтобы дать выход страстям, он обуздал их. Вместо того чтобы предаваться удовольствиям — а к этому в двадцать лет у него были широкие возможности, — он превыше всего поставил долг. В сущности, он точно следовал по тому пути, на котором, согласно популяризаторам Фрейда, берущим его учение из вторых рук, человек становится «искалеченным», «углубленным в себя», «подавленным». Однако Вашингтон раскрепостил себя, достиг успехов, стал мудрым и возвышенным. Этот процесс не может не приковать к себе пристального внимания современной молодежи, сражающейся с теми же трудностями, хотя обстановка много сложнее — мы живем в эру кризиса, машин и джаза».
Наконец, еще одним последствием юбилея 1932 года было новое издание, на этот раз в тридцати девяти томах, документов Д. Вашингтона. Выпуск публикации, которую начал готовить библиотекарь конгресса Д. Фицпатрик, растянулся на 13 лет — с 1931 по 1944 год. Фицпатрик был третьим (после Спаркса и Форда), отдавшим лучшие годы своей жизни теме Вашингтона, дебютировав изданием в 1925 году «Дневников Джорджа Вашингтона». Для 39-томного издания он изучил, проверил и систематизировал около 40 тысяч страниц имевшихся бумаг и дневников Вашингтона. В отличие от У. Форда Д. Фицпатрик счел необходимым дать первоначальные варианты документов: вернувшись в 1783 году в Маунт-Вернон, Вашингтон поручил своему племяннику Р. Льюису переписать начисто его бумаги дореволюционного периода. При подготовке документов к переписке Вашингтон сам улучшил текст, Д. Фицпатрик, где было возможно, дал их в первоначальном виде, сняв, конечно с надлежащими оговорками, позднейшую правку Вашингтона.
Публикация Д. Фицпатрика еще не была завершена (последний том под его редакцией вышел в 1936 году), как выяснилось, что существует еще много документов Вашингтона, оказавшихся вне поля зрения составителя, разбросанных по различным архивам и коллекциям, в подавляющем большинстве частным.
На протяжении примерно четверти века после 1932 года Вашингтониана в США пришла в упадок, не только относительно — сравнительно со взлетом в пропагандистскую стратосферу в период юбилея, — но и абсолютно. Страна пыталась решать неотложные задачи под руководством администрации демократической партии, выводившей свою родословную от политиков типа Джефферсона, но отнюдь не Вашингтона. До истории в бурные тридцатые и первую половину сороковых годов руки не доходили, а если и нужны были исторические аналогии и прецеденты, то скороговоркой повторялись легкодоступные места из однотомников избранных произведений Джефферсона, а ему самому в 1943 году в столице США соорудили новый, весьма дорогой памятник.
Ренессанс, точнее контрренессанс, темы Вашингтона был не за горами, хотя интерес вспыхнул на первых порах не к ней, а был побочным продуктом стремительного возвышения «консервативного ревизионизма» в американской исторической науке. Генезис «неоконсерватизма», господствующего ныне в заокеанской историографии, коренится в практических нуждах правящих кругов США после второй мировой войны. Американские руководители в качестве альтернативы социализма выдвинули общественное и государственное устройство США, являющееся якобы образцом для всего человечества. Поскольку основы этого устройства были заложены в ходе войны за независимость и закреплены в американской конституции, потребовалась большая идеализация далекого прошлого страны, чтобы изобразить его в рамках теории «бесконфликтности» — классовые схватки-де никогда не были типичны для Америки. В ней всегда царило доброе согласие, а основа основ — святая частная собственность — никогда не ставилась под сомнение.
Р. Хофпштадтер в 1948 году указал и на другой источник стихийно возникшего интереса к прошлому страны — неуверенность в будущем. Свое спорное исследование «Американская политическая традиция» — одно из первых, где была изложена теория «бесконфликтности», — Хофштадтер открыл примечательным суждением: «Американцы недавно обнаружили, что спокойнее думать об их прошлом, чем о том, куда они идут». Д. Вашингтон, искренне видевший в себе «президента всего народа», уместно подкреплял розовую картину прошлого Америки, отлично вписываясь в приятную теорию «согласия», с которой носятся «неоконсерваторы».
Они рьяно принялись переписывать историю Американской революции, доказывая забавные тезисы: во-первых, случившееся в Америке конца XVIII столетия было явлением уникальным, а во-вторых, если уж и была революция, то, конечно, консервативная. Попутно «консервативные ревизионисты» в общих работах и книгах, специально посвященных Ч. Бирду, попытались в меру своих сил и таланта опровергнуть его анализ экономических причин Американской революции. Проворные труженики американского идеологического фронта чувствовали себя в полной безопасности — в 1948 году Ч. Бирда, патриарха американской исторической науки, обладающего редким полемическим даром, не стало. Особенно отличились на поприще «неоконсерватизма» Д. Бурстин, Р. Браун, Ф. Макдональд и ряд других процветающих в США историков.
Случившееся показало, что исследование жизни Вашингтона вновь найдет читателя. В 1948–1957 годах вышла семитомная биография первого президента Д. Фримена. Подготовка этой книги продемонстрировала, что для раскрытия темы Вашингтона на современном уровне знаний может не хватить жизни исследователя. Д. Фримен умер на шестом томе, седьмой том дописали его сотрудники Д. Карролл и М. Эшворс. Биография Фримена выдержана в соответствии с академическими канонами, до отказа использована публикация Фицпатрика. Сообщаемые факты проверены и перепроверены. Попытка синтезировать различных Вашингтонов — военного деятеля, президента, политического мыслителя, превратив их в одно лицо, все же далеко не удалась; критика признала удачным разве портрет Вашингтона в возрасте 26 лет (стр. 381–399 второго тома), 43-летнего Вашингтона накануне принятия командования армией (стр. 443–452 тома третьего), общую оценку его военной работы (стр. 478–501 тома пятого).
Вашингтон-президент определенно не получился, хотя над ним работали трое — сам Фримен, обозревая период до 1793 года, а последующие четыре года рассматривались Карроллом и Эшворс. Причина, вероятно, состоит в том, что Фримен и К° были склонны оперировать удельным весом Вашингтона в делах становившейся на ноги республики с включением в него тяжести египетской пирамиды посмертной славы. Получился изрядный перекос, и повествование иной раз носит раздражающе бесхитростный характер.
Если Ч. Бирд доходчиво объяснил роль Вашингтона при принятии конституции осязаемыми интересами, в конечном итоге возобладавшими над честолюбивыми, сварливыми и крикливыми «отцами-основателями», прозаседавшимися на конституционном конвенте, то у Фримена дело представлено много проще. «В эти дни (заседаний конвента. — Н. Я.) его величайший вклад заключался не в том, что он высказывал свое мнение, а в том, что он присутствовал. Когда Вашингтон голосовал, он часто оставался с меньшинством. Мэдисон, Гувернер Моррис, Джеймс Вильсон, Руфус Кинг, Эдмонд Рандольф — эти люди, а не Вашингтон, выработали конституцию… Но, придав конвенту престиж и обеспечив веру народа в это собрание, Вашингтон не имел равных, за исключением Франклина». Не говоря уже о том, что логика здесь порядком пострадала, эффект присутствия определенно преувеличен — перечисленные лица, каждый из них в отдельности и в совокупности, никак не считали себя ниже генерала.
С середины пятидесятых годов Вашингтониана обретает новую жизнь еще по одной причине — грядет 200-летняя годовщина существования США, приходящаяся на 4 июля 1976 года. За десять лет до этого президент и конгресс учредили правительственную комиссию по празднованию двухсотлетия, которой предстояло координировать и руководить всеми мерами, связанными с юбилеем, до 1987 года, а каждый из пятидесяти штатов обзавелся собственной комиссией. Что там С. Блум — щенок в свете нынешних приготовлений! Впрочем, он был повивальной бабкой при девятимесячном юбилее — срок, как раз достаточный для благополучного рождения одного героя, теперь в юбилейных муках рождается целая страна. Первые признаки книжного цунами в американской исторической науке налицо.
Типичный пример — монументальная хрестоматия «Дух Семьдесят Шестого. История Американской революции, рассказанная ее участниками», подготовленная известнейшими профессорами Г. Коммаджером и Р. Моррисом. В предисловии к изданию 1967 года они внятно объяснили, почему, собственно, в США затеяли юбилейные торжества: «Американская революция возвестила эру революций на Европейском континенте, в Латинской Америке и, наконец, в Азии и Африке — эру, в которой мы живем по сей день». Итак, любуйтесь — главный толчок прогрессу человечества в истекшие 200 лет якобы дала только Американская революция!
Самые разнообразные материалы хрестоматии (около 1400 страниц, большой формат, мельчайший шрифт), заверяют составители, «пронизывает возвышенность, благородство, изысканность и дух величия. Ни один человек не выражал этот дух лучше, чем Вашингтон, предстающий великим с этих страниц, как незаменимый символ беззаветного патриотизма и честности». Стоило составителям попасть в изъезженную колею, как из рога изобилия посыпались известные эпитеты в адрес Вашингтона. Впрочем, в предвидении юбилея они изобрели новый — «Вашингтон и был духом Семьдесят Шестого». Ну вот и рецидив — во второй половине XX столетия почтенные историки устанавливают связь с потусторонним миром по линии Вашингтона.
Хрестоматия, ладно, в конечном счете Коммаджер и Моррис лишь дополнили собрание документов краткой статьей. А как с индивидуальными исследованиями? Памятуя, вероятно, о печальном опыте предшественников, не только тонувших, но и терявших жизнь в пучине Вашингтонианы, нынешние американские историки ограничиваются отдельными аспектами темы. Появились однотомники избранных произведений Вашингтона. С. Падовер, издавший в 1955 году томик «Документы Вашингтона», призванный проиллюстрировать политические и социальные идеи Отца Страны, сразу сообразил, что работы впереди — непочатый край. «Друзья и студенты, — писал он, — неизменно задавали мне скептический вопрос: разве у Вашингтона были какие-нибудь идеи?»
Крупные и умеющие ярко писать американские историки К. Росситер и Т. Бейли в общих трудах, посвященных институту президентства, подняли на щит Вашингтона. X. Клеленд прошелся вместе с Вашингтоном по долине Огайо, местам схваток с индейцами и французами. О полководческом искусстве Вашингтона рассказано в очерке, в сборнике, посвященном генералам войны за независимость, изданном Д. Билласом, Ф. Гилберт взял историю «прощального обращения к стране» Вашингтона, где, как и следовало ожидать, А. Гамильтон был распропагандирован вне всяких пропорций. Была сделана попытка реконструировать внешнеполитические взгляды Вашингтона в работах А. Деконде и Л. Сиарса. Уже порядочная библиотека о его личной жизни пополнилась любопытной подборкой Т. Флеминга «С уважением Ваш Джордж Вашингтон; автопортрет в письмах друзьям». На фоне этих и многих других книг, развивающих традиционное представление о Вашингтоне, промелькнула тень знакомых очертаний. Б. Нолленберг, по основной профессии юрист, в 1964 году составил обвинительное заключение в адрес Вашингтона в Вирджинский период, слабо напомнившее «ниспровергателей» двадцатых годов.
Авторы, берущие ту или иную сторону жизни Вашингтона, зачастую жалуются, что все еще не издана полная документация Вашингтона.
200-летний юбилей и местнический патриотизм побудили Вирджинский университет объявить о том, что в его стенах будет подготовлена полная публикация документов прославленного земляка. Намечено выпустить 80 томов, главный редактор издания — Д. Джексон. 80-томная публикация должна заменить 39-томное издание Фицпатрика, которое, по мнению историков, находящихся на короткой ноге с Вашингтоном, больше не может удовлетворить нужды ученых.
Монумент Вашингтона за счет и цоколя из книг ныне достиг таких размеров, что американские исследователи просто робеют, боясь окинуть взором всю исполинскую фигуру с ног до головы. Во всяком случае, ни один из них больше не осмеливается сочинить однотомную биографию Вашингтона. Дело ограничивается переизданием старых работ, например, в 1962 году вышла книга «Джордж Вашингтон», впервые предложенная читателям Шелби Литтл в 1929 году, или написанием только кратких очерков. Так, например поступил блестящий биограф Ф. Рузвельта гарвардский профессор Ф. Френдель, давший суховатую справку о Вашингтоне в коммерческий, хорошо иллюстрированный рекламный проспект для туристов, посещающих монумент Вашингтона в столице США.
Да что там историки, перед Отцом Страны спасовал Ш. Эдуардс, которому робость чужда. В прошлом учитель истории в средней школе, а затем музыкант, он дерзнул сочинить мюзикл (музыкальную пьесу) «1776 год», имевший порядочный успех на Бродвее в 1969 году. Эдуардс попытался «очеловечить» около двадцати главных действующих лиц Американской революции — делегатов второго континентального конгресса, заседавшего с мая по июль 1776 года и принявшего Декларацию независимости. Либретто пьесы, развертывающейся в залах заседания конгресса, до точки воспроизводит принятие Декларации со всеми спорами, разочарованием и восторгами.
«Отцы-основатели» вышли куда как живые — волнителен дуэт Адамса и Франклина, а когда трио Франклин, Адамс и Джефферсон по составлении Декларации лихо пускается в пляс, напевая разухабистый шлягер «Мы бабки повивальные новой нации», это впечатляет.
Что стоило бы вывести еще и Джорджа Вашингтона! Эдуардс и постановщики не пошли на это — герой остался за сценой, сообщаясь с конгрессом и соответственно со зрителями через курьеров. Он где-то там, пропахший порохом, кует американскую независимость, и жизнь его архитрудна. Курьер, привезший извещение от Вашингтона о высадке большого английского войска у Нью-Йорка, исполняет сверх того душераздирающую песенку «Мама, мама, смотри!» о раненом солдате, молящем мать найти его, пока в нем еще теплится искра жизни.
В мюзикле «1776 год» авторы зашли далеко по пути реализма. Пустить по сцене в пляс статую из чистейшего золота было бы не только неуместно, но и опасно для прочности театральных подмостков. Итак, перед Вашингтоном сложила оружие американская историческая наука, в том числе и в переложении на музыку. Он поистине непобедим.
Английские ученые оказались отважнее своих американских коллег. Профессора Э. Райт и М. Канлифф побывали в США, обследовали исторические места, связанные с памятью Вашингтона, поработали в архивах и библиотеках, поучили американских студентов и, вернувшись на Британские острова, в 1957–1958 годах написали по книге. И что же? Американские историки, по крайней мере, внешне любезно признали значительный успех англичан, давших самые лучшие краткие обзоры. Особенно успешным оказалась работа М. Канлиффа, попытавшегося наложить живого Вашингтона на холодный памятник.
Последнее вторжение в литературу о Вашингтоне в США — работа Д. Флекснера. В шестидесятые годы он решился дать новейшую биографию Вашингтона, разумеется, не в одном томе.
Человек с широким диапазоном интересов в американской истории XVIII столетия, Флекснер написал несколько популярных книг об отдельных эпизодах в жизни Вашингтона, а также зарекомендовал себя как историк американского изобразительного искусства.
В предисловии к первому тому, названному «Джордж Вашингтон, накопление опыта», Флекснер сказал: «Этот том можно было бы так же обоснованно озаглавить «Человек, которого почти никто не знал…». Хотя честные и даровитые ученые раскопали почти все факты его жизни, считанные американцы ясно представляют, как развивался Вашингтон и, больше того, кем он был в действительности. В этом трагедия репутации Вашингтона… Мои труды убедили меня, что он был одним из самых благородных и великих людей в истории человечества. Однако он не родился таковым. Он не вышел из головы Зевса в броне мудрости и силы. Он постепенно усовершенствовал себя, употребив на это всю свою волю».
Во втором томе Флекснер открылся — «цель моей многотомной биографии — спасти истинного Вашингтона от бесконечных легенд и страшных восхвалений, которые стерли его подлинный образ». Как в первом, так и во втором томе Флекснер клялся, что ему не потребуется больше трех томов, чтобы довести Вашингтона до смерти. Когда в 1970 году появился третий том, выяснилось, что он не конечный — изложение доведено только до 1793 года. В конце концов увидел свет и четвертый том.
Флекснер сделал полезное дело — его труд является новейшей лоцией темы Вашингтона, однако уяснить его концепции может только очень подготовленный читатель. Автор, конечно, знающий дело, как-то забыл, что те, кому адресована книга, не посвящены в тонкости концепций о Вашингтоне. В труде Флекснера герой задолго до избрания на пост президента предстает хозяином страны, вникающим во все детали — от военных дел, заниматься которыми ему полагалось по должности, до состояния промышленности, использования рек и т. д. Наверное, все же такой взгляд отражает современное представление о прерогативах чудовищно разросшейся исполнительной власти в США, воплощенной в институте президентства, а не очерчивает круг деятельности Вашингтона, во всяком случае, до 1789 года. Прискорбный случай модернизации истории.
Лукавый комплимент М. Канлиффа американскому коллеге, по недосмотру помещенный на видном месте — суперобложке второго тома, в свете этого понятен: «Биография обещает наилучшим образом послужить нашему поколению».
Эту высокую цель преследуют и празднества в связи с 200-летием Соединенных Штатов. В ходе их отбираются и подчеркиваются те аспекты Американской революции и, конечно, деятельности Вашингтона, которые наилучшим образом отвечают современным представлениям американской правящей элиты о себе и своей стране. Для того чтобы «вписать» историю рождения нации в рамки нынешней государственности, предприняты широкие и разносторонние усилия. Причем на самом высшем уровне.
Великая демократия, вступающая в третье столетие своего существования, достигла высокого бюрократического совершенства с 4 июля 1776 года, что блистательно доказал конгресс, принявший 11 декабря 1974 года закон № 93—179 об учреждении «Администрации по празднованию двухсотлетия Американской революции». Законодатели, проверив деятельность правительственной комиссии, учрежденной в 1966 году, нашли, что она недостаточна, и сковали юбилей надежными бюрократическими оковами. Впрочем, скажем словами закона № 93-179: «Сенат и палата представителей Соединенных Штатов постановляют: по мере того, как эта нация приближается ко дню двухсотлетия своего рождения и исторических событий, предшествовавших и связанных с Американской революцией, которые сыграли громадную роль в развитии нашего национального наследия — личной свободы, представительного правления и достижения равных и неотъемлемых прав, оказали глубочайшее воздействие на мир, представляется уместным и желательным, чтобы празднование этой годовщины и деятельность в этой связи местных, штатных, национальных органов, имеющее международное значение, координировалась, планировалась и облегчалась правительственным ведомством (черпающим средства из государственных и частных фондов, а также пожертвований) с тем, чтобы гарантировать должное проведение юбилея».
В соответствии с законом президент США с утверждения сената назначил администратора, ведающего юбилеем, а он, в свою очередь, надлежащих чиновников. Был создан приличествующий случаю бюрократический механизм, и колеса юбилея завертелись в предуказанном направлении. Их смазывают ежегодные государственные ассигнования — 30 миллионов долларов. Администрация по празднованию будет существовать до 30 июня 1977 года, затем президент США передает ее функции министерству внутренних дел, каковое будет надзирать «за продолжением должного празднования событий, связанных с Американской революцией, до 31 декабря 1983 года». Дальнейшее в руках законодателей на Капитолийском холме.
Итак, выражением эмоций и восторгов по поводу двухсотлетия существования США ведает государственная организация. Шутки с ней, предупреждает закон № 93— 179, плохи. Раздел 2 (I) доводит до сведения американцев, празднующих 200 лет с тех пор, как в США зажегся, по официальной мифологии, факел свободы: «Любой, кто, в нарушении правил, установленных администратором, умышленно производит или воспроизводит значки, символы или марки, первоначально выпущенные по указанию администратора для использования в связи с двухсотлетием Американской революции, или любые их факсимиле, или продает какие-либо предметы таким образом, что возникает мнение, что эти значки, символы или марки не утверждены администратором, подлежит штрафу до 250 долларов, или шестимесячному тюремному заключению, или обоим видам наказания».
Американцы, рванувшиеся отпраздновать юбилей, сим предупреждены! Вероятно, очень своевременно: в момент, когда во главе празднования встала администрация, в США выполнялось 1477 «проектов» и развернулось 392 «события» в связи с двухсотлетием. С тех пор их число неотвратимо возрастало.
Администрация, следовательно, очень озабочена идеологической чистотой различных «символов», каковая защищена угрозой уголовного преследования. Забота эта проистекает из весьма высокого побудительного мотива: за разрешение продавать те или иные товары, помеченные официальным символом, торговцы платят налог (2— 20 % от стоимости изделия), идущий в пользу администрации. Бизнесмены не остаются в накладе, ибо двухсотлетие открыло новый рынок: приобретать товары, отмеченные его знаком, — патриотический долг.
Газета «Вашингтон стар ньюз» 6 июля 1974 года нашла: «Американские бизнесмены с энтузиазмом бросились извлекать доллары из шумихи, которая известна в кругах ораторов как «национальная вечеринка по случаю 200-летия». Красный — белый — синий — любимое сочетание цветов для всего — от жетонов до «Боингов-707», от конфетти до юбилейных марок в оргии патриотической наживы, которая уже началась и которая может продлиться до 1989 года, именуемого некоторыми «истинным» двухсотлетием страны».
То, что «Дух-76» освятил стремление бизнесменов набивать карманы, не могло не вызвать озабоченности у тех в США, кто обращается к идеям 1776 года в поисках справедливости. В середине 1974 года в Чикаго состоялась конференция капитанов делового мира для обсуждения, что делать в связи с юбилеем. На достопочтенное собрание явились и люди, не принадлежащие к деловому миру, которые немало изумились происходившему там. Д. Рифкин, представлявший молодежную Народную комиссию по празднованию двухсотлетия, допытывался у собравшихся: «Что за двухсотлетие вы выбросили на рынок?» И добавил: «Спросите себя, стал бы Патрик Генри членом клуба вашего босса?» Рифкин пытался усовестить бизнесменов, чтобы те не превращали юбилей в средство наживы.
Глава администрации по празднованию двухсотлетия Д. Уорнер публично не принял ничьей стороны в горячих спорах, а воззвал к собравшимся: «Вы должны проводить различие между свободным предпринимательством и открытой эксплуатацией, и постарайтесь, чтобы не народ выяснил это различие». Как именно это сделать, на конференции толком не договорились, хотя речь шла об осязаемых предметах — порядке продажи товаров, отмеченных высоким символом двухсотлетия.
А идеи — как насчет идей, которые невозможно оценивать в долларах и центах? «Вашингтон стар ньюз» меланхолически подвела итог обсуждений на конференции: Народная комиссия по празднованию двухсотлетия «хочет, чтобы юбилей был поводом для нового подтверждения эгалитарных идей, которые, по ее утверждению, лежали в основе Американской революции. Вполне понятно, что бизнесмены по-иному трактуют революцию. Они предпочитают подчеркивать, что свободное предпринимательство было главной вдохновляющей силой отцов-основателей, делая особый акцент на спекулятивных инстинктах Джорджа Вашингтона, а не на радикальных социальных идеях Тома Пейна». В глазах бизнесменов идеи, конечно, не что иное, как товар. С этим вопросом ясно, и дальнейшие комментарии излишни.
Новейшие официальные открытия в Вашингтониане потрясают. Современные Соединенные Штаты обладают огромной военной машиной, страна, по крайней мере, вот уже третье десятилетие живет в густой тени Пентагона. Многие американцы не мирятся с этим, протестуют, естественно ссылаясь на нетленные в их глазах традиции американской «демократии». Юбилей, однако, стал поводом, чтобы указать им свыше — не кто иной, как Вашингтон, основатель милитаризма в Америке. В 1975 году появился том «Американская непрерывная революция», в котором собраны тексты лекций, произнесенных маститыми американскими историками под эгидой Института американского предпринимательства. Учреждение очень состоятельное, способное выдержать большие траты на гонорары и публикации. В сущности, идеологический филиал большого бизнеса.
В числе других выступил директор Института Эйзенхауэра профессор Ф. Погью, прославленный в США военный историк. Он прочитал лекцию в подходящем месте — военной академии Вест-Пойнт и, конечно, не преминул напомнить, что «здесь была возведена под наблюдением генерала Вашингтона величайшая крепость времен Американской революции… и в Вест-Пойнте уместно оценить изменения в методах ведения войны», истоки которых, по мнению профессора, лежат в событиях 1775–1783 годов в США. Но лекция Погью была обращена не к тем годам, а оказалась курьезной попыткой поставить Вашингтона на службу современной американской военной доктрине.
Он сказал: «По мере приближения к 200-летнему юбилею войны за независимость мы будем пересказывать мифы, легенды и священные предания. Один из мифов революции гласит: король Пруссии Фридрих Великий отозвался о действиях войск Вашингтона у Трентона и Принстона с 25 декабря 1776 года по 4 января 1777 года как о самой блестящей кампании в истории всех войн. В книге о той войне Бенсена Лоссинга, вышедшей в 1859 году, этот миф звучал — «говорят». Он был опровергнут в серии академических статей примерно на рубеже XIX и XX столетий и, как считают, окончательно прикончен книгой генерал-майора Фрэнсиса В. Грина, изданной в 1911 году. Однако миф живет по той причине, что великий европейский полководец своего времени мог бы восхвалить до небес одну из важнейших кампаний войны. Трентон и Принстон свидетельствовали о возмужании континентальной армии, которая могла вести вооруженную борьбу».
Поразительный ход мысли! Все без изъятия должны испытывать величайший восторг по поводу того, что США обзавелись регулярной армией и никоим образом не оставлять этот восторг только собственным достоянием, а публично выражать его в самых сильных выражениях и гиперболических сравнениях. От прусского короля Фридриха Погью делает прыжок сразу через 200 лет в наше время и предлагает восхититься: «Основной военный урок Американской революции заключается в том, что демократия нуждается в хорошо подготовленной армии, представляющей весь народ, и должным образом вышколенном офицерском корпусе, также комплектующемся из всего народа, то есть в армии, ответственной перед гражданскими властями и имеющей их полную поддержку, способной защищать и распространять принципы, за которые участники Американской революции рисковали своими жизнями».
Погью изложил кредо, дорогое сердцу генералов Пентагона, но он сделал больше, значительно перевыполнив задачу. В пылу юбилейного красноречия, профессор изобразил Вашингтона не только творцом американских вооруженных сил в их нынешнем виде, но и сторонником поголовной милитаризации страны. Он сказал: «Мы должны вновь и вновь напоминать заявление Вашингтона в поддержку его предложения о хорошо организованном ополчении: «Первостепенное значение и основа нашей системы заключается в том, что каждый гражданин, пользующийся защитой свободного правительства, обязан отдать ему не только часть своей собственности, но и свои личные услуги ради его защиты». Конкретное замечание Вашингтона в сложной обстановке освободительной войны возводится в абсолют и освещает, скажем, посылку американских войск за многие тысячи километров от собственных границ.
То, что подтекст прямо касается современности, сомнений не вызывает. Не кто другой, как Погью, расшифровывает: «В наше время, когда многие молодые нации ведут революционные или национальные войны, нам нужно помнить некоторые уроки, преподанные англичанам революционным ополчением Америки. Джон Шай в очерке, написанном в 1973 году, «Военный конфликт как революционная война», воздал должное ополченцам, которых часто чернили. «Ополчение, — пишет он, — вводило «закон и порядок, где того не делали англичане, и наличие ополчения ставило в опасность передвижения мелких английских отрядов… Ополчение постоянно сводило к нулю каждую английскую попытку восстановить власть британской короны иначе, чем введением в действие крупных сил». Вывод один — крепите нынешнюю национальную гвардию, резерв вооруженных сил, прямую наследницу ополчения.
В погоне за доказательством угодного ему тезиса Погью вошел в конфликт с фактами. Упоминаемый Шай, профессор истории Мичиганского университета, не писал «очерк» в 1973 году, а выступил в 1971 году на симпозиуме по проблемам Американской революции в Институте ранней американской истории и культуры в Вильямсбурге. Материалы симпозиума изданы в 1973 году именно с целью предупредить вольное обращение с фактами. Во всяком случае, Погью заменил отточием слова Шая: «Вашингтон всегда жаловался на ополчение — его ненадежность, недисциплинированность, трусость под огнем, но с английской точки зрения ополчение было одним из самых досадных элементов в запутанной войне». Наверняка главнокомандующий знал лучше, отсюда его предложения об укреплении ополчения.
Разведывательное сообщество в США — ЦРУ и прочие ведомства своей бесцеремонной деятельностью вызывают гнев и возмущение честных людей. Ныне они под огнем критики. Рыцари плаща и кинжала не остаются в долгу, доказывая свою полезность. Среди множества их аргументов… ссылки также на Вашингтона! В конце 1974 года Пентагон рассекретил исследование подполковника разведки военно-воздушных сил А. Эшкрафта «Генерал Вашингтон и служба военной разведки в США». Желающим слушать и верить вручено творение подполковника, который с военной прямотой утверждает: Вашингтон среди прочих его несравненных достоинств был отцом американского шпионажа.
Написанное Эшкрафтом невероятно расширяет представление об американской исторической науке. С подкупающей простотой подполковник рассказывает о том, что именно побудило его взяться за перо: «В течение последних двенадцати лет или около этого, с тех пор как военная разведка стала признанной службой, как личный состав управления заместителя начальника штаба по разведке (ДЖИ-2), так и Пентагона, задавались вопросом, когда именно была основана эта служба. Случилось ли это в первую мировую войну, с воссозданием важнейшего второго управления? Или это было в 1903 году, когда Элиу Рут впервые учредил штаб армии? Или за исходный год следует принять 1885 год, когда был создан отдел военной информации (первоначально состоявший из одного офицера). Все эти даты важны, однако с точки зрения именно разведки мы должны обратиться к Американской революции, чтобы обнаружить истинные истоки американской военной разведки». Стоило Эшкрафту дойти до «истоков», как он, что и следовало ожидать в юбилейные времена, встретился с Вашингтоном.
Сообщив, что генерал Вашингтон был «гениальным главнокомандующим», подполковник указывает: «Ему было абсолютно необходимо создать эффективную службу военной разведки, для чего потребовалось несколько лет». С похвальным рвением Эшкрафт обозревает работу американских агентов, особенно в Нью-Йорке, стонавшем под англичанами. Но, подчеркивает он, «во многих отношениях Вашингтон был начальником собственной разведки», а наиболее ценным его сотрудником — майор Б. Таллмэдж, трудившийся на поприще разведки в годы войны в Нью-Йорке. Их взаимная привязанность была безграничной, умиляется Эшкрафт и в доказательство приводит известное прощание Вашингтона с командованием в таверне «Франсес» в Нью-Йорке 4 декабря 1783 года: «Только немногие из офицерского корпуса присутствовали там, тем не менее среди них был Б. Таллмэдж, теперь подполковник. Да, преданный Вашингтону офицер разведки был там, чтобы пролить слезы и обнять во время трогательного прощания своего начальника, у которого также стоял ком в горле. Затем Вашингтон подвел итог своим расходам в годы войны (одна восьмая пошла на разведку)».
Конечный вывод достойного исследования: «У Вашингтона была служба шпионажа, действовавшая на протяжении всей войны… Без исключительно хорошей разведывательной работы этих двух (Вашингтона и Таллмэджа) исход революционной войны был бы под сомнением». Надо думать сентенции такого рода звучат сладкой музыкой в ушах бесславной рати ЦРУ и многих шпионских ведомств, процветающих в США. С нами сам Вашингтон!
Многие и многие американские государственные деятели нашего времени (вспомним хотя бы президента Джона Ф. Кеннеди) призывают своих соотечественников к стойкости и дисциплине. Только так, повторяют они, могли выстоять Афины, каковым уподобляют США, в борьбе со Спартой. Они сетуют на «распущенность» американской цивилизации по сравнению с целеустремленным движением вперед социалистических стран. Пишущие в США о Вашингтоне и в этом случае нашли что сказать, подчеркнув приверженность великого американца к дисциплине.
В 1972 году профессор Н. Каллахан, специалист по Американской революции, сочинил достаточно популярную книжку «Джордж Вашингтон: солдат и человек». Он трудился над ней два года, дабы очень точно сообщить все факты. Исследуя причины стойкости континентальной армии, Каллахан нашел, что этому немало способствовали широта и избирательность наказаний провинившихся, введенная Вашингтоном. Автор с большим вкусом и знанием дела обращается в книжке к практике телесных и иных наказаний в армии Вашингтона. Для лучшего понимания Вашингтонианы донесем читателю рассуждение Каллахана в полном виде. Вот ведь какие вопросы занимали ум Вашингтона в томительные месяцы вынужденного бездействия зимовок в Морристауне:
«Он обратился к методам наказания солдат. Вашингтон стоял за суровую дисциплину… Он разъяснил своему штабу, что, согласно уставам, самое тяжкое телесное наказание для провинившегося — сотня плетей, и не было промежуточного наказания между поркой и смертной казнью. Он отметил, что военно-полевой суд был вынужден часто применять тот или иной вид наказаний за все виды преступления. Вашингтон припомнил, что в самом начале войны максимальным наказанием для солдат было тридцать девять ударов плетью. Тогда же он уведомил конгресс, что этого недостаточно. Количество плетей впоследствии было увеличено до ста, и порка иногда разбивалась на две части — сначала провинившемуся всыпали пятьдесят плетей, а через некоторое время давали по истерзанной спине еще пятьдесят».
Тут нужно прервать знатока американской истории и подправить его ссылкой на другую книгу, изданную в США в 1974 году: монографию Д. Корбина «Неизвестный Вашингтон» (переиздание книги, впервые вышедшей в 1932 году). Как Каллахан, так и Корбин согласны, что в континентальной армии драли нещадно, но резко расходятся в подсчете количества ударов плетей (для наказания применялась плеть-девятихвостка с вплетенной проволокой). По сообщению Корбина, естественно документированному, во время ужасающих испытаний в Вэлли Фордж стоны умиравших от голода смешивались с воплями наказуемых. Корбин пишет: «В зиму Вэлли Форджа солдат Джордж Эвинг без комментариев пометил в своем дневнике: «Солдат его роты получил 300 плетей, а в другой роте 250 и к тому же в воскресенье». Дело свободы находилось в самой низшей точке — неоднократно возникала угроза мятежа и массового дезертирства. Провинившиеся бежали к врагу, в Филадельфию. За это полагалась смертная казнь. В молодости Вашингтон вешал дезертиров, когда речь шла о защите границы от нападений индейцев. В наше время телесные наказания запрещены и наказание за преступления, которые ставят под угрозу жизнь граждан, — только смерть. Пусть филантропы рассудят, что более гуманно».
С этой точки зрения Вашингтон был гуманным человеком в полном смысле слова. Вернемся к Каллахану: «Доктор Тачер оставил описание телесных наказаний: «Провинившегося крепко привязывают к дереву или столбу, и по его обнаженной спине наносится положенное количество ударов плетью, состоящей из нескольких узловатых веревок, иногда при каждом ударе кожа раздирается. Как ни удивительно, солдаты часто получают самые сильные удары без стона и не пытаются уклониться от плети. Это можно объяснить упрямством или гордостью. Они, однако, изобрели метод, который, по их словам, смягчает боль: сжимают зубами свинцовую пулю и жуют ее под плетью, пока она не становится плоской».
Проанализировав систему военных наказаний, «Вашингтон счел, что нужна их градация, ибо плетей было «недостаточно в ряде случаев», а смертная казнь — крайность. В результате размышлений в штабе в Нью-Джерси он рекомендовал конгрессу ввести «жестокий, каторжный труд» в качестве промежуточного наказания между сотней плетей и смертной казнью. Работать надлежало на строительстве укреплений, дорог и прочих общественных сооружений. Рекомендации были претворены в жизнь. Таким образом, Вашингтон и его штаб являются основателями национальной системы военных тюрем. В первую очередь в них заключались пьяницы, не получавшие во время пребывания там иной пищи, кроме хлеба и воды».
Разыскания профессора Каллахана повернули монумент Вашингтона еще одной гранью — в довершение ко всему он основоположник американских тюрем! Поистине пытливость исследователей прошлого в юбилейный период в CÏIIA границ не знает, и ее можно сопоставить только с их горячим желанием принести пользу согражданам благородной деятельностью на ниве всеобщего просвещения.
Страницы новейших книг об истории войны за независимость буквально пестрят поучительными рассказами о том, как самыми жесткими мерами поддерживалась дисциплина, а следовательно, обеспечивалась боеготовность континентальной армии. Порки пустяк, ибо Вашингтон широко применял смертную казнь, обставляя ее надлежащим церемониалом. Т. Флеминг в работе «Забытая победа, Битва за Нью-Джерси в 1780 году» (1973) рассказал о том, как Вашингтон учил солдат повиновению. Хотя войска были на грани мятежа по причинам слишком знакомым — голод, нехватка одежды и обуви, — главнокомандующий с большой изобретательностью показал, и очень наглядно, всем солдатам, что их ждет при попытке сбежать из-под знамени.
В мае 1780 года военно-полевой суд приговорил к смерти 11 дезертиров. Предстоявшая казнь вызывала глухой ропот, но, подчеркивает Флеминг, «Вашингтон тем не менее отказался от каких-либо послаблений в суровой воинской дисциплине. На следующий день после попытки мятежа в коннектикутской бригаде он приказал выстроить по пятьдесят человек от каждого полка на плацу в Морристауне. В одиннадцать утра появились осужденные дезертиры, их везли в телегах, которые тащили жалкие клячи. Перед процессией шел оркестр — 15–20 флейтистов и барабанщиков играли «марш смерти». Восемь были приговорены к повешению, трое — к расстрелу. Они стояли на телегах, щурясь под майским солнцем, а преподобный баптистский капеллан Уильям Роджерс из Пенсильвании взывал к ним — подготовиться к немедленной встрече с богом. Больше для поучения собравшихся, а не для осужденных капеллан распространялся о «низости» дезертирства и проистекающих от этого фатальных последствий для дела американской свободы, если это преступление будет безнаказанным. Затем восьмерых, приговоренных к повешению, повели на помост под виселицей. Они могли видеть неподалеку свежевырытые могилы для себя. У подножия виселицы их поджидали открытые гробы.
«В этот страшный момент, — писал свидетель д-р Джеймс Тачер (записки которого, как мы видели, использовал и профессор Н. Каллахан. — Н. Я.), — когда они возносили горячие молитвы всевышнему, офицер зачитал помилование главнокомандующего для семи из них». Были прощены также и трое приговоренных к расстрелу. «Дрожащие преступники, освобожденные от пут и петли, безмерно рады, — заканчивает Тачер, — но они не смогли сойти с помоста без посторонней помощи». Один все же был повешен. Во многих других случаях помилования не было и казнь совершалась.
Но к чему все эти сцены в солнечный период юбилея, зачем напоминать о суровой прозе войны, военно-полевых судах и прочем, да еще связывать все это с именем Вашингтона?
Т. Флеминг заканчивает свою книгу обращением к современникам: «Эта забытая победа напоминает нам многое из истории войны и истории нашей страны, что мы, вероятно, предали забвению или совсем не знали. Историки революции девятнадцатого столетия рисовали борьбу неизменно только как величественную, триумф единого народа, с величайшим энтузиазмом отражающего врага-тирана. Миф этого золотого века единства и идеализма, не соответствовавших действительности даже в 1776 году, преследовал нас и преследует по сей день. Памятуя об этом мифе, мы пытались судить о нашем времени и, конечно, не находили его в наши дни… Прежде всего мы забывали о том, что революционеры устали, их мораль падала, то есть их терзало то же отсутствие единства, которое типично для любой страны, ведущей длительную войну. Можно даже сформулировать аксиому — чем дольше тянется борьба, тем труднее ее участникам определить, где победа, а где поражение».
Следовательно, применительно к сегодняшнему дню — американцы, запасайтесь впрок терпением, будьте готовы не только к невзгодам, но и жестким методам наведения дисциплины в надлежащих случаях. Не верите? Вам напомнили, как действовал Отец Страны — Джордж Вашингтон!
В юбилейной риторике, имеющей прямое касательство к проблемам наших дней, подчеркивается, что Соединенные Штаты смогли победить под водительством «отцов-основателей» только потому, что они были прагматиками.
«Отцы-основатели» стояли не за революцию, а за ограниченную войну, каковой и были кампании 1775–1783 годов. С этой точки зрения она в одном ряду с несколькими десятками войн, потрясавших человечество в XVIII веке. Свободолюбивые лозунги, освещавшие вооруженную борьбу с американской стороны, конструировались для такого же применения, как мушкеты и ядра. Не больше. Констатация этого очевидного положения не меняет, однако, другого: идеи Американской революции наполнились значительно большим содержанием, чем первоначально планировали и задумали ее инициаторы. Эти лозунги приобрели собственную инерцию, поведя США в конечном итоге дальше, чем думали руководители колонистов, развязавшие ограниченную войну против Британии.
Профессор Д. Хатсон, например, в обстоятельном и точном исследовании не оставил камня на камне от мифа о том, что, приняв в июле 1776 года Декларацию независимости, «отцы-основатели» пеклись о неких «высших» идейных соображениях. Нет, доказал он, американские лидеры и Вашингтон, не последней среди них, уверовали: если США не объявят себя независимым государством, Англия-де сговорится с Францией и Испанией, и они придут ей на помощь в подавлении восстания. В качестве платы за помощь Лондон разделит с этими державами свои колонии в Северной Америке. «В результате, — пишет Хатсон, — опасение заключения договора о разделе, как ни фантастичны были слухи о его подготовке, господствовали над умами американских лидеров весной и летом 1776 года, и, по всей вероятности, они были самой важной причиной, приведшей конгресс к принятию 2 июля 1776 года резолюции, объявившей Америку независимой».
Коль скоро в Северной Америке велась ограниченная, регулярная, по понятиям XVIII века, война, лица, ставшие у истоков независимости Соединенных Штатов, не связывали выбор союзников с декларированными ими же идеологическими соображениями. Иностранная помощь была необычайно важна в их глазах и потому, что она снижала необходимость обращения к широким народным массам в собственной стране, то есть устранялась опасность перерастания вооруженной борьбы в социальное движение. Тесное переплетение всех этих мотивов привело к тому, что борьба США против Англии все в возраставшей степени велась чужими руками. То был давний принцип американских колонистов, умевших заставить чопорную метрополию таскать для себя каштаны из огня. Вашингтон душой и телом стоял за это. Только теперь роли изменились — если в прошлом колонисты отбивались от французов оружием и деньгами англичан, теперь французы пришли на помощь в борьбе против Англии.
Как ни прекрасны патриотические легенды, окружающие Американскую революцию, суровая историческая действительность состоит в том, что с 1778 года война за независимость стала лишь одним из театров войны Англии со своими давними соперниками — Францией и Испанией. От противников Англии сражавшиеся США получили материальную помощь.
Представить, что означали эти миллионы долларов по курсу XVIII столетия, — задача непосильная, во всяком случае для автора. К счастью, коллеги, американские историки, не оставили нас, неамериканцев, в неведении относительно значимости сумм помощи по критериям людей современных. Профессор М. Смелсер взял на себя труд сделать соответствующие подсчеты. В первом томе шеститомной истории Американской революции, выпускаемой специально к двухсотлетию, он написал: «В золотых долларах XVIII века общая сумма субсидий была примерно 2,4 миллиона долларов (из них шестая часть испанская), а займы, которые были полностью выплачены после 1789 года, составили 5,6 миллиона долларов (из них испанские 250 тысяч долларов). Если учесть затраты на американские суда в европейских водах, то итог составит около 9,3 миллиона долларов. По современной покупательной способности на американскую независимость Франция истратила примерно 2,5 миллиарда долларов, а самим американцам она обошлась в 1 миллиард долларов. Или Франция отдала за нее около 2,3 процента валового национального продукта. Без французской помощи не было бы победы».
Суммы астрономические, и перекачка их на войну за океаном не могла не иметь серьезнейших последствий для друзей сражавшихся Соединенных Штатов. Участие Испании в войне против Англии привело к резкому дефициту в государственном казначействе, цены в стране подскочили на 20 процентов, пришлось свернуть работы по внутреннему благоустройству. Но куда круче пришлось престарелой французской монархии. Одна из юбилейных тем в США ныне — влияние Американской революции на французскую. Оно и понятно, разъясняет профессор Д. Хиггинботам в специальном труде о войне за независимость, также приуроченном к двухсотлетию: «Такие французские офицеры, как Александр-де-Ламет, Матье Дюма, граф де Сегю, виконт де Ноэй и будущий социалист Сен-Симон, — все без исключения припоминали, что они впервые стали размышлять о свободе на основании контактов с американцами в годы революционной войны. И еще в одном отношении американский вклад был существенным. Хотя революция во Франции была порождена многими политическими, социальными, экономическими и интеллектуальными факторами, некоторые из которых действовали очень долго, недовольство во Франции драматически прорвалось на поверхность в 1789 году, когда французская казна оказалась на грани банкротства. Это и растущая стоимость жизни были результатом расходов французского правительства во время войны за независимость — войны, обошедшейся Франции приблизительно в 2 миллиарда ливров».
Действительно, непосильны были издержки французской и испанской монархий в войне с Англией, побочным результатом чего явилась независимость Соединенных Штатов. Все это очевидно историкам.
Едва ли есть необходимость морализировать по поводу всего этого, факты говорят сами за себя. Война за независимость только укрепила уже сформировавшееся в Америке убеждение, что воевать чужими руками лучше со всех точек зрения. И если говорить о традициях, восходящих к 1775–1783 годам, то использование других, к вящей выгоде США, одна из самых давних. Что до славы такого образа действия, то объяснения всегда найдутся задним числом. Победа при Йорктауне тому ослепительный пример.
Написав и перечитав этот раздел, я как профессиональный историк все же усомнился в справедливости сказанного — уж больно глубокая пропасть возникает между изложенной интерпретацией и картиной войны за независимость, предстающей со страниц популярных сочинений и школьных учебников. Чтобы проверить себя, я обратился к книге специалиста — американского профессора истории В. Стинчкомба, обобщившего свои многолетние разыскания в архивах США и Франции в монографии «Американская революция и союз с Францией», увидевшей свет на ближних подступах к двухсотлетию, в 1969 году. Это академически безупречное исследование, основной тезис которого гласит: «Без союза с Францией Соединенные Штаты, вероятно, не добились бы независимости». Рассмотрев, что получила Франция в результате союза с США, автор меланхолически заметил: «Французско-американское предприятие вызвало жесточайший финансовый кризис во Франции, пять лет сражавшейся против ведущей державы в Европе без сколько-нибудь существенного вознаграждения, если не считать независимости для слабой и разобщенной страны в трех тысячах миль… Больше того, французский министр иностранных дел Верженн нашел, что американцы наглые, циничные и в общем ненадежные союзники».
Руководители войны за независимость сумели до отказа использовать Францию во время боевых действий, а с окончанием вооруженной борьбы положили начало тому процессу, который привел к появлению расхожей концепции Американской революции со всей приличествующей риторикой. «После подписания мира, — констатирует В. Стинчкомб, — роль Франции в установлении американской независимости быстро выветрилась из памяти Случилось так, как будто все американцы заболели коллективной амнезией. На глазах, хотя, возможно, и не намеренно, произошла американизация Американской революции. Если и помнили о роли Франции, то дело сводилось к Лафайету и помощи Рошамбо «блистательному Вашингтону» у Йорктауна… Даже Вашингтон в речи конгрессу при сдаче своих полномочий в 1783 году не упомянул о союзе. Конечно, в других торжествах Франции воздавалось должное, и еще в 1782 году ни одно публичное выступление не обходилось без упоминания ее значительной роли. После же достижения независимости американцы, по-видимому, не хотели делить лавры победителей».
Вашингтон превозносится теперь за то, что он сумел до отказа использовать помощь других. Разве не важный урок с точки зрения тех, кто видит обременительность и опасность глобализма для США в современном мире?
Вашингтониана представляется лестницей, уходящей вверх, конца которой не видно. По ее ступеням карабкались тысячи исследователей, иногда вверх, иногда вниз, перерыва в этом движении не предвидится, как не разрежается толпа тужащихся перекричать других и сказать свое слово о Вашингтоне. Из скопления историков, публицистов и прочих раздаются бодрые голоса, призывающие и других заняться Вашингтоном. Они заверяют, что места хватит всем. Преуспевшие ссылаются на собственный опыт. Самое поразительное — они не замечают курьезного обстоятельства: призыв, собственно, обращен не к изучению самого Вашингтона, а клубка легенд, нагроможденных вокруг него, по крайней мере, за 170 лет.
М. Канлифф, сравнив двух великих — Шекспира и Вашингтона, приходит к парадоксальному, но, в сущности, верному выводу: «Если почти ничего нельзя найти о Шекспире, о Вашингтоне бездна информации. Существует лишь один невыразительный портрет Шекспира, для портретов Вашингтона, некоторые из них, конечно, точно изображают его, потребовалось три тома. Нет ни одной записки автобиографического характера, принадлежащей руке Шекспира, письма и дневники Вашингтона заняли свыше сорока томов печатного текста. Едва ли хоть один современник упомянул о Шекспире, десятки друзей, знакомых и случайных посетителей оставили нам свои впечатления о Вашингтоне. Фигура Шекспира окутана странным мраком, Вашингтон купался в ослепительных лучах мировой славы. Однако результат, пусть оптический, один и тот же: мрак и блеск скрывают в равной степени».
Поняв, что попытка составить полную библиографию трудов о Вашингтоне безнадежна, Д. Флекснер прибег к поучительному подсчету. «В 1787 году, — пишет он, — Джордж Вашингтон пометил в своем дневнике (т. 3, с. 161), что он подсчитал число семян в бушеле различных трав, самое большое количество семян — 13 410 000 — было в бушеле тимофеевки. Представление о человеке, уже признанном одним из самых великих в мире, считающем и пересчитывающем миллионы крошечных зернышек, способно повергнуть в благоговейный ужас. Однако он, конечно, поступил иначе — подсчитал, сколько семян в небольшой горсточке, а затем провел потребное умножение. Пример Вашингтона вдохновил меня на подсчет, сколько карточек, отражающих книги о нем, содержится в каталоге Нью-йоркской публичной библиотеки. Я подсчитал: в одном дюйме — 77 карточек, затем измерил, сколько дюймов в ящике — 37 с половиной. Помножил и получил — 2997. Конечно, в это число входят только немногие книги из десятков тысяч публикаций, в которых речь идет о Вашингтоне и где он не является главным действующим лицом.
Изобилие — самая трудная проблема, с которой сталкивается биограф Вашингтона. Ибо чаща книг — новые постоянно произрастают на гниющих останках прежних, подобно тропическим джунглям, — скрыла за легендами и молитвами истинного Джорджа Вашингтона».
Пора, давно пора, соглашаются американские историки, извлечь живого Вашингтона из чащи, и не для того, чтобы поставить еще один памятник. Их более чем достаточно — пресловутый миллиардер Г. Хант увековечил резиденцию Вашингтона в Маунт-Верноне, соорудив себе точно такой дом в окрестностях Далласа, штат Техас. Только в пять раз больше по размерам. Американские историки скорбят, ибо нет книги о Вашингтоне, в которой бы в одной была заключена вся жизнь героя. «Можно надеяться, — вздыхает Д. Смит, — что скоро наконец появится полная однотомная биография Вашингтона. На сегодняшний день, увы, ее нет».
Если так, тогда необходимость в компактной биографии Джорджа Вашингтона действительно назрела. Общий кризис капитализма, поразивший все стороны жизни в США и создавший перепроизводство в Вашингтониане, душит творческую мысль, не могущую найти выхода в однотомнике. Эти веские соображения и побудили автора взяться за написание именно компактной биографии Вашингтона.
Этот рассказ о Вашингтоне преследовал цель — попытаться показать, кем он был в действительности, что думал о себе и во что был превращен усердными американскими биографами. Исследователь вопроса в наше время начисто лишен возможности раскопать и предать гласности какие-либо новые факты о жизни главнокомандующего континентальной армии и первом президенте США. Все описано и многократно переписано. Куда более плодотворных результатов можно достичь разбором разнообразных интерпретаций. Это позволяет представить эволюцию политической мысли в США.
Для Соединенных Штатов Вашингтон, конечно, значит очень много, недаром столица страны носит его имя и в обыденной речи часто говорится «Вашингтон», когда имеется в виду политика Америки. А наследие самого Вашингтона приспосабливается к потребностям, зачастую сиюминутным, американского политического курса. Только это постоянно в Вашингтониане. Итак, в Соединенных Штатах Вашингтон таков, каким он нужен сильным страны на данном историческом отрезке времени.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА
1732 — Родился в округе Вестморленд, штат Вирджиния, 22 февраля.
1749 — Получил диплом землемера.
1752 — Назначен майором ополчения колонии Вирджиния.
1753 — Поездка в форт Лебеф.
1754 — Схватка с французским отрядом Жюмонвиля. Сдал французам форт Необходимость.
1755 — Участие в экспедиции Брэддока.
1758 — Избрание в ассамблею Вирджинии.
1759 — Брак с Мартой Кастис.
1761 — Унаследовал Маунт-Вернон.
1770 — Разрешает вопрос о получении ветеранами земель в бассейне Огайо.
1774 — Делегат первого континентального конгресса.
1775 — Делегат второго континентального конгресса, назначен главнокомандующим континентальной армии.
1776 — Поражение на Лонг-Айленде, утрата Нью-Йорка. Победа при Трентоне.
1777 — Поражения при Брандисвайне и Джермантауне. Зимовка в Вэлли-Фордж.
1778 — Битва при Монмусе.
1781 — Принимает капитуляцию Корваллиса в Йорктауне.
1783 — Уход в отставку по окончании войны за независимость.
1787 — Председатель конституционного конвента.
1789 — Избран президентом США.
1793 — Переизбран президентом США.
1793 — Издает прокламацию о нейтралитете.
1794 — Подавление «восстания из-за виски».
1796 — Выступает с прощальным обращением к стране.
1797 — Уход от государственных дел, отъезд в Маунт-Вернон.
1799 — Умер 14 декабря.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
J. Flexnеr, George Washington, v. 1–4. Boston, 1965–1972.
D. Freeman, George Washington, v. 1–7. New York, 1948–1957.
F. Bellamy, The Private Life of George Washington. New York, 1951.
S. Bernis, Jay's, Treaty. New York, 1923.
M. Сunliff, George Washington: Man and Monument. New York, 1958.
F. Gilbert. To fhe Farewell Address: Ideas of Early American Foreign Policy. New York, 1961.
«Affectionately Yours, George Washington: A Self-Portrait in Letters of Friendship». Ed. by T. Fleming, New York, 1967.
S. Little, George Washington 1732–1799. New York, 1962.
S. Padover, The Washington Papers. New York, 1955.
L. Sears, George Washington and the French Revolution. New York, 1960.
«George Washington. A. Profile». Ed. by J. Smith, New York, 1969.
W. Wilsоn, George Washington. New York, 1969.
E. Wright, Washington and the American Revolution. New York, 1957.
Иллюстрации
Первая страница отчета Вашингтона о миссии в форт Лебеф.
Так примерно выглядел дом, в котором родился Джордж Вашингтон. Сгорел в 1779 году и был восстановлен в 1931 году, по скудным документам.
Молодой Вашингтон-землемер. Рисунок Р. Холла.
Травля лис. Лорд Фэрфакс и Вашингтон.
1754 год. Возвращение с Джистом из поездки в форт Лебеф.
Так начиналась служба — учебой ополченцев. Кадр из американского фильма начала тридцатых годов «Джордж Вашингтон — его жизнь и время.
1754 год. Возвращение с Джистом из поездки в форт Лебеф.
Вашингтону 25 лет.
Столица колонии Вирджинии. Здание ассамблеи и суда. Снимок «Исторического Вильямсбурга — города-музея».
Джордж Вашингтон предлагает руку Марте Кастис. Картина Л. Ферриса, создавшего в 1785 году серию картин о жизни Вашингтона.
Он пронес ее образ через всю жизнь. Тот самый единственный примитивный портрет Салли Фэрфакс.
Сорокалетний Вашингтон.
Революция начинается. Современный американский рисунок «Раскаяние тори».
Карикатура вигов. Министры короля собираются зарезать гуся — американские колонии, — несущего золотые яйца. 1776 год.
Мундиры солдат континентальной армии.
Джордж Вашингтон отправляется на войну. Картина Л. Ферриса «Перед рассветом».
Дисциплину приходилось поддерживать и так.
Завтра бой.
Планирование отступления. Военный совет после Лонг-Айленда.
Генерал Нокс.
Генерал Грин.
Через реку. Впереди Трентон.
Маркиз Лафайет.
Зима в Вэлли-Фордж.
Сражение у Принстона 3 января 1777 года.
Битва при Джермантауне.
Объяснение с генералом Ли.
Пегги Шеппард.
Бенедикт Арнольд.
Майор Андре.
Капитуляция англичан при Йорктауне. 1781 год.
Главнокомандующий континентальной армии.
Обсуждение эвакуации Нью-Йорка.
Прощание с офицерами. Таверна Фрэнсис, Нью-Йорк.
Маунт-Вернон. Дом-музей. Современное фото.
Кому трофей — «лисий хвост». 53-летний Вашингтон. Картина Л. Ферриса.
Путь, усеянный розами. Триумфальная арка, сооруженная в Филадельфии в честь президента Вашингтона. 1789 год.
Принятие присяги президента.
Прием у президента Вашингтона.
Нравы конгресса. Карикатура, появившаяся вскоре после вступления Вашингтона на пост президента.
Кабинет Вашингтона.
Александр Гамильтон.
Современники находили, что этот портрет лучше всего передает облик Вашингтона.
Президент Вашингтон. Портрет написан Г. Стюартом.
Марта Вашингтон в последние годы жизни.
На склоне лет Вашингтон объезжает плантацию.
Семейный склеп Вашингтона в Маунт-Верноне. Над входом надпись: «Здесь покоится прах генерала Джорджа Вашингтона».
Бюсты «отцов-основателей» США, высеченные в скалах в штате Южная Дакота.
Мраморная статуя Вашингтона до 1908 года находилась в Капитолии, затем передана в национальный музей.
Монумент Вашингтона в столице США.
Факсимиле Вашингтона разных лет.
Объявление о сборе средств на постройку монумента Вашингтона.