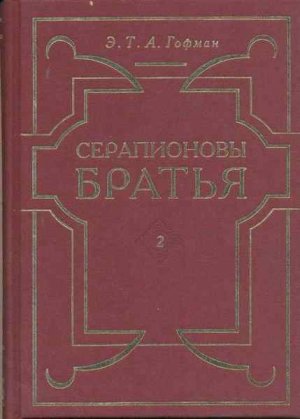
Под этим именем значилась в каталоге выставки Берлинской Академии художеств, состоявшейся в сентябре 1816 года, картина известного члена Академии — Кольбе, до того неотразимо привлекавшая к себе внимание посетителей, что место перед ней никогда не оставалось пустым.
Дож в великолепной богатой одежде ведет под руку вдоль балкона не менее роскошно одетую догарессу. Он — старец с седой бородой и темно-красным, с подвижными чертами лицом, выражающим почти одновременно силу, слабость, гордость и усталость. Она — молодая, цветущая женщина с выражением затаенной печали и множества мечтательных устремлений не только в чертах лица, но и во всем повороте фигуры. За ними пожилая женщина и мужчина, держащие развернутый зонтик. В стороне молодой человек трубит в рог, сделанный из изогнутой раковины. В глубине — море и на нем украшенная венецианским флагом гондола с двумя гребцами, а на заднем плане сотни и сотни парусов да вздымающиеся в воздух башни и дворцы прекрасной, возникающей из волн Венеции. Налево виден собор святого Марка, направо церковь Сан Джорджо Маджоре. На золотой раме картины вырезаны слова:
Однажды между зрителями, стоявшими перед этой картиной, возник горячий спор о том, сочинена ли она самим художником, просто хотевшим изобразить согласно со смыслом подписанных стихов положение пожилого человека, который, при всем блеске, его окружающем, все-таки не может удовлетворить желаниям молодой, жаждущей любви женщины или, наоборот, художник был только передатчиком и истолкователем истинного исторического происшествия. Каждый защищал свое мнение, пока, наконец, большинство споривших, утомленные долгим разговором, мало-помалу не разошлись, так что перед картиной осталось всего двое друзей, завзятых любителей искусства.
— Я не понимаю, — сказал один, — что за охота портить себе удовольствие подобными бессмысленными спорами? Что до меня, то мне решительно все равно, что случилось с этим дожем и догарессой в жизни. Меня в этой картине поражает, главным образом, блеск и могущество кисти, ощущаемые во всем произведении. Взгляни, как гордо и легко веет в воздухе этот флаг с крылатым львом. О чудная, чудная Венеция!
И сказав это, он начал декламировать начало Турандотовой загадки о крылатом льве:
— Dimmi, qual sia quella terribil fera…[2]
Но едва он закончил, как кто-то немедленно ответил приятным звучным голосом разгадку:
— Tu quadrupede fera…[3]
Тут только друзья заметили, что за ними стоял незаметно подошедший к ним красивый, высокий человек в сером, живописно наброшенном на плечи плаще и смотрел сверкающими глазами на картину. Завязался разговор. Голос незнакомца звучал почти торжественно.
— В том-то и особенность искусства, — сказал он, — что с его помощью туманные, витающие в пространстве образы, пройдя сквозь душу художника, получают форму и краски и оживают, словно найдя свое отечество, причем нередко бывает, что картина вдруг оказывается верным изображением того, что когда-то уже было или произойдет в будущем. Так и в настоящем случае, очень может быть, что Кольбе, сам того не зная, изобразил в своей картине дожа Марино Фальера и его супругу Аннунциату.
Незнакомец замолчал, но оба друга пристали к нему с неотступной просьбой объяснить им эту загадку, напоминавшую им загадку о льве Адриатики.
— Если вы будете терпеливы, — отвечал незнакомец, — то я объясню вам значение этой картины, рассказав историю дожа Марино Фальера, но терпеливы ли вы? Я должен буду вдаваться в подробности, потому что иначе нельзя рассказывать о вещах, которые до того ясно и живо рисуются перед моими глазами, что, кажется, я видел их сам. Впрочем, последнее до некоторой степени в самом деле справедливо, так как каждый историк непременно должен быть ясновидящим, устремляющим свой взгляд в прошедшее.
Друзья отыскали вместе с незнакомцем удобное для долгого рассказа место, где он без дальнейших предисловий немедленно начал свою повесть.
— Давным-давно, если я не ошибаюсь, в августе тысяча триста пятьдесят четвертого года, храбрый генуэзский полководец Паганино Дориа разбил венецианцев наголову и осадил их город Паренцо. В заливе, почти в двух шагах от Венеции, шныряли неприятельские галеры, подобно голодным хищным зверям, ищущим верной добычи. Ужас объял народ и Синьорию. Всякий, кто только мог носить оружие, схватился за меч или весло.
В гавани Сан Никколо кипела главная деятельность. В море затопляли суда, вбивали сваи, замыкали цепи и все для того, чтобы помешать проходу вражеских судов. Пока толпы простого народа работали тут, среди шума оружия и грохота погружаемых в море тяжестей, агенты Синьории с бледными, вытянутыми лицами шныряли по Риальто, добывая за баснословные проценты деньги, которых не было в кассах республики. И к довершению всего — в это грозное время общего бедствия испуганное стадо осталось без пастыря: старый дож Андреа Дандоло умер, удрученный, под бременем скорби и забот. Народ очень любил покойного герцога и называл своим «милым графчиком» (il caro contino) за его ласковое со всеми обращение и добродушие. Все помнили его прогулки по площади святого Марка, где каждый имел право к нему подходить и говорить о своих нуждах. И никто не уходил прочь без доброго совета, слова утешения или пары цехинов в кармане. Второе горе всегда бывает чувствительнее, когда приходит в разгар первого. Так и теперь, едва глухой звон колоколов святого Марка возвестил о кончине дожа, отчаяние и без того уже растерявшегося народа перешло все границы.
«Теперь нет более надежды на спасение! Теперь должны мы согнуть шею под ярмом генуэзцев!» — восклицали все, хотя смерть Дандоло собственно с военной точки зрения вовсе не могла назваться потерей. Добрый покойный граф всегда предпочитал жить в мире и тишине. Наблюдения над ходом небесных светил занимали его гораздо больше, чем хитросплетения государственной мудрости. А что касается его способностей предводителя, то устроить на Страстной неделе торжественную процессию умел он намного лучше, чем составить план сражения. Поэтому после его смерти предстояло выбрать дожа, который обладал бы как государственными, так и военными способностями в равной степени и мог твердой рукой спасти потрясенную до самых оснований Венецию от угрожавшего ей дерзкого врага.
Сенаторы собрались для совещания; много толковали они, сидя с печальными лицами и покачивая седыми головами, но не могли прийти ни к какому дельному результату. Где, в самом деле, было найти человека, который мог бы опытной рукой взяться за государственный руль и направить корабль к спасительной пристани? Наконец старейший из них, Марино Бодоэри, сказал, повысив голос:
— Мы не найдем никого здесь, среди нас. Но давайте обратимся в Авиньон к старому Марино Фальеру, посланному с поздравлением к папе Иннокентию по случаю вступления на папский престол. Вот кто нам нужен! Его следует облечь властью дожа и ему поручить дело нашего спасения. Может быть, мне возразят, что Фальеру исполнилось уже восемьдесят лет, что его борода и волосы белы как снег, что ярким румянцем, который вспыхивает на его щеках обязан он, как уверяют насмешники, употреблению кипрского вина, а не внутреннему жару и бодрости, но вспомните, какой храбростью отличился Фальер, когда мы поручили ему командование нашим флотом в Черном море. Подумайте, каковы должны быть заслуги человека, если сами прокураторы святого Марка сочли достойным наградить его графством Вальдемарино!
Продолжая таким же образом, Бодоэри сумел в таком блестящем виде представить заслуги Марино Фальера, что скоро все без исключения голоса соединились в пользу его избрания. Некоторые, правда, пытались говорить о необузданной вспыльчивости Фальера, о его властолюбии, упрямстве, но другие возражали, что все эти дурные качества должны были неизбежно ослабеть в старике, а потому тем более следует избрать герцогом Фальера-старика, а не Фальера-юношу. Впрочем, недовольные были скоро заглушены неудержимым восторгом народа, едва он узнал о новом избрании. Известно всем, что в годину общих бедствий всякое единогласное решение обычно принимается как самим небом посланный якорь спасения. Так получилось и теперь. Добрый граф со всей его мягкостью и благочестием был скоро забыт, и его же почитатели громко кричали и клялись святым Марком, что давно уже следовало избрать герцогом Фальера, тогда бы гордый Дориа и думать бы не смел напасть на Венецию. Старые, изувеченные в битвах инвалиды махали заржавленным оружием, приговаривая: «Кто как не Фальер победил Морбассана! Чьи победные флаги развевались в Черном море?»
В кучках собиравшегося народа то и дело рассказывали о подвигах Фальера, и толпы кричали и прославляли его имя, как если бы Дориа был уже побежден. К этому прибавилось еще и то, что командир флота, Никколо Пизани, отправившийся, — вместо того, чтобы идти навстречу Дориа, — неизвестно почему к берегам Сардинии, где не было никакой опасности, вновь повернул на Венецию, так что Дориа, видя приближающийся флот, должен был отступить. Это неожиданное, счастливое событие было также приписано влиянию страшного имени Фальера, и необузданный, бешеный восторг народа и Синьории, прославлявших счастливое избрание, перешел все границы.
Было решено принять счастливого, новоизбранного предводителя Венеции с невиданными до того почестями — как спасителя, посланного самим небом и принесшего с собой честь и славу государства. Двенадцать почетнейших патрициев, каждый с блестящей свитой, были посланы республикой в Верону для встречи Фальера и торжественного объявления ему о происшедшем избрании. Пятнадцать богато убранных галер, оснащенных подестой Кьоджи, под предводительством его собственного сына Таддео Джустиниани, встретили затем Фальера в Кьоджи и с торжеством повезли победоносного герцога на Сант Элену, где ожидал его корабль «Буцентавр».
Как раз около того времени, когда Марино Фальер должен был пересесть на «Буцентавр», вечером третьего октября, почти на закате солнца, какой-то несчастный, истекающий кровью молодой человек лежал без движения на мраморных ступеньках таможни. Почти утратившие первоначальный цвет лохмотья, прикрывавшие его худое, изможденное тело, могли бы принадлежать бывшему моряку или носильщику, хотя кожа бедняги, просвечивавшая сквозь дыры на рубашке, была белой и нежной, как у знатного патриция. Худоба еще более подчеркивала прекрасное телосложение незнакомца, имевшего на вид никак не более двадцати лет от роду, а разбросанные в беспорядке прекрасные каштановые волосы, обрамлявшие высокий, благородный лоб, и потухшие, но выразительные глаза, орлиный нос и тонкие складки губ невольно заставляли думать, что только ужасное несчастье могло ввергнуть его в такое тяжелое положение, вырвав из другой, более высокой среды, к которой он принадлежал по рождению.
Юноша лежал на ступеньках таможни и, опершись головой на правую руку, бессмысленно смотрел ничего не выражавшим взором в морскую даль. При первом взгляде можно было счесть его даже за умершего, если бы тяжелый вздох, более похожий на стон от непереносимой боли, не поднимал иногда его грудь. Левая рука молодого человека была ранена: окровавленная и неподвижная она протянулась, как плеть, вдоль всего тела.
В этот день не было ни работ, ни движения в городе, все население Венеции на тысяче всевозможных лодок и гондол отправилось встречать своего нового дожа Фальера. Юноша был оставлен всеми без помощи и утешения. Его голова совсем уже готова была бессильно опуститься на мраморные плиты в совершенном беспамятстве, как вдруг чей-то резкий, пронзительный голос, в котором, однако, звучало беспокойство, окликнул его несколько раз:
— Антонио! Милый Антонио!
Молодой человек приподнялся, собрав остаток последних сил, и, с трудом обернувшись к столбам набережной, за которыми раздался голос, с усилием спросил:
— Кто меня зовет? Кто хочет бросить мой труп в море, так как на земле со мной уже все покончено?
Тут какая-то маленькая, скрюченная старуха подошла на костылях к молодому человеку и, прерывая речь кашлем, быстро заговорила, причем в голосе ее все время проскакивал какой-то судорожный смех:
— Глупый ты, глупый! Собрался умирать, когда тебя ждет неописуемое счастье! Смотри, каким золотом горит заря! Это твои цехины! Вставай да съешь и выпей что-нибудь, чтобы подкрепить силы. Ты обессилел только от голода; он один — причина, что ты лежишь здесь на холодной земле; ведь руке твоей уже лучше.
Антонио тотчас узнал в старушке нищую, которую он часто видел на ступенях Францисканской церкви, где она громким и несколько насмешливым голосом выпрашивала у прохожих милостыню. Он вспомнил, как часто сам, привлеченный непонятной симпатией, бросал ей свой последний, заработанный тяжелым трудом цехин. Но тут, находясь в таком тяжелом положении, он ответил сурово:
— Оставь меня в покое, глупая! Что тут странного, что голод обессилил меня еще более, чем раньше! Уже три дня, как я не смог заработать ни одной монеты. Я было хотел добраться до монастыря, чтобы поживиться хотя бы нищенской похлебкой, да видишь, все мои товарищи уехали и ни один из них не захотел перевезти меня на ту сторону. Так я и остался лежать здесь на земле, с которой, верно, больше не встану.
— Ха-ха-ха! — засмеялась старуха. — Зачем же отчаиваться? Ты хочешь есть и пить? На то здесь я! Вот свежая рыба; она только сегодня куплена на рынке; вот хлеб, вот лимонный сок. Кушай, мое сокровище, а там мы позаботимся и о твоей раненой руке.
Сказав это, старуха вытащила из висевшего у нее за спиной мешка рыбу, хлеб и лимоны. Едва Антонио успел освежить горевшие губы живительным напитком, голод его пробудился с удвоенной силой и он жадно проглотил рыбу и хлеб. Старуха между тем освободила его раненую руку от лохмотьев, которыми она была перевязана, и, внимательно осмотрев, увидела, что хотя рана и была тяжела, но дело идет к выздоровлению. Достав ящичек с какой-то мазью, старуха разогрела ее своим дыханием, приложила к ране и затем спросила:
— Кто же тебя так ранил, мой дорогой Антонио?
Молодой человек, уже немного взбодренный, сверкнул глазами и, подняв вверх здоровую правую руку, воскликнул:
— Меня хотел изувечить негодяй Никколо, потому что его берет зависть при виде каждой, перепадающей мне монеты! Я жил тем, что помогал переносить тяжелые тюки товаров с приходящих кораблей немецких купцов в лавки, что на Фондако деи Тедески; ведь ты знаешь это здание?
Услышав это название, старуха засмеялась странным, дребезжащим голосом и пробормотала несколько раз:
— Фондако! Фондако! Фондако!
— Полно тебе хохотать, выслушай меня, — нетерпеливо перебил Антонио.
Старуха замолчала, а Антонио продолжал:
— Заработав кое-что, купил я себе новое платье, в котором выглядел достойно, и поступил в гондольеры. Синьоры полюбили мою гондолу за мой веселый нрав и умение петь песни, так что я всегда успевал заработать немного больше, чем другие. Но тут стали завидовать мне гондольеры; наговорили на меня хозяину, и он меня прогнал, а потом они не стали давать мне нигде прохода, громко обзывая почему-то немецкой собакой и еретиком. Три дня тому назад, когда я помогал в Сан Себастьяно вытаскивать на берег лодку, они напали на меня с камнями и палками. Я стал защищаться, но тут этот проклятый Никколо так ударил меня веслом, что едва не убил, и я без чувств повалился на землю… Спасибо тебе, добрая душа, что ты помогла мне и накормила. Твоя мазь в самом деле чудодейственная. Смотри, я уже могу ворочать рукой и скоро буду опять в состоянии приняться за весло.
Сказав это, Антонио встал и совершенно бодро взмахнул раненой рукой. Старуха опять засмеялась и завертелась около него, забормотав нараспев:
— Сильнее, сильнее греби, сынок! Вот плывет твое золото! Греби сильнее! Еще раз, еще раз! Да зато в последний!
Но Антонио уже не обращал внимания на слова старухи, засмотревшись на открывшееся перед ним зрелище. «Буцентавр», с гордо развевающимся львом на венецианском флаге, точно золотой лебедь, плавно приближался под дружными ударами весел. Среди множества окружавших его галер и гондол гордо поднимал он из волн свою голову, точно полководец, окруженный ликующим войском. Заходящее солнце освещало море и Венецию, и все казалось утопающим в его сверкавших, огненных лучах.
Но пока восхищенный Антонио смотрел на это великолепное зрелище, погода внезапно стала меняться. Сияние зари сделалось красноватым, в воздухе послышался свист ветра, с которым скоро стал сливаться шум разыгравшихся волн. Скоро буря зашумела не на шутку. Наступившие сумерки скрыли флотилию от глаз, и только белые верхушки огромных, гудевших, как стая чудовищ, и грозивших потопить все морских валов еще более усиливали ужас впечатления.
«Буцентавр» с его плоским дном бросало, как мячик, из стороны в сторону; веселые звуки рогов и крик радости сменил вопль ужаса перед неминуемой бедой.
Антонио стоял, как будто внезапно окаменел. Вдруг звук бившейся о мраморные ступени цепи долетел до его слуха. Это был маленький челнок, привязанный к набережной и качавшийся, как скорлупа. Мгновенно точно молния мелькнула в его голове. Быстро вскочил он в челнок, отвязал его, схватил весло, лежавшее на дне, и смело пустился по волнам к тому месту, где должен был находиться «Буцентавр». Чем ближе он к нему приближался, тем явственнее доносились до него крики о помощи: «Сюда, сюда! Спасите дожа! Спасите дожа!»
Маленькие челноки, как известно всем, могут лучше, чем даже большие суда, держаться на воде во время бури в заливах, и потому все, кто только мог, поспешили на лодках спасать драгоценную голову Марино Фальера. Но в жизни всегда бывает так, что полный успех какого-нибудь смелого предприятия непременно достается одному, тогда как другие только напрасно выбиваются из сил. На этот раз успех выпал на долю бедному Антонио. Он один сумел приблизиться со своим маленьким челноком к «Буцентавру». Старый Марино Фальер, привыкший к подобным опасностям, смело вскочил в челнок, покинув великолепного, но коварного «Буцентавра», и Антонио через несколько минут высадил его невредимым на площади святого Марка, пронесшись со своим челноком, как легкий дельфин, сквозь шумевшие волны.
Промокший насквозь, с каплями соленой водой на седой бороде был проведен старый герцог в собор, где члены Синьории, с перепуганными, бледными лицами, поспешили торопливо закончить церемонию. Народ, находясь под зловещим впечатлением неудачного въезда, не преминул отметить, что новый дож был второпях проведен по площади между двумя столбами, где обыкновенно казнили преступников. В глубоком молчании разошлись толпы людей по домам, и день, начатый так торжественно, завершился горем и печалью.
О спасителе дожа между тем все забыли, да и сам Антонио мало думал о своем подвиге, так как измученный до полусмерти, жестоко страдая от вновь открывшейся из-за напряжения раны, лежал он почти без чувств в одной из колоннад герцогского дворца. Тем более он удивился, когда почти уже ночью его внезапно кто-то стал трясти за плечо и говорить:
— Вставай, приятель, да пойдем за мной во дворец к герцогу.
Это был посланный за ним драбант.
Марино Фальер ласково его встретил и сказал, указывая на два лежавших на столе и туго набитых кошелька:
— Смелый совершил ты сегодня подвиг, храбрый юноша! Вот возьми эти три тысячи цехинов. Если мало — требуй еще, но прошу, больше никогда не показывайся мне на глаза.
При этих словах огонь блеснул в глазах старого дожа, и он слегка покраснел.
Антонио не сразу сообразил причину такого приема, потому нимало не оскорбился. Не без усилия пришлось ему поднять свои тяжелые кошельки, законно и справедливо им заработанные.
Счастливый и довольный, в сознании нового своего достоинства смотрел на другой день утром Марино Фальер из-под изогнутых оконных сводов своего дворца на волновавшиеся под ним толпы народа. В задумчивости не заметил он даже прихода товарища и друга своих юных дней Бодоэри, который, постояв несколько минут не замеченный дожем, всплеснул наконец руками и воскликнул, смеясь:
— Важные, должно быть, мысли засели в твоей голове, друг Фальер, с тех пор, как ты надел герцогскую шапку!
Марино Фальер вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и с несколько напускной любезностью пошел навстречу своему другу. Он чувствовал, что обязан своим избранием Бодоэри, и потому слова последнего не совсем приятно отозвались в его ушах. Мысль быть обязанным чем-нибудь кому бы то ни было всегда была невыносимой для его честолюбивого сердца, и в этом отношении старый заслуженный друг стоял в его глазах на одной доске с бедным Антонио. Впрочем, принудив себя, пробормотал он несколько слов благодарности и тотчас же переменил тему, заговорив о государственных делах и о мерах, которые следовало предпринять против окружавшего их врага.
— Обо всем этом, — отвечал ему, лукаво смеясь, Бодоэри, — поговорим мы через два часа на общем собрании Совета. Если я пришел к тебе так рано, то вовсе не за тем, чтобы толковать, какой отпор следует дать смелому Дориа или каким средством образумить угрожающего нашим далматинским городам Людвига Венгерского. Нет, Фальер, я хочу поговорить о деле, касающемся лично тебя, а именно о твоей женитьбе.
— Как можешь ты, — с неудовольствием ответил Фальер, повернувшись снова к окну, — думать о таких вещах? Время ли теперь заниматься весельем? Когда будет побежден враг и вновь восстановится богатство, слава и честь льва Адриатик, тогда только жених будет достоин прекрасной невесты.
— Ах, — перебил нетерпеливо Бодоэри, — ты думаешь, я говорю о празднестве твоего обручения с морем, когда ты с высоты «Буцентавра» бросишь золотой перстень в волны Адриатики? Ты носишь имя Марино, и потому и без того родственник морю. Нет, я разумею иную невесту, а не коварное, холодное море, так неблагосклонно поступившее с тобой вчера. Можно ли найти счастье в объятиях грозной стихии, так свирепо бушевавшей вокруг, когда ты с посиневшими от холода щеками взирал на нее с палубы «Буцентавра». Достаточно ли жара всего Везувия, чтобы растопить ледяное сердце такой женщины, которая венчалась сотни раз, принимая обручальные перстни не как дар любви, а как должную дань своих рабов? Нет, Марино! Я желал бы видеть твое обручение с земной женщиной и притом прекраснейшей, какую только можно найти.
— Ты бредишь, старик, — возразил Фальер, продолжая смотреть в окно, — мне ли, восьмидесятилетнему старику, придавленному заботами, думать о любви, когда у меня и любить-то нет больше сил!
— Полно, полно, — отвечал Бодоэри, — разве сама холодная зима не отверзает своих объятий прекрасной весне, спешащей к ней навстречу на крыльях теплого ветра? И когда она прижимает ее к своей ледяной груди, ощущая теплое веяние, куда деваются тогда лед и снег? Ты указываешь на свои восемьдесят лет, но разве старость меряется годами? Разве ты не так же прямо держишь свою голову и не так же бодро ходишь, как это было в сорок лет? Или, может быть, ты начинаешь чувствовать, что силы твои слабеют, что прежний меч становится для тебя тяжел, что тебе трудно подниматься по ступеням дворцовой лестницы?
— Нет, нет! Клянусь небом, — прервал своего друга Фальер, резко отшатнувшись от окна и бодро подходя к нему, — об этом нет и речи!
— Если так, — продолжал Бодоэри, — то почему же тебе даже в твоих летах не испытать земного счастья, которое тебе суждено? Послушай меня: возведи в сан догарессы женщину, которую я для тебя избрал, и ты увидишь, что все венецианки также единодушно признают ее первой по красоте и добродетели, как венецианцы признали тебя первым по уму, силе и храбрости.
Затем Бодоэри стал в таких ярких красках описывать совершенства будущей догарессы, так что у старика Фальера заблестели глаза, огонь вспыхнул на щеках и разгорелись губы, точно он выпил несколько стаканов сиракузского.
— Что же это за чудо красоты, о котором ты говоришь? — спросил он, невольно улыбаясь от удовольствия.
— Да никто другой, — отвечал Бодоэри, — как моя собственная воспитанница.
— Что? — прервал его Фальер. — Твоя воспитанница? Да ведь она была замужем за Бетруччио Неноло, когда я был еще подестой в Тревизо.
— Ты думаешь, — отвечал Бодоэри, — о моей племяннице Франческе, а я говорю о ее дочери. Ты знаешь, что дикий, суровый Неноло погиб в морском сражении. Франческа с отчаяния удалилась в монастырь, а маленькую Аннунциату я взял на воспитание в свою виллу близ Тревизо.
— Так ты дочь своей племянницы назначаешь мне в жены? — снова нетерпеливо перебил Фальер. — Да много ли лет прошло со дня самой свадьбы Неноло? Аннунциата должна быть теперь едва десятилетним ребенком. Когда я был подестой в Тревизо, о свадьбе Неноло не было еще и речи.
— Ровно двадцать пять лет, — со смехом отвечал Бодоэри. — Как можешь ты так ошибаться в годах. Аннунциате теперь девятнадцать лет; она хороша, как заря, скромна, добродетельна и ничего еще не слыхала о любви, потому что почти никого не видела. Она, ручаюсь, привяжется к тебе с детской преданностью и любовью.
— Я хочу ее видеть! — воскликнул дож, которого задел за живое рассказ Бодоэри об Аннунциате.
Желание это исполнилось в тот же день. Хитрый Бодоэри, желавший из собственных соображений во что бы то ни стало видеть свою воспитанницу догарессой, тайно привез Аннунциату во дворец и устроил встречу ее с дожем, когда тот возвращался из Совета.
Ангельская красота Аннунциаты до того поразила старого Фальера, что он не был даже в состоянии заговорить о сватовстве. Аннунциата, уже приготовленная словами Бодоэри к тому, что ее ожидало, склонилась, вся покраснев, перед дожем, и, прижав его руку к губам, прошептала чуть слышно:
— Мой господин! Ужели вы точно хотите сделать мне честь, возведя на ступени вашего герцогского трона? Клянусь быть преданной вам всей душой до последнего вздоха.
Старый Фальер был вне себя от восторга. Огонь пробежал по его жилам, когда Аннунциата коснулась его руки, голова закружилась, и он, чуть на зашатавшись, должен был сесть в кресло. Доброе мнение Бодоэри о силах восьмидесятилетнего старика, по-видимому, оказалось несколько преувеличенным. Бодоэри не мог даже скрыть появившейся по этому случаю на его губах легкой насмешливой улыбки, но скромная, невинная Аннунциата не поняла ничего, и счастье ее не было нарушено.
В последовавшем затем совещании между обоими стариками было решено, что свадьба будет справлена в величайшей тайне, и догаресса представится через несколько дней Синьории и народу как супруга дожа, уже будто бы прежде с ним обвенчанная и жившая во время Авиньонского посольства Фальера в Тревизо. Причиной такой предосторожности, по всей вероятности, было неловкое чувство, которое ощущал сам дож при одной только мысли — объявить себя женихом девятнадцатилетней девушки, что при известной склонности венецианцев к насмешкам и злоязычию могло привести к невыгодным для него шуткам.
Теперь мы просим читателей обратить внимание на одного прекрасно одетого юношу, гуляющего по Риальто с туго набитым кошельком в руках. Он ходит медленно, останавливается, вступает в разговор с евреями, турками, армянами, греками, продолжает с недовольным видом свой путь и наконец садится в гондолу, приказывая везти себя на площадь святого Марка, где опять начинает медленно бродить со сложенными на груди руками и с опущенным в землю взором. Молодой человек даже не замечает легкого шепота и украдкой бросаемых взглядов, вызванных его появлением на многих окружающих площадь балконах. Кто бы узнал в этом юноше нашего знакомого Антонио, еще так недавно лежавшего в нищенских лохмотьях на мраморных ступеньках таможни!
— Антонио! Здравствуй, мой голубчик Антонио! — вдруг раздался возле него голос старухи нищенки, сидевшей под портиком собора святого Марка, которую он, проходя мимо, совсем не заметил.
Быстро обернувшись, Антонио достал из кошелька полную горсть цехинов и хотел подать старухе, но она замахала руками и крикнула, рассмеявшись, пронзительным голосом:
— Оставь при себе свое золото! Мне оно не нужно, я богата и без того. А если ты точно хочешь сделать мне добро, то закажи мне новый плащ. Мой стал дыряв и плохо защищает от дождя и ветра. Да, сделай это мой добрый Антонио, но берегись Фондако, берегись Фондако!
Изумленный Антонио взглянул на изможденное, морщинистое лицо старухи, в котором странно перемешивались судорожный смех с выражением величайшего ужаса; когда же она, всплеснув костлявыми руками, снова крикнула раздирающим уши, пронзительным голосом: «Берегись Фондако!» — он не мог сдержаться и воскликнул в свою очередь.
— Ты, кажется, совсем сошла с ума, старуха!
Едва нищая услыхала эти слова, как лицо ее мгновенно побледнело, и она кубарем скатилась с мраморных ступеней лестницы. Антонио, прыгнув, едва подоспел и, схватив ее обеими руками, не дал ей сильно ушибиться.
— О мой голубчик! — заговорила старуха растроганным голосом. — Какое страшное вымолвил ты слово! Лучше убей меня сразу, только не говори таких слов. Ты и не подозреваешь, как тяжело меня обидел, меня, которая так тебя любит!
Сказав это, она закутала лицо своим рубищем, покрывавшим ее плечи на манер плаща, и зарыдала как ребенок. Растроганный Антонио взял ее на руки, перенес под портал церкви и усадил на мраморную скамью.
— Ты много сделала мне добра, старушка, — заговорил он ласковым голосом. — Ты спасла меня от смерти: не будь тебя, я лежал бы теперь где-нибудь на дне моря и никогда не удалось бы мне спасти дожа, заработав тем мои честные цехины. Но даже не сделай ты этого, я и так всегда чувствовал к тебе какое-то расположение, несмотря на то, что ты постоянно обходишься со мной странным и непонятным образом, вечно смеешься и кривляешься, так что порой я тебя просто боюсь. Но все-таки скажу тебе по совести, что даже когда я был бедным носильщиком, мой внутренний голос всегда заставлял меня отложить для тебя пару монет.
— О мой добрый, мой золотой Тонино! — воскликнула старуха, подняв к небу руки, так что костыль ее упал и покатился по мраморному полу. — Я это знаю! Знаю, что ты чувствуешь ко мне невольное расположение, но тс-с!.. Молчи об этом, молчи!
И она нагнулась за своим костылем. Антонио поднял его и подал ей. Старуха оперлась на него острым костлявым подбородком, уставилась в землю глазами и заговорила глухим, подавленным голосом:
— Скажи мне, мой голубчик, неужели ты не сохранил ни малейшего воспоминания о том, что было с тобой давным-давно, прежде чем ты очутился здесь несчастным бедняком и без куска хлеба?
Антонио глубоко вздохнул, сел возле старухи и, помолчав немного, начал так:
— Ах, старая! Я хорошо чувствую, что родился от родителей, живших в довольстве и счастье. Но о том, кто они были, а также что сталось с ними и со мной после, не осталось во мне никакого воспоминания! Точно сквозь сон, помню я черты лица статного, красивого человека, носившего меня на руках и баловавшего лакомствами. Также встает иногда перед моими глазами облик чудной, прекрасной женщины, ухаживавшей за мной, укладывавшей меня каждый вечер спать в мягкую, чистую постель и ласкавшей при всяком удобном случае. Оба они говорили со мной на каком-то неизвестном мне мягком, звучном языке, и помню, что я сам начинал лепетать что-то на этом языке. Когда я еще работал веслом на гондоле, товарищи часто дразнили меня, говоря, что я и по лицу, и по глазам, и по волосам должно быть урожденный немец; да я и сам думаю, что язык, на котором говорил мой благодетель, или, вернее, мой отец, был немецкий. Но самым живым воспоминанием о том времени осталась во мне одна ужасная ночь, когда, помню, я был внезапно разбужен отчаянным, душераздирающим криком. В доме стояла беготня, двери с шумом отворялись и затворялись. Необъяснимый страх до того овладел мною, что я начал громко плакать. Женщина, о которой я говорил, схватила меня на руки, зажала мне рот и, поспешно закутав в платок, выбежала со мной из дома. Что было потом — я совсем не помню. Позднее уже встает передо мной опять вид прекрасного дома, расположенного где-то в красивой и теплой стороне. Опять припоминаю я лицо уже другого мужчины, которого называл отцом и который был хозяином этого дома. И он, и все в доме говорили по-итальянски. Как-то я не видел отца в течение нескольких недель. Вдруг пришли в дом какие-то чужие люди со злыми, неприятными лицами. Они много шумели и перевернули весь дом вверх дном. Заметив меня, один из них спросил, кто я такой и что здесь делаю. Я ответил, что я Антонио и живу в доме. Услышав это, они злобно засмеялись, сорвали с меня мое прекрасное платье и вытолкали вон с угрозой, что если я посмею вернуться, то меня прибьют до полусмерти. С громким плачем убежал я от них. На улице встретился мне старик, в котором я сейчас же узнал одного из слуг приемного отца. «Пойдем, мой бедный Антонио, пойдем прочь, — сказал он, взяв меня за руку. — Для нас обоих дом этот закрыт навсегда. Теперь надо заботиться, где найти кусок хлеба».
Старик увел меня с собой. Оказалось, что он был вовсе не так беден, как можно было подумать, глядя на его платье. Едва мы пришли к нему, он развязал большой кошелек и высыпал из него много цехинов. С тех пор мы каждый день толклись вдвоем на Риальто, где старик занимался торговлей, продавая и покупая разные вещи. Кончив продажу, он обыкновенно выпрашивал какую-нибудь безделицу для своего мальчика, разумея меня. И всякий из покупщиков, на которых я смотрел смелыми, открытыми глазами, почти всегда бросал мне несколько монеток. Старик же тщательно прятал подаяние в мешок, уверяя, что копит это мне на новую, теплую одежду. Со мной старик, которого все, не знаю почему, называли Блаунас, обходился хорошо, и я не мог на него ни в чем пожаловаться. К несчастью, и эта жизнь продолжалась недолго. Ты помнишь, старуха, то страшное время, когда по всей Италии дрожали дворцы и башни, а колокола звонили сами, точно их раскачивали неведомые исполинские руки. Тому прошло не более семи лет. Мы со стариком счастливо успели выбежать из нашего дома, развалившегося за нами вслед. Все дела прекратились, ужас и страх простерлись над онемевшим Риальто. Но беда не пришла одна. Вслед за землетрясением появилось страшное чудовище, чье ядовитое дыхание отравило скоро всю страну. Все знали, что чума, завезенная из Леванта сначала в Сицилию, свирепствовала уже в Тоскане. Венеция была пока еще от нее свободна. Однажды дядя Блаунас торговал как всегда на Риальто и, продав что-то одному армянину, попросил по обыкновению безделку для сынишки. Армянин, высокий, статный мужчина с курчавой густой бородой (я вижу его как сейчас перед собой), ласково на меня посмотрел, поцеловал и положил мне в руку пару цехинов, которые я крепко сжал. Мы поплыли на площадь Марка. По дороге старик потребовал, чтобы я отдал ему мои цехины. Мне не хотелось их отдавать, и я стал уверять, что армянин подарил цехины мне, чтобы я непременно берег их сам. Старик рассердился. Во время этой ссоры я вдруг заметил, что лицо его внезапно пожелтело и он начал путаться в словак. Высадившись на площади, он пошел едва держась на ногах, точно пьяный, и вдруг упал как громом пораженный перед самыми окнами герцогского дворца. С криком бросился я к его телу. Сбежался народ, и скоро ужасный вопль: «Чума! Чума!» — раздался в воздухе. Каждый спешил укрыться где мог. Скоро я сам почувствовал головокружение и упал без чувств на мостовую.
Очнувшись, я увидел, что лежу в опрятной комнате на небольшом матраце, покрытый шерстяным одеялом. Около меня лежало на таких же кроватях под одеялами двадцать или тридцать посиневших, неподвижных фигур. Позже я узнал, что несколько монахов, добровольно помогавших во время чумы, найдя меня при выходе из церкви святого Марка и заметив во мне некоторые признаки жизни, перенесли меня в гондолу и отправили в Джудекку, где при церкви Сан Джорджо Маджоре они устроили госпиталь.
Как описать тебе, старуха, минуту моего пробуждения! Приступы болезни, казалось, изгладили из меня всю память о прошлом. Я жил минутной жизнью, понимая и сознавая одно лишь настоящее. Казалось, только одна искра жизни внезапно озарила мое умершее тело. Ты не можешь себе представить, до чего ужасной кажется нам жизнь, когда мы чувствуем себя как бы витающими в пустом пространстве, не видя ни малейшей точки опоры или привязанности. Монахи могли мне только объяснить, что нашли меня на площади возле трупа дяди Блаунаса, сочтя за его сына. Мало-помалу удалось мне собрать рассеянные мысли о моей прежней жизни, но из того, что я теперь тебе рассказал, ты видишь, что это не более как ничтожные, потерявшие всякую связь и значение обрывки утраченной навсегда картины. Ах, это чувство одиночества в мире, — оно не только лишает меня всякой радости, но, кажется, мешает наслаждаться даже тем, что жизнь послала мне теперь в самом деле хорошего.
— Тонино, милый Тонино! — промолвила старуха. — Удовольствуйся хорошим в настоящем!
— Молчи, старуха, — прервал ее Антонио, — есть у меня еще горе, которое отравляет мне жизнь и рано или поздно погубит меня вконец. Это стремление — а к чему, я сам не знаю! Какое-то тяжелое, безнадежное чувство, преследующее меня с той самой минуты, как я очнулся больным в госпитале. Когда, бывало, я, слабый, разбитый непосильным денным и нощным трудом, ложился на свою жесткую постель, благодатный сон смыкал мои глаза, и мне чудилось иногда небесное блаженство, сознание которого успокаивало и укрепляло мне душу. Но почему же теперь, когда я отдыхаю на мягких подушках, не зная ни труда, ни забот, и просыпаюсь без мыслей об ожидающей меня работе, почему теперь не хочет меня оставить это тяжелое, безотрадное чувство и продолжает мучить по-прежнему? Все мои старания проникнуть в эту тайну остаются тщетными. Я никак не могу себе уяснить, что такое чудесное потерял я в жизни, что даже его разрозненные отголоски наполняют душу блаженством при одном воспоминании о нем, хотя то же самое воспоминание мучает и терзает меня еще хуже при мысли о безнадежности возвратить утраченное! К чему же в таком случае эти следы исчезнувшего навеки?
Сказав это, Антонио замолчал и тяжело вздохнул. Старуха слушала его с напряженным вниманием, изображая на своем лице, как в зеркале, отголоски тяжелых чувств, которыми был наполнен его рассказ.
— Тонино! — начала она растроганным голосом, в котором слышались слезы. — Милый Тонино! Стоит ли унывать при мысли о хорошем, которое прошло без следа? Глупый, глупый ты ребенок! Слушай меня, хи-хи-хи! — И она засмеялась своим обычным деревянным смехом, заметавшись опять из стороны в сторону.
Несколько прохожих бросили ей милостыню.
— Антонио! Поддержи меня! — вдруг воскликнула она. — Сведи меня к морю!
Антонио без размышлений поднял старуху и, поддерживая, повел ее по площади, а она в это время тихо бормотала:
— Антонио, видишь ты эти кровавые пятна на мостовой, эту кровь, много крови! Хи, хи! Но из крови вырастут розы, розы для твоего венца, для той, которую ты любишь! О Творец Небесный! Кто же эта красавица, которая смотрит на тебя так нежно, с такой ласковой улыбкой? Белые, как лилии, руки простираются, чтобы тебя обнять. О Антонио, счастливый Антонио! Будь смел, будь смел. На светлой заре сорвешь ты белые мирты для своей невесты, для вдовы, оставшейся невестой! Хи-хи-хи-хи! Мирты, которые цветут только в полночь! Слышишь свист ночного ветра? Слышишь ласкающий ропот волн? Греби крепче, мой смелый кормчий! Греби смелее!
Антонио стало даже страшно от этих бессмысленных слов старухи, которые она лепетала как будто во сне, то и дело прерывая себя судорожным смехом.
В эту минуту они подошли к столбу, поддерживающему крылатого льва. Старуха хотел было идти дальше, продолжая бормотать, но Антонио, уставший от ее общества, остановился и сказал твердым голосом:
— Постой и садись здесь, да замолчи, прошу тебя, если не хочешь свести меня с ума. Ты предсказала правду, когда говорила прошлый раз, что видела в золотой вечерней заре мои цехины, но что же болтаешь ты теперь о красавицах, вдовах, оставшихся невестами, розах и миртах? Или ты хочешь сделать меня безумным, заставив пуститься в какое-нибудь сумасбродное предприятие, проклятая старуха? Новый плащ тебе будет… Хочешь хлеба, денег? Бери сколько тебе надобно, только оставь меня в покое.
С этими словами он хотел убежать прочь, но старуха крепко схватила его за плащ и закричала пронзительным голосом:
— Тонино, милый Тонино! Взгляни на меня еще раз, а иначе я дотащусь как-нибудь сама до набережной и брошусь в море!
Антонио, не желая обращать на себя еще более уже и без того возбужденное внимание прохожих, остановился.
— Тонино, — продолжала старуха, — сядь возле меня! Мне тяжело, ох, как тяжело! Сядь возле меня!
Антонио сел на ступеньку, оборотясь, однако, к старухе спиной, и вынул из кармана записную книжку, куда заносил свои торговые сделки на Риальто.
— Тонино! — заговорила снова старуха тихим голосом. — Неужели, когда ты внимательно смотришь на мое морщинистое лицо, ничто не шепчет тебе, что ты меня знал когда-то очень давно?
— Я уже сказал тебе, — отвечал Антонио так же тихо и не оборачиваясь, — что сам не зная почему, чувствую к тебе какое-то влечение, но твое старое, сморщенное лицо, поверь мне, тут ни при чем. Напротив, когда я вижу твои черные, сверкающие глаза, твой острый нос, синие губы, длинный подбородок, всклокоченные седые волосы, слышу твой противный, резкий смех, безумные речи, то мне хочется убежать от тебя без оглядки и никогда не видеть больше.
— О Боже, Боже! — завопила старуха в отчаянии. — Какой злой дух шепчет тебе такие ужасные мысли? О Тонино, милый мой Тонино! Знаешь ли ты, что женщина, которая ласкала тебя и холила, когда ты был ребенком, которая спасла тебя от смерти в ту ужасную ночь, была я?
Антонио быстро вскочил, точно ужаленный, но, взглянув на старое, отвратительное лицо старухи, мгновенно оправился и воскликнул с гневом:
— Ты хочешь меня провести, старая сумасшедшая! Как ни ничтожны мои воспоминания о детстве, но они живы и свежи! Я как теперь вижу ту прекрасную женщину, которая ухаживала за мной, у нее было чудесное молодое лицо, ангельские глаза, прекрасные каштановые волосы, белые нежные руки; ей едва могло быть тридцать лет, а ты — девяностолетняя старуха.
— О все святые! — рыдая перебила старуха. — Что же мне делать, если мой Тонино не верит своей верной Маргарите.
— Маргарите… — пробормотал Антонио, — Маргарите? Имя это звучит в моих ушах, точно отголосок давно слышанной музыки! Но это невозможно, невозможно!
— Тот статный красавец, — продолжала старуха несколько спокойнее, опершись на костыль и опустив глаза в землю, — тот статный красавец, который носил тебя на руках и кормил лакомствами, точно был твой отец и говорил он с тобой на прекрасном, звучном немецком языке. Он был почтенный, богатый купец из Аугсбурга. Его молодая жена умерла, когда ты родился. Тогда, не будучи в состоянии жить там, где было похоронено его счастье, переселился он в Венецию и взял с собой меня, твою кормилицу и няньку. В ту ужасную ночь над отцом твоим разразился страшный удар, грозивший и тебе погибелью. Я успела тебя спасти, и ты попал на воспитание к одному богатому венецианцу. Лишенная всех средств к пропитанию, осталась я в Венеции. Отец мой, бывший врачевателем ран, передал мне тайну своего искусства, навлекшего на него одно время преследование за употребление будто бы запрещенных средств. От него научилась я собирать, бродя по полям и лесам, травы и целебные мхи и приготовлять из них целительные лекарства. Но вместе с этими познаниями вселилась в меня еще иная сила, которая и должна была меня погубить по неисповедимой воле Провидения. Точно в туманной дали стали мне порой чудиться грядущие события, и тогда, против собственной воли, вырывались из меня, хотя часто в чудных словах, предсказания того, что я видела. Оставшись одна в Венеции, думала я добывать средства к жизни этим моим даром. Мне удавалось скоро и легко вылечивать самые тяжелые болезни. К тому же одно мое присутствие уже благотворно действовало на больных. Иной раз мне стоило только погладить больного рукой, чтобы заставить пройти тяжелый приступ болезни. Слава о моем лечении обошла весь город, и деньги посыпались на меня дождем. Но тут восстала против меня зависть врачей, этих шарлатанов, продающих на площади святого Марка свои эссенции и пилюли, отравляющие больных вместо того, чтобы давать им облегчение. Меня обвинили в сношениях с сатаной. Легковерный народ увлекся их клеветой, и скоро меня потребовали на судилище инквизиции. О мой Антонио, если бы ты знал, какими муками пытались вырвать из меня признание в возводимой на меня вине! Я долго оставалась тверда. Волосы мои поседели, тело сморщилось, как у мумии, руки и ноги искривились. Но ужаснейшие, изуверские пытки, оставленные под конец, побороли и мое мужество, и я сделала признание, вспоминая которое, до сих пор содрогаюсь. Меня осудили на сожжение живой, но в тот день, когда землетрясение поколебало стены дворцов и темниц, сорвались с петель двери подземной тюрьмы, где я была заключена. Среди шума и грохота валившихся зданий вышла я из моего гроба. Ах, Тонино, ты назвал меня девяностолетней старухой, когда мне едва пятьдесят. Взгляни на это костлявое тело, это сморщенное лицо, седые волосы, искривленные ноги! Нет, не годы, а невыразимые муки пыток могли в несколько часов превратить красивую, здоровую женщину в такое чудовище! А этот судорожный смех и подергиванье — это только последствия последней пытки, при одном воспоминании о которой у меня волосы подымаются дыбом на голове и точно раскаленное железо пробегает по жилам. Не пугайся же меня, мой Антонио! Не правда ли, твое сердце говорит тебе теперь ясно, что ты точно лежал на моей груди, когда был ребенком?
— Послушай, — сказал мрачно Антонио, — мне кажется, я должен тебе верить, но скажи, кто был мой отец? Как его звали? Какой удар судьбы перенес он в ту ужасную ночь? Кто был мой воспитатель? И что такое удивительное случилось со мной в жизни, что уже одно смутное о том воспоминание овладевает всем моим существом до того, что мысли мои теряются, точно в потемках. Скажи мне все это, и тогда я поверю тебе, загадочная женщина!
— Тонино, — отвечала старуха вздохнув, — для твоего же добра должна промолчать я об этом, но скоро, скоро узнаешь ты все! Фондако, Фондако, берегись Фондако!
— Не нужно мне твоих загадок! — гневно воскликнул Антонио. — Сердце мое истерзано. Говори или…
— О, без угроз! — быстро возразила старуха. — Разве я не твоя верная кормилица и нянька?
Тут Антонио не выдержал и, не дожидаясь конца слов старухи, быстро вскочил и убежал без оглядки, закричав ей, впрочем, издали:
— Новый плащ тебе будет! Цехинов также бери, сколько хочешь.
Старый дож Марино Фальер представлял действительно любопытное зрелище, когда его видели с молодой, цветущей женой. Он, хотя еще бодрый и крепкий, но с седою как лунь головой и испещренным морщинами темно-красным лицом, старался ходить твердым шагом, гордо закинув голову. Она — сама прелесть, с ангельской кротостью и неотразимым очарованием во взгляде, с выражением истинного достоинства на лилейно-белом, обрамленном темными локонами лице, с головкой, склоненной несколько набок, ходила легко и спокойно, точно ни малейшего труда не стоило ей нести стройное, гибкое тело. Живая картина да и только — такова была Аннунциата, но картина, какие умели писать только старинные мастера. Мудрено ли, что появление ее очаровывало всех и что не было молодого патриция из Синьории, который при виде этой пары не преследовал бы в душе самыми злыми насмешками старика и не клялся употребить все средства, чтобы сделаться во что бы то ни стало Марсом этого старого Вулкана.
Аннунциата скоро увидела себя окруженной воздыхателями, но вкрадчивые их речи не производили на нее ни малейшего впечатления. Чистая, ангельская душа ее не могла даже допустить между ней и ее державным супругом каких-либо иных чувств, кроме верности самой нерушимой и безусловной преданности. Он был с ней ласков и добр, называл ее нежнейшими именами, прижимая в своему уже охладевшему сердцу, осыпал драгоценными подарками, какие она только желала. Чего же больше могла она от него требовать? Мысль стать ему неверной не могла даже зародиться в ее душе. Все то, что лежало за границей таких отношений, было для нее неизвестной, закрытой туманом областью, куда ее невинный глаз не мог даже проникнуть. Таким образом, все домогательства молодых волокит оставались безуспешны.
Самым рьяным, самым бешеным из них был Микель Стено, занимавший в республике, несмотря на свою молодость, важную должность одного из членов Совета сорока. Стено был очень хорош собой и на это обстоятельство, главным образом, и рассчитывал, надеясь на успех. Старого Марино Фальера он не боялся нисколько, тем более, что после свадьбы престарелый дож совершенно изменился. Прежней вспыльчивости не осталось в нем и следа. По целым часам сидел он возле Аннунциаты, одетый в великолепное платье дожа, шутил, смеялся, любовался ее глазами, иногда размягчался до слез, самодовольно спрашивая присутствовавших, кто из них может похвастать такой женой. Вместо прежнего сурового, отрывистого тона в разговоре его появилось что-то несвязное, так что его трудно было порой понять, он перестал быть непреклонным и потакал иногда самым нелепым просьбам. Кто бы узнал в этом расслабленном, влюбленном старике того Фальера, который однажды в Тревизо во время праздника Тела Господня в запальчивости ударил в лицо епископа; того, кто победил храброго Морбассана?
Эта слабость дожа еще более подбивала Стено рискнуть, наконец, опасным предприятием. Аннунциата никак не могла понять, чего хотел от нее Стено, постоянно преследуя своими взглядами и речами, и оставалась по-прежнему с ним учтива и ровна, а это-то спокойствие и выводило его более всего из терпения. Чтобы обладать ею, он готов был решиться даже на низкое средство. Притворившись для виду влюбленным в горничную Аннунциаты, сумел он добиться от нее ночного свидания в самом дворце. Таким путем думал он пробраться в спальню Аннунциаты, но, по счастью, судьба не допустила совершиться преступлению и обратила его на голову самого виновника.
Случилось, что дож, получивший дурные вести о неудачной битве Никколо Пизани с Дориа при Портолонго, не мог заснуть и, озабоченный, бродил по галереям дворца. Вдруг заметил он черную тень, проскользнувшую, похоже, из спальни Аннунциаты и исчезнувшую на лестнице. Это был Микель Стено, возвращавшийся от своей якобы возлюбленной. Страшная мысль сверкнула в голове старика Фальера. С криком: «Аннунциата!» — бросился он за преступником с обнаженным стилетом, но Стено, более проворный и ловкий, увернулся от удара и, сбив старика сильным ударом руки, быстро сбежал с лестницы, крикнув с насмешкой: «Аннунциата!»
Фальер поднялся кое-как с пола и полный мук ревности и отчаяния бросился к дверям спальни Аннунциаты. Прислушался — тишина, как в могиле. Постучал в дверь — другая, незнакомая ему, горничная отворила.
— Что угодно моему державному супругу в такое позднее время? — кротко спросила Аннунциата, накинув легкое ночное платье и выйдя ему навстречу.
Старик впился в нее глазами и затем, подняв к небу руки, воскликнул:
— Нет, это невозможно! Невозможно!
— Что невозможно? — с видом полнейшего неведения спросила, удивленная тоном Фальера, Аннунциата.
Но он, не отвечая ей, обратился к горничной:
— Зачем ты здесь? Отчего Луджиа не спит, как обыкновенно, у дверей?
— Ах, — пробормотала та. — Луджиа непременно просила меня поменяться с ней очередью; она спит в передней, возле лестницы.
— Возле лестницы? — воскликнул радостно Фальер и быстро пошел туда.
Луджиа отворила на его громкий стук, но лишь только увидела пылавшее гневом лицо хозяина, как тут же упала на колени и призналась в своем грехе, что подтверждалось и парой мужских перчаток, забытых на стуле и несомненно обличавших крепким запахом амбры личность щеголеватого владельца. Взбешенный нахальством Стено, Фальер в тот же день написал ему письмо, в котором воспрещал под страхом высылки из города посещать дворец, а равно приближаться каким бы то ни было образом к особе дожа или догарессы.
Ярость Стено не знала пределов, равно как от его неудачи, так и от страха быть удаленным навсегда из города, где жила его богиня. Осужденный видеть издали, как приветливая догаресса по-прежнему ласково и просто обращалась с молодыми людьми из Синьории, дошел он до отвратительной мысли распустить слух, что был ею отвергнут только вследствие более счастливых искательств других. И эту клевету не постыдился он распространять громко и публично.
Фальер, потому ли, что до него дошел слух об этих речах, или воспоминание об известной ночи все-таки так или иначе показалось ему предостережением судьбы, не мог остаться прежним, несмотря на всю его веру в добродетель супруги. Неестественные отношения старика и молодой женщине встали в его глазах призраком, зажегшим адские муки ревности в душе, и он, угрюмый и недовольный, потребовал, чтобы Аннунциата заперлась во внутренних покоях дворца и не принимала ни одного мужчины.
Бодоэри горячо вступился за внучку и стал крепко журить не хотевшего ничего слушать старика. Надо прибавить, что все это случилось незадолго до четверга на масленице, когда старинный, укоренившийся в Венеции обычай требовал, чтобы догаресса присутствовала при даваемом в этот день на площади святого Марка народном празднике, сидя рядом с дожем под балдахином, устроенным на деревянной галерее напротив площади. Бодоэри напомнил об этом старику и выразил надежду, что он не пожелает сам быть осмеянным за свою ревность и народом, и Синьорией, отказав в этой чести Аннунциате. Фальер был задет за живое.
— Неужели думаешь ты, — возразил он Бодоэри, — что я в самом деле настолько глуп, что побоюсь показать мое сокровище, побоявшись воровских рук, которые могу еще отразить мечом? Нет, старина, ты ошибаешься! Завтра же увидишь ты меня под руку с Аннунциатой во время торжественной процессии на площади святого Марка. Пусть народ видит свою догарессу, а в четверг на масленице искусный гребец, сумеющий смелым полетом добраться до галереи, поднесет ей победный букет собственными руками.
Слова дожа намекали на старинную, с незапамятных времен установившуюся народную игру. С верхушки башни святого Марка протягивался канат к сваям, вбитым прямо в море. Какой-нибудь молодец из народа поднимался на вершину башни в корзине, сделанной в виде лодки, и оттуда стремглав стрелой скатывался по канату вниз, стараясь бросить по пути букет цветов догарессе или дожу, если на празднике присутствовал он один.
На другой день Фальер исполнил все, как обещал. Аннунциата, великолепно одетая, окруженная Синьорией, пажами и драбантами, гуляла с ним под руку по площади святого Марка. Давка была неимоверная. Всякий стремился увидеть прекрасную догарессу, и каждый, кому это удавалось, был буквально поражен ее ангельской красотой, думая, что видел небесное видение. Не обошлось и без острот насчет Фальера по врожденной склонности венецианцев к злым шуткам. То там, то здесь среди порывов восторга толпы проскакивали ядовитые эпиграммы и стишки, не совсем лестные для старого мужа. Но Фальер их не замечал и, отставив, по-видимому, в сторону ревность, гулял с выражением полного восторга на лице под руку с прекрасной догарессой, не обращая внимания на пламенные, кидаемые на нее со всех сторон взгляды.
Под порталом дворца толпа стеснилась до такой степени, что драбанты с трудом могли осаживать народ, но наконец проход был очищен, и дож с супругой остались окруженные только небольшой кучкой хорошо одетых граждан, которым был дозволен вход во внутренний двор дворца.
Вдруг, в ту самую минуту, как Аннунциата вошла во двор, в толпе послышался чей-то отчаянный крик: «О Боже!» — и в то же мгновение какой-то молодой человек, стоявший до того вместе с прочими под колоннадой, без чувств грохнулся на мраморный пол. Толпа немедленно его окружила, так что Аннунциата не могла видеть, что происходило дальше. Но тем не менее, услышав уже один его голос, она внезапно вздрогнула, почувствовав, что точно раскаленный кинжал пронзил ей сердце, и, заметавшись, готова была упасть без чувств. Женщины из свиты успели ее поддержать.
Старик Фальер, и без того не совсем хорошо настроенный, от всей души послал к черту неизвестного юношу и, быстро схватив свою Аннунциату на руки, внес ее во внутренние покои дворца, точно раненую голубку, бессильно припавшую головкой к его плечу.
Между тем во дворе, куда толпа народа, привлеченная случившимся, ворвалась уже почти силой, происходило нечто странное. Едва присутствовавшие хотели взять и унести прочь молодого человека, которого посчитали мертвым, как хромая, уродливая старуха протолкалась острыми локтями через толпу к месту, где лежал молодой человек, громко восклицая:
— Оставьте его! Оставьте, он не умер! Глупый вы народ!
И припав в лежавшему, она приподняла ему голову и отерла пот с лица, называя нежнейшими именами. Удивление охватило толпу, но и было от чего: старая нищенка в лохмотьях, с отвратительно подергивающимся лицом, желтыми костлявыми руками, которыми она, дрожа, обнимала юношу, представляла такой контраст с его мертвенно-бледным, но прекрасным лицом и богатой одеждой, что, казалось, сама смерть в облике старухи пришла сжать его в своих когтях. Зрелище это навело такой ужас на людей, что большинство разбежались и осталась только небольшая кучка тех, что были похрабрее.
Юноша между тем открыл глаза и тихо вздохнул. Его перенесли на Большой канал и положили в гондолу, куда уселась и старуха, приказав везти к указанному ею дому, где, по ее словам, жил молодой человек. Нужно ли объяснять читателям, что юноша был Антонио, а старухам — нищая из Францисканского монастыря, уверявшая, что была его кормилицей.
Придя в себя после приема каких-то крепких капель, данных старухой, и, заметив ее возле своей постели, Антонио заговорил глухим, сдержанным тоном, уставясь на нее проникающим в душу взглядом:
— Это ты, Маргарита! Благодарю! Вижу, что мне не найти друга вернее тебя. Прости мне, что я в тебе сомневался. Да, ты точно Маргарита, та самая, которая нянчила меня и кормила. Мне бы давно следовало в том убедиться, но какой-то злой дух путал и смущал мои мысли… Я видел ее… Ее! Это была точно она! Ведь я тебе говорил, что во мне поселилось наваждение, которое овладело мной совершенно. Оно зажгло мне душу зловещим лучом и портит всякую радость от жизни. Теперь я знаю все, все! Мой благодетель звался Бертуччио Неноло, не правда ли? И я жил на его вилле близ Тревизо.
— Все так, — согласилась старуха, — Бертуччио Неноло, смелый мореплаватель, поглощенный морем в то самое время, когда надеялся увенчать себя победным лавровым венком.
— Не прерывай меня, старуха, — перебил Антонио, — прошу, выслушай терпеливо. Мне было хорошо у Бертуччио Неноло. В какие прекрасные платья, помню, меня одевали! Самая вкусная еда была всегда к моим услугам, когда я был голоден. Утром меня заставляли молиться, а затем я целый день мог гулять и бегать по полям и лесам. Недалеко от дома был, помню я, лесок из пиний, полный чудного, чарующего аромата. Однажды, пробегав и прорезвившись целый день, лег я на закате солнца отдохнуть под большим деревом и стал смотреть на голубое небо. Может быть, крепкий запах цветов одурманил мои чувства, но только глаза мои незаметно закрылись, а сам я погрузился в глубокий, тяжелый сон. Вдруг громкий звук, точно от сильного удара, внезапно меня пробудил. Очнувшись, я быстро открыл глаза. Прелестная девочка с небесной улыбкой на лице стояла надо мной и приветливо на меня смотрела. «Милый мой мальчик, — ласково заговорила она, — ты так крепко спал, что даже не почувствовал, что смерть была возле тебя так близко». Тут только заметил я маленькую черную змею, лежащую рядом с раздробленной головой. Моя маленькая спасительница убила ее сучком орешника в ту самую минуту, как она готова была меня ужалить. В ужасе вскочил я на ноги. Мне вспомнилась легенда о том, как ангелы сходили иной раз с неба, чтобы спасти людей от угрожавшей опасности. Я упал на колени и, схватив маленькие ручки, воскликнул: «О ты, ангел света, посланный Богом для моего спасения». Но она быстро отдернула руки и, засмеявшись, с ярким вспыхнувшим на лице румянцем, перебила шутливо: «Ах, мой милый мальчик! Я не ангел, а такой же ребенок, как ты!» Восторг овладел мной тут уже совершенно. Мы крепко обнялись и со слезами счастья поцеловали друг друга; блаженство наполняло наши души. Вдруг чистый, звучный голос воскликнул: «Аннунциата! Аннунциата!» — «Прощай! Мама меня зовет», — пролепетала девочка. У меня сжалось сердце от горя. «Ах, я тебя так люблю!» — прошептал я, и наши горячие слезы смешались. «А я разве не люблю тебя?» — воскликнула она, поцеловав меня еще раз. «Аннунциата!» — раздалось снова, и девочка исчезла в кустах. О, Маргарита, с этой минуты я не знаю покоя! Искра любви, запав в мою душу, горит постоянным, неугасимым огнем!
Вскоре после этого происшествия меня выгнали из дома. Я все время приставал к дяде Блаунасу с расспросами о моей маленькой знакомой, чей милый голос слышался мне и в шуме ветра, и в шелесте листьев, и в журчанье родников. Он сказал, что это, вероятно, была дочь Неноло Аннунциата, приезжавшая на несколько дней со своей матерью Франческой в их загородный дом, но теперь уехавшая снова. И представь, Маргарита! Это прелестное создание, мою Аннунциату, узнал я в догарессе!
Сказав это, Антонио с рыданием откинулся на подушки.
— Антонио! — заговорила старуха. — Приди в себя! Переживи мужественно свое горе. В любви ли терять надежду! Для кого же цветут золотые ее цветы, как не для любящих? Вечером нельзя знать, что будет поутру; светлый сон часто обращается в действительность; воздушный замок, видимый в облаках, часто оказывается стоящим на твердой земле. Ты, может быть, не поверишь моим словам, но что-то шепчет мне, что ты еще понесешься по морю под светлым парусом счастья. Потерпи, потерпи еще немного!
Так утешала старуха бедного Антонио, и слова ее действительно ласкали его, как сладкая музыка. Он ни за что не согласился отпустить ее от себя, и старая нищенка францисканского монастыря скоро превратилась в прилично одетую домоправительницу Антонио, степенно и чинно ходившую на рынок святого Марка за покупками.
Наконец, настал четверг масленицы. Посередине Пьяццетты были устроены леса для нового, еще невиданного фейерверка, который приготовлял один знающий это дело грек. Вечером старый Фальер, на этот раз вполне счастливый и довольный всем окружающим, вошел на галерею рука об руку со своей прелестной женой. Но в ту самую минуту, как он садился на приготовленный трон, взгляд его вдруг упал на Микеля Стено, сидевшего на той же галерее и дерзко, почти в упор, смотревшего на догарессу, так что она должна была непременно его заметить. Вне себя от гнева и вновь поднявшейся в сердце ревности, Фальер громким, повелительным голосом приказал сейчас же удалить Стено с галереи. Тот в бешенстве готов был броситься на дожа, но был удержан подоспевшими драбантами, принудившими его удалиться, несмотря на его скрежет зубами и громкие угрозы страшно отомстить.
Между тем Антонио, на которого вид возлюбленной Аннунциаты произвел потрясающее действие, в отчаянии протиснулся сквозь толпу и, убежав к морю, уныло бродил в темноте по берегу, раздираемый тысячью мук. Мысль окончить их разом, бросившись в холодную глубину, вместо того, чтобы медленно и долго мучиться жизнью, мелькнула в его голове. Исполнение было так близко и так возможно! Уже он стоял на последней ступени, как вдруг чей-то веселый, беззаботный голос крикнул ему с одной из лодок:
— Здравствуйте, синьор Антонио!
В отблеске света, падавшего с ярко освещенной площадки, Антонио узнал одного из своих прежних товарищей, гуляку Пьетро, стоявшего на лодке в новом пестром плаще, с перьями на шляпе и с огромным букетом душистых цветов в руке.
— Здравствуй, Пьетро, — ответил Антонио. — Каких вельмож собрался ты везти сегодня, что так щегольски вырядился?
— Эге, синьор Антонио, — крикнул тот, подпрыгнув так, что лодка чуть не опрокинулась, — не шутите со мной! Сегодня я заслужу три добрых цехина. Сейчас полезу я на колокольню святого Марка, а оттуда слечу вниз и подам этот букет прекрасной догарессе.
— А что, нельзя ли при этом сломать шею? — спросил Антонио.
— Ну, пожалуй, что и можно, — отвечал тот, — особенно сегодня, когда надо пролететь сквозь фейерверк. Грек, правда, уверяет, что его огнем нельзя даже опалить волосы, но… — и Пьетро пожал плечами.
Антонио прыгнул к нему в лодку и увидел, что она действительно стояла как раз возле спускавшегося в море каната, где была приготовлена корзина для полета. Канат, поднимаясь тонкой полоской кверху, исчезал в темноте.
— Слушай, Пьетро, — начал Антонио, немного помолчав, — хочешь заработать десять цехинов вместо трех и при этом не подвергать жизнь ни малейшей опасности?
— Неужели? — крикнул Пьетро. — О, от всей души!
— Ну, — продолжал Антонио, — так вот, бери эти десять цехинов и поменяемся побыстрее со мной платьем. Я встану на твое место и полечу вместо тебя. Прошу, сделай это, мой добрый друг!
Пьетро озадаченно покачал головой и сказал, взвешивая золото на руке:
— Вы добры, синьор Антонио. Очень добры, синьор Антонио! Очень добры, называя меня, бедняка, вашим товарищем, да и щедры впридачу. За деньги, понятно, я готов это сделать, но ведь и подать букет прекрасной догарессе, услышать ее сладкий голосок также заманчивая награда, за которую стоит рискнуть жизнью. Ну да уж, куда ни шло! Если просите вы, то я это сделаю.
Они проворно обменялись платьем, и Пьетро закричал:
— Скорей, скорей! Садитесь в корзину! Вон, уже подают знак.
В эту минуту море осветилось потоками света, и в воздухе пронесся гул и гром пущенного фейерверка. Антонио в своей корзинке пронесся, как стрела, по воздуху среди шипящих огненных языков и, благополучно спустившись на галерею, ловко поднес букет вставшей со своего места Аннунциате. Он был так близко от нее, что чувствовал на лице ее сладкое дыхание. Могучий порыв счастья и блаженства, но в то же время и безнадежной, отчаянной скорби охватил его душу. Вне себя, не помня, что делает, схватил Антонио ручку догарессы и, страстно прижав ее к губам, отчаянно воскликнул:
— Аннунциата!
Но в эту минуту остановившаяся было корзинка задвигалась вновь. Антонио показалось, что ураган оторвал его от возлюбленной, и действительно, полетев назад с огромной скоростью, он стремглав слетел на своей утлой воздушной ладье прямо в море, где бывший настороже Пьетро, подхватил и втащил его в свою лодку.
Между тем на галерее, где сидели дож и догаресса, поднялось смятение; в толпе смеялись, шушукали, передавали друг другу что-то на ухо. Оказалось, что на спинке кресла дожа была приклеена неизвестной рукой надпись на просторечном венецианском жаргоне:
Взбешенный дож поднялся с места и громко дал клятву подвергнуть жесточайшей каре автора злой шутки. Озираясь на окружающих, внезапно увидел он при ярком свете факелов Микеля Стено, стоявшего в толпе под галереей, и тотчас же приказал драбантам арестовать его как подозреваемого виновника преступления. Но приказ этот вызвал взрыв негодования как в народе, так и в Синьории. Народ негодовал, что бешеный гнев дожа испортил ему праздник, а Синьория вступилась за свои попранные права. Вельможи один за другим встали со своих мест и удалились, и только один старик Бодоэри, проворно шмыгнув в толпу, стал защищать дожа, разжигая народ против Стено, нанесшего такое тяжкое оскорбление главе государства.
Надо сказать, что Фальер не ошибся в своем подозрении. Надпись приклеил, действительно, Стено. Оскорбленный своим удалением с галереи, побежал он в ярости домой, написал известные стихи и, вернувшись назад, успел незаметно прилепить их к креслу дожа в то время, как все были заняты фейерверком. Поступком своим он думал отомстить разом и дожу, и догарессе, так как надпись была оскорбительна для обоих.
На допросе Стено нагло сознался во всем и даже свалил вину на самого дожа, оправдывая свой поступок желанием отомстить за нанесенное ему оскорбление. Синьория давно была уже недовольна главой государства, который вместо неустанного твердого исполнения своих обязанностей доказывал только, что храбрость и мужество, пережившие себя в старике, подобны ракете, которая хотя и вспыхивает внезапно шипящим огнем, но через минуту оставляет одно облачко бесполезного дыма. К тому же свадьба и молодая жена — все очень хорошо знали, что он женился недавно — до того изнежила и расслабила его прежний бодрый дух, что вместо недавнего еще звания героя имя Марино Фальера стало щеголять в народе с нелестным эпитетом vechio pantalone[5]. Все это до того дурно повлияло на судей, разбиравших преступление Стено, что большинство было гораздо более расположено к нему, чем к тяжко оскорбленному главе государства. Совет Десяти передал вопрос на заключение Совета сорока, членом которого считался Стено, а тот решил, что Микель Стено уже довольно потерпел, и потому месячное изгнание признавалось совершенно достаточным наказанием за его проступок.
Такое решение само собой взорвало еще более гнев дожа против Синьории, которая вместо того, чтобы защитить главу государства, наносила ему еще более тяжелую обиду, называя ничтожным проступком такое тяжкое оскорбление.
Известно, что малейший луч надежды способен питать и греть сердце влюбленного в течение не только дней и недель, но даже целых месяцев. Так и теперь, очарованный сорванным им поцелуем, Антонио не мог опомниться от своего блаженства. Старуха Маргарита крепко журила его за рискованный прыжок и вообще ворчала, осуждая все его безумные выходки. Но как-то раз возвратилась она из города в таком возбужденном, почти радостном состоянии, какое бывало с ней только во время ее болезненных припадков. Она хохотала, кривлялась, не отвечала на вопросы Антонио и наконец, разведя в камине огонь и поставив на него котелок, стала варить в нем какие-то снадобья, наливая их из разных склянок. Приготовив таким образом мазь, она положила ее в ящичек и тотчас же ушла с теми же ужимками и прыжками.
Поздно вечером вернулась старуха домой, уселась, запыхавшись и кашляя, в свое кресло и немного придя в себя после тяжелых трудов, начала так:
— Тонино, милый Тонино! Знаешь ли ты, где я была? Попробуй угадать, если можешь.
Антонио, охваченный каким-то предчувствием, уставился на нее, не говоря ни слова.
— Ведь я была, — захихикала старуха, — у твоей дорогой голубки, у твоей Аннунциаты!
— Старуха! Не своди меня с ума! — воскликнул Антонио.
— Видишь, как я думаю о тебе, — продолжала старуха, — сегодня утром, покупая под галереей дворца овощи, услыхала я толки о каком-то несчастье, случившемся с прекрасной догарессой. Я начала расспрашивать, и вот что сказал один из зевак, засовывая за щеку лимон: догарессу укусил маленький скорпион, и яд его всосался в кровь. Впрочем, доктор синьор Джиованни Басседжио уже во дворце и говорит, что укушенный пальчик надо отрезать вместе с прекрасной ручкой. В эту минуту во дворце раздался шум, и в тот же миг какой-то маленький, круглый человек, крича диким голосом, кубарем слетел с лестницы, вытолканный в шею драбантами. Народ столпился около него, но тут болтун, рассказавший мне о случившемся, растолкал толпу, подхватил маленького, продолжавшего рев доктора на руки и со всех ног пустился бежать вместе с ним к морю, где и уселся проворно в гондолу. Я сейчас же догадалась, что, верно, дож велел вытолкать его вон, когда он занес нож, чтобы резать ручку догарессы. Но у меня было уже другое на уме. Мигом полетела я домой, сварила мазь и опять побежала во дворец. Там как раз на лестнице встретил меня старик Фальер и сурово спросил, сверкнув глазами: «Что тебе надо, старуха?» Я низко-низко, как только могла, присела перед ним и сказала, что знаю средство вылечить догарессу. Услышав это, старик взглянул на меня страшными, пронзительными глазами, погладил бороду и, схватив меня за плечи, потащил во дворец, так что я едва успевала за ним следовать. Ах, Тонино, если бы ты видел нашу голубку, как она, вся бледная, металась от боли и тоски на постельке и лепетала: «Я отравлена, чувствую, что отравлена!»
Я тотчас же подошла к ней и начала с того, что сорвала и выбросила вон пластырь глупца доктора. О Господи! Маленькая ручка вся распухла и была красная от воспаления. Но мазь моя разом ее остудила, и уняла боль. «Мне лучше, гораздо лучше», бормотала больная, а старик Фальер в восторге закричал: «Тысяча цехинов тебе, старуха, если ты вылечишь догарессу!» — и с этими словами вышел из комнаты.
Три часа провозилась я с ней, перевязывая и лелея маленькую ручку. Красотка перестала метаться, и боль наконец прошла совсем. Я сделала новую перевязку и, видя что она глядит на меня ласковым, радостным взглядом, сказала ей: «Ведь вы сами, государыня догаресса, спасли однажды маленького мальчика от змеи, которая хотела укусить его, когда он спал?» Тонино! Если бы ты видел, какой румянец вспыхнул при этих словах на ее бледных щечках, как сверкнули ее померкшие глазки! «Да, да! — пробормотала она, — я была еще маленькой девочкой. Это случилось в загородном доме моего отца. И какой же красивый был этот мальчик! Я помню его как теперь. Мне кажется, что с тех пор у меня не было ни одной минуты счастливее». Тут я и рассказала ей все о тебе: как ты живешь в Венеции, как любишь ее по-прежнему, как для того, чтобы хоть раз увидеть небесные глазки, решился на опасный воздушный прыжок и подал ей букет в четверг на масленице. Тут уж она не выдержала и воскликнула в восторге: «Я это чувствовала, чувствовала, когда он прижал к своим губам мою руку, когда назвал меня по имени! Я не могла понять, что со мной было в ту минуту! Это была и радость, и вместе с тем какая-то боль. Приведи его, приведи ко мне моего дорогого мальчика».
Антонио как безумный бросился на колени и, подняв руки к небу, воскликнул:
— О Боже! Молю об одном, не дай мне умереть теперь! Только теперь, пока я ее не увидел, пока не успел прижать к груди!
Он непременно хотел, чтобы старуха на другой же день отвела его во дворец, в чем она, однако, отказала ему наотрез, сославшись на то, что старый Фальер посещает больную почти каждый час.
Много дней прошло с тех пор. Старуха давно уже вылечила догарессу, но устроить свидание между ней и Антонио все еще не было возможности. Старая нищая, насколько могла, утешала нетерпеливца, постоянно передавая ему свои разговоры с Аннунциатой, в которых только и речи было, что о спасенном и так любимом ею Антонио. А он, чтобы сократить мучительные минуты разлуки, бродил по площадям, разъезжал по каналам в гондолах, но неодолимая сила постоянно влекла его к герцогскому дворцу. Однажды, бродя около заднего фасада дворца, который примыкал к тюрьмам, Антонио внезапно увидел Пьетро, стоявшего на своей новой, привязанной к столбу и разукрашенной флагами и искусной резьбой гондоле, так что с виду она почти что напоминала «Буцентавра». Заметив старого товарища, Пьетро радостно закричал:
— Здравствуйте, синьор Антонио! Посмотрите-ка, какое счастье принесли мне ваши цехины!
Антонио стал рассеянно расспрашивать, что это было за счастье и узнал, ни более ни менее, что Пьетро каждый вечер возил дожа и догарессу в Джудекку, где недалеко от церкви Сан Джорджо Маджоре у дожа был свой прекрасно отделанный дом. Антонио вздрогнул при этом рассказе.
— Друг мой! — быстро проговорил он, схватив Пьетро за руку. — Хочешь заслужить еще десять цехинов, а не то и больше? Пусти меня опять на твое место; я хочу прокатить дожа!
Пьетро отвечал, что этого никак нельзя, потому что дож знал его лично и доверял только ему, но Антонио не отставал и, терзаемый муками любви, дошел, наконец, до того, что, разгорячась, прыгнул в гондолу и поклялся выбросить Пьетро в море, если он не согласится исполнить его просьбу по доброй воле.
— Эге, — засмеявшись отвечал Пьетро, — кажется, прелестные глазки догарессы очаровали вас не на шутку!
После этого они условились, что Антонио поедет в гондоле как помощник Пьетро, что было тем легче оправдать в глазах дожа, что он и прежде находил Пьетро слишком слабым для быстрой езды в гондоле.
Антонио в восторге побежал домой и едва успел вернуться переодетый в бедное матросское платье, с испачканным лицом и подвешенной бородой, как дож вместе с догарессой, оба одетые в красивые праздничные платья, сошли со ступеней дворца.
— Кто этот чужой? — недоверчиво спросил Фальер.
Пьетро поклялся всеми святыми, что ему сегодня необходим помощник, но не без труда, однако, сумел убедить ревнивого старика позволить Антонио плыть вместе с ними.
Часто так случается, что в минуту полного блаженства и удовлетворенного счастья дух наш, как бы подкрепленный влиянием этой минуты, бывает более способен удержаться и скрыть свои чувства. Так было и с Антонио. Близость возлюбленной Аннунциаты, которой он почти касался платьем, придавала ему особенную способность сдерживать порывы любви и с удвоенной силой работать веслом, так что ему почти не было времени на нее взглянуть.
Старый Фальер был весел. Он шутил, смеялся, целовал маленькие ручки Аннунциаты, обнимал рукой ее гибкий стан. Гондола между тем выплыла в открытое море, откуда вся прекрасная Венеция с ее гордыми башнями и дворцами открылась перед путниками, как на ладони. Фальер гордо поднял голову и сказал, самодовольно озираясь:
— Ну что, моя дорогая! Не правда ли, весело плыть по морю с его властителем и супругом? Ты, однако, не должна ревновать меня к моей супруге, которая несет теперь нас обоих на своих волнах. Слышишь их сладкий плеск? Не похож ли он на слова любви, которые она шепчет своему супругу и повелителю? Но эта супруга схоронила мой брошенный перстень, а ты носишь его на пальце!
— Ах, мой господин, — отвечала Аннунциата, — может ли холодная, коварная стихия быть твоей супругой? Мне неприятна даже мысль, что ты зовешь своей женой бесчувственное, бесконечное море!
Фальер засмеялся так, что у него задрожали подбородок и борода.
— Не бойся, моя голубка, — сказал он, — я знаю, что покоиться в твоих нежных объятиях приятнее, чем в морской глубине, но не правда ли, хорошо и приятно плыть по морю с его повелителем?
В ту минуту, как дож произнес эти слова, внезапно донеслись издали звуки музыки. Тихий мужской голос, далеко разносимый по волнам пел:
Раздались другие голоса, и в их созвучии слова пропетой песни, повторившись несколько раз, замерли, разнесенные ветром. Фальер же не слыхал ничего и продолжал рассказывать Аннунциате историю происхождения торжества, когда дож с высоты «Буцентавра» бросает в море свой обручальный с ним перстень. Он говорил о победах республики, о том, как были ею завоеваны Истрия и Далмация при доже Пьетро Орсеоло II и как с тех пор был введен обычай обручения с морем. Но если пропетая песня прошла незамеченной мимо ушей Марино Фальера, точно так же незамеченным прошел для Аннунциаты его рассказ. Она была глубоко поражена унесшимися вдаль звуками. Глаза ее смотрели неопределенно и задумчиво, как у того, кто, внезапно пробудясь, не может еще дать себе отчет в мыслях.
— Senza amare! senza amare! — non puo consolare! — шептали уста, и светлые, как блестящие жемчужины, слезы невольно навернулись на прекрасные глаза, между тем как глубокий, подавленный вздох вырвался из взволнованной закипевшим чувством груди.
А Марино Фальер, веселый как прежде, все продолжая рассказ, вышел из гондолы на крыльцо своего дома напротив церкви Сан Джорджо Маджоре, не замечая, что Аннунциата, точно под гнетом тяжкого предчувствия, молча и задумчиво стояла возле него с устремленным куда-то вдаль взором. Молодой человек, одетый в матросское платье, громко затрубил в рог, сделанный в виде изогнутой раковины; звук далеко разнесся по морю; по этому знаку подъехала другая гондола.
Между тем из дома вышли навстречу приехавшим мужчина с зонтиком от солнца и женщина. Дож и догаресса, сопровождаемые таким образом, направились ко дворцу. Другая гондола пристала к ступенькам. Марино Бодоэри с целой толпой гостей, среди которых были купцы, художники и даже люди из простого народа, вышел из нее и отправился в дом вслед за дожем.
На другой день Антонио едва мог дождаться вечера, ожидая известий об Аннунциате, к которой послал свою старуху. Наконец, та возвратилась и, усевшись в кресло, могла только всплеснуть руками.
— Ах, Тонино, Тонино! — заговорила она. — Ума не приложу, что это случилось с нашей голубкой! Вошла я сегодня к ней и вижу, что бедняжка лежит в постельке с закрытыми глазками, обхватив руками головку, и не то спит, не то плачет, не то больна, не то здорова. Я подошла и спрашиваю: «Что с вами, дорогая догаресса? Или у вас опять раскрылась зажившая ранка?». А она как вскинет на меня свои глаза! Ах, Тонино, Тонино! Что это за глаза! Точно лучи месяца прятались они за шелковыми ресницами, как за темной тучей! Посмотрев, вздохнула она тяжело, повернулась личиком к стене и начала шептать так тихо и жалобно, что у меня сердце разрывалось: «Amare, amare! ah senza amare!».
Я подвинула маленький стул, села возле нее и начала говорить про тебя. Она поднялась, впилась в меня глазками и стала дышать так скоро, так порывисто. Я рассказала, как ты переодетый, плавал с ней в гондоле и что скоро приведу тебя к ней, потому что нет уже сил терпеть тебе больше. А она, услыхав это, только залилась горячими слезами, да и говорит мне: «Нет, нет! Ради Бога, нет! Я не могу, я не хочу его видеть! Старуха я тебя умоляю, скажи ему, чтобы он никогда не подходил ко мне больше! Чтобы он уехал из Венеции, уехал скорее!». — «Ну, — говорю я, — если так, то значит, наш бедный Тонино должен умереть». Она опять откинулась на постель, заплакала горько и говорить: «А я! Разве я не умру тоже?». Тут старый Фальер вошел в комнату, и я по его знаку должна была удалиться.
— Она меня отвергла! — в отчаянии воскликнул Антонио. — Так прочь же отсюда! В море! В море!
Старуха по обыкновению захихикала.
— Глупый, ты глупый мальчик! — закричала она на него. — Да разве ты не видишь, что Аннунциата любит тебя так, как не любила еще ни одна женщина! Уймись, дурачок! А завтра вечером приходи тайком во дворец, я буду тебя ждать во второй галерее, направо от большой лестницы. Там мы посмотрим, что делать дальше.
Когда на другой день вечером Антонио, дрожа от волнения, взбирался по большой лестнице, его обуял страх, точно он совершал величайшее преступление. Шатаясь, едва мог он неверными шагами находить ступени. По условию ему следовало прислониться к одному из столбов галереи и ждать старуху там. Вдруг яркий свет сверкнул в темной галерее и не успел он опомниться, как увидел перед собой старого Бодоэри, за которым стояло несколько слуг с факелами в руках.
Бодоэри без всякого, по-видимому, удивления взглянул на молодого человека и сказал:
— Ага! Антонио! Я знаю, что тебе велели стоять здесь; ступай за мной.
Антонио, имея полное право предполагать, что все открыто, не без трепета пошел за Бодоэри. Но как же он изумился, когда Бодоэри, пройдя несколько комнат, вдруг крепко его обнял, заговорил о важности порученного ему поста и в заключение выразил надежду, что он оправдает в эту ночь оказанное ему доверие. Но удивление Антонио скоро перешло в величайший ужас, когда он узнал, что дело шло, ни более ни менее, как о заговоре против Синьории, во главе которого стоял сам дож, и что по последнему решению, принятому в доме Фальера на Джудекке, в эту самую ночь все члены Синьории должны быть убиты, а Марино Фальер провозглашен полновластным герцогом Венеции.
Антонио, слушая Бодоэри, был не в состоянии произнести ни слова, но старик, приняв его молчание за уклончивый отказ от участия в таком опасном деле, воскликнул с гневом:
— Трус! Или берись сейчас за оружие или умри на месте! Во всяком случае ты не выйдешь из дворца живой. Но прежде с тобой поговорит вот кто!
В эту минуту высокая статная фигура человека со строгим, благородным лицом показалась в глубине комнаты. Антонио едва разглядел при свете горевших свечей лицо вошедшего, как тут же упал на колени и закричал в исступлении:
— Святые небеса! Отец мой, Бертуччио Неноло! Мой благодетель!
Неноло поднял юношу, заключил его в объятия и затем сказал тихим голосом:
— Да, я точно Бертуччио Неноло! Ты считал меня погребенным на дне моря, тогда как я был в тяжелом плену у свирепого Морбассана, от которого только теперь освободился. Я был твоим воспитателем и никак не мог предполагать, что глупые слуги, которых Бодоэри послал занять купленный им у меня дом, выгонят тебя на улицу. Бедный, ослепленный юноша! Неужели ты колеблешься поднять оружие против деспотической касты, жестокость которой лишила тебя отца? Да, ступай на двор Фондако, иди же на свое Немецкое подворье; там на каменном полу увидишь ты следы крови твоего отца. Когда Синьория передала в пользование немецким купцам местность, называемую Фондако, было ею строжайше запрещено, чтобы владельцы отведенных им лавок брали с собой в случае отъезда ключи, которые должны были оставаться у смотрителя от Синьории. Отец твой не послушался этого постановления и этим одним уже совершил в их глазах тяжелое преступление. Когда по его возвращении лавка была отперта, под товарами нашли ящик, наполненный венецианской фальшивой монетой. Напрасно клялся он в своей невиновности. Ясно, что какой-то негодяй, может быть, сам смотритель, подкинул ящик, чтобы погубить твоего отца. Жестокие судьи, приняв во внимание только факт, что ящик был найден в лавке твоего отца, осудили его на смерть и он был обезглавлен на самом дворе Фондако. И ты сам не избежал бы погибели, если бы тебя не спасла верная Маргарита. Я, лучший друг твоего отца, взял тебя к себе, а чтобы ты не выдал себя сам Синьории, от тебя скрыли твое имя. Но теперь, Антон Дальбингер, время тебе взяться за оружие и головами Синьории отмстить за позорную смерть твоего отца.
Антонио, возбужденный жаждой мести, немедленно поклялся в верности заговору и неизменном мужестве.
Известно, что тяжкое оскорбление, которое заведывавший морскими вооружениями Дандоло нанес Бертуччио Неноло, ударив его в лицо, подвигло последнего вместе с его честолюбивым зятем восстать против синьории. Оба, и Неноло и Бодоэри, хотели возвести на трон старика Фальера только затем, чтобы самим править от его имени.
План заговорщиков состоял в том, чтобы распространить ночью внезапный слух о появлении будто бы в лагуне неприятельского флота, ударить затем в колокол святого Марка, призывая город к оружию против неприятеля. По этому знаку заговорщики, число которых было значительно по всей Венеции, должны были занять площадь святого Марка, утвердиться на этом главном пункте города и затем, перебив Синьорию, провозгласить дожа самодержавным герцогом Венеции. Но небо не допустило исполнить этот кровавый замысел, а тем и разрушить основные законы государства ради удовлетворения прихоти гордого, честолюбивого старика. Собрания заговорщиков, бывшие в доме Марино Фальера на Джудекке, не ускользнули от бдительного надзора Совета Десяти, хотя совершенно точных сведений они не имели. Но один из заговорщиков, торговец мехами из Пизы по имени Венциан, терзаемый угрызениями совести, вздумал спасти от гибели своего благодетеля и родственника Никколо Леони, бывшего одним из членов Совета Десяти. В сумерки отправился он к нему и пристал с неотступной просьбой не выходить в эту ночь из дома, что бы ни случилось. Леони, побуждаемый подозрениями, немедленно арестовал Венциана и, пригрозив ему пыткой, выведал все подробности. Тогда по согласию с Джиованни Градениго и Марко Корнаро собрали они немедленно весь Совет Десяти в Сан Сальвадоро, и там в течение трех часов были уже приняты все меры, которые должны были уничтожить план заговорщиков в самом его начале.
Антонио было поручено явиться с толпой заговорщиков на площадь и ударить, как было условлено, в колокол. Но, подойдя к дверям колокольни, они нашли их уже занятыми многочисленным отрядом из Арсенала, встретившим пришедших алебардами. Пораженные ужасом, заговорщики разбежались врассыпную и исчезли в темноте. Антонио слышал, что по следам его кто-то гонится. В страхе хотел он уже остановиться и напасть на преследователя, как вдруг в мелькнувшем свете фонаря узнал Пьетро.
— Спасайтесь, синьор Антонио! Спасайтесь в моей гондоле, — закричал Пьетро. — Все погибло! Неноло и Бодоэри во власти Синьории; ворота дворца заперты; дож арестован в своих покоях и как преступник охраняется своими же вероломными драбантами. Скорей, скорей!
Почти без чувств позволил Антонио посадить себя в гондолу. Глухие голоса, звон оружия, порой вопли ужаса слышались ему во мраке ночи; затем все смолкло, и наступила еще более ужасающая тишина.
На другой день утром, объятый страхом народ был свидетелем леденящего кровь зрелища. Совет Десяти еще в ту же ночь произнес смертный приговор схваченным зачинщикам заговора. Все они были обезглавлены на маленькой площадке напротив дворца, как раз на том месте, где дож любовался зрелищем фейерверка и где Антонио, промчавшись мимо прекрасной Аннунциаты, подал ей свой букет. В числе казненных были Марино Бодоэри и Бертуччи Неноло.
Через два дня старый Марино Фальера был также осужден Советом Десяти и обезглавлен на так называемой лестнице Великанов.
Как тень, скитался Антонио во время этих ужасов по улицам Венеции; никто не знал о его участии в заговоре, а потому никто и не преследовал. Увидев, как скатилась под топором седая голова Фальера, ему показалось, что он бредит жутким сном. С отчаянным воплем: «Аннунциата!» — бросился он во дворец, совсем обезумев. Никто не думал его удерживать. Сами драбанты, казалось, были поражены всем случившимся.
В галерее встретил он рыдающую старуху Маргариту. Она схватила его за руку, и они вбежали в комнату Аннунциаты, лежавшей без чувств на своей постели. Антонио бросился к ней, покрыл пламенными поцелуями ее руки, называл ее нежнейшими именами. Мало-помалу она пришла в себя и устремила на него взгляд, как бы не узнавая сначала, но потом вдруг вскочила, бросилась к нему и, крепко прижав к своей груди, облила слезами его лицо, покрыла поцелуями щеки и уста.
— Антонио! Мой Антонио! — шептала она, рыдая. — Люблю тебя, люблю безумно! Есть еще счастье на земле. Что смерть мужа, отца и дяди в сравнении с моей к тебе любовью! Бежим, бежим от этого кровавого места!
Так порывисто говорила Аннунциата, терзаемая горем и блаженством сразу. Среди поцелуев и слез поклялись они в вечной верности, забыв прошедшие ужасы. Глаза их, обращенные к небесному блаженству, не видели более земной скорби, просветленные любовью.
Старая Маргарита советовала им бежать в Чиоццу. Оттуда Антонио думал пробраться по суше в свое отечество. Пьетро добыл им маленькую лодку и причалил ее к мосту близ заднего фасада дворца. В сумерки тихонько прокралась туда Аннунциата вместе с Антонио и старой Маргаритой, державшей под плащом небольшой сундук с драгоценностями. Незаметно спустились они с лестницы и сели в лодку. Антонио бодро схватил весло, и лодка понеслась по волнам. Лунный отблеск, точно веселый спутник любви и счастья, играл и переливался в волнах. Они вышли в открытое море.
Понемногу разыгрался ветер, черные тучи, повиснув в воздухе, как тяжелые занавесы, скрыли светлое сияние месяца; его веселый отблеск исчез, и море стало темной, неприветливой бездной, шумевшей глухо и грозно. Буря разыгралась не на шутку. Ветер с глухим ревом гнал перед собой мрачные облака, лодка зарывалась в волнах.
— Спаси нас, милосердный Боже! — воскликнула старуха.
Антонио не мог более управлять и, бросив весло, крепко схватил Аннунциату, покрывая ее поцелуями.
— Антонио!
— Аннунциата!
Так восклицали они, позабыв, казалось, и самую бурю. Но тут море поднялось, как ревнивая вдова обезглавленного Фальера, охватило лодку исполинскими пенящимися волнами и погребло всех троих в своей холодной, шумящей бездне.
Окончив рассказ, человек в плаще быстро встал и, не говоря ни слова, поспешно вышел из комнаты. Друзья удивленно посмотрели ему вслед и затем опять обратились к картине. Старый дож опять предстал перед ними со своей горделивой усмешкой на самодовольном лице, но, взглянув на лицо догарессы, оба тотчас заметили неуловимую тень смутных желаний, лежавших на лилейно-белом челе, порхавших около прелестных губ и светившихся в темном задумчивом взгляде. В воздухе и густых облаках, несшихся со стороны площади святого Марка, веяло чем-то мрачным, угрожавшим смертью и горем. Глубокое значение прекрасной картины ясно выступило перед их глазами, и печальная история любви Антонио и Аннунциаты невольно наполняла сладкой скорбью их сердца каждый раз, когда они вновь останавливались перед ней.