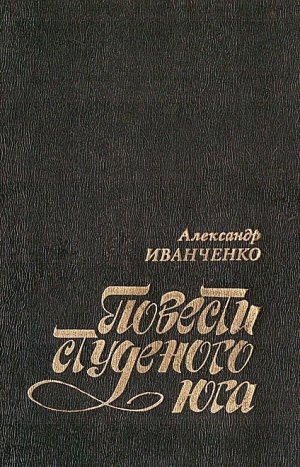
От автора
Сразу для ясности: хотя название этой книги начинается словом «повести», литературный жанр оно, в своем классическом смысле, не определяет. Трудно вообще сказать, какой здесь жанр. О подобных книгах обычно говорят, что они написаны «на основе подлинных событий». Но тогда большинство авторов все же отдают предпочтение художественному вымыслу: меняют место действия, имена героев и так далее. Так удобнее. По крайней мере, никто не упрекнет, что ты погрешил против истины.
Однако как быть, если реальное место действия — единственное в своем роде, а подлинные герои под вымышленными именами многое теряют? Есть, к примеру, только один на свете остров, который находится в Субантарктике и принадлежит одной семье — семье Дэвисов, чье появление в этих краях обусловлено именно тем, что они, Дэвисы, потомки известного английского пирата.
Строгая документальность отнимает право на писательское воображение, чистая беллетристика лишает рассказ преимуществ достоверности. Смешивать же одно с другим не позволяют законы жанра.
Да, но почему не позволяют, если книга от этого выиграет?
Мне кажется, некоторая авторская вольность в данном случае оправдана. Во всех четырех повестях книги, если их можно так назвать, я ничего не менял, но вместе с тем и не считал нужным сдерживать свое воображение, тем более что оно — не плод одной лишь фантазии.
Побывав на Маркизских островах, я легко мог представить себе, какие приключения пережил там Джон Дэвис («Трубка пирата»). Опыт китобоя и знание норвежского промыслового флота помогли зримо увидеть судьбу Микала Мартинсена («Десятый выстрел»), Работа на спасательном судне международного класса и близкое знакомство с американским торговым флотом, а также участие в расследовании нескольких крупнейших морских катастроф дали возможность воссоздать обстоятельства и картину гибели лайнера «Вайт бёрд» («Голубой эшафот»). Что же касается встречи с английским китопромышленником Салвесеном и рассказа о его друге Шеклтоне («Рыцари Золотого Круга»), то они читателю, очевидно, будут ясны сами по себе.
А. Иванченко.
Март 1981 г., Москва
Трубка пирата
В пятницу, 21 марта 1592 года, у атлантического выхода из Магелланова пролива пиратская бригантина «Блэк дэз» («Черная смерть») атаковала «Инфанту» — четырехмачтовый галеон, шедший с перуанским золотом в Испанию. Этому событию, имевшему свои последствия в истории географических открытий, предшествовало романтическое начало.
В Январе того же 1592 года капитан бригантины, известный среди пиратов как Джереми Дэвис (настоящее имя — Джон Фредерик Дэвис), напав в Карибском море на французское судно, захватил в плен юную путешественницу — графиню Терезу де Бурже. Сорокадвухлетний пират предложил француженке руку и сердце. Брак с графиней для него не являлся чем-то сверхъестественным. Джереми был сыном родовитого дворянина — владельца обширного поместья, крупной судоверфи и фабрики по изготовлению парусины.
Двадцати одного года от роду, закончив Ливерпульские мореходные классы, Дэвис взял одну из отцовских бригантин, нарек ее грозным именем и предпочел государственной службе судьбу вольного морского разбойника. За измену королю и пиратские нападения на отечественные корабли суд Англии заочно приговорил его к смертной казни. Но привести приговор в исполнение было не так просто. Бесстрашный смертник гулял по морям-океанам. Он был знаменитым пиратом и по-прежнему оставался английским аристократом, о чем у него имелось свидетельство с королевской печатью. Джереми и предъявил его юной графине, дабы та не подумала, что на ее руку претендует обыкновенный разбойник.
Тереза де Бурже была, однако, не из тех, на кого дворянский титул мог произвести впечатление. Сохранились дневники графини, из которых видно, как происходило сватовство и как вела себя при этом пленная француженка.
«…Я содрогалась от ужаса, ожидая, как мне казалось, неизбежного. Варварский наряд и поведение людей с бригантины, чьи грубые небритые лица были синими от неумеренного употребления рома, не оставляли никаких сомнений. Нисколько не смущаясь присутствием на корабле дамы, хотя бы и пленницы, эти люди позволяли себе работать или праздно сидеть на палубе обнаженными до пояса. Приличные шляпы я сидела на очень немногих. Все другие украшали головы красными повязками, напоминавшими косынки парижских мясников.
Неделю я провела в уединенной каюте, возле которой неотступно несли службу охранников два пирата. Мне подавали обильную пищу, требуя отведать каждого кушанья, и дважды на дню приказывали одеваться для прогулки. В те часы, когда я стояла на палубе, с радостью и тревогой вдыхая морской воздух и тоскуя по свободе, ко мне подходил Джереми. На его вопрос о моем здоровье, заданный с неизменной приветственной улыбкой, чаще я не отвечала. Не сказав ничего иного, он уходил, поигрывая резной индейской палочкой, которую всегда имел при себе. Я же оставалась в недоумении и еще большей тревоге. Вопреки всем страданиям уже тогда что-то будило во мне к нему симпатию. Его высокие из ярко-желтого сафьяна ботфорты мне казались ужасно безвкусными, но сказать подобное о камзоле я не могла. Шитый золотом голубой испанский бархат безупречно облегал фигуру и хорошо сочетался с цветом глаз.
На восьмой день Джереми сделал мне предложение, предъявив королевское свидетельство о своем дворянском происхождении, на которое я не обратила внимания, не придав ему значения. Растерянности у меня не было — в ту минуту я была полна решимости сопротивляться. Но скоро успокоилась. Предложение Джереми открыло мне, зачем понадобилась ему эта неделя невыносимого для меня заточения. Он имел намерение дать мне время осознать свое положение, чтобы затем без труда получить мое согласие.
Вспышка гнева только обнажила бы мою подчиненность обстоятельствам. Сдержав чувство справедливого возмущения, я изобразила на своем лице удивление, сказав небрежно: «Благодарю вас, капитан. Если весть о вашем предложении дойдет до Парижа, граф Франсуа де Бурже будет польщен». Мною владело желание показать свое бесстрашие. Только так я могла добиться у этих людей уважения и права на независимые поступки в дальнейшем.
Да простит меня Господь Бог, не видя никакой возможности уйти от судьбы, я с тайной пылкостью готовила себя к необычайному…»
Скрытая за холодной внешностью пылкая натура Терезы де Бурже жаждала острых ощущений. В то же время графине была не чужда и практичность. Понимая, что ей, став женой пирата, придется порвать всякую связь с родительским домом и тем самым потерять возможность получить приданое, она желала, прежде чем пойти под венец, обеспечить свое будущее. Джереми обещал все устроить. Ему как раз сообщили, что из перуанского порта Кальяо вышел галеон с золотом. «Блэк дэз» без промедления двинулась ему навстречу, к Магелланову проливу.
Испанские галеоны были особо прочными труднопотопляемыми кораблями, которые строились специально для перевозки ценностей. На них устанавливалась мощная артиллерия и плавали отборные, прекрасно вооруженные команды. Тридцатидвухпушечная бригантина с полсотней пиратов шла против громадины, имевшей восемьдесят четыре пушки и почти двести аркебуз.
Джереми привык побеждать. Теперь же, когда этого требовали интересы его женитьбы, он стремился к победе вдвойне. Призрак богатой добычи увлек за капитаном всех пиратов. Недостаток в силе им восполняла отвага.
Вот уже в борт галеона вцепились абордажные крючья, завязался жаркий рукопашный бой, и тут… Редко отступавшие пираты были вынуждены обратиться в бегство. Благо они вовремя заметили, как из пролива вышли еще три испанских корабля — бриг и два фрегата. Это был запоздавший эскорт галеона, о существовании которого пираты не подозревали.
Фрегаты пустились в погоню за бригантиной. Она мчалась на восток, куда дул попутный ветер. Испанцы не отставали. От быстроходного пиратского корабля они держались всего в двух-трех милях. При свете полной луны им хорошо было видно бригантину даже ночью.
На второй день утром впередсмотрящий на фок-мачте «Блэк дэз» неожиданно крикнул:
— Земля!
Прямо по курсу показался неизвестный берег. До него было миль восемь. Над морской гладью отчетливо вырисовывались высокие мрачные утесы, изрезанные многочисленными бухтами. На подступах к ним повсюду из воды торчали камни.
Бригантина попала в ловушку. Поворачивать на север или на юг, в обход нежданной земли, не было смысла. В бою с галеоном «Блэк дэз» получила тяжелые повреждения, и в бейдевинде испанцы легко бы ее настигли. Пиратам оставалось либо выброситься на неизвестный берег, если камни позволят к нему подойти, либо сдаться на милость преследователей, которые, судя по всему, решили расправиться с ними любой ценой.
Кормчий бригантины правил к берегу. Еще пять миль, четыре… Вдруг заполоскались нижний фор-марсель и фок, потом начали обвисать другие паруса. Только что ровно дувший ветер внезапно утих. В миле от берега бригантина остановилась. Потеряли ход и корабли испанцев.
До полудня бригантина и фрегаты лежали в дрейфе, ждали, когда задует ветер. Испанцам казалось, что пиратам от них не уйти. С фрегатов видели и неприступный скалистый берег, тянувшийся далеко на север и юг, и непроходимые камни вблизи него. Преследователи также знали, что в бейдевинде идти с обычной своей скоростью бригантина не в состоянии. Они поняли это в первые же часы погони.
Судьбе было угодно сохранить пиратам жизнь и свободу, а их капитану даровать к тому же место в истории.
В полдень на море опустился туман. Пространство, отделявшее бригантину от фрегатов, заволокло густой сизой завесой. Воспользовавшись этим, пираты на шлюпках двинулись к берегу. На буксире они тащили за собой бригантину. Продукты питания, бочонки с пресной водой и корабельные ценности были перегружены в шлюпки.
Джереми решил обмануть испанцев. Он был уверен, что «Блэк дэз» на камнях разобьется. Но там, где не пройдет большой корабль, могут пройти шлюпки. Когда рассеется туман, испанцы увидят останки пиратского корабля и наверняка подумают, что его экипаж погиб. Пираты между тем скроются где-нибудь за скалами.
Против ожидания, в гряде камней оказался проход и для бригантины. Тогда Джереми изменил план. Пираты спрятались за скалами сами и скрыли от глаз испанцев бригантину. На камнях же оставили разбитую шлюпку, клочья старых парусов и прочную судовую мелочь, которая при кораблекрушении должна была всплыть. Для большей убедительности в расщелине одного из подводных камней закрепили верхнюю часть обломанной грот-мачты.
Джереми не ошибся. Его счастливый роджер не подвел команду бригантины и на этот раз. На фрегатах действительно сочли пиратов погибшими. Довольные происшедшим, испанцы повернули назад. Неведомый берег их не заинтересовал.
Честь, первооткрывателя Фолклендских островов досталась пирату Джереми Дэвису, или Джону Фредерику Дэвису.
…Всю вторую половину апреля 1965 года пятидесятых южных широтах Атлантики бушевали штормы. «Неистовые» пятидесятые оправдывали свое название. Неделю наш корабль шел сквозь ураган. Свирепые волны, обрушиваясь на палубу и надстройки, выбили дверь в рулевой рубке, сорвали с балок две шлюпки правого борта и вообще натворили не разбери что. Нужно было где-то укрыться от бешеного ветра и все приводить в порядок. Капитан принял решение идти к Фолклендским островам.
Подходящую бухту нашли у острова Нью-Айленд. Из двухсот островов Фолклендского архипелага он, пожалуй, самый маленький. Как сказано в лоции, его площадь не превышает сорока квадратных километров. Похожий на бумеранг лоскут земли, над которым беспрепятственно гуляют все океанские ветры.
Еще издали я видел в бинокль на берегу бухты беленький домик и несколько хозяйственных построек из досок и гофрированного алюминия. От строений к берегу тянулась узкая дощатая эстакада, подведенная к монолитному пирсу. У причальной стенки стояла небольшая парусно-паровая шхуна.
Моросил дождь, и остров выглядел уныло. За угрюмыми обрывистыми утесами тянулись бурые холмы без единого деревца. По распадкам бродили лошади, коровы и овцы. Все прибрежные скалы облепили птицы. Были видны колонии пингвинов, стаи альбатросов, диких гусей и бакланов. На краю одного обрыва среди бесчисленного множества пингвинов стоял, глядя на море, рыжий в белых яблоках бык. На шее у него болтался на цепи обрубок толстого бревна — известное средство против излишней бычьей резвости.
Более чужеродное соседство трудно было себе представать: пингвины и… домашний бык!
Минут через пятнадцать после того, как мы вошли в бухту, шхуна, отвалив от пирса, направилась к нам. У самого нашего борта она круто развернулась и, резко отработав назад, остановилась. Это было старое китобойное судно, построенное, вероятно, в конце прошлого века. Обшитый почерневшими досками яйцевидный корпус, высоко поднятая резная корма и сдвинутые к бортам два коротких бушприта, позволяющие установить на площадке между ними гарпунную пушку. Позади гротмачты прямо из палубы вырастала невысокая дымоходная труба.
Когда-то такие шхуны строили норвежцы. По своим мореходным качествам и прочности среди китобойных судов они долго считались лучшими в мире. Отважные викинги ходили на них в Антарктику и охотились за китами даже во льдах моря Росса. Шхуны не боялись ни льдов, ни антарктических бурь. Теперь в это верилось с трудом. Нелепый вид подошедшей к нам посудины не вызывал ничего, кроме смеха. Все столпились у борта, гогоча, глазели на диковину.
На открытом ходовом мостике шхуны за штурвалом стоял длинный пожилой человек в грязном берете, очках и засаленном черном комбинезоне, из-под которого выглядывал на груди воротничок белой рубашки, надетой под вылинявший голубой свитер.
— Я Джек Дэвис, хозяин этого острова! — прокричал человек с шхуны по-английски.
О Джереми Дэвисе я тогда еще не знал и на фамилию этого англичанина не обратил внимания. Меня удивило лишь, что он хозяин острова. Я не подозревал, что на свете существуют частные острова.
Мистер Дэвис спрашивал доктора.
— Срочно нужна помощь, — не выпуская из рук штурвала, кричал он. — Умирает мой сын. Он там, на берегу. — Кивком головы англичанин указал в сторону белого домика.
— А что с ним? — прокричал в ответ доктор.
— Ранен, — сказал англичанин.
— Какой характер ранения? Я врач, объясните подробнее.
— Он потерял много крови. Бритвой ранен.
Потом, когда мы с доктором были уже на шхуне, мистер Дэвис, направляя судно к берегу, взволнованно говорил:
— Дважды в год к нам приходит рефрижератор из Монтевидео, и как-то была шхуна из Порт-Стэнли. Других судов я здесь не видел, вас послал сам бог. Мы были в отчаянье, до ближайшей больницы мне пришлось бы идти четыреста миль. В море сейчас штормы, я не знаю, что было бы с Редмондом. Этот глупый мальчик перерезал себе вены.
— Вены?! — у Залмана Ароновича округлились глаза. — Что же вы не сказали сразу? Скорее назад! Куда же вы гоните? Давайте назад, я должен взять необходимые инструменты. Это совсем другое, я не к тому готовился.
Я поразился докторской прыти. Как только шхуна опять подвернула к борту нашего судна, он взлетел по штормтрапу в несколько секунд. Это при его-то габаритах: 165 сантиметров роста и 110 килограммов веса!
— Редмонд сделал это в постели, — рассказывал мне Дэвис, пока мы ждали доктора. — В его комнате живет пингвин, он поднял шум: пингвины не терпят запаха крови. Жена пошла узнать, в чем дело. В первом часу ночи вдруг шум. Потом она позвала меня. Ред не давал себя бинтовать. Нам помогла Энни, это моя дочь… Мне семьдесят четыре, я не понимаю молодых людей. Они и сами не понимают, что им нужно.
Я хотел спросить, что все же толкнуло Редмонда на такой шаг, но не решился. Дэвис как-то враз посуровел. Хмуря плоский лоб, достал из кармана кожаный кисет, медленно свернул самокрутку, закурил. Помолчав, сказал еще:
— Раньше ему нравилась говядина на углях. Сегодня я сделал, поджарил, как ему нравилось. Он не съел, вторые сутки ничего не ест. Глупый мальчик, в июне ему будет только шестнадцать…
— Это произошло вчера?
— Да, в ночь с воскресенья на понедельник. Вечером он, как обычно, хорошо поужинал. Потом играл с пингвином и немного спорил с дедом. У меня еще жив отец, ему сто три года. С Редом они не ладят. Дед его очень любит. Не всем молодым нравится, когда их любят…
Парня мы застали едва живым. Мертвенно-бледный, он лежал на кровати совершенно безучастный, с неподвижно застывшими глазами.
— Этот мальчик таки действительно плох, — натягивая халат, сказал Залман Аронович. — Вы видите, как он выжат? Он бы к вечеру умер.
Дэвисам доктор перевел свои слова иначе:
— Я говорю, что положение не блестящее, но пока ничего страшного. Ему нужна свежая кровь, литра два.
На Нью-Айленде живут только Дэвисы. Вместе с Редмондом их семь человек. Кровь деда и отца не годилась, они оба слишком старые. Энни кормила двухмесячного ребенка. Поэтому ее кандидатура в доноры тоже отпала. Оставались сорокалетняя миссис Агнес, мать Реда, и ее двоюродная сестра Марго. Но сначала нужно было узнать, какая группа крови у них и какая у юноши. Кровь родственников, даже матери и сына, совпадает не всегда.
У Марго оказалась вторая группа, у миссис Агнес — третья. Труднее было определить группу Реда. Доктор исколол ему все пальцы, так и не получив из них ни капли. Пришлось класть под микроскоп бинты с уже заскорузлыми кровяными пятнами. Наконец выяснилось.
— Третья, — шумно вздохнул Залман Аронович и выразительно глянул на меня. Ему, корабельному врачу, моя группа крови была, конечно, известна.
— Ладно, — сказал я, пожав плечами.
— И сколько вам не жалко? — Свою одесскую манеру задавать вопросы Залман Аронович сохранял в любой обстановке.
— Да берите пол-литра! — вдруг расхрабрился я. Потом меня осенило: «Пол-литра — это же восьмая часть всей моей крови!» Но убавить щедрость теперь было неудобно.
Доктор перевел мой ответ Дэвисам, добавив:
— Мистер Иванченко желает сделать из вашего сына запорожского казака.
И, готовя прибор для переливания крови, принялся рассказывать, кто такие были запорожцы. Слушая, как он их восхваляет, представив меня выходцем из Запорожья, я краснел и с тягучей тоской ждал боли. Ничего на свете так не боюсь, как боли.
Когда прибор был готов, Залман Аронович сказал мне с усмешкой:
— Дух запорожца вы уже проявили, мы постарались его оценить, а теперь прошу закатать правый рукав. Возьмем двести пятьдесят граммов, по донорской норме. Вполне достаточно. На борту мы имеем еще людей…
До того часа я не знал, что процедура выкачивания из тебя крови даже приятна. Сначала чуть-чуть возбуждаешься, потом по всему телу разливается умиротворяющая нега, как от легкого опьянения. И только после перед глазами жиденький дымок. Да немножко липко во рту.
У Нью-Айленда наш корабль стоял неделю. Я был свободен от судовых работ и жил эти дни в доме Дэвисов. Теперь они считали меня своим родственником, кровным братом Реда.
…Древний Джон сидел в кресле-качалке. Он пододвинулся ближе к камину, укутался в грубошерстный домотканый плед, но ему было холодно. На сто третьем году жизни человеку нелегко согреться. Старик часто сморкался, заученным жестом нахлобучивал лохматую меховую шапку. У его ног, одетых в толстые шерстяные носки, на свалявшейся грязно-бурой овчине лежал рыжий огнеземельский кот, огромный и жирный. Время от времени старик осторожно ставил на него мерзнущие ступни. Сонно мурлыкая, кот покорно грел их своим телом.
Из выцветших глаз старика скатывались слезы. Они текли по рытвинам его морщин, как стекает роса по коре старого дерева. То были слезы, не выражавшие ни горя, ни радости. Слезы зябнущего старика. Лицо Джона уже минуло ту стадию, когда кожа человека становится дряблой. Морщины высохли и от сухости словно потрескались. Они были почти коричневыми. Джона родила смуглая патагонка.
Старик курил закопченную глиняную трубку.
— Если Дэвисов не вешали, они всегда жили долго. Самоубийц у нас не было, — сказал он гордо, Его прищуренные до странности белые глаза осуждающе смотрели на внука. — Ты слышишь, Ред, самоубийц у нас не было.
— Сто раз слышал, — огрызнулся Ред.
Перепалка между ним и дедом продолжалась со вчерашнего дня. Старик насупился, однако, помолчав, сказал примирительно:
— Ты прав, Реди, я, кажется, повторяюсь. Говорить или слышать одно слово дважды Дэвисы никогда не любили.
Обложенный подушками Ред сидел в своей кровати. После операции шли уже четвертые сутки. Юноша был еще слаб, но на его щеках начинали проступать розовые жилки. По рекомендации врача миссис Агнес отпаивала сына парным овечьим молоком. Через каждые два часа она появлялась в комнате с белой эмалированной кружкой. Говорила с жизнерадостной улыбкой:
— Как дела, Реди? Вот твое молоко.
Усталые голубые глаза Редмонда были равнодушны.
— Спасибо, мама, — сухо отвечал он. В присутствии деда Ред выдерживал характер.
Мать, казалось, не замечала мрачного настроения сына.
— Ты знаешь, Реди, возле овчарни расцвели два чудесных мака. Я боюсь их сорвать, как бы раньше времени не опали лепестки. Или ты хочешь, чтобы я принесла эти маки?
— Нет, мама.
— Я тоже так подумала, пусть растут. Удивительно, не правда ли? Вдруг расцвели маки! До весны еще так далеко.
Пока, обхватив ладонями кружку, Ред медленно пил молоко, миссис Агнес стояла у его кровати, сообщая какие-нибудь новости. Голос у нее был певучий и ласковый, но без намека на сентиментальность.
На вид ей можно было дать лет сорок. Невысокого роста, полногрудая, но с отличной фигурой, которую подчеркивал строгий мужской наряд: клетчатая рубашка, широкий кожаный ремень, галифе и хромовые сапоги. Коротко подстриженные курчавые русые волосы, очки. На обветренном здоровом лице ярко выделялись почти детские губы, чуть приоткрытые в сверкающей белозубой улыбке. Спрятанные за очками умные серые глаза говорили о натуре спокойной и рассудительной, но эта улыбка придавала ей задорность женщины, всегда готовой повеселиться.
— Да, Реди, я забыла тебе сказать. По-моему, твоя Матильда сегодня к вечеру будет с жеребенком.
Ред молча кивнул головой.
— Ты не рад?
— Нет, мама, я рад. — Было видно, что новость его действительно обрадовала. Опустив на колени кружку с недопитым молоком, Ред против собственной воли улыбнулся: — Родит третью кобылицу.
— Нет, Реди, я думаю, Матильда теперь обзаведется сыном.
— Ты и прошлый раз так говорила.
— Ну, нет, Реди, будь справедлив. Я предполагала, но не утверждала. Это разные вещи.
— Сейчас ты утверждаешь?
— Три кобылицы подряд — многовато.
— Это не ответ, мама.
— Хорошо, Реди, скоро выясним. Давай свою кружку, мне пора готовить обед. Папа, тебе ничего не нужно?
— Нет, Агнес.
— Может быть, вам? — она обращалась ко мне.
— Спасибо, миссис Агнес.
Снова на два часа мы остались втроем. Старик, недовольно сопевший при невестке, продолжал прерванную мысль. Его скрипучий голос звучал глухо и как бы с надрывом:
— Ты помнишь, Ред, я рассказывал тебе, как мне пришлось убить своего боцмана. Со мной тогда были твой отец и дядя Ричард. Ричарду еще не исполнилось восемнадцать, он был такой, как ты, Реди. Мы охотились у Земли Грейама. Кашалот разбил нам корму. Вильсон поднял панику, он боялся, что мы утонем. Ты помнишь, Ред, почему я убил Вильсона?
Юноша опять помрачнел:
— Хватит, надоело!
— Нет, Реди, ты должен послушать. Вильсон был неплохим парнем, и мне жаль его. Он не умел держать себя в руках. Когда у человека с горячим сердцем такая же горячая голова, с ним лучше не связываться. Поддавшись панике, мы бы все погибли, все Дэвисы. Я убил Вильсона, и бог мне судья. Пусть он покарает меня, если ему будет угодно. Я взял на себя тяжкий грех, Реди, чтобы спасти род Дэвисов. Твой отец и дядя Ричард были последними в нашем роду, я не мог их потерять. Ты, Реди, глупый мальчик, если не понимаешь, почему я взял на себя такой грех.
— На твоей душе грехов, как на овце блох.
— Нет, Реди, у меня один тяжкий грех. Ты помнишь, я говорил тебе, как Вильсон спас мне жизнь. Когда те трое увидели мои котиковые шкуры, я понял, что ночью они убьют меня. Вильсон сумел с ними справиться, и я дал ему слово взять его к себе боцманом. Мы оба были довольны. Да, Реди, мой тяжкий грех — только смерть Вильсона. Если бы тебя не стало, она была бы напрасной. Теперь только ты можешь продолжить род Дэвисов.
Слушая деда, Ред нервно покусывал губы. От слов старика его всего передергивало.
— Ты слышишь, Алек, он хочет сказать, будто убил этого Вильсона из-за меня. Когда я родился, Вильсона не было на свете уже двадцать пять лет.
— Наверно, дед вообще имел в виду внуков. Ты зря, Реди, на него сердишься, он волнуется за твою жизнь.
— От его волнений сдохнуть можно. Купил этот проклятый остров, и сидим тут, как индейцы. Ты здесь несколько дней, а я, кроме Нью-Айленда, ничего не видел. Зачем мне такая жизнь?
Под столом проснулся золотоволосый пингвин. Вскочив, он ошалело глянул по сторонам, минуту постоял недвижно, затем важно поковылял к старику. Уткнувшись клювом в его колено, птица ждала ласки. Оттолкнув ее, старик хмуро проворчал:
— Пойди, Мак, скажи этому мальчику, зачем человеку жизнь.
Пингвин сердито зашипел, но, получив шлепок по лбу и легкий пинок в зад, вынужден был направиться к Реду. Остановившись у его кровати, он сложил на белой груди свои маленькие черные крылышки и рассеянно уставился в потолок. Весь его вид словно бы говорил: «Извини, Ред, но подойти к тебе меня заставили». Когда Ред бывал не в духе, общения с ним Мак благоразумно избегал. На сей раз ему, однако, ничего не грозило.
— Смотри, дед, даже Мак на тебя обижается, — неожиданно засмеялся Ред. Потом, обращаясь ко мне: — Тебе нравится наш Мак?
— Он славный малый.
— Ему всего два года. Маленьким он подрался с птенцом баклана. Тот его здорово стукнул. Если бы не я, Маку пришлось бы отдать концы. Я его вылечил. Он признает только меня и деда.
Я сидел в обитом бычьей шкурой кресле, листал «Иллюстрированные лондонские новости». После тесной корабельной каюты маленькая комната Реда казалась просторным покоем. Сложенный из нетесаного серого базальта камин, широкая деревянная кровать, стол, застеленный голубым бархатом. На окнах — тяжелые, бледно-зеленые гардины. В правом углу — массивная этажерка. Старые издания Шекспира, Байрона, Диккенса и Фенимора Купера. Два тома Мопассана: «Жизнь» и «Милый друг». Нижнюю полку и две верхних занимали потрепанные комплекты «Иллюстрированных лондонских новостей». Цветными вырезками из этого журнала над кроватью Реда была заклеена вся стена — женщины.
— Да, Реди, я знаю, мой мальчик, что тебе нужно, — устремив взгляд на стену, сказал старик. Трубка его давно погасла, но он все еще держал ее в зубах, для его лет на удивление крепких и белых. — В мои годы об этом уже не думают. Я забыл, Реди, что жизни без жизни не бывает.
Вздохнув, он плотнее закутался в плед, глубже нахлобучил шапку. Горбясь и грея о тело ленивого кота мерзнущие ступни, долго молча смотрел в пылающий камин. Я почти физически чувствовал, как в его мозгу грузно ворочалась тяжелая мысль. Глядя на него, мы с Редом тоже молчали. Наконец он снова заговорил:
— Я тебе еще не надоел, Алек?
— Нет, мистер Дэвис, мне будет жаль с вами расставаться.
— Спасибо, Алек. Ты можешь называть меня дедом, теперь мы с тобой породнились. Если у тебя есть желание слушать, я расскажу тебе о нашей семье…
Отец, дед и два прадеда Джона были пиратами, достойными потомками того Дэвиса.
Джереми, тот Дэвис, в конце своей жизни поселился на открытых им Фолклендских островах. Он предпочел их виселице, ждавшей его в любом порту, куда бы он ни рискнул зайти. Здесь он и умер. Похоронили его Тереза де Бурже и три человека из команды «Блэк дэз», пожелавших остаться с капитаном до последнего часа. Они были первыми людьми, поселившимися на пустынных в ту пору Фолклендах.
Тереза де Бурже пережила мужа на шесть лет и была похоронена рядом с могилой супруга. Для будущих Дэвисов она сохранила две тетради своих дневников, в которых описывала отчаянную удаль пиратов и глиняную индейскую трубку — любимую трубку Джереми. Тетради и трубка передавались из поколения в поколение, подогревая в Дэвисах и без того горячую кровь прародителя.
В 1884 году, когда Джону исполнилось двадцать два года, родовые реликвии по наследству перешли к нему. Он получил их от отца вместе с новой бригантиной, построенной по специальному заказу на одной из лучших судоверфей Гавра. Чарльз, отец Джона, имел во Франции своих людей. Через них он сбывал добытые на морских дорогах ценности, и они же передали судоверфи его заказ на бригантину. Тогда уже можно было построить более мощный корабль, но Дэвисы всегда верили в бригантины.
То был корабль-красавец. Длинный точеный бушприт, две резко наклоненные к корме мачты и стремительный стреловидный корпус, обитый тонкой кованой медью. При хорошем ветре «Флайин стар» («Летящая звезда») давала двадцать миль в час.
О новом корабле для сына заботились все Дэвисы. Это было их правилом. Корабль отца мог принадлежать только отцу. Когда старик, предчувствуя близкий конец, сходил на берег, его бригантину ломали. Из просоленных корабельных досок старику строили дом и сколачивали гроб — просторный деревянный саркофаг, точно повторявший внутри спальню капитанской каюты.
Так велел сделать Джереми, и так делали его потомки. И так же, как он, они шли умирать на Фолкленды. Первым традицию рода нарушил Чарльз. Фолклендские острова к тому времени начали заселять английские колонисты. Закон и власть помешали Чарльзу найти покой у родных могил.
Чарльз был последним из Дэвисов, родившихся и умерших пиратами.
Пройти жизненный путь отца и дедов Джону не было суждено. Его великолепная «Флайин стар» не пенила морей и трех лет. Позже ему казалось, что он дал своему кораблю роковое имя. Летящая звезда долго не светит.
В апреле 1887 года после двухмесячного крейсирования в Атлантике «Флайин стар» прошла проливом Дрейка, направляясь к островам Паумоту. Там, на атолле Тикахау, у Джона была одна из его береговых баз.
Где-то за южным тропиком им встретилось североамериканское торговое судно, шедшее в таитянский порт Папеэте. Хотя из Атлантики бригантина возвращалась с приличным «уловом», пираты считали, что упускать богатого янки не стоит.
Среди прочей добычи оказались бочки с ромом. Джон приказал закрыть их в продовольственном трюме — иначе его люди напились бы до беспамятства. Если в море бригантина не лежала на дрейфе, он не пил сам и не позволял напиваться другим.
В те дни ему нездоровилось, ныла свежая пулевая рана в левом плече. Это плечо у него было прострелено дважды.
Когда ограбленное американское судно осталось за кормой, Джон, передав управление бригантиной своему старшему помощнику, удалился к себе в каюту. Плохое самочувствие у него всегда вызывало желание побыть в одиночестве. Он мог сутками не выходить из каюты и никого не принимать, даже стюарда. Ел бекон с сухарями, запивая лимонным или апельсиновым соком.
«Флайин стар» шла своим курсом. Так думал Джон. Его не беспокоили, и он был уверен, что на корабле все в порядке. Только на следующий день к вечеру, когда бригантину начало сильно качать, он свистнул в переговорную трубу к рулевому. Ему не ответили.
В недоумении капитан поднялся на мостик. Паруса бригантины надувал штормовой ветер. Однако на корабле не было видно ни одной живой души. Бригантиной никто не управлял. В спицы рулевого колеса, чтобы оно не болталось, кто-то воткнул обломок рея.
Ошеломленный Джон бросился в кают-кампанию. Он уже догадался, что произошло.
Бочки с ромом команда «Флайин стар» все-таки открыла и теперь была мертвецки пьяна. Кроме капитана, единственным трезвым человеком на бригантине оставался только Том Морган — двенадцатилетний мальчишка, которого пьяные пираты заставили себе прислуживать.
Попытки Джона хоть кого-нибудь привести в чувство не имели успеха. Большинство людей в бессознательном состоянии лежало на палубе, другие одурело смотрели на капитана, ничего не понимая. На все свои угрозы Джон слышал только пьяный бред и ленивую ругань.
Раздавленный собственным бессилием, вернулся на мостик. С ним поднялся наверх и маленький Том. Джон помнит, как, стараясь взять себя в руки, сказал тогда мальчику:
— Ну, что, Томи, тебе нравится эта свистопляска?
— Вы говорите о море, сэр?
Шторм переходил в ураган. В ревущем мраке бригантина то взлетала на головокружительную высоту, то, задрав корму, отвесно падала в пропасть. Казалось, еще один такой прыжок — и все будет кончено.
Цепляясь за поручни мостика, Джон закурил. Он не мог себе простить, что, зная своих людей, так легкомысленно поверил в их благоразумие. С полным парусным вооружением управлять бригантиной теперь было невозможно. И невозможно убрать паруса. Два человека этого не сделают даже в тихую погоду, а в шторм тем более. Чтобы взять рифы, на каждый парус нужно было добрый десяток рук.
— Да, Томми, я говорю о море. Как ты думаешь, мачты выдержат?
— Да, сэр, они крепкие.
— Сейчас это плохо, Томми, нас может опрокинуть. Тебе нужно надеть спасательный пояс.
— Разве мы не в открытом океане, сэр?
— Это ничего не меняет.
— Да, сэр. И здесь, мне кажется, много акул. Мы давно идем в теплых водах.
— Брось, Томми, делай, что тебе говорят.
— Хорошо, сэр, я принесу и ваш пояс.
— Сначала надень свой.
— Слушаю, сэр.
«Рыжий чертенок», — ласково подумал Джон. Он редко о ком думал ласково. В его пиратском сердце находилось место только для этого мальчика.
Так же, как Джон, Томми родился и вырос на пиратском корабле. Его отцом был Клод Морган — внучатый отпрыск Генри Моргана, знаменитого карийского корсара, ставшего затем вице-губернатором Ямайки. Позже Морганы поселились в Штатах, расставшись с прежним ремеслом. Пиратскую линию рода продолжал только Клод. Чарльз Дэвис принял его на свою бригантину старшим помощником капитана и позволил ему привести с собой на корабль девицу, которая ждала от него ребенка.
Когда Тому было два года, «Жгучая индианка» под видом австралийского учебного судна заходила в Гавану. Воспользовавшись моментом, Джени сошла на берег и на корабль больше не вернулась. Клод отправился на ее поиски и тоже не вернулся. Вероятно, его кто-то убил. До девяти лет мальчика воспитывал старый Чарльз, потом заботы о нем взял на себя Джон. Чарльз завещал ему сделать из мальчика настоящего мужчину.
На «Флайин стар» Том был общим любимцем. Послушный и неизменно спокойный, он нравился всем. В этом маленьком создании жили скромность и доброта, которых так не хватало окружавшим его людям. Возможно, никто из них этого не понимал, но все они пенили в нем именно это. Выносить их неразумную любовь Тому было нелегко. Напившись, все требовали от него внимания. Иногда им казалось, что он слишком равнодушный. Рассудительный, слегка иронический характер мальчика начинал раздражать их, и они были не прочь поколотить его, но тогда бы им пришлось иметь дело с капитаном. Джона боялись, и руку на юнгу никто не поднимал, хотя других неприятностей Том терпел немало.
Вернувшись на мостик, мальчик протянул Джону пробковый пояс.
— Возьмите, сэр, это ваш.
— Спасибо, Томми, повесь его на штурвал.
Они стояли рядом, держась за поручни, — длинный бородатый капитан и маленький худой юнга. Капитан чувствовал потребность сказать мальчику что-нибудь хорошее.
— Ты помнишь, Томми, я когда-то убил альбатроса? — не найдя ничего лучшего, спросил Джон.
— Да, сэр, это было на «Жгучей индианке». Вы сняли с его лап кожу и сделали себе ремень для пистолета.
— Говорят, убивать альбатроса не следует. Рано тли поздно дух птицы отомстит моряку.
— Да, сэр, я помню, вам говорил это боцман Мортон. Вы над ним смеялись.
— Тебе не кажется, что я был глуп?
— Нет, сэр, вы поступили так, как считали нужным. Ваш отец не любил, чтобы его желание оставалось невыполненным.
— Ты прав, Томми…
Джон хотел сказать, что теперь он сожалеет о том поступке, но не сказал. Разговаривая с мальчиком, он пытался представить, где они сейчас находятся. Уже много часов стихия гнала бригантину на норд-вест, им же нужен был чистый вест.
— Ты не заметил, Томми, каков ветер был в полдень?
— Я не мог этого заметить, сэр. Меня с утра не выпускали из кают-кампании.
Джон успокаивал себя мыслью, что впереди открытый океан. Если бригантина до сих пор не опрокинулась, она, пожалуй, выдержит натиск урагана до конца.
Он еще успел поделиться этой мыслью с мальчиком.
Внезапно бешеный бег бригантины приостановился. Вдруг, резко дернувшись назад, парусник с грохотом и страшным скрежетом круто полез вверх. Встав на дыбы, корабль пошатнулся и, круша обшивку корпуса, рухнул на правый бок.
Капитан и мальчик повисли на поручнях мостика. В первое мгновение Джон подумал, что они наскочили на коралловый риф. С трудом добравшись до штурвала, он торопливо нащупал спасательный пояс, но так его и не надел. В густом сумраке ночи глаза различили вдали от корабля черный силуэт гор.
Бригантину выбросило на берег.
За сто три года, прожитых на свете, Джон многое уже забыл. Из памяти выпали целые десятилетия. Но не те двадцать семь дней. Те дни забыть невозможно.
Берег, на который их выбросило, Джон принял за остров Флинт. Год назад он проходил на своей бригантине мимо него и запомнил очертания горных вершин. Когда рассвело, ему показалось, что это те же вершины. Ничего дурного о населении Флинта он не слышал, поэтому и не ожидал здесь никакой опасности. Говорили, что на этом острове живет небольшое племя мирных полинезийских рыбаков.
Как только пираты пришли в себя, они сразу безо всякой предосторожности занялись устройством временного лагеря. Хотя от катастрофы корабль здорово пострадал, Джон надеялся, что им удастся заделать пробоины и снова стащить бригантину на воду.
Несколько человек сразу же отправились в глубь острова на поиски необходимого леса. Еще четверым Джон приказал пройти вдоль берега, чтобы выяснить, где находится поселение туземцев. Вблизи того места, куда выбросило «Флайин стар», в море впадала какая-то речушка, росли кокосовые пальмы и много апельсиновых деревьев, но не было видно никакого жилья.
Возле корабля остались тридцать человек. Все работали на берегу, расчищали площадки для палаток. Неожиданно с трех сторон на них посыпались камни.
У пиратов не было времени опомниться. Когда Джон, бросив лопату, рванул из-за пояса пистолет, двое из нападавших уже повисли на его плечах. Они выскочили словно из-под земли. С неистовым воем, визгом и воплями. Их было не меньше сотни. Потом, неся на бамбуковых шестах деревянные клетки, из леса вышло еще столько же.
Кажется, впервые за двадцать три года жизни Джона охватил ужас. Только сейчас, увидев клетки, он понял, как жестоко ошибся. Это был не мирный Флинт. Они попали на маркизский остров Фату-Хива, население которого пользовалось мрачной известностью каннибалов. О клетках, в которые фатухивцы сажали своих пленников, знала вся Океания.
Их долго куда-то несли. Едва приметная тропа, извиваясь по зарослям тропического леса, взбиралась все выше и выше в гору. Потом она так же долго змеилась по склону. Наконец оборвалась. Путь преградила пропасть. Узкое каменистое ущелье будто рассекало гору на две части.
Остановившись, маркизанцы столпились вокруг клетки Джона. Смеясь и жестикулируя, они шумно что-то обсуждали. Очевидно, их удивляла внешность Джона. У него была почти такая же, как у них, смуглая кожа и такие же жесткие черные волосы. Но глаза голубые, а борода — красная. Он красил ее каким-то индейским зельем, которое досталось ему от отца.
Жители атолла Тикахау, где Джону часто приходилось бывать на своей базе, немного научили его полинезийскому языку. Маркизанцы говорили на том же тягучем, будто одно бесконечное слово, диалекте. Но Джон ничего не понимал, он был слишком потрясен.
— Гадье, мразь, грязная сволочь! — с яростью плевался он. Горло его давила липкая тошнота. Эти мерзавцы сожрут его. Обглодают его кости, как собаки.
Вдруг позади, где-то в длинном ряду стоявших на тропе клеток, раздался голос маленького Тома:
— Сэр капитан!
У Джона екнуло сердце.
— Да, мой мальчик! Что с тобой, Томми?
— Ничего, сэр, — спокойно и, как показалось Джону, даже весело ответил мальчик. — Я в клетке. Они нас съедят?
Джон проглотил комок.
— Откуда ты взял, Томми? Что за вздор лезет тебе в голову?
Мальчик чувствовал, что капитан сказал ему неправду. Томми отлично все чувствовал.
— Капитан, — сказал он, — хотите, я вам спою?
В клетках растроганно зашумели:
— Томми, рыжий ангелочек, ты не боишься?
— Разве со мной нет моих друзей? — В голосе мальчика прозвучала обычная для него ирония.
— Да, Томми, мы с тобой. Но, Томми, ты ведь никогда не пел.
— Это ничего не значит, я буду петь сейчас. Хотите, капитан?
— Да, Томми. Если у тебя есть голос.
Благодарный отважному мальчику, Джон старался подавить нежданно нахлынувшее волнение. Его распирала незнакомая, остро режущая нежность.
Мальчик запел:
Джон не знал слез. Но тогда он, наверное, все же заплакал. Слушая мальчика, плакали все пираты. Он был их добрым гением, этот маленький Том.
Притихли и маркизанцы. В их черных глазищах застыло изумление. Должно быть, такого пленника они еще не видели.
А мальчик пел, и все ему, казалось, было нипочем:
В это время с противоположной стороны ущелья над пропастью повис бревенчатый мост. Он выполз откуда-то из кустов. Толстые двойные лианы осторожно опустили его на край тропы.
Маркизанцы еще минуту стояли как завороженные. Потом они бросились к клеткам, подхватили их и трусцой побежали вперед.
Когда Джона перенесли через мост, за кустами он увидел обширное безлесое плато, на котором возвышались серые каменные стены — крепость. Даже в своем незавидном положении Джон невольно удивился. Эти каннибалы умели, оказывается, строить не только раздвижные мосты, но и настоящие крепости. Наблюдательные вышки, множество квадратных бойниц для камнеметательных орудий, зубчатые ворота из плотно сбитых стволов железного дерева.
В душе Джона густело отчаяние. Он думал о побеге, но дороги назад отсюда не было.
Триста лет реял над океанами роджер рода Дэвисов, триста лет хранила его удача. Двух Дэвисов повесили, трое погибли в бою. Но то были не те, кому отцы завещали свой флаг. Дэвисы, плававшие под роджером Джереми, поражений не знали. И вот такой конец.
Уже в воротах крепости Джон снова вспомнил убитого им альбатроса. На миг ему показалось, что черная птица витает над ним. Его взвинченные нервы медленно расслаблялись.
Если бы в тот момент ему кто-нибудь сказал, что его звезда не так уж трагична и для него в общем все закончится благополучно, он бы, конечно, не поверил.
Как всякий обреченный, он еще на что-то надеялся, но разум надежду отвергал.
Скованный теснотою клетки, Джон чувствовал, как его немеющее тело наливалось тяжестью. Сердце то замирало, то, вдруг пробудившись, трепетало в мелком ознобе.
— Эй, вы, в клетках! — крикнул он неожиданно зло. — Вы слышите меня?
Отозвалось несколько голосов:
— Говори, капитан, мы слушаем.
— Эти дикари нас не понимают. Пока мы вместе, надо обсудить, как будем действовать.
— Да, капитан, — вздохнул позади Джона чилиец Фернандес. — Я бы предпочел умереть в бою, не так обидно. Но голыми руками этих клеток не сломаешь.
— У меня в кармане остался складной нож. Они не знают, что в нашей одежде есть карманы. Слышите, у кого остались складные ножи, не будьте идиотами, не пускайте их в ход раньше времени…
Резкий удар концом палки в спину заставил Джона замолчать. О чем зашла речь, маркизанцы, видимо, догадались. Не понимая языка своих пленников, они улавливали смысл разговора по тону.
Крепостная стена окружала утопающий в зелени поселок — несколько десятков бамбуковых хижин с высокими стрельчатыми крышами. Они стояли на плоских каменных фундаментах, словно на широких продолговатых столах. Перед каждой хижиной в выступающей части фундамента, которая служила двором, была выдолблена овальная чаша — бассейн для купания.
Пленников несли к центру поселка, на большую, обсаженную цветущими кустарниками площадь, запруженную в этот час народом. Пропуская воинов с клетками, толпа поспешно расступалась.
В конце площади на застеленном голубыми циновками бревенчатом помосте, поджав под себя ноги, сидел плечистый седой маркизанец, все тело которого — даже губы, веки и мочки ушей — было в татуировке. В руках он держал украшенную резьбой и жемчугом бамбуковую палочку — символ власти вождя. По бокам старого маркизанца и за его спиной стояли три мальчика с опахалами из пальмовых листьев.
В торжественной тишине подойдя к помосту, процессия с клетками остановилась. Один из воинов, очевидно старший, размахивая руками, начал возбужденно что-то рассказывать вождю. Вероятно, о том, как ловко они захватили столько пленников. Вождь слушал, одобрительно покачивая головой. Лицо его было внимательным и строгим. Потом он вдруг встрепенулся. Джон услышал, как он нетерпеливо вскрикнул:
— Хамаи! Несите сюда!
Вся толпа сразу заволновалась, все стали кричать!
— Эна оиа! Эна оиа! Вот он! Вот он!
Джон насторожился. Он понял, что тот воин рассказывал вождю о маленьком Томе.
Измученный бессонной ночью и всем пережитым за эти сутки мальчик все еще держался с вызывающим бесстрашием. Когда его клетку поднесли к вождю, он презрительно сказал:
— Каоха, таипи! Здравствуй, людоед! — На «Флайин стар» эти два полинезийских слова знали все.
От неожиданности вождь сначала оторопел. Потом он хмыкнул, улыбнулся и наконец разразился громким хохотом.
— Оиа тане, оиа тане, — надрываясь от хохота, повторял он.
Теперь растерялся Том. Увидев рядом с собой клетку капитана, он едва не зарыдал:
— Сэр, что ему нужно?
— Он говорит, Томми, что ты настоящий мужчина. Держись, мой мальчик.
В глазах юнги блеснула бессильная ненависть:
— Проклятые таипи!
— Да, Томми, но будь благоразумен. Кажется, ты им нравишься.
— Не хочу я им нравиться. Они все равно нас сожрут… Ты понимаешь, кто ты? — глотая слезы, закричал он вождю. — Ты таипи, грязный таипи!
— Вы слышите, я же говорил, он настоящий мужчина! — восторженно воскликнул вождь. — Мои воины слышали его песни, я вижу его смелость, он будет моим сыном! Я его возьму в свой дом, пусть это знают все! — И, умерив пыл, ласково обратился к Тому: — Каоха, оиа тане. Здравствуй, настоящий мужчина. Уа таипи. Да, я людоед. Уа паиа вау. Но я сыт, твое тело мне не нужно.
Он говорил, что уже стар и у него давно нет детей. Но великий бог Тики услышал его молитву и послал ему сына, хорошего сына, он это видит.
Толпа издавала торжествующие вопли. Все восхищались Томом и радовались счастью вождя. Наверное, всем казалось, что так же счастлив должен быть и маленький Том.
— Сын вождя, — ревела площадь, — выходи из клетки, пой свои песни!
Открыв клетку Тома, два воина склонились перед ним в почтительном поклоне. Юнга задрожал от страха, он думал, вероятно, что настал его последний час.
— Выходи, Томми, и не показывай, что ты их боишься, — сказал Джон, стараясь успокоить мальчика. — Вождь решил тебя усыновить. Они хотят, чтобы ты им пел. Смелее, мой мальчик! Ты спасешь себя и, может быть, всех нас.
— Ты умеешь понимать наш язык, краснобородый?
— Видишь, Томми, он совсем не страшный, — сказал Джон мальчику с улыбкой. Потом, вспоминая свой запас полинезийских слов, ответил вождю: — Я живу на Земле Паумоту, там такой же язык, как на земле Фату-Хива.
Маркизанец недоверчиво покачал головой.
— Твой дом на Земле Паумоту?
— Да, великий вождь.
Разукрашенное татуировкой лицо маркизанца, только что благодушно миролюбивое, вдруг стало грозным.
— Мои люди бывали на земле Паумоту, я знаю, кто там живет. Ты лгун, краснобородый. Твой дом за океаном, ты вождь этих франи…[1]
…На Маркизских островах жил один из самых могучих и наиболее развитых народов Полинезии. Никто в этой части света не сопротивлялся так нашествию европейцев, как маркизанцы. В середине девятнадцатого века французам удалось захватить восемь из девяти островов архипелага лишь после того, как эти острова уже некому было защищать.
Вместе с длительными войнами европейцы несли сюда свои болезни. Не знавшие чужеземной хвори и не имевшие к ней иммунитета, островитяне умирали тысячами. Их лекари умели врачевать любые раны, но они были беспомощны перед вирусом гриппа. Заразные болезни уничтожали население одного острова за другим. Стотысячный народ погиб почти полностью. Французам оставалось только объявлять опустевшие острова своей собственностью.
Дольше всех держались небольшие племена, населявшие остров Фату-Хива.
Впервые с европейцами фатухивцы столкнулись 22 июля 1595 года, в день открытия Маркизского архипелага. У Фату-Хивы стали на якорь три корабля испанского конкистадора Менданьи. Потрясенные невиданными кораблями, островитяне вышли на своих каноэ приветствовать гостей. В руках они держали гроздья бананов и другие тропические плоды — показывали, что идут с мирными намерениями. Испанцы пригласили их на корабли, отобрали подарки и тут же шесть человек убили — продемонстрировали силу огнестрельного оружия.
Потом, уже в восемнадцатом веке, на Фату-Хиву зачастили английские и американские китобои. Они никого не убивали, но, угрожая громом пушек, требовали свиней, фруктов и женщин.
Взяв дань, китобои уходили, а на острове вспыхивали эпидемии. Ни один визит европейцев не приносил островитянам ничего, кроме жертв. В конце концов фатухивцы поняли, что с белыми чужестранцами им лучше не связываться. Покинув легкодоступные прибрежные районы, они переселились в высокогорные каменные крепости и никого туда не допускали. Завладеть их бастионами, которые были построены по всем правилам оборонительного искусства, европейцы не могли очень долго. Французы пытались было укрепиться на побережье, но всякий раз, когда их гарнизон высаживался, на остров, среди солдат скоро поднималась паника.
Неуловимые фатухивцы, казалось, сидели за каждым кустом. Стоило солдату зазеваться, и он тотчас попадал в руки островитян. На второй-третий день после высадки французов на остров в расположении их лагеря откуда-то появлялось длинное деревянное блюдо, на котором лежал один из накануне исчезнувших. Зажаренный, с пучком зелени во рту.
Это был удивительный народ. Светлокожие, как мало кто в Полинезии, статные, с правильными чертами лица, фатухивцы походили внешне на арийцев Южной Африки — зулусов. Если бы собрать на конкурс красоты по одному представителю от всех народов Океании, то фатухивец, как утверждают знатоки, несомненно, занял бы первое место.
Во всей Полинезии только фатухивцы признавали женщину равноправным членом общества. Вернее сказать, у них существовал логически обоснованный культ женщины. Она дарует жизнь, и потому является посланцем богов на земле — ей нужно поклоняться. В ней все самое прекрасное — поэтому ее нужно ценить. Она слабее мужчины, но если воин идет на войну, дома его заменяет жена — поэтому к ней нужно относиться с почтением. Если муж недостаточно ласково или без должного уважения обращался с женой, его поведение обсуждали старейшины племени. А если жена изменяла мужу, то в этом не видели ничего особенного. Женщине нужно разнообразие.
При желании каждая женщина могла одновременно иметь несколько мужей. Если она, конечно, умела нравиться мужчинам. Этому трудному искусству фатухивцы обучали девушек с детства. Девушка, сумевшая завлечь и женить на себе несколько парней, становилась одной из самых уважаемых женщин племени.
Среди маркизанцев и вообще народов Океании, пожалуй, только фатухивцы знали, что такое поцелуй. Поэтому они не обезображивали своих губ, как это часто встречалось у других полинезийцев, и не носили традиционных украшений в носу. Женщины питали пристрастие к бусам и всевозможным браслетам, а мужчины украшали себя татуировкой. Почти все воины ходили бритоголовыми. Этим они показывали, что помнят своих врагов и поклялись уничтожать их. У некоторых на макушке торчала туго заплетенная косичка — отличительный знак воина, совершившего кровную месть.
Они были отважные воины и великолепные мореходы, чьи катамараны делали набеги на самые дальние острова Полинезии. Строили грандиозные сооружения из камня и славились умением высекать в скалах величественные скульптуры. Занимались земледелием, морскими промыслами, любили песни, пляски и в общем были незлобивы. Но все это не мешало им слыть страшными каннибалами. Именно слыть.
Как известно, каннибализм существовал на многих островах Полинезии. Но это не значит, что туземцы действительно питались человечиной. Людоедства, которое носило бы характер повседневного явления, там не было. Если полинезийцы людоеды, тогда с таким же основанием можно назвать каннибалами и высокоцивилизованных японцев, чьи наиболее фанатичные самураи считали за доблесть не только сразить врага, но и тут же, на поле боя, закусить его еще дымящейся печенью.
Свои «самураи» были и в Полинезии, не все воины, а лишь особая каста военачальников, давших обет никогда не расставаться с оружием и выдержавших испытания на бесстрашие. На Маркизских островах их так и называли — бесстрашные. Вот у этой касты один из воинских ритуалов и был каннибальским.
Но когда полинезийцы поняли, что европейцы считают их всех людоедами, эту репутацию — такую, казалось бы, незавидную — они всячески стали поддерживать. Беззащитным островитянам она служила своего рода оружием. Они не могли устоять против европейских пушек и мушкетов, но за них отлично сражалась устрашающая слава каннибалов.
«Нет сомнения в том, — писал Миклухо-Маклай, — что спасению папуасов от полного истребления в значительной мере способствовала выдумка европейцев о якобы населяющих Новую Гвинею страшных людоедах. Я не отрицаю, некоторые каннибальские обряды, как и во многих других местах Океании, там действительно существуют. Но европейцы приняли редкие случаи за ужасные бытовые оргии и тем самым сами себе создали устрашение, которым папуасы весьма искусно воспользовались. Да, представьте себе, у них хватило сообразительности не развеивать ужасные мифы, а сочинять о себе еще более неприглядные небылицы, от которых у легковерных европейцев холодела кровь».
Не меньший ужас на европейцев наводила и Фату-Хива.
Надо было такому случиться, чтобы в ту памятную ночь 1887 года бригантину Дэвиса выбросило именно на Фату-Хиву.
Островитяне приняли пиратов за французов, очередное нападение которых они только отбили.
Возможно, если бы Джон признался, что их корабль пиратский, ему бы поверили. Но это было не лучше, чем оказаться в роли ненавистных франи. Между шнырявшими в южных морях морскими разбойниками и французскими завоевателями Полинезии коренное население той части Тихого океана не видело разницы. И те и другие несли на острова лишь разорение и не знавшее границ насилие.
Стараясь побольше награбить и к тому же получить удовольствие, развлекаясь с красивыми полинезийками, американцы тоже ни с кем раньше не церемонились. Но с приходом французов на Таити и Маркизские острова положение американских китобоев и скупщиков копры и жемчуга резко изменилось. Теперь, чтобы зайти на какой-нибудь из островов архипелага, они должны были спрашивать позволения у французских резидентов и платить довольно высокую пошлину. Кроме того, вести торговлю с местным населением отныне разрешалось только через посредничество французов.
Конечно, американцев такой оборот дела не устраивал. Поэтому они начали всячески заигрывать с островитянами, чтобы, заручившись их поддержкой, либо попытаться изгнать французов, либо, если это не удастся, с помощью местного населения найти пути для прибыльной контрабанды, то есть в обход французов продолжать на островах ту же политику, но несколько более хитро. Вот, мол, французы вам ничего не дают, только грабят вас, а мы хорошие, привозим вам разные товары, хотя для нас это очень опасно. Ведь всем известно, как франи ненавидят людей из страны Марите[2]. Потому что люди из страны Марите настоящие друзья островитян, а франи их заклятые враги.
Как бы то ни было, но французов американцы всегда ругали, и островитянам это нравилось. Даже на непримиримой Фату-Хиве, не желавшей дружбы ни с какими бледнолицыми, людей из страны Марите встречали вполне терпимо. Как не очень надежных, но все же союзников в борьбе против общего врага.
Дружбой полинезийцев с американцами и решил воспользоваться Дэвис, хорошо знакомый с обстановкой на соседних с архипелагом Паумоту Маркизских островах.
— Нет, великий вождь, — сказал он, — я говорю правду, мой дом на земле Паумоту. Я родился в стране Марите, но на земле Паумоту у меня много друзей, они хотят, чтобы я и мои люди жили с ними. Мы все из страны Марите.
— Твои слова, краснобородый, лживы, как толстые ноги, которые обещают всех обогнать, — ответил вождь с презрением. — Мои люди видели на твоем корабле большие пушки. Зачем людям из страны Марите такие пушки? Они приходят к нам с товарами, мы не видели пушек на кораблях людей из страны Марите.
— Но, великий вождь, мой корабль на землю Фату-Хива выбросила буря. Мы шли к земле Турбуаи, там живут наши враги.
— И ты взял пушки, чтобы стрелять в людей земли Турбуаи?
— Да, великий вождь, — подтвердил Дэвис, думая, что его ответ прозвучал достаточно убедительно. Он назвал первые пришедшие на ум ближайшие острова, не зная, что на архипелаге Турбуаи недавно началась война с французами и это уже известно маркизанцам.
Суровый вождь, казалось, подобрел.
— Мои люди и я благодарим тебя, краснобородый, теперь мы слышим в твоих словах правду, — сказал он удовлетворенно, и Дэвис подумал было, что словесная битва наконец выиграна, их отпустят с миром. Но голос вождя снова стал бесстрастным.
— Главный вождь франи, — продолжал он, — послал тебя убивать людей земли Турбуаи, но буря выбросила твой корабль на землю Фату-Хива. Море поступило справедливо, оно помогло людям земли Турбуаи и отдало нам в пищу тело наших врагов. Но мы сыты. Мои люди сделают из твоего тела еду для твоих франи. — Старый маркизанец говорил сдержанно, солидно, с подобающим вождю достоинством и вдруг крикнул толпе, почти ликуя: — У воинов франи нет пищи, они голодные, так пусть наполнят свои животы этим краснобородым!
Толпа ответила взрывом восторга. Сотни глоток в диком экстазе начали скандировать:
— Тукопана таа-хи-туэ! Тукопана таа-хи-туэ! Тукопана великий, как океан! Тукопана великий, как океан!
Когда страсти немного утихли, вождь опять обратился к Дэвису:
— Твое тело и голову, краснобородый, воинам франи отвезут на каноэ два твоих человека, те, кого ты укажешь. Говори, я тебя слушаю.
По спине Дэвиса заструился холодный пот. Собрав последнюю волю, он едва принудил себя улыбнуться:
— Не торопись, великий Тукопана. Посмотри, разве на мне и моих людях такая одежда, как у воинов франи?
— Твои люди все белые.
— У людей земли Паумоту такой цвет кожи, как у тебя, великий Тукопана, но ты родился на земле Фату-Хива. Я сказал правду, мои люди пришли из страны Марите. Если бы они были воинами франи, я не мог бы стать их вождем. Посмотри, разве цвет моей кожи не такой же коричневый, как у тебя? Или ты видел коричневых вождей у воинов франи?
Тукопана насупился. Похоже было, этот довод его озадачил. Или он удивлялся поведению Дэвиса. Краснобородый пленник понимал, что его ожидает, но был спокоен и даже беспечно улыбался.
— Когда твои люди, — говорил между тем Дэвис, — будут делать из моего тела еду для воинов франи, прикажи им хорошо опалить на костре и голову. Пусть останутся целыми только мои голубые глаза. Если твои люди не знают, как это делается, я могу тебе сказать. Глаза нужно залепить мокрой землей и поливать соком молодого кокоса, пока голову будут держать над огнем. Так делают таипи на земле Паумоту, и глаза всегда остаются целыми. Тогда главный вождь франи, может быть, и поверит, что твои люди убили его воина. А если ему подадут неопаленную голову с коричневым цветом кожи, он будет только рад, скажет, что Тукопана прислал ему тело своего таипи, отцом которого был, наверное, человек из страны Марите, подаривший сыну голубые глаза. Моих людей главный вождь франи слушать не будет, франи не верят людям из страны Марите.
Маркизанец был явно смущен. Вряд ли ему доводилось слышать подобные речи от пленников, сознававших свою обреченность. Этот краснобородый говорил о собственной голове, будто принадлежала она вовсе не ему. И с другой стороны, он был прав. Когда люди из Страны Марите приходят на Фату-Хиву, у многих женщин потом действительно рождаются дети с голубыми глазами. Правдой было и то, что у всех вождей франи цвет кожи только белый.
Но, отдавая должное мужеству пленника, менять свое решение вождь, видно, не собирался. Уж больно заманчивым было послать такой «подарок» главному вождю франи. И вместе с тем маркизанца теперь, должно быть, терзали сомнения.
— Ты не боишься смерти, краснобородый? — спросил он, как бы досадуя на самого себя.
Дэвис не ответил. Взгляд его остановился на маленьком Томе. Выйдя из клетки, юнга попал в окружение женщин, которые, пританцовывая, принялись осыпать его лепестками цветов. Так у маркизанцев начинался обряд усыновления.
— Ахлу! Ахлу! — выкрикивал женский хоровод. — Ахлу, ахлу, раррар тата тане! Веселись, веселись, ясноглазый молодой мужчина! Ахлу, ахлу, тайо па-ра-ри! Веселись, веселись, друг прекрасный.
Ничего не понимая, но следуя совету капитана, несчастный юнга заставлял себя улыбаться: подавляя всхлипы, тонко и часто всхихикивал сквозь предательские слезы. Потом вдруг запел с внезапно нахлынувшей яростью:
Вся площадь замерла в великом изумлении. Забыв о краснобородом пленнике, вождь по-птичьи вытянул шею и застыл, не смея шелохнуться.
В тот момент у Дэвиса и мелькнула, как ему показалось, спасительная мысль: убедить вождя, что они с юнгой родные братья.
Он знал: по обычаю, существовавшему на архипелаге Паумоту и Маркизских островах, человек, решивший кого-то усыновить, одновременно объявлял своими детьми всех его братьев и сестер. Правда, пока обряд усыновления не начался или его не успели еще довести до конца, от своего намерения стать приемным отцом обычай разрешал отказаться. Но сейчас это значило бы, что вождь должен собрать и принародно съесть все те лепестки цветов, которыми женщины осыпали юнгу. Иначе его отказ считали бы недействительным. Пренебречь же обычаем вождь не мог. В таком случае он утратил бы свой авторитет главного хранителя всех традиций племени.
— Э мауру а вау, таахи каттам! Я счастлив, великий отец! — не дав опомниться Тукопане, сказал Дэвис, как только умолк юнга. Это была ритуальная фраза, которую полагалось говорить молодому человеку, с благодарностью принимающему покровительство приемного отца. Дэвис произнес ее громко, почтительно и, как требовал обычай, склонив голову на грудь.
Вождь, очевидно, сначала подумал, что краснобородый перевел ему смысл песни усыновленного юнги, но быстро сообразив, в чем дело, свирепо выпучил глаза.
— Паурки! Тутаи оури! Свинья! Негодная тварь! Ита маитаи нуи! Лжец, подлый обманщик! Кутуи франи кархоури! Трусливый белый француз! — Он так кричал, что казалось, вот-вот задохнется. — Сабби, ати пои! Болван, дурная голова! Опу эна миконари! Темный, как ночь, христианин!
Неожиданно объявив себя братом маленького Тома, Дэвис, разумеется, не предполагал, что его хитрость вызовет у Тукопаны такой бешеный гнев. А причиной всему было то, что Дэвис, сам того не желая, перед всем племенем выставил великого и мудрого вождя человеком, достойным, по понятиям полинезийцев, презрения.
Дело в том, что на Фату-Хиве и многих других островах Океании, где существовал каннибализм, родственным связям придавалось очень большое значение. Чтобы какой-нибудь из родственников члена касты бесстрашных случайно не оказался у него на столе в качестве закуски, полагалось знать не только всех членов своего рода, но и тех, кто так или иначе с ним породнился. Если обнаруживалось, что кто-то не знает пусть даже своего десятиюродного брата, в глазах соплеменников тот терял всякое уважение, ибо это значило, что, встретившись с родственником, он мог при известных обстоятельствах убить его и тем самым совершить поступок, который у полинезийцев считался не преступлением, но гнуснейшей низостью.
Вот почему прежде, чем кого-то усыновить, будущий приемный отец обязан был хорошо разузнать всю родословную приемыша. Конечно, при сложившейся ситуации Тукопана сделать этого не мог, да и сомнительно, что на его месте об этом кто-то подумал бы. Но по тому, как, услышав ритуальную фразу Дэвиса, все вокруг замерли, было видно, что маркизанцев потрясла именно вопиющая неосведомленность вождя. Словно не понимали этого с самого начала. Ясно же было, что о родственниках юнги вождь ничего не знает и знать не может, но… Позор-то налицо, осрамился великий Тукопана. А «подарок» вождю воинов франи? Не пошлет же ему Тукопана на танире[3] своего сына. Но ведь все уже решено. Как же отменит Тукопана свое собственное решение? Где это слыхано, чтобы великий вождь сказал слово и не сделал! И потом, если этот краснобородый стал сыном Тукопаны, тогда вообще никого из пленников нельзя тронуть. Они же воины сына Тукопаны… А какая была схватка и какая победа! Ни один кархоури не ушел, все в клетки попали.
Да, в нелегкое положение поставил краснобородый Тукопану. Но какой же вождь признает свою оплошность? Что будет тогда с его авторитетом?
Однако опровергнуть заявление пленника Тукопане было нечем, и он, видя, что краснобородый собирается что-то объяснять, кричал, задыхаясь:
— Замолчи, негодная тварь! Ничего не говори, мы тебя не слушаем! Никто тебя не слушает! Ты лжец, ты свинья на танире!
Весь внутренне сжавшись, Дэвис молил бога не дать ему ослабить волю. Он понимал, что замолчать ему нельзя, иначе конец, и сознавал, что сейчас все будет зависеть от его самообладания, от того, насколько убедительно он сможет продолжать эту смертельную игру.
— Прости, великий отец, — сказал он печально, — твой недостойный сын разгневал тебя, накажи его. — Дэвис отлично знал, что полинезийцы своих детей никогда не наказывают. Как можно наказывать тех, кого нужно любить?
Тукопана было вскочил, хотел бросить в лицо пленнику еще какое-то обвинение, но тотчас же снова сел, воскликнув с радостным озарением:
— Х-хе, ты коричневый! Кожа у тебя коричневая! Ты сам говорил, э, говорил? Что? Х-хе, коричневый!
— Это правда, великий отец. — Дэвис чувствовал, как его лоб покрывался холодной испариной. — Мой младший брат белее меня, его даже солнце не делает коричневым. Но это потому, что до тебя у нас были разные отцы. Мой первый отец был коричневым, а первый отец брата — белым. Но мать у нас одна, и ты, великий отец, видишь это по нашим глазам. Посмотри, разве у нас двоих не глаза братьев?
Все еще окруженный женщинами, теперь, правда, застыло-притихшими, юнга напряженно следил за ходом разговора. Как и все пленники, он ничего не понимал, но голос, казалось, спокойного капитана вселял надежду. Мальчик натянуто улыбался. Остальные пираты сидели в клетках угрюмо сосредоточенные, молча ждали, чем все кончится. Когда старый маркизанец бесновался, от каждого его вопля они невольно вздрагивали, но мужество юнги и капитана вынуждало джентльменов удачи держать себя в руках. Если этот татуированный дьявол орет, не все еще потеряно. Орет, чтобы доказать что-то, торгуется, значит. Уж как-нибудь заговорить ему зубы капитан сумеет. Дэвис — да не сумеет?!
Между тем, зыркая то на мальчика, то на краснобородого капитана, Тукопана все более заметно начинал волноваться. Определенно, он был в замешательстве. Действительно, глаза у обоих совершенно одинаковые, ярко-голубые и как будто в лучистых росинках… «Х-хе, ерунда! Вот у того пленника глаза тоже голубые… Нет, вроде не очень, чуть сероватые…»
Наверное, любвеобильный Тукопана охотно взял бы в сыновья и Дэвиса, но… Положим, на его оплошность соплеменники посмотрели бы сквозь пальцы. Ну, поспешил немножко Тукопана, не расспросил всего вовремя. Не велика беда, ритуал усыновления еще не закончен, так что исправить ошибку не поздно. Но разве бесстрашные согласятся лишить себя такой добычи? Да они растерзают Тукопану, если из-за него придется отпустить на волю всех пленников… А если эти двое все-таки братья? Обрушится тогда на Тукопану гнев величайшего из великих богов, пресветлого властителя Земли и Неба, могущественного и непобедимого Тики. Позволил сына убить, дитя свое… Подлый, гадкий, презренный Тукопана!.. «Нет-нет, не может этого быть. Краснобородый все врет, он лжец, трусливый белый француз! Корчит из себя бесстрашного воина и треплет языком, чтобы обманом спасти свою шкуру… А вдруг?»
И вождь принял соломоново решение.
— Хорошо, — сказал он сердито. — Когда мой сын научится говорить, я спрошу его. До той поры ты будешь там, в клетке. Я тебя не видел, мои уши тебя не слышали.
По угрюмо ожидавшей толпе маркизанцев прокатился вздох облегчения. Мудрый Тукопана рассудил правильно. Пока его молодой сын научится говорить, времени пройдет немало, и все это время краснобородый ему будет никто. Он его не видел и не слышал, да, не видел и не слышал. Краснобородый — невольник племени, а все его воины — добыча. «Х-хе, добыча! Х-хе, добыча!»
И снова взрыв ликования:
— Тукопана таа-хи-туэ! Тукопана таа-хи-туэ! Тукопана великий, как океан!
В ту же минуту к Джону бросились четыре дюжих воина. Они подхватили его клетку и, гортанно что-то прокричав, вприпрыжку куда-то побежали.
Все произошло так быстро и для пиратов так внезапно, что они не сразу опомнились.
— Капитан! Капитан! Грязные таипи! Грязные таипи! — запоздало послышались на площади отчаянные вопли маленького Тома. Он, вероятно, хотел бежать следом за капитаном и яростно с кем-то боролся, но не мог вырваться.
— Томми, рыжий ангелочек… — подавляя сотрясавшие его рыдания, повторял про себя Джон.
Потом с него сорвали одежду и голым подвесили в клетке, как попугая, под каким-то ветвистым деревом. Вместе с одеждой забрали и нож, на который он так рассчитывал.
Такая же участь, кроме юнги, постигла всю команду «Флайин стар». С площади клетки с пленниками унесли в разные концы поселка, подвесили их на деревья и зорко сторожили, но и без этого о побеге нечего было и думать. Сколоченные из прочнейшего железного дерева клетки голыми руками не сломаешь.
Удача покинула лихих джентльменов навсегда. Кого раньше, кого позже, но всех ждала гибель. Грозила она и Джону.
Там, на площади, намекнуть Тому, чтобы он постарался объяснить маркизанцам, будто они братья, Джон не рискнул, хотя большого труда в тот момент это не составляло. Достаточно было, разговаривая с вождем, почаще вставлять в полинезийскую речь английское слово «брат», и Томми все бы понял. Но ведь остальные пираты тоже были не глухие. Если бы все пленники сообразили, что их капитан пытается выдать себя за брата усыновленного вождем юнги, они, не зная обычаев полинезийцев, решили бы, что он спасает только себя, и наверняка бы взбунтовались.
Обман тут же раскрылся бы. Поэтому никаких намеков юнге Джон не делал. Он был уверен, что, когда маркизанцы начнут у Тома допытываться, тот сам догадается, как нужно ответить.
К сожалению, Томми сплоховал. Оторванный от своих недавних товарищей, он сразу стал добиваться разрешения видеться с краснобородым пленником и упорно называл его знакомым всей Океании словом «капитан». Тогда к нему подвели двух очень похожих мальчиков, должно быть братьев-погодков, и знаками спросили: мол, вы с краснобородым, как эти двое?
Юнга презрительно фыркнул:
— Еще чего придумали! Он капитан мой, поняли, дурьи ваши головы, мой капитан!
Все, конечно, поняли, но вождь, казалось, ответу Тома не придал значения. Насупившись, он долго что-то ворчливо говорил старейшинам племени, показывая пальцем то на юнгу, то на свой язык. Дескать, у мальчика еще язык немой, он не умеет пока говорить, поэтому спрашивать его рано.
Тома такое, как он полагал, наглое высокомерие вождя возмутило.
— Ты сам немой, грязный старый таипи! Краснобородый — капитан мой! Мой капитан.
Для горячо влюбленного в своего капитана юнги Дэвис был самым дорогим человеком на свете. С ним не могли сравниться никакие братья, тем более что братьев у Тома никогда не было. «Капитан, мой капитан!» В этом было все, вся жизнь юнги.
И судьба Джона зазвонила в колокола. Расправиться с ним, как позже выяснилось, собирались в тот же день, но Тукопане вдруг пришла в голову блестящая идея.
— Х-хе, послушайте! — вскричал он на совете старейшин. — Этот краснобородый — сокровище! Посылать его тело вождю воинов франи не надо. Мы отрежем ему бороду, борода вырастет новая. Замечательно! Х-хе, да, так будет долго.
У безбородых маркизанцев жесткий волос из мужской бороды считался большой ценностью. И чем необычнее он был по цвету, тем выше ценился. Фатухивцы делали из него браслеты, которыми все, кто имел такую редкость, очень гордились.
Красных браслетов на острове ни у кого не было.
Увы, мудрый Тукопана не подозревал, что роскошные бороды иногда красят.
Когда пленника оскоблили острым, как бритва, осколком морской раковины и на его лице, где раньше красовалась великолепная красная борода, появилась заурядная черная щетина, вождь, увидев столь невероятное, с его точки зрения, диво, опешил. С отвисшей челюстью впился глазами в Дэвиса, думая, наверное, что перед ним другой человек. Но нет, это был тот же, теперь уже бывший краснобородый. Вождю все же не верилось.
— Бура аотуа! Бура аотуа! — забубнил он. — Великий бог, помилуй! Великий, бог, помилуй!
Щетина все-таки оставалась черной, а глаза — голубые, прежние… Для большей верности Тукопана подергал щетинки ногтями. Да, настоящие, растут из кожи… Еще минута недоумения — и, захлебнувшись мгновенной вспышкой гнева, вождь в бешенстве продекламировал:
Декламация прозвучала как смертный приговор. И это действительно была одна из ритуальных форм приговора. Но даже при самой буйной фантазии, будь она у Дэвиса, он не мог бы предположить, о чем думал в ту минуту Тукопана.
Оказывается, когда старый маркизанец понял, что краснобородый пленник и усыновленный юнга никакие не братья, он, вместо того чтобы сразу же казнить Джона, как надо было ожидать, настолько проникся к нему симпатией, что решил спасти его. Сердце вождя, презиравшего всякую ложь, покорила, наверное, находчивость Дэвиса, его удивительное самообладание и, конечно, — знание полинезийских обычаев. Понятно, Тукопана вряд ли сознавал себя патриотом, но, как большинству полинезийцев, это не мешало ему быть им и чувствовать признательность к чужестранцам, хотя бы и врагам, понимающим обычаи и язык его родины. Он не мог позволить умертвить такого пленника. Но власть вождя не безгранична. Показать свои истинные намерения перед соплеменниками, самым тяжким преступлением привыкшими считать обман, для Тукопаны значило восстановить против себя все племя.
Черная щетина Дэвиса обсуждалась на совете старейшин как еще одна ложь подлого франи.
Внимательно выслушав дебаты, Тукопана мрачно подвел итог:
— Паурки роа ита паиа вау, кай-кай ахура, нуи, нуи кай-кай. Длинная свинья отощала, откармливать надо, долго откармливать.
…Спустя двадцать семь дней после крушения «Флайин стар» Джон, юнга и Апоро — молодая жена Тукопаны с Фату-Хивы, бежали.
Пока обреченного пленника усиленно откармливали, вождь с помощью верных ему воинов, поочередно стороживших Дэвиса, тайно снарядил катамаран, способный выдержать плаванье в открытом океане. Он хотел, чтобы Джон бежал один, но покидать остров без юнги Дэвис отказывался. Нет, жертвовать собой он не собирался. Он просто понял слабость старого маркизанца и ловко на ней сыграл. Сказал, что лучше пусть его съедят или зажаренным отправят французам, чем он останется без мальчика, который ему дороже свободы и даже жизни.
Ни секунды не сомневаясь в искренности Джона (ведь их сейчас связывало взаимное доверие заговорщиков), Тукопана был потрясен. Он не думал, не представлял, что на свете бывает такая любовь. Они же с юнгой чужие, совсем не братья. И юнга — не девушка. Друг дороже жизни! Это так замечательно, так замечательно! Тукопана — старый глупец, жирный слепой болван, ничего не понимающий в людях… Ему всегда казалось, что все мужчины любят сначала свою жизнь, своих родных и молодых женщин, а потом уже друзей, если боги дали им любви больше, чем нужно для себя и тех, кого не любить нельзя.
Огромного роста, страшный в призрачном свете луны со своей дикарской татуировкой, он протягивал к Джону в клетку разрисованные фантастическими узорами руки и плакал, как ребенок.
— Нуи, нуи оэ маитаи эната. Ты очень, очень хороший человек. Э мауру аоэ, э ханна-ханна аоэ. Я несчастный, я не знаю, что делать.
Он говорил, что по справедливости, если маленький Том не хочет жить на Фату-Хиве, надо его отпустить.
Но он же теперь его сын. Как отец может расстаться с сыном, не зная, будет ли мальчик всегда сыт и достаточно ухожен? Да, старший друг у него очень хороший, но за детьми должны ухаживать женщины. У мужчин руки твердые, а детям нужны мягкие, дети нежные. Но у Джона нет жены. И матери в стране Паумоту у Тома нет… Невозможно, это невозможно, у Тукопаны разорвется сердце…
Потом вождя осенило: может быть, Джон согласится взять с собой его жену? Она еще не старая, все умеет делать, и руки у нее очень, очень мягкие. Ему жаль, очень жаль расставаться и с Апоро, но он будет плохой, негодный, презренный, если ради себя забудет сына. Мальчику нужна мать. А он уже стар, как-нибудь сам доживет свой век. Наверное, недолго осталось… Утром Апоро придет. Джону нужно на нее посмотреть и тогда сказать. Апоро что-нибудь спросит, и Джон скажет «да» или «нет»… А она? Что она! Апоро добрая, она поймет, что по-другому нельзя… Бежать надо завтра, когда все уснут… Да, послезавтра будет поздно…
Он еще немного постоял, покряхтел и, сгорбившись, молча ушел. Больше Джон его не видел.
Уже в океане, когда Фату-Хива скрылась за горизонтом и катамаран с восходом солнца взял курс на архипелаг Паумоту, Апоро сказала:
— Он много плакал, ему плохо…
В одной только коротенькой юбочке из распущенных пальмовых волокон, простоволосая, она сидела на корме катамарана печально задумчивая и прекрасная, как русалка. Ей не было еще и двадцати.
Джон смотрел на нее, понимал, что все это не сон, живая правда, и он должен радоваться, благодарить бога и судьбу, а в груди что-то ныло, томило сосущей тоской…
Потом он вдруг с ужасом подумал, что на нем так нелепо, так глупо мог оборваться род Дэвисов, вся его трехсотлетняя история! Он ведь последний, последний из всех Дэвисов…
После всего, что случилось на Фату-Хиве, Джон покончил с профессией пирата навсегда. Добравшись до атолла Тикахау, где у него была одна из береговых баз, он вскоре вместе с Апоро и Томом отправился на Огненную Землю. Был там золотоискателем, зверобоем, затем купил небольшое китобойное судно и начал промышлять китов.
На Огненной Земле Апоро родила ему двух сынов, уже знакомого вам Джека и Ричарда. Том жил с ними до двадцати лет, потом уехал в Австралию.
В 1938 году Огненную Землю Дэвисы поменяли на Сан-Франциско.
Вторая мировая война забрала у Джона младшего сына. Ричард служил на американской подводной лодке, которую захватили японцы. Будучи в плену, он попал под атомную бомбардировку Хиросимы. Остался жив, но, вернувшись домой, умер от белокровия.
Рассказы Ричарда о Хиросиме и его безвременная смерть так потрясли Джона, что он, уже глубокий старик, пустился скитаться по свету в поисках места, где можно было бы укрыться на случай новой войны. Слово «война» для Джона стало символом всего, что он слышал от сына о Хиросиме. Оно таило в себе жуткий смысл той катастрофы, которая, отгрохотав за океаном, убила его Ричарда в родном доме. Это было страшнее и каннибальского плена, и всех былых пиратских сражений. Чудовищный смерч, одно видение которого несло в себе смерть.
Старик боялся за судьбу второго сына. Джеку тогда исполнилось пятьдесят шесть лет, но он только женился, и его молодая жена ждала первого ребенка. А вдруг снова посыплются с неба эти бомбы, вдруг упадут на Америку, на Сан-Франциско! Или опять их где-то бросят сами американцы, и неотвратимый бумеранг ударит по ним же, как ударил он по Ричарду и сотням, а может и тысячам, других американцев, которые вернулась из японского плена только для того, чтобы дома умереть.
Нет-нет, подальше от Америки, подальше от Сан-Франциско…
Как раз в то время между Аргентиной и Англией начался спор за право владеть Фолклендскими островами.
Открытый в 1592 году Джереми Дэвисом, этот субантарктический архипелаг, удаленный на двести шестьдесят миль к востоку от атлантической горловины Магелланова пролива, долго считался ничейным. Кроме самих Дэвисов, находивших иногда здесь убежище от правосудия и приходивших сюда в конце своей жизни, чтобы отдать тут последний якорь, Фолклендами никто не интересовался. Никому не были нужны эту сумрачные, холодные острова.
Только в 1763 году ничейную землю решила колонизовать Франция (авось пригодится). На берегу залива Баркли (остров Восточный Фолкленд), где стоит нынешняя столица архипелага Порт-Стэнли, французы основали небольшой поселок. Но через два года, разочаровавшись в своем новом приобретении, продали острова Испании.
В тот период в водах, отделяющих Фолклендский архипелаг от юго-восточного побережья Америки, действовала неуловимая эскадра пиратских бригантин под командой Дональда Дэвиса, правнука Джереми Дэвиса. Как и его прадед, Дональд охотился за богатыми испанскими кораблями, которые, следуя из портов Перу и Чили в Европу, проходили Магеллановым проливом.
Чтобы покончить с пиратским разбоем, испанцы намеревались создать на Фолклендах мощную военно-морскую базу. С другой стороны, им нужна была изолированная от внешнего мира территория, куда они могли бы ссылать неугодных лиц из мятежной Аргентины, население которой боролось с испанскими колонизаторами за свою независимость.
На месте бывшего французского поселка испанцы построили форт, портовые сооружения и заложили город. Скоро, однако, им все пришлось покинуть. Добившись наконец в 1816 году независимости, аргентинцы заставили Испанию уйти и с Фолклендских островов. Большую часть построек, напоминавших о недавней жестокой каторге (все строительство здесь велось руками ссыльных из Аргентины), они уничтожили, а сам архипелаг продали какому-то дельцу.
Затем, двумя десятилетиями позже, когда в Южном полушарии начинали развиваться китобойный промысел и добыча морского зверя, Фолкленды приглянулись Англии. На этих островах было выгодно разместить береговые промысловые базы.
Чтобы завладеть архипелагом, Великобритании не понадобилось никаких баталий. На Восточном Фолкленде вместе с двадцатью беглыми преступниками испанского происхождения и тремя женщинами, патагонской индианкой и двумя негритянками, жил англичанин, некий Генри Дженисон, бывший пират, не поладивший с Алексом Дэвисом — сыном Дональда Дэвиса. Дженисону дали королевский флаг, приказали поднять его повыше и бдительно охранять. На том вся процедура с организацией британской опеки над островами и была закончена. Архипелаг начали заселять англо-ирландские колонисты.
Потом, уже после второй мировой войны, в Буэнос-Айресе вдруг решили, что тот делец, которому правительство Аргентины полтора века назад продало Фолкленды (аргентинцы называют их Мальвинами), был аргентинским подданным. А коль так, Аргентина обязана встать на его защиту. Конечно, он давно умер, и никому не известно даже его имя. Может быть, он вообще не был аргентинцем. Аргентинское государство как таковое в ту пору только создавалось. Острова мог купить чилиец, или уругваец, либо испанец. А если все же аргентинец? Значит, престиж Аргентины был ущемлен. Посягнув на частную собственность гражданина суверенной страны, Англия тем самым совершила недружественный акт не только по отношению к этому человеку, но и к его отечеству. Фолклендские острова должны быть возвращены Аргентине. Тем более что они находятся в ее территориальных водах.
Когда Англия в 1833 году подняла над Фолклендским архипелагом королевский флаг Великобритании, как-то оправдывать свои действия она вряд ли собиралась. Британская империя была сильнейшей державой мира. Кто ей мог перечить? Да, но ничто в этом мире не вечно. После второй мировой войны силенок у великого Альбиона заметно поубавилось, и ему уже не оставалось ничего другого, как копаться в архивной пыли и доказывать, что если в истории Фолклендских островов и было какое-то вероломство, так только со стороны Франции. Она-де незаконно захватила и так же незаконно продала Испании архипелаг, на который имела юридическое право лишь Англия.
И снова, спустя три с половиной века, на свет всплыло давно забытое имя Джереми Дэвиса, или Джона Фредерика Дэвиса. Некогда проклятое, теперь оно зазвучало как самый веский аргумент в утверждении прав Великобритании на Фолклендский архипелаг. Разве Дэвис не был англичанином? Так кому же, кроме Англии, должно принадлежать его открытие?
— То есть как это кому? — вознегодовали в Буэнос-Айресе. — Разумеется, Франции!
Насколько известно, задолго до открытия Фолклендского архипелага английский королевский суд приговорил пресловутого Джереми Дэвиса, или Джона Фредерика Дэвиса, к виселице. Следовательно, признать его, Джона Фредерика Дэвиса, гражданином Великобритании никак нельзя, ибо лицо, осужденное на смертную казнь, по всем былым и ныне существующим в мире законам, в том числе по законам Великобритании, никаких прав гражданства не имеет. Не могло быть таких прав также у других членов команды «Блэк дэз», поскольку означенная бригантина являлась кораблем не каперским[4], а пиратским. Пираты же во всех странах Старого и Нового Света как теперь, так и в минувшие времена стояли вне закона.
До момента открытия Фолклендского архипелага на борту «Блэк дэз» был только один человек, чьи права гражданства оставались в силе, — французская графиня Тереза де Бурже. Позже, став женой разбойника Дэвиса, она их утратила, так как сама, несмотря на свое благородное происхождение, превратилась в жестокую пиратку, известную под кличкой Белокурая Бестия. Но тогда, в день открытия архипелага, она, графиня Тереза де Бурже, еще являлась полноправной гражданкой Франции, ибо на разбойный корабль попала по принуждению и находилась на нем в качестве пленницы. Следовательно, юридически только Франция может сказать, что Фолкленды открыл ее гражданин. Поэтому французская колонизация названных островов была обоснованной и законность франко-испанской торговой сделки по перепродаже архипелага не вызывает сомнений. Что же касается Аргентины, то в юго-восточной части Америки, куда прилегают и Фолклендские острова, она законная наследница Испании. Как бывшая колония, сбросившая иго тирании.
Таким был меморандум аргентинских юристов в ответ на архивную справку англичан. В Лондоне, однако, не растерялись.
— О да, конечно, — вежливо согласились ученые-юристы Великобритании. — Если бы Джереми Дэвис, или Джон Фредерик Дэвис, был осужден на смертную казнь в полном согласии с буквой и духом закона, то, вероятно, признать его гражданином Великобритании действительно было бы невозможно. Но, как показывают судебные документы того времени, в ходе следствия и самого суда по «делу» Джереми Дэвиса, или Джона Фредерика Дэвиса, было допущено совершенно недопустимое нарушение основного процессуального порядка, принятого в британском судопроизводстве как теперь, так и в то время.
Есть основания полагать, что обвиняемый Джон Фредерик Дэвис, он же Джереми Дэвис, даже не вызывался в суд.
Можно согласиться с тем, что обеспечить личное присутствие обвиняемого на процессе по каким-то причинам не представлялось возможным, однако уведомить его о дне судебного разбирательства суд тем не менее был обязан или, если не было и такой возможности, сделать соответствующую оговорку в материалах следствия и протоколе процесса, то есть указать мотивы, почему обвинительный акт не был своевременно предъявлен обвиняемому и почему к «делу» не приобщена его расписка о получении предусмотренного законом уведомления. Между тем никаких указаний на то, что эта важнейшая процессуальная форма была выполнена, суд не оставил и, как показывают документы, вообще не придал ей значения.
Далее. Британское процессуальное уложение гласит: если на судебном процессе выступать в защиту своих интересов обвиняемый не может или не желает и никто иной его интересов не представляет, судебная коллегия в таком случае обязана назначить ему адвоката по своему усмотрению. Судьи же и этот пункт законодательства игнорировали. Весь судебный процесс, как видно из его протоколов, велся односторонне, то есть с участием государственного обвинителя, но без представителя адвокатуры.
Исходя из вышеизложенного, признать судебное разбирательство объективным нельзя, а значит, нельзя считать объективным и заключительный вывод судебной коллегии, осудившей Джереми Дэвиса, или Джона Фредерика Дэвиса, на смертную казнь. Всякий же судебный приговор, который вынесен без достаточно объективного судебного разбирательства, подлежит, как того требует законодательство Великобритании, пересмотру в новой компетентной инстанции, причем эта последняя должна иметь в виду следующее: если с момента совершения преступления минуло более двадцати лет, за давностью срока оно становится уголовно ненаказуемым, но срок давности не может быть препятствием для отмены судебного приговора, если обнаружится его несоответствие букве и духу закона.
Пересмотр всякого судебного «дела» невозможен лишь в том случае, если государство, — чьим данный суд являлся, упразднено и более нет никаких новых государственных образований, которые признавали бы себя его преемниками в вопросах законодательства и правопорядка. Однако с Великобританией ничего подобного не произошло. Следовательно, ее нынешние судебные органы по духу и закону являются продолжателями тех юридических институтов, при которых был осужден Дэвис, и они, нынешние судебные органы, вправе заново рассмотреть «дело» Дэвиса, с тем чтобы исправить ошибку, допущенную их предшественниками.
Короче говоря, через три с половиной века некогда осужденный на смертную казнь пират был полностью оправдан и восстановлен во всех гражданских правах. Этим и решил воспользоваться Дэвис, теперешний, узнав о реабилитации своего предка из газет.
Предъявив правительству Великобритании две тетради дневников Терезы де Бурже, старик доказал, что является прямым потомком знаменитого Джереми, и вместе с тем дал лишнее подтверждение, что Фолкленды действительно были открыты англичанами.
Британскому правительству было выгодно поселить Дэвиса на Фолклендах (живой потомок первооткрывателя), и оно по дешевке продало ему необитаемый в ту пору Нью-Айленд.
У Джека и Агнес здесь родились Энни и Редмонд. И вот теперь, когда долгожданные внуки выросли, в семью Дэвисов пришло новое горе.
От матери Редмонд и Энни слышали рассказы о Большой земле, о том, неизвестном юным Дэвисам, мире, где живут тысячи и миллионы таких же, как они, ребят. Мать научила их грамоте, и они зачитывались теми немногими книгами, которые Агнес привезла с собой на остров. Жизнь на Нью-Айленде стала для них невыносимой. Они требовали от отца и деда покинуть осточертевший им остров и ехать куда угодно, лишь бы там были люди. Но слушать их дед, а он главный в семье, не желал.
Дважды в год к Дэвисам приходил рефрижератор из Монтевидео, забирая шерсть и мясо, оставляя заказанные товары и почту — комплекты журнала «Иллюстрированные лондонские новости». Редмонд и Энни задумали бежать на этом судне в Уругвай. Но у них ничего не вышло. Подвела Энни, влюбившись в матроса, который соблазнил ее и сразу же стал над ней насмехаться. Разгневанный отец девушки прогнал с острова всю команду рефрижератора.
Спустя девять месяцев Энни родила дочь и успокоилась, Редмонд же оставаться на острове не хотел ни за что. Уехать ему не позволили, и он перерезал себе вены.
Джону, когда я с ними встречался, было сто три года, Джеку — семьдесят четыре. Редмонд — единственный продолжатель фамилии. Когда Джон поселился на Нью-Айленде, он думал о внуках, о будущем поколении Дэвисов. Именно стремление сохранить род Дэвисов, а не только забота о стареющем Джеке, дало ему силы дьявольским трудом освоить суровый субантарктический остров. Теперь потерять Редмонда для него значило потерять все, во имя чего он жил и трудился.
Отчаянный поступок внука заставил старика переоценить, заново переосмыслить все, что до сих пор казалось ему бесспорным. Помню, на прощанье он сказал мне:
— Я был глуп, Алек, увел свою семью из мира людей, чтобы спрятаться от их безумия, но люди должны жить среди людей, жизни без жизни не бывает. Да, Алек, я это понял. — Он протянул мне глиняную индейскую трубку — трубку Джереми: — Возьми, Алек, ты подарил нам свою кровь и теперь на эту трубку имеешь право…
По рытвинам его морщин стекали слезы — слезы зябнущего старика. Выцветшие от долгих лет белесые глаза смотрели с угрюмой тоской.
…Трубка пирата — одна из самых дорогих моих реликвий. Всякий раз, когда беру ее в руки, снова вижу себя на Фолклендах, у Дэвисов. Там ли они еще, не знаю. Старик говорил, что уедут. К людям…
Десятый выстрел
Лошади шли неровно и тряско. Без седла держаться на костистой хребтине коняги было мучением, но, как утверждал Мартинсен, ни одна фолклендская лошадь к седлу не приучена.
Пытаясь как-то приноровиться к непривычному путешествию, я уже не рад был, что дал себя уговорить на эту поездку. После первого солнечного дня погода на Восточном Фолкленде — самом большом острове Фолклендского архипелага — установилась мерзкая. Шквальные ветры и косой секущий дождь. Ненадолго стихало, но тогда валил мокрый серый снег. Даже в автомобиле, если бы он мог тут пройти, ехать по голым камням и зыбким торфяникам — удовольствие невеликое. И неловко было перед доктором Слэсаром — карантинным врачом, который встречал наш корабль в Порт-Стэнли — главном фолклендском порту и единственном городе архипелага. Потом я был у него в гостях и узнал, что он изучает русский язык. Слэсар рассказывал мне о лондонских толстосумах, приезжающих иногда на Фолкленды ради экзотической охоты на диких быков. Рассказывая, он иронически улыбался, но за легкой иронией чувствовалось презрение. Я вполне разделял его мнение, а теперь сам заражался той же пагубной страстью.
Мартинсен, не слышавший наших разговоров о заезжих миллионерах, мою нерешительность истолковал по-своему.
— Говорю вам, не пожалеете, — сказал он убежденно. — Маленько помокнем, однако интерес обещаю.
Я не устоял и согласился, пошел к губернатору просить разрешения на право охоты. Собственно, меня не столько интересовала охота, как возможность подольше побыть с Мартинсеном.
Мы познакомились у Слэсар а. Представляя его, доктор с улыбкой сказал:
— Я думать, вы получать приятный сюрприз.
Оказалось, степенный старый норвежец второй на Фолклендах знаток русского языка. И знает его куда совершеннее Слэсара. Певуче окая, неторопливо округляет слова, как истый помор.
На далеком русском Беломорье Мартинсен родился и вырос. Расстался с ним сорок лет назад, но языка не забыл.
Здесь, на задворках планеты, рядом с «худшей из окраин мира» — Огненной Землей, где русские люди, судя по всему, никогда не бывали, нашего поморского говора для меня было достаточно, чтобы сразу проникнуться к старику симпатией. И внешность его понравилась. Высокий, жилистый, с мощными, как у пахаря, руками. Побуревшее, обтянутое дубленой кожей лицо продолговато, с коротко подстриженной, некогда рыжей, но уже сильно поседевшей бородой. Крупный прямой нос и спрятанные под нависшими широкими бровями глаза могли бы придать этому лицу угрюмую суровость, но в прозрачной голубизне глаз светится лукавая стариковская мудрость, озаряющая его улыбку спокойным добродушием. Только узкая и суховатая нижняя губа говорит, что за видимым добродушием кроется твердый характер и умение быть хладнокровным.
На охоту он ехал в сером суконном кепи, зеленом брезентовом плаще, кожаных брюках и огромных сапожищах. Я смотрел на него и радовался. Люблю не сломленных житейскими бурями стариков. Общаясь с ними, всегда чувствуешь тихое счастье умиротворения. Даже в этой унылой пустоши.
Должно быть, весь Восточный Фолкленд сложен из сизовато-белого кварцита и серого базальта, на которых растут только мхи, а на мхах — вереск, напоминающий заячью капусту, лопух, разбросанные там и сям бурые купы узколистной осоки да жесткая, как осенний порей, трава.
От центральной части острова, где над холмистой равниной на несколько сот метров возвышается разломанный конус горы Асборн, в разные стороны тянутся похожие на высохшие русла рек застывшие каменные потоки. И удивительно! — нигде нет валунов. Камни угловаты, как будто неведомая конвульсия природы раздробила их только вчера. Вода не обтачивает обломки, она журчит где-то глубоко под ними.
Пространство между каменными потоками занято торфяниками. Одно болото соседствует с другим. Мы ехали по склону пересекающего остров горного хребта, но и здесь ноги лошадей проваливались в пружинистой торфяной массе, образовавшейся из плотных слоев мха. Бедные животные были вынуждены идти все время рысью — так они меньше вязли в болоте. Но их часто приходилось придерживать, чтобы объехать очередную колонию диких гусей, лениво чистивших перья и не обращавших на нас никакого внимания. Дорогу нам не уступали даже обычные пугливые кролики. Тысячами сидели они на склонах хребта, так тесно прижавшись друг к другу, что их черно-белый мех порой можно было принять за растянутую на земле шкуру фантастического зверя.
В Порт-Стэнли мне говорили, что кролики на Восточном Фолкленде стали бедствием. Двести лет назад их завезли сюда французы. Всего три пары, одна из которых сразу погибла. Кролик — зверек североафриканский, теплолюбивый. Мало кто надеялся, что в здешнем климате они выживут. Но оставшиеся две пары скоро дали потомство и начали размножаться с невероятной быстротой. Единственным нападавшим на них хищником была волкообразная фолклендская лисица. Но лисиц в конце прошлого века люди уничтожили, а хищные птицы, никогда раньше не видевшие кроликов, вероятно, принимали их за нечто несъедобное. В полной безопасности африканские грызуны множились, как саранча. Сейчас колонисты острова дважды в год устраивают на них облавы, но ненасытное кроличье стадо не уменьшается. Их сотни тысяч. Людям приходится вести с ними постоянную войну, чтобы сохранить пастбища для овечьих отар и дикого скота.
Природа Восточного Фолкленда поразительна. Скудная и, казалось бы, мало на что пригодная растительность дает жизнь миллионам птиц и животных. Кроликами, полуодичавшими овцами, гусями и утками усеян весь остров. Взрослая субантарктическая утка весит килограммов десять, а белый скалистый гусь тянет порой на пуд. Они настолько жирные и ленивые, что ловить их можно руками.
Для хищных сов и стервятников здесь рай. Я видел, как сова, оседлав белоснежную гусыню, пожирала её живьем. Судорожно вздрагивая, гусыня грузно топталась на месте, никак не сопротивляясь. Величественный гусак стоял рядом, меньше чем в полушаге, но участь подружка его ничуть не трогала. Горделиво важный, он смотрел на кровавую драму, словно в пустоту.
— Окаянный! — ругнулся Мартинсен, вскидывая дробовик.
Грянул выстрел, и три птицы повалились замертво, сова с гусыней и гусак.
Я повернул было лошадь к ним, но старик остановил меня:
— Пускай грифам на корм. Я этого дуралея наказал. И то: сову прогнать не мог. Сколько раз замечаю: гусыня кидается оборонять гусака, а он, подлец, ни боже мой.
Не отъехали мы и двухсот шагов, как в мглистом сером небе показались грифы. Один, потом еще три. Из всех птиц на свете эти хищники, пожалуй, самые гадкие. Завшивлены, с морщинистой, как у старца, облезлой шеей, на которую насажена несоразмерно огромная пучеглазая голова. На живую дичь они обычно не нападают, питаются падалью и тем, что остается от других хищников или охотников. Поэтому от грифа всегда веет трупным холодом. Отвратительная птица. Но в небе она прекрасна. Широко распластанные могучие крылья кажутся неподвижными. Полет степенный, плавный и в то же время стремительный. До сих пор никто не может объяснить, как они находят добычу. Ученые считают, что у большинства видов грифов нет обоняния, добычу они ищут только с помощью зрения. Но какие нужно иметь глаза, чтобы разглядеть лакомый кусок за много километров! На Восточном Фолкленде грифы гнездятся на вершине горы Асборн. По прямой линии до нее было километров пять. Но они появились немедленно. Можно, конечно, предположить, что эти четыре птицы сидели где-то неподалеку. Однако они летели именно от Асборн, и Мартинсен уверял меня, что местные грифы на другие возвышенности никогда не садятся. И он не видел, чтобы когда-нибудь они кружили в воздухе, как высматривающие добычу стервятники. Фолклендский гриф летит только к цели, заранее зная, где его ждет обед. Поест, потом возвращается на свою скалу и несколько суток сидит на одном месте, переваривая пищу. Знатоки говорят, что грифы едят не чаще одного-двух раз в неделю. Больше им просто не нужно.
Неожиданно хребет рассек далеко врезавшийся в остров морской залив. Объезжая его, мы ехали каменистым склоном, буквально пробиваясь сквозь толпы золотоволосых пингвинов, или, как их еще называют, пингвинов-ослов. Ослами их окрестили не зря. Упрямцы редкие. Как и вся фолклендская живность, уступить дорогу ни за что не желают. Напротив, бросаются в атаку. Взъерошив свои золотистые хохолки, бесстрашно встают навстречу лошади и с размаху бьют ее клювами по ногам. Лошадь при этом дико храпит и рвется понестись вскачь.
Одну такую колонию пингвинов я видел в окрестностях Порт-Стэнли. Хотя, плавая в Антарктике, мне довелось насмотреться разных пингвиньих царств, от аборигенов Восточного Фолкленда трудно было оторвать глаз. Они совершенно особые. Главная черта пингвиньего характера — любопытство. Так все полагают, и так оно есть в самом деле. Но фолклендских пингвинов это не касается. Любопытства у них нет ни на грош. Но коварства предостаточно. Злобно шипят на любую птицу, которая проходит мимо, и обязательно стараются ее клюнуть. А когда она оглядывается, делают вид, словно ничего не произошло. Сидят в гнездах так, будто сидели в этой позе много часов: я не я и хата не моя. Вдруг вскочат и без всякой видимой причины с ожесточением бьют друг друга крыльями, долбят клювами, шипят, свистят. Затеют такую потасовку, что перья летят, потом так же внезапно разойдутся. Кроткие, невинные, безмятежно спокойные. Один из них походя может цапнуть детеныша другого и тут же, доковыляв до гнезда, самозабвенно начать ласкать своего отпрыска. И перья клювом ему чистит, и крыльями гладит. Прямо тебе человечья нежность. Помилуйте, разве такая заботливая мамаша способна кого-то обидеть?
Гнездятся они на прибрежных скалах, а материал для гнезд берут у самой кромки моря — выброшенные на берег водоросли. Носить их оттуда трудно и хлопотно. Куда легче стащить пучок-другой у соседа. Потихоньку стянет, подомнет под себя — и быстренько прихорашиваться, как будто только этим и занимался. Если же сосед заметит и негодует, воришка таращится на него с искренним изумлением: кто я? Да вы с ума сошли!
Во всем же остальном они очаровательны, если не считать, конечно, воинственного упрямства. Они все-таки заставили нас спешиться и прокладывать себе и лошадям дорогу кнутами. Я, правда, не могу сказать, что кнут действовал всегда успешно.
Обогнув преградивший нам путь залив, мы круто повернули влево и вскоре подъехали к подножию горы Асборн, а еще через некоторое время — к тому самому холму Развалин, у которого Мартинсен обещал охоту и отдых. Холм и впрямь походил на развалины. Словно разрушенный древний замок возвышался над обширной, километров шесть по диаметру, котловиной, густо поросшей осокой, лопухами и вереском.
Перед нами расстилался лучший уголок всего Восточного Фолкленда. На диво тучная растительность, два небольших пресноводных озера и тишина. Полдня, пока мы ехали от Порт-Стэнли, жгучий ветер пронизывал нас. Здесь же только дождь слегка осоку колышет. Не случайно эту затишную долину выбрали себе для пастбища дикие лошади и дикий рогатый скот. Тех и других мы увидели, едва спустившись в котловину. Скот был далековато, а лошади метрах в пятистах. Табун голов на триста, чалой и серо-стальной масти. Очень забавные лошадки, чуть крупнее ослов, но, как и полагается настоящим мустангам, более изящные. Этакие грациозные скакунчики.
Наше появление их насторожило. Подняв головы, все, как по команде, повернулись в нашу сторону.
Моя Кейси, до сих пор утомленно спокойная, вдруг поскакала во весь опор. Еще бы минута, и она бы сбросила меня на землю, но я успел схватиться за уздечку и повиснуть на гриве. Туго стянутые удила сначала было урезонили ее, но лишь до того момента, когда раздалось призывное ржанье в табуне. Кейси ответила на него таким выбрыком, что я не пойму, как мне удалось не выпустить из рук уздечку. Только это и спасло мою конягу. Дикие жеребцы в табуне ее бы неминуемо загрызли. Даром что невелики ростом, их — табун.
— Ич-ча, вольницу почуяла, — одобрительно глядя на меня, сказал подъехавший Мартинсен. — она их сколько, дикарей!
Сняв с плеча ружье, он дважды выстрелил поверх голов табуна. Что произошло потом, я и сейчас еще вспоминаю с невольной дрожью. Табун будто вихрем взметнуло. Множество коней, давя друг друга, неслись как одно многоголовое и многоголосое чудовище. Сотни копыт спрессованной лошадиной массы на своем пути все словно сбривали. Казалось, за табуном летело испепеляющее котловину пламя. Только что там стояла высокая и густая, как камыш, осока, и вот уже черно. Не приведи господь, если бы вся эта лавина повернула к нам!
Поняв, о чем я думаю, Мартинсен улыбнулся:
— Который год пужаю, непременно от выстрела бегут. На выстрел из зверья один медведь идти горазд, по Северу помню. А дикий конь, он пужлив, не пойдет.
— Вытоптанного жаль, — сказал я, смутившись.
— Осоке это ничего, омолодится. Пужать вольницу надо, Кейси-то она как взноровилась. Опасно, когда табун поблизости.
Стреножив коней, мы отпустили их пастись, а сами поднялись на холм, к базальтовым развалинам. У Мартинсена здесь оказалась обжитая пещера, вернее просторный грот, отлично приспособленный для временного охотничьего приюта. Пол в несколько слоев покрыт бычьими шкурами. Из таких же шкур сделан полог у входа. Чтобы они меньше вбирали влагу и не разлагались, Мартинсен обработал их золой с солью и сшил по две вместе мездрою внутрь.
У потолка два фонаря «летучая мышь». На стенах развешаны плетенные из сыромятной кожи лассо, широкие, со стальными кольцами, лошадиные подпруги и соединенные полутораметровыми кусками лассо металлические шары — боласы. Тут же висят коса, зачехленный в брезент топор, всякая мелочь.
Над вырытым посередине грота очагом тренога с законченным ведерным котлом. Рядом, у стены, на продолговатом плоском камне подобие кухонного стола. Горка оловянных мисок, чашки, заварной и обычный чайники, керамические баночки с солью, перцем, чаем, разными пряностями.
В глубине грота — укрытые шкурами спальные мешки, охапка сухой осоки, канистра с керосином и порубленные, как дрова, бычьи кости. Это и есть фолкендские «дрова». На побережье топят выброшенными морем китовыми ребрами, а в центральных районах острова — скелетами погибших крупных животных. Немного осоки на растопку — кости горят так же жарко, как сухие березовые дрова.
Зажигая фонари, Мартинсен поглядывал на меня с хитроватой усмешкой: мол, ну, что скажешь? В Порт-Стэнли и в дороге о гроте он ничего не говорил, явно хотел поразить меня неожиданностью. Сказал, однако, нарочито буднично;
— Сумеречно тут, при свете оно лучше. Располагайтесь, я пока костерок разведу, обогреемся маленько.
После долгой тряски на хребтине лошади я с удовольствием растянулся на мягких бычьих шкурах. Так вот за что лондонские миллионеры выкладывают десятки тысяч фунтов стерлингов. На их языке это называется путешествием в глубь веков или бегством от цивилизации. Мартинсену, который всегда их сопровождает на охоту, они, понятно, платят гроши. Бешеных денег стоит дорога от Лондона до Порт-Стэнли и лицензия на убой дикого быка. Не знаю, как губернатор архипелага разрешил мне воспользоваться всей этой экзотикой бесплатно. Реклама, наверное, прельстила. Первый советский литератор на Фолклендах, что-нибудь да напишет.
Стадо дикого скота на Восточном Фолкленде уникальное. Теперь, когда вся наша планета давно обжита, оно, пожалуй, единственное в мире.
Лет триста назад это были обыкновенные домашние быки и коровы, завезенные сюда вместе с лошадьми из соседней Патагонии. Постоянного населения на острове в то время еще не было. Скот завезли какие-то моряки, которые к Фолклендам, судя по всему, больше не возвращались. Почти столетие патагонские новоселы оставались без присмотра. Скорее всего, о них вообще забыли. Когда колонисты, приехавшие осваивать Восточный Фолкленд, высадились на его берегах, они были поражены, увидев на заброшенном в океане необитаемом клочке суши огромное количество диких животных, похожих на домашний скот. Правда, на домашних коров и лошадей они походили не совсем. Лошади были чересчур уж мелкие и словно обутые в галоши. Мягкая торфяная почва изменила у них форму копыт. Они стали намного длиннее и шире, чтобы лошадь больше имела опоры. Очевидно, по этой причине уменьшился и вес коней. Рогатый же скот в своих размерах значительно увеличился. Он более спокойный, не носится галопом, как лошади, по острову и на торфяниках чувствует себя нормально. Суровый климат Субантарктики его только закалил, а скудные на первый взгляд пастбища оказались питательнее патагонских.
Дикие лошади колонистов не заинтересовали. Для работы они не годились, слишком слабые. И мясо несъедобное. Зато жирный рогатый скот был как дар небесный. Его истребляли сотнями и тысячами. В конце концов от былого множества осталось одно стадо голов на семьсот, которые спас побывавший на острове Чарлз Дарвин. Великий натуралист убедил губернатора Порт-Стэнли, что когда-то завезенный из Патагонии скот на Фолклендах с течением времени настолько видоизменился, что сейчас представлял собой ценную субантарктическую породу. Путем естественного отбора сама природа создала то, на что ученым понадобились бы десятки лет. И неизвестно, получился ли бы такой же блестящий результат.
Бездумное истребление животных прекратили. Диких коров начали приручать, но большую часть стада, как советовал Дарвин, решили не трогать. Однако скоро заметили, что число оставленных на воле животных время от времени резко сокращалось. Потом выяснилось, что виноваты во всем быки.
Между матерыми и молодыми дикими самцами непрерывно происходят жестокие схватки, которые часто приводят к массовой гибели молодняка. Но это полбеды. Главное несчастье в другом. Старые самцы почему-то агрессивно настроены против коров на сносях. Если корова перед отелом не успеет отбиться от стада и принести детеныша в укромном месте, она и теленок обречены.
Когда дикие стада бродили по всему острову, коров гибло больше, но и больше выживало. Поэтому потери так или иначе восполнялись и общее количество скота увеличивалось. В одном же, сравнительно немногочисленном, стаде гибель самок невосполнима. Вот почему была разрешена охота на быков. Она необходима. Самцов всегда рождается больше, чем самок. Быков в стаде слишком много, и, если бы не планомерная охота на них, стадо постепенно могло бы выродиться.
Промысел этот такой же опасный, как охота на медведя с одним только ножом. По старой традиции фолклендцы быка никогда не стреляют. Оружием служат те металлические шары, которые висели в гроте, лассо и нож. Охотник садится на специально обученную лошадь и сначала старается отбить от стада намеченного быка. Почуяв опасность, самец немедленно бросается на всадника. Но конь бежит быстрее. Охотник «водит» быка по кругу и, улучив момент, заходит к нему с тыла. Тут-то и начинается сама охота. В считанные секунды, пока животное не повернулось навстречу лошади, охотник должен метнуть к его задним ногам боласы. Это те самые секунды, когда бык разворачивается. Метко брошенные шары, ударившись о его ноги, на развороте схлестываются, и бык оказывается спутанным. Не мешкая ни мгновения, охотник набрасывает на его рога лассо и сразу же соскакивает на землю, предоставив остальное лошади. Без всадника она в диком страхе рвется вперед. Крепко привязанное к подпруге лассо натягивается, как тетива. Бык пытается освободиться от лассо и тоже устремляется вперед, но в порыве прыжка падает на спутанные задние ноги. В этот момент охотник одним ударом ножа в спинной мозг поражает его, как молнией.
Все происходит быстрее, чем я здесь рассказал. Напряжение во время охоты огромное, а риск просто не поддается описанию. Малейшее неверное движение — и гибель охотника и его лошади неизбежна. Она грозит им, уже когда быка отбивают от стада. Нужно быть великолепным знатоком своего дела, чтобы не навлечь на себя гнев других самцов. Потревоженные быки тотчас готовы к нападению. И, как ни резва твоя лошадь, тебя ей не унести. Быки сильнее и в бешенстве способны преследовать часами. Никакая лошадь такой погони не выдержит, упадет.
Я бывал в Испании на корриде, слышал исступленный рев охваченной ликующим восторгом толпы, видел все одуряющие корридные страсти. Но победить разъяренного и все же домашнего быка совсем не то, что выйти один на один с могучим вольным дикарем. Тореадор может ошибиться и спастись. Охотник же на диких быков ошибается только однажды.
Пока мы чаевничали в гроте, я думал о предстоящей охоте и невольно поддавался все большей тревоге. Вдруг Мартинсен промахнется боласами либо метнет их секундой раньше или позже? Я ничем не смогу помочь. Мы даже не взяли с собой карабин. Дробовик против быка — детская игрушка.
Прямо признаться в своих опасениях я, конечно, постеснялся, сказал, что мне все очень понравилось, сама поездка по острову, этот грот, дикие лошади. Материала для репортажа вполне достаточно, так что охотиться на быка вовсе не обязательно. Я совершенно удовлетворен. Жаль только, что мы оставили грифам того гуся, сейчас бы он был кстати.
Старик глянул на меня с удивлением:
— Ехали-то для какого резону?
— Так ведь быка мы все равно не увезем, опять грифам на корм.
— Известно, грифам. Кому же еще он надобен? Откушать маленько да рога увезти. Для интересу, как говорится. В том месяце мы с лондонскими гостями тут пятерых уложили, окаянных. Голов сорок еще повалить следует, губернатор не позволяет, лицензии продать надеется.
— Что, мало покупателей?
— Свет-то сюда не близкий. С другой стороны, деньги солидные. Не всякий интересу ради выложит.
— Охота больно уж рискованная.
Как мог, я скрывал свое беспокойство, но Мартинсен понял меня, улыбнулся:
— Впервой оно обязательно рискованно. Вы с отдаления понаблюдаете, я за часок управлюсь. — С этими словами он встал, начал собираться. Деловито, спокойно, как будто впереди не было ничего, достойного хотя бы легкого волнения. — Когда поедем к стаду, Кейси вашу попридержите, необученная она. Случаем чего, к гроту скачите, сюда они не пойдут.
Как проходит охота, я уже рассказал, повторяться не буду.
Вечером мы ели бифштекс по-фолклендски — зажаренное на раскаленном камне бычье мясо, вырезанное из туши вместе со шкурой.
Ночь. Грот. Костер. Шелестящий шум ливня. Где-то рядом — что для планеты двести шестьдесят миль! — Огненная Земля.
Мы лежали у очага на бычьих шкурах. Мартинсен рассказывал о себе.
Как я уже говорил, родом он с берегов Белого моря. Учился там в русской школе и потом немного плавал матросом на советской зверобойной шхуне. В конце двадцатых годов большинство норвежских семей, не имевших советского подданства, уехали в Норвегию. Микалу и его старшему брату Мариусу удалось устроиться на китобойную флотилию. Мариусу повезло, в 1934 году он уже был капитаном-гарпунером. К тому времени, закончив промысловое мореходное училище, получил диплом штурмана дальнего плавания и Микал. Мариус взял его к себе на корабль старшим помощником, чтобы затем помочь ему стать гарпунером.
Китобойный промысел в Норвегии всегда был главным занятием значительной части всего мужского населения. Как признанные специалисты, норвежцы плавали на многих китобойных флотилиях мира. Быть капитаном-гарпунером для моряка значило сделать самую подходящую карьеру. Никто в море столько не зарабатывал, как гарпунеры. Но выбиться в эту китобойную элиту было не просто.
В период между первой и второй мировыми войнами китобойный флот с каждым годом сокращался — редели стада китов. Меньше оставалось флотилий, труднее было найти работу. Поэтому, стараясь избавиться от наплыва новых конкурентов, старые опытные китобои создали национальный Союз гарпунеров, который добился права выдавать дипломы и ведал устройством молодых специалистов на работу.
Раньше гарпунером мог стать всякий, кто хорошо стрелял из гарпунной пушки и знал повадки китов. Теперь же нужно было иметь еще и звание капитана. К экзаменам на получение диплома допускался лишь тот, кто выплавал необходимый по морским законам капитанский ценз, занимал на китобойном судне должность не ниже старшего помощника капитана и внес в кассу Союза гарпунеров денежный взнос, равный своему шестимесячному заработку. Но успеха все это не гарантировало.
Перед сдачей экзаменов полагалось всего пять тренировочных выстрелов. Потом давали еще десять выстрелов, которыми нужно было добыть десять китов. Один промах — и экзамены переносились на следующий год. Так можно было испытывать себя сколько угодно и никогда не стать гарпунером.
За выполнение всех условий формально отвечал капитан китобойца, но особого контроля с его стороны не требовалось. На одном судне экзамены сдавали два человека, а вакансию гарпунера в случае успеха в ближайшем сезоне обещали только одному. Кто окажется лучшим. Конечно, они следили друг за другом во все глаза. Когда один стрелял, пушку ему заряжал его соперник.
Драконовский порядок экзаменов Микала не смущал. Два года плавая старшим помощником Мариуса, он основательно присмотрелся ко всем его гарпунерским секретам. Стрелять ему, правда, не приходилось. Допускать к пушке тех, у кого не было гарпунерского диплома, капитану строго запрещалось. Нарушив запрет, Мариус рисковал бы потерять работу. Но теоретически он подготовил Микала неплохо. Получив разрешение сдавать экзамены там, где последнее время плавал, Микал уже отлично знал пристрелянность пушки, выгодную для нее дистанцию, угол стрельбы и многое другое, что обычно известно только опытному гарпунеру, изучавшему свою пушку и судно не один год.
Еще до выхода в рейс Союз гарпунеров, заручившись согласием управляющего флотилией, назначил экзамены на пятнадцатое февраля. Февраль в Антарктике — месяц штормов. Но день, против правил, выдался роскошный. Залитый солнцем океан лучился, как тихое озеро. Никакой качки, и по всему горизонту фонтаны китов.
— Море сулит тебе удачу, Микал, — усмехаясь в курчавую шкиперскую бороду, сказал Мариус по-русски. Они стояли на ходовом мостике, и он не хотел, чтобы их понял рулевой. — Лысый просится стрелять первым, погоду, пес, упустить боится. И пускай, не гонись за жребием. Поторопится и промажет, а от тебя уступка, козырь лишний. И мне карта, не страстился по-родственному.
Мариус не любил нечестной игры. Как бы он ни болел за брата, это еще не давало ему повода для вражды к его сопернику. Но соперником Микала был Вильян Паулсен — долговязый, в двадцать восемь лет уже совершенно лысый парень, которого боялась и молча ненавидела вся команда китобойца. Говорили, он не то племянник, не то какой-то кузен главного штурмана флотилии. Иначе его, молодого человека, едва успевшего выплавать капитанский ценз, никто бы не прислал на судно дублером капитана. Получить такую должность на норвежском китобойном флоте было верхом возможного. Дублерами капитанов могли плавать только инспекторы Союза гарпунеров, чье присутствие на кораблях всегда вызывало недовольство. Будучи штатным членом экипажа, инспектор тем не менее никогда не стоял вахту и чаще всего вообще не занимался на судне никаким полезным трудом. Все его обязанности сводились к тому, чтобы собственной персоной поддерживать влияние Союза. А платили ему почти столько же, как капитану, — в четыре раза больше, чем матросу первого класса. Это всех задевало, потому что доля инспектора шла из общего пая команды.
Для инспектора Союза гарпунеров Вильян Паулсен был слишком молод, но работать он тоже не желал. Взял на себя роль добровольного церковного проповедника и только улыбался, когда Мариус весьма прозрачно намекал ему, что деньги на промысле проповедями не зарабатывают. Улыбку Паулсена знала вся флотилия. С его узкого, обрамленного жиденькой бородкой лица не сходила гримаса святоши, а в прищуренных синих глазах высокомерно блестела наглость. Все это видели, и радости в его обществе никто не испытывал. Но проповеди все же слушали. Никому не хотелось иметь дело с родственником главного штурмана. Для увольнения с флотилии могла послужить причиной любая придирка. Доносов Паулсена боялся даже Мариус.
Лишь однажды терпению команды, казалось, наступил предел.
Закончив дневную охоту, «девятка» с шестью финвалами на буксире шла к флагману сдавать добычу. Внезапно разыгрался снежный ураган. Он захватил китобоец милях в сорока от китобазы.
Антарктика полна неожиданностей. Штиль, тишина, вдруг — резкий порыв ветра. Ошеломляющий, как взрывная волна, шквал. Еще несколько минут затишья — и вот уже слышны глухие, тяжкие вздохи. Словно где-то в океанской пучине ворочается, вздыхая, гигантское чудовище.
Шквал идет за шквалом. Пронзительный и мощный свист ветра сливается с раскатистым громом вздыбленных валов. Исчезают небо, море, не видно даже палубы корабля, через которую с грохотом перекатываются вспененные горы воды. Неистовый разгул стихии нарастает с каждой минутой. В бешеном смерче кружатся тучи водяной пыли, град, колючий, как битое стекло, снег. Вся эта бушующая масса, плотная и жгучая, окутывая корабль, заковывает его в тяжелую броню льда. На всех надстройках, бортах, на вантах и мачтах ледяная толща растет буквально на глазах. Горе тем морякам, кто упустит хотя бы минуту, не найдет в себе сил вовремя подняться на борьбу со стихией.
Вся команда китобойца вооружилась шлангами с горячей водой, ломами, кирками. Сами обледенелые, люди сбивали многотонные глыбы льда с корабля. Отяжелевший, он в любой момент мог потерять устойчивость и опрокинуться.
Непрерывный аврал длился шесть часов. До изнеможения уставшие, до мозга костей промерзшие, моряки спасали свою жизнь и жизнь корабля. Не вышел на аврал только один человек — Вильян Паулсен. Он закрылся у себя в каюте, читал молитвы. Ему стучали, но он не отзывался. Измотанные и злые, матросы были уже готовы взломать дверь. Их остановил боцман Олсен.
— Вы правы, ребята, но перед таким делом лучше подумать, — сказал он мрачно и словно бы виновато. — Не забывайте, у этой птички острые когти.
Олсен был старый и мудрый. Он знал, чем остановить ребят. Если бы они погибли, Паулсен ушел бы ко дну вместе со всеми. И тогда черт с ним, смерть всех равняет. Но погибать никто из них не собирался. Они хотели жить, а живущим нужна работа.
Много потом было авралов, но Паулсена всегда оставляли в покое. Только поражались его выдержке. Не всякий человек, вызвавший к себе общую ненависть, месяцами может жить в тесном мире маленького корабля, не замечая или делая вид, что не замечает холода скрытой вражды.
Таким был соперник Микала. Нелегкий соперник. Пока Микал плавал старшим помощником капитана на судне Мариуса и не мог получить ни одного выстрела, Паулсен два рейса ходил платным учеником гарпунера на английской китобойной флотилии «Саутерн Харвестер». У англичан не было таких строгостей, как у норвежцев. Они не выдавали иностранцам дипломов, но за деньги разрешали палить из пушек сколько пожелаешь. Поэтому многие норвежцы, кто хотел стать гарпунером и у кого были деньги, сначала шли обучаться к англичанам. Микал лишних денег не накопил. Но он верил в счастливую звезду.
Имея двухлетний практический опыт, Паулсен, вероятно, тоже верил в удачу, но больше, очевидно, надеялся на бога. Поднявшись в первый день экзаменов на гарпунерскую площадку, он опустился на колени и долго беззвучно шептал молитвы. Прошло пятнадцать минут, полчаса… Паулсен продолжал молиться. Нетерпеливой перебранки за своей спиной он словно не слышал.
На палубе все с удивлением поглядывали на Микала. Почему он молчит?
Внешне бесстрастным оставался только Мариус. Проявлять какие-то эмоции в его положении было бы глупостью.
Растерянный Микал стоял у пушки, не зная, что сказать. Он понял: выторговав у них с Мариусом позволение стрелять первым, лысый святоша теперь будет тянуть время, чтобы весь этот прекрасный день достался ему одному. Свои пять тренировочных и десять зачетных гарпунов при таком скоплении китов он успеет выстрелить сегодня, а выстрелы Микала придется перенести на завтра. Но завтра может начаться шторм или не будет китов. Тогда экзамен отодвинется еще на день, потом, возможно, и на целый год. Экзамены мешали нормальному промыслу, и больше трех дней на них не давали.
— Послушайте, Вильян, — с трудом подавляя гнев, Микал тронул Паулсена за плечо, — если вашему богу именно сейчас нужно столько молитв, я возвращаю себе право жребия.
Паулсен не шелохнулся. Его трагически опущенный сухой рот по-прежнему что-то шептал. Потом губы наконец плотно сомкнулись. Он неторопливо поднялся, осенил Микала крестом, сказал тихо:
— Да простит вас господь бог, Мартинсен.
И стал у пушки. Снова растерявшись, Микал отступил. Этот длинный тщедушный демон его словно гипнотизировал.
На третьем зачетном гарпуне Паулсен промахнулся. Неточность выстрела он почувствовал сразу, когда гарпун еще свистел в воздухе. Микал заметил, как вздрогнули его тонкие, до синевы белые руки. Ничем другим своего волнения он не выдал. Провожая взглядом уходящего от корабля блювала, сказал, ни к кому не обращаясь:
— Господь учит: «не убий», а мы убиваем. По грехам и воздаяние.
— Вы просто плохо прицелились, — буркнул за его спиной Микал.
В нем не шевельнулось ничего, что можно было бы назвать радостью. Скорее даже стало жаль Паулсена. Или то было разочарование. Зная подготовку Вильяна, Микал рассчитывал на более сильного противника.
Его поразила неожиданная уступчивость Паулсена. За ним оставалось еще семь выстрелов и почти столько же часов светлого времени. Отказаться от них значило упустить редкую возможность испытать себя до конца и дать лучший шанс сопернику. Так понимал Микал. Когда Паулсен предложил ему занять место у пушки, он решил, что от неудачи бедняга слегка рехнулся. Воспользоваться в этот момент его слабостью было бы свинством. Какой он ни есть святоша, а все же человек.
Микал достал из кармана флягу с ромом, неловко протянул Паулсену.
— Глотните, Вильян. Вы не пьете, я знаю, сейчас вам нужно.
Кажется, впервые за весь рейс постная физиономия Паулсена на минуту смягчилась.
— Со мной все в порядке, — отстранив флягу, сказал он необычным для него тоном благодарности. И добавил уже сухо: — Я полагаю, вы напрасно теряете время, Мартинсен.
Уязвленный в своем искреннем побуждении, Микал про себя чертыхнулся: «Идиот, нашел перед кем слюни пускать». Сказал сердито:
— Хорошо, заряжайте пушку.
Фонтаны китов радужными султанами все еще вспыхивали по всему горизонту. Там, где их было особенно много, в прозрачном солнечном воздухе четко вырисовывались черные утюги китобойцев. Со всех сторон доносились приглушенные расстоянием звуки пушечных выстрелов.
Микал невольно улыбнулся. Скоро прогремит и его выстрел, может быть, всего через несколько минут. Первый выстрел Микала Мартинсена.
Потом на него как будто нашло затмение. Забыв о Паулсене, о всех, кто стоял на палубе, ничего не видя и ничего не слыша, он смотрел на тупорылую серую пушку, не в силах оторвать от нее глаз. В голове у него закружилась сумятица мыслей, наполнивших душу тревогой и странной тоской. Словно ему предстояло с чем-то навсегда расстаться, уйти от чего-то, с чем давно сжился.
Сотни раз заряжал он эту пушку, знал каждый ее винтик, чистил ее, смазывал, снимал и надевал на нее выбеленный морем старый брезентовый чехол, но никогда не касался ее рукоятки. До блеска отполированная жесткими ладонями брата, для него она была запретным плодом, тронуть который он не смел и боялся. Мартинсены не верили в бога. Микалу было смешно думать, что, выдержав испытания, он должен будет поклясться на Библии никому и никогда не выдавать своих гарпунерских секретов. Эти клятвы с рукой на засаленной толстой книге ему всегда казались глупыми. Но как добрый моряк-промысловик, он свято чтил капризную богиню всех удач Фортуну. Кто знает, как она к нему обернется. Кто не умеет терпеть, не получит и благословения Фортуны. Правда это или нет, а растравлять себя раньше срока было не в характере Микала.
И вот теперь час настал. Обитая тепловатым во всякую погоду черным текстолитом, для удобства чуть изогнутая рукоятка гарпунной пушки в его руках. В ней все — судьба.
Он понимал, что надо быть спокойным, но никак не мог унять противную дрожь в икрах. Они мелко вибрировали, будто через них пропускали электрический ток.
«Дрожу, как трус», — подумал он, раздражаясь.
Внезапно с мачты до него долетел голос марсового:
— Слева сорок пять… Э, постойте, там, кажется, кашалот.
Но Микал взмахом руки уже дал знак рулевому повернуть влево. На минуту он заколебался: может быть, не стоит связываться с кашалотом, потом решил: «Какая разница, блювал или кашалот, мне нужен кит».
Простуженный голос марсового и эта простая здравая мысль придали ему уверенности. Что может случиться? Разве он не сумеет прицелиться? Кашалот — резвая тварь, но взять его все же легче. Ленивый блювал для одного гарпуна слишком живуч. Махина в сто восемьдесят тонн.
Корабль круто пошел на левый галс. Сердце Микала защемило. Он чувствовал, как его охватывало незнакомое, хмельное торжество. Он еще не был гарпунером, и никто бы определенно не сказал, будет ли им вообще, но сегодня он у пушки, и на этой посудине все, абсолютно все подчинены его воле, даже Мариус. Пусть ненадолго, только на короткие часы охоты, но полностью, безраздельно. Надо быть норвежцем и китобоем, чтобы понять все то могущество, какое дает моряку гарпунная пушка. Деньги, власть над людьми, непререкаемая сила каждого твоего слова. Гарпунер! Этого трудно добиться, но за ним, по ту сторону победы, — Олимп. И, черт возьми, вилла, отличная вилла. Нет в Норвегии гарпунера, не имеющего отличной виллы. Тогда жирный баклан Карлсен не скажет, что его Грети Микалу неровня, поищи другого такого Микала!
Китобоец пробежал два-три кабельтова, когда голос марсового снова вернул Микала к действительности.
— Смотрите, смотрите! — кричал матрос. — Он дерется, там целая свалка, с кальмаром дерется!
Теперь кашалота видел и Микал. До него оставалось не больше четверти мили.
Громадная черная туша металась в воде как сумасшедшая. Казалось, не кит напал на кальмара, а кальмар сводил счеты с извечным своим врагом. Многометровые щупальца спрута, обхватив похожую на обрубок колоды голову спермуэла, раздирали ему пасть. Длинная нижняя челюсть свирепого морского хищника была свернута в дугу и изорвана в клочья. Без этой единственной своей зубатой челюсти заглотнуть кальмара кашалот не мог и не мог от него избавиться. Мощные щупальца спрута всосались в его голову намертво. Кит бился изо всех сил. Но уже явно проигрывал.
— Проклятье! — ругнулся Микал, жестом давая кораблю нужное направление.
Подойти к кашалоту сейчас можно было на любую дистанцию. Он не замечал корабля, а если и заметил, то из-за кальмара уйти от него был не в состоянии. Но он так мотался из стороны в сторону, что поймать его на прицел было почти невозможно. А искать другого кита, отказавшись от этого, Микалу не позволяла гордость. Марсовый предупреждал его, что впереди кашалот.
Затылком Микал чувствовал на себе ожидающие взгляды. Кроме Паулсена, все, кто был на палубе, конечно, желали ему удачи. И Микал не будет Микалом, если заставит ребят разочароваться.
Он не испытывал никакого азарта. Только помнил, что должен попасть в спермуэла во что бы то ни стало. И обязательно под левый плавник, немного ниже, на три дюйма. Ровно на три дюйма. Так учил Мариус.
Пальцы правой руки нажали гашетку, повинуясь, скорей, инстинкту, чем рассудку. Но момент был выбран точно. Единственно возможный. В те полторы-две секунды, пока гарпун, увлекая за собой линь, летел к цели, Микал успел понять — не промазал.
Говорят, первый удачный выстрел запоминается гарпунером на всю жизнь. И звучит потом в памяти как любимая мелодия. Ее не спутаешь ни с какой другой. У каждого выстрела свой голос, своя неповторимая мелодия, различить которую способно только чуткое ухо гарпунера, хотя профессия неизбежно делает его глуховатым. Он не слышит музыку, но как никто на свете чувствует мелодию выстрела. Мягкий, очень мягкий щелчок гашетки, иногда томительно медленный, полный сдержанного выжидания, иногда скорый, решительный, но все же мягкий, вкрадчиво осторожный. Затем резкий, оглушающий хлопок — сработал снаряд. Мгновенный, слепящий всплеск огня и дыма, гулкий свист разрывающего воздух гарпуна… Ушел гарпун, его уже не слышно, только, опаливая колодки амортизаторов, тонко звенит линь. Секунда, другая, и — словно где-то далеко в воду камень ухнул: в теле кита взорвалась навинченная на гарпун граната… Дистанция, угол стрельбы, как вошел гарпун в цель — нотные строки гарпунера. На них он пишет свою мелодию.
Микал ничего не запомнил.
Вслед за выстрелом раздался сильный удар в корму корабля. Ют так подбросило вверх, что нос китобойца зарылся в воду всей гарпунной площадкой. Микала накрыло волной. Захлебнувшись, он едва удержался на ногах. Потом, когда корма опустилась, все судно начало трясти, как в ознобе.
Механик Германсен стоял у промысловой лебедки словно оглушенный. Линь вытравился уже на добрых три кабельтова, а колодки амортизаторов продолжали раскручиваться с бешеной скоростью. Германсен даже не пытался придержать их. Ни Мариус, ни вахтенный штурман, никто ничего не предпринимал. Всех будто парализовало.
— Германсен! — заорал Микал, вдруг осознав, что все ждут его распоряжений. — Германсен, линь!
Опомнившись, механик рванул рычаг лебедки на себя. Деревянные колодки густо задымили. Туго натянутый линь еще немного прополз вперед и скоро провис — раненый кит выдохся.
Микал успокоился и теперь четко отдавал команды механику и на ходовой мостик:
— Выбрать слабину! Самый малый вперед!
Все шло как надо. На малом ходу китобоец трясти перестало, лебедка работала нормально. Глаза Германсена, шальные от природы, смотрели на Микала с преданностью собаки. Для порядка не вредно было бы его поругать, как это обычно делал Мариус, но Микал не смог бы. Обледеневший в своей насквозь промокшей одежде, с обмерзшими растрепанными волосами — шапку с него смыло водой, — он радостно поеживался. Словно не было ни студеного антарктического холода, ни недавнего страшного удара в корму.
Отрезок линя между судном и китом медленно сокращался. Было ясно, что добойного выстрела не понадобится. Хищные кормораны, подобные своей уродливостью грифам и наглостью — стервятникам, прожорливыми стаями уже носились над кашалотом, как воронье. Когда Микал бывал в дурном настроении, он сравнивал этих жадных ублюдков с Паулсеном. Но сейчас, приказав святоше перезарядить пушку, от полноты чувств, сам того не ожидая, он добавил к приказу «пожалуйста». Человек — отходчивое существо. Счастливый миг — и все вокруг прекрасно.
Микал подошел к бортовому лееру, приготовился погнать в кашалота полую металлическую пику, чтобы компрессором накачать в него воздух. Иначе, когда линь обрежут, кит утонет.
Неожиданно удар, еще более сильный, повторился.
Микала снова накрыло волной. Наполовину висевший за бортом, теперь он вряд ли вышел бы из-под воды живым, если бы, казалось, мертвый кит внезапно не дернулся вперед. Он рывком протащил за собой корабль, и дифферент быстро выровнялся. То была агония кашалота, но она спасла Микалу жизнь. Он понял это позже, а тогда, отплевываясь соленой морской водой, ругал себя за преждевременное благодушие. Ему казалось, что во всем виновата Фортуна. Стерва и шлюха, хоть и богиня.
Чудовища, дважды таранившего корабль, никто не видел. Но опытным китобоям не надо рассказывать, как оно называется. Это был матерый самец кашалота, ходивший где-то поблизости от убитой самки. Что-то его разъярило, и он напал на корабль. Нападая на китобойцы, кашалоты почему-то метят в корму. Возможно, их раздражает непривычный шум гребного винта.
К счастью, двумя ударами кашалот удовлетворился. Перед его свирепой мощью маленькое судно было беспомощным. С добычей на лине оно не имело никакой маневренности, а теперь и хода. От ударов две лопасти гребного винта срезало начисто. Словно они были не из легированной стали, а из хрупкого стекла. Винт стал вращаться неправильно, и вибрацией корабль буквально разламывало. Микалу ничего не оставалось, как отдать команду «стоп машина».
— Тебе следует переодеться, Микал, — сказал Мариус, спустившись с ходового мостика на палубу. Как всегда, весь его облик был полон спокойной строгости. Но трубка не дымила. Когда Мариус волновался, он забывал о ней.
— Да. Конечно. — Внешнее хладнокровие Мариуса напомнило Микалу старый девиз Мартинсенов: что бы ни случилось, самое лучшее — вовремя взять себя в руки.
С трудом, не желая верить очевидному, Микал начинал сознавать, что промысел для них закончен, год пропал. Теперь до конца сезона «девятка» будет болтаться на швартовых под бортом флагмана. Потом обледенелый остров Южная Георгия, судоремонтный завод в Грютвикене, и снова на восемь месяцев в море. До тех пор о Норвегии и думать забудь.
Пиши письма, Трети. Если ты еще помнишь Микала…
Десятый выстрел казался недостижимым.
Два года подряд Паулсен срезался на третьем зачетном гарпуне. Затем из десяти возможных ему удалось выбить семь, но в следующем сезоне, уже четвертом, — опять промахнулся на третьем. Словно этот третий гарпун для него был заколдованным. Восстановивший против себя всю команду надменный святоша даже у самых непримиримых начинал вызывать сочувствие. Но больше всего болели, конечно, за Микала. Паулсену не везло или у него не было для этого способностей, а Микала как будто преследовал рок.
На второй год после первой неудачи он все десять гарпунов послал в цель. Промаха не было. Но восьмого кита Микалу не зачли.
Они охотились тогда южнее острова Баллени, в забитом айсбергами море Росса. День, как обычно в этих широтах, был пасмурный, с низко нависшими темными тучами. Но погода стояла тихая, и промысловая обстановка была не хуже прошлогодней. Все разводья между грядами айсбергов покрывали громадные бурые и светло-коричневые пятна — поля планктона. Где планктон, там усатые киты. Это их пастбища.
В первой половине дня «девятка» взяла семь финвалов. Потом, после обеда, марсовый, едва поднявшись на мачту, радостно завопил:
— Блювалы! Прямо по носу!
Взбивая пенистые гривы на заштиленной глади моря, стадо голов на тридцать шло плавными, неторопливыми прыжками. Сытые баловни океана тешились.
Изготовив пушку, Микал отдал команду «малый вперед». Развивать полный ход не было нужды. Расстояние до китов не превышало пяти-шести кабельтовых, и Микал решил, что сумеет подойти к ним потихоньку, незаметно.
Он выбрал самого крупного самца с левого фланга. Тот подпустил судно метров на двадцать пять. Промахнуться на такой дистанции Микал не мог. Так он подумал. И в этом была его ошибка.
Нельзя быть слишком уверенным там, где нужна выдержка и холодный расчет. Микал настолько поверил в удачу, что выстрелил почти не целясь, с прямой наводки. Он сделал все как следует, но гашетку нажал, должно быть, одной-двумя секундами раньше. Когда развеялся дым выстрела, все увидели, что гарпун вошел в кита метрах в трех от левого грудного плавника. Он засел в спине блювала и только оглушил его.
Минуту или полторы кит оставался неподвижным, потом он, встрепенувшись, занырнул и долго ходил на глубине кругами. С высокой гарпунной площадки его расплывчатая тень была хорошо видна. Неожиданно он рванулся вдоль корпуса судна и вынырнул за кормой. Колодки амортизаторов в этот момент от сильного раскручивания задымили, но Германсен не обратил на них внимания. Когда Микал отдал команду тормозить лебедку, линь вытравился за борт на добрых триста метров. Выныривая, кит задел им гребной винт, и он намотался на лопасти. Разорвать беспорядочные кольца прочного манильского каната у машины не хватало мощности. Как и в том случае с кашалотом, китобоец потерял ход.
С одной стороны линь был закреплен у лап гарпуна, прочно засевшего в теле кита, а с другой — у гребного винта. Неуправляемое судно оказалось на буксире у блювала, который, обезумев от боли, тащил его кормой вперед.
Взрывом навинченной на гарпун гранаты киту, вероятно, все же повредило какие-то важные жизненные органы. Он пускал частые, окрашенные кровью фонтаны и все время заваливался на правый бок. Но мощи в его исполинском теле было уже достаточно. Микал слышал множество историй, когда даже смертельно раненные блювалы таскали в упряжке китобойные суда сотки миль, а бывало, и затаскивали их под воду.
Милях в двенадцати в том направлении, куда тянул судно блювал, по всему горизонту сплошным массивом белели раскрошенные торосы ропаков — затопленных до самых вершин айсбергов. Блювал между ними наверняка пройдет, отыщет, стерва, лазейку, а китобоец?
Микал растерянно смотрел на Мариуса. Он прекрасно понимал всю сложность положения. Линь нужно было немедленно обрубить. Но это значило потерять кита и вместе с ним зачетный гарпун.
Подавляя волнение, Мариус молча сосал трубку. Что он мог сказать? Пока Микал у пушки, он все должен решать сам.
Привязав к длинному шесту похожий на хоккейную клюшку фленшерный нож, Микал с тяжелым сердцем грузно прошагал на корму. Вот сейчас он опустит нож в воду, нащупает линь и… Внезапно его охватила ярость. Два года проторчать в Антарктике и вернуться ни с чем. Проклятая тварь!
— Германсен! — закричал он в бешенстве. — Германсен!
— Я здесь, — тихо отозвался за его спиной Германсен. Когда он появился на корме, Микал не заметил.
— Здесь? Какого дьявола вы здесь? Что делают ваши машины?
Старший механик вздохнул:
— У главного двигателя шатуны заклинило.
— Голову вам заклинить! Это по вашей милости все, почему лебедку не стопорили?
— Я ждал команду.
— Болван безмозглый! Имейте в виду, если мы потеряем этого кита, я добьюсь, чтобы на «девятке» вашего духа не было.
— Да, конечно, — покорно согласился Германсен. — Вы правы, я виноват.
— Вы всегда виноваты и всегда, черт возьми, торопитесь признать свою вину. Думать надо, Германсен.
— Да, конечно.
Микалу вдруг стало неловко. Он действительно команду отдал не вовремя. Не Германсен, а он, Микал, болван безмозглый.
Длинный, нескладный, с глазами, полными неизбывного человеколюбия, старший механик «девятки» был нерасторопным, постоянно где-то витающим, но его можно было упрекнуть в чем угодно, только не в отсутствии желания думать. Что бы ни случилось, неизменно спокойный Германсен умел все трезво взвесить и найти если и не единственно верный, но все же выход.
— Простите, Раул, — буркнул Микал, остывая. — Кажется, эта тварь собирается затащить нас в ропаки.
— Это его право, он борется за жизнь. Другого шанса избавиться от нас у него нет. Но рубить линь я бы на вашем месте не торопился. Он скоро устанет, видите, какие розовые фонтаны. Надо приготовить багор и следить, когда линь провиснет. Метров шесть слабины вполне хватит.
Глянув на кормовой шпиль, Микал улыбнулся. Черный ребристый рол шпиля медленно вращался. Нерасторопный Германсен успел, оказывается, переключить вспомогательную машину на корму. Оставалось только поймать момент слабины, подтянуть багром линь к палубе и накинуть на шпиль. Пусть потом кит потягается с машиной. Она-то его вымотает быстро. Или хотя бы даст время придумать что-нибудь другое.
— Хорошо, Германсен, тащите багор, — сказал Микал сдержанно. Он боялся преждевременной радостью спугнуть удачу.
Линь провис через десять минут. Им удалось подхватить его и набросить на шпиль тремя витками. Еще несколько витков сделала машина. Туго натянувшись, манильский канат зазвенел, как стальной.
Кит сначала чуть приостановился, потом он, словно ударившись в невидимую стену, дернулся назад, выбросил окутанный розовым паром кровавый фонтан и замер. Какое-то время его сила и сила машины были равными, затем шпиль снова провернулся. Не поддаться мощному двигателю гигантский, но истекающий кровью зверь не мог.
С надсадным гулом машина рывками вращала шпиль, подтягивая блювала все ближе к судну. Казалось, линь вот-вот оборвется или гарпун вырвется из тела кита. Невозможно было представить крепость мышц, выдерживавших натяжение в десятки тонн. И все же гарпун оставался в спине блювала до конца. Линь тоже не оборвался. Но когда кита подтащили к самой корме, Микал понял, что этого слишком мало. Зверя нужно добить, а пушка на судне только одна, и она намертво привинчена к полубаку.
— У вас неплохая голова, Германсен, но, пожалуй, пора давать SOS, — сказал Микал, скрывая под иронией досаду разочарования. Еще год надежд прахом. Этого загарпуненного, но не убитого кита ему не зачтут. Он достанется тому, кто первым подойдет к «девятке» и сделает добойный выстрел. Даже если это будет старина Якобсон, готовый отдать младшему Мартинсену свою собственную добычу. Не Якобсон — Совет гарпунеров решает.
Мариус потом утешал Микала.
— Твоя звезда, Мики, не настолько скверна, чтобы думать о ней с отчаянием. В следующем сезоне все будет в порядке.
Но на следующий год все три дня экзаменов Микал провалялся в постели. А четвертый сезон стал для него последним.
В тот день произошло невероятное.
Только что накачав воздухом очередного финвала, Микал увидел чуть левее курса крупного горбача. Всего в двух кабельтовых. Пушку Паулсен же успел перезарядить. Не теряя ни минуты, Микал занял боевую позицию. И вот в момент выстрела, в ту самую секунду, когда Микал нажал гашетку, на линии прицела из воды свечой выскочил китенок. Гарпун прошил его насквозь, но направления не изменил — вошел точно в цель. Каким-то чудом граната в китенке не взорвалась. Взрыв произошел в туше взрослого горбача. Так на одном лине оказалось сразу два кита, самка с детенышем.
Паулсен, видевший, как все произошло, истово перекрестился. Потом, пристально глядя на Микала, он сказал с суровой строгостью:
— Вы совершили тяжкий грех, Мартинсен, это убийство агнца. Осените же себя хотя бы крестом.
Микал засмеялся:
— Ничего, Вильян, с богом мы сочтемся.
Конечно, это был подлый выстрел. Но разве Микал ожидал что-нибудь подобное? Он не заметил даже, что целится в самку. Кит был огромный, и Микал принял его за матерого самца. Но тогда он об этом не думал. Два кита на одном лине страховали возможный промах. За Микалом оставалось еще три гарпуна. Если один из них и пройдет мимо цели, двумя другими Микал уж как-нибудь сумеет не промахнуться.
Он чувствовал себя в прекрасной форме и верил в удачу как никогда. Это необыкновенное двойное попадание одним гарпуном ему казалось знамением самой Фортуны. Так долго изменявшая ему, сегодня она определенно заигрывала с ним. Дьявол с тобой, распутница, кто старое помянет, пусть того акулы сожрут.
Следующий выстрел, восьмой, был таким же точным, как семь предыдущих. Микал мог в этом поклясться. Рикошет больше удивил его, чем расстроил. Он твердо помнил, что линию прицела взял совершенно правильно, но гарпун, скривив почему-то траекторию полета, боком ударился в спину кита и отскочил от него, как резиновый. Граната разорвалась в воде.
— Кажется, захлестнуло линь, — вслух предположил Микал, думая про себя: «Что ж, был запасной шанс, теперь его нет. Может, это и к лучшему, буду внимательнее».
Он был уверен, что рикошет получился случайно. И действительно, девятый гарпун, посланный вскоре и в того же кита, сработал нормально.
У норвежских китобоев был обычай: перед тем как сделать последний зачетный выстрел, сдававший гарпунерские экзамены обращался к товарищам по команде с торжественной речью. Он говорил, что, если этот десятый выстрел будет удачным и на флотилии появится еще один гарпунер, пусть никто не сомневается в его преданности своему профессиональному долгу и обычаям морского товарищества. Он не забудет, что его пушка должна служить не только ему, а всем, кто делит с ним труд китолова. Поэтому он всегда будет строг ко всем членам команды своего суда, но вдвойне строг к себе.
Может быть, экзамены завершатся всего через несколько минут, завершатся успешно, и тогда сказать новому гарпунеру, что он в чем-то бывает не прав, уже никто не сможет. Но сейчас еще не поздно, пока среди людей этого судна он равный и готов выслушать все их претензии. Зла он ни на кого не затаит и торжественно обещает помнить и ревностно выполнять все наказы, которые ему, возможно, и не будут приятны, но пойдут на благо и пользу товариществу.
Если в ответ на его речь на гарпунную площадку поднимался старейший из команды, чтобы разбить о пушку бутылку шампанского, значит, будущего гарпунера признавали достойным звания охотника на китов и желали ему успеха.
Команда «девятки» собралась на промысловой палубе. Кроме рулевого, вахтенного машиниста и Паулсена, выполнявшего во время охоты Микала роль помощника гарпунера, все тридцать человек столпились на маленьком пятачке между лебедкой и высоко поднятым над палубой полубаком.
Микал, стоявший у внутреннего края гарпунной площадки, возвышался над толпой, словно на трибуне. Плечистый, могучий, с округлой рыжей бородой, осыпанной горошинами белесо-серых соленых льдинок, он смотрел на давно знакомые лица растерянно и кротко. Его большую лобастую голову, не приученную придумывать складные речи, ломило от натуги. После обычных разговоров и привычной моряцкой ругани речь сказать. Тяжело. Вздыхая, мял в красных от мокрого холода ручищах шапку, снятую по случаю торжества, вымучивал как покаяние:
— Вот, парни, сами видите, выстрел остался последний. Делать постараюсь все хорошо, без лени. Обычаи и строгость на судне обещаю соблюдать как полагается. Свою долю от зачетных китов внесу, понятно, на посвящение. Кого раньше обижал, прошу у тех прощения. Кому не нравлюсь, тоже можете сказать, не обижусь. Наказы ваши приму серьезно, не сомневайтесь.
Может быть, не совсем так он говорил, может, немного по-другому. Давно это было, не удержать все в памяти. Помнит только Микал, что говорить ему было трудно и совестно вроде. Он знал, что благословят его охотно, а все же, когда боцман Олсен поднялся на полубак с бутылкой вина, растрогался. И рад был, что обошлось без второй речи — ответа на благословение. В ту минуту, когда бутылка шампанского разбилась о гарпунную пушку, несколько голосов с палубы закричали:
— Финвал! Финвал!
Он вынырнул метрах в сорока прямо по носу китобойца.
Обрадованный, Микал бросился к пушке, взмахом руки давая знак на мостик: «Тише ход!»
Еще через минуту раздался выстрел. Последний, десятый…
Микал помнит, как у него до хруста сжались кулаки. Ошеломленный, внезапно и грубо подавленный, он смотрел на то место, куда плюхнулся в воду снова срикошетивший гарпун, и в глазах его, должно быть, полных обиды, медленно стыла тоска. Все кончено, теперь, наверное, навсегда.
Потом он всполошился. Вдруг резко пронзила мысль: почему два одинаковых рикошета?
Лихорадочно, весь дрожа от нетерпения, он схватил линь; яростными рывками выбрасывал его на полубак. Пятипудовый гарпун взлетел на борт, грохнулся к ногам.
Склонившись над опаленным порохом куском железа, Микал рассматривал его долго и тупо. Не его гарпун, нет, не его. Утром он сам отбирал для себя все десять зачетных гарпунов и запомнил каждый номер. Гарпуна под номером 243 в его десятке не было. Паулсен, заряжавший пушку, взял его из ящика, куда бросали скривленные выстрелами гарпуны для перековки. Значит, восьмой гарпун тоже был из ящика, кривой. Оба рикошета подготовил Паулсен!
Скрестив на груди руки, святоша, невозмутимо спокойный, стоял у фальшборта. Задохнувшись гневом, Микал ринулся к нему. Он хотел только ударить, ударить в морду. Но в его кулаке было столько свирепой мощи, что Паулсен, взмахнув руками, перелетел через фальшборт. В воду он ушел камнем…
Рассказ Мартинсена о его злоключениях на «девятке» продолжался до полуночи. За пологом нашего грота тонко звенела необычная для Восточного Фолкленда тишина. Дождь утих. Я вышел взглянуть на небо. Мартинсен сказал, что сейчас можно увидеть звезды. Над Фолклендами их редко видят.
По темному, почти черному небосводу как будто разбросаны матово-белые шарики, озаренные изнутри бледно-голубым светом. Кажется, то не свет безбрежного космоса, а ледяное свечение Антарктики, отраженное стылой бездной. В нем чудится хрусткая печаль снегов, холодное величие безмолвия и странная, сжимающая сердце тоска.
Звезды студеного Юга могут свести с ума. Страшно оставаться с ними один на один. Неизъяснимой силой потусторонности дышат они. Смотришь, и медленно тает в тебе и воля к жизни, и сознание собственного человеческого Я — Червь, раздавленный Вселенной.
Не знаю, какая сила духа была в Микале Мартинсене, семь лет прожившем в одиночестве под звездами пустынного антарктического острова Эстадос.
На норвежских китобойных судах, по восемь — десять месяцев в году не покидавших безлюдную Антарктику, за убийство, совершенное на корабле, судили сами моряки. Команда корабля выбирала из своей среды судью и нескольких присяжных. Обычно преступника связывали и бросали за борт или, если присяжные находили смягчающие его вину обстоятельства, ему предоставлялось право высадиться на ближайший из необитаемых островов. Срок пребывания на острове не определялся. Если осужденному удавалось выжить и добраться к людям, вина его прощалась, ибо за одно преступление дважды не судят.
Микала присяжные оправдали и уговаривали Мариуса сообщить на флагман, что Паулсен просто упал за борт. Но Мариус решил, что рано или поздно все раскроется. У него не было гарантии, что кто-нибудь из команды не проговорится. Если же о том, что произошло на «девятке» в действительности, станет известно до конца промысла, Микала пересадят на флагман и там его обязательно казнят. Ведь главным штурманом флотилии был родственник Паулсена.
Роль судьи исполнял боцман Олсен.
— Вы правы, капитан, — согласился он. — Надо сообщить на флагман наш приговор высадить Микала на остров. Так будет лучше. Я думаю, со временем мы найдем способ забрать его оттуда, и тогда они уже ничего не сделают. На нашей стороне закон.
«Девятка» в тот день находилась в проливе Дрейка. Ближайшим клочком необитаемой суши был Эстадос — каменистый остров, лишь кое-где покрытый такой же чахлой растительностью, как на Восточном Фолкленде.
Высаживая Микала на пустынный берег, ему дали дробовик, два кожаных мешочка пороха, патроны, топор, запас одежды и всяких жизненно необходимых мелочей. Мариус, как и положено в таких случаях капитану, ни во что не вмешивался. Он даже не имел права проститься с Микалом. Но уже на острове в одном из мешочков с порохом Микал нашел от него записку. Долгие семь лет жизни на острове та записка была единственными человеческими словами, соединявшими его с миром людей.
«Печально, Мики, — писал Мариус, — но проститься с тобой по-родственному мне не позволяет моя капитанская должность. Надеюсь, ты поймешь меня и не будешь судить слишком строго. Поддаться в моем положении чувствам брата — значит потерять все, чего я добился за столькие годы тяжелейшего труда, и, с другой стороны, погубить тебя. На флагмане немедленно сочли бы наш приговор недостаточно суровым и сняли бы тебя с острова для нового суда.
Да, Мики, мы живем в мире, где все подчинено законам драки на выживание. Каждый свой шаг нужно так же тщательно взвешивать, как это делает канатоходец, не имеющий страховки. Мне грустно думать, что я вовремя не сумел внушить тебе эту простую истину. То, что произошло, не случайно. Жестокая конкуренция в драке на выживание сделала из Паулсена законченного негодяя, а тебя толкнула на отчаянье. По сути, вы оба не виноваты, хотя ни тебя, ни его я не оправдываю. Беда в том, что мы в своих делах и мыслях привыкли плыть по течению, не думая о том, что это течение постепенно превращает нас в животных и даже зверей. Жестоко поступил Паулсен, беспощадным оказался порыв твоего гнева, и я невольно подчиняюсь законам драки, а виновата во всем она, навязанная нам необходимость быть безжалостным и друг к другу. Иначе выжить в этом мире невозможно.
Я постараюсь утешить наших родных и Трети. Затем поеду в Ливерпуль, попрошу капитана Джонсона в будущем сезоне подойти к Эстадосу, чтобы взять тебя на борт его китобойца. Ты знаешь, с Джонсоном мы старые друзья, он мне не откажет. А если с острова тебя снимут не норвежцы, по нашим законам это даст тебе право считаться человеком, которому повезло, и преследовать тебя больше не будут.
Обнимаю тебя и верю в твое мужество.
Твой Мариус».
Грустную повесть о жизни Микала Мартинсена на этом, собственно, можно и закончить. Коротко скажу еще только о том, как он попал на Фолкленды и почему их не покинул.
Когда Мариус вернулся из того рейса домой, в Европе началась вторая мировая война. Вскоре немцы оккупировали Норвегию. Уехать из страны стало невозможно. Да если бы Мариусу и удалось добраться до Англии, капитан Джонсон, на помощь которого он рассчитывал, ничем бы ему не помог. В Англии тоже шла война.
Минул год, два, пять… К Эстадосу никто не подходил. Все жизненные припасы, полученные Микалом на «девятке», истощились. К счастью, на острове оказалось лежбище антарктических тюленей. Их шкуры служили Микалу одеждой и жильем, мясо — пищей, а кости и жир — топливом. Конечно, он не смог бы жить, питаясь только мясом тюленей. Из оставшегося у него сыромятного ремня он сделал тонкое лассо и ловил им съедобных птиц, собирал их яйца. Иногда удавалось поймать примитивной удочкой немного рыбы. Морская вода заменила соль, а дикий сельдерей — витамины. На прибрежную полосу острова море часто выбрасывало китовые кости. Микал собирал их и запасался топливом на то время, когда тюлени свое лежбище покидали.
Чтобы не поддаться губительной тоске, Микал каждый день от завтрака до ужина работал. В тихую погоду таскал и дробил камни, из которых строил хижину. Сначала он жил в шалаше из китовых костей и тюленьих шкур, потом решил, что каменная хижина для него будет более удобной. Он строил и перестраивал ее множество раз. А в ненастье, когда долгими днями приходилось сидеть в жилище, из китовых ребер вырезал разные фигурки или шил очередной меховой костюм. Вместо ниток он использовал тюленьи жилы, а иглу сделал из кости пингвина.
Вечерами, укладываясь; спать, грезил далекой Норвегией. Мысленно беседовал с родными, близкими, придумывал длинные послания своей невесте Трети. Грез он боялся. От них болела душа. Но противиться сладким видениям было трудно. Они пленяли его, как нечаянный сон, как хмель весны. Он находил в них отраду, утешение, умиротворительный покой. Может быть, они и дали ему силы всегда помнить себя человеком.
Так прошли семь лет. За все это время Микал не видел на горизонте ни одного корабля. Ему давно было ясно, что с Мариусом что-то случилось. Он не мог забыть Микала. Но что с ним произошло, Микал не представлял.
Может быть, на Эстадосе он прожил бы еще много лет, если бы однажды не появилась неожиданная возможность покинуть остров без посторонней помощи.
Эстадос омывает океанское течение, которое берет свое начало у берегов Огненной Земли, там, где на неприступном скалистом берегу стоит город Ушуая, известный в Южной Америке как город самых мрачных аргентинских тюрем. Наверное, именно от Ушуаи океан принес несколько бревен, опутанных колючей проволокой. Видимо, это был кусок тюремной ограды.
Из бревен Микал сделал плот, из тюленьих шкур — парус.
Он хотел плыть к Огненной Земле, но штормовые ветры прибили плот к Восточному Фолкленду, в десяти милях от Порт-Стэнли. Увидев его, жители фолклендской столицы решили, что к ним принесло огнеземельского индейца. Потом, когда выяснилось, кто он и сколько лет прожил на необитаемом острове, его приняли очень радушно. Губернатор архипелага распорядился выдать ему нормальную одежду и предоставить жилье, а местная газета сразу же выплатила скромный, но достаточный для пропитания на первые три-четыре месяца гонорар за серию статей, которые он согласился написать.
Здесь, в Порт-Стэнли, Микал впервые услышал, что в Европе недавно закончилась одна из самых жестоких войн мира, и только теперь понял, почему к Эстадосу никто не приходил. Он послал в Норвегию письма по всем адресам, какие помнил. Через восемь месяцев пришел ответ только от бывшего боцмана Олсена. Он сообщал, что Мариус во время войны был подпольщиком норвежского Сопротивления. В 1944 году, накануне освобождения города Бергена, в котором жили Мартинсены, Мариуса фашисты арестовали. Через две недели после ареста его повесили. Потеряв старшего сына и ничего не зная о судьбе младшего, отец и мать умерли от горя. Из всех дорогих сердцу Микала людей в Бергене осталась только Грети. Но Микала она уже не ждала, вышла замуж за другого.
Возвращаться туда, где тебя никто не ждет и где над жизнью людей властвуют жестокие законы драки на выживание, все равно что вернуться в пустыню, на тот же дикий Эстадос. Так решил Микал.
В Порт-Стэнли к нему отнеслись с сочувствием, дали работу — должность егеря по охоте на диких быков. Заработок невеликий, но на жизнь хватает. Много ли нужно одинокому человеку?
Грустно только вспоминать прошлое. Думаешь о пережитом и хочется крикнуть на целый свет: «Слушайте, люди! Из века в век всю свою жизнь вы гонитесь за призраком довольства. Он убегает от вас, как мираж, как ваша собственная тень, но вы гонитесь за ним, гонитесь с ненасытной алчностью. Остановитесь, образумьтесь, он мертвит вашу душу, превращает вас в звериную стаю!»
…Мы ехали в обратный путь, к Порт-Стэнли. Лошади шли так же неровно и тряско, утопая копытами в гнилой почве Восточного Фолкленда.
Я смотрел на могучего седого норвежца и мучительно думал, что скажу ему на прощанье.
Расставались мы обычно. Улыбались. Я ничего не придумал.
— Будьте здоровы, Микал!
— Прощевайте, Олександер…
Рыцари Золотого Круга
Студеный, не по-морскому сухой воздух был недвижим и прозрачен. Казалось, я смотрел на остров сквозь застывшую родниковую воду.
Над зеленовато-стальным океаном, за грядой сидевших на мели айсбергов, вздымались горы. Словно гигантские глыбы антрацита, покрытые рваными плешинами снега. Черные хребты окутывали пронизанные холодным солнцем и потому сверкавшие, как снег, облака. В ущельях клубился туман. Сизый от природы, но подрумяненный солнцем, на фоне угольно-темных скал он чудился мне фиолетовым.
Приближался берег, менялись краски. Антрацитовые вершины вдруг стали синими, потом по синеве как будто разлилось серебро. Грани скал залучились, как осколки льда. А склоны то становились коричнево-бурыми, то как бы покрывались розовой вуалью. Не менялась только окраска узкой прибрежной полосы. Между морем и горами змеилась изрезанная глубокими фьордами черная лента, словно разрисованная белыми бумерангами; в бинокль было видно — весь берег усыпан китовыми ребрами.
Южная Георгия… Сто миль в длину, двадцать — в ширину. Вытянутые в два горных хребта бесплодные базальтовые громады, снег и ледники. «…Земли, обреченные природой на вечную стужу, лишенные теплоты солнечных лучей; у меня нет слов для описания их ужасного и дикого вида». Так говорил об этом острове Джемс Кук. Прославленный мореплаватель не предполагал, что когда-нибудь на этой «ужасной земле» его соотечественники построят Грютвикен, самый южный порт мира.
В 1905 году, когда в Антарктике вспыхнула китобойная лихорадка, Англия, поднявшая перед этим на Южной Георгии свой «Юнион Джек», поняла, что, имея здесь порт, она станет хозяйкой всего антарктического сектора Атлантики. На западе у нее были уже относительно обжитые к тому времени Фолкленды, на востоке — Тасмания, а между ними, на 54-й параллели, — Южная Георгия.
Строительство порта, рассчитанного на крупнейшие океанские суда, продолжалось меньше года. За тысячи миль от населенных берегов, среди голого камня и ледовых потоков, сползающих с гор к морю.
На остров были завезены и поставлены готовые сборные дома, сооружены причальные стенки, промысловые пирсы. Одновременно строились судоремонтные мастерские, электростанции, корпуса жиротопного завода, фабрика по обработке котиковых шкур, нефтехранилища. И все это было закончено за каких-нибудь десять — одиннадцать месяцев.
Размах и темпы строительства казались чистым безумием. У Англии не было и не могло быть столько антарктических промысловых судов, чтобы обеспечить работой Порт-Стэнли на Фолклендах, порт Хобарт на Тасмании, английские китобойные базы в Кейптауне и еще порт Грютвикен на Южной Георгии. Но англичан это не смущало. Они знали: Грютвикен себя оправдает.
На соседних островах в то же самое время строили свои базы китопромышленники Норвегии и Аргентины. Англичане стремились во что бы то ни стало обогнать конкурентов. Создав в невиданно короткий срок первоклассный порт в центре богатейшего промыслового района, они объявили, что готовы поделить его на части и отдельными участками сдать в аренду. Причем арендную плату назначили такую, что норвежцам и аргентинцам было выгоднее принять их услуги, чем заканчивать строительство собственных баз.
Англичане этого, собственно, и добивались. Лишив конкурентов самостоятельности, они получили возможность управлять промыслом. Добыча китов и морского зверя в антарктическом секторе Атлантики отныне велась только по английским лицензиям. Сначала они стоили очень дешево, скорее были как бы формальным признанием английского контроля. Но спустя три-четыре года за них приходилось отдавать уже половину добычи. Постепенно росли цены и за аренду порта.
Через десять лет деньги, вложенные в строительство Грютвикена, полностью окупились и стали приносить прибыль, которая исчислялась десятками миллионов.
Арендаторы зарабатывали гораздо меньше, и норвежцы, обиженные явной несправедливостью, пытались уйти с Южной Георгии, но оказалось, что уходить некуда. Почти на всех островах юга Атлантики развевался «Юнион Джек». Теперь и за голые скалы нужно было платить аренду. Норвегии, чья экономика в значительной степени зависела от торговли китовым жиром, не оставалось ничего другого, как, смирившись с создавшимся положением, увеличивать число промысловых судов и вести промысел более активно.
Как-то беречь сук, на котором сидели, никому, видимо, не приходило в голову. Брали все, что могли. Драгоценного антарктического котика только на лежбищах Южной Георгии, по приблизительным подсчетам, было истреблено около полутора миллионов голов. Сотни тысяч шкур привозили для обработки в Грютвикен с других островов. В конце концов южный котик в Антарктике исчез. Пропали самые ценные породы тюленей. Потом резко пошло на убыль и антарктическое стадо китов.
В 1955 году, то есть спустя полвека после своего возникновения, промышленные предприятия Грютвикена впервые принесли убытки. Потом несколько лет работали с переменным успехом, но уже было ясно, что прежние времена не вернутся. Грютвикен медленно умирал.
Еще не мечтая о путешествии на Южную Георгию, я встречался в Лондоне с боссом и фактическим владельцем Грютвикена мистером Салвесеном. Среди известных китопромышленников мира это была, пожалуй, одна из самых колоритных фигур — престарелый миллиардер, о скупости которого ходили легенды. Рассказывали, что, если ему нужны были сигары, он обзванивал все табачные лавки Лондона: выяснял, где можно купить дешевле, и обязательно спрашивал, нет ли скидки для оптового покупателя. Курил он сигары не дороже одного шиллинга за штуку. Однажды хозяин табачной лавки по этой цене прислал ему сигары, стоившие на самом деле полтора фунта стерлингов, любимые сигары Черчилля. Салвесену они понравились, и на второй день он заказал еще целый ящик. Его заказ выполнили немедленно, а счет представили позже. На этот раз за пятьсот сигар нужно было уплатить, как и полагалось, семьсот пятьдесят фунтов стерлингов. Торговец нарочно выждал время, чтобы от полученных сигар Салвесен не мог отказаться. Миллиардер ответил:
«Сэр,
направляю Вам чек на 25 фунтов стерлингов. Остальные 725 фунтов рекомендую взыскать с Ваших клерков, приславших мне вместо шиллинговых сигар, которые я заказывал, полуторафунтовые. Я с удовольствием их курю, но не принимайте меня за человека, способного ради мимолетного удовольствия поджигать купюры достоинством в полтора фунта.
Надеюсь, свой убыток Вы сумеете возместить.
С высоким уважением к Вашему предприятию
Салвесен».
У него была дочь, красавица и, как утверждали лондонские газетчики, девушка незаурядного ума. Но доверить накопленные миллиарды женщине, пусть и единственной дочери, Салвесен считал невозможным, поэтому с малых лет воспитывал племянника Эллиота, которого потом сделал своим секретарем-стенографом и объявил наследником, выделив дочери лишь небольшую ренту.
Худосочный, чахоточного вида юноша с мутными от всегдашнего недосыпания глазами записывал все дядюшкины советы и все его деловые разговоры. С блокнотом наготове он следовал за ним весь день, а вечером, когда старик ложился спать, садился за пишущую машинку, все перепечатывал и аккуратно подшивал в очередную папку — кладези салвесеновской мудрости.
Впечатление оба они, старый и молодой, производили странное. В обтрепанных костюмах, в стоптанных башмаках и какие-то зачумленные. У Салвесена на длинной морщинистой шее с отвислым мешковатым подбородком болтался замусоленный сатиновый галстук. Дрожащей старческой рукой он часто его поправлял, затягивая потуже. Шея при этом выкручивалась вверх, как штопор. Подобная облезлой шее старого пеликана, она делала его похожим на нелепую птицу с давно потухшими бледно-голубыми человечьими глазами.
Деловую жизнь Салвесена окружала тайна. Английские журналисты говорили в шутку: «Легче получить интервью у полярного медведя, чем выудить несколько слов для печати у мистера Салвесена». Его вообще мало кто видел. Большую часть года он проводил в Антарктике, на своих китобойных флотилиях, а вернувшись в Англию, безвыходно сидел дома. С внешним миром держал связь почти исключительно по телефону или через Эллиота.
Попасть к нему мне помог Бенджамин Хоулс, английский моряк, с которым два года назад я познакомился в Коломбо. Он дал мне тогда свой лондонский адрес и телефон. Время от времени мы друг другу писали. Из его писем я узнал, что он пять лет был помощником капитана на салвесеновской плавучей китобазе «Саутерн Харвестер» («Западный охотник на юге») и миллиардер поручал ему вести какие-то изыскания на острове Скотта.
На мою удачу, Бенджамин оказался в Лондоне.
— Успеха не обещаю, но попробовать можно, — сказал он в ответ на мою просьбу устроить встречу с мистером Салвесеном. — Старик меня помнит, на разговор пойдет, но сначала нужно что-то придумать. Его пунктик — география.
В молодости Салвесен дружил с известным полярником Эрнстом Шеклтоном и с тех пор увлекался географическими исследованиями в Антарктике. Завладев Южной Георгией и многими другими островами, прилегающими к шестому континенту, он десятилетиями изучал их с завидной скрупулезностью. Конечно, не без практического умысла, хотя признаваться в корысти ему, понятно, не хотелось. «Мои занятия географией — следствие нашей дружбы с Шеклтоном, это всего лишь хобби», — говорил он. Но тем не менее, когда выпадал случай, вздыхая, сетовал на твердолобость Королевского географического общества, никак не желавшего оценить его заслуги.
Нелюдимый миллиардер втайне мечтал, наверное, о славе подвижника науки. Ничто так не льстило ему, как похвала его трудов по изучению Антарктики. Но эта похвала не должна была исходить от журналистов.
Бенджамин сказал ему по телефону, что с ним хотел бы встретиться молодой русский географ, якобы работающий над диссертацией об антарктических островах. Миллиардер ответил, что сейчас он занят и принять никого не может, но разрешил позвонить позже, дня через два. Я ожидал, что через два дня он снова сошлется на занятость. Переговоры о встрече, однако, в назначенное время начались. Он долго расспрашивал, что это за русский географ, какие у него вопросы и почему он не обратится к кому-нибудь другому. На легкое согласие мы не надеялись и ко всему были готовы заранее. Словом, своего добились.
Переступив порог огромного полупустого кабинета, я очень волновался, боялся, что не сумею сыграть роль географа до конца. Но хозяин дома, сидевший за массивным дубовым столом, встретил гостя вполне приветливо. Встал, подал руку, предложил кресло. И, на что я уж совсем не рассчитывал, улыбнулся.
— В России известно мое хобби?
«В России о тебе многое известно», — подумал я, обрадовавшись. Все начиналось именно так, как предсказывал Бенджамин. Что ж, будем играть, коль по-иному нельзя.
— Я полагаю, мистер Салвесен, — скромно сказал я, — ваши ученые изыскания известны всем географам мира, по крайней мере тем, кого интересует Антарктика. К сожалению, свои работы вы редко публикуете.
Хмыкнув, он озадаченно нахмурился:
— Вы думаете, я могу быть вам полезным?
— Иначе я не приезжал бы в Лондон. Простите за откровенность, но я действительно жду вашей помощи.
Мой категоричный тон вызвал у него взрыв смеха. Даже чуть порозовели его растопыренные замшелые уши.
— Браво! Вы мне нравитесь. Хотите кофе?
— Да, если можно.
— Эллиот, две чашки!
Молча стоявший у окна Эллиот сунул в карман свой блокнот и так же молча направился к дверям. С той самой минуты, когда я переступил порог кабинета Салвесена, и до сих пор он не проронил ни слова. В его мутных, красноватых глазах не было ни проблеска улыбки, ни хотя бы слабого любопытства. Длинный, с узким, как сабля, лицом, он походил на бесстрастного биологического робота — я видел такого субъекта в каком-то фантастическом польском фильме.
Пока, деревянно переставляя ноги, племянник миллиардера шел к дверям, я не мог оторвать взгляда от его спины. Сгорбленная, с выпирающими острыми лопатками, она, казалось, тащила на себе незримую тяжкую ношу.
Потом я глянул на Салвесена, должно быть, растерянно и виновато. Он поправлял галстук, выкручивая свою несуразную шею. Из-за плотных занавесей на окнах в кабинете было сумрачно и тихо, как в склепе. Не знаю, может быть, у меня больное воображение, но мне почудилось, словно над моей головой кружит холодная черная тень. Я старался держать себя в руках и невольно вжимался в кресло.
Хриплый голос Салвесена неожиданно спросил!
— Так что вас интересует?
Помедлив, я сказал, что хотел бы уточнить некоторые детали по географии островов Буве и Южных Сандвичевых, но особенно подробно я будто бы намерен остановиться в своей диссертации на естественных проблемах Южной Георгии, так как первое описание этого острова сделали наши русские моряки — Беллинсгаузен и Лазарев. В частности, мне было бы интересно узнать от мистера Салвесена, как повлияли на девственную природу Южной Георгии промышленные сооружения Грютвикена. Об этом нигде ничего не написано.
Салвесен сухо меня перебил:
— А разве то, что на Южной Георгии покоится прах великого Шеклтона, для вас значения не имеет?
Я понял, почему, услышав о Беллинсгаузе и Лазареве, он вдруг нахмурился.
— О нет, сэр, напротив, — исправляя оплошность, поспешил возразить я. — Книга Шеклтона «В сердце Антарктики» давно стала моей настольной. Я был бы счастлив поклониться его могиле, но что делать, не у всех есть возможность побывать на Южной Георгии, даже у тех, кто плавает на китобойных флотилиях.
Кажется, мой ответ его удовлетворил. Сказал ворчливо:
— Не тяните за уши политику туда, где ей не место.
Что он имел в виду, догадаться было нетрудно.
В 1918 году этот самый Салвесен и его друг Шеклтон, будучи офицерами Королевского флота Великобритании, добровольно участвовали в интервенции англичан на Кольском полуострове. Салвесен, уже тогда владевший Грютвикеном, хотел еще захватить наши северные зверобойные промыслы, а Шеклтон жаждал сражений с Советами. «Шеклтон, — писал один из буржуазных биографов знаменитого полярника, — собирался надолго осесть в штабе генерала Мейнандера в Мурманске и говорил своим друзьям, что наконец-то получил работу себе по сердцу: поездки на санях, а затем сражение. Но к сожалению, возможность для вооруженных схваток не появлялась, и человек, который по своей природе всю жизнь был борцом, — как пишет этот биограф, — оказался лишен высшего счастья встретиться на поле брани с врагом своей страны».
Со временем политические взгляды Шеклтона изменились. Другом Советского Союза он не стал, но и слепой враждебности больше не проявлял. «Я уважаю мужество, а в мужестве этим парням не откажешь», — говорил он о бойцах Красной Армии, заставивших храброе британское воинство бежать из Мурманска с позором.
Что же касается Салвесена, то для него Советская Россия всегда оставалась врагом, и, когда мог, он пытался вредить ей.
В 1946 году наша китобаза «Слава» и несколько судов-охотников стояли в Ливерпуле на капитальном ремонте (кстати, стояли они рядом с одной из флотилий Салвесена). Потом, уже в Антарктике, на «Славе» обнаружили, что в трюмах китобазы, опечатанных в Ливерпуле под гарантию англичан, не хватает промыслового снаряжения. И многое было негодным. Гарпунный линь — канат к промысловым гарпунам — наполовину оказался гнилым. Сверху бухты были новые, а внутри — гнилые ошметки. Пришлось искать посредников и за огромные деньги покупать все на складах Салвесена в Грютвикене. Без посредников нам бы он ничего не продал, а другие порты были за тысячи миль.
Закупки для нас делал норвежский капитан Карл Бергстэд. Услышав цену на гарпунный линь, он сказал Салвесену:
— Сэр, мне кажется, ваш линь позолочен.
— Да, — ответил Салвесен, — в Грютвикене у меня все покрыто золотой пылью. Но если вы вздумаете торговать этим канатом с русскими, для них он должен быть из чистого золота.
Бергстэд не говорил, для кого он берет линь, но Салвесену-то было известно, чего у нас не хватает.
Потом на «Славе» вышел из строя паровой котел: лопнули дымогарные трубы, которые в Ливерпуле, очевидно, либо были потравлены кислотой, либо повреждены иным способом. На палубе, где велась разделка китовых туш, все остановилось, не стало тепла в судовых помещениях. Ледяная антарктическая стужа, ураганы, и негде обогреться.
Нужно было идти в ближайший порт, опять-таки в Грютвикен. Но Салвесен в ремонте отказал. Безо всяких объяснений. Спустя неделю экипажу «Славы» удалось ликвидировать аварию собственными силами благодаря смекалке наших моряков и ценой невероятного физического напряжения. В ответ на это, как только «Слава» возобновила промысел, босс Грютвикена по радиотелефону дал распоряжение своим китобойным судам держать советскую флотилию в постоянной блокаде, то есть перехватывать китов у наших китобойцев.
Салвесену об этом я, естественно, не напомнил. Тогда бы из него я наверняка ничего не вытянул. А мне хотелось хоть слово услышать о том, ради чего я к нему явился.
Я приехал в Лондон, когда английская пресса была заполнена догадками по поводу внезапного решения Салвесена продать все свои китобойные флотилии. В его лице переставала быть китопромышленником целая страна. Англичан волновало, куда он теперь вложит свои деньги. Бесплодная Южная Георгия сделала его миллиардером, а Великобританию — диктатором китобойной Антарктики. Там, во льдах далекого юга, он был Англией. А кем станет здесь, в самой Англии? Кого разорит, кого вознесет?
Салвесен хранил молчание. Журналистов это только распаляло. Рождались новые догадки, предположения, сенсационные открытия, не имевшие под собой никакой почвы.
Мое профессиональное любопытство тоже взбунтовалось. Было интересно просто увидеть этого загадочного миллиардера. Главное, я хотел узнать, что он думает о дальнейшей судьбе Грютвикена, который так неожиданно бросил, и, судя по всему, навсегда. Шутка ли, отказаться от собственного порта, промышленных предприятий и пусть маленького, но все же города!
Разумеется, я не был хитрее английских журналистов, но мне повезло — в Лондоне был Бенджамин Хоулс, хорошо знакомый с характером миллиардера и его хобби. И еще у меня было удостоверение младшего научного сотрудника, прикомандированного к китобойной флотилии «Советская Украина». Оно натолкнуло нас на удачную мысль и помогло убедить Салвесена в моей причастности к географическим исследованиям Антарктики. Географы плавали и на его флотилиях.
О нашей почти двухчасовой беседе рассказывать не буду. Длинно и не суть важно. Один изощрялся в ученых вопросах, другой — с великой серьезностью демонстрировал эрудицию метра.
Потом я сказал:
— Жаль, мистер Салвесен, что вы продаете свои флотилии. Такая прекрасная возможность для ученого, посвятившего себя проблемам Антарктики… — Я старался, чтобы в моем голосе прозвучало искреннее огорчение.
Попыхивая тонкой, как карандаш, сигарой, он сворачивал в трубки разложенные на большом столе крупномасштабные карты Южной Георгии. Ответил с благодушной усмешкой:
— Если человек что-то продает, он делает это, надо думать, не без причины.
— Разве в Антарктике больше нет китов? В прошлом сезоне рейс нашей флотилии был очень удачен.
— Все зависит от того, какие цифры вас могут удовлетворить.
— Да, я понимаю, у каждого своя мера удачи. Но что теперь ждет Южную Георгию? Грютвикен без Салвесена — трудно себе представить!
— И не пытайтесь представить, Грютвикена без Салвесена не будет.
Я изобразил наивное удивление:
— Вы намерены там все демонтировать?
— Демонтировать? — Его мешковатый подборок заколыхался от смеха. — Превосходная идея! Я знал одного судовладельца, он демонтировал свои старые коробки. Бедняга надеялся спастись от банкротства.
— Надежды не оправдались?
— Когда корабль вам хорошо послужил и вы не в состоянии его продать, не думайте, что мертвый якорь самое худшее.
— Вы хотите сказать, что Грютвикен, выражаясь языком моряков, будет поставлен на мертвый якорь?
— А почему бы нет?
— Не знаю, но раз вы так считаете… Все-таки это не корабль.
— Большой разницы между ними нет. — На этой фразе его благодушное настроение неожиданно изменилось. Безо всякого перехода вдруг сухо: — У вас будут еще вопросы?
Мне оставалось только поблагодарить за гостеприимство.
Помню, я вышел на улицу и долго не мог успокоиться. Странно и дико звучали слова о порте, поставленном на мертвый якорь.
Я думал о Грютвикене, а в голове все бродила шальная мысль послать миллиардеру посылку с сахаром. Когда Эллиот принес нам кофе, Салвесен открыл ящик стола и пинцетом достал оттуда четыре кусочка сахара, два себе и два на мою долю. Не больше и не меньше — два.
— Спасибо, мистер Салвесен, кофе я пью несладкий, — сказал я, хотя люблю, конечно, сладкий.
Возможно, я преувеличиваю, но мне показалось, что миллиардер обрадовался. Во всяком случае, те кусочки сахара, которые предназначались мне, тут же были отправлены обратно в стол, и, я бы сказал, с некоторой поспешностью.
…Не говорю, что после встречи с Салвесеном я не мечтал побывать на Южной Георгии. Нет, мне просто не верилось, что когда-нибудь я посмотрю на Грютвикен своими глазами.
Обогнув два громадных айсберга и далеко выдавшийся в океан заснеженный каменистый мыс, корабль медленно вошел в зеркально-гладкий залив. В глубине бухты, прижатые бортами друг к другу, стояли на бессрочном приколе неуклюжие посудины с высокими черными трубами — старые китобойцы. Отражаясь в воде, безжизненно-молчаливые, они словно множили свою неисбывную печаль.
Грустное зрелище — корабли на мертвых якорях. Смотришь, и струится по сердцу смутная жалость. Всего лишь обглоданные волнами ржавые коробки, а чудятся бури, штормы, умирающий в небе гордый альбатрос…
За китобойцами, у черного подножья черной горы, — черное здание электростанции. Слева от нее вдоль дощатого пирса тянулись такие же закопченные корпуса когда-то знаменитого жиротопного завода. Заколоченные окна, горы разбитых бочек, похожие на нефтяные цистерны черные баки, некогда служившие хранилищами китового жира.
В великой Тишине тонули голоса людей, стук корабельных машин, шипение и плеск волны под форштевнем.
Неожиданно из-за хребтины мыса на правом берегу залива показались стрельчатые красные крыши. Еще две-три минуты, и вот уже виден весь Грютвикен.
Я помнил «мертвый якорь» Салвесена и думал, что увижу нечто похожее на Даусон — канадский город, возникший в период североамериканской золотой лихорадки. Так же как Грютвикен, он был построен очень быстро и с большим размахом, но скоро пришел в упадок и совершенно опустел. «За многие годы моих путешествий по свету, — писал один французский журналист, — я не видел ничего подобного. Город этот ужасает. Разбитые окна дворцов и небоскребов смотрят на тебя, как темные глазницы черепа. Мостовые размыты дождями и загажены тварями, которые когда-то были домашними кошками и собаками. Их наплодилось столько, что они не дают свободно пройти по улицам. Глаза у всех голодные и дикие. Создается впечатление, что ты находишься не в городе, построенном людьми, а в каких-то катакомбах, населенных отвратным зверьем. Изредка, правда, попадаются и привлекательные кварталы, еще сохранившие следы недавнего уюта. Но и здесь витает дух мертвечины. Он гнетет и наводит на унылые размышления. Неужели человек, это высшее существо природы, способен так бесцельно растрачивать свои труды и созидательный разум? В Торонто мне сказали, что таков неизбежный конец всех городов золотоносного Севера. Кончается золото, и город становится ненужным. Согласиться с этим я не в состоянии».
Против ожидания, Грютвикен оказался даже меньше, чем бывают обычно небольшие поселки городского типа. Всего лишь десятка полтора строений, поднятых либо на высокие каменные фундаменты, либо на деревянные сваи. И только один дом двухэтажный — бывшая резиденция Салвесена. Все постройки чистенькие, беленькие, как белый крест на холме за поселком — крест Шеклтона.
Кладбище, заброшенное футбольное поле, обнесенный обветшавшими рыбацкими сетями теннисный корт. В центре поселка — несколько радиомачт и похожий на минарет огромный флагшток с реющим английским флагом. Ближе к причалу, перед аккуратным дощатым коттеджем, — еще флаг, норвежский. Он поскромнее английского, и флагшток его пониже. На площадке около него в бинокль видны старинный адмиралтейский якорь, два врытых в землю жиротопных котла и белая гарпунная пушка — символы норвежских китобоев.
Правее от поселка сбегает с гор к морю небольшая речушка. Там, на пригорке, одиноко белеет островерхая протестантская церковь.
По берегу и поселку словно пригоршнями рассыпаны стайки пингвинов и то там, то здесь валяются в маслянистой грязи коричнево-бурые туши морских слонов.
Кроме антарктической живности, есть, однако, и люди. Наше судно вышли встречать человек двадцать. Как потом выяснилось, это было все население Южной Георгии. Более двух тысяч тех, кто раньше работал на предприятиях Салвесена, отсюда давно уехали. Суда, портовые сооружения, завод — все, образно говоря, действительно поставлено на мертвый якорь. Но вовсе не брошено, как в континентальном Даусоне.
Для надзора за своим добром Салвесен в Грютвикене никого не оставлял, но, покидая остров, приказал воздвигнуть на самом видном месте капитальную мачту для английского государственного флага. Расчетливый миллиардер рассудил правильно: построить какой угодно флагшток дешевле, чем охранять добро, которым, может быть, больше и не воспользуешься. Он сделал жест «бескорыстного патриота», и все заботы по содержанию Грютвикена правительству Великобритании пришлось взять на себя. Государственный флаг требует государственной опеки. С этой целью после ухода Салвесена в Грютвикен была направлена специальная администрация во главе с губернатором и штатом государственных служащих. Делать им тут особенно нечего, и все они, как, вероятно, и предполагал Салвесен, невольно превратились в сторожей его имущества. Правда, уже после Салвесена в Грютвикене была создана метеорологическая станция, которая, в свою очередь, сделала необходимыми дизельную электростанцию и радиоцентр. Но нужды в метеосводках Грютвикена нет никакой. Точно такие же прогнозы погоды на пятидесятые южные широты Атлантики регулярно дают метеорологи Фолклендских островов и Кергелена. Но что еще придумаешь для Грютвикена? Все-таки какая-то деятельность. Есть не только государственные служащие, но и просто служащие. И даже несколько человек рабочих. Уж очень странно выглядел бы губернатор, имеющий в подчинении лишь собственную канцелярию. Тем более губернатор, управляющий одной из заморских территорий Великой Британии!
Глядя на англичан, свою администрацию в Грютвикен прислали и норвежцы. Заниматься китобойным промыслом у берегов Южной Георгии они тоже перестали, но срок концессии, когда-то купленной у Салвесена, не истек, поэтому, стало быть, нужно присутствовать. И все должно быть солидно, по крайней мере не менее солидно, чем у соседей. Губернатор, канцелярия, портовая служба, контора китоловной станции… Да, китов теперь не добывают, но станция-то в порядке…
Нашим визитом в Грютвикене были потрясены. Каким ветром, откуда, почему? Иностранные корабли у Южной Георгии давно не бывали. Раз в полгода приходит лишь судно из Англии и один корабль в году — из Норвегии.
Английский губернатор решил, что мы зашли к ним бункероваться и, едва поднявшись на борт, начал извиняться.
— Простите, но запасы горючего у нас весьма ограничены. Мы можем снабдить вас только хорошей питьевой водой и, если у вас плохо с едой, продать небольшое количество продовольствия.
— Благодарим вас, сэр, — сказал наш капитан. — Бункером и продовольствием мы вполне обеспечены. Если позволите, нам хотелось бы немного побродить по твердой земле, мы слишком долго болтались в морях.
— О, пожалуйста! Наши горы из чистого базальта.
Поджарый, длинный, остролицый, с буровато-рыжими, густо запорошенными сединой бакенбардами, он явился на ободранное антарктическими штормами научно-промысловое судно, как на Лондонскую биржу, — с тростью, в котелке и черном тонкосуконном пальто с узким шалевым воротником из поблескивающей крашеной куницы. Этакий преуспевающий, официально торжественный британский буржуа второй четверти двадцатого века. Первое впечатление, однако, при ближайшем знакомстве быстро меняется на более приятное. У губернатора, оказывается, очень подвижное, веселое лицо, официальное выражение которому никак не идет.
Несмотря на седые, словно наклеенные, бакенбарды, оно скорее напоминает лицо озорного мальчишки. Щедро рассыпанные по скулам крупные золотистые рябинки и необыкновенно яркие, лазурной голубизны, глаза, прищуренные вроде бы в пытливом внимании и вместе с тем как бы перед хитро задуманной проказой: вот-вот натворит что-то. И нос смешной — тонкий, прямой, почти классический, но на кончике — будто нашлепка кругленькая, усеянная мелкими-мелкими золотинками.
Смеется, не заботясь о солидности, громко, заливисто, и весь в каком-то нетерпеливом, радостном возбуждении.
— Все кричат: «Корабль! Корабль!» А я смотрю в бинокль — на пиратов не похоже. А кто? Солнце глаза слепит…
Приглашать, как в таких случаях принято у моряков, столь высокого гостя на банальную рюмку коньяка было неловко. Держится просто, по-свойски, и с виду располагает мужик, а там черт его знает. Губернатор! Для такой персоны банкет положено устраивать… Капитан помялся, пооглядывался в невольных поисках поддержки, потом все-таки отважился. И… вздохнул с плохо скрытым облегчением: гость согласился с удовольствием.
— О, вэри вэл! Коньяк — армянский?
— Слышь? — толкнул меня локтем старпом. — Разбирается, армянский!
— По-твоему, он век тут торчит? Дикий абориген?
— Ага, губа — не дура.
— Точно, — сказал кто-то сзади. — Спиртягой не заманишь!
— Ну да, они даже виски водой разбавляют. Нутро не приспособлено.
— Тише вы, спиртяжники!
Слава богу, англичанин, кажется, ничего не слышал. Впрочем, русского языка он все равно не понимал.
После традиционного обмена тостами и общепринятых любезностей разговор зашел, естественно, о житье-бытье на Южной Георгии. Губернатор моих ожиданий не обманул, был словоохотлив и, отвечая на наши вопросы, предписанную его рангу учтиво-холодную дипломатичность явно игнорировал.
— Если я скажу, что этот стол маленький, это будет неправда, не так ли? И все же моим длинным ногам под ним тесновато. Я думаю, наша жизнь в Грютвикене — нечто в этом роде.
— На Южной Георгии — тесно?
— Разве моряк в океане, где столько простора, и испытывает что-то похожее на тесноту? Глазам просторно, и палуба как будто достаточно велика, но… Тесно, черт возьми! Вы не согласны?
— Тоска иногда давит.
— Да, но не всякая тоска создает ощущение тесноты. Я говорю о постоянном общении с одними и теми же людьми. Когда все обо всех знаешь и заранее предвидишь, кто тебе что скажет, это так же ненормально, как длина моих ног по сравнению с этим столом.
Он говорил с веселой непринужденностью и на человека, страдающего от недостатка общения, мало походил.
— По-моему, вы ничуть не унываете, — сказал я.
Губернатор гордо запрокинул голову:
— О, я шотландец по духу и плоти! Мы умеем держать себя в седле. У меня прекрасная оранжерея, я выращиваю цветы. Представьте, это чертовски увлекает. Затем… — Неожиданно смутился, словно на полном разбеге вдруг споткнулся. Но мы, как истинные джентльмены, на минутное замешательство гостя, конечно, не обратили внимания. Он стыдливо, совсем не по-губернаторски улыбнулся: — Затем, пытаюсь рифмовать… Так, для гимнастики извилин. Читать хорошо, когда мозг переполнен впечатлениями от встреч с людьми. Тогда с книгой отдыхаешь и немножко думаешь. Увы, новые впечатления в нашем положении — самый дефицитный товар.
Левая бровь капитана, которая была почему-то гуще и длиннее правой и круто загибалась у виска вверх, придавая мешковатому, оплывшему от жестокой гипертонии лицу Петровича выражение сердитой сосредоточенности, задвигалась, как бы пытаясь согнать со лба надоедливую муху. Но мы, давно успевшие изучить нашего капитана, знали: Арсентий Петрович в очередном затруднении. «Бездельники вы, дорогой сэр Эдвард. Толчете воду в ступе, вместо того чтобы полезное что-то делать, оттого и киснете. Впечатлений им не хватает, скажи пожалуйста! А какого черта сидите тут, как собаки на сене?» — думал, наверное, он и мучительно соображал, как бы выразить свою мысль поделикатнее.
Очень это была трудная задача для Арсентия Петровича — подбирать деликатные слова. Выросший от простого матроса до заслуженного капитана, он неплохо знал английский язык, много читал и вообще был человеком образованным, но легко складывать светские фразы так и не научился, вернее, когда он специально не старался, у него все выходило гладко, но как только начинал себя контролировать, сразу становился в тупик — все приходившие в голову слова тогда казались ему подозрительно обыкновенными.
— Когда-то в Лондоне я встречался с мистером Салвесеном, — сказал я, чтобы выручить капитана и заодно повернуть разговор на более волновавшую меня тему. — Вы не знаете, что с ним теперь?
Голубые глаза нашего гостя вспыхнули живейшим любопытством.
— Вы встречались с Салвесеном? В Лондоне? И он вас принимал?
Я коротко рассказал о нашей с Бенджамином Хоулсом хитрости и сказал, что с тех пор интересуюсь судьбой миллиардера.
— Вы полагали, он все еще жив?
Пока я рассказывал, губернатор, слушая, приговаривал с заразительным смехом: «Салвесен, это Салвесен!»
— Я давно не получал о нем информации… Он что, умер?
— О, Салвесен закончил почти шекспировской драмой! Эллиот… Вы его видели?
— Да, он выходил из кабинета всего на несколько минут, приносил кофе.
— Так вот этот Эллиот, которого все считали тенью и преданным терьером дядюшки, хлопнул дядюшку по лысине фолиантом его собственных изречений! Нет, не смертельно, покушения там не было. Дело в том, что в последние годы Салвесен очень мало спал и чересчур много говорил. И требовал от племянника записывать все его рассуждения. Да, инициатива в этом странном занятии, как выяснилось, принадлежала не Эллиоту. Стенографировать все свои разговоры его заставлял Салвесен. Вообразите, как сладко было Эллиоту! При всем своем феноменальном стоизме он, конечно, взвыл. Драмы, очевидно, могло не быть, если бы старик в ответ рявкнул. Рабская душа Эллиота, мне кажется, тогда бы смирилась. Но старик только почесал лысину. Сказал: «Элли, ты глупый мальчик, я хочу тебе добра и говорю только то, что тебе пригодится в будущем. Ты не знаешь того, что знаю я, и без этих записей не сможешь продолжать наше дело». Да, он задался целью вместе с наследством оставить Эллиоту наставления на все случаи жизни. Ну, Эллиот, сколько мог, терпел еще. Но разве есть на свете собака, однажды успешно испытавшая крепость своих зубов и не понявшая, что она умеет и должна кусаться?
— Эллиот убил его? — невольно вырвалось у меня.
— Для шекспировского сюжета это было бы слишком заурядно. Он публично отрекся от наследства и раскрыл журналистам все карты. Вот в чем соль. Потом Салвесен начал зачем-то снимать со счетов крупные суммы денег. В последний раз он взял в банке наличными миллион фунтов стерлингов. Целый чемодан купюр! Зачем? Куда их столько наличными истратишь? И все ведь знали, как Салвесен любил тратить. Решили проследить за ним, и представьте: деньгами он растапливал камин!
— Сошел с ума? — Я вспомнил, как миллиардер пинцетом осторожно убирал в стол два кусочка сахара, которые предложил было мне, и снова мысленно видел себя в его кабинете. Те кусочки сахара меня потрясли тогда. Живой Плюшкин? Гобсек? Но они были дремучими невеждами, людьми без зачатков интеллекта. Передо мной же сидел человек, пусть с академической точки зрения не блестяще, но вполне толково рассуждавший о проблемах современной географии. Плохой ли, хороший, а все же ученый. И человек, единолично управлявший гигантской промышленно-финансовой империей. А манера вести себя и скупость тем не менее совершенно плюшкинские. И помните: «…не принимайте меня за человека, способного ради мимолетного удовольствия поджигать купюры достоинством в полтора фунта». Что же, кроме сумасшествия, могло вызвать у него желание греть старые кости у камина, в котором он собственными руками сжигал миллионы?
— Салвесена всегда мало кто понимал, — сказал губернатор. — В какой-то мере его поступки объяснила книга Эллиота, он издал ее после смерти дядюшки. Если судить по книге, старик был одержим и, возможно, в чем-то паталогичен, но не шизофреник. Представьте себе такую картину: восемнадцатилетний юноша, у родителей которого только два небольших рыболовных суденышка, заявляет, что он будет миллиардером. Заметьте, не миллионером — миллиардером! Сумасшедший, не так ли? Или просто наивный мальчишка. И что же? Начав практически с нуля, с маленького кредита под чужое поручительство, свой первый миллиард он сделал уже к сорока годам. Гений, не правда ли? Допустим, необыкновенная удача, счастливое везение, но жизнь ведь не может состоять из одних везений. Случайности бывают, и часто они дают самые неожиданные последствия, но в серьезном деле любая удача — не случайность. Ее нужно уметь предвидеть, вовремя увидеть и быть готовым ею воспользоваться. Кроме чисто профессиональных знаний нужна особая интуиция и очень надежная голова. Салвесен — миллиардер! А кем он был? Всего лишь каким-то Салвесеном. Не более. Потом под его контролем оказалась почти вся китобойная промышленность Великобритании. Флотилии, заводы, торговые предприятия. Он работал без посредников, сам представлял и промышленно-торговый концерн, и контрольно-финансовый банк. Но смысл своей жизни он видел не в том, чтобы пользоваться какими-то благами, то есть самому потреблять их, а в том, чтобы владеть ими, чувствовать себя хозяином и, оставаясь непритязательным в личном, быть взыскательным повелителем для других. Его аскетизм объяснялся не примитивной скупостью, как это многим казалось, а твердым убеждением: человек должен довольствоваться малым и во всем быть бережливым, так как все стоит денег и, следовательно, труда. Хотя это не мешало ему с удовольствием пировать на чужой счет. Здесь в нем сказывался бизнесмен: нельзя упускать выгоду.
— Хорошо, но зачем такое накопительство? Я знаю известную формулу: «Цель бизнеса — прибыль. Прибыль означает богатство. Богатство означает политику. Политика означает власть. Власть означает бизнес…» Но власть ради власти… Тогда это гипертрофированное тщеславие, которое, как правило, жаждет величия, всеобщего поклонения. Он же, по-моему, к популярности вовсе не стремился. Может быть, только как изыскатель Антарктики. Но тут совсем другое. Признания своих трудов, больших или малых, все хотят и все, наверное, немного себя в этом переоценивают, иначе ведь терялась бы уверенность в полезности своего труда, а значит, и главный его стимул. Творец должен быть в определенной мере тщеславен, если он мыслит себя творцом.
Губернатор неторопливо раскрутил сигару, усмехнулся.
— Вы что-нибудь слышали об ордене Рыцарей Золотого Круга?
— Рыцари Золотого Круга? Ах да, их эмблема — на круглом золотом фоне мальтийский крест и звезда.
Впервые об этом ордене я услышал в Южной Африке. Он был создан во второй половине минувшего века Сесилем Родсом, именем которого потом назвали Родезию.
То были времена, когда закончилась эпоха Великих географических открытий и завершался очередной раздел мира. Двадцатитрехлетний выпускник Оксфорда и будущий владыка Южной Африки Сесиль Родс выдвинул идею, воспринятую сначала как горячечный бред молодого человека, чья психика была травмирована неизлечимой формой туберкулеза. Он предлагал создать тайный союз из наиболее богатых и знатных людей мира, подобный тому, какой создал в 1534 году испанец Игнатий Лойола, то есть союз, основанный по принципу ордена иезуитов.
«Мир сегодня вступает в тот период дальнейшего развития цивилизации, — писал в своих программных тезисах юный лорд, — когда на смену войнам за расширение государственных границ и новые источники дешевого сырья приходит борьба за сохранение накопленного и его приумножение экономическим путем. Это не значит, конечно, что войны с прежними целями прекратятся. Найдутся обиженные, недовольные либо просто маньяки, снова готовые делить уже разделенный мир. Но главная опасность нас ожидает в другом, в том, что культурный уровень всего населения земного шара непрерывно возрастает и процесс этот необратим. Я понимаю, это звучит парадоксом, мы все за культуру, но именно культурный уровень человека меняет его понятие о существе справедливого и несправедливого. Поэтому в недалеком будущем кроме войн межгосударственных нас ждут войны внутригосударственные: за более равномерное распределение тех богатств, которыми владеют государства. Это будут войны черни против своих сюзеренов, бунты, но не стихийные, как в былые времена и теперь, а организованные силой возросшего сознания и убеждений, с четкой программой и ясной задачей. Вот почему союз людей, представляющих сегодня цвет и мощь наций, владеющих достоянием наций, является не забавой, как это кажется некоторым моим критикам, а необходимостью чрезвычайной важности. Если мы, наделенные богатством, высокими титулами и возможностью решать государственные и мировые проблемы, не хотим быть раздавлены союзами черни, чьи интересы во всем мире в конечном счете сведутся к общему знаменателю, нам следует объединиться для встречного боя без различия как национальной, так и государственной принадлежности. Наш союз должен быть правительством над правительствами и обладать способностью быстро и эффективно реагировать на все возможные конфликты. Стабилизация прав собственности и привилегий — вот наша цель. Осведомленность, готовность к борьбе, преданность одного всем и всех одному — вот наш лозунг».
Когда мир потрясла Парижская коммуна и был провозглашен лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «цвет наций» понял наконец, что родовитый юноша из Лондона, выдвигая свою идею, нес отнюдь не чахоточные бредни. В 1873 году в Новом Орлеане состоялся учредительный съезд ордена Рыцарей Золотого Круга, принявший с незначительными поправками предложенные Сесилем Родсом устав и программу и торжественно избравший его своим первым президентом.
С тех пор утекло много воды. Мир преображали великие революции и грандиозные мировые войны, но созданный Сесилем Родсом тайный орден Рыцарей Золотого Круга не распался и не ослаб. Напротив, все последующие мировые события сделали его только более сплоченным и потому более могущественным. Он не стал в буквальном смысле правительством над правительствами, но его влияние во всех капиталистических странах огромно. Минеральные и энергетические ресурсы, банки, заводы, транспорт, средства пропаганды и множество всяческих корпораций — вот что такое орден Рыцарей Золотого Круга. Это люди вроде известного миллиардера Аристотеля Онассиса, который на вопрос о его подданстве ответил: «По рождению я в принципе грек, а подданство… Я судовладелец, область моей коммерческой деятельности — мировой океан». Космополиты по духу и власть не держащие, но диктующие, они одинаково свободно чувствуют себя в любой стране, без виз и паспортов. Документов у них не спрашивают, им везде стараются услужить…
Да, но Салвесен…
— Такой барсук был членом ордена Рыцарей Золотого Круга?
— Даже надеялся стать его президентом.
— Вот как! Плебей во главе мировой аристократии — недурно!
— Очевидно, ему казалось, что истинная ценность человека в том, как он умеет делать деньги, а деньги — это все. Он был горячим сторонником идей Сесиля Родса, но не верил в способность его последователей сохранить старый мир таким, какой он есть. Они все представлялись ему легкомысленными типами, погрязшими в роскоши и разврате. Поэтому он рассчитывал взять дело в свои руки и управлять старой половиной мира, исходя из собственных концепций. Для этого, по его понятиям, ему нужны были три вещи: деньги как источник могущества, личная скромность как свидетельство идейности и авторитет человека, отдающего свой досуг не удовлетворению порочных наклонностей, а серьезным занятиям чем-то полезным, географией например. Это были те три вещи, которые, по его мнению, должны были определять лицо президента ордена.
— Так у него все это было.
— Да, но вы сами назвали его плебеем. По уставу, возглавлять орден Рыцарей Золотого Круга может только человек с титулом аристократа. Салвесен добивался для себя исключения, но у него, конечно, ничего не вышло. Какой герцог или князь, даже самый нищий, добровольно согласится избрать своим вождем плебея, хотя бы и самого богатого? Поэтому Салвесен выдал свою сестру за бедного итальянского графа и потом взял на воспитание их сына, чтобы подготовить Эллиота на роль будущего президента ордена. Он вкладывал в него все, всю душу. И вдруг Эллиот выкидывает такой номер! Вы только на минуту представьте себе, Салвесен через прессу просил у племянника прощения, умолял его вернуться! А тот ответил, что пусть к нему возвращаются черти. Тогда все свое горе старик принялся вымещать на собственных деньгах, решил, что во всем виноваты они… Разумеется, своим частным капиталом он имел право распорядиться как угодно, но кто же позволит сжигать казначейские билеты? В миллиардном исчислении! Пришлось все его банковские счета арестовать. Вероятно, для него это было уже слишком. Он умер от сердечного удара…
Губернатор говорил что-то еще, шутил и смеялся, но я уже думал о своем.
Хлеба и зрелищ! — тут все понятно. Соображения мало, а потребительское животное начало, заложенное в человека природой, сильно. Но Салвесен-то не был тупым животным. Дурак с пустыми карманами магнатом не станет… Во всем себе отказывать, каторжно работать — а трудился он всю свою жизнь действительно не зная отдыха — ради чего? Чтобы объявить войну роскоши и разврату и тем самым сохранить устои мира, в котором уровень роскоши — мерило человеческого достоинства. Еще одна разновидность донкихотства, сумасшествие от чужого порока? Да нет же, он не был сумасшедшим. И тем не менее… Тараня лбом все дозволенное и недозволенное, плебей пробивался в миллиардеры, чтобы обрести мощь и явиться мессией заблудшей аристократии. И не остановился, даже когда понял, что со свиным рылом так свиньей и останешься. Нашел себе замену…
Капитан спросил губернатора, кому же теперь принадлежит Грютвикен?
— Грютвикен? Да, но… Вы не находите меня похожим на королевского губернатора?
В душе у меня густела какая-то смесь тягостной тоски и не то досады, не то непрошеной жалости.
Простившись с губернатором, я поспешил к могилам Шеклтона. Я не оговорился — могилам.
Его хоронили дважды, и обе могилы сохранились.
4 января 1922 года, направляясь на шхуне «Квэст» («Звезда») в свою последнюю антарктическую экспедицию, Шеклтон по пути сделал остановку в Грютвикене, чтобы повидать старых друзей и оставить письма на родину. Несколько часов он гостил у Салвесена. Пил, как забулдыга, стаканами вино, непрестанно дымил трубкой, шумно острил по адресу приятеля, сидевшего за столом с видом блаженно-сердитого, туговатого на ухо пеликана.
Как и многие прежние встречи с Шеклтоном, эта встреча для Салвесена была и праздником, и новым испытанием духа. Рядом с могучим рыжебородым ирландцем, словно вобравшим в себя стихию бурь и неукротимую радость моря, всегда хмуро озабоченный миллиардер превращался в нахохленного и как будто чем-то недовольного, но вместе с тем безмерно счастливого человека, который млел в лучах славы и мощи друга, не терзаясь ни завистью к его здоровому естеству, ни жалостью к своей телесной никчемности. На Салвесена, презиравшего всякие сантименты, в эти редкие часы, казалось, снисходила высшая благодать, орошавшая его заскорузлую душу живительной влагой щедрости и сладостной, затаенно гордой влюбленности. Но разум его, суровый и неизменно трезвый, требовал при этом осуждения. Подумать только, он, Салвесен, не прощавший ни себе, ни людям никаких излишеств, потворствовал худшей из непотребностей — пьянству! В собственном доме, на собственный счет, с безвольным, все одобряющим старанием.
В лице Шеклтона перед ним одновременно был и кумир, и дьявол-искуситель… Может быть, и та единственная живая отдушина в рутинной скуке созданного им рассудочно черствого мира, необходимость которой он, возможно, не сознавал, но с безотчетной жаждой тянулся к ней, находя в общении с жизнерадостным ирландцем облегчение и согревающее холодную кровь тепло бескорыстия.
А почему бы нет? Так мне кажется. С одной стороны, а с другой… Видимо, корыстная мыслишка у Салвесена все же таилась. Трудно предположить, чтобы, встречаясь с Шеклтоном, он не брал в расчет свою вожделенную мечту стать членом ордена Рыцарей Золотого Круга. Ведь аристократ Шеклтон не только давно числился в этом ордене, но и по рекомендации самой британской королевы Александры был избран одним из двенадцати его магистров. Именно в этой роли высшего избранника Рыцарей Золотого Круга знаменитый полярник имел доступ к дворам всех монархов Европы и пользовался огромным влиянием среди могущественных воротил Америки. А это значило, что рекомендация Шеклтона для приема в орден могла, как, наверное, надеялся (увы, напрасно!) Салвесен, возместить отсутствие титула.
По рассказам очевидцев, хозяин Грютвикена в тот день показал себя особенно гостеприимным. Как потом он сам говорил, его что-то томило, какая-то смутная тревога, которая почему-то связывалась с Шеклтоном. Поэтому он старался ни в чем ему не перечить и вечером пошел провожать на шхуну.
— Нам предстоят, старина, трезвые дни, и ты уж меня извини, завтра я снова хочу покутить, прямо с утра. Не возражаешь? — сказал он, поднимаясь на борт корабля.
— Хорошо, Шеки, я распоряжусь, — ответил Салвесен с необычной для него улыбкой. — Жду тебя к одиннадцати. Если желаешь, можешь пригласить своих офицеров, будет телятина на вертеле.
Никто не подозревал, что завтрашнего дня Шеклтон, такой на вид здоровяк, не дождется. В половине четвертого утра он скончался от внезапного приступа грудной жабы. Сначала его похоронили на пустынном мысу за поселком. Экипаж «Квэста» выложил на могиле каменный холм и установил памятный крест. Потом Салвесену показалось, что пустынный мыс для могилы Шеклтона не подходит. Он всю жизнь был в окружении друзей; можно подумать, что после смерти его отвергли. И прах перенесли на общественное кладбище, оставив, однако, памятный крест на прежнем месте, но уже не деревянный, а вырубленный по указанию Салвесена из белого камня.
Вторая могила из серого гранита. Врытый в землю тонкостенный каменный прямоугольник, внутри которого — мозаика из морской гальки. У изголовья — массивный обелиск с выбитой на нем восьмиконечной звездой. О звезде были его последние слова. «С наступлением сумерек я увидел одинокую звезду, поднимавшуюся над заливом, сверкавшую, как драгоценный камень», — записал он в своем дневнике и лег спать, чтобы никогда уже не проснуться.
Я стоял у обелиска, с удивлением думал о причудах судьбы. Не ждал, не верил, а вот ведь привелось. Что ж, привет тебе, Эрнст Генри Шеклтон…
Вспомнился читанный когда-то посвященный ему очерк английского журналиста Барри Стенниса: «Он при жизни стал легендарным и, несмотря на свой буйный нрав и далеко не безупречные манеры, пользовался завидной популярностью не только среди восторженных поклонников героического, но и в чопорных высших кругах Европы. Джеймс Росс, Карлстен Борхгревинк, Раул Амундсен, Роберт Скотт и Фритьоф Нансен как выдающиеся полярные исследователи тоже добились мировой славы и всеобщего признания, но никто из них не собрал такого обильного урожая на ниве почестей, как Шеклтон. Вслед за русским царем, который первым из монархов обласкал его и наградил с поистине сказочной щедростью, он был принят и награжден Гогенцоллернами в Берлине, Габсбургами в Вене, королями Италии, Швеции, Дании и, наконец, мачехи-Великобритании. Я думаю, тут все дело в поразительном сочетании, казалось бы, несовместимого. Невозможно сказать, что определяло его как человека. Он один представлял собой как бы целую группу характеров, и все из них изумительно яркие, мощные, предельно завершенные. Подвижник — великий, авантюрист — великий, благородный рыцарь — великий, подлец — великий. И все в одном лице! Каждый, кто с ним встречался, от простых матросов до венценосцев, находили в нем то, что для них являлось наиболее притягательным. Поэтому, мне кажется, перед ним и таяли даже такие каменные сердца, как сердце угрюмого Салвесена. Но прежде всего, по-моему, мы должны смотреть на него как на общественный продукт чисто британского производства. Да, он вырос в семье, яростно ненавидевшей Англию и все английское, и все же Шеклтон — это мы, британцы, в наших крайних измерениях. Разумеется, к матери-родине он не был равнодушен, но это не мешало ему жить идеалами мачехи, хотя к нему она относилась больше своекорыстно, чем душевно.
Кем и чем он являлся для Англии, Шеклтон прекрасно сознавал и полюбить ее, как большинство ирландцев, естественно, не мог, но, обладая недюжинным умом, принял Британию, подобно Бернарду Шоу, и служил ей не за страх или совесть, а за трезво взвешенную возможность стать под ее покровительством великим…»
Не правда ли, любопытная характеристика? На общем фоне мореплавателей и полярных исследователей это была личность и впрямь исключительная.
Еще в те годы, когда Грютвикен оспаривал у фолклендского Порт-Стэнли положение центра китобойной промышленности Антарктики, Рэймонд Шеклтон-младший построил здесь в память о своем отце Шеклтон-хауз — бесплатную гостиницу для моряков, при которой устроил также музей самого Шеклтона. Копии его дневников, письма, различные документы, книги, фотографии, личные вещи, статьи и воспоминания его современников, в том числе дневниковые записи отца, в живых сценах рисующие будущего полярника в детстве и юности. Причем в этих своих записях Генри Шеклтон использует каждый повод, чтобы заклеймить Англию и англичан последними словами, и это же характерно для адресованных ему ранних писем сына, читать которые было бы неудивительно, если бы у входа в музей не колыхался на ветру «Юнион Джек» и не красовались на позеленевшей медной пластинке слова английского короля Эдуарда VII: «Эрнстом Шеклтоном Англия может гордиться со спокойной совестью».
15 февраля 1874 года в 6 часов 45 минут по Гринвичу английская океанографическая экспедиция на бриге «Челленджер» («Вызов»), руководитель которой, профессор Джон Мэррей, впервые нанес на карту правильные очертания шестого континента и назвал его Антарктидой, пересекла Южный Полярный круг. В тот же день и час в Килки-хауз — старинном родовом имении Шеклтонов в Ирландии — родился мальчик, получивший имя Эрнст Генри Шеклтон. Совпадение этих двух событий, конечно, игра случая, но будущие биографы Шеклтона увидят в нем указующий перст судьбы, и разубеждать их никто не станет.
Генри Шеклтон-старший и его отец сэр Гэйвен, дед Эрнста, происходили из почтенного, но малоимущего дворянского рода, поэтому они всю жизнь трудились — были известными врачами и слыли ирландскими патриотами. Правда, ирландский патриотизм не мешал сэру Гэйвену добросовестно служить английской короне, в течение семи веков державшей его горячо любимую родину под колониальным игом. Крупный медик, он в то же время являлся уполномоченным королевской ирландской (английской) полиции, участвовал во многих морских экспедициях англичан и даже занимал по их мандату пост генерального инспектора колониальной полиции на Цейлоне.
Сэр Генри, однако, придерживался иных взглядов. «Эти худосочные английские свиньи смеют предлагать ирландскому дворянину должность санитара в их мерзостном болоте, — обиженно бубнил он в кругу семьи, не утруждая себя, по обыкновению, разъяснением всех подробностей; вопреки своей ирландской породе, которой, как говорят, присуща избыточная эмоциональность, он даже сквернословил с полусонной ленью флегматика. Кому же быть главным подметальщиком английского дерьма в этом затхлом Ливерпуле, если не ирландскому дворянину? Шеклтона — в ассенизаторы! С биркой главного санитарного инспектора! Проклятое племя… Что такое их мораль? Лицемерие. Высший идеал — праздность, роскошь, власть; религия — идолопоклонство тиранам; политика — кто кого перелжет; парламент — игра в дурацкие поддавки; демократия — свобода убивать и грабить… Королева Елизавета подписала девяносто тысяч смертных приговоров, в несколько раз больше, чем все, вместе взятые, европейские монархи за целое столетие, и для них она — святая! А этот Дизраэли, этот внук грязного венецианского лотошника и сын жалкого спекулянта? Почему они поставили его над собой, сделали премьер-министром да еще лордом Биконсфильдом? Идиотский вопрос, как будто еврей англичанину не пара! Один, умывшись твоей кровью, корчит из себя «законного» сюзерена, чтобы «законно» жрать за твой счет и кататься на тебе, как на муле, другой охмуряет тебя богом, которого сам побил каменьями и распял на кресте, прикидывается несчастным, чтобы ты, поверивший по своей дурости в божественные добродетели Иисуса, пожалел беднягу по-христиански… Не успеешь оглянуться, как тут тебе и аллилуйя: да святятся Ротшильд с Дизраэли…»
Погрузив свой необъятный зад в столь же необъятное кожаное кресло и смачно попыхивая традиционно ирландской вересковой трубкой, сэр Генри мог бубнить так подолгу, не заботясь, внемлют ему домочадцы или нет. После скромной трапезы (с презрением отвергая новомодные деликатесы, от которых за милю несло вонью Плимута и Ливерпуля, доктор Шеклтон, как истинный патриот отечества, довольствовался непритязательной пищей дедов — съедал за обедом три-четыре луковицы, три-четыре овсяные лепешки и зажаренного на вертеле одного гуся или приготовленного таким же манером двух-, трехмесячного поросенка, употребляя при этом также полторы-две кварты доброго домашнего виски и непременно кварту холодной ключевой воды) сэр Генри испытывал потребность поразмышлять вслух, дабы лишний раз прояснить для себя существующее положение вещей и снова определить свое к нему отношение.
Потом, уже в вечерней тиши, плоды послеобеденных размышлений (следуя мудрым указаниям Авиценны, ужин доктор Шеклтон оставлял «врагу», выпивая за несколько часов до сна лишь кварту-другую горячих сливок с горстью-другой сушеных яблок вместо хлеба), окончательно созревшие, почти летописной калиграфью заносились в дневник. Разумеется, с некоторыми попутно возникающими дополнениями. Чаще всего они так или иначе касались какой-нибудь из трех священных книг — Библии с ее Ветхим и Новым заветами, Талмуда или Корана, которые сэр Генри знал так же досконально, как своих любимых Гердера, Гегеля и Фейербаха, а также величайшего из великих ирландцев Джонатана Свифта и сердечного его друга лорда Болингброка, который хотя и родился с паскудной английской кровью, но в бытность свою при дворе королевы Анны за Ирландию всегда стоял горой.
Понятно, в трех вероучениях сразу утешения не ищут, тем более такие люди, как Шеклтоны, до известного сэру Генри восьмого колена не видевшие в религиях ничего, кроме позорного маразма тысячелетий. Именно за это двое из них в семнадцатом веке и сгорели на кострах инквизиции, лишив род Шеклтонов большей части их первоначальных земельных владений.
Однако ни реквизированная за ересь земля, ни огонь аутодафе[5] Шеклтонов ничему не научили. Какими были они богохульниками и сквернословами, да вдобавок ведьмачами-врачевателями, такими и продолжали пребывать, с той только разницей, что с течением времени ересь в их роду все более ставилась на научную основу.
Маленькая, сухонькая миссис Шеклтон, вынужденная слушать еретические речи мужа, смотрела на него с таким ужасом, словно перед ней сидел не лениво сквернословивший флегматик, а некий чудовищный динозавр, который вот-вот пожрет ее живьем.
— Господи, святая троица, заступись, огради! — истово шептала она пересохшими от непроходящего потрясения губами, не в силах побороть в себе все возраставшее убеждение, что в сэра Генри не иначе вселился дьявол. Он же со своей стороны не переставал искренне удивляться: как это человек, хотя и женщина, никак не постигнет очевидного?
Но не зря ведь на фамильном гербе Шеклтонов начертан девиз: «By Endurance We Conquer» («Терпением побеждаем»). И сэр Генри не был бы Шеклтоном, если бы родовые символы для него ничего не значили. Как он сам о том свидетельствовал в оставленных потомкам дневниках, ему пришлось призвать на помощь все свое фамильное долготерпение, чтобы, не поддаваясь унынию, постоянно втолковывать богомольной супруге, как глубоко она заблуждается, почитая извергов и шлюх святыми, а книгу, воспевающую «подвиги» мерзавцев, — божественным откровением, не говоря уже о том, откуда и для чего эта книга появилась.
— Право, дорогая, — орудуя послеобеденной зубочисткой, благодушно начинал он, — я не намерен всучить тебе свое мнение, ты знаешь, навязывать кому-то свою точку зрения я не люблю, но твоя дурь меня просто сбивает с толку. Хозяйка Килки-хауза — этого всем известного прибежища здравомыслия — свихнулась на боге!
Дальше на несчастную хозяйку Килки-хауза низвергался такой поток антибиблейского «здравомыслия», от которого она действительно едва не лишалась рассудка. Может быть, именно поэтому, вопреки несгибаемому упорству сэра Генри, ее скорбно-беззаветная вера с течением времени в ней только крепла, не оставляя ни грана души, не отданной богу. На смертном одре, совсем еще молодой уходя из жизни, она впервые призналась в своем прощальном покаянии, что, выйдя за него замуж, потом горько сожалела, ибо видела, как, отвергая всевышнего, он все больше впадал во власть нечистого, наполняя человечьи уста свои его сквернотами. И никто, кроме бога, не знает, как тяжко терзалась она, искупая грехи свои в карающем супружестве. Но так, наверное, было угодно господу, и он, сэр Генри, должен простить ей, что жила она с ним, уподобив судьбу свою участи запроданной рабыни. То было началом испытаний. Теперь же бог позвал ее, и она рада отойти на окончательный суд его… «Генри! — вдруг всхрипнула она в смятенном порыве. — Прошу тебя, прошу ради нашего мальчика, молись, Генри, покайся, господь милостив… Молись, Генри…»
И навеки умолкла, оставив сэра Генри в тягостном недоумении. Запроданная рабыня… Гм, странно. Разве идея их брака принадлежала не ей? «Извините, доктор, но мне кажется, нам необходимо уточнить наши отношения. Если за ласковыми словами вы скрываете серьезные намерения, я, возможно, смогла бы их принять, и, думаю, мои родители препятствовать не станут. В противном же случае… Вы были бы далеки от истины, посчитав меня пустышкой…»
Ему перевалило тогда уже за сорок, а ей едва исполнилось восемнадцать. У нее были явные симптомы воспаления желчного пузыря, и он совершенно правильно прописал ей растворенный в оливковом масле жженый сахар, она очень страдала. Разумеется, он держался с ней ласково. Как же иначе, с пациентами врачу полагается быть ласковым, если он дорожит своим карманом. Но жениться… Этакая безобразная рыхлая туша рядом с молоденькой нежной феей… О нет, ничего подобного ему и в голову не могло прийти. Да и вообще, заглядывая иногда в зеркало, он видел там такого субъекта, что надежды на близость с какой-нибудь женщиной, хотя бы и с дочерью арендатора, пропадали сами собой. Однако эта девчонка… «Вы находите меня, Энни…» Она улыбнулась с игривым лукавством: «У вас есть какая-то Энни?» Он растерялся, не знал, куда девать свои пухлые, словно обваренные кипятком, руки. «Нет, но… Так звали одну юную леди, о ней пел бард из Белфаста…» Более идиотского ответа не придумаешь, но, кажется, он пришелся ей по вкусу, из зелени глаз будто искрами брызнуло. «О, вы романтик! — И снова одарила его улыбкой, но уже другой, без лукавства: — Вы полагаете, я должна стать вашей Энни?» Он хотел сказать, что ничего пока не полагает, для него все это слишком неожиданно, однако, не дав ему собраться с мыслями, она огорошила его согласием: «Ну-у… если ваше предложение от чистого сердца, я не против».
Через месяц они поженились, и он, достаточно почтенный доктор Шеклтон, превратился бы в жалкого лгуна, если бы вздумал отрицать, будто не познал наконец, что оно такое, блаженство во счастии. Сладкая каторга супружества, столь нежданно завладевшая им, словно ежедневно вливала в него дюжину кварт виски. Он даже ничуть не хлопал глазами оттого, что безропотно позволил поставить себя под этот дурацкий венец в костеле, и, позабыв все на свете, млел под ним, как боров под солнцем…
Гм, запроданная рабыня… Значит, все эти годы, прожитые с ним как будто в мире и согласии, она таила в себе только страх, а может быть, — почему же нет? — и скрытую ненависть. Что ж, печально. Он-то принимал ее молчаливую покорность за целомудрие супружеской любви. Печально…
Оглушенный безвременной кончиной дорогой супруги, сэр Генри присутствия духа все же не потерял и нашел в себе силы вполне правдиво воспроизвести последние слова усопшей в заветном дневнике, заключив их почти сократовски: «Желая ближнему добра, сперва уясни себе, что для него есть добро».
Вероятно, это заключение показалось доктору Шеклтону настолько заслуживающим внимания, что впредь убеждать кого-то в преимуществах собственного здравомыслия он уже никогда не пытался. И не допускал мысли снова услышать златой звон цепей Гименея.
Опеку над подрастающим Эрнстом взяла на себя мисс Симптон — деспотичная экономка Шеклтонов, правившая Килки-хаузом, как тюремный надзиратель, повергая в трепет всех домочадцев, не исключая и самого хозяина. Но в «бедном сиротке» эта тощая старая дева души не чаяла, и тут на нее можно было положиться, хотя в вопросах воспитания она разбиралась не лучше, чем деревенский поп в этикете королевского двора. Но ведь сэра Генри тоже никто особенно не воспитывал. Все Шеклтоны росли сами по себе, как трава, и тем не менее вырастали в Шеклтонов. Понятно, одной гребенкой их не причешешь, но не Карлстоны и не Брайтоны — Шеклтоны!
Усердно трудясь над великосложным антибиблейским трактатом и целиком отдавая ему все свое свободное время, сэр Генри не сомневался, что и без его вмешательства сын пойдет по стопам отца, станет, как и большинство Шеклтонов, порядочным медиком. Такая уж у них дорожка — ведьмачи-врачеватели. Единственное, что порой беспокоило сэра Генри, это то малоприятное обстоятельство, что Эрнст родился под знаком Водолея.
Если человек не верит в бога и черта, его неверие в небеса еще не значит, что он не может позволить себе роскошь серьезно относиться к разумно составленным гороскопам. Как бы то ни было, астрология все-таки наука. И звезды на небе отнюдь не мифичны.
Гороскоп Эрнста обещал ему будущее либо чересчур рационального эгоиста, либо неисправимого бродяги. Но было похоже, из него получится и то, и другое.
Едва научившись читать, он ничем так не увлекался, как книгами о жизни знаменитых людей, пиратах и море. Все остальное его не занимало. Для учителей в школе он был сущим наказанием. Где какая драка, там непременно Эрнст. И никакого прилежания на уроках, хотя учиться мог прекрасно. Если учителю каким-то чудом удавалось заставить его слушать, он схватывал все на лету и, ничего не записывая, запоминал крепче многих зубрил. Но зачем они ему, уроки? Вот пиратские походы Дрейка — это да! Или головокружительный успех Джеймса Кука. Сын обыкновенного батрака, не кончавший никаких университетов, стал великим мореплавателем и прославился на весь мир.
Только уже в колледже Эрнст, казалось, начал браться за ум. Четыре года учился с отличием и вел себя сносно, но потом (ему исполнилось тогда пятнадцать лет) вдруг заявил отцу:
— Знаешь, дэдди[6], я много размышлял и вот что хочу тебе сказать. Мне думается, по некоторым предметам, кроме литературы, математики и географии, я мог бы получать отметки похуже. В моей судьбе они все равно значения иметь не будут.
— То есть как не будут? — От неожиданности сэр Генри опешил. — А честь, достоинство? По-твоему, плохой отметкой человек сам себя не унижает? И с другой стороны… Но, дорогой, что за чепуха лезет тебе в голову?
Пропустив мимо ушей отцовскую «чепуху», юный Эрнст солидно поморщил лоб.
— Я полагаю, дэдди, честолюбию, чтобы оно не потерпело крах, нужен здравый смысл, а не слепое желание быть первым во всем и везде. Ведь ты сам всегда проповедовал здравый смысл, не так ли? Быть первым во всем и везде, несомненно, заманчиво, но возможно ли? Перед тем как разбить армию Наполеона, Веллингтон сознательно шел на проигрыш в боях местного значения и даже отступал по всей линии фронта, но сокрушительно ударил, когда французы устремились к Ватерлоо. Его преимущество заключалось в том, что он не воображал, будто всюду может быть первым, и поэтому берег силы для решающего сражения. А жизнь разве не сражение? Мне кажется, дэдди, человеку, если он намерен чего-то достигнуть, с самого начала необходимо сосредоточить все свое внимание на главном направлении. Я имею в виду концентрацию внимания на основных жизненных интересах.
Никогда не говоривший сыну ничего подобного, сэр Генри, скрывая смущение, сосредоточенно рассматривал собственный живот, на округлой верхушке которого мерно покачивалась квадратная медная пряжка от ремня.
— Конечно, Веллингтон все-таки был ирландцем… Но, Эри, кем же ты собираешься стать?
— Мне очень жаль, дэдди, но не врачом. Я знаю, тебя это огорчит, но что такое врач? Только слуга своих пациентов, не так ли? Прости, но роль слуги, даже очень уважаемого, меня не прельщает.
— Да, но… — Привыкший гордиться своей профессией и считавший себя образцом добропорядочности, сэр Генри изумленно уставился на сына. — Дорогой, ты не уважаешь мой труд?
— Нет, дэдди, твой труд необходим, поэтому не уважать его было бы неразумным высокомерием. — Мальчик говорил почтительно, но держался независимо, и голос его оставался спокойным. — Ты ошибаешься, если подумал, что я неблагодарная свинья. Я помню, чем и кому обязан, и, разумеется, постараюсь об этом не забывать. Надеюсь, в моем желании платить долги ты не сомневаешься?
Сидя в своем массивном кожаном кресле, с белесыми, до дыр протертыми подлокотниками, сэр Генри, словно пойманный с поличным, виновато заулыбался:
— Бог с тобой, Эри, мне и в голову такое не могло прийти. Но я не понимаю, почему врач — это плохо. Лечить человеческие недуги — благородно, Эри.
— Да, дэдди, конечно, — все так же спокойно ответил Эрнст. Неловкую улыбку отца он как будто не заметил. — Но свои недуги умные люди стараются скрывать. В человеческой игре это не козырь, которым можно похвалиться, а карта, у которой мало шансов на выигрыш, поэтому ее прячут, и врач, чтобы не лишать себя заработка, вынужден хранить чужие тайны, а тайна требует забвения, не так ли?
Потрясенный и совершенно сбитый с толку, сэр Генри сердито раскурил трубку. Редко общаясь с сыном, он, как всякий отец, был уверен, что его пятнадцатилетний Эрнст все еще ребенок, бойкий шалун. Но разве ребенок так рассуждает? Откуда все это?
— Ты меня извини, пожалуйста, Эри, но, по-моему, я тебя все-таки не понимаю.
— Я хочу сказать, дэдди, что слава не для хранителей тайн. Иногда врач может добиться такой известности, как у тебя, но иногда — не правило и, прости, возможно, это безжалостно, но правда есть правда: известность в своем округе — еще не слава.
— Тебе так нужна слава?
— Конечно. Слава — это цель, большая цель! Если у человека нет впереди Сверкающей Звезды, он только прозябает.
— Да, но слава, Эри, не может быть самоцелью. Признание нужно заслужить. Если с таких лет ты будешь думать только о славе…
— …ты не сможешь полюбить труд, не так ли? Нет, дэдди, тут за меня ты можешь быть спокоен. Я был бы прожектером, если бы надеялся достигнуть цели без упорства. Настоящую славу приносит только дело, а дело делают.
— И чем же ты намерен заняться?
— Я полагаю, успех в жизни во многом зависит от того, насколько своевременно и точно человек определит свои возможности. Важно знать, на что ты способен, и тогда делать выбор.
— Но у тебя он, мне кажется, готов.
— Видишь ли, дэдди, я думаю, если дело не касается творчества, для того, чтобы возвыситься над толпой, нужно решать не просто какую-то посильную задачу, а одну из задач времени, большую проблему, которую по исторической логике должны разрешить люди твоего поколения. Только в этом случае, если тебе повезет и ты сумеешь обойти конкурентов, можно выбить десятку. Мне кажется, я должен испытать себя в двух направлениях: литература и море. У меня достаточно живое воображение, и, если я буду напряженно работать, наверное, смогу стать поэтом, а нет — тогда море.
Опять море, черт бы его побрал, это море!
— Ты находишь в себе призвание моряка?
— Нет, дэдди, моряком можно быть и без призвания. Но пожалуйста, не думай, что меня привлекает бродяжничество. Ведь ты сейчас подумал об этом, не так ли?
Лохматые брови сэра Генри удивленно поползли вверх. Непостижимо, этот мальчик читает его мысли!.. И снова по мясистому, красному от избытка здоровья и смущения лицу Шеклтона-старшего пробежала рябь виноватой улыбки.
— Да нет, Эри, я абсолютно ничего не думаю…
— Значит, я ошибся, дэдди, извини, пожалуйста. — Не по летам рослый, крутолобый, с копной мягких желтовато-рыжих волос мальчик, вышагивая по рабочему кабинету отца, заговорил с упоением: — Поэты остаются на века, и они всем нужны, без них невозможна никакая цивилизация. Это замечательно, дэдди, — великий поэт! Я попробую, но для этого нужен очень большой талант. У меня его может не оказаться, или он есть, но посредственный. В таком случае делать на него ставку нельзя. Посредственность — помесь мерина и скаковой лошади, с виду смотрится неплохо, но рекорда на ней не поставишь. Оптический обман. Поэтому для страховки я избрал море. Тут, дэдди, я не проиграю, можешь в этом мне поверить, я все взвесил.
Теперь сэр Генри слушал сына зачарованно. «Мальчик мой, дитя мое», — думал он почти со слезами и, чтобы вконец не расчувствоваться, часто пыхтел трубкой — боялся, что его сентиментальность не понравится сыну и этот первый их мужской разговор будет испорчен.
— Джеймс Кук, когда его спросили, что он думает о своей профессии, сказал: «Мир обязан морякам своим открытием, а если учесть заслуги моряков в распространении полезного опыта народов, то придется признать, что без них человечество не имело бы ни современного уровня культуры, ни огромной доли накопленных богатств», — вдохновенно и в то же время деловито продолжал Эрнст. — Конечно, я не так наивен, чтобы вообразить себя вторым Куком. На глобусе ничего больше не нарисуешь, но свою задачу моряки до конца пока не решили. Мы еще не знаем морских глубин, и кто-то должен будет их изучать. Кроме того, белыми пятнами на карте остаются Арктика и Антарктика. Они тоже ждут своих исследователей, и я не думаю, что в этом деле меня успеют опередить. Возможно, я опоздаю в Арктику, но Антарктика от меня не уйдет. Хотя бы потому, что путь в Антарктику лежит через Арктику. Это не согласуется с географической картой, но отвечает законам строительства. Нельзя же предположить, что кто-то начнет строить дом с крыши. Сначала нужно сделать фундамент, возвести стены и только потом — крышу. Арктика ближе Антарктики, поэтому она будет фундаментом, стенами — антарктические моря, а крышей — Антарктида. На первые два этапа строительства меня скорее всего не пустит возраст, но для участия в третьем этапе я родился вовремя. Крыша полярного дома — за мной!
— Хорошо, Эри, — все еще заслоняясь клубами дыма, робко сказал сэр Генри. — Это все убедительно, но для такой грандиозной задачи… Может быть, я ошибаюсь, ты меня прости, пожалуйста, но, по-моему, для решения такой задачи нужно быть образованным всесторонне и очень глубоко образованным. Я не знаю твою точку зрения, но признаюсь, твое намерение получать отметки похуже меня, правду говоря, тревожит. Ты считаешь, это тебе не повредит?
Впервые за все время разговора Эрнст по-мальчишески звонко засмеялся:
— У нас в классе есть один тип, латынь ему кажется важным предметом. А какая от нее польза? Тебе, врачу, она нужна, это ваш профессиональный язык, который дает вам возможность безопасно дурачить своих пациентов. А мне она для чего? И какая практическая выгода от того, что я буду зубрить историю? Чтобы потом не казаться невеждой? Все это ерунда, дэдди. Невежество славных — особая мудрость для толпы. Когда человек возвысится над серой людской массой, любая его глупость тогда сходит по меньшей мере за милую шутку. К тому же дилетанты всегда смелее слишком образованных. Разве лишние знания не умножают осторожность?
Нет, что-то в этом мальчике сэр Генри определенно проглядел. Он уже мыслит такими категориями!..
— Да, Эри, но все же истина состоит в том…
— Ах, оставь, пожалуйста, дэдди. Кому нужна истина? И кто знает, какая она? Людям нужно лишь то, что приемлемо в настоящий момент и не противоречит их желаниям. Это может быть ложь, но ложь утешительная. Кроме того, если бы мы познали все истины, наша жизнь превратилась бы в смертельно скучное занятие. Истина хороша непознанной, пока мы ее ищем и поиск нас увлекает. Тогда в жизни есть настоящий смысл и нет опасности умереть от ожирения мозгов.
— Ты так считаешь, дорогой? — От недавнего умиления у сэра Генри не осталось и следа. «Вот как! Значит, познав истину, получаешь ожирение мозгов, — подумал он с внезапной и пока не осознанной обидой. — Великолепно! Впрочем… В таком возрасте они все максималисты, нахватаются обрывков чужих идей и мнят себя оракулами… Возрастное, пройдет… Да, но, Эри, мой сын… Среди Шеклтонов не было оракулов. И эти фразы. Разве Шеклтоны так говорят? Ни одного натурального слова…»
Между тем Эрнст, не замечая своей театральности и тщетных усилий казаться уравновешенно рассудительным, продолжал с удвоенным вдохновением:
— Я знаю, дэд, ты хочешь сказать, что, по Шопенгауэру, тот, кто ищет смысл жизни, глупец, не понимающий, что жизнь бессмысленная, всего лишь случайное, ничем не объяснимое сцепление органических молекул. Охотно допускаю, но она же не бесцельна. Я говорю не вообще, не абстрактно, как твой Шопенгауэр, я имею в виду жизнь отдельно взятого человека. Зачем и кому она была бы нужна, если в ней нет никакой цели? Я поглощаю горы книг, размышляю, сгораю в огне надежд, злюсь на тиранство проклятой «жизненной лестницы», принуждающей меня обязательно пройти через каждую ее ступень, и это все — бесцельно? Нет, дэдди, философия органических клеток меня не волнует, пусть она останется философам, к черту твоих рыбьекровных мудрецов! «Только взирая на мир со спокойной, неуязвимо бесстрастной улыбкой, начинаешь одинаково спокойно воспринимать добро и зло, хорошее и дурное». К дьяволу! Что я, без страсти? Я желаю, я жажду наполнить свою жизнь великим смыслом, и для меня он — в непрерывном поиске, в постоянном стремлении чего-то достигнуть. Чего — я пока определенно не знаю, но я буду знать, я в этом уверен, как и в том, что двух подвигов в одной жизни совершить невозможно. Для славы боги дарят нам один только миг, но его надо самому подготовить и постараться не упустить. Неудачники истории не нужны, она прославляет только тех, кто добился успеха. При этом неплохо, разумеется, проявить благородство, но если успех блистательный, он искупает все, любую подлость! Да, дэд, твой Шопенгауэр просто германский тупица, жизнь без смысла — дерьмо, прах!
Обрушив на отца очередной свой монолог, Эрнст круто остановился посреди кабинета и, скрестив на груди руки, смотрел на обалдевшего от его красноречия старика, снисходительно улыбаясь. Ну что, мол, каков я, а?
Не сразу опомнившись, сэр Генри, отдуваясь, сказал ворчливо:
— Мне трудно с тобой спорить, Эри, ты, наверное, в чем-то прав, но почему же человек, познав истину, получает ожирение мозгов? Нелепость это, дорогой, бессмыслица, уж ты поверь мне, пожалуйста.
— Да? — живо отозвался Эрнст. — А как по-твоему, если бы я познал истину, о чем бы мне еще думать? Все! Мозгам больше делать нечего, можно спокойно жиреть. Не так ли?
— Выходит, закончив свой трактат, я разучусь думать?
Лучше бы о злополучном своем антибиблейском трактате сэр Генри не заикался. Эрнст словно этого только и ждал, расхохотался, как бес:
— Ха-ха, хо-хо, я тебя понял, дэд, я тебя понял. Тебе кажется, ругая Библию, ты познаешь истину, которую готовенькой бескорыстно отдашь людям, и будешь продолжать учить их здравомыслию. Ха-ха, хо-хо, во-первых, если твой трактат когда-нибудь увидит свет, тебя за него побьют каменьями, как побили Жан-Жака Руссо за его «Общественный договор» и «Новую Элоизу», а во-вторых, ты напрасно тратишь драгоценное серое вещество, истины в твоем трактате не больше, чем в бреднях Шопенгауэра.
Теперь, задетый за живое, сдержаться сэр Генри уже не мог, вскричал почти с яростью:
— Да будет вам известно, молодой человек, своей критикой Библии лорд Болингброк себя обессмертил!
— Положим, не критикой Библии, а «Письмами об изучении и пользе истории», — спокойно парировал Эрнст. — Критика Библии занимает в них лишь малую толику, и, насколько я понимаю, эта толика намного слабее даже твоих размышлений о Моисее.
«Гм, верно», — разом остыв, примирительно согласился про себя сэр Генри. Неожиданная похвала сына ему польстила. Вслух он сказал, насупившись:
— А все же, Эри, успех, не освященный благородством человеческой души, подлинной славы никому не приносит.
И снова взрыв бесовского хохота.
— Ну, дэд, ты меня уморил. Ты что, забыл Наполеона?
— При чем здесь Наполеон?
— При том, дэдди, что он узурпировал святая святых — Великую французскую революцию! — Эрнст опять заговорил с прежним пафосом. — Он всех надул и логически заслуживал только гильотины, но французы, которые еще вчера, опьяненные лозунгом «Свобода, равенство, братство!», боготворили Марата и Робеспьера, с таким же восторгом поддержали узурпатора. Отсюда следует: идеалы чести, добра и благородства — никому не нужные иллюзии. Толпа, составляющая так называемый народ и берущая на себя право решать, кто чего сюит, прежде всего алчно корыстна, затем раболепно беспринципна и дура, позволяющая вертеть собой во все стороны. Только идиот может поверить, будто у нее есть какие-то твердые правила благородства и чести. Она идет за теми, кто сегодня сильнее и больше обещает, и кричит «виват» не честным, но поверженным, а всегда победителям, каким бы бесчестием они себя ни запятнали. Кромвель наобещал англичанам золотых гор, всех ошеломил своей отвагой, казнив Карла Стюарта, — виват вождю революции! Потом вождь превращается в единовластного диктатора — виват величайшему из мудрых, благороднейшему из благородных! Не так ли? А ведь все обман, все бесчестье. Я не прав?
— Нет, Эри, но… — Бедный сэр Генри, слушая столь очевидные банальности и не зная, как на них возразить убедительно, чувствовал себя совсем раздавленным. О небеса, эти долговязые оракулы превращают нас в затравленных кроликов. — Дорогой, по-твоему, на свете нет людей, честно добившихся признания?
На минуту задумавшись, Эрнст посуровел. Сказал наставительно:
— В своей стране человек может рассчитывать на признание в двух случаях: либо когда он приемлет существующие государственные институты и всячески им способствует, либо, сознательно обрекая себя на гонения, идет против них, предлагая что-то лучшее и указывая к нему ясно очерченный путь. В первом случае признание будет временное, во втором — можно надеяться на место в объективной истории. Но объективно история пишется не сегодня и не завтра. Зачем мне памятник, если его воздвигнут в мою честь после моей смерти? Что мне с него? Я хочу жить сегодня и славным быть не когда-то, а сегодня, моя слава должна принадлежать мне, живому!
— Да, но ты же не собираешься заниматься политикой?
И без того уже утомленный откровениями сына, сэр Генри мужественно приготовился выслушать новый монолог, но Эрнст вдруг смутился:
— Политика — это слишком роскошно…
О, взлететь до вершин крупного политического деятеля он, разумеется, желал бы больше всего на свете! Политики — владыки мира. Это и слава, и власть, и серая толпа у твоих ног. Только слюнявый дистрофик не поймет, что одно заурядное место в британском парламенте стоит и поэзии и моря ей впридачу. Но что говорить о парламенте, если для ирландца без связей и хорошего толкача в Лондоне он недостижим? Пустые мечты; он же, Эрнст, реалист. Вот если ему повезет взнуздать удачу в поэзии или на море, добиться настоящей славы, тогда можно будет заняться и политикой. Но не раньше, нет, раньше травить душу незачем…
Не подозревая о пока потаенных, столь далеко идущих планах сына, сэр Генри истолковал его смущение по-своему.
«Благодарение созвездиям судьбы, присущая Шеклтонам скромность со мной не умрет, — отметил он в дневнике в тот день вечером, и этим своим открытием был, видимо, очень горд. — У мальчика первая мозговая течка и оттого в голове каша. Много читает лишнего и, как все они, чересчур спешит в супермены. Для его возраста это естественно. Пройдет…»
Как ни потряс Эрнст безмятежный дух старого отца, одной смущенной улыбки сына сэру Генри было достаточно, чтобы утешиться и во всем его оправдать. Разогретое пылким воображением неумеренное честолюбие — болезнь всех здоровых мальчиков. Потом все станет на свои места. Само собой, по законам бытия.
Сэр Генри все еще был уверен, что, образумившись, Эрнст конечно же изберет традиционную тропу Шеклтонов, нелегкую, без сверкающих фейерверков, но надежную. Слава богу, в Ирландии врач без куска хлеба не сидит.
Скоро, однако, доктору Шеклтону пришлось разочароваться.
В шестнадцать лет, поняв наконец, что второго Шекспира из него не получится и сразу сдав экзамены за два последних класса Далвичского колледжа Эрнст твердо решает начать карьеру моряка и просит в этом содействия отца, так как по малолетству его могли принять на корабль только юнгой; он же считал, что ему следует уходить в море навигаторским практикантом, чтобы, не теряя времени, изучить штурманское дело в море и заодно выплавать необходимый для будущего диплома плавательный ценз[7]. «Я должен торопиться, дэдди, иначе крышу полярного дома построят без меня».
Ничуть не страдая угрызениями совести, юный Эрнст толкал почтенного отца на авантюру. Требовал «раздобыть» ему, то есть незаконно купить, свидетельство гардемарина[8] и, чтобы застраховать себя от возможного разоблачения, просил устроить его практикантом на клипер «Хогтон Тауэр», («Башня Хогтона»), судовладельцем и капитаном которого был Джозеф Молтсед — молодой член ольстерского клуба «Изумрудные холмы»[9], где сэр Генри в течение многих лет состоял на почетной должности хранителя клубных реликвий.
— Я полагаю, дэдди, — сказал Эрнст, — ветерану «Изумрудных холмов» Молтсед не откажет. На клипере он возьмет меня под свое капитанское крыло, и, какой я гардемарин, никто не пронюхает, а когда я войду в курс дела — тем более. Тут ты ничем не рискуешь.
Давно позабыв тот не совсем приятный прошлогодний разговор с сыном и внушив себе веру в его скромность, сэр Генри сейчас не на шутку встревожился.
— Эри, ты решил начинать жизнь с обмана? И тебя не пугает бесчестье?
Ответ у Эрнста, казалось, был готов заранее.
— Хотел бы я знать хоть одну блестящую карьеру, сделанную без искусства лицемерия и лжи! Бесчестье, дорогой дэд, пугает тех, кто не умеет употребить его себе на пользу. Разве вся жизнь Френсиса Дрейка не была бесчестьем? Но презренного пирата возвели в благородные лорды, не так ли? И его потомки до сих пор остаются лордами. Если хочешь, это закон жизни: даже шакал превращается в благородную лань, когда у него есть слава и деньги.
Удрученно опустив голову, сэр Генри долго скреб мизинцем темя. Обнаженный цинизм сына его просто убивал, но, безвольный и совершенно неспособный к сопротивлению, возражать ему он не находил слов. Да и как возразить, когда на каждое твое слово у него — двадцать. И непременно с историческими параллелями, то Наполеон, то Дрейк, то Кук… Ба, да ведь это мысль! И тут сэр Генри, пряча в уголках глаз лукавство, вдруг спросил благодушно:
— А ты помнишь, Эри, что сказал Джеймс Кук об этой твоей полярной крыше?
— О да, помню прекрасно! — обрадованно заулыбался Эрнст. Слова Джеймса Кука об Антарктике он помнил наизусть: — «Я твердо убежден, что близ полюса есть земля, которая является источником большей части льдов, плавающих в этом обширном Южном океане; я также полагаю возможным, что земля эта заходит дальше всего к северу против Южного Атлантического и Индийского океанов, ибо в этих океанах мы всегда встречали льды дальше к северу, чем где-либо еще; этого, я думаю, не могло бы быть, если бы на юге не находилась земля — я имею в виду землю значительной величины… Однако в действительности большая часть этого южного континента (предполагая, что он существует) должна лежать внутри Полярного круга, где море так усеяно льдами, что доступ к земле становится невозможным.
Риск, связанный с исследованием побережья в этих неизведанных и покрытых льдами морях, настолько велик, что я могу взять на себя достаточную смелость, чтобы сказать, что ни один человек никогда не решится сделать больше, чем я, и что земли, которые могут находиться на юге, никогда не будут исследованы. Густые туманы, снежные бури, сильная стужа и все другие опасные для плавания препятствия неизбежны в этих водах; и эти трудности еще более возрастают вследствие ужасающего вида страны, которую природа лишила теплоты солнечных лучей и погребла под вечными льдами и снегами. Гавани, которые могут быть на этих берегах, забиты смерзшимися глыбами снега огромных размеров; если в одну из них и сможет войти корабль, он рискует или остаться там навсегда, или выйти обратно, заключенным в ледяной остров…»
— Вот видишь, дорогой, даже Джеймс Кук считал невозможным проникнуть в Антарктику, а тебе она все мерещится. Или Кук для тебя больше не авторитет? — Сэр Генри знал, что Эрнст, не подумав, немедленно ответит цитатой, и, слушая его декламацию, наперед испытывал удовольствие от того, как сын, опомнившись, повесит нос. Уж со своим-то любимым Куком согласиться ему придется.
Уловка, однако, не удалась.
— В том-то и фокус, дэд, что обставить такой авторитет, хотя бы и после его смерти, — уже слава, — не приняв наивно наигранного благодушия отца, сказал Эрнст серьезно. — Кроме того, ты напрасно думаешь, что, если я иногда восхищаюсь подвигами Кука, для меня его мнение — окончательный приговор. Я не ошибаюсь, ты так подумал?
Сэр Генри сконфуженно пожал плечами. Эта способность Эрнста угадывать его мысли наводила на беднягу прямо-таки суеверный страх. Робея, он тогда весь покрывался испариной и не мог не только что-то сказать — боялся шевельнуть мозгами.
— Я твердо знаю одно, — продолжал между тем Эрнст, грузно вышагивая по отцовскому кабинету, — прогресс в авторитетах не нуждается, они чаще всего вредят ему, как церковь — просвещению. Какой может быть прогресс, если все станут оглядываться на чьи-то закостенелые авторитеты? Громить их, сбивать с пьедесталов — вот в чем задача творцов цивилизации. Прикинь-ка, разве вся эпоха Возрождения не была великим бунтом против авторитетов? — Недавно еще по-юношески пылкий, непримиримо задиристый, сейчас он говорил в спокойном размеренном тоне, не столько обращаясь к отцу, сколько как бы рассуждая с самим собой, и, глядя на его рослую, широкую в кости фигуру, слушая его неторопливую речь уверенного в себе и своих словах человека, нельзя было подумать, что перед тобой все тот же вдохновенно-самонадеянный шестнадцатилетний мальчик. Изменились даже глаза: вместо горячечного нетерпения теперь их наполняли решимость и воля натуры страстной, но не бесшабашной. Куда и как направить свою страсть, этот, теперешний, Эрнст знал отлично. — Разумеется, жизнь Кука достойна того, чтобы им восхищались. Но ведь это он авторитетно утверждал, будто Антарктида недоступна, а Дюмон-Дюрвиль тем не менее потом благополучно высадился на Земле Адели. Другое дело, что продвинуться дальше в глубь материка французы не смогли. Сегодня тоже пока никто не сможет, потому что ни у кого нет еще достаточного полярного опыта. Для этого нужно покорить сначала более близкую и потому более доступную Арктику, тогда все будет ясно. Я полагаю, на это уйдут ближайшие десять — пятнадцать лет, не больше. Затем — Антарктика. Ждать осталось недолго, гораздо меньше, к сожалению, чем требуется британскому моряку, чтобы закончить училище и стать капитаном. По этому, дэд, я и должен попасть на клипер Молтседа незамедлительно и обязательно гардемарином. Терять лишних три года на училище в моем положении было бы безрассудно.
Конечно, сэр Генри не мог предположить, что предсказания шестнадцатилетнего Эрнста относительно порядка и сроков полярных исследований со временем окажутся на удивление пророческими, но, очевидно, логика его доводов была так сильна, а намеченная цель так определенна, что старик наконец сдался, взял на себя и позор, связанный с добычей фальшивых документов гардемарина, и унизительную миссию переговоров с капитаном Молтседом.
…27 апреля 1890 года новоиспеченный «гардемарин» Эрнст Генри Шеклтон ушел в свое первое океанское плаванье, и с этого момента его след для нас затерялся на целых десять лет. Мы знаем только, что на клипере «Хогтон Тауэр» он прослужил четыре года, в течение которых совершил два плаванья в Чили и одно кругосветное. Затем, несмотря на формальное отсутствие систематического морского образования, блестяще сдал штурманские экзамены и был назначен третьим помощником капитана на пароход «Монмоусшайр», ходивший из Англии в Японию, Китай и Америку. Потом во время англо-бурской войны в той же должности третьего помощника капитана плавал на транспортном корабле «Тинтайгл кастл», который перевозил британских волонтеров из Южной Англии к месту боевых действий в Кейптаун. Отсюда, из Кейптауна, в июне 1900 года он и прибыл в Лондон, чтобы начать свои хлопоты о зачислении в первую британскую антарктическую экспедицию. И это было самым удивительным, так как, покидая службу на «Тинтайгл кастл», он отправлялся в Лондон, влекомый лишь собственной интуицией. О том, что там действительно началась подготовка экспедиции в Антарктику, кроме узкого круга учёных и нескольких членов правительства, в Англии еще никто не знал. Опасаясь более предприимчивых норвежско-шведских конкурентов, англичане до поры до времени держали свои планы в строгом секрете. И тем не менее Шеклтон (будем так называть его в дальнейшем) явился к президенту Королевского географического общества с таким видом, словно ему все уже было известно.
«Его неожиданным визитом я был страшно раздосадован, — вспоминал позже сэр Клементс. — Подготовка экспедиции только начиналась, и утечка информации на том этапе нам могла серьезно повредить. Я был уверен, что при нашей неповоротливости норвежцы или шведы нас непременно опередят. Поэтому я сказал, что никакой экспедиции в Антарктику мы пока не планируем. Тогда он спросил: «Может, Адмиралтейство?» — на что я ответил: «Если бы Адмиралтейство предпринимало что-то в этом роде, я полагаю, меня бы известили, но я ничего не слышал». Мой ответ, однако, его не удовлетворил, отчего моя тревога только усилилась. Настойчиво предлагая свои услуги, он проявил такую осведомленность в наших делах, что я скорее поверил бы в дьявола, чем в подобное ясновиденье…»
Потом необыкновенной прозорливостью молодого Шеклтона поражались многие его биографы. Но никакого ясновиденья у него, конечно, не было. Внимательно анализируя ход полярных исследований в Арктике и всевозрастающий в Европе интерес к Антарктике, он просто решил, что время для штурма шестого континента настало. И не ошибся…
В апреле 1890 года, впервые уходя в море на клипере «Хогтон Тауэр», шестнадцатилетний Эрнст написал для себя любопытную памятку:
«Сверкающая Звезда светит тем, чья жизнь наполнена великим смыслом борьбы и побед.
Лучший стимул к победе — честолюбие; лучшая цель — слава.
Обладая богатством, многое можешь купить; обладая славой, легко добываешь богатство.
Что не является необходимым средством для достижения цели, то не обязательно.
Руководствоваться в своих действиях формулой «Цель оправдывает средства» — значит жить без предрассудков.
Кто во всем старается быть честным, тот чаще других остается в дураках.
Искренность и правда хороши лишь в том случае, когда они выгодны.
Человек — животное из разновидности стадных, он нуждается в друзьях. Прочной дружбы без взаимной преданности не бывает, но преданность — тяжелая ноша, поэтому, выбирая друзей, взвесь, не слишком ли себя обременяешь.
Если не хочешь нажить врагов, никому не делай одолжений.
Все, что намерен сказать, сначала проиграй в уме.
Самое сокровенное никому не доверяй.
Удача сопутствует тому, кто умеет собой владеть и в любом положении кажется благополучным. Как только позволишь себе какие-то жалобы, будешь искать сочувствия, в тебе начнут сомневаться, и тогда сам не заметишь, как придешь к поражению.
Всегда вперед, всегда к Сверкающей Звезде!»
Когда в шестнадцать лет, начитавшись книг о всевозможных суперменах, юноша составляет для себя столь рациональные жизненные правила, это, наверное, может еще вызвать снисходительную улыбку. Но если человек неуклонно следует им и в двадцать шесть, тут уж невольно подумаешь: «Да-а, линия!»
И характер.
Оказавшись спустя десять лет в Лондоне с тощими карманами и практически без всяких перспектив, не имея в этом городе ни друзей, ни влиятельных знакомых, наш герой не растерялся.
Прежде всего, не поверив Клементсу Маркхэму, он вскоре убедился, что решение о британской экспедиции в Антарктику уже принято. И даже назначен ее начальник — Роберт Фолкон Скотт, тридцатидвухлетний протеже Маркхэма, только что произведенный в капитаны 2-го ранга Королевского военно-морского флота. Человек, по слухам, очень добрый, интеллигентный и набожный, но к гражданским морякам, особенно ирландцам, относится плохо. Считает, что у них отсутствует чувство долга и нет никакой дисциплины. Поэтому в состав своей экспедиции подбирает только военных, преимущественно англичан, и лишь тех, кого знает лично по совместной службе. Но расстраиваться преждевременно. Не известно еще, состоится ли эта экспедиция вообще. На ее подготовку нужно сто тысяч фунтов стерлингов, а правительство выделило только сорок пять, предложив Географическому обществу собрать остальную сумму по подписке. Однако, чтобы сохранить снаряжение экспедиции в тайне, подписка должна быть закрытой, без обычной в таких случаях рекламы, и тщеславные английские меценаты жертвовать деньги не спешат.
Словом, хотя Шеклтон мог быть доволен, что его антарктический прогноз начинает сбываться, ничего утешительного ему это не сулило. Но не таков Шеклтон, чтобы опустить крылья.
Экспедиции нужны деньги? Прекрасно, значит, отсюда и надо плясать.
Кто платит, тот заказывает музыку.
Разумеется, в его карманах гулял ветер, но… Как гласит великая мудрость французов: ищи женщину!
Во время англо-бурской войны, уклоняясь от мобилизации в действующую армию, на транспорте «Тинтайгл кастл» с ним плавал и дружил некий Майлс Лонгстафф, которого в Портсмуте — порту приписки корабля — часто встречала и провожала в очередные рейсы его родная сестра Сарра — некрасивая перезревшая девица, все еще, должно быть, не утратившая радужных надежд.
Вот эту девицу и вспомнил в нужный момент наш почитатель мудрости французов. Дело в том, что отцом Майлса и Сарры был Льюэллин Вуд Лонгстафф — крупный лондонский промышленник, финансист и к тому же член правления Королевского Географического общества. Папаша, так сказать, по всем статьям, находка: и деньги, и связи, и голос в руководстве КГО, а значит, и какое-никакое, но все же влияние на судьбу предстоящей экспедиции в Антарктику. Если же уговорить миллионера внести в ее кассу недостающую сумму, она станет решающим, и тогда против его воли не осмелятся пойти ни Маркхэм, ни Скотт.
Лучшего варианта не придумать, тем более, по словам Майлса, старик давно мечтал выдать засидевшуюся в невестах дочь за кого угодно, только был бы порядочный человек. Сама же Сарра, встречаясь с Шеклтоном в обществе брата, смотрела на него такими глазами, что никаких пояснений не требовалось. И для нее он, конечно, был не просто златокудрым «богом морей», а уж не «кем угодно» — наверняка. Не богат, да, но баронет, потомственный аристократ. Подцепить титулованного жениха в Англии сочтет за счастье любая девушка, не исключая и дочерей плебеев-миллионеров.
Шеклтону, правда, было известно, что несколько месяцев назад Майлс ушел на целый год в кругосветное плаванье. А явиться к Лонгстаффам, но не к Майлсу вроде неудобно. Но можно ведь и не знать о плаванье Майлса. Расспросить, где он, что с ним, пожаловаться на свое в Лондоне одиночество…
Как развивались события дальше, догадаться нетрудно. Боюсь, однако, вряд ли догадки моих читателей будут верны.
Избрав жаждущую замужества девицу средством для достижения намеченной цели, жениться на ней Шеклтон вовсе не собирался, даже за миллионы Лонгстаффа. И не потому, что она представлялась ему такой уж уродливой или их браку могла помешать иудейская вера Сарры. Ни то, ни другое для Шеклтона значения не имело. Великолепный красавец, сильный и мужественный, с внешне веселым, беспечным нравом, он пользовался у женщин всех сословий огромным и неизменным успехом, но сам искренней взаимностью никому не отвечал. Как писал один из его биографов, «сознавая все выгоды своей необычайной власти над женскими сердцами, он умел искусно применять ее для дела, не испытывая при этом ни чувственных влечений, ни внутренней потребности в женском обществе. Его, отдававшего всю свою страсть борьбе за первенство на необъятной арене жизни, и красотки и дурнушки одинаково не волновали».
Здесь нужно отметить, что по-настоящему духовный мир Шеклтона при его жизни никто не знал. Свои потаенные мысли и чувства в ранней юности он приоткрывал только перед отцом, да и то не полностью и не так часто, чтобы по ним создать какую-то законченную психологическую картину. В дальнейшем же достаточно коротко он не сходился ни с кем, хотя приятелей и друзей у него всегда было много. Для одних он был тем, кого у нас, на Руси, называют «рубаха-парень», для других — романтическим чудо-героем, для третьих — остроумным, с замечательными манерами великосветским денди… Поразительную множественность его обличий невозможно описать. Причем в любом из обличий в нем не замечали никакой наигранности, ничего ложного. И тем не менее все это была только умело, я бы даже сказал, гениально сработанная наружность, проникнуть за которую с известной долей предположений позволяет лишь тщательный анализ его поступков и отдельных, как бы невзначай оброненных фраз.
Я говорю это к тому, что верить его биографам, пытавшимся рассказать нам об интимной стороне жизни своего героя, надо осторожно. Как этот в высшей степени скрытный человек в действительности относился к женщинам, судить сложно. Но очевидно, чувство любви, то самое сокровенное и могучее чувство, которое, воспламеняя человека, высекает из его души искры подлинного благородства, он в своей жизни так и не познал. Когда внимательно знакомишься с длинным списком его амурных приключений вплоть до женитьбы в 1904 году на Эмилии Дорман и ошеломительно бурного и скандального романа с русской императрицей Александрой Федоровной в 1909 году, когда всматриваешься в фотографии покоренных им женщин, большей частью некрасивых, но непременно богатых или знатных, а то и венценосных, читаешь его письма к ним, натужно сентиментальные, но совершенно безликие, с бесконечным повторением одних и тех же излияний, не остается сомнений: никого из них он не любил, никем искренне не увлекался. Податливые, глупые самки и многоопытный бизнесмен от любви, для которого за каждой интрижкой — либо кратковременная выгода, либо холодно продуманный дальний расчет.
Судя по его женитьбе на Эмилии Дорман (она была еврейка), не страдал он в противоположность своему отцу и предубежденностью против иудеев или, что вернее всего, решаясь на брак с Эмилией — фрейлиной королевы, преследовал не только редкую в его положении возможность быть принятым в Букингемском дворце, но и старался рассеять то неожиданно ставшее для него угрожающим впечатление, которое произвела на могущественных лондонских евреев его неприглядная авантюра с Саррой Лонгстафф. Однако и без этого последнего обстоятельства, как оно ни двусмысленно, упрекнуть Шеклтона в национальных предрассудках никто бы не смог. Поступки его убедительно показывают, что если какую нацию он и презирал с болезненной досадой, так это своих же ирландцев, которые много болтают о собственных национальных достоинствах и поруганной отчизне, но отстоять независимость родины никогда не были способны. Оттого, думал он, извечно и слоняются они по всему свету, как бездомные бродяги, нигде не встречающие ни сочувствия, ни тем более уважения, либо, вдохновенно пустобрехствуя, прозябают на своих изумрудных холмах то в голоде, то в первобытном обжорстве.
Короче говоря, ни малопривлекательная внешность Сарры Лонгстафф, ни ее национальность Шеклтона от нее бы не оттолкнули. Причиной всему, как это ни покажется странным, были ее миллионы, которые Шеклтон при всей его корыстной натуре отверг вместе с Саррой по вполне здравым соображениям.
Подобно своему будущему английскому другу Салвесену, он с юных лет так же страстно желал подняться над серой людской массой, чтобы затем стать одним из повелителей мира сего. Для чего это нужно было Салвесену, мы уже знаем. Ведя мрачную жизнь скаредного барсука и упорно накапливая миллиарды, угрюмый плебей возжигал в своей заскорузлой душе сумасбродную идею искоренения пороков заблудшей аристократии, возлелеивал надежду купить за свои миллиарды право и власть мессии «голубых кровей».
У Шеклтона, в отличие от него, идей не было, ни сумасбродных, ни возвышенных. Идеи, если они не связаны с наукой, техникой и литературой, — никчемная блажь. Так или иначе, но все нынешнее в этом мире подчинено одной лишь грызне человека с человеком, а все будущее, к чему зовут возвышенные идеи, — худшее повторение нынешнего. Выше древних греков и римлян не прыгнешь, они все сказали, все испробовали, все испытали. Дальше, за ними, — только колесо истории.
Мерзкую человеческую природу не переделать, и безнадежно наивен тот, кто думает иначе, кто не извлек урока из трагической судьбы Иисуса Христа и порожденных его возвышенными идеями инквизиций.
Счастье народов, свобода и равноправие, аристократы и плебеи — все блажь. Дерзающий, лишенный морализаторских предрассудков и поэтических иллюзий индивидуум — вот то единственное, что достойно внимания среди массы безмозглых, алчных, рабствующих пигмеев.
И он, Шеклтон, таким индивидуумом станет. Пигмеи будут ползать у его ног, ловить каждое его слово, умильно слюнявиться любой его глупости.
Как он взойдет на свой пьедестал, какие найдет для этого средства — неважно, но твердо будет помнить одно: цель оправдывает средства!
Такой представляется нам его жизненная религия, основные мотивы которой можно проследить по его поступкам и поведению.
О существовании всемирного ордена Рыцарей Золотого Круга он, как и Салвесен, конечно, знал. Но его честолюбивые устремления распространялись шире. Орден — да, и даже непременно, однако так же непременно и британский парламент: власть тайная и явная!
Но если Салвесен, мечтая об ордене Рыцарей Золотого Круга, в своей замшелости почти до конца жизни несокрушимо верил, что нет выше бога, кроме бога, и деньги его пророк, то Шеклтон еще в шестнадцать лет записал в своей памятке: «Обладая богатством, многое можешь купить; обладая славой, легко добываешь богатство». Стало быть, уже в юности сознавал, что купить на деньги можно не все, а только многое. Славу, триумф величия духа на них не купишь, а только они, триумф и слава, по его убеждению, открывали самую надежную дорогу к вершинам Олимпа. С другой стороны, будучи ирландцем, он видел, что даже очень богатые и родовитые его земляки в Британской империи остаются все равно людьми второго сорта. На них словно клеймо прокаженных, заведомо указывающее на принадлежность к стану отверженных. Только такие великие люди, как Бернард Шоу, навсегда порвав с Ирландией и доказав свои личные преимущества над миллионами прочих, могут в Британии рассчитывать на успех.
Поэтому, как ни вожделенно тянулся Шеклтон к богатству, он хотел, чтобы оно обязательно было материализованным выражением его собственной славы, как бы ее печатью, наглядно удостоверяющей для окружающих его победу на пути к Сверкающей Звезде.
Прими же он миллионы Лонгстаффа, мало кто в Лондоне потом бы не сказал: «Вот еще одна ирландская обезьяна, продался старому еврею в зятья и теперь на его деньги покупает себе славу». И этим все было бы исчерпано. Никакие личные заслуги Шеклтона уже ничего бы не значили.
Иное дело, если старого миллионера он надует, деньги на предстоящую экспедицию в Антарктику пожертвовать заставит, а на Сарре-то и не женится, ее приданым не соблазнится. Лондонцам это понравится, в Лондоне это оценят. Гм, афера, ну и что? Зато какой ловкий парень! И как бескорыстен!
Не будем останавливаться на всех подробностях дальнейших событий. Скажем только, что план Шеклтона удался. С одним, правда, не очень желательным для нашего «жениха» отклонением.
Начав свою авантюру с Саррой Лонгстафф, Шеклтон, видя восторженную доверчивость не испорченной мужским вниманием девицы и ее влияние на отца, надеялся, что все обойдется без официальной помолвки. Она ему была ни к чему, тем более помпезная, на весь Лондон, как того хотел старый Лонгстафф. Миллионер, однако, заупрямился.
— Эта Антарктика, — сказал он дочери, — мне нужна не больше, чем драной кошке дырявый жилет, но пусть она нужна моему зятю, я не говорю нет, слава богу, Лонгстафф — не собака на сене, но Лонгстафф и не та глупая курица, что гребет от себя. Кто мне этот Шеклтон, я знаю?
— Но, папочка…
— Ну конечно, я — папочка, а ты — моя дочь, и я хочу тебе красивого счастья, но скажи мне, на милость бога, если он серьезно намерен жениться и ты согласна за него пойти, почему мы должны откладывать помолвку, а за ней — свадьбу?
На это Сарра ответила так, очевидно, как научил ее Шеклтон:
— У бедного Эри вышли все наличные деньги, и его управляющий из Килки-хауза (сэр Генри к тому времени умер) пришлет их не скоро, поэтому Эри, вероятно, придется даже ненадолго сходить в море, чтобы немного заработать. На транспорте «Карисбрук кастл» как раз требуется на три месяца подменить второго помощника капитана.
— Мой бог, но Лонгстафф пока не беден! Или я не вижу, какие капиталы у твоего Эри?
— Да, папочка, но с твоей стороны было бы ошибкой сомневаться в его чувствах порядочного джентльмена. Баронету Шеклтону совсем не безразлично, кто оплатит его часть расходов на помолвку, не говоря уже о свадьбе. О нет, папочка, ты не знаешь, какая это возвышенная, какая благородная и чистая душа!
— И потому неблагородный Лонгстафф должен выложить кучу денег, чтобы злой мистер Маркхэм позволил этой благородной душе, неизвестно чем связанной с Лонгстаффом, прогуляться в Антарктику? — По обыкновению, снисходительная улыбка всегда невозмутимо благостного старика не скрыла его хотя и невольной, но довольно грубой иронии, от которой чувствительная Сарра вся вспыхнула.
— Ах, папа, что ты называешь прогулкой! Эри идет на подвиг, идет во льды, в жуткий мрак! Ты думаешь, ему это надо? Он идет ради меня одной, да, да, только ради меня!
Неожиданный гнев бесхарактерно кроткой дочери искрение огорчил Лонгстаффа, обидеть ее он, понятно, не хотел. Однако чем это забил он ей голову, этот ирландский прохвост? Как это, только ради нее?
С трудом дав себя успокоить, Сарра объяснила.
Эри ее очень любит, и ему ненавистна мысль, что кто-то когда-нибудь может сказать, будто он женился на ней из-за миллионов Лонгстаффа. Поэтому на ее приданое он совершенно не рассчитывает и хоть сегодня готов подписать предварительные условия будущего брачного контракта, по которому от отца невесты не возьмет ни пенса. Но он сознает, что на теперешние свои доходы прилично содержать дочь Лонгстаффа невозможно. Потому ему и нужна экспедиция в Антарктику. Если он займет в ней одно из руководящих мест, потом она создаст ему такое положение в обществе, при котором Сарра не будет знать никакой нужды. Это верно так же, как то, что в сутках двадцать четыре часа. Лучший пример тому — судьба и всемирная слава Фритьофа Нансена. Если даже такая маленькая страна, как Норвегия, окружила своего отважного полярника королевскими почестями и провозгласила его национальным героем, то уж могущественная Великобритания от норвежцев как-нибудь не отстанет, тем более что британцы будут не просто дрейфовать во льдах Антарктики, как Нансен дрейфовал на Севере, а должны через весь материк пешком дойти до Южного полюса, то есть совершить подвиг беспримерный.
К сожалению, раньше Эри не знал, что такую экспедицию планируют, и вообще не думал об Антарктике. Иначе он сумел бы заранее подготовиться и обойтись без посторонней помощи. Но сейчас говорить об этом поздно, Эри нужно помочь.
Слушая взволнованную речь дочери, которая напрасно старалась придать ей тон деловитости, Лонгстафф, наверное, с грустью думал про себя: «Как он оплел тебя, дитя мое, как подчинил своим интересам!»
Старик не был настолько ослеплен родительской любовью, чтобы не понимать, способно ли подобное его Сарре существо вызвать какую-то страсть у такого многоопытного красавца, как Шеклтон. Ей было тогда двадцать девять лет, всего на три года больше, чем Шеклтону, но рядом с ним она выглядела старше в полтора раза. Длинная, угловато-нескладная, с нездоровым землистым цветом маленького птичьего лица. Рано перешагнувшую грань поры увядания, ее не украшали ни дорогие наряды, ни патентованная парижская косметика. Только раскосые черные, как две переспелые сливы, глаза, озаренные светом надежды и робкой, искательной доброты, были прекрасны. Но светились они странным образом, как бы отдельно от лица, нисколько его не оживляя. Даже когда она улыбалась, в узких суховатых складках губ таилась неизъяснимая и словно бы застывшая печаль.
Не могла Сарра внушить страсть Шеклтону. Но Лонгстафф хорошо знал: эти играющие в бескорыстных романтиков обольстители за очаровательными невестами не гоняются, им нужны деньги, а невеста хромая ли, кривая — все равно. Нет, не таким Лонгстафф был дураком, чтобы принять чувства «возвышенной, благородной и чистой» души Шеклтона на веру. Но Шеклтону поверила Сарра, поверила трепетно и свято, и разрушить ее иллюзии отцу было бы больно. Пусть согревают бедняжку.
Но если он так настойчиво добивается этой Антарктики, которая, судя по всему, действительно откроет ему блестящие перспективы, нужна ли потом окажется Сарра? Со славой да с положением в обществе в Лондоне нетрудно найти невесту и повыгоднее дочери Лонгстаффа. Нет, этого прохвоста надо вовремя взять в руки. Впрочем, со свадьбой, пожалуй, можно обождать, вдруг погибнет в Антарктике, но официальная публичная помолвка — обязательно. Чтобы после, если благополучно вернется, не попятился.
Столкнувшись с непреклонной волей Лонгстаффа, Шеклтон вынужден был согласиться. Но по-видимому, чтобы «сохранить лицо», в плаванье на «Карисбрук кастл» все-таки на три месяца ушел. Хотя денег на помолвку у него, наверное, и в самом деле не было, а отнести все расходы за счет Лонгстаффа, заранее зная, чем закончится эта помолвка, было бы уж чересчур вызывающей наглостью. По сложной классификации щепетильной лондонской публики не всякая наглость простительна.
Итак, с малым отклонением, но большим успехом, авантюрный замысел Шеклтона исполнился в точности, даже с лихвой. Кроме того, что Лонгстафф внес в кассу экспедиции крупную сумму денег, потребовав в обмен от Маркхэма назначить своего будущего зятя третьим помощником Скотта и непременным участником похода к Южному полюсу (полюсной партии экспедиции прочились главные почести и слава), старый миллионер, дабы предупредить возможное недовольство Скотта цивильным званием Шеклтона, сумел сделать его младшим лейтенантом Королевского военно-морского флота. Случай для английских военных моряков, вынужденных до лейтенантских погон не менее пяти лет тянуть мичманскую лямку, редкостный!
Наконец 5 августа 1901 года экспедиционное судно «Дисковери» («Открытие»), в рекордно короткий срок построенное и оборудованное на верфи в Данди, стало на якорь в темзенской гавани Коус. Теперь держать экспедицию в тайне уже не имело смысла. К походу в Антарктику все было готово, и англичане всех явно опережали.
Чтобы торжественно проводить полярников в плаванье, на борт «Дисковери» прибыли король Эдуард VII и королева Александра. Монарх произнес краткую напутственную речь:
— Я не раз бывал на кораблях, чтобы пожелать их командам счастливого пути перед выходом в плавание с заданиями военного характера. Но ваша миссия — мирная, цель ее — прогресс знаний. Результаты ее окажутся полезными не только для нашей родины, но и для всего цивилизованного мира. Я очень доволен.
(Когда начиналось какое-то государственное предприятие, сулившее еще более поднять престиж Великобритании, но не стоившее королю ни пенса, Эдуард VII всегда был «очень доволен». Ему казалось тогда, что он всех обвел вокруг пальца, и это приводило его в состояние высшего самоуважения. «Слава — мне, и денежки мои целы. Вот как, дорогая!» — серьезно поучал он венценосную супругу, которую считал ужасно расточительной: та как-то пожертвовала Обществу натуралистов целых пять фунтов стерлингов!)
Затем король вручил присутствовавшей на корабле Ханне Скотт, матери начальника экспедиции, ленту ордена Виктории, чтобы она прикрепила ее к груди сына, так сказать, авансом. Королева же преподнесла ему лично ею сшитый «Юнион Джек».
— Я надеюсь, капитан, на Южном полюсе этот флаг будет особенно красив.
— Да, ваше величество, мы постараемся, — скромно ответил Скотт.
— Постараетесь? — изумился король, пожирая глазами новенькую ленту ордена Виктории на груди Скотта. — Вы не уверены в успехе?
Командира опередил стоявший рядом Шеклтон:
— Нет, ваше величество, мы все абсолютно уверены, а капитан — больше всех! — воскликнул он с жаром.
В его положении третьего помощника начальника экспедиции, к которому никто не обращался, это было верхом бестактности, но его взволнованная непосредственность королю понравилась — монарх благосклонно кивнул ему. Милостивую улыбку подарила и королева:
— Нам не представили вас, лейтенант…
— Извините, младший… — густо покраснев, Шеклтон попытался было исправить оплошность королевы, но, вовремя вспомнив, что венценосные особы ошибаться не могут, и, значит, отныне он чином выше, бодро отрапортовал: — Баронет Эрнст Генри Шеклтон, ваше величество!
— Вы — ирландец?
— Так точно, ваше величество!
— Ну что ж… храни вас бог, лейтенант!
Нет, королева не ошиблась, в лейтенанты она произвела его намеренно! О, Провидение, как ты ласково к своим избранникам!
Осуждающим взглядом Скотта теперь можно было пренебречь. Впрочем, сейчас Шеклтон мог его и не заметить. При всей своей практичности, которая приучила его быть среди людей настороженным и зорким дипломатом, он все же порой оставался мальчишкой. Ликовал, не стуча мысленно по дереву.
Поход к полюсу, ради которого, собственно, предпринималась экспедиция в Антарктику, потерпел неудачу. Три его участника — Скотт, доктор Уилсон и Шеклтон за два месяца прошли всего треть пути (около 800 километров) и повернули назад. Потому в основном, что Шеклтон, самый молодой и, как многим казалось, самый крепкий из троих, на поверку оказался самым слабым. Хотя к исходу второго месяца все трое заболели цингой примерно в одинаковой форме, один Шеклтон так страдал, что Скотту не оставалось ничего другого, как возвращаться на базу. Причем весь обратный путь Шеклтон не только не помогал им тащить тяжелые сани с продовольствием и снаряжением, но нередко ехал на них сам — Скотт не мог спокойно видеть его мучений и время от времени сердито приказывал ему садиться сверху на снаряжение, что он и делал. Правда, всякий раз под большим нажимом.
Легко себе представить, каким ударом явилось это возвращение для Скотта. Без малейшей вины с его стороны теперь все предстояло начинать сначала, готовить новую экспедицию, — искать средства и т. д. А как к этому отнесутся в Лондоне? И что скажут злые языки о его ордене Виктории? Стыдно и подумать…
Читатель может спросить: нельзя ли было повторить поход, не покидая Антарктиду? Заменить Шеклтона на базе кем-то более выносливым и снова в путь, верно? Нет, приближалась долгая антарктическая зима, и такая возможность с ее наступлением исключалась. А идти после зимовки, значит, опять потом зимовать, так как поход к полюсу и возвращение на базу заняли бы всю весну, быстротечное лето и часть осени, когда экспедиционное судно уже настолько бы вмерзло во льды, что освободилось бы из ледового плена не раньше следующей весны. Две же зимовки в Антарктике люди просто не выдержали бы физически. Да и продовольствия не хватило бы.
Возвращаясь на базу, наши путешественники не знали, какой там ждал их сюрприз. Оказалось, из Лондона к ним пришло маленькое вспомогательное судно «Морнинг» («Утро»). С почтой, небольшим запасом свежих продуктов и новостями за весь минувший год (1902).
Подойти к самой базе, где стоял скованный льдами «Дисковери», «Морнинг» не смог, но люди с него по льду к полярникам добрались, и радость для всех была великая. Воспрянули духом даже Скотт и Уилсон. Все получили письма, увидели новые человеческие лица…
Глядя на видневшийся вдали «Морнинг», удрученно мрачнел только Шеклтон. Он понял, что на этом суденышке, которое сразу же должно было уходить в Англию, Скотт отправит и его. После того, что произошло в походе к полюсу, даже дружески настроенный к нему командир, безусловно, постарался бы от него избавиться. Скотт же не хотел его брать в экспедицию с самого начала и, если бы не вынужденная необходимость подчиниться требованиям Лонгстаффа, наверняка бы не взял.
«В Лондоне против Шеклтона у меня не было никаких доводов, — писал он матери из Антарктики. — Все собранные мною справки рекомендовали его самым лучшим образом, но с первой минуты нашего знакомства я почувствовал в нем какую-то ненадежность и так уверился в своем чувстве, что готов был отбиваться от его кандидатуры всеми средствами. К сожалению, это значило бы отказаться и от денег Лонгстаффа, без которых наша экспедиция, вероятно, оставалась бы проблематичной до сих пор. Я должен был смириться, но все же мое предчувствие меня, как видите, не обмануло.
Для Шеклтона это большая душевная травма — сознавать себя единственным выбитым из седла, и мне его по-человечески жаль, но как начальник, отвечающий за здоровье и жизнь всех членов экспедиции, не воспользоваться случаем прибытия «Морнинга» я не могу. Нас ждет тяжелая зимовка, и никому не известно, какие испытания впереди.
Надеюсь, Господь Бог простит меня…»
Отправляя Шеклтона в Англию раньше срока, Скотт поступил разумно и, несомненно, правильно. Хотя ко дню отхода «Морнинга» и он сам с Уилсоном, и Шеклтон, питаясь свежеморожеными овощами и парным тюленьим мясом, поправились почти совершенно, нельзя было гарантировать, что девятимесячная зимовка в жестоком антарктическом климате не сломит Шеклтона окончательно. По отношению к нему здесь не было ни предвзятости, ни излишней перестраховки. Скоттом, человеком необыкновенной интуиции и высочайшего долга, руководила только возложенная на него суровая ответственность. И Шеклтон давал себе в этом отчет, но, как бы ни сознавал он правоту начальника экспедиции, сути той катастрофы, какой заканчивалось его пребывание в Антарктике, это не меняло. Рушилось все, на что он ставил свои жизненные козыри, и рушилось, казалось, бесповоротно. Заветная Сверкающая Звезда меркла навсегда.
2 марта 1903 года, когда «Морнинг» медленно отвалил от кромки антарктического льда, Шеклтон долго стоял на его корме, не отрывая глаз от все удалявшихся неподвижных черных мачт «Дисковери». Плечи его вздрагивали, он рыдал. И, рыдая, проклинал, наверное, Сарру Лонгстафф.
Как выяснилось, это она была виновницей неожиданного появления «Морнинга». По рассказам его капитана Уильяма Колбека, близко знавшего семью Лонгстаффов, бедная Сарра так тосковала по своему возлюбленному Эри, что уговорила отца еще раз пожертвовать деньги Географическому обществу, чтобы оно могло снарядить в Антарктику вспомогательный корабль. Вдруг Эри там плохо, вдруг они нуждаются в помощи…
Конечно, порыв ее был замечательный, но… Не будь этого корабля, не пришлось бы и Шеклтону так бесславно возвращаться из Антарктики.
Он не сомневался, что зимовку при обилии на базе свежего тюленьего мяса и пингвиньих яиц перенес бы нормально и тогда, вернувшись в Англию вместе со всей экспедицией, выглядел бы в куда более выгодном свете. Что ж, что не справился с цингой в походе к полюсу, зато на зимовке держался не хуже других, значит, в полярники все-таки годится, в следующую экспедицию брать можно.
Увы, теперь об этом нечего было и мечтать. Так много обещавшая полярная карьера оборвалась, по существу еще не начинаясь.
Как часто мы хороним свои надежды преждевременно! Между тем не обязательно быть подлинным героем, чтобы увенчать себя лавровым, венком.
Когда на обратном пути в Лондон «Морнинг» зашел в Литлтон (Новая Зеландия), наш несчастный полярник в своем первом интервью новозеландским журналистам сказал:
«Поход к полюсу мы начали 2 ноября и продолжали до 1 января, достигнув 82°17′ южной широты. Так далеко на юг до нас не проникал еще никто. Очевидно, мы сумели бы продвинуться и дальше, возможно, до самого полюса, если бы нас не подвели тащившие сани собаки. Они выбились из последних сил и гибли одна за другой, так что скоро мы остались без транспорта.
Я думаю, мороженая рыба, которой кормились собаки, была малокалорийной и они все погибли от истощения. К сожалению, ничего более калорийного предложить им мы не могли. К концу декабря мы уже сами голодали. Наш рацион, рассчитанный в Лондоне по северному образцу, в условиях Антарктики оказался недостаточным. Поэтому капитан Скотт принял решение возвращаться назад.
Полуголодному в метель и мороз изо дня в день волочить за собой громоздкие сани — это слишком изнурительно даже для человека очень сильного. 15 января я заболел от чрезмерного напряжения. У меня началось кровохарканье, а это серьезное дело, когда находишься в четырехстах милях[10] от судна. Однако я все же проходил вместе с товарищами от девяти до десяти миль в день, только не мог больше тащить сани. В них впряглись капитан Скотт и доктор Уилсон, и, можете мне поверить, им было нелегко — нагрузка на одного человека достигала 270 фунтов[11]. К счастью, задул ветер с юга и сани иногда могли идти под парусом.
Капитан Скотт и доктор Уилсон сделали для меня все возможное, и я им очень благодарен. Они взяли на себя все тяготы оставшегося пути, но, несмотря на трудности и лишения, сохраняли бодрый вид.
В дальнейшем, когда придет время повторить экспедицию к Южному полюсу — а оно придет, я в этом убежден, — мы должны будем подготовиться более тщательно. Наша теперешняя неудача объясняется неудовлетворительной организацией и отсутствием необходимых знаний…»
Интервью как интервью, в общем-то довольно заурядное, не так ли?
У новозеландских журналистов, однако, сложилось другое мнение.
«Люди, подобные Э. Г. Шеклтону, — писала новозеландская газета, — сильны духом и телом, они обладают железной волей, стойким характером и, может быть, несколько наивным, но не легкомысленным умом. Им неведомо чувство страха, они не способны на предательство, не умеют ловчить и даже в малом пользоваться чем-то за счет других. В трудных же условиях такой человек, сознавая свою физическую силу, обычно, чтобы облегчить участь более слабых, молча, словно по обязанности, берет на себя все непомерные тяжести, не ожидая за это ни какой-то награды, ни хотя бы признания своих заслуг. Его скромной натуре кажется, что так оно и должно быть. В иной роли он себя просто не представляет.
Таков внутренний портрет баронета Э. Г. Шеклтона, в достоверности которого могут сомневаться разве что закоренелые скептики. Достаточно провести с этим мужественным человеком пару часов, чтобы убедиться, насколько он прямодушен, открыт и скромен.
К сожалению, такие люди, как правило, беззащитны. Многие, очень многие в корыстных ли целях, из иных ли соображений готовы сесть им на шею, не понимая, а чаще всего не желая понять, что и слона можно заездить до смерти, если его недостаточно кормить и заставлять работать за троих.
О том, какие тяжести и невзгоды выпали в экспедиции к полюсу непосредственно на долю Шеклтона, сам он, насколько вы заметили, ничего нам не говорил, вернее, обронил лишь одну фразу: «15 января я заболел or чрезмерного напряжения». Да и то упомянул об этом с явным раскаяньем, словно бы он виноват, что потом его спутникам стало труднее. Но почему же, позвольте спросить, заболел он один, самый сильный и, следовательно, самый выносливый, а капитан Скотт и доктор Уилсон, куда более слабые и, следовательно, менее выносливые, «сохраняли бодрый вид»?
Ждать от Шеклтона приемлемых разъяснений на этот счет значило бы напрасно терять время. Истинно благородный человек, привыкший и к другим подходить с такой же меркой, не может допустить, что он стал жертвой некомпетентности и корыстного эгоизма своих товарищей. О подобном ему было бы стыдно и подумать.
Между тем, если взглянуть на все глазами трезвого реалиста и критически проанализировать даже то немногое, что мы услышали, ситуация проясняется сама собой.
Перед вами фотография трех участников неудавшегося похода к полюсу. Мы публикуем ее специально, чтобы каждый мог сам решить, кто на ней самый крупный. Разумеется, тот, кто стоит в середине, то есть Шеклтон. Он выше двух других своих спутников на целую голову и, как видите, гораздо крупнее. Понятно, что при такой мощной фигуре ему и пищи нужно значительно больше, тем более на холоде, когда от массы человеческого тела особенно зависит его потребность в энергии.
Еду в походе на всех делили поровну…
А как работали?
Ну конечно же после того, как погибли собаки и вплоть до 15 января, когда у Шеклтона горлом хлынула кровь, главной тягловой силой в полюсной партии был он.
Вот вам и вся подоплека того, что сокрушило этого могучего человека и в конечном счете дало Скотту повод удалить его из Антарктики.
Повторяем, ни словом, ни намеком ничего подобного Шеклтон нам не сказал. Но нужны ли слова там, где ясно все и без них?
Допустим, Шеклтону с его характером и врожденным благородством представляется естественным и то, что еду делили поровну, и то, что тянуть он будто бы должен был за троих, — ведь он самый сильный. Допустим, но что при этом думал и куда смотрел доктор Уилсон? Неужели он, дипломированный медик, не понимал, что, взвалив на Шеклтона тройную ношу, его необходимо было и соответственно кормить? Если не понимал, значит, как врач он никуда не годится, если иначе, тогда оба они, Уилсон и Скотт, — беззастенчивые эгоисты, щадившие в походе себя за счет третьего товарища. Причем они же и повинны в том, что полюсная партия осталась без транспорта.
О да, доктор Уилсон — не ветеринар, но кто же, кроме единственного медика экспедиции, мог и обязан был заранее определить калорийность собачьего корма? Кому же, если не начальнику экспедиции, еще в Лондоне также полагалось позаботиться об этом предмете?..»
Скорее всего, впервые в жизни выступая перед журналистами, Шеклтон и не предполагал, какое толкование могут получить его слова, попав на страницы газет. Как много позже он говорил в узком кругу друзей, ему «претило выставить себя в прессе жалким неудачником», поэтому, рассказывая о походе, он лишь намеренно «кое о чем умолчал», совсем не думая представлять себя «жертвой некомпетентности и корыстного эгоизма» своих товарищей. Только на следующий день утром, когда в кают-компании «Морнинга» с ним никто не поздоровался, а капитан Колбек, свирепо рыкнув, швырнул ему через стол пачку местных газет, он «стал догадываться, что произошло что-то непредвиденное», и, пробежав глазами комментарии к своему интервью, «сообразил наконец, чем вдруг вызвал к себе такую неприязнь».
Увы, именно то, о чем намеренно умолчал Шеклтон, но что прекрасно было известно на «Морнинге», превращало его внешне как будто безобидное интервью в заявление хитроумного лгуна.
Почему капитан Скотт решил 1 января возвращаться назад? Только из-за потери транспорта? Вовсе нет, половина собак к тому времени еще добросовестно бежала в упряжке. Но Шеклтон, у которого 27 декабря появились первые признаки цинги, настолько пал духом и раскис, что Скотту и доктору Уилсону пришлось тащить его на буксире, хотя оба они тоже заболели той же цингой. У доктора к тому же началась снежная слепота, и он переносил такую острую боль в зрачках, что ее не облегчал даже кокаин. Тем не менее, завязав глаза шарфом и держась одной рукой за сани, он продолжал идти вперед, стараясь не показать товарищам, как ему трудно. Шеклтон же, здоровенный верзила, все ныл, непрестанно жаловался на голод и просил Скотта повернуть назад.
А помните: «Удача сопутствует тому, кто умеет владеть собой и в любом положении кажется благополучным. Как только позволишь себе какие-то жалобы, будешь искать сочувствия, в тебе начнут сомневаться, и тогда сам не заметишь, как придешь к поражению».
При первом же настоящем испытании он все забыл, он был голоден, хотя ел в полтора раза больше остальных, — треть своих порций ему отдавали и Скотт и Уилсон. Да еще и усаживали его на сани.
И в том, что собак кормили малокалорийной мороженой треской, опять-таки повинен был Шеклтон, так как заготовкой собачьего корма в Лондоне занимался он. Специалисты советовали ему взять для этой цели особым способом обработанную и обогащенную витаминами кету, однако он, не послушав их, закупил брикеты обыкновенной трески, пригодной только на корм клеточным зверькам.
Неудивительно поэтому, что у людей, знавших все эти обстоятельства, комментарии к интервью Шеклтона вызвали негодование. Устами капитана Колбека все офицеры «Морнинга» потребовали от него либо сделать для газет новое заявление и рассказать всю правду, либо немедленно покинуть корабль: терпеть на своем борту подлеца они не желали.
Шеклтон предпочел последнее. Прежде всего потому, что увидел в этом для себя неожиданную выгоду: прибыть в Лондон раньше тихоходного «Морнинга» и первому рассказать об Антарктиде. Нет, не всю правду. Дурак он, что ли, чтобы не понять урока новозеландских журналистов. Пусть вся правда останется чистоплюям с «Морнинга», пусть они потом его разоблачают… Вот только деньги на билет… Телеграмму Сарре? Не хотелось бы, да некому больше. Черт с ней, пусть еще разок встряхнет папашу, сама же с этим «Морнингом» виновата…
Из Новой Зеландии в Лондон рейсовый пассажирский лайнер шел чуть больше месяца, с заходами в Кейптаун, Монровию, Дакар, Касабланку и Лиссабон. В каждом из этих портов Шеклтон уже сам искал журналистов, сам предлагал им все более обширные интервью. Телеграфом они все сразу же передавались в Лондон, все тотчас же публиковались во множестве английских газет.
…Англия встретила его как доблестного национального героя.
Вся дальнейшая жизнь Шеклтона — цепь из головокружительных взлетов и сокрушительных падений. До фанатизма убежденный в том, что цель оправдывает средства, он ради своей заветной Сверкающей Звезды не задумываясь шел на любую авантюру, любую подлость. Казалось, никаких нравственных ограничений для него не существовало. Да и какие могли быть ограничения, если, облив грязью Скотта и всю его экспедицию, он добился в Великобритании такой популярности, какая большинству английских мореплавателей и путешественников и не снилась. Напрасно капитан Колбек, пылая праведным гневом, пытался опровергать в печати все его антарктические россказни, напрасно Скотт, вернувшись на родину, с горечью объяснял англичанам, кого они так восторженно вознесли в герои. Никто им не верил, верили Шеклтону, ибо он первым поведал им об Антарктике, а первое впечатление развеять нелегко.
Шеклтона выдвигают в парламент, за Шеклтона готовы отдать голоса миллионы. Вот она, Сверкающая Звезда! Вот они, толпы пигмеев у твоих ног! А впереди еще — целая жизнь. В славе, богатстве, почестях…
Минуточку, Шеклтон, погоди, ты забыл оскорбленного Лонгстаффа…
Чтобы послать его в Антарктику, старый миллионер истратил тридцать тысяч фунтов стерлингов. Месть же за поруганную честь дочери обошлась ему в сотни тысяч. Очень неохотно поворачивалась консервативная английская пресса против Шеклтона. Но падение в конце концов было чувствительное — всего 3865 голосов.
Что ж, тогда все сначала. Ищи женщину…
Эврика! Да ведь Эмилия Дорман, эта великосветская гусыня, — фрейлина королевы Александры и не то дальняя родственница, не то какая-то свояченица самого Ротшильда!
Звук трубы, атака, натиск — и крепость взята. Но теперь, конечно, женитьба всерьез. Больше дразнить этих людей нельзя.
И снова экспедиция в Антарктику, на сей раз его собственная, экспедиция Шеклтона.
Он скрупулезно учел все промахи Скотта, тщательно подготовился, мобилизовал всю свою волю и мужество. О нет, теперь никакого слабодушия не будет, он преодолеет все. И дойдет не только до Южного географического полюса, но заодно откроет и магнитный.
Магнитный действительно открыли, и это была победа, огромная победа. Но все-таки не вершина мира, вершина — географический полюс.
Не дошли каких-то 97 миль…
Обидно, жаль, но… не смогли. Словно злой рок преследовал в пути, едва не погибли.
Подвиг — а это, несмотря на все, был подвиг — мир все же оценил, ибо большего пока не достигал никто.
Опять триумф. Громадный успех книги об Антарктике, турне с лекциями по всей Европе, венценосная любовница в Санкт-Петербурге, русский орден святой Анны и сто тысяч рублей золотом, пышные приемы и щедрые награды у Гогенцоллернов в Берлине и у Габсбургов в Вене, оглушительно шумная поездка по Америке, избрание сначала членом ордена Рыцарей Золотого Круга, а затем и одним из двенадцати его магистров.
Слава, почести, деньги…
Ложь, подлости, падения…
И всякий раз после очередного низвержения с пьедестала новая экспедиция в Антарктику, еще одна погоня за Сверкающей Звездой.
Там, в стужах полярного юга, он часто шел по грани между жизнью и смертью, мерз, голодал, тяжко работал, но та его первая слабость, которой он так позорно поддался в экспедиции Скотта, не повторилась больше никогда. Интересно, однако, не столько это, как то, что чудеса поистине беспримерного мужества он нередко проявлял в своих экспедициях единственно во имя товарищества, без всякой корысти и даже в ущерб собственным интересам. Лишь пламя отваги и высокое чувство дружбы могло заставить человека в зимние штормы пересечь на шлюпке огромное водное пространство от кромки материкового льда Антарктиды до острова Южная Георгия. Обмороженный, опухший от голода, больной цингой, он пришел в салвесеновский Грютвикен, чтобы сказать: «Друзья, мой корабль погиб. Нам удалось высадиться на берег, но люди скоро останутся без пищи. Я прошу помочь мне спасти их».
Одолеть путь шлюпки китобойное судно не смогло. Тогда Шеклтон купил большой пароход, но и на нем пробиться к терпящим бедствие полярникам не удалось.
Не теряя времени, он поворачивает к Фолклендским островам и там покупает еще одно судно, корабль, способный плавать во льдах.
В организацию спасательной экспедиции он вложил все свое состояние, разорился, но долгу товарищества не изменил. И не стал другим. Шеклтона с его честолюбием, страстью к наживе и всеми подлостями могла исправить только могила…
И вот финал: могила среди черных камней Южной Георгии. Я стоял возле нее, думал: «Что же ты обрел в своей бурной жизни, Эрнст Генри Шеклтон? Где твоя Сверкающая Звезда? Да, к сожалению, под этими черными камнями…»
Говорят, перед смертью люди мудреют. Наверное, он не успел. Жизнь оборвалась слишком неожиданно.
Впрочем, в чем мы можем винить его? Каков мир, породивший человека, таков человек.
…По заросшей бурым вереском тропинке я поднялся в горы, к зажатому между скал голубому озеру. Глубокое и прозрачное, оно подарило мне горсть студеной воды. С его берега далеко был виден усеянный айсбергами сталистый простор океана. Искрясь на солнце, айсберги медленно дрейфовали на север. Там, за сорок восьмой параллелью, они навсегда исчезнут. Там — теплые воды…
Голубой эшафот
Приземистый, сутулый, в заношенной морской униформе, он стоял перед капитаном с устало заискивающей улыбкой.
— Прошу вас, сэр, я говорю правду, клянусь вам. Я не Андерс Акре, я Джексон, Вильям Джексон. Разве это лицо норвежца? — Дрожащей рукой он медленно стянул с седой головы фуражку. — Это лицо чистого ирландца, сэр. Я родился в Норвегии и знаю язык норвежцев, как родной, но мои родители ирландцы, Дэвид Джексон и Анджела Липтон, ирландские католики из Ольстера. Вы знаете, в Ирландии между католиками и протестантами идет вечная война. Родителям пришлось уехать в Норвегию, в Осло жил дядя моей матери. Я родился в его доме. В тридцать шестом наша семья переселилась в Америку, мы получили подданство. Я американский ирландец, клянусь вам, сэр. Здесь все считают меня сумасшедшим, мне никто не верит. Но это правда, я был первым помощником капитана на «Вайт бёрд» вы не могли не слышать о «Вайт бёрд», это я сжег «Вайт бёрд», клянусь вам…
Судя по внешности, на сумасшедшего он вряд ли был похож. Его потертая одежда была аккуратно выглажена, иссеченное глубокими рытвинами лицо тщательно выбрито. Но воспаленные глаза, сверкавшие за стеклами очков, как глаза больного лихорадкой, невольно вызывали подозрение. И еще эта дерганность. Как будто его кто-то поминутно толкал в спину.
Показывая документы на имя норвежского шкипера Андерса Акре, он убеждал нашего капитана, что эти документы поддельные, что их выдали ему восемнадцать лет назад, желая избавиться от Вильяма Джексона, виновного в гибели лайнера «Вайт бёрд» («Белая птица»), более трехсот его пассажиров и многих членов команды.
Для капитана эта встреча не была неожиданной. Портовые власти предупредили его и, заранее извиняясь, просили не обращать на этого человека внимания. Шкипер давно не работающей норвежской китоловной станции Андерс Акре, называющий себя Вильямом Джексоном, рассказывает о «Вайт бёрд» всем капитанам, чьи суда заходят в Грютвикен. Он просто слегка не в себе. С людьми, долго живущими на проклятой богом земле Южной Георгии, такое иногда случается.
Но как не обращать внимания, если человек, пусть и не совсем нормальный, заглядывает тебе в глаза с мольбой и надеждой.
— О «Вайт бёрд» я что-то читал, не помню что, — вопросительно глядя на меня, сказал капитан сдержанно.
— Так называлось американское пассажирское судно, сгоревшее в первый день пятьдесят пятого года, — ответил я, давая понять капитану, что наш собеседник меня заинтересовал.
Но Акре, или Джексон, смотрел только на капитана. Суетился, не знал, как выразить нахлынувшую на него радость. Он почти поверил, что ему помогут.
— Я не ошибся, сэр, клянусь вам, я так и думал, вы не могли не слышать о «Вайт бёрд». Я прошу только возмездия, больше ничего, только возмездия. Мне нужно вернуться в Нью-Йорк и все раскрыть, меня должны судить. Вы поможете правосудию, сэр, клянусь вам. У меня есть деньги, я заплачу.
— Да, но мы не стоим на линии Грютвикен — Нью-Йорк. Вы обратились не по адресу, мой корабль не пассажирский.
— Только до ближайшего порта, сэр. Я сойду там, где вы прикажете, клянусь вам. Только до ближайшего порта, дальше я сам доберусь.
— В ближайшем порту мы будем не скоро. Нам еще несколько месяцев вести промысел в водах Антарктики. — Горячечная настойчивость шкипера начинала раздражать капитана. Он понял, что, позволив себе минутное участие, поступил опрометчиво. Теперь этот тип от него не отвяжется.
— Я буду вам полезен, сэр, я старый моряк, — продолжал убеждать шкипер. Перемену в настроении капитана он не замечал. Его ослепила капитанская разговорчивость. Очевидно, другие капитаны его вообще игнорировали. — Я буду выполнять все, что вы прикажете. Да, сэр, клянусь вам, я сумею быть вам полезным.
— Очень может быть, но услугами иностранцев на наших судах мы не пользуемся, — сказала капитан сухо.
И все же что-то в этом человеке его тронуло. Хмурясь, он указал на меня.
— С вами хотел бы побеседовать этот мистер, он писатель. — Капитан собрался было уйти, но, задержавшись, добавил мягко: — Я, к сожалению, не имею больше времени. — И, пожелав нам приятной беседы, удалился.
Мы остались в капитанской каюте одни. В тот момент я еще не был уверен, что передо мной действительно бывший первый помощник Роберта Аллисона, но, зная историю и многие подробности гибели «Вайт бёрд», мне было нетрудно это установить. Скоро мои сомнения развеялись.
Спущенная на воду в первые послевоенные годы «Вайт бёрд» сразу же заслужила репутацию плавучего дворца. Она значительно уступала по размерам крупнейшим лайнерам мира, но выгодно отличалась от них необыкновенным комфортом. Судно имело семь палуб, большинству из которых не было равных. Превосходная отделка кают, зимний сад, богатейшая картинная галерея, кинотеатр, концертный и спортивный залы, четыре бара, два плавательных бассейна, теннисный корт и в довершение всего великолепия — полтора десятка салонов, оборудованных, как изысканные домашние гостиные. По замыслу художников, создававших интерьеры салонов, пассажиры здесь должны были чувствовать себя особенно уютно. Одни из них располагали к мирной беседе, другие — провести время за любимой игрой, в третьих можно было устроить немноголюдную вечеринку для близких друзей либо за бокалом коктейля, поданным молчаливо услужливым стюардом, послушать камерную музыку, джаз или популярные песни русских цыган. «Посетите любой из наших салонов, — говорилось в рекламном проспекте «Вайт бёрд», — и вы забудете, что находитесь на корабле. Это пятнадцать гостиных лучших домов Нью-Йорка, воспроизведенных нами с совершенной точностью».
Но самым большим достоинством лайнера были его мореходные качества и надежность. Он считался практически непотопляемым, был оснащен новейшими противопожарными средствами и вполне оправдывал свое название. Два громадных гребных винта, приводимые в движение мощными газотурбинными установками, обеспечивали ему крейсерскую скорость до тридцати миль в час. Белоснежный, с изумительными обводами корпуса и широкими крыльями палуб, он, казалось, летел над волнами, как огромная птица.
Капитаном и совладельцем «Вайт бёрд» был известный в Нью-Йорке миллионер Роберт Аллисон — гривастый седой толстяк, по прозвищу Жирный Тюлень. Раньше он владел целой флотилией мелких пассажирских и каботажных судов, но все продал ради одной «Вайт бёрд». Он сам принимал участие в проектировании лайнера и с первого до последнего дня наблюдал за ходом строительства.
«Вайт бёрд» была мечтой Аллисона. Говорили, он всю жизнь не женился только потому, что не мог обзавестись лайнером. Будто бы он давал зарок сначала построить собственный плавучий дворец, а потом уже думать о женитьбе. Но сорока миллионов, вырученных за проданную флотилию, на строительство «Вайт бёрд» не хватило. Старику, привыкшему во всем к самостоятельности, пришлось искать компаньонов. Одним из них стал осевший в Америке грек Николас Папанопулос, а другим — некий Герберт Форбс, молодой человек, получивший в наследство прибыльный нефтяной промысел. Вдвоем они внесли на строительство лайнера двадцать миллионов долларов — третью часть стоимости «Вайт бёрд». Остальные две трети принадлежали Аллисону, поэтому он получил право возглавить фирму и занял должность капитана, хотя с его здоровьем взваливать на себя хлопотные капитанские обязанности было не совсем разумно. Еще в ранней молодости Аллисон перенес тяжелый порок сердца и с тех пор страдал жестокими приступами стенокардии.
Имя капитана «Вайт бёрд» нашумело в Нью-Йорке, когда он нанимал людей в свою будущую команду. Узнав о вакансиях, на только что спущенный на воду роскошный лайнер ринулись разношерстные молодые оборванцы, которых Аллисон охотно принимал, не требуя никаких рекомендаций. Мельком взглянув на диплом или свидетельство о профессии, он лишь каждого спрашивал, давно ли тот болтается без места. И явно отдавал предпочтение бродягам «со стажем». Причем нанимал он так не только на рядовые должности. Многие газеты Нью-Йорка напечатали подробный рассказ о том, как на судне Аллисона появился второй помощник капитана Майкл Мэнсфилд.
Капитан-лейтенанту американских военно-морских сил Майклу Мэнсфилду исполнилось всего двадцать шесть лет, когда он вышел в запас и слонялся по Нью-Йорку в поисках работы. Однажды он обратил внимание на тучного пожилого мужчину в форме капитана гражданского флота. Уронив на грудь голову, тот стоял, упираясь плечом в фонарный столб.
Мэнсфилд подошел к нему, спросил, что с ним и не нужна ли ему помощь.
Капитан с трудом поднял отяжелевшие веки.
— А-а, морячок… — На Мэнсфилде была его старая офицерская форма без знаков отличия. — Я стою здесь полчаса и никому до меня нет дела. Дьявол их забери, каждый думает о себе. — Медленно выговаривая слова, он старался побольше вдохнуть воздуха. По его обвислым щекам струился пот, слегка выпученные белесые глаза застилала нездоровая поволока.
— Я помогу вам, сэр. Что с вами? — В голосе Мэнсфилда звучало сочувствие. — Это сердце?
— Да, мой мальчик. Старые цилиндры идут вразнос. Немного прошелся, и как видишь…
— Я сейчас, одну минуту. — Мэнсфилд бросился к мостовой останавливать такси.
— Мне на одиннадцатый причал, там моя коробка, — уже в машине сказал старик.
— Нет, нет, — горячо возразил Мэнсфилд. — Это может быть инфаркт. В больницу, шофер!
Капитан вяло улыбнулся. Он пытался храбриться, но был слаб. Мэнсфилд пальцем осторожно притронулся к его губам.
— Не надо говорить, вам это вредно, сэр.
Проводив незнакомца в кабинет врача неотложной помощи, Мэнсфилд кивком головы простился и вышел в коридор, чтобы уйти. Но что-то его удержало. Обычно не такой уж добрый, он сам себе удивился. Отчего это он вдруг так расчувствовался? Потом решил, что когда-нибудь нужно быть и добрым, и быстро зашагал прочь.
«Забавный старикашка», — с улыбкой думал он, когда на улице его догнала сестра милосердия.
— Пожалуйста, вернитесь.
Мэнсфилд встревожился:
— Ему хуже?
— Нет, напротив. Он просит вас к себе.
Еще недавно, казалось, совсем угасшие, глаза старика теперь встретили Мэнсфилда с веселой усмешкой.
— Что же вы ушли? Я вам должник, молодой человек.
Мэнсфилд смутился.
— Я моряк, сэр, — сказал он, не найдя ничего другого.
— Да? Похвально. Может быть, вы представитесь?
— С вашего разрешения, сэр. Капитан-лейтенант запаса Майкл Мэнсфилд.
— И чем же вы занимаетесь?
Мэнсфилд пожал плечами. Ему не хотелось признаться, что сейчас он безработный.
— Понятно. — Глаза старика все больше веселели. — Вы механик, навигатор?
— На службе я был старшим помощником командира эскадренного миноносца, сэр, — ответил Мэнсфилд, теряя терпение. Перед этим случайным человеком он испытывал странное чувство неловкости и был уже не рад, что вовремя не ушел. Старик же, услышав ответ, глянул на парня с живым любопытством.
— Кажется, я могу быть вам полезным. Я совладелец и капитан «Вайт бёрд». Мне нужен второй помощник.
Мэнсфилд застыл, словно пораженный молнией. На больничной кушетке перед ним лежал сам Роберт Аллисон. Вот так штука! Сколько видел в газетах его фотографий и не узнал. Но кому бы пришло в голову, что Роберт Аллисон разгуливает по улицам пешком? Однако, черт возьми, он предлагает ему, Майклу Мэнсфилду, должность второго помощника! Бывают, конечно, на свете чудеса, но такие! Нет уж, смеяться над собой Мэнсфилд не позволит даже Роберту Аллисону.
— Простите, сэр, — опомнившись, сказал гордый молодой человек с принужденной вежливостью. — Я полагаю, ваша шутка неуместна. Да, я безработный, в моих карманах пусто, но это еще не дает вам право…
— Кость мне в глотку, ты мне нравишься! — Забыв недавний сердечный приступ, старик резко вскочил на ноги. Замешательство Мэнсфилда вызвало у него неожиданный прилив восторга. — Ступай зови машину, на сегодня моциона с меня достаточно. И с этой минуты можешь считать себя вторым помощником капитана «Вайт бёрд».
Мэнсфилд стоял в полной растерянности. О причудах Аллисона он слышал много (кто из нью-йоркских портовых бродяг о них не слышал!), но предложение было слишком невероятным, чтобы принять его за действительность. Второй помощник капитана громадного лайнера — это не старший офицер эскадренного миноносца. Тем более, что этот старший офицер последние полтора года всего лишь бродяга, с трудом сохраняющий внешнюю аккуратность. Да, но это ведь Аллисон, дьявол его знает…
— Моя послужная аттестация, сэр, не самая лучшая. — Парень, честный от природы и еще помнивший военную строгость, робко пытался навести сумасбродного миллионера на мысль хотя бы посмотреть его документы. Но откровенное признание Мэнсфилда старик пропустил мимо ушей.
— Ступайте, — сказал он вдруг тоном приказа. — Мне нужна машина.
Так Майкл Мэнсфилд оказался на «Вайт бёрд». Он понимал, что растрогал старика кстати проявленной отзывчивостью, но еще долго не мог прийти в себя. Уж больно велика была плата.
— Аллисон меня потряс, — говорил позже Мэнсфилд. — Богатые люди, получая какие-то услуги, привыкли платить деньгами. Это всегда дешевле и проще, чем взять на себя ответственность устроить чью-то судьбу. Аллисон это сделал, и, я думаю, излишне объяснять, почему я чувствовал себя обязанным.
Чувства Мэнсфилда на «Вайт бёрд», вероятно, разделяли многие. Но только не компаньоны Аллисона. Папанопулос и Форбс были в ужасе. Не для того они выложили двадцать миллионов долларов, чтобы доверить их полуголодным людским отбросам, выплеснутым на причалы Большого Нью-Йорка массовой послевоенной демобилизацией и связанным с ней резким ростом безработицы. Маленький, тщедушный, нахохленный, как ворона в дождь, Папанопулос, по рассказам очевидцев, едва сдерживал ярость.
— Простите, дорогой Роберт, но вашу благотворительность я отказываюсь понимать. Во что превратится наш лайнер? Из-за этой публики мы потеряем всех приличных пассажиров.
В ответ Аллисон весело басил:
— Кость мне в глотку, если эти парии не сделают из «Вайт бёрд» райскую птичку.
Желчная тупость Папанопулоса его забавляла. Построив лучший в Америке лайнер, старик хотел иметь и лучшую команду. Он всегда все взвешивал. Две с половиной сотни мальчиков, в большинстве прошедших дойну и после всех своих ратных подвигов не сумевших найти места под солнцем, чего-нибудь да стоили. Они отлично знали, что такое служба и дисциплина, а теперь, надо думать, научились и ценить кусок хлеба. На таких парней можно положиться вполне.
Аллисон был прав. Спустя четыре месяца, когда закончилась окончательная отделка внутренних корабельных помещений, «Вайт бёрд» вышла в море с командой во всех отношениях безупречной. Сохранилось опубликованное в рекламном проспекте заключение Регистра, в котором подчеркивается превосходная выучка, дисциплинированность и высокая культура экипажа лайнера. Как правило, Регистр заботит только техническое состояние корабля, но Аллисон намеренно просил проверить уровень подготовки экипажа. Он не мог устоять перед искушением утереть нос компаньонам и, с другой стороны, получить солидную рекламу.
Несколько человек с рекомендательными письмами по настоянию Папанопулоса Аллисон все же принял. Самым заметным среди них был тридцатилетний американский ирландец Вильям Джексон, сутулый хмуробровый парень, каким-то чудом успевший семь лет проплавать капитаном на разных транспортных судах. Грек потребовал назначить Джексона первым помощником. Аллисон понимал: Папанопулос хотел иметь на лайнере свое доверенное лицо. В конце концов это его право.
31 декабря 1954 года, завершая очередной круиз вокруг Южной Америки, «Вайт бёрд» вышла из Гаваны и, развив скорость до 27 узлов, взяла курс на Нью-Йорк. Утром следующего дня судно должно было подойти к причалу в Хобекене — одном из портов Большого Нью-Йорка. Вечером Аллисон по заведенной традиции давал прощальный бал для пассажиров первого класса.
На этот раз бал намечался особенно пышным — канун Нового года. В зимнем саду на застекленной прогулочной палубе накрыли столы с шампанским и множеством деликатесов. Играл оркестр, выступали знаменитые певцы, заблаговременно вызванные по этому случаю из Нью-Йорка.
В импровизированном праздничном зале среди пальм и расцвеченных елок собралось около четырехсот человек. Настроение у всех было чудесное. Благодушный старый Аллисон, прекрасно знакомый со вкусами и запросами избранной публики верхних палуб, умел так устраивать балы, что скучать никому не приходилось. Но он не забывал и о пассажирах второго класса. Для них были накрыты столы двумя палубами ниже в специально приспособленном для этого спортивном зале. Еще палубой ниже, на теннисном корте, новогоднюю елку украсили для команды. Праздник есть праздник. Заботясь о пассажирах, заплативших за плаванье на лайнере солидные деньги, опытный капитан не оставит в такие дни без внимания и тех, кто создает на корабле комфорт и делает плаванье возможным.
Работали бары, гремел джаз, пенилось шампанское. Пассажиры слушали певцов, танцевали. Многие из них подходили к Аллисону, чтобы лично поздравить капитана с наступающим Новым годом и поблагодарить за доставленное удовольствие. Из-за больного сердца сам Аллисон не пил, но чокался охотно. В этот праздничный вечер для каждого в зале у него находилась шутка, доброе или соленое словцо, изящный комплимент или веселый каламбур.
— Аллисон, вы очаровательны! — восторженно восклицали дамы.
О, Аллисон был не простак! Обладатель сорокамиллионного состояния, он чувствовал себя на равной ноге со всяким другим миллионером, но сейчас он был прежде всего капитаном, человеком, от поведения и личного обаяния которого во многом зависела репутация лайнера, а значит, и прибыли от его эксплуатации. Радушие и улыбки Аллисона потом превращались в новые миллионы. Придуманные им балы, концерты знаменитостей и богатейшая обстановка корабля требовали громадных расходов, но они окупались десятикратно. Хотя цены на билеты первого класса на «Вайт бёрд» были значительно выше, чем на любом ином американском лайнере, ни одна из кают не пустовала. Не случайно лайнер, построенный за шестьдесят миллионов долларов, был застрахован на сто миллионов. Решающую роль в этом сыграли конечно же авторитет, острый ум и необыкновенная популярность Аллисона. Он умел пленить кого угодно, даже сверхтрезвую страховую компанию.
Но как бы ни заботился Аллисон о пассажирах и корабле, он всегда помнил о собственном здоровье. Рождество, Новый год, что бы там ни было, ровно в десять часов вечера, откланявшись, он уходил в свою капитанскую каюту и, приняв чайную ложечку настойки валерьяны, ложился в постель. Поднимать его позволялось только в случае крайней необходимости.
В тот вечер капитана на балу заменил Джексон. Обычно этим занимался Мэнсфилд. По-юношески стройный, белокурый, с заразительно жизнерадостными синими глазами, он обладал удивительным свойством задавать тон в любом обществе. Неуклюжий, постоянно чем-то недовольный Джексон рядом с Мэнсфилдом выглядел неотесанным, медведем. Но сегодня Мэнсфилд, как он сам выразился, был «не в форме». Перед выходом из Гаваны, когда второй помощник получал на берегу свежие продукты для праздничного ужина, на него налетели какие-то типы. На корабль он вернулся с подбитым глазом и рассеченной губой. Поэтому, чтобы не портить своим видом настроения пассажирам, во время бала ему пришлось нести вахту на ходовом мостике.
В девятом часу вечера, как и обещал прогноз, погода на море начала портиться. К одиннадцати часам разыгрался настоящий шторм. «Вайт бёрд» сильно раскачивало, но охмелевших пассажиров это только больше возбуждало. Все дурачились, плясали, изображали из себя бравых морских волков. Никто не хотел покидать праздничный зал, пока часы не возвестят полночь.
В 11.30 вечера Джексона вызвали на мостик.
— С левого борта сорвало мотобот, тот, который в Гаване спускали на воду, — сказал Мэнсфилд. Он был очень взволнован.
Джексон неопределенно хмыкнул.
— Шторм…
— Да, но там был Джек Берри. Я не знаю, кто его туда послал. Его здорово зашибло. Кажется, насмерть. Я пытался доложить капитану, но на мои звонки он почему-то не отвечает.
Джексон озадаченно нахмурился:
— Джек Берри, кто это?
Мэнсфилд удивился:
— Я думал, он ваш знакомый. Капитан принял его по вашей рекомендации. Помните, в начале этого рейса? Вы говорили, он работал на вашем старом судне боцманом.
— Личных знакомств на корабле я не имею, Мэнсфилд!
Грубый тон первого помощника оскорбил Мэнсфилда — Я не понимаю вас, мистер Джексон, почему вы себе позволяете…
— Доложите капитану! — не меняя тона, оборвал его Джексон.
— Да, но я же сказал, он не отвечает. — Теперь в голосе Мэнсфилда послышалась растерянность. Лица его в темноте рулевой рубки не было видно.
— Вы что, забыли дорогу в каюту капитана?
Не прошло и двух минут, как Мэнсфилд, запыхавшись, снова вернулся на мостик. Он был вконец перепуган.
— Возьмите себя в руки, Мэнсфилд, — резко сказал Джексон. — Что с капитаном?
— Я не знаю, мистер Джексон. Он лежит на палубе в одном белье, около кровати. Мне кажется, он мертв…
— Что за чертовщина? Берри мертв, капитан мертв. Вы с ума сошли, Мэнсфилд!
— Я прикажу послать за доктором, он у себя в амбулатории, там Берри.
— Оставайтесь здесь, я пойду за ним сам.
Распластавшись на палубе, Аллисон лежал бездыханный. Руки и ноги его были конвульсивно вывернуты, уже посиневшее лицо искажено страшной гримасой. Между указательным и средним пальцами правой руки торчала золоченая чайная ложечка. Пузырек из-под лекарства, при крене упавший, очевидно, с ночного столика, катался по ковру. В каюте остро пахло валерьянкой.
— Тут что-то не так, мистер Джексон, — осмотрев мертвого, сказал доктор.
— Вы полагаете? — Джексон, на которого сейчас как на старшего по званию ложились обязанности капитана, старался сохранять спокойствие.
— Да, я думаю, он отравлен или отравился. Нужно внимательно осмотреть этот пузырек и ложечку.
Обхватив ладонью подбородок, Джексон несколько минут стоял молча, затем приказал доктору делать свое дело и помалкивать.
— Лишнее любопытство в такой обстановке нам ни к чему, — пояснил он.
Доктор, захватив пузырек из-под лекарства и золоченую ложечку, пошел в свою амбулаторию. Джексон немного задержался, чтобы закрыть каюту Аллисона на ключ. Потом он с выражением глубокой скорби на лине поднялся на мостик, где подтвердил сообщение о смерти капитана и лично записал о происшествии в вахтенный журнал. Всех, кто был в рулевой и штурманской рубках, он предупредил, что, кроме них и врача, о смерти Аллисона никто не должен знать, пока «Вайт бёрд» не прибудет в Нью-Йорк.
Новый год давно наступил. Склянки пробили половину второго ночи. На море по-прежнему бушевал шторм.
Джексон спустился на прогулочную палубу.
— Леди и джентльмены! — сказал он, обращаясь к пассажирам. — С сожалением я должен сообщить вам, что у нашего капитана только что случился сердечный приступ. Вы должны понять нас и извинить за то, что по этой причине мы вынуждены прервать праздник.
В зале воцарилась тишина. Все были удивлены. Такой веселый балагур вдруг с сердечным приступом. И ведь он ничего не пил, совсем трезвый.
Кто-то крикнул:
— Так он что, умер?
— Нет, но положение серьезное, — сдержанно ответил Джексон. — Именно поэтому я прошу вас разойтись по каютам. Музыка беспокоит капитана.
Последние слова Джексона возмутили пассажиров.
— По каютам? Вот еще новость! К черту вашего капитана!
— К черту, к черту, в преисподнюю! — подхватили пьяные голоса. — Мы хотим музыки! Эй, оркестр, играйте, болваны!
Какое дело было разгулявшимся искателям приключений до толстого старого капитана! Ну конечно, он славный малый, но запрещать пассажирам из-за его сердечного приступа веселиться — это уж слишком!
Видя, что с этой публикой ему не справиться, Джексон приказал музыкантам прекратить игру. С таким же приказом он отправил стюарда в спортивный зал, где веселились пассажиры второго класса.
Тем временем Мэнсфилд словно окаменевший стоял на крыле мостика, не замечая ни ливня, ни шквальных порывов ветра. Внезапная смерть капитана, который был к нему так добр, его ошеломила. Он мучительно вспоминал их последний разговор.
Три дня назад, после дневной вахты Аллисон пригласил его в свою каюту. Он часто звал к себе второго помощника поиграть в шахматы. На этот раз, как всегда, они сели за шахматный столик, но долго не начинали. Капитан все о чем-то думал. Потом он спросил:
— Как по-твоему, Майкл, сколько мне еще осталось тянуть на этом свете?
— Вы не так стары, сэр, — сказал Мэнсфилд. Неожиданный вопрос капитана вызвал у него легкое недоумение.
Аллисон вздохнул:
— У тебя доброе сердце, Майкл, и ты недурно воспитан. — Улыбнувшись, он грустно покачал головой: — Нет, мой мальчик, шестьдесят два — это немало. Твой капитан уже стар, болен и стар. В моем возрасте пора думать о спасении души. Или ты не веришь в ад?
— Вам рано об этом думать, сэр.
— Тебе кажется, в своей жизни я мало грешил?
— Мы все грешны.
— Это правда, мой мальчик, грешны все. — Он сделал первый ход пешкой и снова надолго умолк. Мэнсфилд никогда не видел его таким. Лицо капитана, обычно добродушно-веселое, с густой сеткой красных прожилок, сейчас было безучастным и серым. Он смотрел на шахматную доску, но взгляд его был устремлен на что-то другое. Казалось, он был повернут в него самого. Мэнсфилд смутно чувствовал, что в душе старика идет какая-то борьба. Капитан явно хотел сказать что-то важное, но не решался.
На шестом ходу, потеряв ферзя, Аллисон засмеялся:
— А ты говоришь, я не так стар. Вот тебе доказательство. Когда-то я не проигрывал ни одной партии. Мне всегда чертовски везло. Я играл без оглядки, крупно играл. — Помолчав, заговорил опять: — Жизнь — та же игра в шахматы. Когда-нибудь да получишь мат… И возлюбит господь покаянных… Вздор, как ты полагаешь?
— Я не могу назвать себя атеистом, сэр, но… — Мэнсфилд замялся. Он видел состояние капитана, и ему не хотелось неосторожным словом огорчить его.
— Ты не желаешь быть со мной откровенным?
— Нет, сэр, я со всеми стараюсь быть откровенным. Мне кажется, если бог есть, то с неба ему до нас далеко.
Вскинув свою гривастую голову, Аллисон громко захохотал.
— Кость мне в глотку, верно, Майкл, до неба не близко!
— Конечно, сэр.
— И можно послать этого старца к дьяволу, не так ли?
— Как вам угодно, сэр.
— А ты не боишься, что из старого Аллисона черти вытопят жир?
— Не думаю, сэр.
К Аллисону возвращалась его обыкновенная веселость. Мэнсфилд смотрел на него и тихо радовался.
— Когда человек болен и стар и ему нечего больше брать от жизни, одному ему становится скучно, — сказал капитан, продолжая игру. — В монастырях, говорят, неплохая братия. Но раз все это вздор, тут ничего не поделаешь… Майкл!
— Да, сэр.
— Тебе очень хочется стать капитаном?
— Я для этого учился, сэр, и теперь был бы плохим моряком, если бы не мечтал стать капитаном.
— Тебе следует жениться, Майкл.
— У меня пока нет невесты, сэр.
— Ты сделал своей невестой «Вайт бёрд», это ни к чему, Майкл. Железная коробка никогда не заменит близкого человека. — Задумавшись над очередным ходом, Аллисон вдруг оживился: — Послушай, Майкл, два года мы играем с тобой в шахматы, но ты никогда ни о чём меня не спрашиваешь.
— Я не знаю, что вы имеете в виду, сэр?
— Тебе не любопытно узнать, как я жил?
— Мне было бы очень приятно, сэр. Я не смею вторгаться в вашу личную жизнь.
— Чепуха, Майкл, разве мы с тобой не приятели? Представь себе, этот мешок с костями и жиром когда-то был лишь хилым скелетом. Я вырос в нищете и до шестнадцати лет меня пинали, как шелудивого пса. Или ты думал — я родился миллионером?
— Люди рождаются свободными и равными в правах. По-моему, их равняет то, что они рождаются голыми.
— Браво, Майкл, под твоим черепом кое-что шевелится. Но не думай, что миллионерами становятся обязательно грабители. Миллионер грабит, когда он уже миллионер, так устроено в жизни. Иначе нельзя оставаться миллионером. Но большие деньги иногда можно заработать честно. Твоему капитану первые два миллиона дало море. Я тогда служил рулевым на рефрижераторе «Кейбл». Он был резвым ходоком, но его остойчивость никуда не годилась. Возле Бермудских островов мы попали в приличный шторм, и «Кейбл» здорово лег на правый борт. Мы старались выровнять крен, но из этого ничего не вышло, «Кейбл» медленно погружался в воду. Капитан боялся оверкиля. Он приказал всем покинуть судно. Я понял, что тут есть шанс, и решил рискнуть. Мне не верилось, что «Кейбл» пойдет ко дну. В его трюмах были бананы, полторы тысячи тонн. Бананы не тонут. Я спрятался в форпике и остался на борту. Команда меня не искала, они сразу ушли на шлюпках к островам.
Мэнсфилд слушал, затаив дыхание. Старый Аллисон вырастал в его глазах до размеров героя.
— Получилось, как я и думал, — рассказывал дальше капитан. — «Кейбл» затопило только наполовину. Его мотало по морю почти три недели. С питьем и едой у меня было все в порядке, можно было жить хоть целый год. Я был не глуп, мой мальчик, и хорошо знал морские законы. Когда команда покидает судно, оно достается тому, кто на нем рискнет остаться и сумеет исправно вести вахтенный журнал. Я все делал по закону. Журнал мне пришлось завести новый — старые судовые документы унес капитан… На девятнадцатый день «Кейбл» заметили с канадского транспорта. В бинокль они видели, что на внешней обшивке левого борта стоит человек, как на палубе. Моя фигура их заинтересовала, и они подошли ближе. Капитан транспорта выслал шлюпку, чтобы снять меня с «Кейбла». Он считал, что я жду помощи. Но покидать судно я не собирался. Они уговаривали меня несколько часов, а я отвечал, что готов заключить с ними контракт на буксировку моего парохода в Нью-Йорк. Тогда они попытались самостоятельно завести буксир, чтобы за ними признали спасение «Кейбла». Канадец надеялся получить половину его стоимости, но я, говорю тебе, был не глуп. Они забрасывали фал раз десять, то с кормы, то с носа. Я носился по судну как угорелый, но завести фал не дал. Они его закрепят, а я по нему — топором. Им ничего не оставалось, как согласиться на мои условия. Потом капитан транспорта доказывал в суде, что спас меня и мое судно. Он ссылался на то, что на контракте нет его подписи, а я представил вахтенный журнал, в котором объяснил причину, почему ее нет. Чтобы получить его подпись, он заставлял меня перебраться к нему. Я бы сошел с «Кейбла», и назад бы они меня не пустили, а тогда попробуй докажи, что я покинул судно не по своей воле. Я вовремя разгадал его ход, и «Кейбл» достался мне. Он стоит шесть миллионов, но я продал его за два. Сто тысяч из них я отдал канадцам, хотя мог не давать ни цента. Мне было жаль капитана транспорта, суд обвинил его в жульничестве, и все присудили мне. Но я решил, что свои сто тысяч они заработали, я обещал им такую сумму… — Взглянув на часы, Аллисон поднялся. — Когда-нибудь я расскажу тебе все подробно. Скоро Гавана, пойду на мостик…
Они не доиграли партию в шахматы и не закончили разговор. Это было всего три дня назад, а сегодня капитана уже нет…
«Он чувствовал свою смерть, он все чувствовал!» — повторял Мэнсфилд как в забытьи.
Только теперь, все вспомнив и заново пережив, Майкл понял, чем терзался Аллисон, думая о монастыре. Его мучили какие-то давние грехи, и он боялся уйти из этого мира, не заплатив по счетам души. Он искал у Майкла поддержки, ждал его помощи. Ему хотелось, чтобы он его в чем-то убедил. Но в чем? Почему он не сказал всего до конца?
В половине третьего ночи на расстоянии около пяти морских миль показались огни маяка в Бернегатте. До Нью-Йорка оставалось идти пять часов.
Склонившись над крупномасштабной картой прибрежной полосы моря, Джексон что-то высчитывал, когда в штурманскую рубку вошел доктор. Вернее, он не вошел, а боком как бы вскользнул в рубку. Вид у него был настороженно-таинственный, на молочно-белых, не воспринимающих загара полных щеках проступал румянец чрезмерного возбуждения.
Их разговор слышал вахтенный матрос, менявший ленту в курсографе.
— Да, мистер Джексон, — сняв старомодное пенсне и в волнении протирая его полой распахнутого халата, сказал доктор вполголоса, — мои предположения, кажется, верны. В пузырьке из-под валерьянки ничего подозрительного я не обнаружил. Такое впечатление, что из него нарочно все вылили, он почти сухой. Но на ложечке темные пятна. Очень похожее потемнение, насколько мне известно, дает реакция золота на цианистый калий. Если это так, он умер мгновенно.
— А если не так? — Джексон смотрел на доктора внимательно и строго.
— Утверждать определенно я не могу… — Холодность первого помощника смутила доктора. Неловко водрузив на место пенсне, он не мигая уставился на Джексона. — Вы с чем-то не согласны?
У Джексона слегка дернулось веко.
— Я не знаю, как выглядела ложечка до сегодняшнего вечера.
— Кроме самого Аллисона, этого, видимо, никто не знал. Окончательно все выяснится после экспертизы и вскрытия тела. Но я не первый год работаю врачом, мой опыт позволяет сделать некоторые выводы. По тому, в каком положении мы застали мертвого, для меня ясно, что смерть наступила не от сердечного приступа.
— Самоубийство вы исключаете?
— Я знал Аллисона двадцать лет, он не мог умереть, не подумав о последствиях. Он был достаточно разумным человеком, чтобы оставить документ, который снял бы неизбежные подозрения.
Вахтенному матросу показалось, что Джексон слушал доктора, подавляя раздражение. Но держался он спокойно.
— Возможно, вы правы, доктор, — сказал он печально. — Смерть безусловно преждевременна. Тяжело сознавать, что капитана больше нет среди нас. Но не будем строить далеко идущие гипотезы. Наша задача — только дать следствию необходимые объяснения.
— Да, совершенно верно, мистер Джексон, — подхватил доктор горячо. — И все же, пока «Вайт бёрд» в море, мы должны, мне кажется, принять скорейшие меры, чтобы преступление, если оно совершилось, было раскрыто сразу по прибытии в Нью-Йорк.
Хмурые брови Джексона сосредоточенно сдвинулись.
— А что Берри? — спросил он после паузы.
— Берри? — Глаза доктора за стеклами пенсне широко распахнулись. — Ах, Берри! С ним, я думаю, несчастный случай. У бедняги проломлен череп в области надбровья. Он тоже умер мгновенно, раздавлен most. На волосах осталась свежая белая краска. Вероятно, его ударило сорванной шлюпбалкой. Покраска там везде свежая. Я наводил справки, старший боцман Гарпер послал Берри получше закрепить мотобот. Он говорит, что в Гаване они не успели завести его найтовы.
— Идиоты! Прогноз был объявлен, знали, что надвигается шторм. — Помолчав, Джексон хотел было отпустить доктора, но уже в дверях рубки задержал его. — Минуту, доктор! Я забыл напомнить, что отчеты о смерти капитана и Джека Берри нужны к приходу в Нью-Йорк. Напишите, пожалуйста, обстоятельно и прошу указать, кто приносил Аллисону валерьянку.
Доктора словно кто-то ударил под дых. Коротко глотнув воздуха, он застыл с отвисшей челюстью.
— Но… Но… — Он не мог вымолвить слова.
В это время зазвонил телефон. Трубку снял вахтенный матрос. Пока он слушал, лицо его медленно вытягивалось.
— Что там еще? — нетерпеливо спросил Джексон.
— Из кормовой вентиляционной шахты валит дым, сэр!
Глянув на противопожарные приборы, Джексон схватил телефон.
— Какой дым? Наши приборы ничего не показывают! — заорал он в трубку.
— Но я собственными глазами видел, как из шахты поднимается дым, — настаивал голос на втором конце провода. Он был таким громким, что его слышали даже в рулевой.
— Если речь идет о кормовой шахте, то дым поднимается, наверное, из трюма, — вмешался в разговор вошедший в штурманскую третий помощник. — Я прикажу проверить, мистер Джексон. Надеюсь, вы не возражаете?
Джексон пожал плечами:
— Не может этого быть. Но пусть проверят. — Его взгляд остановился на все еще остолбенело стоявшем докторе. — Вы еще здесь?
— Но я… — Доктор с трудом пытался овладеть собой. — Все лечебные препараты Аллисон получал у меня…
Джексон поморщился:
— У вас мало времени, доктор.
— Да, но… — Пятясь к выходу, доктор икал и, как бы постепенно сознавая весь ужас возможного обвинения, уже сейчас слабел под его тяжестью. Сопротивляться у него не было ни сил, ни воли.
Едва он ушел, как на мостик прибежал приемщик почты.
— В почтовом салоне пожар! Все горит!
— Вы что, с ума посходили? — взорвался Джексон. — Это же невозможно, чтобы одновременно горели корма и середина корабля. Напились, как свиньи!
— Но салон в огне, сэр, я только что оттуда!
Джексон не ответил. В рубку вернулся матрос, которого третий помощник посылал проверить кормовой трюм, действительно ли там что-то горит.
— Горят гаванские ящики с копрой, — сказал он. — Пламя пока небольшое, но быстро разгорается.
Сообщению матроса Джексон, казалось, не придал значения. Снова обратился к приемщику почты:
— Так что у вас происходит?
— Горит все, сэр, горит! — с отчаянием закричал почтовик.
Все ждали, что Джексон распорядится остановить корабль или прикажет уменьшить ход, но никакой команды он не отдал, хотя прямо в нос лайнера дул штормовой ветер, способный в считанные минуты разнести пламя по всему судну.
Ровно в три часа в рубке появился Мэнсфилд. С крыла ходового мостика, где он стоял, оплакивая смерть капитана, второй помощник увидел огонь в иллюминаторах верхнего бара. О пожаре в почтовом салоне и в кормовом трюме Мэнсфилд еще не знал, но для немедленной пожарной тревоги было достаточно и огня в баре.
Лицо Джексона скривила презрительная ухмылка.
— На судне семьсот пятьдесят пассажиров, Мэнсфилд. Надеюсь, вы не желаете превратить их в стадо баранов?
— Тревога, возможно, поднимет панику, но…
Мэнсфилда прервал снова зазвонивший телефон.
Кто-то бессвязно, дрожащим от волнения голосом кричал в телефон, что огонь распространяется по промежуточной палубе. Горят курительный салон и концертный зал. Еще через минуту позвонили из машинного отделения. Там тоже вспыхнул пожар. «Вайт бёрд» горела уже в шести местах, и как раз там, где для огня было сколько угодно пищи: в трюме — сухая копра и деревянные ящики, в концертном зале — полно мебели; бар, почтовый и курительный салоны внутри целиком облицованы деревом, в машинном отделении — горючее.
Весть о пожаре быстро распространялась по всему судну. Встревоженные новой бедой, на мостике скоро собрались все офицеры команды. Единственным среди них, кто по-прежнему сохранял спокойствие, был Джексон. Время от времени он то включал, то выключал сигнализатор противопожарной системы, повторяя с непонятным упрямством:
— Признаков дыма нет ни в одной из выходных трубок. Какой же, скажите мне, может быть огонь, если нет дыма? Вы все посходили с ума.
— О господи! — взмолился штурман Эванс. — Неужели вы думаете, что пожарные сигнализаторы всегда исправны? Судно горит, горит, мистер Джексон! Я сам видел огонь!
— Может быть, вы, Тэрмонд, объясните мне, что все это значит? — обратился Джексон к старшему механику, который своей рассудительностью и многолетним морским опытом снискал у экипажа «Вайт бёрд» особое уважение.
— Это преднамеренный поджог, и ничто иное, — ответил Тэрмонд убежденно. — На вашем месте, мистер Джексон, я бы сейчас же подал сигнал бедствия. Через час или полтора будет поздно.
— И вы тоже, Тэрмонд? — Категоричный тон старшего механика, казалось, искренне удивил Джексона, — В таком случае… — В глазах у него все еще оставалось недоверие. — В таком случае, поднимите команду, но без лишнего шума. Не надо беспокоить пассажиров. Пусть приготовят огнетушители и каждый займет свой пост согласно аварийному расписанию. До Нью-Йорка мы должны добраться самостоятельно. При крайней необходимости вызовем спасательное судно на траверзе бухты Уинера. Иначе эти пираты-спасатели сдерут с фирмы три шкуры. Могу сообщить вам, джентльмены, что груз и ценности «Вайт бёрд» в этом рейсе стоят почти десять миллионов долларов[12]. — Помедлив, он окинул всех многозначительным взглядом и закончил скороговоркой — У меня все, можете разойтись. Все доклады по телефону.
Проводив офицеров, Джексон снова склонился над картой. Кроме обычной деловой озабоченности, его побуревшее в морях лицо, узкое и жесткое, ничего не выражало. Трудно было понять, что им владело больше — примитивное неверие в опасность или поразительное самообладание.
— Я не удивлюсь, Майкл, если ради интересов фирмы этот угрюмый волосан хладнокровно заставит нас бросаться в море, — покидая мостик, сказал Эванс Мэнсфилду. — На «Вайт бёрд» легло проклятье.
На лайнере в самом деле творилось невесть что. Когда судно еще стояло в Гаване, в одну из вентиляционных шахт, огороженных высокими железными решетками, каким-то образом свалился матрос Келлер. Его подняли еще живым, но он умер, не приходя в сознание. И в тот же день вечером куда-то исчез машинист Маклеллан. Говорили, будто он без спросу сошел на берег и не вернулся, вроде бы сбежал. Но зачем немолодому Маклеллану, имевшему, по его рассказам, в пригороде Нью-Йорка свой домик, жену и четверых детей, которых он очень любил, вдруг понадобилось бегство с лайнера, дававшего ему отличный заработок, этого никто не мог взять в толк. Потом погиб Джек Берри и, наконец, смерть капитана.
Больше всего поражало странное совпадение: двое погибших матросов и без вести пропавший машинист на лайнере были новичками. В экипаж корабля их приняли перед самым началом последнего круиза.
Хотя о кончине капитана, как полагал, вероятно, Джексон, было известно только офицерам, доктору и нескольким вахтенным матросам, об этом скоро узнал весь экипаж. На горящем судне никто из членов команды не спал. «Капитана отравили, в валерьянку подлили цианистый калий», — передавалось из уст в уста.
А следом уже летела новая весть. Кто-то пустил слух, что у заменившего капитана первого помощника случился эпилептический удар и он так колотился о палубу, что его пришлось связать. Говорили, что связанный Джексон лежит у себя в каюте, кем-то закрытый на ключ, а второй помощник будто бы повесился и судном сейчас никто не управляет. «Вайт бёрд» идет неизвестно куда.
Слуху моментально поверили. Он ударил по нервам, как разряд грома. Экипаж охватила паника. Напрасно Мэнсфилд носился по коридорам жилых помещений команды, убеждал всех, что он жив, здоров и вешаться никогда не собирался. От него шарахались, словно от привидения. Даже парни, прошедшие войну и не раз смотревшие смерти в глаза, не могли преодолеть ужас, порожденный невероятными слухами и слепым суеверием.
Общая картина усугублялась кромешной темнотой зимней ночи и ревом шторма. Выйти из освещенных помещений в непроглядную темень палуб никто не решался. Казалось, в электрическом освещении они видели единственную возможность спасения. Горело под ними, всего палубой ниже, горело где-то выше. Смрад гари и дыма расползался уже по всей надстройке, все явственней слышался треск всепожирающего пламени, но ожидание страшной участи не прибавляло ни мужества, ни сознания необходимости что-то делать. Всегда дисциплинированный, превосходно обученный экипаж за каких-нибудь час-полтора превратился в ничто, в сборище беспомощных, скованных животным страхом людей.
— Гады, скоты, трусливые подонки! — с надрывом хрипел Эванс. В бешенстве он сорвал с себя ремень и пряжкой молотил всех, кто попадал под руку. Зараженные его примером, за ремни схватились Тэрмонд и Мэнсфилд, потом и другие офицеры.
Свирепое избиение продолжалось не больше двух-трех минут, но этого было достаточно. Как сильный наркотик выводит человека из шокового состояния, так жгучая боль пробуждает в нем погасший инстинкт самозащиты. Град жестоких ударов заставил людей опомниться, оглянуться по сторонам. Они поняли главное: еще не все потеряно, еще можно бороться. Пристыженные, виноватые, как побитые псы, матросы и боцманы бегом устремились к огнетушителям. С трудом, но все же удалось заставить тушить пожар и машинную команду.
Между тем погода все ухудшалась. Корабль раскачивало на огромных волнах, и огонь во внутренних помещениях раздувало, как на ветру. Наконец, раскалив изнутри металлические внешние стенки, он вырвался наружу и, подхваченный уже настоящим ветром, неудержимо помчался по обводам и палубным крыльям правого борта. Пламя быстро распространилось по всей надводной высоте лайнера. Запылала краска и лакированное облицовочное дерево на бортах пассажирских надстроек. Теперь огонь прокладывал себе дорогу внутрь корабля. Одна за другой загорались каюты.
Сонные и еще хмельные от недавней выпивки пассажиры в одном белье выскакивали в коридоры и с дикими воплями метались в лабиринте корабельных переходов. Некоторые из них добрались до капитанского мостика. Джексона, встретившего их грубой руганью, они готовы были растерзать. Его спасли вахтенные матросы, успевшие к тому времени вооружиться огнетушителями. Под напором тугих струй пожарной смеси обезумевшие «дети экипажа», как любил называть пассажиров покойный Аллисон, были вынуждены отступить. Чтобы избавиться от подобных визитов, все входные двери в главные судовые рубки пришлось запереть.
Только сейчас Джексон включил сирену тревоги. Потом по корабельной трансляции он обратился к пассажирам. Его речь была неожиданным обвинением:
— Леди и джентльмены, прошу внимания! Говорит администрация «Вайт бёрд». Среди вас скрывается один или, вероятнее всего, несколько преступников, совершивших намеренный и заранее спланированный поджог нашего лайнера. Мотивы преступления нам пока не известны. Не знаем мы также, кто эти люди, но что они находятся на борту в качестве пассажиров, нами установлено. Сообщая вам этот факт, мы надеемся, вы сделаете соответствующие выводы и будете достаточно благоразумны, чтобы воздержаться от необдуманных действий по отношению к команде и администрации судна, которые, к сожалению, уже имели место. Несчастье одинаково постигло всех нас. Его размеры вы видите сами. Положение чрезвычайное, но команда принимает все меры, чтобы жизнь каждого, кто вверил нам свою судьбу, не подвергалась крайнему риску. Вместе с тем ваша безопасность во многом зависит от вас самих, от того, как вы будете соблюдать порядок и спокойствие. Прошу без всяких возражений и препирательств подчиняться всем требованиям команды. Случаи неповиновения будут рассматриваться как злоумышленное правонарушение и пресекаться по всей строгости, которую диктует обстановка. — Он сделал паузу и заговорил снова — Вниманию всех членов команды! У микрофона Джексон. Только что вы слышали мое обращение к пассажирам. Прошу учесть, что за одного или нескольких безумцев ответственности остальные пассажиры не несут. Вы должны быть, как всегда, корректны и помнить высший долг моряка — оказывать помощь прежде всего тому, кто на море впервые или мало с ним знаком. Надеюсь на вашу морскую честь, мужество и твердость духа. У меня все.
Свое заключение, что среди пассажиров скрываются преступники, Джексон ничем не мотивировал. Но на это никто не обратил внимания. Его речь, произнесенная убежденно и властно, пассажиров отрезвила. Невольно они почувствовали себя виноватыми. Подозревая товарища рядом, каждый боялся, чтобы в преступлении не заподозрили его самого. И этот страх, пока на корабле оставались места, не охваченные пламенем, был сильнее огня. Толпы в коридорах притихли. Команда же, услышав голос Джексона, вздохнула с облегчением. Значит, он на мостике, на судне есть капитан. Конечно же они будут предупредительны, свой долг они выполнят.
Но время было упущено. При всей самоотверженности команда уже не могла не только погасить пламя, но даже уменьшить его. Разгораясь все сильнее, огонь поглотил всю правую половину корабля. «Вайт бёрд» пылала громадным костром.
В 4.30 Джексон приказал подать сигнал бедствия.
Тревожный призыв о помощи вскоре был принят береговыми спасательными станциями Четхем и Хептон-Коутс, а также двумя рейсовыми кораблями — «Сити оф Америка» и «Бернард Сварт». Эти суда держали связь с «Вайт бёрд» до тех пор, пока ее радисты вдруг не прекратили работать.
Оба корабля, принявшие SOS, взяли курс на «Вайт бёрд».
Связь с горящим лайнером продолжалась около двадцати минут. Переговоры о помощи слышали по всему восточному побережью Америки. Теперь многие знали, что вдоль побережья, на котором можно было найти, спасение, с упрямым курсом на Нью-Йорк и скоростью 27 узлов движется гигантский факел.
Спасательные корабли всех размеров из портов Нью-Йорка, Филадельфии и Балтимора немедленно вышли в море. Всем хотелось заполучить огромную денежную награду, положенную тому, кто первым подаст буксирный трос на горящее судно. Сколько стоила «Вайт бёрд», ни для кого не было секретом.
Гонку выиграл сторожевой корабль военно-морского флота США «Партингтон». Он подошел к лайнеру в 5 часов 17 минут и делал попытки забросить на него буксирный трос.
Но на носу «Вайт бёрд» стоял Джексон и как капитан корабля кричал в мегафон, что принимать фал он отказывается.
— Мы не допустим, чтобы нас взяли на буксир! Мы никому ничего не заплатим! Нам нужна помощь только в спасении пассажиров. Мы высадим их и собственным ходом достигнем Нью-Йорка.
Удивленный командир сторожевика крикнул в ответ:
— Вы же видите, мой корабль военный![13] Наш долг оказать вам помощь, и ничего больше. Но если желаете, можете подать фал сами.
Опустив мегафон, Джексон дал понять, что разговор закончен.
Не добившись согласия, сторожевик отплыл.
Увидев огни приближающихся судов, на «Вайт бёрд» замедлили ход и с левого борта начали спускать шлюпки для высадки пассажиров и команды. К правому борту подступиться никто не мог, там везде бушевал огонь.
Спасением руководили офицеры и младшие боцманы. Все шло относительно спокойно. Но очень скоро пламя перекинулось и на левый борт. Когда загорелись густо намасленные троса, на которых висели шлюпки, нервы людей не выдержали. За место в шлюпке между пассажирами завязалась драка. Никто никого не щадил, никто никому не уступал первенства. Женщины, отброшенные более сильными мужчинами в глубь спардека, неистово завопили.
Офицеры, стреляя вверх из пистолетов, тщетно пытались навести хоть какой-нибудь порядок. Их выстрелов никто не слышал. В общей свалке десятки рук тянулись к блокам шлюпбалок, и шлюпки срывались с креплений прежде, чем успевали достаточно наполниться людьми. Падая вниз без амортизаторов, с людьми, неспособными в своем безумии сохранять центр тяжести лодки, легкие скорлупки ударялись о поверхность моря и с лету опрокидывались либо вертикально уходили в воду носом или кормой. Но это никого не останавливало. Никто ничего не видел. Шлюпки штурмом брали одну за другой.
К шести часам все надстройки на правом борту «Вайт бёрд» прогорели насквозь. Левый борт, ставший более тяжелым, все больше кренился. Вместе с креном на левую половину корабля перекатывался жар, накопившийся справа. Поток горящих бревен и раскаленного железа, проломив переборки, хлынул в спортивный зал, который до того момента оставался единственным местом в пассажирской надстройке первого класса, куда огонь не имел доступа. Там было полно людей, пассажиров и членов команды, не сумевших вовремя подняться на спардек. Предсмертный вопль сгораемых заживо, слитый воедино, как режущий клич, взметнулся и погас в рокочущем гуле огня.
Вся толпа на спардеке ринулась к леерам. Люди кидались в черную, вздымающуюся за бортом пучину, чтобы найти в ней спасение от убийственного пламени, но пучина обжигала их леденящим холодом, сдавливала судорогами, и многие находили в ней гибель. Одетые в спасательные жилеты, мертвые не тонули, плавали, как брошенные в волны расцвеченные куклы.
Мэнсфилд, в дымящейся одежде, ослепленный чудовищной яркостью огня, приготовился прыгать за борт, когда сзади в него кто-то вцепился. Он услышал стонущий хрип:
— Пожалуйста, мистер Мэнсфилд…
Это был голос хромого бизнесмена из Филадельфии, занимавшего каюту на седьмой палубе. В рейсе его почему-то всегда интересовало, сколько футов под килем. Вахтенные называли любую цифру, лишь бы отделаться, но ответ неизменно удовлетворял его. Поблагодарив, он глубокомысленно хмыкал и, постукивая своей дюралевой ногой, уходил. Потом драгунские рыжие усы вплывали в двери штурманской снова: «А скажите, мистер Мэнсфилд, сколько футов под килем в настоящее время?» На мостике к нему так привыкли, что, когда он долго не появлялся, даже беспокоились: «Куда это пропал наш А Скажите?»
И вот теперь, в самую неподходящую минуту, этот А Скажите повис на Мэнсфилде, стонущий и безвольно обмякший, но, по-видимому, не утративший надежды.
Рывком стряхнув неожиданную тяжесть, Мэнсфилд резко обернулся.
— Дьявольщина, сами пры… — И на полуслове умолк. Виновато-жалкая улыбка безногого вдруг успокоила его.
Какое-то время они молча смотрели друг на друга, один озадаченно, другой — с сознанием собственной беспомощности, делавшей его кротким и некстати застенчивым. «В нем не меньше двухсот фунтов», — подумал Мэнсфилд. Вслух он сказал:
— Ничего, старина, прыгнем вместе, я помогу вам. — С этими словами он снял с себя ремень и один его конец протянул безногому. — Держитесь покрепче! Ну…
Момент прыжка опередил сильный толчок снизу. В самой глубине лайнера что-то взорвалось. Наверное, цистерны с горючим, расположенные под средним трюмом. Мэнсфилда и хромого усача подбросило вверх и не швырнуло опять на пылающий спардек благодаря лишь крену корабля. С наклонной палубы их словно выстрелило в море из катапульты.
Когда Мэнсфилд всплыл и с трудом пришел в себя, при свете пожара он увидел на поверхности моря множество оранжевых спасательных жилетов, но его глаза сразу отыскали жилет А Скажите. Бизнесмен из Филадельфии, металлическая нога которого оказалась для него грузилом, а жилет поплавком, торчал из воды вертикально и мерно покачивался на волне, как японский фарфоровый болванчик. Его голова с обвисшими мокрыми волосами безжизненно переваливалась то на одно плечо, то на другое.
На месте разыгравшейся драмы кружили суда и большие баржи, прибывшие для помощи. Они спускали шлюпки, и сидевшие в них матросы баграми вылавливали в море и мертвых и живых. Скоро крюк багра зацепил и Мэнсфилда.
А машины «Вайт бёрд» продолжали работать. Рассекая предрассветную мглу, гигантский пылающий факел все еще двигался тем же заданным курсом на Нью-Йорк. При крене правый гребной винт лайнера обнажился и теперь только молотил воздух, но левый работал с полной нагрузкой, сообщая судну скорость до девяти узлов. Остановить его было невозможно. Ведь корабль все покинули. Машины работали без людей.
Так думали на двух кораблях, по обе стороны сопровождавших судно-костер. Один из них, тот самый сторожевик, снова пытался взять «Вайт бёрд» на буксир, чтобы развернуть ее носом в открытое море и таким образом обезопасить сооружения и корабли в нью-йоркской гавани. Но вплотную приблизиться к лайнеру не давало пламя. Над «Вайт бёрд» оно взлетало на высоту 30–40 метров. К тому времени на лайнере белели только форштевень и лобовая часть ходового мостика, еще не охваченные огнем.
В 6.20 сторожевик радировал в Нью-Йорк:
«Покинутый людьми горящий лайнер продолжает движение направлению порта. Буксировка исключается, загоримся сами. Потопить не могу, не имею снарядов. Прошу немедленно выслать эсминец торпедами».
Эсминец, очевидно, еще не вышел из порта, когда на траверзе пляжа Эсбари-Парк, лежащего в ста километрах от Нью-Йорка, «Вайт бёрд» вдруг развернулась носом к берегу. Разворот был настолько крут, что крен на левый борт увеличился вдвое. Такой поворот мог сделать только человек.
Им был Джексон.
Потрясенные военные моряки увидели его на левом крыле ходового мостика, в тесном углу, куда огонь еще не добрался. На толстом швартовом канате он спускал за борт связку спасательных жилетов, затем, убедившись, что они достигли воды, по тому же канату сполз вниз сам. Опустившись в воду, он надел, как рюкзак, связку жилетов на плечи, обрезал канат и не спеша поплыл к берегу. Каждым его движением, медлительным и словно бы ленивым, руководило скорее рассудочное хладнокровие, чем волевое бесстрашие. И это поражало больше всего.
Спустя несколько минут, когда его уже подняли на палубу сторожевика и переодели в сухую одежду, молодой лейтенант Коллинз стоял перед ним взволнованный до глубины души.
— Сэр, я не нахожу слов, вы сами не понимаете, какой вы герой!
Вряд ли он что-нибудь расслышал. Его отсутствующий взгляд был устремлен на удаляющийся факел.
— Там мелководье, оно его остановит, — сказал он, ни к кому не обращаясь. Потом спохватился: — Где мои жилеты?
— Но, сэр! — воскликнул все еще восторженно возбужденный командир сторожевика. — Они же вот, у ваших ног!
Взрыв веселого смеха заставил Джексона тоже улыбнуться.
— Простите, лейтенант, я совсем потерял голову. Здесь завернут ящик с судовыми документами…
Утром о трагедии «Вайт бёрд» узнал весь мир. И не было газеты, которая, рассказывая о катастрофе, не отдала бы дань поведению Джексона. Его ни в чем не обвиняли. Им восхищались как образцом мужества и долга.
Да и в чем можно было обвинять Джексона? Долг велел ему покинуть корабль последним. Эту священную привилегию и обязанность капитана он не нарушил. Покидая борт терпящего бедствие судна, капитан должен унести с собой судовые документы. Он не забыл о них. Честь моряка требовала от него оставаться на корабле, пока обреченность судна не станет очевидной. На горящем лайнере он оставался гораздо дольше и, рискуя собственной жизнью, предотвратил пожар в нью-йоркской гавани.
Вахтенный судовой журнал — зеркало поступков и решений капитана. Каждая запись в журнале «Вайт бёрд», сделанная после того, как Джексон принял на себя обязанности капитана, говорила, по общему признанию опытных морских экспертов, о решениях продуманных и безусловно верных. Обращение Джексона к пассажирам и команде во время тревоги, также дословно внесенное в журнал, свидетельствовало о нем как капитане мудром и непреклонном, умеющем управлять не только кораблем, но и человеческими страстями.
Некоторых смущало, почему Джексон сразу не принял помощь военного корабля. Но опубликованное газетами интервью лейтенанта Коллинза, рассказавшего журналистам, как Джексон оказался на борту сторожевика, было так восторженно, что возникшие подозрения отпали сами собой.
Добавить к этому никто ничего не мог.
Выброшенная на мели Эсбери-Парка «Вайт бёрд» пылала еще неделю. Под конец от нее остался лишь полностью обгоревший остов. Роскошный лайнер перестал существовать.
В катастрофе погибло триста одиннадцать пассажиров и семьдесят два члена команды. Среди них был и доктор, которого можно было либо обвинить в смерти Роберта Аллисона, либо, внимательно проанализировав его показания, прийти к каким-то иным выводам.
Минули годы, и вот теперь, спустя почти два десятилетия, за тысячи миль от Нью-Йорка, на холодном антарктическом острове Южная Георгия судьба свела меня с Джексоном. Да, это был он, не Андерс Акре, нет, — Джексон, Вильям Джексон. Человек, виновный в одном из величайших преступлений на море.
Вот некоторые подробности из того, что широкой публике осталось неизвестным.
Дней за десять до начала последнего рейса «Вайт бёрд» в Нью-Йорке с Джексоном встретился Поль Фридман — длинный тощий парень лет тридцати двух, известный под ласковым прозвищем Одуванчик. Его тонкую, как палка, шею венчала круглая, словно шар, голова, покрытая пушистыми рыжими кудрями, — Одуванчик.
Официально считалось, что Фридман занимался частной адвокатурой, но Джексон, много лет служивший Папанопулосу и знакомый с его ближайшим окружением, отлично знал, на кого работал Поль. Лениво томный и внешне ко всему равнодушный, но в то же время велеречивый, Одуванчик пользовался закулисной славой непревзойденного между фирменного шпика и большого мастера «деликатных» дел, в которых, однако, ни он сам, ни его покровители никогда не были замечены.
Они сидели в маленьком тихом ресторанчике, потягивали через рисовые соломинки розовый вишневый коктейль.
— Приятный напиток, — сказал Одуванчик, расслабленно улыбаясь. — Между прочим, древние греки считали вишню лучшим кроветворным средством. Вы не знали?
— Не знал, — сухо ответил Джексон, пытаясь угадать, куда клонится разговор. Он понимал: раз Папанопулос послал к нему Одуванчика, вишни тут ни при чем. Грек снова что-то затевает, и ему опять понадобился Джексон. Вспомнил, паразит, не забыл.
— Вы в дурном настроении, мой друг? — Одуванчик, казалось, воображал себя беседующим с дамой. Это его манера начинать деловой разговор болтливым сюсюканьем выводила Джексона из себя.
— Я слушаю, Поль, — сказал он, подавляя раздражение. — Не волыньте.
— Фу, Джексон, что за лексика! Впрочем, как вам угодно. Я хотел только спросить, как бы вы посмотрели, если бы на месте Аллисона вдруг оказался… — Одуванчик намеренно выдержал паузу. — Допустим, Мэнсфилд?
Джексон, не таясь, от души расхохотался.
— Этот слизняк?
— Ну, положим, это не совсем так. Прекрасная профессиональная подготовка, эрудиция, да и жизненная хватка у этого мальчика, я бы сказал, завидная. Разве он не сумел обворожить Аллисона?
— Лизать зад много ума не надо.
— Вы грубы оттого, Джексон, что у вас слишком развито чувство антипатии. Это не худший из наших пороков, но с ним трудно быть объективным. Вы часто недооцениваете своих противников.
— От меня хотят избавиться?
— Насколько я знаю, Аллисон всего лишь собирается удалиться в монастырь святого Августина. Говорят, отцы-монахи ожидают его в святой обители уже в январе.
«Ага, вот в чем дело, — отметил про себя Джексон. — Все уже пронюхал, золотозубая шлюха!»
— Ну и что! Я первый помощник, по всем морским законам и традициям должность капитана переходит к старшему по чину.
— Да, но Аллисон пока главный акционер. Его воля важнее формальностей. Надеюсь, вы не станете возражать против этого?
Неохотно соглашаясь, Джексон молча кивнул.
— Так вот, — продолжал Одуванчик. — Не далее как на минувшей неделе Аллисон с помощью известного нам юриста составил завещание, по которому при жизни передает одну десятую часть своих акций на «Вайт бёрд» монастырю святого Августина, а девять десятых — Майклу Мэнсфилду и всем членам команды, за исключением первого помощника и еще нескольких человек, вероятно не заслуживших его доверия. Кроме того, Мэнсфилд назначается капитаном, и ему же Аллисон передает двенадцать миллионов долларов из полученной прибыли, с тем чтобы потом, когда у Мэнсфилда наберется достаточная сумма, он мог выкупить акции Папанопулоса и Форбса. Да, Джексон, представьте себе, в этом нет ничего несбыточного. Компаньоны Аллисона — временные совладельцы «Вайт бёрд». Он получил от них расписки, которые дают ему право в любой момент вернуть двадцать миллионов долларов и стать единственным хозяином лайнера.
Джексон слушал, вытаращив глаза. Его густые лохматые брови, придававшие лицу сумрачную угрюмость, выползли почти на середину лба.
— Как это — временные?
— В принципе все просто. Де-факто никаких компаньонов у Аллисона не существует, то есть они существуют, но только де-юре. Дело в том, что, когда Аллисону понадобилось двадцать миллионов на достройку «Вайт бёрд» и он обратился в банк, кредита ему не дали. Кроме стоявшего на стапелях лайнера, у него ничего не было, и он не мог определить точный срок возврата ссуды. Тогда ему предложили свои услуги Папанопулос и Форбс. Они хотели быть его компаньонами, но старый хрыч заупрямился, соглашался только взять деньги в долг и выплачивать потом в качестве годовых процентов половину прибылей от эксплуатации лайнера. Как вы сами понимаете, никакой кредитор перед такими процентами не устоял бы. Но к сожалению, есть налоговая инспекция. Если бы Аллисон формально не объявил своих кредиторов компаньонами, подобного деления прибылей никто бы не признал. С Аллисона брали бы налог вдвое больше. А проценты кредиторам между тем пришлось бы все равно выплачивать. Сошлись поэтому на чисто юридическом компаньонстве. Для Аллисона это было не разорительно, на сегодняшний день он уже выиграл на половинных налогах миллионов шесть и держит у себя весь пакет акций. Конечно, заняв юридическую позицию, Папанопулос и Форбс могли бы оспаривать свою долю капитала в судебном порядке, но, заключая сделку, Аллисон предусмотрительно потребовал от них гарантийные расписки на право беспроцентного выкупа. Все, как видите, было учтено. Взаимная выгода и гарантии.
Джексон шумно вздохнул.
— Ловко! — Потом спохватился: — Хорошо, а что я?
— Как вам сказать… — Забыв свою всегдашнюю «великосветскую» манерность, Одуванчик пальцем вытер уголки рта. — Расписки находятся в каюте Аллисона, в сейфе. И там же, я полагаю, если поискать, можно найти упомянутое завещание, над которым, по нашим данным, мистер Аллисон намерен размышлять в предстоящем рейсе, после чего он, надо думать, представит его на окончательное утверждение в нотариальную контору. Вот и все.
У Джексона запершило в глотке.
— Вы хотите, чтобы я взломал сейф?
Шестой год плавая на «Вайт бёрд» и не занимаясь на лайнере ничем, кроме служебных обязанностей, Джексон уже считал, что его оставили в покое что теперь-то у него наконец твердое место в жизни и ему не придется больше балансировать на лезвии ножа.
Когда в 1936 году семья Джексонов переселилась из Норвегии в Америку, они долго не могли получить подданство и жили как бездомные собаки. Ни пристанища, ни средств к существованию. И никому до твоего горя нет дела — чужая страна, чужие люди, все чужое. Разве тебя кто-то просил сюда приезжать? Не нравится — возвращайся, откуда приехал.
Возвращаться им было некуда. Дядя Френк в Осло умер, и с Норвегией их больше ничего не связывало. У них не было ни норвежских паспортов, ни друзей, которые могли бы их там приютить или помочь как-то устроиться. Отношения с Ирландией тоже давно были порваны. Изгнанные с родной земли за свои религиозные убеждения, они превратились в людей без роду и племени: одни на всем белом свете. Поэтому-то Дэвид Джексон и решил ехать с семьей в Америку. Здесь, в стране эмигрантов-космополитов, создавших свое государство из множества племен и народов, он надеялся найти вторую родину и хоть какой-нибудь дом. Но те времена, когда в Штатах радушно принимали всех и каждого, минули. Американские паспорта теперь можно было получить лишь в том случае, если ты привез с собой столько денег или других ценностей, что в состоянии без дополнительного источника доходов обеспечить себе и семье прожиточный минимум «среднего американца» не меньше как на пять лет. Иначе — лагерь для перемещенных лиц: три раза в день постная похлебка и ничего лучшего впереди.
Обнесенный глухим дощатым забором, лагерь охранялся, но не очень строго. Кто половчее, в любое время мог уходить в город и возвращаться.
Вильяму едва исполнилось тогда восемнадцать, и забор в два метра высотой для него не был серьезным препятствием. В лагере его почти не видели. Целыми днями слонялся по городу, искал случайных заработков.
Обычно день начинался с обхода ресторанов. Вильям уже знал, что у многих безработных и бродяг Нью-Йорка это давняя традиция. По утрам во всех ночных ресторанах и кафе всегда аврал. Нужно убирать накопившийся с вечера мусор, все мыть, скоблить, драить кухонные котлы, кастрюли, чистить картошку, овощи. Словом, дел выше головы, а людей, постоянно работающих в ресторане, как правило, мало, поэтому часто пользуются услугами кого-нибудь с улицы. Заработаешь не больше двух-трех долларов, но накормят бесплатно и вдоволь. И с собой что-нибудь дадут. Важно только вовремя оказаться там, куда не успели явиться другие.
Это было нелегко — опережать конкурентов. Охотников подзаработать и к тому же задаром набить брюхо по улицам Нью-Йорка бродили тысячи. У самых «надежных» ресторанов толпы алчущих собирались еще затемно. Сборища разномастных смертельных врагов, до звериной люто ненавидевших друг друга только за то, что каждый из них нуждался в куске хлеба. А кусок-то один, и не известно, кому он достанется.
В то утро Вильям пришел к ресторану «Савойя», кажется, восьмым или девятым. Но на кухню позвали его. Накануне он там уже работал и, наверное, понравился. Это всех взорвало. Они оттащили Вильяма от двери и накинулись на него, как шакалы. От увечья, а может быть и гибели, его спасли уроки отца — Дэвид Джексон был профессиональным тренером по каратэ и дзюдо.
Когда все кончилось и шестеро остались лежать на земле, Вильям бросился бежать. Но патрульный джип его обогнал. Он прижал беглеца к стене дома, и полицейский, приподнявшись на сиденье, прямо на ходу оглушил Вильяма дубинкой.
Потом, уже в наручниках, они подвезли его к месту драки. Двое из тех шестерых лежали с остекленевшими глазами. Возможно, в общей свалке они нашли свою смерть вовсе не от рук Вильяма. Но он один пользовался приемами каратэ, и это все видели. Короткий взмах руки, и нападавший, обмякнув, оседал на землю.
Записывая имена и показания очевидцев, здоровенный белобрысый сержант, остановивший Вильяма своей дубинкой, смотрел на него с явным восхищением.
— Спорю на доллар, — сказал он с усмешкой, — твои дела, парень, пахнут жареным. Мне жаль тебя. Такая рука, это надо понимать! Послушай, разрази меня гром, если в тебе больше полтораста фунтов?
Он угадал абсолютно точно, и в другой раз Вильям, вероятно, удивился бы, но не сейчас. После недавней драки и словно расколовшего череп удара полицейской дубинкой он сидел в джипе пришибленно-равнодушный. Ясно, электрический трон теперь ему обеспечен. Ну и черт с ним! Все равно радости в жизни никакой.
Он было подумал о родителях и двух младших сестрах и вроде даже пожалел их, но безвольно-расплывчатая мысль и слабая жалость угасли, едва успев родиться. Проживут, если сильно захотят.
— Да, парень, влип ты, можно сказать, отменно, — ухмылялся сержант, поднимая над джипом брезентовый верх. — Браслетики тебя не беспокоят?
— Нет! — огрызнулся Вильям с неожиданной злостью. Боли в те минуты он действительно не чувствовал, хотя шипастые наручники остро впивались в запястья при малейшем движении.
— А то можно переменить на гладкие. Если ты не уложишь меня, как тех голубчиков. — Кивком головы сержант указал на двух убитых. С середины улицы толпа зевак оттащила их на тротуар и бросила там, как два бревна. Мертвые, они никого уже не интересовали. Все глазели только на Вильяма. Похоже, тоже сочувствовали ему. Или то было всего лишь подогретое сержантом любопытство. Надо же, с виду такой замухрышка, а рубит ребром ладони насмерть!
— Вызывать никого не надо, мы скоро вернемся, — садясь в машину, повелительно сказал сержант зевакам. — Трогай, Билл!
Вильям знал, что ближайший от «Савойи» полицейский участок на углу 6-й авеню. Но машина мчалась куда-то в направлении западной части Манхеттена. Тот район Вильяму был знаком. Если несколько дней подряд не удавалось найти работу в городе, он садился в автобус и ехал в Манхеттен, к докам. Там работу ему давали всегда. Он рассказал доковым мастерам, что в Норвегии закончил три курса среднего мореходного училища, и они охотно стали поручать ему работы, связанные с ремонтом стационарных навигационных приборов и ходовых рубок. К сожалению, платили не больше, чем в ресторанах, а обедать нужно было за свой счет. В судовых столовых питались только корабельные команды.
Сидевший за рулем молчаливый негр вдруг резко повернул вправо, потом, проскочив два квартала, — влево. Теперь джип на предельной скорости мчался в направлении Бруклина, но через две-три минуты снова развернулся и, не снижая скорости, покатил к Лонг-Бичу. Можно было подумать, что за ними кто-то гонится и негр старается оторваться от преследователей.
Вильям встревожился:
— Куда вы меня везете?
— Ничего, парень, твои дела не так плохи, как тебе кажется, — ответил сержант серьезно. — Если, конечно, твой котелок не набит конским навозом. Как тебя зовут?
— Вильям.
— Восемнадцать уже есть?
— И три месяца.
— Я вижу, ты из эмигрантов?
— На мне написано?
— Я говорю — вижу. Ты ирландец?
— Да. Но мы приехали из Норвегии.
— Давно?
— Полгода.
— Подданства нет?
— Если бы было!
— Оно и видно.
Тон у сержанта сейчас был совсем иной. Он говорил деловито, сухо, думая о своем. Вильяма поражала его прозорливость. Как будто все знал о нем. От такого ничего не скроешь. Полицейская ищейка!
— Снимите с меня эти наручники, — сказал Вильям. — Я никуда не убегу.
— Потерпи немного.
— Больно.
— Меньше шевели руками.
Не чувствуя сначала боли, Вильям не обращал на «браслеты» внимания. Теперь же разодранные руки жгло, как огнем.
— Мне больно!
— Не шевели, говорю, руками.
Негр опять положил машину в крутой вираж. По полупустынным утренним улицам джип понесся к району Нью-Джерси.
Вильям уже не сомневался, что эти двое что-то замышляют. Для полицейских они вели себя слишком подозрительно. Там, у ресторана, сказали, чтобы никого не вызывали, они скоро вернутся. А едут неизвестно куда и возвращаться, судя по всему, не собираются.
Иначе бы не петляли. Определенно хотят сбить кого-то с толку. И верх над машиной зачем-то подняли, спрятали Вильяма от людских глаз.
— Я буду кричать! Куда вы меня везете?
— Не дури, парень. Благодари бога, что попал к нам.
— Но я… — кусая губы, Вильям едва сдерживал рыдания. От того первого тупого равнодушия не осталось и следа. Медленно, но все с большим ужасом он начинал сознавать всю непоправимость происшедшего. И с таким же затаенным страхом смотрел на широкие спины двух своих стражей, тщетно силясь разгадать смысл их непонятного поведения.
— Я знаю, вы не полицейские! — внезапно вскричал он, словно вдруг прозрев. — Что вам от меня надо?
— Слышь, Билл! — сержант локтем толкнул негра в бок. — А этот парень не дурак. — Потом с веселой улыбкой повернулся к Вильяму: — Я сразу понял, что в твоем котелке не навоз. Мне нужен такой парень, как ты, и я решил тебя спасти. Я видел всю драку, мы с перекрестка как раз завернули к «Савойе» и остановились метрах в сорока от вашей кучи. Вам было не до нас. Здорово ты их, спорю на доллар.
Как позже выяснилось, белобрысым «сержантом полиции» был Лео Сегри — один из самых ловких гангстеров, когда-либо работавших на Папанопулоса. Огромного роста, внешне невозмутимо добродушный и малоподвижный, он таил в себе вулкан энергии и поистине блестящие способности изобретать самые невероятные комбинации.
Ему приказали тогда подобрать двух-трех не зарегистрированных в полиции парней, которые умели бы постоять за себя и товарища и которым можно было бы доверять.
Лео признавал только один вид верности, ту, когда человек от тебя зависит. Он считал, что «работать» можно с кем угодно, но полагаться следует лишь на тех, для кого ты и милосердный бог, и грозный судья, кто твердо знает: его жизнь в твоих руках. Поэтому нужных людей Лео искал несколько необычно.
У него был целый набор вполне надежных полицейских удостоверений чуть ли не всех районов Нью-Йорка и превосходно вымуштрованный помощник — словно вылитый из почерневшей бронзы негр Билл Тернер. Переодевшись полицейскими и нацепив на джип номер того полицейского управления, чьи патрульные машины в намеченных районах города обычно не появляются (встреча с «коллегами» была бы опасной), они объезжали места утренних сборищ бродяг и безработных. Там часто вспыхивают драки и нередко случаются убийства. Спасти от полиции убийцу (лучше всего невольного, охваченного паническим страхом, а не закоренелого негодяя), предварительно запасшись изобличающими его документами или хотя бы адресами свидетелей — значит получить самого верного человека. Если он, разумеется, не законченный кретин.
Драка у «Савойи» изумила Лео. Он видел их тысячи, знал множество виртуозов ножа и кулака, но если бы ему сказали, что парень весом в шестьдесят семь килограммов может одним лишь ударом ребра ладони валить на землю человека втрое более сильного, он никогда бы не поверил. Но тут все происходило на его глазах. Парень не просто сваливал нападавших, он валил их намертво.
— Ты видишь, Билл, — воскликнул Лео, — этот парень — король! Он будет наш, клянусь печенкой!
— Да, он дерется неплохо, — подумав, согласился Билл. Пока они стояли, негр кадр за кадром снимал телевиком весь ход драки (нужны документы).
Вильяму казалось тогда, что он родился в рубашке. Они сделали для него невозможное.
Прежде всего нужно было найти способ обезвредить полицию. Двойное убийство возле «Савойи» и арест неизвестными полицейскими пусть невольного, но все же убийцу не могли пройти незамеченными. Полиция должна была начать расследование, и это неизбежно привело бы ее в лагерь для перемещенных лиц. В предыдущее утро, работая на кухне «Савойи», Вильям сказал поварам, кто он и откуда. Может быть, они не запомнили его имени, но в лагере все бы открылось: пропал Вильям Джексон. Наконец, не зная, куда девался сын и что с ним произошло, в полицию могли обратиться родители Вильяма. Начались бы поиски, расспросы, сопоставления…
Конечно, родителей нетрудно было предупредить, однако это ничего не меняло, Да, но за дело ведь взялся Лео.
Только одному Лео было известно, как он умудрился в тот же день найти «виновника» драки у «Савойи», настолько, по его словам, похожего на Вильяма, что свидетели после недолгих колебаний признали в нем «того самого дьявола». Своего участия в драке парень тоже не отрицал. Да, утром он был возле «Савойи», его били, и он кого-то бил. Нет, он не из лагеря для перемещенных лиц и зовут его не Вильям, а Мелвин, Мелвин Уорнер, проживающий в тридцать первом доме на 27-й авеню. Вчера поварам ресторана он все наврал, хотел разжалобить их, чтобы больше заплатили. У него скупые родители, не дают ему ни цента.
Нет, Мелвин Уорнер был не сумасшедшим, ухватившимся за счастливую возможность сесть на электрический стул. Малому не было еще и шестнадцати, и в худшем случае ему угрожала разве что исправительная детская колония. Но когда выяснилось, что о каратэ он понятия не имеет и это подтвердил судебный эксперт, проверивший его ладони, парня вообще выгнали из полиции вон. Показания свидетелей, утверждавших, будто Мелвин орудовал ребром ладони, как индеец боевым топориком, и люди падали от его ударов словно подрубленные, инспектор счел коллективной галлюцинацией. Ребро ладони, как топорик, — психи! Те двое стали жертвами свалки, они в ней задохнулись.
Потом, уладив все с полицией (не показываясь ей на глаза), Лео забрал из лагеря всю семью Джексонов и в течение десяти дней через Канаду оформил им подданство Соединенных Штатов Америки. А еще через пару месяцев устроил Вильяма в мореходное училище. Сразу на четвертый курс. Ведь три курса он закончил в Норвегии.
Лео творил чудеса, которые обходились, понятно, недешево. Но игра, надо полагать, стоила свеч.
Известная многим в Америке и за рубежом фирма Папанопулоса занималась каботажными (прибрежными) перевозками и операциями по снабжению иностранных судов, заходивших в один из портов Большого Нью-Йорка. Но это была лишь часть деятельности Папанопулоса. Львиную долю доходов греку приносили торговля наркотиками и тайные подряды на потопление хорошо застрахованных, но экономически убыточных судов. На нелегальной службе у него было несколько капитанов, умевших так искусно устраивать морские катастрофы, что при расследовании виновной неизменно оказывалась стихия.
В разных областях на Папанопулоса негласно работало около сотни человек, но, кроме ограниченного числа особо доверенных лиц, плюгавый карлик никогда ни с кем не встречался. Кто является их боссом, многие даже не подозревали. Но каждый из них знал, что сболтнуть лишнее слово или позариться хотя бы на незначительную часть выручки от тех же наркотиков — значит подписать себе смертный приговор. Для этого грек и держал людей, подобранных хитроумным Лео при обстоятельствах, подобных случаю с молодым Джексоном. Жизнью и благополучием обязанные боссу и полностью от него зависимые, они были незримыми телохранителями и контролерами курьеров, доставлявших запретный товар в разные города Америки, судили и казнили. Папанопулосу приходилось тратить на этих людей немалые деньги, но благодаря им четко работала вся скрытая от посторонних глаз система фирмы, дававшая греку миллионы.
Первые три года, пока Вильям заканчивал училище и проходил штурманскую практику на каботажных судах, он сопровождал курьеров не чаще одного-двух раз в месяц, и обязательно по выходным или праздничным дням, чтобы его отлучки из училища, а потом с корабля не вызывали никаких толков. Затем два года его не трогали. В Нью-Йорке он почти не бывал — все время проводил в длительных рейсах: нужно было выплавать ценз для получения диплома капитана дальнего плаванья. Такую задачу поставил перед ним Лео.
— О курьерах забудь, — сказал он. — Капитаном ты будешь нам нужнее.
Что Лео имел в виду, Вильям еще не знал и не догадывался. Причастность Папанопулоса к целой серии загадочных морских катастроф ему была не известна. Он решил, что из него хотят сделать капитана-контрабандиста. Вильям думал об этом с тоской.
Стать капитаном — была его давняя, заветная мечта. Капитан!.. Для юного, еще не испытавшего горя Вильяма это звучало, как чарующий стих Киплинга:
В услужливо-щедром детском воображении рисовались экзотические страны, романтика штормов, безбрежный голубой простор океана. Вильям видел себя на мостике в белом кителе, с биноклем на груди. Он был капитаном большого стремительного лайнера. Его корабль бороздил воды всех океанов, бывал у влекущих вечной тайной берегов Бразилии, загружал в свои трюмы пряности у поющего рокочуще-звонким прибоем острова Оаху, выигрывал трансокеанские гонки за быстрейшую доставку пассажиров и ценных грузов в немыслимо далекую Австралию. Бесстрашные моряки под командой Вильяма спасали терпящих бедствие несчастливцев, сражались с жестокими стихиями, открывали новые земли и новые морские пути.
Мечтая о будущих дальних плаваньях, Вильям снисходительно улыбался, когда отец говорил ему:
— В жизни, сынок, не все так чудесно, как нам порой кажется. Придет время, и ты будешь больше сражаться не с бурями на море, а за свое место на земле, поэтому я хочу обучить тебя каратэ и дзюдо. Когда-нибудь они тебе пригодятся.
Увы, он оказался прав. Но теперь Вильям жалел, что принял отцовскую науку. Лучше бы в той драке он погиб или остался калекой, чем теперь всю жизнь подчиняться какому-то Папанопулосу, который управляет людьми, как бесчувственными машинами.
Встречаясь с Лео, Вильям сгорал от ненависти, но всякий раз, когда гнев его, казалось, вот-вот вскипит, всклокочет, перед глазами всплывали фотографии той драки. Время от времени Лео умышленно тасовал их в его присутствии, как игральные карты. Ухмылялся:
— Здорово, ты их, голубчиков!
— Вы меня тоже стукнули тогда прилично, — заискивающе хихикал Вильям. — Чуть мозги не расплескались.
Лео покровительственно хлопал его по плечу своей лапищей, рокотал хрипящим басом:
— Ты бежал, как заяц от своры легавых! — И снова с ухмылкой, смакуя: — Занятные снимочки, спорю на доллар. Не ожидал от Билла, дубина, а скажи, пожалуйста, — репортер! Для любой газеты — высший класс! Не находишь?
— Наверное, — чувствуя сухость во рту, трудно глотал слюну Вильям.
То говорится так — лучше было бы погибнуть. Жизнь недорого стоит, пока она соткана из одних лишь бед, когда нечего терять и нет никаких перспектив. А вкусит человек земной сладости, и расставаться с этим грешным миром дураков нет.
Собственно, кроме этих фотографий и чересчур уж грубых намеков Лео, других причин особенно страдать у Вильяма не было. В сущности, встреча с Лео для него и всей семьи Джексонов обернулась манной небесной. Получать столько благ за, в общем-то, мелочные услуги — иному бы и не снилось. Только и труда что на день-два слетать куда-нибудь в Сан-Франциско, Лос-Анджелес или Майами. Убивать, слава богу, никого не пришлось. Все его подопечные курьеры в течение этих трех лет работали без фокусов, никто не засыпался, никто не распускал язык и не пытался надуть босса. Что ни поездка, то прогулка в свое удовольствие. А деньги Вильяму платили исправно, центов на кусок хлеба не считал. Так чего же он хочет? С какой стати кто-то обязан бескорыстно заботиться о его безбедной жизни и карьере? Ах, он желал бы чувствовать себя на капитанском мостике благородным джентльменом! Контрабанда, видите ли, будет отравлять его драгоценное существование, она не совместима с высоким призванием морского капитана. А кто тебя делает капитаном? То-то! Молчи в тряпочку и будь благодарен.
И все же, когда началась война, Вильям обрадовался, как мальчишка, вдруг поймавший птицу неожиданной удачи. К тому времени он уже выплавал капитанский ценз и вот-вот должен был получить диплом. Но теперь ему казалось, что вместо гражданского диплома он получит удостоверение военно-морского офицера. Его пошлют сражаться с японцами, и все связи с шайкой Папанопулоса оборвутся сами собой. Откуда они будут знать, где он и что с ним? Война!
Прошло, однако, несколько дней, и Вильяма вызвали в морскую инспекцию, с поздравлениями вручили диплом капитана дальнего плаванья. Уже настроившись на военный лад, он был слегка разочарован, но надежду на призыв не утратил. Не было никаких оснований при объявленной всеобщей мобилизации оставлять его на гражданской службе.
Он вышел из здания инспекции, думая, что все правильно. Коль диплом заработан, его обязаны выдать владельцу в любом случае. Война кончится, демобилизация, а что потом? Сразу понадобится диплом. В инспекции конечно же это учитывают.
Вильям не допускал мысли, что и на морскую инспекцию мог повлиять Лео. О каком еще влиянии может идти речь, когда весь мир истекает кровью?
Вечером в его квартире раздался телефонный звонок.
— Хелло, малыш! Чертовски за тебя рад!
«Будь ты проклят!»
— Вы уже знаете?..
— Билл с машиной за углом, выходи!
Они встретились в ресторане «Золотой тюльпан», в отдельном кабинете.
— Ну, малыш, такое дело надо обмыть, — шумно сказал Лео. — Держи! — Он небрежно бросил на стол свернутый в трубку лист бумаги, притворно заохал — Так у тебя, оказывается, тяжелая форма эпилепсии, припадки? Несчастный парень!
Вильям остолбенело вытаращил глаза.
— Эпилепсия?..
— Прости, малыш, я заглянул в эту бумагу, но… никому ни слова! — И, не выдержав, расхохотался: — У меня тот же диагноз. Занятно, не правда ли?
…Соединенные Штаты Америки вели затяжную войну с Японией, затем еще и с гитлеровской Германией. Людей везде не хватало. Судовладельцы были вынуждены доверять свои корабли капитану-эпилептику. Бедняге ужасно не везло. Катастрофа за катастрофой. Что поделаешь, стихия, припадки, а хороших помощников капитану взять негде. Война!
Роскошная, лебедино-белая «Вайт бёрд» была до неправдоподобия явственным воплощением его детских грез. И первым кораблем, на котором он чувствовал себя уверенно. Истинный моряк, а Джексон вопреки всему был настоящим моряком, ничем на свете так не дорожит, как кораблем. Для него он оплот и дом, средоточие всех его деяний и тот непритязательный, добрый гений, с чьей помощью мечты обретают реальность. Не бывает у моряка большей трагедии, чем та, когда в море он теряет свой корабль.
Только крайняя зависимость от людей, всякое неподчинение каравших смертью, заставляла Джексона идти против собственной природы, ранить себя и сыпать соль на свои же раны. Изощряясь во всех мыслимых вариациях, чтобы загубить очередной корабль и не быть пойманным, он потом думал о себе с омерзением, но проходило время, и безотчетный, неподвластный разуму страх перед угрозой расправы, а она в случае неподчинения была бы неизбежной, вынуждал его повторять все снова и снова. Человек незаурядного ума, умевший в критической обстановке владеть собой и людьми, в своих поступках, направленных на сокрытие преступления, он всегда был изворотливо расчетлив и часто отчаянно дерзок. Но дерзость его походила лишь на прыжки из охваченного пламенем дома. Либо сгореть, либо… Где нет огня, там чудится спасение.
Ничего так не желал в те годы Джексон, как возможности возвращаться в порт на своем корабле.
Измочаленно уставший, с истерзанной и выпотрошенной душой, глухо ненавидящий весь этот мир, он пришел на «Вайт бёрд» с горящими глазами помилованного перед казнью. Он не знал, какой договор заключил Аллисон с компаньонами, но всем было известно, что часть капитала, вложенного в строительство лайнера, принадлежит Папанопулосу. Факт немаловажный. Он обнадеживал, внушал пока зыбкое, неопределенное, но все же успокоение.
Джексон не думал, конечно, что босс послал его на «Вайт бёрд» без умысла, но грек вряд ли замышлял еще одну катастрофу. Прежде всего, первому помощнику, каждый шаг которого на корабле контролируется капитаном, ее организация была бы не под силу, и, с другой стороны, казалось слишком нелепым предполагать, что человек, даже такой, как Папанопулос, построил что-то для того, чтобы сразу же уничтожить, тем более судно, обещающее огромные прибыли. К тому же страховка лайнера в первый год его эксплуатации равнялась капиталовложениям, поэтому топить «Вайт бёрд» не было никакой выгоды. На сто миллионов Аллисон застраховал свое детище позже, когда стало ясно, что лайнер скоро окупится и затраты на его содержание будут во много раз меньше прибылей.
Скорее всего, Папанопулос открыто решил иметь на лайнере квалифицированного осведомителя, чье непосредственное участие в деловой жизни судна не позволяло бы Аллисону ущемлять интересы компаньонов. Так рассудил Джексон, и в этом была логика. Однако шесть лет от него не требовали ничего, кроме добросовестного исполнения прямых служебных обязанностей. Срок достаточный, чтобы настороженная нервозность, неуверенность и страх растворились в размеренной рутине повседневных забот.
Окончательно успокоившись, Джексон снова испытывал удовольствие от того, что живет и работает, занимается любимым делом на полюбившемся корабле. Для окружавших, встретивших его появление на «Вайт Бёрд» с неоправданной подозрительностью (моряки не терпят людей, назначенных на руководящие судовые должности против воли капитана), он не переставал Сыть отталкивающе угрюмым, но они не могли знать, с какой сладостной щемью впитывала его истерзанная душа целительную плодотворность полезного труда. После стольких лет насильственного подчинения преступным приказам, вереницы заведомо спланированных катастроф и связанных с ними бессмысленных потерь одно сознание, что отныне он созидает, трудится не для разрушений, вызывало в нем прилив праздничной, жаждущей все большего напряжения энергии. Когда он нес ходовую вахту или руководил работами палубных команд, это был действительно образец старшего офицера. Неутомим, отлично знающий дело, всегда и во всем точен, без мелких придирок и пустых фраз. С таким первым помощником мог бы спокойно чувствовать себя любой капитан. Джексон отдавался кораблю весь, полностью. Он не позволял себе ни малейшей халатности и никому нерадивостей не прощал, но справедливый человек деспотом его бы не назвал. То было поведение моряка, глубоко понимающего свою ответственность за безопасность и успех плаванья.
Однако строгая, заполненная бесчисленными заботами жизнь на корабле не мешала Джексону видеть море. Иногда он казался себе тем давним, шестнадцатилетним мальчишкой, который впервые познал, что же оно такое — море.
Они, курсанты второго курса торгового мореходного училища в Осло, шли тогда на учебном паруснике «Сириус» из Норвегии в Японию, с попутными заходами в множество портов Африки и Юго-Восточной Азии. Рейс продолжался семь месяцев, но Вильям на всю жизнь запомнил один день в Атлантике.
Небо было пронзительно голубое, солнце — нестерпимо яркое, но ветер дул на добрых восемь баллов. Он мощно гудел в такелаже, и округлые, до предела вздутые паруса были тверды, точно вырезанные из выбеленной морем жести. Корабль мчался вперед, как крылатый конь. Над форштевнем и фальшбортами полубака, искрясь и радужно переливаясь в потоках солнечных лучей, взлетали каскады брызг. Море вокруг было и синее, и зеленое, и ослепительно пламенное. Оно вздымалось огромными, как горные хребты, валами.
Загибаясь крутыми дугами по ветру и обрушиваясь в сине-зеленые пропасти между водяными хребтами, вершины волн с грохотом разбивались, швыряя в небо длинные полосы белых взрывов. Волны стремительно, словно в бешеной гонке, неслись одна за другой, бурлили, ревели, пенились, рождая в душе обжигающе страстное желание кинуться за борт, в разгульную, яростно кипящую пучину моря. Жить в нем, дышать им, упиваться ужасом и вольностью стихии.
А корабль, казалось, вот-вот оторвется от волн и ринется к небесам. Он уже не плыл, он гигантскими прыжками перелетал с гребня на гребень, все больше, все более безумно убыстряя полет. Волны, брызги, пена — вся грохочущая, пронизанная солнцем стихия была под ним. Он слился с ветром, стал духом ветра, живым, бессмертным, всепобеждающим сыном Борея. Люди были только его слугами, рабами, с восторгом отдавшими себя в пленительную неволю. Терпкий соленый ветер, ревущий в вантах, как рокочущий гул огня, море, солнце и небо отняли у них рассудок и стыд. В неистовом, рвущемся из каждого мускула веселье они вопили во все глотки, хрипли от диких гимнов неведомо кому. Они плясали, прыгали, кидались друг на друга, изнемогали и падали, задохнувшись счастьем.
То был великий день великого открытия, день открытия моря рожденными для моря.
И теперь, когда, подобная громадной белой птице, «Вайт бёрд», разбивая в пыль океанские валы, пенила сверкающие южные моря, Джексон заново переживал то неизъяснимое, хмельное вдохновенье, которое так щедро дарит моряку способность чувствовать себя избранником, тем из немногих посвященных, кому выпал жребий до конца постигнуть сокровенность упоительной стихии, стать ее нераздельной частью, баловнем и соучастником ее торжества.
Но после всех минувших потрясений чувства Джексона — умиротворение и злоба, боль и радость — уже никогда, даже невольно, не проявлялись на людях. Захваченный ликующей мощью моря, его одуряющим запахом и ни с чем не сравнимой раскатно-громовой музыкой, он томился и маялся, свирепел, подавляя в себе истерику восторга, но никто на корабле не видел его хотя бы взволнованным. И никто, наверное, не подумал бы, что этот мрачный, до фанатизма деловой, грубый и резкий человек, закрывшись на ключ у себя в каюте, обливается слезами над томиком Киплинга, находя в нем своего тайного единоверца и двойника. Только наедине с ним, Киплингом, Джексон забывал жесткую сбрую скрытности, которую с восемнадцати лет носил на людях, как проклятье и защитную броню.
Плавая на «Вайт бёрд», он снова научился радоваться морю и солнцу, но так и остался одиноким среди людей. Он боялся их и никому не верил. Ему казалось, что среди них нет и не может быть друг другу сочувствующих, способных друг друга понять и не воспользоваться этим для собственной корысти, для того, чтобы в подходящий момент не сделать удачную подножку. Всем своим жизненным опытом, годами испытаний и личных наблюдений он убедился, что всякая человеческая слабость презирается, а откровенность одного становится оружием в руках другого, оружием, направленным против того, кто доверился ему в порыве дружеских чувств. Громила Лео Сегри был хитер и могуч, но его сгубила сентиментальность. Он влюбился до такой степени, что, опоздав на свидание, оправдывался: «Извини, крошка, мой шеф — бессердечная тварь, такого верного бульдога, как я, тиранит, как фараон с Бруклинского моста. Я спешу, а мне — красный свет!» Чем он занимается и кто его шеф, Лео не говорил, но сказавший «а» когда-нибудь скажет и «б», тем более распустивший любовные слюни. Так, очевидно, решил грек, приказав «убрать» Лео. Его продал Билл. Он подвозил Лео на свиданье и все слышал. Лео от него ничего не скрывал. Негр не был его пленником, как Джексон, но однажды Лео здорово выручил Билла и думал, наверное, что тот случай Билл всегда помнил. Возможно, память у Билла была неплохая, но Лео напрасно на нее рассчитывал. Когда память заставляет быть благодарным, человеку она как заноза, которую поскорее хочется выдернуть.
Нет, Джексон не отвергал весь род людской и не был его непримиримым врагом. Он жил действительностью, а она для него была жестокой, даже здесь, на, казалось бы, для всех гостеприимной «Вайт бёрд».
Обычно в дальних плаваньях все моряки держатся более или менее замкнуто. За долгие месяцы рейса в корабельной тесноте они так друг другу надоедают, что особой охоты делиться с кем-то своими мыслями и чувствами ни у кого не возникает. Наоборот, чем меньше ты говоришь, тем легче тебя переносят. А если к тому же ты хорошо знаешь свое дело, тогда тебя вообще считают идеалом. На любом судне это самое важное — умело и точно исполнять свои служебные обязанности. Моряки могут простить болтливость, скверный характер, что угодно, но никогда не прощают профессиональную безграмотность и нерадивость, ибо Они угрожают безопасности плаванья и, следовательно, жизни экипажа. Джексона поэтому на «Вайт бёрд» объективно должны были уважать. Когда он впервые появился на лайнере и был встречен с молчаливой подозрительностью, на то была своя причина. Но нельзя же допустить, что она не давала людям покоя все эти шесть лет. О том, что Джексон был назначен на должность первого помощника против воли капитана, кроме самого капитана и еще, может быть, нескольких офицеров, на лайнере наверняка давно все забыли. И все же отношение к нему не менялось. Его превосходная морская выучка и безупречная распорядительность ни у кого не находили ни одобрения, ни хотя бы признания. Не было на судне человека, который самый разумный приказ первого помощника выполнял бы без внутреннего сопротивления. Одного его взгляда было достаточно, чтобы люди начинали нервничать, хотя взгляд у него был не таким уж устрашающим. Из-под нависших лохматых бровей серые, в рыжих крапинках, глаза смотрели скорее самоуглубленно, с печальной суровостью, но никак не угрожающе.
Никому не делая зла, он всех подавлял и каждого раздражал. То ли на окружающих слишком действовала его всегдашняя угрюмость, то ли в нем инстинктивно чувствовали человека, не совместимого ни с каким обществом.
По заведенной на пассажирских лайнерах традиции Аллисон обедал в ресторане для пассажиров первого класса, поэтому в офицерской кают-компании старшим за столом был Джексон. Смириться с этим офицеры никак не могли. Как можно за культурный стол посадить человека, который даже рисовый пудинг грызет, как заяц кочерыжку, и чавкает так, что слышно в трюме? И этот человек не просто посажен, он сидит старшим, у него надо спрашивать разрешения сесть и выйти из-за стола. Между тем Джексон держался за столом не хуже других, ничего не грыз и никогда не чавкал. И вот тем не менее… Офицеры специально старались приходить в кают-компанию попозже, когда Джексон уже отобедает. Всякий раз, конечно, делая вид, будто страшно были заняты и вовремя прийти не могли.
Джексон все видел и чувствовал, и часто каждый его нерв дрожал от сжигающей душу обиды, хотя сам он убеждал себя, что отношение на лайнере к нему нормальное. Кто они ему, эти люди? И кто они друг другу? Всего лишь случайные попутчики, ожидать от которых человеческого участия было бы ничем не обоснованной блажью. Да и есть ли в этом мире что-нибудь человеческое? И что оно, человеческое? Кто и для чего придумал это слово? Чтобы зверя, жаждущего удовольствий и сытости, представить сострадательным ангелом? Разве волк, напяливший овечью шкуру, перестает быть волком? Стало быть, все идет нормально, по кормам и законам действительности. И нечего размазывать сопли оттого, что желанная иллюзия не становится реальностью.
Но как бы ни уговаривал себя Джексон и как бы ни убеждался в своем мнении о людях, все больше чуждаясь их, обида в душе оставалась. Может быть, его не так задевала бы молчаливая враждебность офицеров и команды, если бы он нашел, пусть чисто деловое, служебное взаимопонимание с капитаном — единственным человеком на лайнере, кому он непосредственно подчинялся и в чьих интересах лез из кожи вон, чтобы создать на судне ту внешне как будто монотонную, но в условиях плаванья наиболее благоприятную обстановку, когда кажется, что все делается как бы само собой, без всяких видимых усилий, а заведенный порядок каким-то чудом сохраняется, неприятных неожиданностей не бывает. Именно в такой обстановке прежде всего нуждался Аллисон. Тяжелобольной, он просто не смог бы управлять огромным лайнером, заботясь в то же время о положении дел на корабле. Практически он не касался их совершенно. Весь воз судовых работ, контроль за навигационной и другими службами, включая изнурительные хлопоты по обслуживанию пассажиров, тянул на себе Джексон. В рейсе капитан вообще не спускался ниже четвертой палубы, на которой размещались его любимые гостевые салоны и казино с рулеткой — предмет особой страсти старика.
Но своего неутомимого первого помощника Аллисон упорно не замечал, вернее, относился к нему с холодным безразличием. За шесть лет совместного плаванья Джексон ни разу не бывал у него в каюте, куда любому другому офицеру двери были открыты, и не вспомнил бы случая, когда они говорили о чем-то, что выходило бы за рамки текущих информационных докладов, принимать которые Аллисон по вечерам поднимался в штурманскую рубку, хотя для этого существовал великолепный капитанский кабинет. Возможно, в штурманской ему нравилось больше, но Джексон был уверен, что он поднимался сюда только потому, чтобы у первого помощника не возникало повода посещать его каюту.
Грузно умостившись в жестком рабочем кресле у штурманского стола, он слушал доклады всегда внимательно, с живым любопытством: пыхтел, чмокал толстыми губами, в знак согласия или одобрения довольно мугыкал, кивая гривастой седой головой, но никогда не высказывал одобрения вслух. И не смотрел на Джексона. Будто слушал радиодиспетчера.
Подобная манера держаться с подчиненными встречается не так уж редко, и постороннего она вряд ли удивила бы. Мало ли на свете людей, обладающих большой властью, но так и не постигших элементарных правил хорошего тона? Либо забывших, что они обязательны для всех? Власть, к сожалению, развращает. Но это еще не значит, что бестактный начальник или хозяин непременно стремится унизить и без того стоящего ступенькой ниже.
Да, но только слепой мог не видеть, как вел себя Аллисон со всеми остальными членами экипажа. Даже к вахтенным матросам на ходовом мостике, не говоря уже об офицерах, он проявлял больше внимания, чем к Джексону. А в Мэнсфилде откровенно души не чаял. Когда второй помощник стоял дневную вахту, капитан часами топтался на мостике, но вовсе не потому, что в этом была какая-то надобность. Он, казалось, боялся, как бы его любимец на вахте не заскучал. Словно в гулкую бочку сыпал анекдотами, повсюду косолапя за Мэнсфилдом, как на привязи. Солидный и отнюдь не склонный к пустомелию «морской волк», рядом с элегантно бравым Майклом он превращался в большого басистого ребенка, которому в нарушение корабельного устава позволили вторгнуться на мостик и безнаказанно отвлекать людей от дела. Майкл, правда, ухитрялся как-то выполнять обязанности вахтенного аккуратно. Очевидно, природа наградила его той редкой способностью, когда человек, занятый серьезным делом, может одновременно слушать пустяки, охотно отвечать на шутки.
Однако как судоводитель Мэнсфилд во всем уступал Джексону. По профессиональному уровню их, пожалуй, никто и не сравнивал. Мэнсфилд был моряком всего лишь добросовестным, а Джексон — милостью божьей. Но как раз этого и не хотел замечать Аллисон.
Джексон понимал, что для Аллисона он был и остается соглядатаем Папанопулоса, которого старик, естественно, предпочитал держать на расстоянии. Но этот старик на корабле в первую очередь был капитаном. Он мог, как все, не любить Джексона, мог в чем-то подозревать его как человека, быть осторожным с ним или бестактным, но как у капитана у него не было ни морального, ни какого-то иного права игнорировать своего ближайшего помощника, Он должен, обязан был воздавать ему по заслугам. Кому бы ни служил Джексон на берегу, здесь, на лайнере, в течение всех шести лет упрекнуть его было не за что. Здесь он служил только кораблю и его капитану.
Больно ранит всякая несправедливость, но больнее всех — непризнание человека в деле. Творца озлобляет не холод скрытой вражды и не чрезмерная тяжесть труда, а безымянность, когда плодами его рук и разума пользуются все, а сам он для окружающих словно не существует.
— Вы хотите, чтобы я взломал сейф? — таращась на Одуванчика, сдавленным голосом повторил Джексон.
Идя на эту встречу, он сразу понял, что его спокойная жизнь кончилась. Собственно, он понял, вернее, почувствовал это раньше, еще до дня встречи с Одуванчиком. Последнее время он жил как будто наэлектризованный. В душе нарастала неизъяснимая и словно бы беспричинная, но все более отчетливая тревога. По временам она ненадолго утихала, но тогда ее сменяла полохливо-сторожкая, раздражающая своей неопределенностью маета.
Острое, почти звериное предчувствие никогда не обманывало Джексона. Он всегда знал наперед, что вот-вот что-то должно произойти, и заранее внутренне к этому готовился, мобилизуя все свои духовные и физические силы.
Записка Одуванчика с предложением встретиться не удивила его и не очень взволновала, она, скорее, принесла облегчение. Все прояснилось. Значит, он снова понадобился греку. Вспомнил, вонючий хорек. Впрочем, тот конечно же и не забывал его. Тешась надеждой на окончательный разрыв с прошлым, Джексон просто впадал в детство. Ведь они не вернули фотографий той драки у ресторана «Савойя». Через два года, правда, им будет двадцать лет, и за сроком давности они потеряют силу обвинительного документа. Но до того времени нужно еще дожить. А пока — у кого в кармане фотографии, тот хозяин. И глупо своим положением господина не воспользоваться. А больше десятка загубленных судов? Нет, Джексону не выпутаться вовек. Даже если он переживет Николаса Папанопулоса, хозяином станет Костас Папанопулос или Грегор. Найдется кому дергать за веревочку. Они долго не трогали его только потому, что, видимо, не было подходящего дела.
Джексон, однако, не предполагал, что «дело» ждет его на лайнере. И тем более ему не могло прийти в голову, что от него потребуют воровства. Залезть к Аллисону в сейф — именно такой вывод напрашивался из рассказа Одуванчика о расписках Папанопулоса и Форбса. Намерение старика передать свои акции экипажу лайнера напомнило греку о его липовом компаньонстве, и он решил завладеть теми расписками… Одна мысль, что его собираются заставить взламывать чужой сейф, повергла Джексона в изумление, то изумление, которое предшествует внезапному удушью.
Одуванчик словно медленно разжевал зеленую сливу.
— Удивляюсь, Джексон, я знакомился с вашим досье, у вас за плечами столько блестящих операций… Вы абсолютно лишены фантазии.
Джексона будто вдруг кто-то кольнул. Разом стряхнув минутное оцепенение, он зыркнул на Одуванчика, с мгновенно вспыхнувшей яростью рывком метнулся к нему, но вовремя взял себя в руки. Сказал мрачно:
— Ладно, Поль, хватит гримасничать! Конкретнее, что вам нужно?
Не замечая или делая вид, что не замечает перемену в настроении Джексона, Одуванчик капризно поморщился:
— Мне кажется, я изложил все достаточно популярно.
— Вы говорили о завещании и расписках. Если в сейфе важные документы, ключи Аллисон носит при себе, он не ребенок.
— Разве я сказал, что он постоянно должен носить их при себе?
— Я не карманный вор! — Джексон изо всех сил принуждал себя сдерживаться, но кривлянья этой рыжей кобры вызывали у него нестерпимые приступы бешенства. — Вам нужны расписки?
— Аллисон болен, — неохотно посерьезнев, сказал Одуванчик. Очевидно, почувствовал, что продолжать «играть» с Джексоном становится опасно. — У него бывают сердечные приступы.
— Вы хотите его убрать?
— Ну-у…
— Это должен сделать я?
— Не совсем… На «Вайт бёрд» намечаются вакансии.
Одна из них — место стюарда, обслуживающего капитана. Она освободится перед самым выходом в море, когда Аллисон, как мы полагаем, проведет день в монастыре святого Августина. Долг первого помощника — позаботиться о капитане. Уходя в рейс, он не должен остаться без стюарда. Новый человек ему может не понравиться, а кто-нибудь из людей, уже работающих на лайнере… Я думаю, Робертс ему подойдет.
— Стюард кают-компании?
— Говорят, он симпатичен Аллисону.
— Возможно. Дальше. — Односложно и резко отвечая Одуванчику, Джексон сидел за столом точно каменный. По его лицу трудно было понять, думает ли он о судьбе Аллисона или всего лишь ждет дальнейших разъяснений. По тому, как он воспринял замысел «убрать» капитана, для него в нем, казалось, не было ничего неожиданного.
— Второго вы можете принять дня через три, — продолжал Одуванчик, как бы скучая. — Его зовут Джек Берри. Скажите капитану… Допустим, Берри когда-то работал у вас боцманом. Вам как раз понадобится младший боцман.
— О таких вещах Аллисон разговоров со мной не ведет. Всех новых людей на лайнер он подбирает сам.
— До сих пор на «Вайт бёрд» не освобождались боцманские вакансии. Ваша рекомендация будет оправдана, боцманы подчиняются первому помощнику. И Берри, насколько мне известно, бывший фронтовик. Если Аллисон все еще играет в покровителя героев войны, у него не будет причин не взять Берри.
— Не знаю, у меня он совета не спросит. Это все?
— В группе несколько человек. Мы полагаем, вступать в прямой контакт вам ни с кем не следует. Лучше всего, если люди друг с другом не знакомы и каждый знает только ту часть задачи, которая поставлена перед ним. В принципе вам никто не нужен.
— Зачем же нужен я?
— Как вам сказать… Когда в море вы замените капитана, вам останется не мешать ходу событий. Но… в чем-то, может быть, и способствовать. Разумеется, если вы сочтете это уместным и ваши действия никому не покажутся странными.
— События… когда заменю капитана… — Как всегда в моменты сильного напряжения, у Джексона задергалось веко. — Какие события? — Он обо всем уже догадался и только ждал подтверждения.
— Ну-у…
— Лайнер?
— В том виде, в каком мы предполагаем, все должно выглядеть естественно… — Одуванчик снова напустил на себя позерство, и Джексон совершенно некстати вдруг понял, что все это от трусости. Главный сочинитель «дела» боялся как бы не оказаться к нему причастным. Юлил вокруг да около, словно недомолвки и манерный тон многозначительно туманных фраз могли уменьшить или как-то приукрасить его роль в задуманном преступлении.
Вряд ли в этом было что-то смешное, скорее наоборот, но Джексона, давно отвыкшего улыбаться, всего затрясло. Долго беззвучно колотило, как в лихорадке.
Густо усеянное мелкой коноплей круглое лицо Одуванчика застыло в тревожном недоумении.
— Что с вами, Джексон?
— Ничего, Поль, я слушаю вас, — справившись наконец с неожиданным приступом утробного хохота, сказал Джексон, впервые беззлобно. Пока его колотило, вся накопленная в душе отрава как будто перемололась и выплеснулась, разом облегчив и душу, и тело. Даже глаза потеплели. Из-под бурой застрехи бровей они смотрели сейчас на Одуванчика и, казалось, светились примирением.
Джексон с удивлением поймал себя на мысли, что вспомнил почему-то мать Одуванчика, вернее то, как она отреклась от своего единственного сына.
В двадцать девять лет получившая в наследство текущий банковский счет на десять миллионов долларов и контрольный пакет акций в крупной судостроительной фирме, Элеонора Кингсли была, судя по цветным фотографиям того времени, почти двухметрового роста дылдой с по-обезьяньи длинными мощными руками и поразительным жеребячьим оскалом. Если к этому прибавить еще огромный костистый нос, как будто грубо вырубленный из розовато-белого, с синими прожилками, камня, и два мясистых лопуха, упруго выпиравших из-под коротко остриженных серовато-пепельных волос, го станет ясно, что, решившись на брак со столь редкостной особой, Израэль Фридман сделал свой выбор отнюдь не по зову сердца. Неудавшийся скрипач, искавший возможности легко и быстро разбогатеть, надеялся, наверное, что уж чего-чего, а пылкой любви супруга домогаться от него не будет. Однако до поры сдержанная и вроде глубоко переживавшая свое уродство, Элеонора после свадьбы как с цепи сорвалась. Изголодало жаждала страсти, неукротимого огня и обязательно поклонения, да не какого-нибудь, а непременно восторженного, на людях, чтобы все видели.
Нет, она не была настолько глупой или наивной, чтобы, несмотря на свою внешность, все же рассчитывать на чью-то искреннюю симпатию, но в ней не заметно было и той скромности или хотя бы простого здравомыслия, которые помогают человеку оценить себя по достоинству и не превращать собственную ущербность в предмет принудительного внимания для других. Неприкрытую гадливость мужа она прекрасно видела и отлично понимала, чем она вызвана, но это ничего не меняло. Наплевать, что он там чувствовал. Она купила его, и поэтому значение имело лишь то, чего хотела она. Кто платит, тот хозяин. А хозяину положено служить. Уроду, бесстыжему, самодуру… Не важно какому, важно, какие деньги. Должен быть милым, коль за любовь хорошо платит.
Так она была воспитана. Других взаимоотношений между людьми в семье Кингсли не знали, вернее, не признавали. От дедов и прадедов в их роду никто не блистал ни благородством, ни привлекательностью, но это никому из них не мешало твердо стоять на ногах и всегда чувствовать себя хозяевами положения. В Англии они были богатейшими купцами и фабрикантами, потом, переселившись в середине восемнадцатого века в Новый Свет, стали крупнейшими плантаторами-рабовладельцами, а позже, когда с рабством в Америке было покончено, занялись судостроением и всевозможными финансовыми операциями. Деньги во все времена делали для них все доступным и все позволительным. Единственное, чего они себе никогда не позволяли, — иметь лишнего ребенка, ибо это дробило бы семейный капитал и подрывало могущество семьи.
Если бы Элеоноре кто-то сказал, что супруг-игрушка когда-нибудь разрядит в нее ковбойский револьвер, она, наверное, подняла бы того на смех. Увы, случилось именно так, средь бела дня, в час послеобеденного отдыха.
Убить, однако, могучую Элеонору было не легко. Вся израненная, она сумела Израэля скрутить и задушить его прежде, чем на выстрелы прибежала перепуганная домашняя прислуга.
Как позже установил суд, Израэль стрелял в состоянии аффекта, когда человек от сильного нервного возбуждения теряет всякий рассудок. Но, по определению экспертов, психопатом от природы Израэль не являлся. Его нервная система интенсивно разрушалась лишь в последние полтора-два года, то есть уже во время совместной жизни с Элеонорой. Их брак длился как раз около двух лет.
Если принять во внимание супружеские запросы Элеоноры и то, как она относилась к мужу, понятно, какая беда губила Израэля. Но судей смущало другое. По свидетельству самой Элеоноры, до момента первого выстрела она была спокойной. Правда, поведение мужа ее слегка раздражало, но так бывало часто, и на психику ей это обычно не действовало. Внутренне она оставалась вполне уравновешенной.
Израэль вскочил с кровати неожиданно. Не сказав ни слова, вдруг бросился куда-то из комнаты. Элеонора не успела ничего понять, когда он вернулся с револьвером и сразу начал палить. Она опомнилась только после пятого выстрела.
Кинувшись на Израэля, она выбила из его рук револьвер, повалила его на пол и, заломив ему руки за спину, начала душить, упираясь в его грудь коленом.
Прислуга прибежала минут через семь-восемь. Окровавленная Элеонора сидела рядом с бездыханным супругом и тяжело отсапывалась.
— Уберите эту гадость, — кивнув на Израэля, сказала она устало и, вздохнув, добавила: — Мне трудно встать, помогите.
Из показаний Элеоноры следовало, что она задушила Израэля вовсе не в порыве яростной самозащиты. Обезоружив и скрутив его, она душила уже поверженного. И теперь, отвечая судьям, рассказывала обо всем весьма подробно. Все помнила, значит, с нервами у нее действительно было все в порядке. Иначе говоря, убивала она осознанно.
И тем не менее суд признал Элеонору невиновной.
Как бы то ни было, а нападение совершил Израэль. Это во-первых, но это не все. Прежде всего, он стрелял в мать десятимесячного младенца, и этот младенец — его родной сын.
Может быть, обезвредив нападавшего, Элеонора, с точки зрения прокурора, обязана была остановиться. Но ведь она мать. В ней вспыхнул инстинкт материнства. В минуты смертельной опасности он сильнее сознания. Ринувшись на чудовище, поднявшее руку на мать своего ребенка, Элеонора не могла действовать осознанно. Она подчинялась только инстинкту матери и защищала не себя, а материнство. Усмотрев в этом элемент рассудочной мести, суд допустил бы непростительную ошибку.
Таково было последнее заключение психиатров, и оно оказалось решающим.
Исход судебного процесса, который продолжался двенадцать дней и широко освещался в прессе, для многих был неожиданным. Сначала все шло к тому, что Элеонору Фридман (она носила тогда фамилию мужа) осудят. Для этого, казалось, было достаточно ее собственных показаний и слишком прозрачного определения экспертов о сроках и причинах психической деградации Израэля. Однако потом судейскую колесницу словно кто-то резко дернул за поворотный рычаг. Кроме прокурора, запальчиво повторявшего, что закон есть закон, Элеонору все стали оправдывать. И не только в суде. В защиту матери десятимесячного младенца поднялась целая кампания.
Газеты, еще вчера представлявшие Элеонору звероподобной мегерой, вдруг открыли в ней образец материнства и, будто желая искупить свою вину перед ней, обрушились на Линдона Джордена — прокурора, упорно призывавшего судей применить к Элеоноре самую строгую меру наказания, ибо она, по его словам, не просто задушила Израэля: пользуясь той всепозволительностью, которую присваивают себе люди, считающие, что все в этом мире можно купить и продать, она убивала мужа методически, уничтожала его морально и только потом, когда доведенный до отчаянья человек, обезумев, схватился за револьвер, уничтожила его физически. Преступление, говорил прокурор, началось еще в день свадьбы, постепенно оно развивалось и пришло к своему логическому завершению; трудно, не зная всех мотивов, сочувствовать человеку, добровольно отдавшему себя в рабство, но это не повод для снисхождения по отношению к тому, кто из-за материальной зависимости несчастного делал его повседневную жизнь невыносимой.
Суровое красноречие прокурора, которым недавно так восхищались, теперь разбивалось о твердыню гуманности.
«Взгляните на это прелестное дитя, — писали газеты под портретами маленького Поля. — Злодейская рука отца-выродка покушалась на жизнь его матери. Но черный замысел не удался, Элеонора Фридман — жива! Женщина необыкновенного мужества, с пятью тяжелейшими ранами, каждая из которых могла оказаться смертельной, она нашла в себе силы дать отпор убийце. В жестокой схватке она защищала священную неприкосновенность материнства, сражалась безоружная и победила. И вот эту женщину, истекавшую кровью в битве за право ребенка иметь маму, прокурор Джорден требует осудить, как преступницу, призывает правосудие лишить ребенка не только материнской ласки, но и его единственной опоры сейчас и в будущем…»
Кампанией кто-то явно дирижировал, и всем было понятно, что газеты переменили свою позицию отнюдь не бескорыстно. Но как закон есть закон, так ребенок есть ребенок. У здания суда с утра до вечера колыхались многолюдные толпы с плакатами: «Отдайте сиротке маму! Наши сердца с тобой, Элеонора! Прокурор Джорден, вы инквизитор!»
Все прежние газетные статьи, направленные против Элеоноры, в один день были забыты. Мегеры-миллионерши больше не существовало. Там, за стенами предварительного заключения, томилась под стражей женщина-героиня, мать, подобная гордой львице.
Элеонора вышла на свободу, как маршал на парад победителей.
Спустя несколько дней она отдала сына в сиротский дом. В газетах, однако, об этом не появилось ни слова. Мелькнуло только короткое сообщение, что Элеонора Кингсли, бывшая Фридман, из Нью-Йорка переехала на постоянное местожительство во Флориду. То, как она поступила с сыном, для газет и публики осталось тайной. Само собой разумелось, что ребенок уехал вместе с матерью.
Поселившись в пригороде Майами, она жила в огороженном чуть ли не крепостной стеной семиэтажном доме, из которого, если верить майамцам, лет семь никуда не выходила и не принимала никаких гостей. У внешнего подъезда, похожего на тюремные ворота с проходной, неотлучно дежурили дюжие негры, пропускавшие во двор только тех, кто там работал или нужен был Элеоноре по делу.
Весь свой дом она превратила в огромную псарню, или, как его называли в Майами, «собачий рай». Цоколь и первый этаж — кладовые и кухня, от второго этажа до шестого включительно — собачьи палаты, на седьмом — лазарет (собачий же), комнаты для обслуги и апартаменты самой Элеоноры.
Глядя на такое диво, можно было подумать, что одинокая миллионерша сошла с ума. Но рассудок Элеоноры не помутился. Она все делала в здравом уме, преследуя вполне конкретную цель.
Как ни странно, на мысль построить дом-псарню ее натолкнул прокурор Джорден. Когда он произносил свои страстные речи, она смотрела на него с великим удивлением. Никогда раньше ей не приходило в голову, что в том, как она вела себя с Израэлем, могло быть что-то предосудительное и тем более опасное. Да, она хотела ласки и поклонения, но ведь на то она и женщина. Нельзя насиловать человеческие чувства? Но кто же их насиловал? Ему не запрещалось чувствовать что угодно, только… Вероятно, она так и не поняла, в чем заключалась ее главная вина, но, слушая прокурора, нашла в его словах ответ на вопрос, как жить дальше. Джорден сказал, что человек — не собака, которая ластится к хозяину и всячески изъявляет ему свою преданность только потому, что он хозяин.
Это была идея. К черту человека, да здравствуют собаки!
Тем временем Поль воспитывался в сиротском доме в Чикаго. Видимо, оставлять его в Нью-Йорке, где он родился и где было много людей, хорошо знавших Израэля (сам Израэль эмигрировал в Америку из Германии и родственников в Штатах не имел), Элеонора не рискнула. Боялась, наверное, как бы невольно не получилось огласки.
Когда Поль подрос и стал спрашивать, кто были его родные, воспитатели говорили ему, что он подкидыш.
Якобы к одеяльцу, в которое он был тогда завернут, кто-то приколол лишь записку с датой рождения и полным именем: Пауль Исаак Файнштейн.
Только через семнадцать лет, уже будучи студентом второго курса Чикагского института художеств, Поль получил анонимное письмо, ошеломившее его сильнее грома среди ясного неба. Элеонора Кингсли, эта собачница-миллионерша из Майами — его мать!
Сомнений быть не могло. К письму, которое скорее можно было назвать объяснительной запиской, анонимный автор приложил вырезки из газет (статьи о судебном процессе над Элеонорой и портреты маленького Поля) и две фотокопии: свидетельство о рождении Поля Израэля Фридмана, сына Израэля Исаака Фридмана и Элеоноры Фридман, урожденной Кингсли, а также контракт, заключенный Элеонорой Фридман, урожденной Кингсли, с администрацией сиротского дома № 9 (Чикаго), по которому она передавала на воспитание в означенный сиротский дом своего сына Поля Израэля Фридмана, в дальнейшем Пауля Исаака Файнштейна, обязуясь оплатить все расходы по воспитанию указанного ребенка до его совершеннолетия и сверх того сделать взнос в пользу сиротского дома № 9 (Чикаго) в сумме сто тысяч долларов.
Все совпадало: имя и фамилия (в дальнейшем), число и год рождения, номер и адрес сиротского дома. Документы были настолько убедительны, что администрация дома, к которой сразу же обратился Поль, ничего не смогла опровергнуть.
Первым его побуждением было немедленно ехать в Майами. Но автор письма советовал не торопиться и не надеяться, что, увидев сына, мамочка будет счастлива. Отказавшись от него семнадцать лет назад и не подавая все эти годы о себе никаких вестей, она ясно дала понять, что его судьба ей безразлична. Пока ему не исполнилось восемнадцать лет, у него было право через суд попросить назначить себе опекуна и потребовать в этой связи соответствующую долю семейного капитала, но теперь, когда он вступил в свое совершеннолетие, все значительно осложняется. Предъявить Элеоноре Кингсли обычный судебный иск уже нельзя, так как, достигнув совершеннолетия, дети при живых родителях теряют имущественные права на их собственность. Но этот вопрос еще не поздно решить другими средствами. Времени для серьезных действий осталось немного, однако всякая поспешность здесь может только повредить. Прежде чем предпринять тот или иной шаг, нужно все тщательно взвесить. Для этого Полю понадобится, конечно, квалифицированная юридическая помощь, которая повлечет за собой определенные расходы. Очевидно, если учесть размеры будущего выигрыша, затраты будут немалые и Поль в его теперешнем финансовом положении найти необходимую сумму не сможет, но он, автор настоящего письма, и его друг, опытный адвокат, готовы помочь ему без предварительной оплаты. Если он согласен, а они полагают, что с его стороны не принять дружескую руку в данном случае было бы неразумным, ответ следует направлять по адресу…
Анонимные доброжелатели старались напрасно. Поль, узнавший наконец, что он Поль, а не Пауль, читал страшную правду и ничему не верил, не мог поверить. Понимая умом всю неопровержимость документов и все то предательство, которое с чиновничьей бесстрастностью было зафиксировано в контракте Элеоноры Фридман и администрации сиротского дома, он не испытывал ничего, что хоть отдаленно походило бы на желание мстить. С оглупляющей радостью твердил про себя: «Поль Израэль Фридман, в дальнейшем Пауль Исаак Файнштейн. Элеонора Фридман, урожденная Кингсли…» Какой бы ни была эта женщина, в чем бы ее ни винили, она — его родная мать. Она нашлась, и это было главным, на этом сосредоточилось все: мысли, чувства, весь мир.
Никто так трепетно, с такой затаенной сокровенностью и чутким, как боль, бескорыстием не ждет родительского тепла, как сироты. Вся знобкая неуютность одиночества, все обиды и несбывная тоска ранимой, как совесть, сиротской души забываются при одном лишь проблеске надежды. Не надеяться… Разве быть или не быть надеждам — зависит от нас? Не надеются те, у кого всего вдоволь, кто счастлив настоящим и не видит нужды искать лучшего в будущем.
В тот же день курьерский поезд увозил его в Майами.
Писать или звонить ей по телефону он не хотел. Он должен был с ней встретиться, обязательно встретиться. Но все его попытки проникнуть в дом-крепость заканчивались неудачей.
Потом ему кто-то сказал, что по субботам она иногда бывает на знаменитых майамских собачьих бегах. Он решил караулить.
Увидев его, она встрепенулась и невольно отпрянула. Наверное, ей почудился Израэль — Поль был удивительно похож на отца.
Какое-то время они смотрели друг на друга, точно загипнотизированные. Оба застыли и, казалось, утратили дар речи.
Первым пришел в себя Поль.
— Вы узнаете меня? — глотая слюну, с трудом вымолвил он. В его глазах, оробело-виноватых и как бы пристыженных, вдруг вспыхнуло радостное нетерпение. — Я Пауль… то есть Поль, сын ваш… Вы узнали меня, узнали, правда?
После минутного замешательства она уже полностью овладела собой, выпрямилась, как гренадер, и всем своим обликом напоминала теперь громадного языческого идола.
— Одного такого я знала. Он всадил в меня пять пуль. — Голос ее, прокуренно-хриплый, с басовитыми нотами, звучал спокойно, ровно, неуязвимо. — Вы намерены меня шантажировать?
Поля словно внезапно отхлестали по щекам. Тощий, нелепый, со своей круглой, как будто посаженной на палку, головой, в дешевеньком, давно не глаженном костюме, обвисавшем на его худых плечах, как на вешалке, он стоял совершенно потерянный. Губы его, еще по-детски пухлые, алые, мелко дрожали, широко распахнутые глаза смотрели испуганно, с укором и болью. Он пытался что-то сказать, но только приподнял к груди полуразведенные руки и, не находя слов, беспомощно прял пальцами.
Джексон все видел и слышал. Он «водил» Поля по Майами целых две недели. У него как раз был месячный отпуск, и Лео поручил ему проследить за этим парнем, узнать, чем закончится его рандеву с мамашей. Эго они прислали ему анонимное письмо и потом не спускали с него глаз в Чикаго и здесь, в Майами.
Люди Папанопулоса заинтересовались Элеонорой еще во время суда, когда в газетах поднялась кампания за ее освобождение. Дело было необычное, и на него стоило обратить внимание. Как-никак за Элеонорой числилось десять миллионов долларов, не считая контрольного пакета акций в судостроительной фирме. Подоить такую коровку всегда заманчиво. Каким способом это сделать, они еще не знали, но неожиданный поворот в ходе судебного процесса показывал, что подступы к ней можно найти. Уж очень подозрительным было последнее заключение психиатров и вся дальнейшая газетная шумиха.
Работавшие на грека юристы развили бешеную деятельность, готовясь начать следствие по следствию, но весь их пыл скоро оказался излишним. Поспешно спровадив «драгоценное» дитя в сиротский дом, Элеонора сама кинула им поводок.
Разглашение такого факта неизбежно вызвало бы пересмотр всего дела, и на сей раз за успех адвокатов Элеоноры никто бы не поручился, хотя в ее пользу и теперь говорили два важных аргумента — психологический и правовой.
Поскольку маленький Поль был удивительной копией отца, который покушался на жизнь Элеоноры, ребенок по понятным причинам мог травмировать ее психику, а оно, видимо, так и было, поэтому врачи посоветовали ей временно отдать сына в сиротский дом. Именно временно, на какой-то непродолжительный период, чтобы успокоиться. Разумеется, в интересах самого ребенка. Ведь она не написала в контракте, что отрекается от него пожизненно. Значит, оставила за собой право в любой момент забрать сына домой. Как только врачи нашли бы это возможным.
Такова, вероятно, была бы ее версия в случае повторного суда, и ее снова могли бы оправдать. Но с другой стороны, она оплатила расходы по воспитанию сына вплоть до его совершеннолетия. Авансом внесла все деньги на семнадцать лет вперед. Стало быть, срок был определен достаточно четко. До совершеннолетия — значит, до той поры, когда родители за своих детей юридически уже не отвечают. Иными словами, это было равносильно тому, как если бы от ребенка отреклись пожизненно. Конечно, она могла заявить, что это лишь формальность, стандартные условия контракта. Но зачем было менять имя и фамилию мальчика? И была ли необходимость давать новую фамилию? Это уже злобный умысел, низменное вымещение грехов отца на ребенке.
Короче говоря, при всех оправдывающих Элеонору аргументах пересмотр дела ничего хорошего ей не обещал и люди Папанопулоса, заполучив фотокопии нужных документов, свой бизнес сделали без особого труда. Полмиллиона она заплатила им сразу и по сто тысяч долларов выплачивала ежегодно в течение всех следующих семнадцати лет. При ее финансах такая сумма по суду причиталась бы опекуну Поля — один процент от основного банковского капитала, то есть от десяти миллионов.
Элеонора не обеднела. Ее основной капитал вместе с прибылью от судостроительной фирмы возрастал в год примерно на десять процентов, или на один миллион долларов. Так что шантажисты не зарывались, брали мзду, можно сказать, в рамках закона. Элеонора, однако, не предполагала, какой сюрприз они готовили ей в будущем.
Когда Полю исполнилось восемнадцать лет, она решила, что все ее тяготы кончились. Платить никому она больше не собиралась и угроз никаких не боялась. Отныне все, что каким-то образом касалось сына, для нее умерло. Полю, хотя во время той встречи он ничего не требовал, она сказала, что не даст ему ни цента и вообще пусть проваливает, его рожа действует ей на нервы. Если же он вздумает шантажировать ее оглаской, ему не мешает вспомнить, что все свои материальные обязательства перед ним она выполнила. Да, он воспитывался в сиротском доме, но деньги-то за воспитание платила она. И его учебу в институте сиротский дом до сих пор тоже оплачивал из того фонда, который она создала для него семнадцать лет назад. Кроме того, пусть зарубит себе на носу, что оглаской он все равно ничего не добьется. Они в расчете, и никаких претензий к ней впредь быть не может. А репутация… Что для нее репутация? Собаки, что ли, станут относиться к ней хуже?
Между тем успокоилась она рано. Ей не следовало забывать, что по законодательству Соединенных Штатов Америки всякое уголовное дело считается окончательно закрытым лишь тогда, если с момента преступления прошло не менее двадцати лет. Поэтому обвинения, выдвинутые против нее прокурором Джорденом, по-прежнему оставались в силе. Суд их тогда не принял, так как счел более доказательной линию защиты. Но решение «уда еще не поздно было опротестовать. Это «не поздно» и имел ввиду Глен Перселл — адвокат, диктовавший Джексону анонимное письмо для Поля.
Вильяму они избрали для этой роли в основном из-за его возраста. Он был только немногим старее Поля, и ему, по мнению Глена, было легче найти с ним общий язык.
Если бы Элеонора, встретившись с сыном, понимала, чем все может закончиться, она, наверное, вела бы себя иначе, и тогда вся операция могла провалиться. Но последние восемь лет у нее работал юрисконсультом Рональд Перселл, младший брат Глена, которому она слишком доверяла.
Все было разыграно как по нотам.
Незадолго до появления Поля в Майами Рональд получил письмо от Глена, в котором тот писал, будто ему случайно стало известно, что против хозяйки Рональда готовится какой-то заговор, связанный с молодым человеком из Чикаго по фамилии не то Фридман, не то Файнштейн. Насколько можно судить, речь идет о шантаже публичным скандалом. Якобы этот молодой человек располагает какими-то документами, которые могут скомпрометировать миссис Элеонору в глазах общественности. Вроде бы он перед кем-то похвалялся сорвать за свои бумажки не меньше миллиона. Говорят, документы действительно существуют, но как они к нему попали, трудно представить. По слухам, это восемнадцатилетний парень, выросший в сиротском доме в Чикаго и никогда в Майами не бывавший. Может быть, это какой-то маньяк-шизофреник и для беспокойства нет оснований, но он, Глен, советовал бы Рональду все же предупредить миссис Элеонору. Мало ли что! По крайней мере, сам Рональд должен быть настороже. Ему ведь не хочется, чтобы миссис Элеонора потом упрекнула его в отсутствии бдительности, тем более она к нему так добра…
Читая Элеоноре письмо старшего брата, Рональд, понятно, делал вид, что о Поле он ничего не знает и весь этот разговор о каком-то заговоре для него непостижимая новость. Очевидно, это какая-то ерунда. Глену всегда что-то мерещится. Свихнулся на шантажистах.
Как и рассчитывал Глен, письмо сработало безотказно. Элеонора метала громы и молнии. Бандиты, подлецы, кровососы… Рональд сохранял такт, в душу не лез, не расспрашивал, но успокоить хозяйку считал своим долгом. Какие могут быть документы! Миссис Элеонора живет тихо, мирно, ничем недозволенным не занимается… Нет, право, это всего лишь плод больной фантазии Глена. Она растрогалась, глянула на Рональда повлажневшими, вдруг затосковавшими глазами. К сожалению, этот восемнадцатилетний Фридман или Файнштейн… Она была очень благодарна Глену и жадно, с тем безграничным доверием, которое порождает неожиданная поддержка в минуту опасности, слушала просвещенные наставления Рональда…
Потом они послали письмо Полю, ничего, разумеется, не сказав Элеоноре. Оно тоже осечки не дало. После встречи в Майами уговаривать парня долго не пришлось.
…Шантажировать Элеонору уже не имело смысла. Сейчас, когда Поль достиг совершеннолетия и мог стать полноправным наследником, гораздо выгоднее было помочь ему упрятать мамашу за решетку. Оказать квалифицированную юридическую помощь в обмен, скажем, на акции в судостроительной фирме.
Шансов выиграть судебный процесс у Элеоноры теперь не было. Все прежние аргументы защиты оборачивались против нее — о повторном возбуждении дела ходатайствовал сын, которого она с младенчества обрекла на пожизненное сиротство. Пожизненное, ибо отвергла его и совершеннолетним. Значит, ничего истинно материнского у нее к нему не было и нет. Следовательно, Израэля она убивала хотя и не преднамеренно, но действительно осознанно, вовсе не будучи под влиянием сверхсильного инстинкта матери, который якобы затмил рассудок. Суд же, мотивируя этим обстоятельством оправдательный приговор, был либо подкуплен, либо введен в заблуждение инспирированной кампанией: «Отдайте сиротке маму!»
Конечно, это звучало дико: у матери нет ничего материнского. Поверить подобному утверждению не только трудно, а просто немыслимо. Но важны ведь поступки человека, его поведение.
Как выяснилось, свое более чем странное отношение к сыну Элеонора продемонстрировала еще в родильном доме, едва Поль появился на свет.
Лео — он тогда еще был жив — удалось разыскать в Нью-Йорке врача Генри Спонга, который принимал у нее роды. Вспоминая тот день, старик и теперь, спустя восемнадцать лет, все еще искренне поражался.
Приняв ребенка, здорового, розовенького крикуна, он, как обычно, поздравил роженицу.
— С наследником вас, мамаша! Богатырь, ну, богатырь, фунтов, наверное, пятнадцать!
При этих словах Спонга у нее так исказилось лицо, что стоявшая у ее изголовья медсестра испугалась.
— Вам плохо?
Еще не отдышавшись от только что перенесенных родовых мук, она медленно повела глазами по сторонам и вдруг забилась в истерике:
— Зачем он мне? Зачем? Мне нужна дочь, наследница, дочь нужна! Я больше не смогу, не смогу!
Все, кто был в операционной, от растерянности не знали, что ей сказать. Они надеялись, что в палате, когда ей дадут кормить ребенка, она успокоится сама.
Подпускать малыша к груди Элеонора не пожелала…
Против нее говорили и показания Спиро Холдемана — директора сиротского дома. По условиям контракта всю историю Поля Фридмана он должен был хранить в строжайшей тайне, но, коль она раскрылась без его участия, скрывать остальные подробности он уже не видел необходимости. Свое решение сдать ребенка в сиротский дом Элеонора, по его словам, объясняла тем, что, хотя суд ее оправдал, сын, когда подрастет и все узнает, за отца будет мстить. Он ничему не поверит, в нем взбунтуется отцовская кровь…
Боялась сыновней мести, значит, понимала, что оправдания зыбки, сама не верила в их обоснованность.
Рональд подтвердил: да, положение защиты на этот раз почти безнадежное… Он очень сокрушался, казнился своей недальновидностью, тем, что не внял доброму совету Глена. Но кто же мог подумать, что они столько всего соберут? Документы, свидетели, а там, возможно, еще что-то, кто знает, что они еще подсунут прокурору… К сожалению, выход только один: попытаться договориться с Полем. Хотя сомнительно, чтобы он пошел на примирение. Невыгодно ему мириться. После суда он получит все, до последнего цента… Да и можно ли на него положиться? Все равно копии документов он припрячет. Прикинется овечкой до другого, более удобного момента. Или до первой размолвки. Парень, по информации Глена, — не простачок, своего не упустит, из глотки вырвет. Говорят, он уже раздает расписки на тысячи долларов и даже кому-то из своих советчиков пообещал все или часть акций в судостроительной фирме. Заранее чувствует себя наследником…
Она сидела угрюмо сосредоточенная, молча слушала. В мозгу у нее тяжело ворочались только ей ведомые мысли… На пушистом китайском ковре у ее ног лежала огромная, как теленок, бело-рыжая борзая. Вытянув свою острую, несоразмерно маленькую мордочку, с собачьей преданностью и грустным сочувствием смотрела на хозяйку. Казалось, она все понимала и печалилась оттого, что не может утешить.
Бесшумно крутились под потолком алюминиевые лопасти старомодно-казенного вентилятора. Пахло дешевыми духами, собачатиной, дорогими гаванскими сигарами — Рональд курил. Похожий на преуспевающего, но удрученного временной неудачей дипломата, он продолжал вслух размышлять… Да, ситуация скверная. Поля нужно как-то остановить, чересчур он закусил удила. Может быть… Это, конечно, крайность, но если иного выхода нет… Она вздрогнула, глаза вспыхнули ужасом: нет-нет! Не надо его трогать…
На рассвете, когда над сонным городом плывет еще не подрумяненная солнцем сизая дымка и тишину нарушает только ранний щебет птиц, дом-псарню разбудил выстрел.
…В кабинете на письменном столе полицию ждал запечатанный конверт, адресованный нотариальной конторе.
Все свое состояние, банковский капитал, акции и дом Элеонора Кингсли завещала двумстам собакам, перечисленным поименно.
Опекунам своих четвероногих наследников она назначила «Коммершиал бэнкинг энд кредит систем» — коммерческо-кредитный банк.
Полю не досталось ни цента. Он никак не мог с этим смириться. Ему казалось, что подобное завещание может написать только сумасшедший и потому считать его действительным нельзя. Бросив институт художеств, он за два года закончил юридический факультет и затем, став адвокатом, много лет судился, но высудить ничего не удалось. Суд неизменно отклонял его иск, так как завещание, по определению экспертизы, писалось человеком вполне нормальным… Собаки? Что поделаешь, такова была воля усопшей…
Поняв, что вся манерность Одуванчика, его пустопорожняя велеречивость и туманные недомолвки — всего лишь ширма, за которой скрывается врожденная трусость, Джексон расхохотался от мстительного злорадства, по потом, вспоминая историю Элеоноры, он смотрел на Поля, и его застарелую желчь подавляло досадное, не ко времени заявившее о себе раскаянье.
Этот развинченный золотозубый фигляр уже давно действовал ему на нервы, и часто, встретившись с ним, он с трудом сдерживался, чтобы не ударить по его заволоженно-сонным зенкам. Но разве тот, похожий на пушистый рыжий шар на палке, мальчишка, с перепугано-шальными, как у всполошенного зайца, глазами был фигляром? И разве не Джексон вербовал его в шайку, сделавшую из него фигляра? Пусть по указке, под дудку Лео и Глена, но пел ведь соловьем, красиво старался…
А каково было Одуванчику, когда он узнал об участии Папанопулоса в строительстве «Вайт бёрд»? Словно нарочно лайнер строился на той самой верфи, контрольный пакет акций которой держала когда-то Элеонора. В обмен на «квалифицированную юридическую помощь». Поль загодя дал греку на них расписку, изобразив на бумаге акции якобы взятой в долг суммой долларов и ничего не оговорив, а хозяевами верфи оказались майамские собаки, вернее, банк-опекун… Сам бы Джексон такую расписку не придумал, сочинял ее Глен, но писал Поль под диктовку Джексона, своего нового приятеля. Он, Джексон, был непосредственным исполнителем всей операции по «обработке» восемнадцатилетнего недотепы. Так чего же теперь икру метать? И чему злорадствовать?
Мысленно признав свою вину перед Полем, Джексон почувствовал облегчение, как если бы услышал слова прощения. Но главным в его размышлениях было другое. Думая о судьбе Одуванчика, он понял, что они поменялись не только ролями в шайке Папанопулоса, но и судьбами. В сущности, по отношению к нему Аллисон стал той же Элеонорой. Все шесть лет общения с ним для него, Джексона, были такими, как для Поля тот день на собачьих бегах в Майами. За трепет души — мордой в дерьмо.
И завещание Аллисона. Оно потрясло Джексона, наверное, не меньше, чем Поля — завещание Элеоноры. Нет, на место в списке тех, кому Аллисон собирался передать свои акции на лайнер, он не претендовал, это было личное дело Аллисона, но право принять от него должность капитана «Вайт бёрд» принадлежало не Мэнсфилду, а ему, Джексону, только Джексону. По всем морским законам, вековым традициям и личным достоинствам…
Капитан для моряка — второй после бога. Его поведение, поступки и действия не обсуждаются и не осуждаются. Он вне критики, вне суда подчиненных. В этом его привилегия. Ему позволено все, кроме одного — быть несправедливым. Если бог несправедлив, он — не бог.
Не имея никаких объективных причин, чтобы третировать своего первого помощника, Аллисон не просто готовил ему еще одну незаслуженную обиду. Решив назначить капитаном Мэнсфилда, он отнимал у Джексона единственное, что в последние годы составляло весь смысл его жизни, чему он отдавал все свои духовные и физические силы и чем дорожил, как можно дорожить только с великими испытаниями достигнутой целью, — «Вайт бёрд».
При капитане Джексоне оставаться на лайнере Мэнсфилду ничто не мешало. Джексон его не любил (чувство любви к людям ему, пожалуй, вообще было не знакомо). Он считал Майкла «бесхребетным интеллигентом», которому больше подходила роль салонного кавалера, чем должность вахтенного офицера корабля. Как моряк он был для него не более чем ремесленник. Но вместе с тем, понимая, что не все рождены звезды с неба сшибать, он признавал его профессиональные знания и значительный опыт судоводителя, поэтому, будучи капитаном, он не чинил бы ему никаких неприятностей.
Мэнсфилд это хорошо знал. Он нередко бывал свидетелем, когда Джексон поощрял за добросовестный труд даже тех, кто открыто проявлял к нему враждебность. Нет, он не заискивал. Джексон мерил людей делом и никогда служебное не путал с личным. По его убеждению, старший офицер корабля, которому, за исключением капитана, фактически подчинен весь экипаж судна, в отношениях с младшими по службе должен был обращать внимание лишь на то, чего они стоили как моряки. Он поощрял их не из желания похвалить, а потому, что этого, с его точки зрения, требовали интересы дела, для того, чтобы человек знал, какой труд заслуживает уважения, и работал с большим усердием. В похвальной оценке труда подчиненных он видел не выражение доброй воли старшего офицера, а его должностную обязанность, долг человека, отвечающего не только за общее состояние дел на корабле, но и за настроение каждого члена экипажа.
Джексон был создан, чтобы стать капитаном, в этом было его призвание, несмотря на всю ту неприязнь, которую он вызывал у людей, его окружавших.
Занять при капитане Джексоне место первого помощника для Мэнсфилда было бы нормальным служебным ростом. Подняться же над Джексоном, подчинить его себе Майкл не мог. И не потому, что подчиняться ему Джексон не захотел бы или Майкл и впрямь был таким уж бездарным. Все было и проще, и гораздо сложнее.
Обычно, взлетев по служебной лестнице, многие люди резко меняются. У всех на глазах происходит удивительное перерождение смиренного клерка в самодовольного сатрапа, не замечающего ни своих вчерашних начальников, ни друзей. Но есть и другая порода людей, тех, которые, привыкнув кому-то повиноваться, потом надолго остаются под властью привычки…
Со всеми бережно учтивый, безоружный перед любым грубияном и мучительно переживавший малейшую собственную грубость, действительную или мнимую, Мэнсфилд был не способен менять свое отношение к людям. Шесть лет он выполнял приказы Джексона, и вдруг ему нужно приказывать Джексону. У Майкла для этого не хватило бы духу. Рядом с Джексоном он робел и всегда чувствовал себя как бы виноватым. Для него было невозможным, немыслимым повелевать Джексоном. Случалось, иногда он пытался ему в чем-то возражать, но стоило Джексону глянуть на него, как он сразу же терялся и замолкал. Джексон подавлял в нем всякую волю прежде, чем успевал что-то сказать.
Как бы ни старался Мэнсфилд, управлять кораблем, ежедневно встречаясь при этом с Джексоном, он не смог бы. Должность капитана для Майкла стала бы проклятием.
Конечно, капитан большого лайнера волен и не встречаться со всеми своими помощниками или, встретившись, молча пройти мимо. Но это не относится к первому помощнику, ибо все свои распоряжения по существующей на кораблях субординации капитан отдает только ему, а он уже в свою очередь — всем остальным.
На уровне Мэнсфилд-капитан — Джексон — первый помощник они были несовместимы. И Алиссон это прекрасно сознавал. Джексон поэтому должен был уйти. Такой вывод следовал из завещания Аллисона, если в нем все было написано так, как говорил Одуванчик.
В правдивости того, что рассказал Поль, Джексон не сомневался. Какой мог быть обман, если ему поручали изъять именно это завещание? Он ведь потом все прочитает своими глазами.
…Погибни сам, но спаси капитана. Выбора быть не должно, о выборе преступно и думать. Преступно не по закону, нет, по всей логике жизни, ибо твоя жизнь и жизнь всего экипажа всегда в руках капитана. Жертвуя собой ради спасения капитана, моряк совершает не благородный подвиг, продиктованный преданной до самоотречения любовью к своему командиру, а выполняет свой высший долг перед содружеством моряков, долг трагичный, печальный, но столетиями оправданный всем содержанием жизни людей, отдавших себя борьбе с одной из самых жестоких стихий. Капитан в этой борьбе не только предводитель, он поводырь и мозг своей команды, ее самый надежный защитник. Поэтому для моряка он и есть второй после бога.
Для Джексона Аллисон не был ни вторым, ни десятым после бога. Настоящего капитана он не видел в нем ни раньше, ни тем более теперь, когда Аллисон решил лишить его возможности плавать на Вайт бёрд». Будь он истинным капитаном, ему не пришло бы в голову швырнуть за борт лучшего из моряков.
Джексон не переоценивал себя, он знал себе цену.
Посягнуть на жизнь Аллисона он никогда бы не отважился, но если это сделают другие…
— Хорошо, так что дальше? — после долгой паузы напомнил Джексон. Против обыкновения, голос его прозвучал почти дружески, даже смягчились в подобии улыбки всегда жесткие складки губ.
— По графику «Вайт бёрд» выйдет из Гаваны в канун Нового года, — приободрившись, продолжал Одуванчик. Не подозревая, чем вызвана перемена в настроении Джексона, он, видимо, принял его улыбку за знак заведомо готового согласия. — Шумный праздник, много вина, музыки… Мэнсфилд, как мы полагаем, развлекать пассажиров на этот раз не сможет. В таком случае обязанности распорядителя бала лягут на вас.
Когда пробьет десятый час, Аллисон вспомнит о своем режиме и уйдет к себе в каюту. Вы останетесь с пассажирами, на виду у всей публики… Все будет естественно.
— Послушайте, Поль, — Джексон снова подавлял раздражение, — я не хочу с вами ссориться. Вы неплохой парень, и мы, черт возьми, оба загнаны в один угол. Плевать мне на Аллисона, меня он не касается, а все остальное… Говорите же наконец яснее! Что будет естественно? Уход Аллисона с бала?
Столь длинная тирада в устах Джексона, сдобренная к тому же неожиданным лирическим признанием, Одуванчика удивила и одновременно обезоружила.
— Откровенно говоря… — он глянул на Джексона с щенячьи виноватым, принужденно-опасливым весельем, — все детали операции мне не известны…
— Как не известны? — У Джексона округлились глаза. — Что за чушь?
— К сожалению… — Одуванчик был явно в замешательстве. Очевидно, ему казалось, что они уже нашли взаимопонимание, но грубая прямолинейность Джексона опять все сводила на нет. — Меня познакомили только с общим направлением замысла и кое-какими отдельными моментами. — Стараясь скрыть смущение, Одуванчик заговорил несвойственным ему вкрадчивым полушепотом. — В подробностях весь план разрабатывал кто-то другой, я не знаю кто. Вероятно, сочли, что мне такая операция не под силу, я не моряк…
«Врешь, подлец, все тебе под силу, и все ты знаешь», — подумал Джексон беззлобно. Вслух он сказал:
— Да, конечно.
Одуванчик обрадованно придвинулся ближе к собеседнику.
— У меня нет оснований утверждать, я скажу лишь о своих предположениях. Они, возможно, далеки от истины, но мне кажется, шеф не вполне уверен в вашей решимости, до сих пор вы слишком дорожили этим судном.
— Не вполне уверен? — Джексон всхохотнул. — Зачем же вся эта говорильня?
— Ну-у… От вас будет зависеть успех операции.
— Это каким же образом, если мне не доверяют и я ничего не должен знать? По-моему, я правильно вас понял?
Одуванчик осклабился:
— Разве наш разговор не является свидетельством доверия? Насколько я могу судить, вас только хотят избавить от необходимости наступать себе на горло. Я имею в виду вашу привязанность к судну. Согласитесь, это разные вещи; самому зарезать любимого теленка или отдать его мяснику.
Склонившись над столом, Джексон сосредоточенно рассматривал свои бурые, поросшие белесым пухом короткопалые руки. Сказал с мрачной ухмылкой:
— Вспомнили, что у Джексона есть нервы… Так что же от меня требуется конкретно?
— Вы замените капитана где-то на полпути между Гаваной и Нью-Йорком. К тому времени вам останется только ничему не препятствовать, но…
— …в чем-то, может быть, и способствовать. Это я от вас уже слышал.
— Я полагаю, не мешать развитию событий — задача конкретная, не так ли?
— Допустим.
— Ну-у…. В остальном разберетесь по ходу дела. Сами события подскажут, что от вас требуется. Предугадать ваши действия невозможно, неизвестно, как сложится обстановка.
— Понятно, — Джексон откинулся на спинку стула, огляделся по сторонам. Было одиннадцать часов утра, и зал ресторана все еще пустовал, только в дальнем углу завтракала какая-то парочка, да, облокотившись на стойку бара, о чем-то тихо беседовали толстый бритоголовый бармен и узкоплечий седой официант. — Понятно, — повторил Джексон с расстановкой. — Но что это будет — взрыв, пробоина, столкновение, или что вы еще там придумали? Я же должен знать, к чему готовиться. Или вы считаете меня медузой на пляже? Да, это верно, расстаться с «Вайт бёрд» мне нелегко, но у меня же ее все равно отнимут… — Джексон вдруг задохнулся, побагровел. Казалось, он сейчас разрыдается или заорет, дав волю очередному приступу бешенства. Но ничего не случилось. — Выкладывайте, я слушаю вас, — поборов минутную слабость, сказал он жестко.
— К сожалению… Ничего не могу прибавить. Может быть, пожар…
— Пожар? — У Джексона часто задергалось веко. — Вы с ума сошли! Это же лайнер, больше семисот пассажиров… Вопли, паника, жертвы!
— Я, право… — Одуванчик смотрел на Джексона с наивным простодушием. — Это всего лишь моя фантазия, на море я невежда… Вероятно, планируется что-то другое, если это так ужасно. Кажется, я слышал о каких-то взрывах в донной части, у самого днища судна.
— В донной части? — Глаза Джексона медленно уплывали под лохматые щетки бровей. — Вы придумали это сейчас или знаете точно?
— Да нет… Я только слышал, совершенно случайно, но… Впрочем, я не помню точно. Мне кажется, разговор был о взрывах и корабельном днище, но, может быть, я что-то путаю… А эти взрывы что, они тоже очень опасны?
— Ладно, Поль, все ясно, — сказал Джексон с неожиданной для него иронией. Наверное, это был тот единственный случай, когда нежелание Одуванчика прямо ответить на поставленный вопрос не только не раздражало его, а, напротив, успокоило. Напускает туману, значит, действительно будут взрывы. Так решил Джексон. Гибель лайнера от взрывов в донной части судна его не пугала.
На море трагична любая катастрофа, но не все они обязательно связаны с жертвами. Самое страшное, особенно на пассажирском лайнере, — пожар. Когда огонь уничтожает судно, он неизбежно сеет смерть и среди его обитателей. И чем больше на корабле людей, не обученных морскому делу, тем больше число обреченных.
Конечно, взрыв — тоже огонь. Но если он произойдет на корабле ниже ватерлинии и там образуется внешняя пробоина, в нее немедленно хлынет вода. Огонь угаснет едва вспыхнув либо через какой-то непродолжительный период.
Одна или несколько пробоин, если они достаточно велики и возникли в уязвимых местах судна, угрожают самому судну, но людям — не всегда, а на такой громадине, как «Вайт бёрд», оборудованной к тому же множеством водонепроницаемых переборок, жизнь людей определенное время вообще остается в относительной безопасности. Пока огромный лайнер даже при самых серьезных повреждениях в его донной части окончательно потеряет плавучесть, люди наверняка успеют спустить шлюпки.
Как опытный моряк и человек, переживший больше десятка всевозможных кораблекрушений, Джексон все это хорошо понимал и потому, по-своему истолковав словесный туман Одуванчика, сразу успокоился. Ему казалось, что уж кто-кто, а он видит Одуванчика насквозь. Однако тот оказался куда более зрячим.
Заикнувшись о пожаре и увидев, как у Джексона помертвели глаза, Одуванчик понял, что заранее открывать ему все карты нельзя. Пока «Вайт бёрд» находилась бы в плаванье, он, думая о будущей катастрофе, весь бы извелся и неизвестно, как бы потом держался в решающий момент. Одно дело поставить человека перед свершившимся фактом, и совсем иное — дать ему повод изматывать себя раньше времени. У него просто могли не выдержать нервы. Поэтому Одуванчик и сочинил на ходу версию о взрывах, разыграв ее с поистине актерским блеском.
Во всей этой истории задача Одуванчика заключалась не только в том, чтобы заставить Джексона возглавить еще одну преступную операцию. Имея в руках фотографии той давней драки у ресторана «Савойя», добиться этого было нетрудно. Фотографии-то силу обвинительного документа не утратили. Следовательно, Джексону по-прежнему грозил электрический стул. Кроме того, к тому двойному убийству прибавилась целая вереница морских катастроф, непосредственным организатором которых являлся Джексон. Улик же против людей из ближайшего окружения Папанопулоса не было никаких.
Словом, придавить Джексона было чем. Но это еще не значило быть уверенным, что он сделает все, как ему прикажут. Слишком долго длилась его спокойная жизнь, и он, естественно, во многом изменился. По существу, за шесть лет плаванья на «Вайт бёрд» он стал другим человеком. В нем уже не было ни той свирепой, со скрежетом зубовным, но все же безоговорочной покорности, продиктованной до предела обостренным пониманием безвыходности своего положения, ни прежней, выработанной непрерывным потоком преступлений, способности сосредоточивать всю свою изобретательность и волю на одном главном направлении: как выполнить приказ, не подвергая себя и своих хозяев риску разоблачения. Внутренне расслабленный умиротворяющим созидательным трудом, вкусивший жизни, не вынуждавшей постоянно быть начеку, он стал более чувствительным, склонным в отношениях с людьми к рассудительной снисходительности и уже не был всецело во власти того холодного, расчетливого сверхкорыстия, которое делало его безжалостным, всегда неколебимо здравым и по потребности отважным.
Нет, полностью отрешиться от прошлого он не успел. Незримой тяжестью оно все еще волочилось за ним, еще тревожило по ночам и в те тихие предутренние часы, когда, заступив на первую вахту, он подолгу в раздумчивом одиночестве вышагивал по крылу мостика. «Вспоминая пережитое, он чувствовал, как в душе его словно медленно остывала горячая смола, стягивая грудь в удушливой, ноющей тоске. И тогда будущее, которое начинало уже казаться покойным и ясным, снова туманилось, мутнело и взвихривалось, как мятущаяся бездность над морем. Но время постепенно брало свое. Прошлое беспокоило Джексона все меньше и реже. Он, конечно, ни с кем этим не делился, но те, кто хорошо его знал, могли догадываться.
Вот почему перед Одуванчиком ставилась задача прежде всего вернуть Джексона, так сказать, «на круги своя»: без угроз, по возможности деликатно, но недвусмысленно напомнить, чем и кому он обязан и о чем не должен забывать. Затем обработать его психологически, чтобы не терзался до поры ни сознанием предстоящего ужаса, ни муками совести. Это, пожалуй, было самое важное. Задумав одно из величайших преступлений на море, главари банды Папанопулоса понимали, что от настроения Джексона будет зависеть если не весь успех дела, то, во всяком случае, очень многое.
Они сыграли на всем, что было в нем добрым и злым, светлым и темным, на болезненно ревнивом отношении к лайнеру, затаенной мечте о капитанской должности, обидах, мстительном честолюбии, страхе за собственную шкуру и, наконец, жадности: посулили за «услуги» полмиллиона долларов. От будущего барыша Папанопулоса и Форбса это была всего одна двухсотая доля, но Джексон о таком гонораре и помыслить не смел. Перспектива сорвать огромный куш его доконала. Деньги для него олицетворяли не просто сытость. В его глазах они были символом независимости, власти и настоящей свободы, той единственной силой, которая могла избавить его от всех принуждений и страхов. Да, он понимал, что не все продается и покупается, и все же верил, что купить можно все, даже душевный покои.
С одной лишь оговоркой: если умеешь шевелить мозгами.
В своих умственных способностях Джексон, конечно, не сомневался.
«Вайт бёрд» уходила в свой последний рейс с группой людей, намеренных ее уничтожить, но не представлявших ни масштабов будущей катастрофы, ни того, что уготовано было им самим.
Никто из них друг друга не знал, вернее, в рейсе все они познакомились, но никто никого не подозревал. Как и предусматривалось тщательно разработанным планом (его автором был все-таки Одуванчик), каждый из заговорщиков получил только свою часть задания: сделать то-то и «убрать» такого-то.
У матроса Келлера были дружки в Гаване, и ему поручили устроить нападение на Мэнсфилда, когда тот должен был сойти на берег, чтобы закупить свежие продукты и вина для новогоднего бала. Потом Келлера сбросил в вентиляционную шахту машинист Маклеллан, предварительно успевший вывести из строя пожарную сигнализацию.
Маклеллана ликвидировал младший боцман Джек Берри, который затем поджег кормовой трюм и вскоре был убит боцманом Гарпероя…
К концу пожара из всех, кто погубил Аллисона и его лайнер, в живых остались только Джексон и стюард Роберте, подменивший в каюте Аллисона пузырек с валерьянкой раствором цианистого калия. Но уже в Нью-Йорке Робертс тоже исчез.
Джексона почему-то пощадили и выдали обещанный чек на пятьсот тысяч долларов, однако… на другое имя. Чтобы получить деньги, ирландец Вильям Джексон должен был превратиться в норвежца Андерса Акре и к тому же подписать контракт с норвежской фирмой о своем обязательстве двадцать лет проработать смотрителем китобойной станции на острове Южная Георгия. Пока за сроком давности преступление не перестанет быть подсудным. И в случае чего — кто будет искать какого-то Андерса Акре? Да и где — на Южной Георгии!
Джексон боялся худшего и на все согласился. После того, что произошло, он и сам готов был бежать на край света. Его потрясла не столько трагичность катастрофы, как та жестокость, с какой он был обманут.
В списке моряков, которым Аллисон собирался передать свои акции на «Вайт бёрд», имя Джексона стояло первым. Не Мэнсфилд — он, Джексон, назначался капитаном.
…Прошли годы, а ужас содеянного так и остался во всех порах души. И нет от него избавления. Дрожал за свою шкуру, жаждал денег, а теперь не желает ничего, кроме возмездия, справедливой кары, чтобы найти а ней облегчение. А люди смеются. Спятил! Вообразил, будто сжег какой-то лайнер. Скоро, наверное, Нельсоном себя объявит, а то, может, Наполеоном… Это все Южная Георгия. Многие из тех, кто долго жил на проклятой богом земле Антарктики, сходили с ума, и многие мнили себя Наполеонами…
Никто из нас не рождается чудовищем, и никто чудовищем не хочет умереть…
Мелькают дни…
Словарь морских терминов и названий, использованных в книге
Абордаж — рукопашный бой двух или трех экипажей боевых кораблей, когда суда при помощи специальных крючьев сцепляются друг с другом.
Бак — носовая часть палубы корабля.
Балл — условное цифровое обозначение интенсивности физических явлений. На море по наиболее распространенной шкале Ботфорта сила ветра определяется от 0 (отсутствие ветра) до 12 (сильнейший ураган), сила волнения — от 0 (штиль) до 9 (волнение исключительной силы).
Банка: 1. Деревянная скамья на шлюпке, служащая одновременно для придания шлюпке поперечной прочности. 2. Приподнятый участок дна моря с глубинами, резко отличающимися от окружающих.
Барабан, или рол, шпиля — часть шпиля, вокруг которой обносится трос при его выбирании (втягивании на палубу).
Барк — парусное судно с тремя или более мачтами, из которых все мачты, исключая самую заднюю, имеют прямое (поперечное) парусное вооружение, а задняя (бизань) мачта имеет косое (продольное) парусное вооружение.
Баркентина, или шхуна-барк — парусное судно с тремя пли Солее мачтами, из которых передняя, фок-мачта, имеет прямое (поперечное) вооружение, а все остальные мачты снабжены косыми (продольными) парусами.
Бейдевинд — курс парусного судна относительно ветра, при котором ветер составляет с диаметральной плоскостью судна угол 90°. Полный бейдевинд — угол приближается к 90°; крутой бейдевинд — угол достигает минимальной величины, при котором судно может идти против ветра.
Бункер: 1. Специальное помещение на судне для хранения запасов топлива. 2. Запас топлива на судне.
Бухта: 1. Небольшой залив, защищенный от ветра и волн, удобный для стоянки кораблей. 2. Трос или снасть, свернутая цилиндрами, кругами или восьмерками.
Бушприт — горизонтальное или наклонное бревно, выдающееся вперед с носа парусного корабля и служащее для отнесения центра парусности (общее количество парусов на судне) вперед.
Ванты — тросы, при помощи которых на корабле крепятся мачты.
Ватерлиния — линия пересечения наружной бортовой обшивки судна с уровнем воды.
Вельбот — легкая быстроходная шлюпка с одинаково острыми образованиями носа и кормы.
Вооружение парусного судна — система мачт и парусов, установленных на судне.
Выбрать слабину — устранить обвислость, провисание натянутого троса.
Галс — курс судна относительно ветра. Если ветер дует с левой стороны, в левый борт — судно идет левым галсом, если с правой стороны — правым галсом.
Грот-мачта — вторая мачта, считая с носа корабля.
Дифферент — разница углубления судна в воде между кормой и носом. Дифферент на корму обычно делается для придания судну лучшей поворотливости. Дифферент на нос, наоборот, ухудшает поворотливость и придает судну некрасивый вид. Если дифферент на нос, то говорят: «Судно сидит в воде свиньей».
Дрейф — снос судна с линии курса под влиянием ветра.
Лежать в дрейфе — расположить паруса так, чтобы судно под влиянием ветра не двигалось вперед и фактически оставалось на месте.
Зюйдвестка — непромокаемый головной убор (вид шляпы) с откидывающимися спереди широкими полями.
Зыбь, мертвая зыбь — пологое, иногда очень крупное волнение без ветра. Бывает или после продолжительного сильного ветра, когда море не может сразу успокоиться, или тогда, когда где-либо в соседнем районе моря дует сильный ветер и гонит перед собой волну.
Кабельтов — мера длины, служащая для измерения в море сравнительно небольших расстояний; равен 0,1 мили, или 608 футам, или 185,2 метра.
Канат якорный — якорная цепь.
Кильватер: 1. Струя, остающаяся за кормой идущего судна. 2. Строй кораблей, когда каждый последующий идет в кильватерной струе переднего.
Клипер — быстроходный парусный корабль, отличающийся острыми обводами корпуса, большими размерами парусного вооружения и исключительной скоростью.
Клотик — точеный, обычно деревянный кружок, укрепляемый на верхнем срезе мачты.
Леер — туго натянутый трос, оба конца которого закреплены. Применение лееров самое разнообразное. На леерах поднимают косые паруса, леера протягивают вдоль палубы при штормовой погоде, чтобы люди могли держаться за них.
Лоция: 1. Описание морей, их берегов и условий плавания. 2. Часть науки кораблевождения, обосновывающая выбор наиболее удобных, безопасных и экономичных путей судна.
Марс — площадка на мачте.
Марсовый — матрос-наблюдатель, ведущий наблюдение с марсовой площадки.
Мертвый якорь — якорь, который служит для постановки судна на длительную стоянку.
Найтовы — тросы, которыми крепятся различные предметы на корабле.
Оверкил — положение корабля, опрокинутого днищем вверх.
Остойчивость судна — способность судна плавать в прямом положении или, если судно выведено из этого положения (накренено), способность вернуться в первоначальное положение.
Полубак — надстройка в носовой части судна, идущая от форштевня и образующая повышение передней части палубы. На китобойных судах служит гарпунной площадкой, на которой устанавливается пушка.
Рангоут — совокупность деревянных или металлических частей парусного вооружения судов, предназначенных для постановки и растягивания парусов.
Рей — рангоутное дерево или металлическая труба, подвешенные за середину к мачте и служащие для крепления парусов.
Регистр — организация, издающая правила постройки морских и речных судов торгового флота и осуществляющая надзор за техническим их состоянием и подготовленностью к плаванию.
Риф взять — уменьшить площадь паруса путем подвязывания частично сложенного паруса специальными тросами.
Рубка — закрытое помещение на верхней палубе, служащее для разных судоводительских целей.
Румб — деление на круге компаса, соответствующее 1/32 части горизонта, для определения положения корабля по отношению к странам света.
Спардек — шлюпочная палуба.
Такелаж — все снасти на судне, служащие для управления ими паруса ми и подъема тяжестей.
Травить — ослабить (снасть), выпускать (пар).
Узел — единица скорости. Выражение «скорость 10 узлов» соответствуют выражению «скорость 10 миль в час».
Фальшборт — часть борта, выступающая выше верхней палубы.
Фленшерный нож — напоминающий хоккейную клюшку нож, который служит для разделки китовых туш.
Фок — нижний прямой парус на фок-мачте.
Фок-мачта — второй, считая сверху, прямой парус на фок-мачте.
Форпик — узкое место трюма в самом носу судна. Такое же место в корме корабля называется ахтерпик.
Форштевень — деталь корпуса судна, являющегося продолжением киля в носовой части судна.
Штормтрап — веревочная лестница с деревянными ступеньками (балясинами).
Шхуна — парусное судно с косыми парусами и не менее чем с двумя мачтами.
Ют — задняя (кормовая) часть корабля. Полуют — возвышенная часть юта.