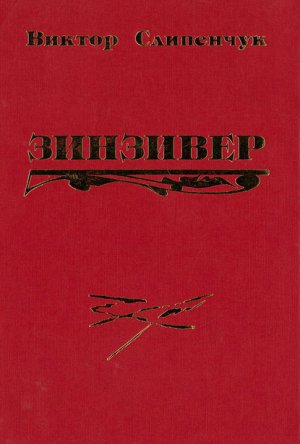
И увидев, фарисеи говорили ученикам Его: почему Учитель ваш ест с мытарями и грешниками?
Услышав же это, он сказал им: не здоровым нужен врач, а болящим.
От Матфея. 9, 11–12
Приближались же к Нему все мытари и грешники слушать Его. И роптали фарисеи и книжники, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.
От Луки. 15, 1–2
И ответил во второй раз голос с неба: «что Бог очистил, ты не объявляй нечистым».
Деяния апостолов. 11, 9
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил…
Велимир Хлебников
…Я закрыл глаза и услышал сквозь всхлипы мамино причитание – она подумала, что я опять брежу. Я не бредил… Но чтобы не пугать ее, уткнулся в цветок и тут же уснул, то есть как бы растаял в благоухании сада. Сколько спал – не знаю. Когда очнулся, все так же лежал, уткнувшись в цветок, от которого все так же веяло майским садом.
Я привстал. В окнах пылала такая необыкновенная заря, что подумалось: окна раскрыты настежь, и я в беленьком домике, и это из волшебного сада веет ароматом роз. И действительно, я вдруг увидел аккуратный беленький домик, дорожки, покрытые розовым гравием, низкий штакетник с ниспадающими на него кустами цветущих роз и приближающиеся легкие переборы гармошки.
Я оглянулся. Я предполагал, что увижу отца или маму, но я увидел ее. Она была в белых туфлях и платье в золотой горошек, в котором выглядела точь-в-точь как школьница. Она улыбалась мне и звала, звала…
Часть первая
Глава 1
Однажды глубокой февральской ночью (я всегда писал свои стихи и пьесы ночью, а днем отсыпался) мною овладело тягостное уныние. Причиною стали галлюцинации, которые поначалу как-то даже забавляли, скрашивали мою монотонную одинокую жизнь. Засмотришься на пожелтевшую, потрескавшуюся от времени столешницу, и вдруг как бы из ее недр, словно на скатерти-самобранке, является взору столовский поднос, уставленный большими тарелками с горячими блюдами. Тут тебе и домашние щи, и дымящаяся в томатном соусе баранина, и кофе со сливками. Причем все настолько живо, что в щах можно было рассмотреть, и я рассматривал, плавающие колечки поджаренного лука, а на баранине – сочную зелень молодой петрушки. (Согласитесь, превесьма соблазнительные иллюзии для человека, денно и нощно голодающего не по прихоти, а по беспросветности…)
Созерцая столь великолепные подарки воображения, как правило, за полночь; постепенно стал подготавливаться к ним. То есть на то место, на котором чаще всего взор мой обессмысливался и цепенел, я еще до полуночи клал ложку, вилку, столовый нож и ставил какую-нибудь пустую бутылку из-под боржоми. Графинчик и рюмочку – не ставил. (Такое роскошество позволил лишь раз, на день рождения, а наутро ужасно сожалел – голова буквально раскалывалась, а желудок схватывали такие спазмы, какие обычно случаются после страшного перепоя.)
В общем, подготавливался с воздержанностью, чтобы потом не сожалеть, и в то же время, чтобы чувствовать себя достаточно свободным в выборе как меню, так и музыкального оформления, каким он оснащался.
Что это такое – свободный выбор… и музыкальное оформление? Это – песня! Да-да, песня, потому что в результате подбора и сочетания, казалось бы, простых кухонных предметов я, подобно профессору магии, в конце концов овладел искусством вызывания почти предсказуемых галлюцинаций.
Конечно, я испытал множество вариантов и вариаций, прежде чем остановился на определенных, наиболее соответствующих моим наклонностям. В силу своей профессии я не люблю шумных компаний, в них всегда присутствует не то чтобы разнузданность, но какая-то внутренняя разухабистость. Чаще всего я выбирал отдельный кабинет, стол, накрытый белоснежной скатертью, два серебряных прибора и скрипача в черном фраке и цилиндре. Откровенно говоря, скрипач меня развлекал не столько музыкой, сколько своим поведением. Играя полонез Огиньского, он всегда так преувеличенно выпячивал грудь, так наступал на соседа по столу, что тот вынужден был раз за разом уклоняться вбок, чтобы не пролить из ложки. Но и здесь верткий музыкант не терялся, ловко обегал его и уже с другой стороны наседал на беднягу.
В конце концов сосед откладывал ложку, доставал из нагрудного кармана розовый шелковый платочек и, прикладывая к глазам, растроганно повторял:
– Не могу, не могу, чтобы так душещипательно!
Чуть-чуть сменив угол зрения, я отдалял скрипача в центр зала, и сосед, опасливо оглядываясь, опять брался за ложку.
– Не могу, не могу, чтобы так… – продолжал он бубнить над ухом, но я не отзывался.
Чтобы не нарушать подконтрольность галлюцинации, я всегда вынужден был действовать в строго очерченных рамках. Наверное, покажется странным, но лиц соседа, скрипача и официанта я никогда не видел. И в то же время совершенно точно знал, что мой сосед – пожилой чопорный англичанин, интеллигентный и весьма, весьма денежный. (Он иногда уходил из-за стола раньше меня, и я собственными глазами видел, какие крупные чаевые в долларах он оставлял.)
Официант, конечно, был сделан в СССР. И вовсе не потому, что я помнил штамп завода-изготовителя на алюминиевой чашечке абажура. В глаза бросалась лакейская услужливость перед иностранцами, свойственная тем достопамятным временам. Долговязый и неуклюжий, в знак высочайшей почтительности он, изгибаясь в поклоне, нависал над столом так, словно хотел поцеловать англичанина непосредственно в макушку. Пренеприятнейшая услужливость, даже сейчас слышится его паточно-приторный голосок: товаришочки, чего изволим-с?!
О скрипаче ничего не скажу, но подозреваю, что вместе с официантом они делили чаевые и, очевидно, как глава предприятия официант брал больше. Во всяком случае, однажды я стал свидетелем красноречивого диалога:
– Позвольте-позвольте, а где мои – за двойной полонезик?!
– Не знаю, не знаю, Гога-товаришок, все у вас. (Сладостно-ядовитое.) Поищите в дырочке под подкладочкой.
– Но позвольте, как же-с, ведь был двойной полонезик?! (Начальственно-сердитое.)
—Дак хоть
бы и
тройной!.. А за инструмент?! (Назидательно-наставительное.) Не забывай, Гога-товаришок, что на такую Стради мигом сыщу нового музыкантика…
Отдельный кабинет меня устраивал еще и потому, что я овладел искусством не только раздвигать его стены, но и перемещаться вместе с ним, словно в машине времени. Находясь в кабинете и оставаясь невидимым для окружающих, я мог присутствовать на любой пирушке и даже свадьбе. Особенно я любил – нашу с Розочкой.
В большинстве это происходило так: в момент дружного скандирования «горько!», явственно слышимого как бы из соседней комнаты, я сосредоточивался и всеми своими фибрами желал очутиться там… Легкое усилие воли, именно легкое, и, точно по мановению волшебной палочки, стена, находящаяся у меня по правую руку и соответственно прямо напротив англичанина, активно выцветала, будто выедалась какими-то мигающими песчинками. Наконец она утончалась настолько, что через нее, словно через кисею, начинали проступать очертания неестественно длинного стола, занимающего почти весь зал, тесно усаженных за ним гостей и в самом дальнем конце – белоснежное кружево с радостно светящимся личиком, воздушно теплящимся, точно свечечка.
Но вот кисея спадала, левое плечо англичанина вздрагивало (это особенно хорошо было видно по розовому платочку, выглядывающему из нагрудного кармана), и я вдруг ощущал, как вся моя жизненная сила переливается в англичанина как раз через этот нагрудный карман. Странное дело, но я откуда-то знал, что, перелившись в англичанина, не исчезну, а лишь в его внешности предстану перед окружающими своеобразным свадебным генералом.
Так и случалось. Поправляя платочек и тем самым осваивая его смокинг, я обнаруживал в правом, внутреннем, кармане увесистое портмоне, туго набитое, как ныне говорят, зелеными, а в левом, нижнем, врезанном едва ли не в самый край подкладки, старинные золотые часы на огненно вспыхивающей цепочке, украшенной бриллиантами. На глухом футляре, а именно на открывающейся крышечке, инкрустированной перламутром, виднелись выгравированные латинские литеры SVT. Кстати, их я тоже сразу освоил и прочитывал на русском не иначе как «сват», что придавало моему присутствию на свадьбе некую дополнительную естественность. Словом, почувствовав себя англичанином и при деньгах (в скобках заметим, на своей свадьбе, на своей!), я ощущал в удовольствие приобретенную вдруг старческую медлительность и чопорность, с которою доставал золотые часы, а достав, привлекал к себе всеобщее внимание мелодичным звоном, которым непременно сопровождалось открывание инкрустированной крышечки. Медлительность и чопорность были мне хороши еще и тем, что позволяли вполне незаметно оглядеться и, в строго очерченных рамках, сделать свой первый и, главное, правильный ход.
Глядя на циферблат, я замечал боковым зрением, как мое физическое, материальное «я» бесследно исчезало, испарялось, а мой кабинетный стол, накрытый белой скатертью, срастался с неестественно длинным свадебным, за которым все лица, повернутые ко мне, выражали почтительное и вместе с тем веселое внимание.
Здесь я позволял себе несколько покичиться (эх, годы, годы!). Едва не опрокинув фужер, расплескивал боржоми, с трудом вставал, чтобы произнести тост за здравие и счастье Молодых. Невольно пристыженные моей старческой беспомощностью, следом, как по команде, вскакивали не только гости, но и жених, и невеста. Пригубив фужер с водою, я начинал речь. Не знаю, была ли она достаточно короткой, чтобы выслушивать ее стоя, но выслушивали. За время тоста я умудрялся сообщить, что нахожусь на свадьбе не случайно, а по протекции или, проще сказать, по просьбе родителей виновников столь торжественного события, которые в силу обстоятельств не смогли приехать и поручили мне передать их святое благословение.
(Тут я, хотя и не распространялся, давал понять, что матушка жениха, одинокая, забытая страной пенсионерка, живет очень далеко, где-то под Барнаулом. А родители невесты, беженцы-погорельцы, живут еще дальше, где-то под Манчестером, с ними я, в прошлом белый офицер-эмигрант, там, в русском посольстве, и познакомился.)
Затем, осенив широким крестом Молодых, я выражал искреннюю надежду, как бы только что привезенную из Англии, в том, что доченька, студентка второго курса медучилища, несмотря на замужество, все же успешно закончит учебное заведение. А сыночек (я добавлял от себя) не ударит в грязь лицом и достойно сдаст выпускные экзамены в Литинституте и уже в ближайшие годы своими бессмертными творениями войдет в золотую сокровищницу мировой литературы.
Закончив речь, я допивал боржоми, и – тут происходило чудо. Да-да, чудо! И всегда в одном и том же эпизоде: как только я допивал воду, но еще не успевал поставить фужер, кто-то (непонятно кто, но голосом точь-в-точь матушкиным) громко и весело сообщал: чёй-то питие горькое?!
О, что тут начиналось! Свадьба взрывалась дружным требованием, и жених, преодолев смущение, привлекал к себе невесту с таким волнением, что я невольно опускал глаза, чувствуя беспамятство его страсти.
Стараясь не мешать ему и все же не менее его взволнованный этими незабываемыми минутами, я доставал туго набитое купюрами портмоне и совершенно по-джентльменски просил от имени родителей передать невесте ее приданое.
Не буду рассказывать, как, сложенный на левую сторону, то есть кармашками с долларами наружу, из рук в руки плыл над головами увесистый заграничный бумажник. Я не смотрел на него. Было бы неприличным для интеллигентного русского, воспитанного в Англии, оберегать его цепким взглядом. Я и так внезапно обострившимся слухом, помимо воли, улавливал его прерывисто-волнообразную траекторию. И немудрено, при одном приближении кошеля веселый говор стихал, уступал место восхищенному молчанию.
Я не реагировал. Вновь доставал часы и, пользуясь своей почтенной медлительностью, словно маскхалатом, открывал их ровно в ту секунду, в какую невеста получала приданое. Попадание было архиважным, я не хотел видеть и не желал, чтобы другие видели, каким образом и куда Розочка спрячет бумажник. Мелодичный звон часов, как правило, отвлекал всех от этого пикантного действа.
Впрочем, не буду лукавить – не всегда все получалось в строгом соответствии с расчетом. Иногда вдруг (прошу прощения, но сбои происходят вдруг) посередине стола, а может, чуть дальше внезапно раздавался стесненно-сиплый, пронзающий тишину голос:
– Готов поспорить с кем угодно, там этих «джорджиков» тысяч на десять!
Как после этого было не растеряться, не выломиться из строго очерченных рамок?! «Джорджики»?! Какой ты англичанин, если приданое привез из Манчестера не в фунтах стерлингов, а в долларах?! В самом деле, при чем тут доллары?! Воистину все в чисто русском ключе – непобедимый на поле брани богатырь в конце концов заканчивает свой жизненный путь либо постригом в монахи, либо, поскользнувшись на ровном месте, разбивает голову о валун-камень.
А между тем, чувствуя себя голым королем, по собственному недомыслию разоблаченным, я принужден был продолжать игру – доставать часы, открывать инкрустированную крышечку, то есть по устоявшемуся сценарию владеть общим вниманием.
И я владел. Под мелодичный звон часов, не ожидая ничего, кроме осуждения и брезгливости, я вдруг (да-да, опять вдруг) награждался дружным ликованием. Да-да, ликованием застолья, оно непонятным образом объясняло мое родство с английской королевой, которое по скромности я якобы утаивал, но которое, слава Богу, благодаря баснословному приданому, весьма удачно для всех разъяснилось.
Это было так поразительно, так неправдоподобно, но я все равно был счастлив, воистину счастлив…
Глава 2
Возвращение в конуру всегда было тягостным, особенно после свадьбы. И вовсе не потому, что резче обычного бросались в глаза нищета и убогость обстановки. Виною были переживания, связанные с Розочкой. После встречи с нею одиночество и безысходность овладевали с такой силой, словно она ушла только что.
А обстановка, увы, даже нравилась.
Кухонный стол, он же письменный и он же хозяйственный – в некотором роде верстак для починки домашней утвари.
Над столом – уже известная лампа с чашечкой абажура, прикрученная проволокой к стояку батареи.
Кухонная табуретка, она же – рабочее кабинетное кресло.
Невероятной ширины спальная кровать без пружин – из-под матраса выглядывало довольно обширное поле теннисного стола, которое попутно служило оригинальной лавкой. (Во всяком случае, всякий, кто усаживался на нее, не обходился без комплимента: оригинально, очень оригинально-с!)
Сразу за входной дверью, в левом углу, – стопки книг и кипы рукописей, перетянутых и не перетянутых шпагатом, лежащих на полу развалами, прислоненными к боковой стене. Здесь же, поверх книг и рукописей, мое демисезонное пальто, напоминающее крылатку, пошитое в пору гайдаровских реформ из общежитского байкового одеяла и названное «семисезонным шоковым». (В самом деле, появляясь в нем на улице, я шокировал всех прохожих. Мало того, что останавливались как вкопанные, еще и растерянно провожали взглядом, точно какого-нибудь южноафриканского страуса.) Вместе с крылаткой лежала и другая одежда и одежонка. В общем, и ее, и книги, и всякие там рукописи я содержал как бы в шкафу, под аккуратно накинутой на них простынею.
Ничего другого из мебели не было, да и не могло быть. То есть когда-то было, но Розочка увезла. И правильно! Зачем мне холодильник, что в нем держать? Телевизор – опять вопрос, потому что и без него могу смотреть «До и после полуночи». Платяной шкаф тоже не нужен. А уж книжный – и подавно, отставшие и надорванные обои гораздо удобнее любого шкафа и любой этажерки. Я засовывал под них не только газеты, журналы и книги, но и всякие другие вещи, которые каждую минуту могли понадобиться. Для меня стало правилом: в быту – никаких излишеств. Итак, благодаря многоцелевому назначению предметов порой казалось, что роскошествую и в своем обиходе вполне бы мог обойтись меньшим. Тот же старинный утюг на рукописи, раскрытый, точно пасть крокодила. Судя по застарелым окуркам, карандашам и ручкам, торчащим из него, смело можно было заключить, что он многоцелевой: и тебе пресс-папье, и пепельница, и письменный прибор, и, конечно же, если доведется, грозное оружие самообороны. И это при всем при том, что хотя и редко, но все же случалось его использовать по назначению.
Словом, никакой нищеты и тем более убогости не чувствовал. Иногда, правда, уж очень хотелось есть. Кажется, так бы и закричал: е-есть, е-есть! Так бы и побежал куда глаза глядят в своей крылатке. Но я научился управлять собой. Еще будучи студентом, провел эксперимент – ровно тридцать дней жил практически на одной соленой воде. Я мог бы голодать и дольше, но слух обо мне настолько растревожил общежитие, что не стало житья от любопытствующих. Вместо занятий они набивались в комнату и раз за разом будили меня, чтобы удостовериться, помер я или нет. Сам руководитель нашего семинара посетил меня. Во мне обнаружились способности к внушению и самовнушению… Впрочем, это отдельная тема, а сейчас, изредка голодая, я получал с этого кое-какие дивиденды в виде «горячих щей и баранины с петрушкой», что помогало мне не падать духом и писать, писать свои стихи и пьесы. Я был уверен, что однажды общество заинтересуется: чего это он, взаперти, все пишет и пишет? Кстати, писать и верить – это основной принцип писателя.
. . . .
Первый сокрушительный удар по основному принципу нанесла Розочка – она ушла… Почему?! Ничего не сказала, не предупредила, приехала на грузовой машине с двумя горцами (мне потом рассказывали, хотя я и затыкал уши) и увезла все подчистую. (Оставила лишь стол, рукописи и книги, которые, очевидно в спешке, свалила за дверью.) Куда она уехала, зачем? Непостижимо! На столе была записка: «Не ищи – не найдешь, я сменила паспорт и фамилию».
Это было до того странным, до того непонятным – как так, просто взяла и сменила?! Для чего? Тем более что всего месяц назад на предложение судьи – «прежде чем решаться на шаг расторжения, следует хорошо подумать» – Розочка ответила за нас обоих: хорошо, подумаем.
И вот?! Непостижимо!..
. . . .
Возвратившись в свою конуру, я припоминал подробности нашей совместной жизни.
Студенческая свадьба в молодежном кафе. Мои успешные госэкзамены. Ее академический отпуск (через писательскую поликлинику я достал ей необходимое заключение врачей – после Чернобыля были подозрения). Веселый и шумный отъезд в нынешний провинциальный городок. Мое трудоустройство литконсультантом в областной комсомольско-молодежной газете. (Должность блатная, полученная мною по ходатайству Литинститута. Да-да, на меня возлагали надежды, но не буду отвлекаться.)
Мы получили комнату в общежитии телевизионного завода (пусть на конечной остановке автобуса, пусть не очень просторную, но светлую) – у нас появилась крыша. Как бы там ни было, а первое время мы жили великолепно. Конечно, моей зарплаты не хватало, но не зря говорится, что с милой рай и в шалаше. Тем более я писал тогда круглосуточно, и мы надеялись, что настанет день и мои пьесы пойдут сразу веером, на нескольких сценах. Однажды к нам приходил даже главреж местного драмтеатра, просил меня поправить пьесу одного маститого московского драматурга, которую он собирался ставить, но почему-то не поставил, хотя необходимые поправки я сделал и даже получил сто рублей – деньги по тем временам для нас неслыханные.
О, мы замечательно жили! Розочка целыми днями спала, а я писал и писал. Я верил. Я посвящал ей буквально все свои стихи и пьесы, и она находила их в некотором смысле гениальными. Потягиваясь, волшебно выгнув свою безукоризненную фигурку, она спрашивала:
– Есть ли у нас поесть?
Открывала дверку холодильника. Я чувствовал себя ужасно глупо, но она успокаивала:
– Нет хлеба единого, так что ж?..
Розочка намекала: не хлебом единым жив человек. Захлопнув дверку, брала с холодильника «Родопи», закуривала и опять ложилась в постель, готовая слушать мои стихи и отрывки из пьес. И я читал, на мой взгляд, наиболее удачные, поэтому нисколько не удивлялся, когда она вдруг, всплакнув, говорила:
– Ты знаешь, Митя, в некотором смысле это гениально, но я не заслуживаю, не заслуживаю от тебя даже корочки хлеба!
Я бежал по длинному коридору общежития в надежде занять у кого-нибудь хоть немного денег. Иногда этот процесс затягивался на целый день. Под видом неотложных дел (я вел литературное объединение раз в неделю) приходилось появляться в редакции и исподволь присматриваться к окружающим, чтобы неосторожным словом не вспугнуть беспечного кредитора.
Заняв крупную сумму (как правило, маленькую мне не одалживали), я исчезал в неизвестном направлении. То есть направление я обозначал в объявлении: «В связи с отъездом в командировку (работа в архиве) литобъединение переносится на последний четверг месяца».
Надо отметить, что мои частые отъезды в архив создали вокруг меня ореол весьма серьезного и умного литератора.
На самом деле быстрым и уверенным шагом я направлялся в ближайший продовольственный и закупал все необходимое, чтобы вместе с Розочкой отпраздновать мои в некотором смысле гениальные произведения. Понимая, что мне одолжили, быть может, в последний раз, – не скупился. Брал несколько бутылок водки и столько же – вермута (Розочка любила крепленые вина). Закуску выбирал тоже отменную и только потом уже вместе со всей этой снедью ехал домой радостный и счастливый, в предвкушении нашего царского пиршества.
О, как замечательно мы жили! Впоследствии, благодаря Розочкиной изобретательности, у нас почти не переводились деньги. Она подсказала мне одалживаться не в редакции, а у членов литературного объединения и долги не отдавать. То есть отдавать иным способом, так сказать, устным рецензированием, причем хвалить автора не в зависимости от литературных достоинств его произведений, а в зависимости от одолженной суммы. Поначалу это было ужасно, что-то наподобие квашеной капусты с трюфелями. Наверное, я бы никогда не преодолел себя, если бы не образ Розочки. К счастью, в особенно роковые минуты ее милое личико, полное укоризны, вдруг вставало перед глазами и как бы отгораживало меня от моей же собственной низости. Более того, когда приходилось брать в долг у безнадежного графомана, мной овладевало какое-то смешанное чувство садизма и мазохизма. Пряча деньги, я заговорщицки подмигивал кредитору и, панибратски похлопав по плечу, без обиняков рекомендовал его своей литературной элите:
– Присмотритесь, новый Лермонтов!
Относительно «элиты» я не оговорился, у меня так бойко пошло дело, что вскоре я заведовал самым именитым литобъединением в мире: новый Островский, новый Тютчев, новый Чехов, новый Блок… Каждый следующий «новый» определялся прежде всего по возрасту и полу, а потом уже по жанру представленных произведений. Среди поэтесс были не редкостью новая Ахматова, новая Цветаева, новая Вероника Тушнова, новая Сильва Капутикян. Когда литобъединение покинули все более-менее способные авторы, я совсем распоясался. Через старосту литактива, как одного из наиболее «безнадежных», внедрил в умы начинающих литераторов что-то в виде тарифной сетки. Если начинающий прозаик, допустим, одалживал мне половину своего месячного заработка, то он мог претендовать только на нового Герцена или Чернышевского. Если же отдавал всю зарплату, то тут я уже не сомневался, что передо мной собственной персоной либо Федор Михайлович Достоевский, либо сам граф Лев Николаевич. Не буду объяснять всех нюансов сетки, скажу лишь, что за точку отсчета брался семнадцатый век, а дальше расценки шли по нарастающей. По особенно крутому номиналу оценивались именитые писатели из ныне здравствующих.
– Пока они живы – их можно превзойти, – не раз в свое оправдание говаривал я тому или иному автору. Причем не делал исключений даже для нобелевских лауреатов. – Время у тебя есть, постараешься – превзойдешь, – нагло заявлял я, читая в глазах притязателя искреннее одобрение и даже признательность за свои слова.
В общем, мое предприятие пошло так гладко, что накануне критического анализа произведений начинающие авторы сами подходили ко мне и напрямую давали «в долг» в расчете на Есенина или Маяковского. Вначале я еще удивленно вскидывал брови, изображал на лице недоумение и даже оскорбление, но быстро понял, что без церемоний оно надежней. Единственное, что смущало, в связи с новыми политическими веяниями многие мои Белинские, Чернышевские, ранние Достоевские и Герцены кинулись в какие-то демонстрации, несанкционированные митинги протеста, экологические шествия. Чтобы удержать оставшихся литобъединенцев, я иронизировал над ушедшими, клеймил их дезертирами, попами-расстригами, предупреждал, что политика – камень на шее литературы, но все впустую, ряды кредиторов катастрофически редели.
Вновь началось безденежье, а с ним и вынужденный Великий пост, тем более ужасный, что мы уже вкусили сладостных греховных плодов. Чтобы не показывать свою беспомощность перед обстоятельствами, я опять писал. Писал день и ночь по-чеховски, в том смысле, пока не сломаю пальцы. Розочка стала искать работу, я не смел отговаривать, а только с еще большим рвением посвящал ей все мною написанное. В дни заседаний литкружка, не дождавшись ее, я оставлял ей записки, полные любви: «Милая Розочка, сто раз целую!», «Розочка, целую нежные кончики твоих пальцев!», «О, лучший аромат неба, целую-целую Тебя всю-всю!» Я писал свои записки крупно, на форматной лощеной бумаге и расклеивал по всей комнате. Всюду-всюду можно было наткнуться на мои записки: на стене, на экране телевизора, в платяном шкафу и даже в морозилке холодильника.
Однажды она вернулась особенно уставшей и бледной. Машинально открыла пустой холодильник. Как сейчас помню, оттуда выпорхнула моя записка: «О, лучший аромат неба, целую-целую Тебя всю-всю!» Не буду лгать, меня резанули кощунственность и беспросветность ситуации. Не зная, что сказать, я спросил, ела ли она. В ответ, едва не задохнувшись от негодования, она крикнула, что сыта по горло! И не раздеваясь легла на кровать, отвернувшись к стене.
В тот день Розочка потребовала развод и повела меня в нарсуд. Чувствуя себя виновным и оттого несчастным вдвойне, я был согласен на все. Именно с того дня, по ее настоянию, я стал называть ее Розарией Федоровной, а она меня – физическим лицом Слезкиным. Кроме того, Розочка строго-настрого запретила мне читать мои пьесы вслух и тем более ей.
В ту злополучную ночь я впервые спал в углу на своих рукописях. И самое странное, спал как убитый. Проснулся поздно, и не от какого-то там шума – от собственного смеха.
Перед самым пробуждением мне приснился уж очень веселый сон. Запомнилось, что я нахожусь на очередном заседании нашего литературного объединения, но вместо отпетых бездарей тесным кругом стоят выдающиеся писатели всех времен и народов (что-то схожее с собранием библиотеки мировой классики, так сказать, живьем). Вот Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев… Из иностранцев: Сервантес, Шекспир, Данте, Гёте… Больше, конечно, писателей, которых впервые вижу, но все они, подлинные знаменитости, стоят плечом к плечу и напоминают мне как бы кольца древесного круга. Я всматриваюсь в лица – Шолохов, Есенин, Шукшин и почему-то между Фолкнером и Хемингуэем – Горький. Ну, в общем, всё как во сне. А я, Митя Слезкин, в центре этого плотного многоярусного кольца: в черном цилиндре, байковой крылатке с тремя поперечными полосами по плечам (тогда ее у меня не было, а вот однако ж…), в лаковых туфлях на очень высоких каблуках и в руке у меня – батистовый платочек. Я приготовился петь частушки с приплясом и ищу глазами Михаила Афанасьевича Булгакова, который должен быть непременно с моноклем в правом глазу. Я ищу его в поддержку себе – плясать и петь частушки в столь серьезном кругу без поддержки как-то боязно. (Почему я был уверен в его поддержке, надеюсь, понятно?!*) И вот вместо Михаила Афанасьевича натыкаюсь взглядом на Льва Николаевича. Взгляд у него свирепый, глаза горят – бог Саваоф, а в руках – розги. Я на полуслове онемел, потому что знаю, что сейчас принародно за каждое неправильно употребленное мною слово получу сто розог. Всё – конец представлению!.. И вдруг догадываюсь, что собрание классиков всех времен и народов ненастоящее, что все они ряженные мною члены нашего литературного объединения. Радость тут охватила меня – великая. Как давай я петь, как давай отбивать каблуками, а частушки все с картинками и после каждого куплета – рефреном: «Я пришел экологом, а уйду пахеном. Ой-ли, ой-люли. А уйду пахеном!»
С этим на уме, смеясь, и проснулся. Проснулся и тут же все вспомнил. А вспомнив, аж похолодел от страха не хуже, чем перед розгами, – Господи, что за белиберда, что подумает Розочка?! К счастью, ее уже не было, она ушла искать работу.
Наскоро привел себя в порядок (я спал на рукописях одетым), отправился в редакцию.
Признаюсь, о завтраке я и не подумал, и не потому, что все равно ничего не было, дело в том, что в присутствии Розочки я не испытывал потребности в пище – никогда. В самом деле, вдумайтесь: Розочка и корка хлеба во рту – ужасно, невыносимо! Даже сейчас, когда я уже совершенно другой, нахожу, что тот Я или Он по большому счету был прав. Во всяком случае, его мысли и действия если не заслуживали оправданий, то хотя бы снисхождения. Разумеется, в присутствии Розочки мне приходилось есть, и бывало так, что несколько раз на дню, но это не было самоцелью, а случалось чаще всего невзначай, машинально. Другое дело – кормить Розочку или доставлять ей удовольствие тем, что сам что-то съешь; надеюсь, различие достаточно ощутимое.
В общем, я появился в редакции, чтобы занять денег. Мотивировка была прежней (в командировку – срочная работа в архиве). Я надеялся, и тому были основания (уже давненько не появлялся в редакции с утра), что мое появление никак не будет связываться с моим желанием у кого бы то ни было одолжиться. Но – ошибся. Не успел, как говорится, нарисоваться в дверях – ко мне быстрым шагом, как будто загодя поджидали, подошли два корреспондента из отдела комсомольской жизни и с таким видом, словно я самый богатый человек в СССР, попросили в долг по червонцу. «В крайнем случае, – настаивали они, – подскажи, кто при деньгах, перехватим у него». Конечно, они копировали меня, но самое неприятное, что обоих этих корреспондентов я знал как самых серьезных и состоятельных в редакции и именно у них рассчитывал одолжиться. Разумеется, таким способом мне устроили обструкцию. Я решил стоять насмерть. Впрочем, ничего другого и не оставалось.
Я сел за свой стол и первым делом написал объявление: «Деньги есть, но не одолжу из принципа». Я понимал, что теперь навсегда пресекаю редакционный источник. Но что было делать, еще оставался редактор газеты, и его как-то надо было дождаться (он, как правило, приходил в редакцию перед обедом).
Мои подозрения оправдались полностью. Только я успел написать свой письменный отказ и вытащил кипу рукописей якобы для чтения, ко мне один за другим стали подходить сотрудники с уже известной целью. Не произнося ни слова, я указывал на объявление, лежащее на краю стола. О, как внутренне я хохотал, наблюдая боковым зрением вытягивающиеся лица. Не знаю, как я догадался мгновенно сочинить «Деньги есть…», это было какое-то гениальное прозрение. Волею провидения я спутал карты – не меня унижали, а – я… Причем не надо было вступать в диалог, объясняться. Вопрос – ответ. Я ликовал. Но оказалось, преждевременно.
После того как все от меня отстали и все улеглось, успокоилось, вновь появились те двое из «Комсомольской жизни». Я полагал, что они сейчас начнут притворно упрекать меня, стыдить, канючить, мол, как же так, говорил, что денег нет, а у самого, оказывается… Ну и так далее… К такому повороту я был готов. Но нет.
Они подошли ко мне как бы впервые. Очень долго и молчаливо изучали объявление. Потом, не обращая на меня никакого внимания, словно я отсутствовал, стали обмениваться впечатлениями, говорить, что принципы надо уважать, а людей принципиальных – чтить и даже по возможности ублажать деньгами для какой-нибудь срочной работы в архиве или ресторане.
Намеки были слишком прозрачными, чтобы не понять… но все их ерничество меня не трогало, не вызывало обиды. Напротив, в какой-то степени забавляло, пока они не вытащили свои карманные деньги (хрустящие красненькие червонцы). Тут только почувствовал, что как бы проваливаюсь в пустоту. Корреспонденты затеяли своеобразное соревнование в щедрости. Дескать, ты мне можешь одолжить двадцать рублей, а я тебе – тридцать. Ты – сорок, а я – все сто.
Не знаю, как удалось выдержать. Это было больше, чем измывательство. Чтобы они не догадались о моих чувствах, неотрывно смотрел в рукопись. И-таки выдержал, они убрались, и я дождался редакто-ра!
Он заявился после обеда, в приподнятом настроении (собирался в отпуск), и принял меня сразу. И тоже весело так:
– Что, Митя, опять в командировку – срочная работа в архиве?!
Я ответил, что нет, не для того зашел – срочно нужны деньги. И посмотрел на него уж не знаю как, но веселость с его лица мигом слетела. Вначале он задумался, как будто внезапно вспомнил что-то свое, а потом как-то суетливо поднял трубку и при мне попросил бухгалтерию:
– Выдайте Мите Слезкину, – поправился, – выдайте поэту Слезкину треть его будущей зарплаты.
И чтобы там, на другом конце провода, никто не оспаривал его решения, как бы выбросил на кон козырного туза:
– У него срочная работа в архиве. Да-да, в Питере.
Уж не знаю, что прочитал редактор в моем взгляде, но только и в бухгалтерии ко мне отнеслись с пониманием и выдали не треть, а – уже по моей просьбе – половину зарплаты.
Как только получил деньги, все во мне так и запело, так и заприплясывало. Невольно остановился на лестничной площадке – какая-то знакомая мелодия, во всяком случае – припляс?! И вдруг вспомнил: во мне пелись с приплясом приснившиеся слова, повторяющиеся рефреном: «Я пришел экологом, а уйду пахеном. Ой-ли, ой-люли. А уйду пахеном!» Глупо? Конечно, глупо, но я, так же как и во сне, рассмеялся и почувствовал на душе такую необыкновенную легкость, словно в ту минуту там, на лестничной площадке, свалил с себя груз всех прежних и будущих унижений.
Глава 3
Розочка встретила великолепно. Положила пакеты со снедью на стол и позволила обнять себя. О Господи! В ответ каждая моя клеточка вскрикнула в восторге, нечленораздельно, но с такой истомленностью, словно мы не виделись тысячу лет. Я сжал ее в объятиях, прижался к ней и в какой-то сладостной муке уже членораздельно, с какими-то непонятными мне самому всхлипами пролепетал:
– Роз-зоч-ка!
– Ты что, плачешь? – строго, но все же больше удовлетворенно спросила она и откуда-то из-под меня протянула руку и потрогала мои глаза, чтобы удостовериться.
Не знаю, может, в самом деле всплакнул от избытка счастья, только сам я ничего не почувствовал, кроме нежной легкости ее пальчиков. А хотя бы и всплакнул, что тут такого?! Кажется, у Достоевского читал, что через великие страдания все к нам приходит, – вот и Розочка пришла. Впрочем, без Достоевского, по собственному опыту познал, что счастье – это как подарок душе уже за то, что она, душа, есть…
У Розочки душа удивительная, удивительная по понятливости – она всегда понимала меня лучше, чем я сам себя самого. А потому опять, как-то ловко сцепив руки замком, поднырнула под меня и, отстраняясь, уперлась ими в мою грудь с такой силой, словно коленом.
– Какая я тебе Роз-зоч-ка?! – сердясь, передразнила она и потребовала, чтобы я сейчас же отпустил ее.
Я отпустил, конечно, но мысленно все еще как бы прижимал к себе. Так бывает с песней – тронет душу, уже давно отзвучит, а отзвук все еще теплится в сердце. Так и здесь – отпустил, стою переполненный, в каком-то гипнотическом состоянии, даже боязно пошевелиться. И тут она огорошила как бы сковородкой:
– Что, товарищ Слезкин, маненько забылись, дали волю рукам?
То есть не огорошила, она ведь еще во дворике нарсуда предупредила, что отныне она для меня никакая не Розочка, а Розария Федоровна. И я для нее тоже не бог весть кто, а физическое лицо, посторонняя личность. В лучшем случае – товарищ Слезкин. Так что никакой «сковородки» с ее стороны не было, просто все сказанное ею в этот момент было в таком ужасном диссонансе с моими чувствами, что я как стоял, так и продолжал стоять, но уже без чувств.
Оправляясь и охорашиваясь от объятий, Розочка несколько раз внимательно посмотрела на меня, потом хохотнула, как умеет только она, прикрыв рот рукой.
– Повторяю: что, товарищ Слезкин, маненько забылись, дали волю рукам?
И засмеялась так весело, так заразительно, что и я наконец-то пришел в себя, тоже засмеялся, радуясь, что ей весело.
Мы вместе готовили ужин, баловались, бегали друг за другом на кухню, путали чужие сковородки со своей. И было даже интересно называть ее Розарией Федоровной и откликаться на Физическое Лицо или Постороннюю Личность, словно на некий внезапно пожалованный прокурорский чин или воинское звание.
В общем, постепенно я привык к нововведению. Единственное неудобство от ее затеи испытывал в постели. (Розочка снова разрешила спать с нею, но пригрозила: если хоть раз товарищ Слезкин забудется и неправильно назовет ее, то пусть пеняет на себя.) Даже во время самых интимных излияний, когда вот-вот потеряешь рассудок, она предупредительно, тычками в живот, извещала меня, чтобы держал себя в руках, не забывался и не распускал слюни. Как-то я сознательно пошел на хитрость. Зная, что после интимных излияний ей, так же как и мне, особенно приятно полежать просто так, созерцательно, без всяких мыслей, я пододвинулся к ней (она лежала на спине отдохновенно, в некотором забытьи) и с неподдельной нежностью, свойственной мне в такие минуты, прошептал: цветочек мой, Розочка! Она как лежала, так и продолжала лежать, только голову, не приподнимая даже от подушки, резко повернула ко мне и голосом ровным, холодным и внятным сказала:
– Что, Посторонняя Личность?
Даже сейчас, спустя два года, мне иногда слышится этот леденящий голос. Больше я не испытывал судьбу. В постели всегда молчал, а если случался разговор, то силой воображения я подменял Розочку на какую-нибудь отвлеченную Розарию Федоровну, для которой иначе как товарищем Слезкиным я и не существовал.
Как говорится, и здесь притерпелось. Тем более что в своих мыслях я был по-прежнему волен и по-прежнему Розочка оставалась для меня Розочкой, моим спасительным лучезарным цветочком. Кстати, как раз в это время она надоумила, каким гениально простым способом можно в кратчайшие сроки возродить наше захиревшее литобъединение. То есть пополнить его ряды, прямо говоря, новыми кредиторами.
. . . .
По ее наущению в присутствии старосты литкружка (по возрасту и бородатости он ходил в Львах Николаевичах) и его друга и помощника, который смело признался, что никогда ничего не писал, но по известной тарифной сетке честно отдал деньги, чтобы числиться у меня Николаем Алексеевичем Некрасовым, я прочел зажигательную речь, достойную тех, какие самому доводилось слушать в Литинституте от весьма и весьма известных мэтров отечественной литературы. Суть сводилась к тому, что написать одно хорошее произведение: рассказ, пьесу, повесть, роман, не говоря уже о стихотворении, – сможет любой, если захочет, главное – захотеть. А потому, объявил я, срочно приступаю к составлению коллективного сборника местных авторов. Всем членам литературного объединения гарантировал особые преимущества в публикации при условии, что каждый из присутствующих приведет на очередное заседание не менее трех новых членов.
У слушателей (их было двое: староста и его друг) возникло два неожиданных для меня вопроса. Первый касался особых преимуществ, его задал староста. Он сказал буквально следующее:
– В течение которого времени будет действовать введенная льгота? – И пояснил: – Можеть, из вновь прибывших найдутся такие, которые захотят тожеть привесть каких-нибудь своих трех товарищей, а те – своих.
Я поблагодарил за вопрос, он показался мне заслуживающим благодарности. И, перейдя на лексику старосты, объявил как о давно решенном, что введенная льгота будет действовать в течение месяца (заседание проходило в двадцатых числах июля).
Второй вопрос задал друг старосты. Он полюбопытствовал:
– В каком городе и за чей счет будет печататься коллективная книга или же она пройдет как госзаказ по печатному учреждению?
При всем косноязычии друга нельзя было не признать, что вопрос задан по существу, как говорится, не в бровь, а в глаз.
Мелькнула шальная мысль: а вдруг он в самом деле Николай Алексеевич, редактор «Современника», а затем «Отечественных записок»?! Тогда вполне логично, что и староста литкружка никакой не староста, а граф Лев Николаевич Толстой!..
Я с усилием отбросил шальную мысль и трясущимися руками стал шарить по карманам в поисках носового платка, который был нужен только для того, чтобы выиграть время для более-менее вразумительного ответа. Однако ни платка, ни ответа не находилось. Я стал затягивать время, умышленно вынимать из карманов всякие предметы и класть их на стол, за которым как раз и сидели мои умудренные жизнью классики.
Предметы были обычные: ключ от комнаты, коробка спичек, записная книжка, вчетверо сложенный лист стандартной бумаги с расписанием пригородных поездов и, наконец, диплом об окончании единственного в мире Литинститута, в котором черным по белому было написано, что Слезкин Дмитрий Юрьевич – литературный работник.
В свое оправдание скажу сразу, что диплом никогда не был для меня обычным предметом, я его постоянно носил с собою лишь потому, что в начале моей литературной деятельности в городе Н… меня никто не знал и меняющиеся вахтеры в ДВГ (Доме всех газет) по вечерам не давали мне ключи от родной редакции, в которой проходили наши литературные заседания. Диплом служил своеобразным удостоверением на право получения ключей, и я привык, что он всегда при мне. То есть я не рассчитывал, что дипломом отвечу на все так красноречиво, что на ближайшее будущее вообще закрою все вопросы и ответы.
Между тем мои умудренные жизнью классики с нескрываемым интересом разглядывали предметы, которые я извлекал. В их интересе угадывалось свойственное писателям и детям какое-то гипертрофированное любопытство. Чувствовалось, что каждому из них стоит больших усилий удерживать себя, чтобы не потрогать положенные на стол предметы. Наконец, когда на кучу-малу лег диплом, староста, словно самый настоящий граф, с величественной медлительностью приставил свою палку к соседнему стулу и, как бы прикрывшись от меня бровями, решительно взял диплом.
Уж не знаю, что тут виною – кустистость бровей, бородатость (или величественная отстраненность старосты: и от меня, и от своего совершенно лысого друга с удлиненной бородкой клинышком), – но мне опять стало казаться, что я нахожусь в обществе самых настоящих, всамделишных писателей, для которых не существует ни меня, ни их вопросов ко мне, а только мой диплом, явно их встревоживший. Я, как некая трансцендентная вещь в себе, присутствуя, отсутствовал и в то же время, отсутствуя, присутствовал. Мне как-то было не по себе оттого, что Лев Николаевич и Николай Алексеевич, несмотря на свои огромные литературные заслуги, не имеют такого, как у меня, диплома. Более того, в их красноречивых взглядах в мою сторону отчетливо читалось, что они завидуют мне и даже не пытаются скрыть своей зависти.
Это было прямо-таки умопомрачение или наваждение, а скорее и то и другое. Во всяком случае, я стал приходить в себя, только когда Лев Николаевич разгневанно стукнул батожком об пол и, стараясь снискать мое одобрение, начал стыдить и даже оскорблять Николая Алексеевича:
– Эх ты, залыга-сквалыга, за чей счет да в каком учреждении?! Да уж не за твой и не за счет рулетки твоих спонсеров… Москва напечатает, по госзаказу!
Он опять сердито стукнул батожком в сторону редактора знаменитого журнала и, внезапно смягчаясь, повернулся ко мне.
– Конфидицное письмецо от литературного работника – оно тожеть… Правильно я грю? – ласково спросил он, вставая.
Все еще зачарованный вниманием гения, ищущего у меня поддержки, я согласно кивнул.
Однако при всем уважении к великому писателю и даже преклонении перед ним мое воображение отказывалось представить, чтобы Лев Николаевич мог позволить себе (мягко говоря) подобную вольность в отношениях с редактором «Современника» (пусть даже в угоду мне, обладателю диплома, которому он искренне позавидовал). Тем более что редактором был не кто иной, как сам Николай Алексеевич, с которым он всегда был дружен и стихами которого не раз восхищался.
Чтобы окончательно рассеять морок окутавшего меня наваждения, я потер виски и тут же через настежь раскрытые двери редакции услышал удаляющееся постукивание палки и отчетливую перебранку моих мнимых классиков:
– Ох, напрасно, напрасно о женской доле смолчал!
– Дак она такая жеть, как и у мужиков.
– Не скажи – хлестче!
Некоторое время, точно маятник, палка отстукивала в шаркающей тишине. Потом вновь тот же тонкий, оправдывающийся голос:
– А насчет печати коллективной книги – я ить токмо по направлению мысли полюбопытствовал.
– Любопытству тожеть есть предел, – отрезал не столько низкий, сколько широкий по габаритам бас.
Опять шаркающая тишина и итог:
– У нас одно направление – привесть каждому по три новых члена.
Недовольный стук палкой усилился, но отчетливость голосов как-то враз стушевалась – наверное, свернули на лестничную площадку. Последнее, что услышал:
– Об остальном – не наше дело, пусть литературный работник покумекает…
Не знаю, сколько просидел перед своими карманными предметами. Помню, что поверх них, словно некий приветственный адрес в знак, безусловно, героических заслуг в литературе, лежал «вверх ногами» мой по-особому ненавистный в ту минуту диплом. Конечно, он меня выручил, спас, но где и какой ценою?! Да, я всегда гордился им, он, так сказать, вещественно подтверждал мою принадлежность к писателям, инженерам человеческих душ, численность которых даже в такой огромной стране, как наша, никогда не превышала численности Героев Советского Союза.
И вот я – пал, пал в собственных глазах с помощью диплома, которым всегда гордился. Я сидел опустошенный, чувствуя себя последним негодяем. О, если бы я мог чувствовать себя хотя бы спившимся, но Героем СССР, которому благодаря званию все же позволено без очереди сдавать пустые бутылки! Увы, я был героем другого порядка: молодым, неспившимся и, что еще хуже, действительно что-то понимающим в литературе. Мне не было оправданий, я – пал, пал, пал!!!
Вспомнилось, как любил, словно бы невзначай, щегольнуть перед своими слушателями соотношением численности писателей и Героев. Да-да, изощренно-тонким намеком я всегда давал понять, что раз писателей меньше, то они выше. Потом, чтобы продемонстрировать во всей полноте писательское великодушие и уважение к Героям, спускался с высот и напрямую объявлял, что литература – это поле боя, на котором ты, ничтоже сумняшеся, либо падешь, как бесславная жертва, либо, совершив подвиг, удостоишься после смерти признания и памятника.
Здесь, как правило, делал внушительную паузу, дожидаясь вопроса: «Почему обязательно после смерти?» И никогда не ошибался – вопрос задавался неукоснительно. Я опять взмывал: вперивался в потолок, непременно простирая руку вверх, вослед сардоническому взгляду, и, совсем как наш руководитель семинара поэзии в Литинституте (не буду оглашать его имени, чтобы не подумали, что хвастаюсь), не отвечал, а ответствовал, как бы перед самим Богом, – уж так испокон повелось на Руси, чтобы тебя признали, надо прежде обязательно помереть.
Не скрою, реакция слушателей чаще всего была гробовой, то есть ни звука, ни шороха. А лишь мои шаги взад-вперед. Остановка. Я сам иногда в потрясении застывал, проникаясь несправедливостью запоздалого признания.
Что делать – Русский Бог более всех знает меру таланта, отпущенного каждому из нас, а потому и сурово взыскует. Уже только на нашей памяти так случилось с Шукшиным, Высоцким, а теперь мы… Я никогда не говорил – «туда же». Я говорил: «А теперь мы занимаемся литературой». Но в глазах моих великовозрастных товарищей по перу сквозил неподдельный страх, и он лучше всяких слов глаголил: «Да-да – туда же!..»
Я был тщеславен и беспощаден, но избегал низости. И вот – финал. Финиш. Я, как никто другой, чувствовал в ту минуту всю непререкаемую мудрость пословицы: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Буду я зело та-ак ославлен своими «долговыми поборами», что пасть бесславной жертвой сейчас, сию секунду, было бы для меня великим счастьем и даже спасением.
Я ухватился за край стола – рои мыслей, чувств словно сорвались со смягчающих пружин.
Минутная слабость, надо пересилить… И тут, словно в насмешку над сонмом чувств, приводя мои мысли в какой-то новый, необычный порядок, в темя размеренно постучали: «Пусть по-ку-ме-ка-ет, пусть…» Да-да, я узнал стук батожка. Он разрастался, множился, пока, содрогаясь, я не выдавил ему в ответ: «Поку-мекам». С кем согласился, что пообещал – непонятно! Но в голове прояснилось и как бы отпечаталось – прежде всего следует разобраться с дипломом литературного работника (главным виновником моего падения), а потом уже – и с самим работником. Да-да, я решил порвать, растоптать, уничтожить диплом. И – покончить с собой, как говорится, наложить на себя руки.
Распираемый ненавистью, в нетерпении двумя руками схватил злополучные корочки, словно они могли ускользнуть, и вдруг под руками отчетливо звякнул ключ. Ключ от общежития, от нашей с Розочкой комнаты. Я замер – ключ, ключик, родничок! Животворная радостная струя, наполняя меня, смывала всю горечь, позор, страхи. Воистину ключом – да по голове! Воистину клин вышибается клином!
Спрятав диплом во внутренний карман пиджака, в невольном порыве прижал его рукой к сердцу и засмеялся, представляя, как весело будет Розочке оттого, что выполнил ее поручение, точнее, что выполнилось оно само с помощью замечательного диплома.
Я летел домой как на крыльях.
О Господи, заклинаю всех-всех горемык и горемычек: никогда не отворачивайтесь от жизни, не падайте духом, не поддавайтесь настроению – жизнь прекрасна!
Уже в автобусе, вспоминая свое отчаяние, внезапно хихикнул, чем развеселил девчонок, очевидно абитуриенток «культпросвета», гурьбой стоявших на задней площадке. Они поначалу смеялись сдержанно, прячась друг за дружку. Зато, выходя возле «Палас-отеля», так дали волю чувствам, что и я рассмеялся и, гримасничая, как обезьяна, помахал им в окно. Во мне окрепла уверенность, что Розочка ждет меня не дождется, чтобы обрадовать какими-то своими удивительными подарками.
Глава 4
Предчувствия не обманули. Розочка встретила на лестничной площадке: разговаривала с молодым человеком, который при моем появлении резко повернулся ко мне спиной и так глупо стоял лицом к стене, пока мы не ушли. Я хотел спросить Розочку, кто он, но она отвлекла, сообщив, что устроилась в «Палас-отель» медсестрой и теперь будет работать по скользящему графику так, что иногда – в ночь. В честь события устроили праздничный ужин, и все-все было великолепно. Я рассказал о литобъединении, и Розочка была просто в восторге, что я поставил условием участия в коллективном сборнике непременное наличие новых членов литобъединения. Да-да, наличие! (Ее слово.)
Тут же, взяв ручку, она подсчитала, что в течение месяца количество «литобъединенцев» возрастет ровно на сто пятьдесят человек. (Цифра показалась невероятной даже для нее.)
– Если брать в долг по рублю, и то получается сто пятьдесят. На тридцать рублей больше оклада, потому что без всяких вычетов!
Розочка впервые посмотрела на меня так продолжительно и с таким восхищением, словно я был не я, а какой-нибудь всамделишный претендент на Нобелевскую премию.
– Теперь, Митя, ты сможешь жить без Розарии Федоровны, – вдруг, погрустнев, сказала она.
Мое имя в ее устах, как в прежние безоблачные времена, до того растрогало, что я невольно всхлипнул. Ей пришлось утешать меня и даже накричать, что выпил лишку, а то бы догадался: она имела в виду, что теперь у нее тоже будет свой заработок, и больше ничего.
Сейчас, два года спустя, понимаю: Розочка уже тогда приняла трудное решение и просто проговорилась. Как бы там ни было, а с позиций сегодняшнего дня не устаю восхищаться ее гениальностью. По сути, все ее установки по литобъединению есть не что иное, как свободный рынок, который она предвосхитила задолго до гайдаровских реформ.
В общем, Розочка меня успокоила и настояла, чтобы я немедленно отказался от тарифной сетки. Она убедила, что обсуждение произведений в том первоначальном виде утратило былую актуальность. Она предложила для каждого члена литобъединения разовый взнос в количестве семи рублей. Так сказать, на технические расходы: бумагу, перепечатку рукописей, редактирование… Помнится, я возразил – «дешево!» – но она выставила свой резон:
– Зато деньги соберешь сразу. Мало – много лучше, чем много. Кроме того, у большинства твоих литераторов еще ничего не написано. А потом месяца через три-четыре, когда некоторые начнут теребить: как идет работа над книгой? – всегда можно сказать о денежных затруднениях, о внезапном подорожании технических услуг. Вот увидишь, – сказала Розочка, – никто не пикнет, пока сам не объяснишься, а ты не торопись – жди.
И еще, научила она, чтобы ни в коем случае не брал взносов со старосты и его помощника. Напротив, потребовала, чтобы, как только у меня появятся деньги, сейчас же им вернул все, что когда-то брал в долг. Но если будут отказываться – не настаивал, не перегибал палку, чтобы не подумали, что вместо них уже подыскал новых помощников.
Результат превзошел самые смелые ожидания. От собрания к собранию количество членов литобъединения все прибывало и прибывало. И даже более чем в геометрической прогрессии. В один из августовских дней меня встретил на крыльце в ДВГ наш редактор молодежной газеты, только что вернувшийся из отпуска.
– Слушай, – сказал он, хватаясь за голову, – неужели все они что-то пишут?!
– Пытаются, – уклончиво ответил я. – А в чем дело?
– Послушай, о чем они толкуют?! Их так много, и ни одного знакомого лица!
Он сунул мне в руки ключ от актового зала, заметив, что под мою персональную ответственность (после ремонта кресла были обтянуты красным дефицитным велюром). И, все еще находясь под впечатлением увиденного, точно в бреду, пробормотал:
– Конец света, конец!..
Он сбежал с крыльца и, не оглядываясь, что-то бормоча себе под нос, свернул за угол.
Поведение редактора насторожило. Поначалу я здорово испугался. Его вопрос: неужели все они что-то пишут? – застал меня врасплох. У меня даже мороз пошел по коже: я уловил в вопросе изобличительные нотки полнейшего неверия в литературные способности людей, собравшихся на очередное заседание. Мне это показалось подозрительным.
Я тихо прошел коридорный тамбур и, придерживая тугую дверь, чтобы не привлекать внимания дребезжащим хлопаньем, вошел в вестибюль. Мое появление осталось незамеченным, и немудрено – стена из пиджаков, фуфаек, френчей какого-то общесерого поношенного цвета, под которыми угадывались пожилые, большей частью действительно согбенные, натруженные спины, заполняла пространство вестибюля настолько плотно, что я сразу почувствовал себя у двери как бы оттесненным толпой. Если бы не редактор, ни за что бы не догадался, что это мои начинающие литераторы. Подумал бы: в ДВГ проходит какой-то расширенный слет рабселькоров, они вывалили из актового зала на перерыв покурить и, судя по тому, что стянулись в обособленные группы, продолжают дискутировать на строго заданные газетой темы.
Особенно громко и горячо спорил у своего начальнического стола под лестницей дежуривший вахтер-пенсионер Фатей Никодимыч (зимой и летом в валенках с галошами). Он так разошелся, топая ногами, что не только я, а многие (это улавливалось по отчетливо стихшему вокруг говору) начали прислушиваться к нему, стараясь вникнуть в предмет спора.
– А я еще раз говорю, – зычным голосом настаивал Фатей Никодимыч. – Простая пензия выше – сто тридцать два рублика, а персоналка – всего сто шесть, даже сто четыре!..
– Ну дак там льготы, – вмешалось несколько голосов.
– А я об чем? – обиженно спросил сразу все общество Фатей Никодимыч и примирительно заключил: – В том-то и дело – льготы, а он ерепенится.
Кто ерепенился, я не видел из-за спин, да и не пытался увидеть. Возобновившийся дружный гул голосов не оставлял сомнений: тема дискуссии теперь у всех общая и по-настоящему животрепещущая.
Меня бросало то в жар, то в холод. Я понимал, что как-то надо овладеть ситуацией и начать заседание, и не представлял, каким образом.
Я опять выскользнул за дверь и вышел на крыльцо, чтобы освежиться. Солнце было еще высоко, но в пасмурности дня уже накапливалась предвечерняя дымка. Вокруг было тихо, тепло, просторно. И до того вдруг захотелось уйти куда-нибудь от этих согбенных литераторов… ну хотя бы на древний городской вал, что я невольно шаг за шагом стал спускаться с крыльца. Наверное, так бы и ушел, если бы не тополь – неожиданно ласково залопотал листьями и уронил на лицо несколько случайных капель. Он словно бы загодя оплакивал меня, Митю Слезкина. Я резко повернулся на сто восемьдесят градусов и, словно мои шаги с крыльца, лопотание тополя, случайные капли, все-все строго входило в мой план предстоящих действий, решительно направился внутрь здания.
На этот раз умышленно сильно хлопнул дверью. Даже немного не рассчитал и едва не наскочил на какого-то пожилого дядьку (дверь на скорости догнала меня и буквально втолкнула в вестибюль). Мне казалось, главное – обратить на себя внимание, а дальше уже не составит труда увлечь за собою литературные дарования. Тем не менее почти никто не заметил моего шумного появления. То есть на меня оглянулся дядька, его собеседники тоже посмотрели, но как-то невнимательно, как на назойливую муху.
Никогда в жизни я не чувствовал себя столь посторонним и никому не нужным. И где?! Среди членов своего родного литературного объединения. Теперь я был подавлен не хуже редактора газеты: «О чем они говорят?! Конец света, конец!..»
И опять выручила Розочка. Стоило мне на какое-то мгновение мысленно воззвать к ней, стараясь представить, как бы она поступила в данной ситуации, и в следующую секунду я уже точно знал, что надо делать. Более того, как говорится, на все сто… не сомневался в успехе.
– Това-арищи, ай-ай-ай, – тонко и звонко возопил я, словно вот только что натолкнулся на что-то из ряда вон. – И это инженеры человеческих душ?! Вопиюще, вопиюще!.. – продолжал я нагнетать обстановку всеобщего дискомфорта.
Почувствовав, что гул голосов ослабел и меня заметили, я смело ринулся в самую гущу литобъединенцев. Продираясь к лестнице, не жалел локтей, бесцеремонно расталкивая всех подряд.
– Кто позволил, кто разрешил?! – громко негодовал я, набрасываясь на спины, точно разъяренный тигр. – Не курить, не сорить, слышите!.. – возмутился с такой страстью, словно курение и сорение были издавна моими злейшими личными врагами. – Слышите – не курить!.. – захлебываясь в гневе, повторил я и на секунду оторопело застыл, полностью исчерпав запретительный запас слов.
– Кто это? – услышал я за спиной.
– Наш руководитель… гегемон, начальник…
Судить не берусь, как стала бы развиваться ситуация, если бы толпа не расступилась. Но она расступилась, обнаружив в конце живого коридора нашего вахтера Фатея Никодимыча.
Он стоял по стойке «смирно», насколько позволяли возраст и сугубо пенсионерское обмундирование: меховая поддевка, темные суконные штаны и знаменитые валенки в галошах. Весь его вид выражал виновность, поэтому мне не составляло никакого труда сымпровизировать.
– Не ожидал, никак не ожидал от вас, Фатей Никодимыч, что вы позволите курить прямо на вашем посту, – строго, точно партсекретарь, сказал я и, увидев, как конфузливо заулыбался старик, смягчаясь, подытожил: – Да и то верно, взрослые – сами должны понимать.
– Вина тут, конечно, моя, всяких здесь повидал, но чтоб такие интересные люди и сразу в таком большом количестве – впервые, вот и не устоял, разрешил, пусть, думаю, маленько подымят, – повинился Фатей Никодимыч.
– Интересные-то интересные, – польщенно согласился я, – но посмотрите, как насмолили, хоть топор вешай!
Я засмеялся, и вслед засмеялся Фатей Никодимыч, а уже за ним облегченно и все остальные (слава Богу, руководитель, гегемон… простил нарушение – инцидент исчерпан).
Руководитель, гегемон?! Я, Митя Слезкин, руководитель-гегемон – весьма важное умозаключение литобъединенцев, чтобы им не воспользоваться. И я воспользовался. Не отходя от начальнического стола под лестницей, поручил Фатею Никодимычу открыть актовый зал. Заметив в толпе трех прежних членов литкружка (двух Горьких и одного Маяковского), подозвал их к себе, приказав пролетарским писателям стоять у двери (следить за порядком), а Маяковскому (человеку с морщинистым лицом, маленькому и юркому, о таких говорят: метр с кепкой) дал указание разыскать старосту литактива и его друга.
Мой авторитет руководителя рос буквально на глазах; отдавая по-военному четкие распоряжения, я чувствовал себя действительно гегемоном. Особенное уважение у окружающих вызвало мое указание Маяковскому, который, обладая редкостным басом, так зычно рыкнул в толпу фамилии нужных людей, что толпа, охнув, тут же исторгла их. Впрочем, и Лев Николаевич, и его друг Николай Алексеевич уже давно сами пробивались ко мне, и горлан-агитатор всего лишь придал им сил устоять в людском потоке, хлынувшем в актовый зал.
В тот вечер я не сделал ни одной ошибки, ни одного сбоя. Мне казалось, что я участвую в каком-то грандиозном шоу, в котором играю главную роль не то председателя правления альтернативного Союза писателей, не то главы никому не известной политической партии, установившей связи с масонской ложей для проведения особо секретных акций в глубинке. Во всяком случае, моя речь хотя была и краткой, но достаточно насыщенной подстрочным смыслом. Постучав карандашом по графину (в президиуме вместе со мной сидели староста литобъединения, его друг, два Горьких и один Маяковский), я сказал дословно следующее:
«Товарищи начинающие литераторы, возможно, среди вас сидят, сами того не ведая, будущие Достоевские, Толстые, Тургеневы, Лесковы, Гончаровы, Чеховы, Аксаковы и Гоголи. Да-да, давайте помечтаем! Я даже допускаю здесь будущего Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина, Кольцова, Тютчева и Ивана Алексеевича Бунина. Короче – и Сашу Черного, и Андрея Белого, всех-всех допускаю. Может быть, среди вас найдутся и Омары Хайямы, и Назымы Хикметы, и Хафизы из Шираза – все может быть, надо посмотреть, обсудить и лучшее издать в коллективном сборнике. Главное – не зазнавайтесь, помните, в толще народа сокрыт такой талант, против которого все мы даже не пигмеи, а пигмейчики. Однако недооценивать себя тоже нельзя. Для литературы не важно, во сколько лет вы пришли в нее, гораздо важнее, с чем пришли, ибо опыт каждого бесценен. А теперь подумайте над названием коллективного сборника.
По второму организационному вопросу выступит староста литобъединения, творчество которого уже обсуждалось и единогласно было принято, что он, наш староста, как бы наш Лев Николаевич Толстой. Так что прошу любить и жаловать…
И еще, товарищи, потише – чем раньше начнем, тем раньше закончим».
Мое нахальное предположение, что в зале, возможно, сидят классики мировой литературы, как я и ожидал, вызвало веселое оживление. Тем не менее нахальство было не только апробированным, но и оправданным. Да, я шел и вел собрание, что называется, по лезвию бритвы. Но осечки быть не могло, она исключалась самой сутью тщеславия начинающих литераторов, которое ничуть не ниже, а много выше, чем у заканчивающих. К тому же узкий кругозор всегда дает человеку широкие перспективы. И не надо забывать, что любому лестно, когда в нем заранее предполагают что-то схожее с тем или иным великим писателем. Даже чисто внешнее сходство и то льстит, а я ставил задачей коллективного сборника отыскать сходство профессиональное, через произведения моих литераторов. Если же признать, что огорчаться вторичностью было бы слишком пикантно для моих дарований (а это так), то и вовсе станет понятным, почему я нисколько не рисковал в своем нахальстве. Кроме того, я дал повод каждому обнаруживать друг в друге физическое сходство не с актерами (что у нас сплошь и рядом), а с писателями. Согласитесь, исподволь даже здесь возникает четко профессиональная ориентация подспудных мыслей. И все это литератору-новичку за каких-то семь рублей взноса на технические расходы по изданию коллективного сборника.
(Кстати, то есть совсем некстати, сумму взноса староста назвал в своем выступлении «разовым оброком». Вначале я хотел поправить его, указать на неуместность сравнения, но под одобрительный гул зала вовремя передумал – пусть будет оброк, какая разница?!)
И еще о моей безошибочности. Когда из президиума спустились в зал мои помощники (с одной стороны – староста и его друг, а с другой – Маяковский и два Горьких), чтобы собрать деньги и попутно составить списки новых членов литобъединения, я сам слышал и наблюдал со сцены, как мой Маяковский, догоняя какого-то припадающего на ногу литератора (ретиво покидавшего зал, не уплатив оброка), добродушно рыкал:
– Постой-постой, Байрон, лордов сын, давай-давай, не жмись, вытаскивай свои подкожные трешки!..
Глава 5
Заседание литобъединения длилось около четырех часов. Никто не хотел расходиться. Пока мои приближённые орудовали в партере, я, восседая возле графина, записывал конкурсные названия для будущего сборника. Они сыпались на меня как из рога изобилия. Любой другой руководитель на моем месте запросто бы поскользнулся, выдал себя чрезмерным либо неприятием, либо приятием предложений. Я же сразу предупредил, что все названия будут строго проголосовываться на следующем заседании и только из десяти лучших выберем (по жребию) единственное и окончательное.
Такие названия, как «Живые родники», «…ключи», «…истоки», «…корни», «…реки», «…протоки», «Восход солнца» или «Закат…», «Звезды на небе», «…над Землей», «…над крышей», «…над нами», «Огни над городом», «…над чистым полем» и опять «…над нами», «…над крышей» и так далее, я писал почти машинально, не отрывая руки от листа. Но иногда среди этих знакомых до боли, до оскомины в зубах названий вдруг возникало нечто, что останавливало руку, заставляло призадуматься и даже объясниться. Например – «Звезды-то неземные».
– Почему же «Звезды-то», а не просто «Звезды»? – неосторожно переспросил я.
И сейчас же получил исчерпывающее «разъяснение». Автор как-то сверху вниз улыбнулся и, растолковывая мне, неучу, указательно в потолок вперил руку и повторил с глубокомысленными паузами: «Звезды – то – неземные».
– То есть вы хотите сказать – «То – звезды неземные»?
– Да, – ответил автор. – Смысл угадали, но слова попрошу разместить в прежнем порядке – «Звезды – то – неземные».
Надеюсь, теперь понятно, как трудно было не поскользнуться. А ведь еще были названия «Книга книг», «Ванька – встань-ка!», «По Сеньке – шапка» и множество других, которые, мягко говоря, вызывали не только недоумение, но и опасение. Слава Богу, приведенные выше названия авторы почему-то сами решили «разъяснить» (их слово).
«Книга книг» – тут имелась в виду претензия на будущую всеохватность включенных в нее сочинений, грандиозных по замыслу и исполнению, призванных заменить целые библиотеки. Автор сказал, что ему очень понравилась моя наводящая речь, особенно слова: «Однако недооценивать себя тоже нельзя». Он, в прошлом заводской художник, вызвался написать эти запоминающиеся слова на красной материи (кумаче) и вывесить над сценой здесь, в актовом зале.
«Книга книг», сказал автор, будет хорошим подспорьем для лозунга, а лозунг, который он согласен написать всего за семь рублей, – для книги.
Далее он стал объяснять, что по заводским расценкам ему платили по трешке за слово, а тут еще материя, которую предоставит бесплатно.
Первою была мысль: издевательство или розыгрыш?! Второю: мы, все литобъединение, уже сошли с ума или сходим?! Третья мысль явилась как защитная: ничего не принимай всерьез – только как информацию, только как информацию… В голове заело, как иголку на заезженной пластинке. Не знаю, чем лично для меня закончилось бы осмысление предложенного названия и лозунга, если бы не вмешательство зала.
Вначале зал негодующе загудел, потом разразился злобно-ехидными репликами с мест: «Это что – натурпродукт?! Давай еще предложи оброк – квашеной капустой или солеными огурцами! Ишь, умник – „Книга книг“, а сам какую материю подсовывает?! Художник и ханыга-сквалыга – это одно и то же, вот что пусть запишет в своей голове!.. Предлагаю „Книгу книг“ и заводского художника исключить из литкружка!..»
– То-ва-ри-щи! – вмешался я, постучав по графину. – Не забывайте, что писатели всегда были гуманистами. Название «Книга книг» очень ответственное, но оно войдет в конкурс на общих основаниях, еще будет время отклонить его при обсуждении. А исключать товарища за предложение натурпродукта – нехорошо. Ну предложил человек из благих намерений сапоги всмятку, ну и что, с кем не бывает?
Особенно хорошо подействовали на зал «сапоги всмятку», они были восприняты как адекватная мера, на корню зарубившая и «натурпродукт», и «Книгу книг».
Другое дело – название «Ванька – встань-ка!», которое я записал так, как если бы записывал название знаменитой игрушки, то есть через дефис. Увы, я не понял основного замысла, а уловил лишь тонкий намек, потому что, как объяснил автор:
– Главное в этом названии – нас, как Ванек, редакторы не пускают, валят с ног, гнобят, а мы своими нестандартными произведениями как бы тычками вбок: Ванька, вставай! Нечего разлеживаться – опять гнобят!
По одобрительному гулу собрания, по которому я настраивался, как по камертону, понял, что разъяснение понравилось моим литераторам и «Ванька – встань-ка!» при обсуждении наверняка войдет в десятку лучших названий. То же самое произошло и с названием «По Сеньке – шапка».
– Всякий, кто возьмет книгу, подумает: что-то плохое в ней, недостойное. По Сеньке в кавычках подумает, от пословицы прикинет, но для нас-то это хорошо, на плохое большинство людей азартней клюет. Зато потом, когда прочитает книгу, скажет: «О, вот оно в чем дело, шапка-то на Сеньке не простая, а из драгметалла, вся в изумрудах. Да и сам Сенька каков?! Ему палец в рот не клади… Да-а, по-умному, мозговито все здесь представлено».
– Что-то вроде… «По Сенеке – шапка», – подсказал я.
Автор одернул меня:
– Еще раз повторяю для всех глухих, – обидчиво повысив голос, сказал он. – По Сеньке, по Сеньке – шапка!
Разъяснение было принято безоговорочно, единственное – внесли корректив: книга хотя и одна, авторов-то много, неувязка получится. Решили, что точнее было бы назвать ее во множественном числе – «По Сенькам – шапки». Но тут, наученный непониманием и стычкой по «неземным звездам», заартачился я, отказался исправлять название.
– Авторство – святое дело! – сказал я, подняв вверх указательный палец.
Не знаю, чем объяснить, но с удивительной быстротой я перенимал и усваивал не только лексику, но и глубокомысленные жесты своих подопечных.
– Авторство есть интеллектуальная собственность, которая во всех цивилизованных странах охраняется законом как патентованное изобретение. Только автор, только он имеет право на корректировку своего детища, в данном случае – оригинального названия, – строго сказал я.
После моих слов автор вначале застеснялся, а потом возгордился так, что литобъединенцам пришлось немало поусердствовать, чтобы он согласился откорректировать название. Наконец из зала крикнули, что уломали собственника, что он согласен, пусть будет «По Сенькам – шапки». Я сделал вид, что не поверил услышанному. Тогда поднялся сам автор и, конфузясь и извиняясь, подтвердил, что можно записать во множественном числе, потому что его уже обзывают «проклятым частным собственником» и угрожают, мол, ему нечего делать в коллективной книге.
– Ну что ж, по-своему они правы, – заключил я и объявил, что записал «По Сенькам – шапки».
В ответ в партере радостно загомонили, кое-где даже раздались победные аплодисменты.
В общем, заседание литобъединения проходило настолько живо, что никто, в том числе и я, не замечал времени. Полный контакт зала и президиума не нарушался, даже когда мои помощники, орудующие в партере, вынужденно отвлекали меня: поднимались на сцену с раздутыми от денег карманами и отдавали выручку, что называется, из кармана в карман.
Дело в том, что подкожные рубли, трешки, пятерки (десяток, двадцатипяток, пятидесяток и тем более сторублевок, разумеется, не было) по своим физическим свойствам сильно отличаются от нормальных денег. Для уяснения отличия сложите любой казначейский билет так, чтобы он был величиною с ноготь. Затем вставьте этот билет в брючный «пистончик» для карманных часов или под внутреннюю стельку туфли, потом через месяц, а то и два вытащите его и разверните. Перед вами во всей своей форме, а точнее, бесформенности предстанет подкожная единица.
Какие-то лохмато-раздутые, пузырящиеся и шевелящиеся, как живые, они настолько сильно поражали воображение, что даже мои видавшие виды литераторы, впервые узрев их в большом количестве, были потрясены настолько, что на какое-то время оцепенели.
Виновником этого стал староста, точнее – его щепетильность. Когда в первый раз, важно постукивая палкой, он поднялся на сцену и, чтобы ни у кого не было сомнений в его честности, демонстративно положил на стол подкожные деньги, пухлая пачка, которую он вот только что держал в руке, повела себя на столе как-то не так, ненормально. То есть на глазах превратилась в шевелящуюся кучу, которая, пузырясь, расползалась во все стороны. Причем не только общей массой, но и отдельными, обгоняющими друг друга ассигнациями.
– Смотри-ка, как гусеницы прямо, – подивился староста, а из очнувшегося зала кто-то крикнул в сердцах:
– Господи, да хватайте же их, вон уже под столом ползают!
Человек десять вскочили с первого ряда, подбежали к сцене, но староста остановил их.
– Стъять! – властно отрубил он и, отбросив палку, кинулся ничком на стол.
Он обеими руками подгребал под себя расползающиеся купюры, и это было ужасное зрелище. Потому что деньги продолжали шевелиться в его взъерошенной бороде, и казалось, что он их жует.
Я бросился под стол, и вовремя. Несколько подкожных трешек, подталкивая друг дружку, наползали на рампу, а одна со стайкой «рваных», словно с утятами, пересекла заднюю часть сцены, норовя ускользнуть за кулисы.
После этого нервного случая никто не выказывал неудовольствия тем, что приходилось изредка прерываться для приема денег. Напротив, слушатели сами напряженно затихали, а чаще подсказывали, как надо действовать, чтобы избежать новой оплошности. В особенности их подсказки пригодились, когда все карманы пиджака и брюк были туго набиты и я растерялся, не зная, куда девать поступающие деньги.
– Давайте у вахтера возьмем наволочку, – услужливо предложили из зала.
– Наволочка – неплохо, но уж больно заметно с нею показываться на людях, – низким, придавливающим басом рассудительно возразил Маяковский.
Он стоял на сцене рядом со мной и воочию видел – надо что-то делать, неровен час, подкожные деньги сами начнут вылезать из карманов.
– Тогда за пазуху.
Видя, что я почему-то не решаюсь, меня стали подбадривать из зала:
– А что, за пазуху – лучше всего… Пиджаком прижмется, и никто не догадается…
– А на манжеты рубашки надо лигатуры наложить, – заботливо посоветовал друг старосты, мой Николай Алексеевич.
Специальный термин, означающий нить перевязки кровеносных сосудов, озадачил не только меня. Слушатели заинтересовались:
– Это что такое – лигатура?
К вящему удовольствию Николая Алексеевича, попутно выяснилось, что он, в недавнем прошлом ветеринарный фельдшер, выхолащивая кабанчиков, наложил столько лигатур за свою жизнь, что просто не счесть.
Словом, у Николая Алексеевича нашелся клубочек шелковых ниток, и мне на манжеты и на всякий случай на носки, в кои были заправлены брюки, он действительно мастерски наложил свои лигатуры. Удивительно, но в его лигатурах, точнее, в рисунке нити подготавливаемого узла весьма четко просматривались буквы «Н» и «А». Николай Алексеевич (на всякий случай) и галстук мне подтянул.
– Пуговица – отлетит, а галстук – удержит, – прозорливо объяснил он свое действо.
Я возвращался домой, окруженный вниманием и почетом. Меня провожали на автобусную остановку едва ли не все литобъединенцы. Мы условились, что следующее заседание проведем в последнюю среду месяца, двадцать восьмого августа. Но засиживаться, как нынче, не будем, проголосуем конкурсные названия – и по домам. Двадцать восьмого августа большой церковный праздник – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и многие из моих слушателей изъявили желание побыть в такой вечер дома, в кругу семьи, среди внуков.
Я не возражал, настроение было отличным, мне и самому теперь хотелось побольше и подольше побыть дома, с Розочкой.
Глава 6
В автобусе я сидел в углу, и мне никто не мешал предаваться радужным мечтам. Подкожные деньги тоже не беспокоили. Зато когда я сошел с автобуса и ходьбой невольно расшевелил их, то меня до того раздуло, что возле магазина на меня стали оглядываться, а несколько молодых людей (стояли кружком – разговаривали) стали друг друга спрашивать обо мне так громко, чтобы я услышал:
– Откуда он взялся?! Куда пошел этот матрас?!
Я поспешно скрылся в подворотне и стал пробираться к общежитию, минуя натоптанные тропки. В самом деле, я себя чувствовал как бы внутри соломенного матраса. Деньги до того разволновались и под рубашкой, и в брюках, что я просто вынужден был расстегнуть пиджак и приподнять руки. Не знаю, каким чудищем я выглядел со стороны, но точно помню, что ощущал себя какой-то хищной птицей наподобие рассерженного коршуна.
В общежитие проник незамеченным (к счастью, задняя дверь была незаперта). На площадке нашего этажа опять встретился загадочный молодой человек, который почему-то взял за правило при встрече обязательно отворачиваться от меня, становиться лицом к стене. Он и на этот раз отвернулся и стоял как истукан, пока я не вошел в коридор. Потом я услышал быстрый-быстрый стук каблуков, он словно скатывался по лестнице. «Странный, весьма странный тип», – подумал я о нем и где-то в глубине души порадовался его правилу – мое подобие хищной птице осталось при мне.
В коридоре было темно и пустынно. Я включил свет. Неоновые лампочки в большинстве отсутствовали, а те, что светили, исчезающе вспыхивали, словно от встряхивания. В их обманчивом свете любой человек, идущий по коридору, воспринимался прыгающим кенгуру – либо большим, либо маленьким. Все другие внешние отличия утрачивались. Я потому и включил неоны, что лучшую светомаскировку вряд ли можно было придумать. Но и она полностью не исключала распознавания. Слух у жильцов настолько обострился, что все мы узнавали друг друга по шагу, покашливанию и другим звуковым приметам.
Когда шел по бесконечному коридору, позади меня по обе стороны открывались двери и слышались перешептывания, глохшие в шаркании моих штанин, – уточняли, я это, литератор Митя, или не я. Меня несколько удивило столь единодушное любопытство, но я отнес его на соломенный шорох шагов, который все же был непривычным для их обостренного слуха.
Дверь в нашу комнату была распахнута настежь.
– Розочка… Розария Федоровна, – позвал я, представляя, как она выбежит и, быть может, бросится мне на шею (ее действия всегда были непредсказуемы).
Ответом было эхо, коротко отскочившее от голых стен. Я подумал, что спутал комнату: ни книжного шкафа, ни телевизора, ни холодильника, ни шифоньера, ни стульев даже – ничего. «Лишь стол и книги, и те у двери, как бы в насмешку, свалили на пол с бельем каким-то вперемешку. Ушла хозяйка – зачем интриги? Ушла хозяйка…» – писал я когда-то в одной из своих студенческих пьес. Теперь слова эти вдруг вспомнились с такой отчетливостью, что вздрогнул, боясь поверить в их пророческий смысл.
Я выбежал в коридор, чтобы удостовериться, – глянул на номер на двери, но еще прежде по обилию скачущих ко мне «сумчатых» понял: пророчество свершилось, это была наша, наша с Розочкой, комната, и она была пуста.
Я стоял и ждал. То есть ничего и никого не ждал, а стоял потому, что чувствовал какую-то болезненную размягченность во всем теле, особенно в коленях. И еще чувствовал подташнивание и какое-то обморочное головокружение. Я стоял, потому что боялся, что, сделав шаг, сползу по стене на пол и буду сидеть у пустой комнаты в коридоре и это будет смешно. Мне не хотелось быть смешным. Вдруг поразился меткости сравнения – ватные ноги. Тот, кто первым сказал о слабости в коленях и ватных ногах, безусловно, был гением. И еще припомнился педагог из Литинститута, утверждавший, что пророческие слова обладают магнетизмом – притягивают жизнь, и она уже совершается по Слову. Господи, как мне хотелось тогда писать пророческие стихи, указывать самой жизни, как ей надо правильно эволюционировать. Скажу откровенно, я всегда сомневался, что смогу написать что-то подобное. И вот написал, накликал беду на свою голову. В ту минуту я готов был отдать все свои настоящие и будущие пророчества и в придачу все пророчества мира только за то, чтобы Розочка была со мною, а случившееся предстало не более чем сном или каким-то нелепым, вполне исправимым недоразумением.
Между тем жильцы приблизились, но не вплотную, остановились на расстоянии, перекрыв коридор живой стеной, точно плотиной. Наш пятый этаж числился у комендантши семейным, хотя в нем проживало довольно много холостяков, в основном разведенных. Они стояли в первом ряду, и именно они, когда я покачнулся в их сторону, разом откачнулись от меня и разом же стали рассказывать, как все произошло и происходило. В их восклицаниях, репликах, оценках, полных неподдельного сочувствия, я не улавливал никакого сочувствия. Напротив, чем больше они сокрушались, припоминая, как она, стерва, сидела в углу на стуле, а четыре кавказца с Петькой Ряскиным, неумытые носороги, пробегали с мебелью по коридору, тем наглядней проскальзывала их какая-то неудовлетворенная зависть к этим неумытым.
– В пять минут, гады, растащили комнату. А она потом, стерва, поднялась со стульчика и так вместе со стульчиком и ушла за ними.
– Она не стерва, она моя жена! – крикнул я неожиданно тонким, сорвавшимся на фальцет голосом и ладонями закрыл уши.
Честно говоря, я уже никого не видел и не слышал, я даже не понимал, зачем стою и как будто выслушиваю и вглядываюсь в дергающиеся лица жильцов. Ничего подобного. В обманчивом свете неона никого в отдельности я не узнавал. Жильцы слились для меня в какое-то многоликое существо, которое во всем соглашалось со мной, и хотя я теперь молчал, все равно мое общение с ним как будто ни на секунду не прерывалось. Это было так странно чувствовать и понимать, что я отнял ладони. Существо действительно соглашалось со мной, и теперь в его голосе преобладали женские нотки.
– Так-так, комендантша сказала, что Розочка его законная жена и раз она решила свезти совместно нажитые вещи – никто ей не указ. Потом через суд супруги сами разберутся. Ему же, Слезкину, она хоть сейчас согласна выдать комплект белья и все, что полагается. У нее только кроватей приличных нет, а все остальное – пусть спустится к кастелянше и получает.
– А кто такой Ряскин? – спросил я.
Мне почему-то подумалось – уж не тот ли это молодой человек, который взял за правило при встрече со мной отворачиваться? (Так и есть, без всякой подготовки – в яблочко.) Оказывается, Петька Ряскин когда-то жил в общежитии, а перед самым моим появлением принес от Розочки записку, которую положил на стол.
Господи, вот оно в чем дело! Не помня себя, я вбежал в комнату и трясущимися от нетерпения руками стал шарить по столу. Потом догадался включить настольную лампу. Записка была вставлена в утюг. Ее уже известное содержание: «Не ищи – не найдешь, я сменила паспорт и фамилию», помнится, поразило меня настолько, что я никак не мог взять в толк, для чего она сменила паспорт и фамилию. Когда же смысл прояснился, я до того вдруг устал, что как стоял посреди комнаты, так посреди комнаты и лег на спину. Тут только я вспомнил о подкожных деньгах – лежать на них было мягко, действительно как на соломенном матрасе. Единственное, что вносило дискомфорт и даже раздражало, – присутствие многоликого существа, которое обло, огромно, стозевно втиснулось следом за мной в комнату и, несмотря на мои молчаливые протесты, продолжало общение на каком-то подсознательном уровне. Во всяком случае, я безошибочно знал, что существо прежде меня досконально ознакомилось с запиской и ждет от меня какого-то важного, но сугубо конкретного решения. Именно ожиданием объяснялась его заботливость, с какою были доставлены в комнату кровать, столешница теннисного стола, матрас, одеяло, чистое постельное белье и даже четыре граненых стакана на кухонной табуретке.
Я улыбнулся, точнее, внутри меня улыбнулась моя боль, еще точнее – душа, вдруг уставшая от непосильных трудов, которыми она надеялась возместить потерю Розочки. Непонятно?! Смешно?! «…О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами…» «…О, лебедиво! О, озари!» Не знаю, понял бы меня в эту минуту Велимир Хлебников или нет, но я как дважды два понял его так называемые заумные стихи, которые прежде считал для себя недоступными. «…Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило Лицо».
Я улыбнулся, но ничто не выказало моей улыбки, как лежал, как бы в матрасовке с деньгами, так и продолжал лежать, закинув руки за голову. Я остекленело смотрел в потолок, а многоликое существо уже не просто общалось, а увещевало и уславливалось, какое именно мое решение было бы для нас обоих наиболее приемлемым.
Что-то, замаскированное в белье, металлически звякнуло и твердо стукнуло, аккуратно поставленное в угол, за развал книг. Потом дзынькнули стаканы. «Четыре стакана, четыре цветочка. В любви интригана синильная строчка». «Ну уж этому своему пророчеству ни за какие шиши не позволю указывать самой жизни», – возмущенно подумал я и резко поднялся на ноги.
Верхняя пуговица на сорочке, как и предвидел ветфельдшер, отскочила и, стукнувшись об пол, подпрыгивая, простучала, точно дробинка.
– Уматывайте, все уматывайте и забирайте свои стаканы, – сердито сказал я и невольно по-коршунски приподнял руки, словно крылья.
Многоликое существо распалось на три вполне знакомые личности, которых все женщины нашего общежития, в том числе и Розочка, иначе и не называли, как алкашами с телевизионного завода.
Один из них, по кличке Двуносый, довольно тщедушной наружности, но с длинным-предлинным носом на весьма маленьком лице, в отличие от своих товарищей, был разведенным трижды. О нем ходила веселая молва, что столько же раз он стрелялся на глазах у своих бывших жен. Высказывалось подозрение, что стрелялся он холостыми патронами. Однако его поступки так часто приводили всех в замешательство, что его не то чтобы побаивались – не хотели с ним связываться. Двуносый знал об этом и умело этим пользовался как дополнительным преимуществом. Кстати, и разговаривал он как-то ненормально. Уставится птичьим носом между глаз, а потом при каждом слове так отдергивает голову, что кажется – он не разговаривает, а долбит собеседника по лбу.
На мое требование «уматывать» он, приотстав от своих товарищей, кисло-кисло сморщился, отчего нос еще больше выдвинулся вперед.
– Эх ты, мы пришли с сочувствием, – отстучал Двуносый, подергивая головой. – Думали, ты человек, а ты – Митя! Что будешь делать без нас? – неожиданно спросил он, словно мы были давними друзьями.
– Писать, – соврал я.
– Завещание?! Давай-давай, я бы на ее месте такого Митю давно бросил, – зло уколол Двуносый, переступая порожек.
– А тебе-то что?!
– А то, что мы с сочувствием к тебе. Я, можно сказать, для твоего блага кое-что припрятал в углу за дверью, а ты – уматывайте. Не по-людски – стопку водочки, вот что сейчас нужно для пользы дела! – совсем уже ласково подытожил он и так звучно щелкнул по кадыку, который выделялся на горле, подобно носу на лице, что товарищи его, точно на условный сигнал, поспешили вернуться.
Отстегнул я им каждому по трешке не из какого-то там благородства или других высоких побуждений, просто сунул руку во внутренний карман пиджака и, зная нрав подкожных денег, взял маленькой щепотью, но, когда вынул, на поверке оказался букет из трешек. Я бы и из пятерок не пожалел, лишь бы отстали. И они отстали. Молча переглянулись и, ошарашенные, обгоняя друг друга, поскакали по коридору действительно как кенгуру.
Захлопнув дверь на щеколду, наконец-то остался один, но, оставшись, не знал, что делать. Точно затравленный зверь в клетке, бегал по комнате из угла в угол, не замечая, что бегаю. В меня словно вселился бес. Десятки самых фантастических идей в мгновение ока рождались в мозгу и так же в мгновение исчезали, уступая место другим, еще более фантастическим. Я бегал по комнате как бы в погоне за воображаемыми химерами. Наконец споткнулся и упал. От досады пришел в такую ярость, что стал колотиться головой об пол, не чувствуя ни боли, ни смысла, ничего – только ярость. Потом, наверное, впал в беспамятство и уснул. Когда же пришел в себя, припомнилось увещевание Двуносого, что для моего блага он что-то припрятал за дверью, и еще – мое лживое обещание писать.
Преодолевая разбитость, встал, поднял опрокинутую табуретку и только потом уже сдернул скомканную грязную простыню. Так называемым благом была двустволка двенадцатого калибра. Точь-в-точь с такою я ходил на охоту в девятом и десятом классах. Поначалу мама боялась, переживала, а потом даже гордилась – как-никак, а сын ходит на охоту с отцовским ружьем. Отца я помнил только по фотографиям, он умер от скоротечной чахотки, так говорила мама. А еще она говорила, что отец сочинял частушки и так задорно исполнял их под гармошку, что его часто приглашали на районные смотры художественной самодеятельности. Он и на фотографиях всегда сидел с гармошкой, а я – у мамы на руках. Наверное, отец был большим неумехой, мама иногда упрекала меня, что весь в него – безрукий. Мне нестерпимо стало жаль маму, забытую всеми под Барнаулом. Всю жизнь она одна и одна… И я тоже неизвестно где. По Розочкиной милости мы скрыли адрес и пересылали ей письма через Литинститут. Мы надеялись, что накопим денег и опять как-то вернемся в Москву, может быть, я поступлю в аспирантуру. «Хорош сын», – с горечью подумал я о себе и, сдвинув на цевье стопорную кнопку, переломил ружье.
Из стволов выглянули золотистые донышки патронов, я вытащил их и, взвесив на ладони, почувствовал убойную тяжесть заряженной картечи. Положив патроны в утюг и вернув ствол на место, долго сидел возле стола, опершись на ружье.
Мне привиделось: наше село, синие дали, мама, моя работа подпаском, самодельные свирели из ивы, украшенные узорными насечками, солнце, трава, речка, моя первая охота со взрослыми, и вдруг я ощутил как бы толчок в сердце – стихи. То есть не стихи, а предчувствие, еще не стихов даже, а только их возможности. Меня словно поднимало изнутри, ясно и отчетливо виделось все и во всех направлениях.
Когда поставил ружье в угол, точно знал, что сейчас напишу стихотворение. Более того, уже чувствовал стихотворение в себе, нужно было лишь извлечь его через те единственные слова, которые предстояло отыскать в памяти и в правильном порядке записать на чистом листе или белых манжетах – все равно.
Мне известно, что предела совершенству нет. Любой драгоценный камень поддается шлифовке и огранке, но согласитесь – чтобы получить бриллиант, надо по меньшей мере иметь алмаз, который прежде еще надо найти и извлечь из недр. У меня и в мыслях нет оправдывать или преувеличивать литературное значение чьих бы то ни было творений, в том числе и своих. Что есть – то есть, а чего нет – того и считать нельзя. Можно быть Фётом, Фетом, но еще прежде надо быть Шеншиным.
Последнюю строфу дописывал по инерции. Во мне уже ворочалось другое, главное стихотворение, дыхание которого, даже отдаленное, бросало меня в озноб, заставляло трепетать, словно пламя свечи. Не вставая из-за стола, не прерываясь, стал записывать с лету.
Глава 7
Внезапный стук в дверь потряс меня. Я вскочил, толком не соображая, что произошло. Властно-требовательный, он ворвался в комнату, словно бы взломав потолок. Меня удивило, что лампочка цела и стены целые – ни одной зияющей трещины. Пока я осматривался, не понимая, в чем дело, стук повторился. На этот раз он не был ни громким, ни властным, ни тем более требовательным. Обыкновенный полночный стук, в некотором роде даже извиняющийся.
Стучала соседка. Когда открыл, действительно извинилась, попросила, чтобы отдал двустволку. Я беспрекословно отдал. Заранее настроенная на отказ, полная решимости во что бы то ни стало завладеть ружьем, она даже испугалась легкости, с какой оно досталось ей. Потерянно спросила:
– Заряженное?
Я ответил, что разрядил, и, чтобы она не сомневалась, сходил за патронами.
– Ну вот еще, нужны они мне. – Она заметно повеселела. – Конечно, Двуносый и вся его шайка – подлецы! А ты, Митя, молодец, а твоя – стерва! Ты уж, Митя, не обижайся, я – по-простому, – сказала соседка и, двумя руками поддерживая ружье под мышкой (стволом назад), легко и быстро пошла к себе.
Захлопнув дверь, подошел к столу с намерением продолжить работу – писать. Увы, не хотелось. Чеховское ружье, всегда стреляющее на сцене, не выстрелило. Его унесли, и вместе с ним словно бы унесли вдохновение.
Но все же главное стихотворение написано, особенно последняя строка, в которой, как ни крути, ты согласился, что лучше б не было ее, Розочки. Ты и соседке не возразил, несмотря на прямое оскорбление. У тебя даже косвенной мысли не возникло – возразить.
Странное резюме…
Я попытался восстать, воспротивиться своему неожиданному заключению, но не смог. И себя, и Розочку я воспринимал не по-настоящему, точно литературных персонажей какой-то уж очень заурядной пьесы. Я ходил по комнате и все более и более убеждался, что ружье Двуносого все же выстрелило и хотел я того или не хотел, но своим главным стихотворением я наповал уложил – и себя, и Розочку.
Как хорошо было бы заплакать, зарыдать, но ничто не проникало в сердце – мертвое, пустое пространство. Точно отмороженный, оглядел и опробовал новое ложе (воспроизвел на нем в некотором роде танец живота). Огромное и достаточно устойчивое, оно не напоминало о сокровенном времяпрепровождении с Розочкой. Единственное, что подумалось, – будь подобная кровать раньше, возможно, мне не пришлось бы спать на рукописях.
Вдруг почувствовал, что все мое тело зудит, – деньги! Растревоженные танцем живота, они вновь зашевелились. Представив себя в роли рассерженного коршуна, весело рассмеялся. Жильцы принимали меня за рассерженную птицу не из-за денег, а в убеждении, что любой станет таким, если от него уйдет жена. Мне сделалось до того смешно, что я вынужден был кусать руку, чтобы прекратить смех.
Потом, выворачивая карманы, стал вытаскивать деньги и бросать их под ноги. Вскоре пол возле кровати превратился как бы в капустную грядку, на которой рост кочанов происходил наоборот. То есть, как в замедленной киносъемке, кочаны разбухали, разделялись на листья, а листья, отпадая, расползались, превращая свободное пространство пола в живой ковер.
Когда разделся до трусов и уже выбирал из одежды последние пресмыкающиеся купюры, в дверь постучали. По голосам, призывающим вести себя потише, понял, что наведался Двуносый сотоварищи. Они окликали меня, предлагали уважить, то есть вместе пропустить по стопочке, а между тем, оценивая мое молчание, вполголоса обсуждали: застрелился я или нет? И если застрелился – выбивать дверь или оставить все как есть до утра? Сошлись, что лучше – до утра. Уже собрались уйти, и тут Двуносый высказал предположение:
– А вдруг он ранетый, как-нибудь выбил глаз и истекает кровью?
За дверью заволновались, вновь принялись окликать меня, стучаться. Я почувствовал, что вот-вот начнут вышибать дверь, громко кашлянул и голосом возмущенно-плачущим потребовал (мне и в самом деле стало жаль себя, раненного, истекающего кровью), чтобы все немедленно убирались прочь, не мешали сосредоточиться на серьезном деле.
– Митя, мы поняли, – за всех поспешно ответил Двуносый. И, припав губами к замочной скважине, голосом, полным сочувствия, внятно утешил: – Не переживай, Митя, мы с тобой.
Они искренне желали, чтобы я побыстрее сосредоточился, и, как истинные доброхоты, удалились на цыпочках.
Я тоже, словно лицедей «асисяя», отошел от двери на цыпочках. Я не знал, плакать мне или смеяться. Волею обстоятельств я попал в некое братство разведенных, своеобразный профессиональный кружок, и они вправе были ожидать от меня какой-то великой жертвы. Безусловно, самоубийством я бы создал им ореол великомучеников и, в пору беспросветного безденежья, со словами «Надо помянуть бедного Митю» они, не стесняясь, раскошелили бы любую женщину из общежития. Меня только смущало – не потому ли они столь навязчиво настойчивы, что «соображать на троих» всегда удобнее, и, может быть, они жаждут освободиться от меня, чтобы не принимать в свою устоявшуюся «партячейку»?! Подлецы! Форменные… Соседка права – шайка подлецов!
Я взял со стола утюг, сел на пол и, пользуясь им как пресс-папье, стал считать деньги. Поначалу считал безо всякого смысла, тут же забывал, что имел в виду: сумму или количество купюр. Потом догадался разложить купюры по номиналу: рубли, трешки, пятерки. Но и здесь путался и ошибался. В одном из рассказов Андрей Платонов замечает, что даже для несложной работы человеку необходимо внутреннее счастье. Счастья не было, я считал деньги, забавляясь мыслью, что считаю их в то время, когда от меня ушла жена и в одной из комнат в противоположном конце коридора сидят мои доброхоты и захрумкивают огурцами живописные картины, в которых я отправляю себя на тот свет. Я представлял, как они спорят, держат пари на бутылку, каким образом я застрелюсь: направлю стволы в молодое сердце (Двуносый способен на подробности) или зажму зубами и вдрызг разнесу черепушку? Давайте-давайте, мысленно подбадривал я их и, сладостно улыбаясь, продолжал считать деньги. И хотя тут же сбивался, забывал сумму, считал в удовольствие. Это был мой ответ Чемберлену.
Во второй раз «партячейка» подкралась почти бесшумно. Но я засек ее еще на подходе, потому что ждал, потому что в план моих предстоящих действий входило не пропустить момент.
Я взял утюг и осторожно встал у двери. Доброхоты долго молчали, прислушивались. Очевидно, и у них был план. Наш поединок длился несколько минут. Наконец, переминаясь с ноги на ногу, кто-то из них не выдержал напряжения, нерасчетливо громко пукнул. На него зашикали. Виновник, уяснив, что уже ничего не исправишь, чтобы хоть как-то реабилитироваться, крикнул:
– Митька, сдавайся, это мы здесь – мы!
Почему сдаваться – бог весть! Впрочем, для меня не играло роли, каким образом они себя обнаружат. Главным было, чтобы обнаружили.
– О-о-о! – застонал я, словно лишившись зуба. – Опять помешали! – вскричал отчаянно и для пущей трагичности со всего маху трахнул утюгом о дверь.
В мой план входило, что удар утюгом будет воспринят как удар прикладом, но я не рассчитывал, что, раскрывшись, утюг клацнет, словно взведенное к бою ружье. Счастливая случайность – «разведенцы» дружно бежали.
Они бежали по коридору, и слышно было, как, громыхая, падали ведра и открывались двери, и слышались уже знакомые ругательства, что пора кончать с этой пьяной шайкой подлецов марионеток. Почему марионеток? Для меня всегда было загадкой. Что-то помимо воли восставало – только вот этого не надо!..
Оставшись один, впервые не чувствовал протеста. «Подлецы марионетки», и я в том числе, даже в большей степени – я, а потом уже они, казалось в ту минуту сверхточным определением, более того, надземно точным. В самом деле, все мои действия похожи на действия куклы, механизм которой вне ее посягательств. Единственное, что мне остается, чтобы чувствовать свободу воли, – убедительно объяснять свои поступки. К сожалению, объяснения никогда не убедят Того или Ту Силу, которая испокон держит в своей руце все наши ниточки. Ну хотя бы потому, что вначале дерганье за ниточку, а потом уже наша «глубокомысленность».
Я погрозил кулаком в потолок и, в сердцах плюнув, сел считать деньги. К чему грозить, если заранее знаешь, что махать кулаками вослед глупо.
Шум в коридоре так же внезапно, как и возник, стих. Я считал деньги, зная, что больше ко мне никто не наведается, по крайней мере в эту ночь. Считалось легко и просто, словно всю сознательную жизнь только тем и занимался, что в ночи считал деньги: перематывал их белыми нитками и пачками складывал в утюг. На оборотной стороне листа, на котором было написано главное стихотворение, производил арифметический подсчет, не догадываясь, конечно, на чем подсчитываю. Трешек насчитал на сумму четыреста восемь рублей, пятерок – триста тридцать пять, а «рваных» – триста семь рублей. Когда все суммы подбил, невольно отбросил лист. Общая сумма взносов литобъединенцев, с вычетом девяти рублей, безвозмездно отданных шайке мерзавцев, составляла ровно тысячу пятьдесят рублей, то есть была гениально предсказана Розочкой. Поистине судьбоносный факт, подтверждающий, что мы – куклы, а наша жизнь – не более чем театр марионеток.
Потрясенный, медленно встал из-за стола, включил свет. Как бы там ни было, а отныне и навсегда я точно знал, что Розочка во много раз выше меня – выше! Во всяком случае, смысл провидческого совпадения лучше всяких слов убеждал – не в пример мне, она ближе к Создателю, ближе!
Вновь захотелось заплакать, и я почувствовал, что заплачу. По старой привычке бухнулся ничком на кровать и так сильно треснулся лицом о столешницу теннисного стола, что невольно застонал не столько от боли, сколько от обиды. Мог бы подстраховаться локтями – мог бы?! «Знал бы, где упадешь…» Желание поплакать в подушку, которую нащупал далеко в стороне, теперь отозвалось досадой. Ничего не хотелось – ничего. С закрытыми глазами заполз на матрас, лег на спину и словно провалился в пустоту.
Наутро проснулся с распухшим лицом. На наволочке виднелись следы засохшей крови. Наступил новый безрадостный день, но как-то надо было жить. В умывальной, разглядывая себя, не мог отделаться от ощущения, что тот, в зеркале, не просто не хочет смотреть в мою сторону, а именно воротит морду. Слегка искривленный одутловатостью нос, вздувшийся на лбу синяк и набрякшие губы придавали лицу выражение какой-то устойчивой брезгливости. Странная гримаса?! Наверное, даже заочная приписка к кружку разведенных неминуемо сказывается на лице обязательным сходством маркировки. Своеобразная печать, штамп – и в паспорте, и на физиономии. Особенно удивительно – что на физиономии. Кажется, весь вечер только тем и занимался, что избегал «разведенцев», а на поверку – на лице те же, что и у них, «достопримечательности». Мелькнула соблазнительная мысль плюнуть на все и запить сотоварищи.
Представил, как вхожу с бутылкой, а вся «партячейка» уже в сборе – ждут. Наконец первая, самая страшная стопка побеждена. Исковерканные лица проясняются, разглаживаются, начинается пьяное братание с поцелуями и непременным проливанием вина и рассола на стол, брюки и даже постель. Окурки и обгорелые спички рассыпаны по полу, мы друг друга за ноги оттаскиваем от стола, лица бесчувственно смешиваются с закуской, и кто-то неприкаянный, поднявшись по стене, горько плачет о своей доле покинутого и так сильно бьет себя кулаком в грудь, что в конце концов падает навзничь и, тараня стол, вместе с ним опрокидывается в горячечное безмолвие.
С позывами отвращения перевернулось все внутри. Глянул в зеркало, а оттуда – рожа с брезгливой гримасой нахально уставилась: глаза в глаза, не скрывала, что участвовала в моих представлениях.
Вспомнил о деньгах и сразу заспешил, заторопился. Не то чтобы поставил целью – деньгами соблазнить Розочку, нет, я искренне считал, что все деньги, во всяком случае большая часть, принадлежат ей. Повод передать их по назначению показался мне настолько серьезным, что перевесил сомнения, вызванные Розочкиной запиской. Я решил сходить в «Палас-отель».
В «Палас-отеле» никто ничего не знал о медсестре Розе Федоровне Слезкиной, работающей по скользящему графику. Более того, «скользящий график» до того удивил главного администратора (женщину средних лет), что она не стала перепоручать меня сотрудникам, а вместе со мной поднялась к заместителю директора, ведающему кадрами. Однако и зам ничего не знал о Розочке. А «скользящий график» вызвал у него загадочную улыбку, словно я намекал на что-то непристойное. Они с администраторшей понимающе переглянулись, и она высказала предположение, что, может быть, я ищу одну из тех «девочек», которые по вызову предлагают свои «услуги»?
– Какие услуги? – не понял я.
Вмешался заместитель директора:
– Молодой человек, если вас интересуют девицы легкого поведения – вы ошиблись адресом, обращайтесь в милицию. У нас Слезкина не работает и никогда не работала. Скользящий график – придумают же!
Он осуждающе усмехнулся и стал разговаривать с администраторшей о своих гостиничных делах, словно я уже ушел или превратился в пустое место.
Меня, конечно, задела за живое лощено-холёная усмешка зама, но еще больше – предположение, что мою жену надо искать среди девиц легкого поведения. Разумеется, рассудили по моей физиономии… «Сам виноват, навожу тень на плетень», – подумал я и решил, что идти в милицию не нужно, Розочка не одобрит.
В тот день, пятнадцатого августа, я обошел все гостиницы города, даже в обкомовской побывал – бесполезно. Никто ничего не знал о медсестре Розе Федоровне Слезкиной. Наученный опытом, о ее скользящем графике не упоминал.
В общежитии состоялся нелицеприятный разговор с Двуносым и со всей его шайкой. Я пообещал отдать ружье только в том случае, если получу адрес Петьки Ряскина, того странного типа, что взял за правило при встрече со мной отворачиваться.
– Имейте в виду, вы меня еще не знаете, – предупредил я. – Теперь мне нечего терять.
Вечером, забрав ружье, сказал соседке, что продам его. Она с радостью вернула, но высказала опасение, что на почве ревности бывают ужасные случаи, – а вдруг Розочка вернется, намотает соплей на кулак и прибежит?!
Меня нисколько не оскорбили ни подозрение, ни грубость. Напротив, сама того не сознавая, соседка убедила меня в том, в чем никогда бы не убедила, если бы поставила целью убедить, – я вдруг поверил, что Розочка вернется и все у нас будет как прежде, надо всего лишь ни при каких обстоятельствах не менять адреса и ждать, всегда быть готовым к встрече. И еще – писать и писать. Страдания закаляют душу, а работа – лучшая крепость, в которой можно и должно укрываться от всех невзгод.
Я почувствовал радость оттого, что, подобно графу Льву Николаевичу Толстому, занимаюсь литературным трудом, а подкожные деньги – подготовлю коллективный сборник, и мы, литобъединенцы, издадим его за свой счет. (Тысяча пятьдесят рублей по тем временам были очень большие деньги.)
Глава 8
Я решил реабилитироваться перед Розочкой, посвятить ей новое стихотворение. Думалось о ней с нежностью, думалось чисто и высоко, но писалось стихотворение трудно, каждое слово приходилось нащупывать как бы в пустоте. Закончил далеко за полночь.
Утром набело переписал стихотворение и, чтобы впустую не предаваться рефлексиям (пойдет – не пойдет), отправился в редакцию. Никогда (ни до, ни после) так страстно не желал публикации – и чтобы непременно с посвящением. При самом лучшем раскладе оно могло увидеть свет только в следующем номере (во вторник, двадцатого августа). Но еще как-то надо было убедить Васю Кружкина, ответственного секретаря (в понедельник и пятницу редактор появлялся в газете после обеда), что стихотворение политически грамотно и его не стыдно предлагать в полосу.
Вася Кружкин, по кличке Еврейчик, до того, как стал ответственным секретарем, ведал отделом спорта. Когда-то, очень давно, он играл за сборную политехнического института по волейболу и часто приносил в редакцию, как нештатник, информации о спортивной жизни. В одной из заметок «Кто заменит дядю Гришу?» он прямо поставил вопрос о тренере волейболистов политехнического. С уходом дяди Гриши на заслуженный отдых волейбол оказался в институте не в чести.
Заметка имела общественный резонанс, ее заметил первый секретарь областного комитета ВЛКСМ. С его легкой и, что не менее важно, влиятельной руки Вася Кружкин был взят в штат газеты корреспондентом отдела спортивной жизни.
Двухметрового роста, белокурый и курносый, он вполне мог быть натурщиком, с которого один в один можно было бы писать портрет русского богатыря-забияки Васьки Буслая. С годами, погрузнев, он и на Илью Муромца потянул бы. Однако сам Вася Кружкин, при всей широте и доброте характера, начисто отрицал свои славянские корни. На одной из совместных вечеринок комитета комсомола и редакции он сообщил «по секрету», что его бабушка по материнской линии чистокровная еврейка, страшно умная женщина, всю жизнь, не выезжая, прожила на исторической родине, в Биробиджане. И ныне там. Он, Вася Кружкин, тоже писался бы евреем, если бы не притеснения по анкетным данным.
Вскоре Васю хотели уволить из газеты за творческую несостоятельность (уметь писать информации – маловато даже для корреспондента «Спортивной жизни»), но он опередил «мнение сверху». Как только заведующий отделом комсомольской жизни побеседовал с ним, Вася, недолго думая, прошел по всем редакциям газет (благо в одном доме) и сообщил во всеуслышанье, что от него хотят избавиться по пятому пункту анкеты.
– Откуда-то прознали в кадрах, что я – еврейчик, – простодушно жаловался Вася, чем привел в смятение многих сотрудников, у которых с анкетными данными все было в порядке и которые, в отличие от Васи, считались признанными золотыми перьями.
В общем, в довольно короткий срок произошли какие-то подземные, невидимые глазу смещения, натяжения и разломы, в результате которых Вася-Еврейчик неожиданно для всех был назначен заведующим отделом спортивной жизни, а позже и ответственным секретарем газеты.
Последнее назначение напрямую связывали с хорошим переводом первого секретаря обкома комсомола на другую работу. Он возглавил отдел культуры и пропаганды обкома партии. В одной из легенд о Васе муссировалось, что после своего назначения завотделом собрал на совещание в обком всех редакторов и зачем-то пригласил Васю. Когда совещание закончилось, заведующий как бы между прочим поинтересовался:
– Ну что, Василий, поддерживаешь связь с исторической родиной? Бабушка что-нибудь пишет?
– Сообщает, что плохо, – потупившись, ответил Вася.
– А в чем дело? – заинтересовался завотделом.
– Притесняют. Из коренного населения, может быть, и осталась одна бабушка на весь Биробиджан.
– Во как?! – удивился завотделом. – Перегибы, обычные перегибы по скудоумию.
Он резко сменил тему разговора, сказал, что в ближайшее время Василия пошлют в Высшую комсомольскую школу на курсы ответственных секретарей, так что уж пусть постарается.
Когда Василий ушел и разошлись все редакторы, заведующий отделом культуры и пропаганды обкома партии так громко разговаривал и весело хохотал, что секретарь-машинистка встала из-за стола, чтобы прикрыть дверь. Она думала (она сама так якобы рассказывала), что заведующий с кем-то по телефону обсуждал кандидатуру Василия Кружкина как претендента на учебу в Москве. Оказалось, нет, сам с собой разговаривал, восклицал: «Ну и Вася, ну и Кружкин! Кому хошь сто очков даст вперед, молодец!» Увидев секретаршу, вначале хотел объясниться, а потом махнул рукой: «Закрывайте, закрывайте, здесь побывал Вася!» – и опять стал громко смеяться, расхаживая по кабинету.
К удивлению многих журналистов, Вася обнаружил недюжинные способности в верстке и макетировании. Он, словно пианист-профессионал, чувствующий музыку кончиками пальцев, мог на лету безошибочно определять количество строк в материале без всякой измерительной линейки. Единственный недостаток Васи – полнейшее непонимание политического момента. Но тут его выручали редактор и неукоснительная регламентация: первая и вторая полосы – для сообщений обкомов партии и комсомола (если нет срочных тассовских материалов), а уж третья и особенно четвертая полосы – спорту, просвещению, литературе, искусству и прочему, прочему…
Все это как-то само собой припомнилось перед встречей с Васей, и я решил, что прежде всего поинтересуюсь, есть ли свободное место на четвертой полосе.
Свободного места не было. Я потоптался возле Васиного стола, сплошь заваленного газетными материалами, и уже хотел уйти, но он остановил:
– Кто это тебя так?.. – указал на опухший нос.
– Упал, – сказал я.
Он подал фотографию, на которой строго контрастно была проявлена смеющаяся старшеклассница в белом фартуке, пускающая мыльные пузыри.
– Оцени как поэт.
– Отличный фотоэтюд, просто замечательный! – искренне восхитился я. (Меня поразили окна домов и машины, отраженные в мыльных пузырях.) – Кто автор?
– Коля Мищенко, Николай Иванович. Знаешь такого? – в свою очередь поинтересовался Вася.
– Знаю, визуально, но лично не знаком, – ответил я.
– Великолепный фотоальбом подготовил о нашем городе – зарубили на корню.
– Почему?
– Известное дело – притесняют. Обычные перегибы…
Зная, что у Васи под всякими перегибами подразумеваются притеснения по пятому пункту анкеты, возразил, что этого не может быть: во-первых, Иванович, во-вторых, у него паспортные данные на лице, не спутаешь – чистокровный русич.
Вася Кружкин встал из-за стола, взял чашку с чаем, стоявшую на тумбочке, и сразу в глаза бросился его гигантский рост (чашка, которую он держал на уровне груди, замаячила у меня над переносицей).
– Я тоже, как известно, Иванович…
Странно, но я впервые слышал, что он – Иванович. В памяти Василий Кружкин ассоциировался с Васей-Еврейчиком, но чтобы с Ивановичем – никогда!
Чтобы не пролить чай, Вася осторожно развел руки, приглашая внимательно посмотреть на него. (Богатырское телосложение, круглолицесть, голубые глаза, веснушки на вздернутом носу – все это никак не вязалось с тем, что он – Еврейчик.)
Мне нечего было сказать, и я лишь промычал:
– Да-а!
Соглашаясь со мной, и он растянуто повторил: «Да-а!»
Глупейшая ситуация, чтобы хоть как-то разрядить ее, я возмутился:
– Какие обычные перегибы, если вся пресса в руках у прорабов перестройки?!
Вася загадочно и счастливо улыбнулся и, отхлебнув чай, сменил тему. Вынудил рассказать, почему я интересовался свободным местом на четвертой полосе. Я и думать не думал, что мое упоминание о прорабах перестройки он воспримет на свой счет и ни больше ни меньше – как заслуженный комплимент.
Когда по его настоянию машинистка перепечатала мое стихотворение и он самолично собрал на него отзывы всех завов нашей газеты, а потом попросил зайти к нему (я как раз опустошал ящики своего редакционного стола, забитые творениями литобъединенцев), первое, что он сказал, касалось именно прорабов перестройки и именно того, что вся пресса хотя и в их руках, не все так просто, как кажется. (Вася улыбнулся, продолжая отхлебывать чай, то есть с тою же улыбкой, но на этот раз вместо загадочности в ней проскальзывал трепетный свет многозначительного знания.) Вася стал распространяться о том, что мы привыкли жить по старинке и всякое новаторство нам – как нож к горлу. Да, пусть он – Еврейчик. Ну и что?! Он гордится этим.
Сев возле Васиного стола, я увидел, что мое стихотворение уже размечено для засылки в набор. Это казалось невероятным, все во мне возликовало – во вторник Розочка прочтет посвящение и, вполне возможно, вернется, и мы помиримся!
Васины разглагольствования я слушал вполуха. Загодя решил во всем соглашаться с ним. Наверное, поэтому, неожиданно даже для себя, вдруг встал боком и поддакнул, что и я горжусь.
Вася остановился (ходил по кабинету), и мы долго и как-то бессмысленно смотрели друг на друга: я – перпендикулярно в потолок, а он – вниз, как бы на носки своих полуметровых кроссовок. Тут я понял, что, слушая Васю вполуха, чересчур загружаю себя – надо не поддакивать, а просто бездумно молчать. И я молчал.
Между тем, возобновив хождение по кабинету, он стал рассказывать о своей бабушке в Биробиджане, которая, как Арина Родионовна, еще в детстве прочла ему всего Самуила Яковлевича Маршака.
Он опять остановился и, уронив голову на грудь, чтобы не выпускать меня из поля зрения, стал читать наизусть, точнее, декламировать:
– Замечательные стихи, просты как правда! – восхищенно сказал я и, встав, крепко пожал руку Васе-Еврейчику. – Спасибо!
Потом я снова сел и сделал вид, что не хочу смущать Васю, который действительно смутился моему рукопожатию, покраснел от удовольствия, точно ребенок. На самом деле, поддерживая голову, словно роденовский мыслитель, я мог беспрепятственно сосредоточиться на своем стихотворении, которое лежало по другую сторону стола. Помимо технической разметки, бросалась в глаза так называемая правка – вычеркивания.
Странно, что ему, а точнее, консилиуму заведующих отделами не понравилось? (После шести котят, которые есть хотят, я был уверен, сам Вася вряд ли бы решился на вычеркивания.)
Настроили, думал я о нем, а он в это время продолжал смотреть на меня из-под потолка. Чувствуя его взгляд, нарочно почесал темя – пусть думает, что и я думаю, потрясенный его бабушкой, «Ариной Родионовной».
Молчание затягивалось, тем не менее поднимать глаза к потолку не хотелось. И все же пора было поддерживать разговор, пора. Я вторично почесал темя и со всей доступной мне глубокомысленностью изрек, глядя в стену:
– Маршак – это Маршак!
– А Осип Мандельштам, а Константин Симонов, а Борис Пастернак, а Иосиф Бродский, наконец! – не по-кружкински быстро включился Вася.
Удивительно, но банальнейшей репликой я неожиданно попал в самую сердцевину Васиных мыслей. Мне даже стало неудобно, почувствовал, что уронил себя перед Васей, – все же не он, а я пытаюсь стать поэтом. Позабыв о последствиях, встал боком и сказал бесстрастно, словно робот:
– Лично я всегда считал названных поэтов русскими.
В глазах Васи мелькнула некая тень. Он обошел стол, молча сел в кресло. Нет-нет, это была не тень испуга, скорее, тень тревоги и еще чего-то, что не имело слов, но она отозвалась во мне жалостью, и, уступая ей, я бросил Васе спасательный круг:
– А что, разве и они (чуть не ляпнул – «из Биробиджана», но вовремя спохватился), разве и они как ваша бабушка по материнской линии?
Вася не сказал ни «да», ни «нет», а только, закрыв глаза, согласно кивнул. Потом, перейдя на «вы», спросил:
– Вам никогда не приходилось задумываться над тем, что все они (а Мандельштам этого и не скрывал) во что бы то ни стало хотели стать именно русскими писателями? Так сказать, голубая мечта…
– Нет, – сказал я. – У нас полнейший интернационализм, рабоче-крестьянское взаимопроникновение всех наций и народностей в одну международную нацию – советский трудящийся.
Разумеется, ответ был заученным и в памяти всплыл потому, что Васин вопрос показался подозрительным, задай кто другой – я бы воспринял его как провокационный. Но, слава Богу, задал его Вася по кличке Еврейчик, всей своей жизнью наглядно демонстрирующий взаимопроникновение. Отбарабанив ответ, я подивился – надо же, как четко сработал инстинкт самосохранения!
Зазвонил телефон, звонил дежурный из типографии. По разговору я понял, что на свободное место на первой полосе Вася планирует фотографию школьницы и мое стихотворение.
Я не верил своим ушам – неужели на первую полосу мое стихотворение и фото школьницы, пускающей мыльные пузыри?! Это казалось невероятным.
Однако его рассуждения о новаторстве… Если он считает себя прорабом перестройки – вполне возможно… Но есть еще редактор… Я пытался хоть как-то урезонить поднимающуюся из глубин радость, но – тщетно. Воображение услужливо подсовывало ликующую картину Розочкиного возвращения.
Вася положил трубку и, словно отвечая на мои мысли, сказал: до вторника он за редактора и готов рискнуть – поставить мое стихотворение на первую полосу при условии, что я заменю название и посвящение.
Радости как не бывало. Мною овладела апатия, публикация теряла смысл. А Вася доказывал, убеждал, что всякая смелость имеет границы – «Ангелы…» в комсомольской атеистической газете, да еще на первой полосе?! «Нас не поймут», – горячился Вася. А мне было наплевать, я предложил вообще убрать название. Он воспротивился:
– Название тянет на пять строк, если убрать – дырка будет, которую ничем не закроешь.
Сошлись на названии «У Лебединого озера».
– Конечно, просто «У озера» было бы лучше, – сказал Вася. – Но оно вызовет ассоциации не в нашу пользу, потому что с подобным названием есть старый фильм Сергея Герасимова о Байкале, и получится, что поэтическая Лебедь – Лебедь байкальская, а этого не надо.
Вася явно показывал не свою эрудицию – заведующих отделами.
– Разумеется, не надо, – согласился я. – Тем более что Лебедь – манчестерская.
Почему так сказал – бог весть! Вася никакого внимания не обратил на мою иронию, а то бы, наверное, воздержался от сравнений.
– Розочке!.. Согласись, звучит будто «козочке»! Вот посвящение действительно надо убрать.
– Ни за что, – раздраженно сказал я. – В крайнем случае давай заменим инициалами – Р. Ф. С.
Вася отмел инициалы, они напомнили ему рассказ Гайдара под названием «РВС». В общем, торг не удался. Мы расстались довольно холодно, я был уверен, что стихотворение не напечатают. И слава Богу, думал я, включу его в коллективный сборник. Я притащил из редакции едва ли не мешок рукописей, которые, не откладывая, решил перелопатить и, отобрав лучшее, засесть за составление сборника. Повторюсь – тысяча пятьдесят рублей по тем временам были очень большие деньги, и издаться за счет авторов представлялось вполне возможным.
Глава 9
Почти две недели, до следующего заседания литобъединения, я корпел над рукописями. Сидел на хлебе с молоком. Если кто вздумает сочувствовать – напрасно, на хлебе с молоком я вырос. Кроме того, Розочка оставила почти непочатую бутылку растительного масла, и для разнообразия я поджаривал черствый хлеб, а потом ломтиками крошил в миску с молоком, и получалось что-то в виде супа с гренками.
В общем, в питании я не знал недостатка. С тишиной и спокойствием тоже не было проблем – никто не тревожил. Вообще с понедельника началось что-то чудесное, даже шайка алкашей куда-то исчезала с утра, а по вечерам буквально все ходили на цыпочках и избегали друг друга, чтобы ни о чем не разговаривать. Земной рай, да и только: сиди и трудись – никто не мешал.
Единственное, в чем можно было посочувствовать, – чтение рукописей. Залежи, которые я извлек, представляли собой целинный архив, к которому уже много лет не прикасалась рука человека.
Вначале я попытался рассортировать произведения по жанрам – не удалось. Основная масса творений не укладывалась ни в какие жанры. Романы на трех страницах, повести – на четырех и рассказы с пересказыванием каких-то космических событий на какой-то планете Ялзем (Земля) среди «в натуре безголового народа (без голов)» на ста пятидесяти страницах приводили «в состояние такой глубокой задумчивости или краткосрочного анабиоза», что, очнувшись, я какое-то время действительно чувствовал себя безголовым ялземцем. Кстати, краткие разъяснения в скобках возле каждого иноземного слова просто умиляли своим неукоснительным присутствием.
В произведениях приключенческого жанра (я рассортировал прозу по направлениям) главными действующими лицами почему-то были представители творческой интеллигенции, причем обязательно поэтические личности. Это настолько поразило, что для приключений выделил отдельную папку. Я был уверен, что в свой срок внимательное чтение порядком позабавит меня.
Разобраться в поэзии вообще не представлялось возможным. Ни одна поэма не называлась собственно поэмой, а стихотворение – стихотворением. В подзаголовках предпочтение отдавалось в основном музыкальным жанрам: от баркарол и интермеццо до ораторий и симфоний.
Особенно сбивали с толку либретто для совершенно неизвестных произведений, которые представлялись авторами либретто как произведения широко известные и очень великие, но еще не написанные. Одно из таких сочинений (оратория для академического театра) заинтересовало. В письме (да-да, письме), предваряющем будущее произведение «Песня песен диктатуре пролетариата» или «Дуэты вождей и великих отщепенцев», автор, Незримый Инкогнито, сообщал соучастнику, то есть предполагаемому соавтору, что данное произведение однажды приснилось ему на новой кровати. Дальше автор спрашивал соучастника, имеет ли он поэтические и музыкальные способности, а главное, знает ли ноты. Если «да» – читай либретто. Если «нет» – передай тому, кто уже овладел нужными способностями. (Знание нот – обязательно.)
Конечно, я не имел морального права читать либретто, но любопытство пересилило – перелистнул страницу.
Поляна – сцена. Темный лес: столетние дубы, кедры и другие могучие деревья – это пролетарии всех стран. Только с одной стороны – редкий мелкий кустарник – зрительный зал. Слышится шум ветра в макушках деревьев. Возникает тревожная музыка – пиши нотами. Тревога усиливается – опять нотами. Вдруг все смолкает – ждет. Выглядывает из-за туч солнце. Издалека едва различимо приближается бравурная музыка – пиши нотами. Она все ближе, ближе. Из чащи других могучих деревьев (пролетариат Западной Европы) выходят Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они подходят к редкому мелкому кустарнику, останавливаются – бравурная музыка пропадает. Пиши словами и нотами арию Маркса, потом арию Энгельса – «Бродит по Европе призрак коммунизма». После сольных исполнений поют дуэтом о великом могильщике капитализма – опять словами и нотами. Пение закончилось, вожди, оглядываясь, уходят (они хотят увидеть тех, кто придет им на смену). Мелькнула тень Плеханова, затем – Ленина. Плеханова узнать почти невозможно. Ленин – узнаваем. ЗАНАВЕС.
Темный лес. Поляна. Светает – заря. Приближается песня «Вихри враждебные» – только ноты. Лес зашумел, особенно кедровник, из него стройными шеренгами выходят бравые молодцы. Они одеты – кто во что. По железной поступи узнается, что это революционные матросы и солдаты – смелые дезертиры со всех кораблей и фронтов. Впереди Ленин в пролетарской кепке, с красным бантом в петлице, на плечах огромный венок из роз. За ним – любимец вождя иудушка-Троцкий, Свердлов, оба в коммунарских кожанках, Дзержинский в длиннополой шинели. Сталина пока не видно. «Вихри враждебные» сменяются нотами «Марша энтузиастов». Шеренги делают два шага вперед – один назад так, что вновь скрываются в кедровнике. Опять два шага вперед и один – назад. (Намек.) Таким способом, буксуя, шеренги приближаются к кустарнику. Оттуда уже хорошо видно, что шеренги как-то по-детски преувеличенно припадают на левую ногу. (Еще намек.) Марш стихает. Из чащи других могучих деревьев выдвигается огромное панно с изображением картины Гойи «Обнаженная Маха». (Контрапунктом – намеки и полунамеки, подтекст мирового масштаба.) Ленин исполняет арию об идеалисте Беркли, философски раздевает метафизика Маха и предсказывает делимость электрона. Он слегка картавит, рвется в бездонную высь серебряная горошина революционного Соловушки – быстрей пиши слова и ноты. В кустарнике многие уже плачут. Вводи Гегеля и Фейербаха, прими подсказку: «Но обнаженный Мах и Маха не ведали про Фейербаха. Не тем, кем надо, увлекались и в электроне обознались». Ария заканчивается, но еще не смолкла. Из кедровника доносится нарастающий хор, в него вливаются голоса шеренг. Исполняется кантата о том, что вчера восставать было рано, завтра – поздно, нужно брать Зимний сейчас, как стемнеет. Ленин не участвует в общем хоре, но по глазам видно, внимательно слушает, на лице играет радостное изумление, он доволен – пиши кантату. Она смолкает. На солнце набегает туча. Мрак. Пауза. Неожиданно вперед выступает иудушка-Троцкий, загораживает вождя мирового пролетариата. Исполняет арию, в которой выдает начало восстания, – пиши. (Слова и ноты до невозможности плохи. Отвратительный исполнитель раз за разом дает петуха. В кустарнике справедливое негодование.)
Внезапно на поляну вырывается солнечный луч. Он освещает правого крайнего в полувоенном френче. (Аллегория.) Запоминаются усы и ленинский прищур в кавказском исполнении. Не отрывая взгляда от упивающегося собой паршивого солиста (самое время снести с плеч его поганую башку), правый крайний медленно вытягивает шашку. Потом резко по рукоять вгоняет в ножны – нет, исторически рано. Луч исчезает. Ноты какофонии и очередного петуха иудушки сливаются воедино. Выносить это уже нет сил, надо положить конец. Из-за темного кедровника раздается спасительный выстрел «Авроры», он воспринимается как залп. В нем рассеялось гнусное пение иудушки. Торжественная барабанная дробь – пиши. Вновь над поляной солнце, много солнца. Ленин, как и прежде, впереди шеренг, шеренги размахивают алыми стягами. Дробь затихает. Революционный Соловушка поет песню, которую пели дуэтом Маркс и Энгельс. Ее подхватывают шеренги бравых молодцев. Песня окрепла. В кустарнике шевеление, вначале несмелое, потом все встают, песня становится единой – «Мы наш, мы новый мир построим!..». Бурные аплодисменты. Слышатся здравицы. Апофеоз. ЗАНАВЕС.
. . .
Действие второе имело общий заголовок «Дуэты вождей» и начиналось картиной «Ленин и Сталин». После картины «Хрущев и Брежнев» сценарий внезапно прерывался, автор обращался ко мне как к предполагаемому соавтору:
«Дорогой товарищ соучастник! Теперь мы соратники по перу. Если ты работал с моим текстом от души, то сейчас оратория должна насчитывать не менее тридцати страниц – посчитай!
Получилось меньше?! Это плохо, ты должен был увеличить мой текст как минимум втрое. Положи его на место и исчезни – ты работал не от души. Я буду разговаривать с тем, кто – от души.
Дорогой Незримый Друг! У тебя получилось больше тридцати страниц чистого текста – молодец! Но еще рано расслабляться, впереди еще сорок пять ненаписанных страниц оратории. Так что давай закатывай рукава. Ты рассержен моими понуканиями? Не надо. В конце оратории тебя ждет искреннее письмо, прочитав которое раз и навсегда поймешь мое Великое Бескорыстие. (Пиши ноты легкой музыки, аэробики. Зачем? Читай дальше, включайся в творческий процесс.)».
Я не стал читать картины дуэтов Андропова и Черненко, Горбачева и Ельцина. Меня заинтересовало искреннее письмо «Незримого Друга», заставляющее раз и навсегда понять его «Великое Бескорыстие». Листая страницы, единственное, на что обратил внимание, – в дуэтах великих отщепенцев вместо известных исторических личностей фигурируют некие Кирил (с одним «л») и Кизиф (вместо Сизиф, что ли?..), к ариям которых в эпилоге прислушивается сам Господь. Имена отщепенцев казались весьма загадочными, пока не догадался их прочесть справа налево. Не понимаю, зачем Сахарова и Солженицына надо было зашифровывать?! Впрочем, ответы на все свои вопросы я нашел в заключительном письме автора.
«Дорогой Подельник! Ты понял, почему я отбросил – товарищ соучастник, соратник по перу, незримый друг? Молодец! Если оратория получилась такою, какою приснилась на новой кровати, – она будет воспринята как преступление века. Гордись, ты обречен на гонения: ссылку, тюрьму, а при очень уж благоприятных обстоятельствах, возможно, и на гражданскую казнь. Да, завидная творческая судьба! (Лучшие произведения всех времен и народов поначалу и не воспринимались иначе как в штыки, это уже потом приходило признание.)
Дорогой Подельник, готов ли ты пройти весь свой путь до конца?! Прекрасно! Я и не сомневался… а потому полностью отказываюсь от своего текста оратории в твою пользу. Теперь ты один пойдешь в кандалах в светлое будущее. Но не зазнавайся – преступление только созрело, но еще не состоялось. Написать ораторию – это меньше, чем полдела. Поставить ораторию на сцене какого-нибудь академического театра – вот презумпция, к которой надо стремиться. Иди, ты справишься – это мне тоже приснилось. Прошу об одном, если тебе захочется поделиться со мной гонораром – знай, что на премьере я буду сидеть в партере, в третьем ряду, на третьем месте. Когда тебя будут чествовать по окончании оратории (так всегда делается), ты можешь легким кивком и простертой рукой в мою сторону поднять меня с места и сказать во всеуслышание – вот человек, который первым поверил в мое эпическое полотно, поаплодируем ему! Это и будет мне гонораром, остальное тебе – Дивный Гений. До встречи на премьере! С уважением твой Незримый Инкогнито».
Великое Бескорыстие вначале изумило – надо же, встретимся на премьере, будет сидеть в партере, в третьем ряду, на третьем месте. Потом привело в трепет – это что же… вещий сон на новой кровати?! Прорицание гонений?! Ничего себе завидная творческая судьба – в кандалах… в светлое будущее!
Привиделись: завывающий февральский ветер, змеистая поземка бурана, отсекающая ноги впереди маячащим спинам, ржавое позвякивание кандалов в месиве снега, – и невольно почувствовал озноб – еще свои пророчества не расхлебал, а уже, спасибо, новые преподносятся.
Осторожно отложил в сторону ораторию – эти Незримые Инкогнито на кого хошь могут беду накликать.
Часть вторая
Глава 10
Мы все проходили историю древнего мира, средневековья и, конечно же, новую историю. Нам вдолбили в голову: первобытно-общинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический и даже азиатский! Впрочем, азиатский, следующий (по Марксу и Энгельсу) сразу же за первобытно-общинным строем, почему-то пропускали, и, наверное, правильно делали, в одном только коммунистическом строе столько этапов и ступеней от низшего к высшему, что можно голову сломать. И ломали…
В общем, все эти этапы постепенного перехода от одного к другому до того запутали меня, что я поневоле стал искать такие формы восприятия человеческой сущности, которые помогали бы раскладывать мои, пусть и незначительные, знания по полочкам. Да-да, чтобы можно было извлекать их в любое время для своего, так сказать, домашнего пользования.
Как ни странно, но помог мне в этом директор нашей сельской школы. Он преподавал нам русский язык, ботанику, историю и географию. Как сейчас помню его круглые взблескивающие очки, пеликаний подбородок, в котором он утапливал свою бороду; осторожно поводя головой, как бы набычиваясь, он раз за разом почесывал изнутри плотно сидящие, как пуговицы, фурункулы. Из-за этой болезненной привычки он часто произносил вместо буквы «и» – «ы», чем приводил нас в неописуемый восторг. Я просто захлебывался, плакал от смеха.
– Слезкын, выйды ыз класса!
Его профессорская рассеянность, точнее, забывчивость лучше всяких свидетельств убеждала нас в его недюжинном уме. Так, на уроке ботаники он мог преподать урок русского языка или географии. На истории мог оценить знания по ботанике. А иногда все четыре предмета он так искусно смешивал вместе, что мы уже и не знали, по какому из них получали отметки.
– Итак, босяк Слезкын, что ты можешь сказать нам о Рыге?
На школьном приусадебном участке мы в большинстве работали босиком и на его подковырки не обижались, напротив, мы воспринимали их как верх остроумия.
– Рига – это сельхозстроение с печью для просушки необмолоченного зерна. Иногда ригой называют простой сарай.
– Кол, товарищ Слезкын.
– Кол – заостренная толстая палка или столбик, к которому прибиваются жерди – например, в деннике.
– Я имел в виду не кол в деннике, а единицу в твоем дневнике, потому что Рыга – столица Латвийской Социалистической Республики.
Словом, благодаря директору школы я сделал в институте три важнейших открытия, определивших мое сегодняшнее понимание не только всей мировой литературы и искусства, но и понимание творческой личности, создавшей тот или иной шедевр.
В детстве и юности мы чувствуем себя вечными, как боги, – бессмертными. Мы торопим время, но «…медленно мелет мельница богов, некуда спешить бессмертным». А мы спешим поскорее вырасти, поскорее окончить школу, в сущности, спешим поскорее стать большими. Отсюда и непоколебимое убеждение, что мир с каждым прожитым днем движется от худшего к лучшему. Вот он, первый постулат: детству и юности присуще мыслить, что мир движется по спирали, как бы по винтовой лестнице – от низшей ступени к высшей.
Потом наступает молодость и вслед за нею или с нею – зрелость. Кажется, все доступно и все возможно, не хватает только времени, уж слишком быстро оно бежит, порою так, что и не угонишься. Но все же там, где за ним поспеваешь, вдруг бросается в глаза, что ты в некотором смысле похож на белку в колесе. Как бы резво ни бежал – бежишь по кругу, да и весь мир перед тобой похож более всего на замкнутый круг. Поневоле вспомнишь Екклезиаста: «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Так и ты в своей круговерти. А отсюда и убеждение: мир движется не по спирали, а по кругу – вот вам и второй постулат. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Но и у зрелости есть предел. И хотя «…не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием», вдруг начинаешь ощущать, что ты не вечен, что ты не поспеваешь за этим сумасшедшим временем. А ведь кажется, еще вчера ты торопил время, спешил поскорее стать большим. Да, вчера, еще вчера солнечный день был полон птиц, а звезды были в ночи крупными, как яблоки! Да-да, еще вчера мир сиял от множества причудливых красок, а сегодня он сер и уныл. Куда, куда все подевалось?! И уже твой сосед-пенсионер сердито стучит палкой и топает ногами на отвратительную молодежь, у которой нет никакого уважения к старшим, а стало быть, нет ни стыда ни совести. В конце концов мы приходим к печальному выводу: все вчера было лучше, чем сегодня, – и молодежь, и мы сами. И леса, и реки были чище – вот в чем дело! А отсюда и окрепшее убеждение: мир действительно движется по спирали, как бы по винтовой лестнице, но не от низшей ступени к высшей, как мы думали в детстве и юности, а, наоборот, от высшей к низшей. От лучшего к худшему движется мир. Мы, ангелами рожденные, всей своей жизнью спускаемся с небес на землю и даже более того – в землю. Вот вам и последнее мое открытие, так называемый третий постулат – мир движется к своему концу.
Три постулата, три открытия, три полочки, на которых разместились для меня вся художественная литература, творения искусства, трактаты философов и богословов, да что там – весь мир всех времен и народов.
С высоты первого постулата, как с высоты ангельских небес, мне, может быть, более, чем кому-либо, понятны и «Руслан и Людмила», и «Девочка на шаре», и «Любовь к трем апельсинам». Конечно, надо самому думать: одно дело – романтизм в литературе и искусстве, и совсем другое – в каком-нибудь вечно живом учении. Это только для Православной Церкви ясно как Божий день, что зло побеждается отсутствием зла. А принципиальные атеисты никогда не верили и не поверят, что борьбу за справедливость надо вести не против злого человека, а злого – в человеке. Потому как сам человек как таковой создан Богом по своему подобию.
Три полочки для домашнего пользования – я впервые переворачивал и перебирал на них все свои сбережения и накопления. Я чувствовал, что вступаю в новый период жизни, который не предвещает мне ничего, – что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться…
Приходилось ли вам с высоты акведука наблюдать переполненное русло реки, выходящей из своих берегов, когда течение неба и движение вод смешиваются и кажется, что ты летишь подобно птице? Или… приходилось ли вам стоять у раскрытых настежь дверей и смотреть, смотреть на праздничные первомайские колонны демонстрантов, на разноцветье шаров и лиц, восторженно проплывающих и на всякую здравицу крикливых радиоколоколов отзывающихся победным кликом – ура-а!..
Мне приходилось. Это было в Барнауле. Мама привезла меня в больницу, у меня было учащенное сердцебиение, но нас не приняли. Нам пришлось очень много ходить, я не поспевал, и мама вынуждена была брать меня на руки. Мы поднимались на какую-то гору, шли через сосновый бор, переходили речку. Мост пружинисто покачивался, и я вдруг почувствовал, как сердце мое трепыхнулось и я полетел, полетел в вышину и глубину небесных вод. Конечно, я крепко держался за мамины волосы, но я летел, и мама летела вместе со мной. Это было до того жутко и до того хорошо, что я растворился в глубине вод.
Потом мама говорила тете в красном платье, что я опять терял сознание и опять из носа у меня текла кровь.
Вооружившись фонендоскопом, тетя прослушивала мою грудную клетку, и мне было щекотно от прикосновений металлическим кружочком, и я смеялся. Я смеялся, а они большими глазами смотрели на меня и прислушивались к чему-то такому, что я не мог услышать.
– Это у него возрастные шумы, с возрастом левый желудочек придет в норму, – успокаивала тетя маму, а я смотрел на мозаичный пол длинного коридора и впервые чувствовал грусть своей жизни.
На прощание тетя врач дала мне медовый пирожок, такого у нас с мамой не было, и я решил привезти его домой, чтобы показать дворняжке Джеку и нашей корове Зорьке, чтобы и они знали, что я был в городе.
В тот день мы не смогли уехать, автобусы были переполнены, и мы легли спать на полу железнодорожного вокзала, потому что новый автовокзал еще только строился. Мама постелила мне под лавкой, чтобы на меня не наступили, и я, словно Джек, лежал в своей халабудке, и мне нравилось, что я защищен со всех сторон и мама хотя и не рядом, но тоже лежит на полу и всегда видит меня своими большими глазами, а я всегда вижу ее. И еще мне нравилось, что близко-близко от меня проходили, куда-то торопясь, разные чужие ноги, а некоторые останавливались и рассказывали мне, что и они устали так же, как и мои ноженьки.
Я проснулся в предчувствии большой радости. Через огромные проемы окон солнце заглядывало в зал и в своих сверкающих лучах прогуливалось под высокими колоннами. Всюду-всюду его было так много, что мне показалось, что мы с мамой находимся в сказочном дворце. Я нисколько не удивился, что мы в нем одни, что солнце наклонилось над мамой и, не касаясь ее лица, выпустило ей на ладонь своего солнечного зайчика. Я потянулся к нему, мамина рука ласково отозвалась, и зайчик перескочил ей на локоть. Мне стало весело, я догадался, что мама хотя и спит и глаза у нее закрыты, она своей рукой помнит обо мне и даже уговаривает меня еще немножко поспать. Но я не послушался.
Я вылез из халабудки и побежал по солнечным залам дворца навстречу радостному гулу, с которым проснулся, который, казалось, бурлил во мне. Я уже знал, что настоящие музыка и смех бурлят на улице.
Двустворчатые двери, огромные, как ворота коровника, были открыты настежь. Я остановился напротив проема и замер. Я смотрел из глубины зала поверх людей, стоящих внизу на ступеньках крыльца, и видел полноводную реку разноцветных шаров и лиц. Если бы люди стояли не на ступеньках, а на крыльце или даже в проеме настежь раскрытых дверей, они все равно не смогли бы загородить мне половодья тысячи тысяч лучащихся глаз.
– Миру – мир! – разом выкрикнули радиоколокола.
– Ура-а, ура-а!.. – нестихающе понеслось в голубую высь.
Музыканты разом ударили в литавры, и медь тарелок запела так, словно это пели сами ворота, распахнувшиеся в весну.
Я стоял напротив проема, позабыв обо всем. Я никогда не видел такого множества зеленых веток и кружев из белых цветов. Я никогда не видел такого множества голубей и воздушных шаров, разом взмывших в небо. И конечно, я никогда не слышал духового оркестра и подобных, громыхающих вместе с эхом, голосов. Да-да, я еще никогда не видел такого множества счастливых лиц и глаз, текущих мимо меня единой полноводной рекой.
– Миру – мир! – опять прогромыхали радиоколокола, и опять:
– Ура-а, ура-а!.. – нестихающе понеслось ввысь.
– Миру – мир, мир – миру, – сказал я вслух, потому что уже читал по букварю «ма-ма – ра-ма».
Я сказал вслух знакомые слова, но они показались мне не словами, а как бы створами ворот, распахнутыми в небо.
– Ура-а, ура-а, – робко пропел я, пробуя на язык и это удивительное слово, и вдруг почувствовал, что сердце внезапно трепыхнулось и я полетел, полетел к воздушным шарам, в бездонную высь.
…В родную деревню мы приехали засветло. Автобус остановился возле молочно-товарной фермы, и пока мы шли домой, маму часто останавливали и расспрашивали о моей болезни. Меня никто ни о чем не спрашивал, я смотрел на вскипающие на солнце лужи и опять чувствовал грусть своей жизни. Я не понимал маминого беспокойства о своих обмороках и крови из носа, ведь я уже заметил, что они всегда случались, когда мне становилось жутко и хорошо. Поэтому мне стало жалко маминых разговоров, и когда к нам пришли соседи, чтобы посидеть за самоваром в честь праздника, я сказал им всем, что мне нисколько не больно от обмороков и от крови из носа, а, наоборот, я лечу от них высоко-высоко, как жаворонок или кобчик. Все посмотрели на меня очень молчаливо, а горбатая старуха Коржиха, клюки которой я побаивался, скрипуче засмеялась и пообещала:
– Вот так, милок, когда-нибудь и улетишь…
– Ну что вы, Евдокимовна, Господь с вами, – недовольно сказала мама и посмотрела на меня ласково и задумчиво, как она смотрела на фотографии отца и вообще фотографии своей прошлой жизни, когда меня еще не было или я был совсем-совсем маленьким.
Я взял медовый пирожок, который все это время лежал в маминой сумке, и вышел во двор. Куры не обратили на меня никакого внимания, зато Джек сразу вылез из своей конуры и стал радостно тереться о мои колени – он даже понарошку кусал меня за ноги, когда я шел через двор, чтобы посмотреть на нашу Зорьку.
Зорька лежала на свежей соломе, повернувшись к двери. Она жевала жвачку, но, когда я присел на корточки и подал ей кусочек пирожка, перестала жевать и, шумно вздохнув, задумалась. Я упрашивал ее, чтобы она съела кусочек, но она продолжала думать о своем, и тогда я стал гладить ее. Она повернула голову, и ее шейные морщинки потекли под моими пальцами, словно струйки ручейка. Мне почему-то расхотелось говорить ей, что я был в городе.
– Ты не думай, Зорька… внутри себя я уже большой и все-все понимаю. Этим летом я скажу маме, что буду пасти тебя, пока не пойду в школу.
Я рассказывал Зорьке, что буду пасти ее за речкой, где растет большая трава, а в обед, в самую жару, она будет стоять в воде, на третьей ямке под ивовым кустом, где меньше всего назойливых мух и слепней.
В полумраке Зорькины рога матово лоснились, а белый курчавистый волос на лбу, взблескивая, искрился от моего прикосновения. Зорька потянулась ко мне, прямо к моему лицу, и я увидел, что глаза ее блестят, а из глаз текут обильные слезы. Она опять шумно вздохнула, опахнув каким-то домашним-домашним дыханием, после которого я вновь почувствовал себя не то чтобы маленьким, но и не таким уж большим.
Когда вышел из сарая, Джек меня преданно ждал. Он сразу увидел и пирожок в кармане, и кусочек в руке, и что не такой уж я маленький, как показалось Зорьке. Он увидел меня точно таким, каким я хотел, чтобы меня видели все, а в особенности клюкастая старуха Коржиха.
– Какой ты умный, – сказал я Джеку и дал ему кусочек пирожка, и погладил его, и вместе с ним порадовался его сметливости, когда, ласкаясь, он шустро тыкал носом как раз в тот карман, в котором лежал пирожок.
Я сел на ступеньку крыльца, а Джек – на деревянный помост. Пестрый, с черно-белыми разводами на ушах, топорщащихся и на кончиках как будто сломанных, он смотрел на меня с той преданностью и вниманием, словно мы уже условились есть пирожок вместе.
– Нет-нет, у нас не было никаких уговоров, – возмутился я и отвернулся (стал смотреть на заходящее солнце).
Розовые лучи скользили поверх плетня, а стеклянные банки, насаженные на колышки, горели изнутри так ярко, словно они были электрическими лампочками. Пространство улицы за колхозной водокачкой раздвинулось, и темные скирды сена теперь представлялись стадом слонов, спускающихся к водопою. Вокруг было столько простора, уходящего в небо, а в небе – причудливых облаков, как будто касающихся земли, что я невольно вспомнил город с гирляндами разноцветных шаров, красных флагов и белых голубей, так плотно взмывавших ввысь, что иногда казалось, что это взмывает весь праздничный город.
– Миру – мир! – восторженно крикнул я, встав во весь рост.
Сердце трепыхнулось, но прежде, чем почувствовал, что лечу, я увидел Джека, который, жалобно взвизгнув, подпрыгнул, чтобы лететь вместе. И я не полетел, я не мог оставить Джека.
Я спрыгнул со ступеньки и, обхватив его за шею, кружился с ним. Потом опять сидел на ступеньке, и по кусочку отламывал от пирожка, и давал Джеку, и ел сам, облизывая желтое повидло, которое выползало между пальцев.
– Такого вкусного пирожка больше ни у кого нет, – говорил я Джеку. – Тетя врач дала нам его для нашего праздника.
Сказал о празднике и едва не задохнулся от догадки. И чтобы уже развеять все свои сомнения, забежал по ступенькам на крыльцо, повернулся лицом прямо к солнцу и словно бы вновь очутился на празднике, среди громыхающих радиоколоколов, бравурной музыки, смеха и песен.
– Миру – мир, мир – миру, – сказал я громко и отчетливо, как будто прочитал по букварю.
Сердце знакомо трепыхнулось, но я не стал хвататься за Джека, который терся о мои колени, я точно знал, что не упаду в обморок: ни сейчас, ни после – никогда. Я был уверен, что подрос и болезнь отстала от меня.
С того дня я действительно больше не падал в обмороки и из носа у меня не текла кровь. Конечно, я мог бы не вспоминать тот праздничный день, но именно тогда в меня вошло убеждение, что силой воображения можно одолеть любую болезнь, и не только болезнь…
Глава 11
В ночь на субботу впервые приснилось, будто я в отдельном кабинете за белоснежным столиком и официант подносит мне щи, дымящуюся баранину с зеленой петрушкой и кофе со сливками. Глотая слюну, всячески старался показать официанту, что не голоден, просто пришло время отобедать. Уяснив, что обед для меня своеобразный и мало что значащий ритуал, официант испросил разрешения отдать обед какому-то голодающему поэту, который якобы стоит в ожидании за портьерой. Я откуда-то знал, что голодающий поэт – это я, Митя Слезкин, поэтому преувеличенно небрежно, мановением руки, разрешил унести поднос с обедом. Я предполагал, что раз я – я, то за портьерой никого нет и обед вернется ко мне.
Официант отодвинул портьеру, и, к своему ужасу, я увидел себя в уже известной крылатке из байкового одеяла с тремя поперечными полосами по плечам. Это было до того неожиданно, особенно униженность, с какою Митя Слезкин протягивал руки к обеду.
Официант испуганно оглянулся, очевидно, узнал меня, и в ту же секунду, в предчувствии грязного скандала из-за тарелки щей, я проснулся.
Проснувшись, некоторое время испытывал чувство стыда, потом сожаления и, наконец, голода. Поощренное спазмами в животе, воображение до того разыгралось, что в конце концов я уже не мог думать ни о чем. И как был налегке, так налегке и припустил к продуктовому магазину.
Я бежал в застиранных трусах и майке, с пачкой «рваных» за пазухой. Каждая клеточка во мне вопияще кричала: е-есть, е-есть! Однако всем своим видом я старался убедить встречных прохожих, что этот мой бег – обычный утренний моцион трусцой. Наверное, я бежал слишком резво и чересчур целеустремленно. Вослед мне отпускались шуточки, наподобие – «Эй, комик, штаны забыл – догоняют!..».
Конечно, я не учел, что для утреннего моциона проснулся слишком поздно. В магазине никто не захотел даже отдаленно признать во мне физкультурника-одиночку. Как-то враз все единодушно решили, что я – бесстыжая морда и нахал. Возмущенные покупатели, пожертвовав очередью, буквально вынесли меня из магазина. Я чуть не заплакал от досады. Слава Богу, всегда закрытый ларек на автобусной остановке торговал, и мне удалось взять две пачки печенья и баночку трески в томатном соусе, которая продавалась в нагрузку к печенью.
Первую пачку печенья съел сразу, у ларька. То есть – когда съел и как? – не заметил. Даже маленько порылся в пакете – неужто все?! Вторую ел не торопясь, контролировал свои действия. Нарочно подошел к доске для вывешивания свежих газет и вроде бы, увлекшись чтением, по рассеянности хрумкал. На самом деле я кончиками пальцев на ощупь читал удивительно вкусное слово, придуманное мукомольной промышленностью СССР, – «Привет!». Привет! – мысленно отзывался каждой печенюшке и, только покончив с ними, удосужился прочесть: «„Н… комсомолец“, 20 августа…» «Надо позвонить в „Союзпечать“, поинтересоваться, почему на нашей автобусной остановке свежие газеты вывешиваются от случая к случаю?» – подумалось как бы между прочим, и в ту же секунду позабыл и о голоде, и о своем неудачном виде физкультурника, и вообще обо всем.
На первой полосе, чуть ниже заметки о комсомольско-молодежной бригаде пригородного совхоза «Узбекистан» «Кто заменит тетю Глашу?», смотрела на меня до боли знакомая фотография улыбающейся старшеклассницы, пускающей мыльные пузыри. А рядом – напечатанное лесенкой мое стихотворение «Ангелы любви», которое было переименовано в «У Лебединого озера» и посвящалось Розе Пурпуровой. (Посвящение озадачило, я не знал – радоваться мне или негодовать? Дело в том, что девичья фамилия Розочки – Пурпурик.)
В строке «И – поверил в мечтания, их сокровенность тая…» неожиданно обнаружил лишнее слово, вставленное с неизвестной целью: «И честно – поверил в мечтания…» Господи, какое убожество: если можно «честно» поверить в мечтания, то не возбраняется и «нечестно». Интересно – каким образом, пусть объяснят, мысленно возмущался я, подразумевая под «они» не столько Васю Кружкина, сколько корреспондентов отдела комсомольской жизни. Безусловно, и по посвящению прошлась их рука (Розочка иногда звонила в бухгалтерию редакции и представлялась под девичьей фамилией). Воровски сняв газету, я действительно трусцой вернулся в общежитие. (Кстати, на этот раз встречные прохожие не обращали на меня никакого внимания.) Тщательно изучив публикацию и вообще всю первую полосу (фотоэтюд и стихотворение, очерченные одной линией, визуально воспринимались как единый материал), пришел к выводу, что стихотворение подано со вкусом, а вместе со старшеклассницей и достаточно броско – не затерялось среди газетных информашек. К новому названию постепенно привык – Васина работа. Судя по заголовку «Кто заменит тетю Глашу?», он не поскупился, достал самые сокровенные сбережения, можно сказать, пустил в ход весь свой золотой запас. Наверняка в расчете, что, как некогда «в верхах» заметили его «дядю Гришу», теперь, с «тетей Глашей», заметят и его новаторскую полосу… «Да, Еврейчик-Вася кому хошь даст сто очков вперед», – радовался я за него, надеясь, что и мое стихотворение не будет обойдено… и, если газета попадется Розочке, она непременно прочтет его. А прочитав, простит меня, вернется домой, в общежитие. Словом, «честно поверил в мечтания, их сокровенность тая…», что произойдет именно то, чего я и хотел добиться публикацией.
Разумеется, я сожалел, что раньше не натолкнулся на газету, давно бы съездил в редакцию, взял авторские экземпляры. Теперь придется ждать до понедельника – ничего, подождем. Воображение услужливо подсовывало картины радостного возвращения Розочки. О том, что «Союзпечать» почему-то со вторника не вывешивала свежие газеты – и думать не думалось.
С утра, оставив две записки для Розочки (одну в двери комнаты, а другую на вахте), отправился в редакцию. Настроение было превосходным: солнце, теплынь – после ночного дождя городок благоухал. Я нарочно пошел через кремлевский парк и даже немножко посидел на лавочке у фонтана. Мириады солнечных искр, сливающихся в устойчивую радугу, свежий запах зелени и нежный аромат цветов – во всем присутствовало вдохновение… Я внезапно почувствовал стихи, меня опахнуло их дуновением.
Мне стало до того хорошо от понимания, что и я, какой ни есть, храню в себе Божий лик, что невольно вслух засмеялся и вынужден был покинуть лавочку. Две старухи, мирно разговаривавшие, вдруг умолкли и стали опасливо оглядываться на меня. Чувствуя спиной их подозрительные взгляды, шагнул в радугу, а вышел – как из-под душа. Ни о каких стихах не могло быть и речи. Чтобы подсохнуть, решил сразу не заходить в редакцию, а немного погулять возле ДВГ и по чистой случайности выбрал отмостку под окнами библиотеки. Выбор оказался неудачным. Из окна второго этажа высунулись два коротко стриженных атлета и приказали, чтобы не маячил под окнами. Безапелляционность озадачила.
– А вы, собственно, кто такие – представьтесь, – как можно учтивее сказал я.
– Если мы представимся, – ответил черноголовый, – то ты уж точно костей не соберешь. Ты понял, ханурик?
Не дожидаясь моего ответа, приказал белобрысому, чтобы тот спустился и навшивал «мокрой курице». Белобрысый довольно-таки умело циркнул слюной сквозь зубы, с расчетом попасть в меня, и лениво, будто мы уже полдня разговаривали, сказал:
– Ханурик, ты слышал? Отвали, а то по стене размажу.
Боже, у меня не укладывалось в голове, чтобы так вызывающе грубо разговаривали со мной не где-нибудь, а в ДВГ, в его интеллектуальном центре, лучшей библиотеке города. Мелькнуло – может, сантехники из уголовников?! Вполне, книги очень даже дефицитный товар…
Решение созрело молниеносно – дойти до ближайшей телефонной будки и позвонить куда следует.
Между тем белобрысый продолжал:
– Ханурик, даю десять секунд на размышление.
Он исчез, и тут же из соседнего окна, стуча разматывающимися ступеньками, вывалился штормтрап. Самый настоящий, корабельный – лини из промасленной пеньки.
Выглянул черноголовый. Не отрывая взгляда от часов, напомнил:
– Ханурик, осталось три секунды!
Никогда в жизни, ни до, ни после, я не испытывал столь сильного раздражения на прозвище. Взяв первый попавшийся под руку обломок кирпича, сказал, что всякому, кто попытается слезть, еще на трапе расшибу голову.
Я отбежал от отмостки и на всякий случай стал под деревом.
На этот раз из соседнего окна высунулись сразу четыре головы. Я был удивлен до крайности, потому что в одной из них узнал нашего редактора. Он тоже узнал меня.
– Митя, это ты, что ли?!
Я вышел из-под дерева и бросил обломок кирпича под ноги. Я не знал, что и подумать.
Редактор подошел к окну, у которого стоял черноголовый, и они вполголоса стали горячо что-то обсуждать. Потом редактор выглянул и сказал, чтобы я залезал. Я засомневался – уж не заодно ли он с «сантехниками»? Но редактор, уловив сомнения, успокоил:
– Залазь, никто тебя не тронет.
– Зачем же по трапу, если гораздо проще зайти через двери? – спросил я.
Он почему-то сразу разозлился и даже прикрикнул, чтобы не разглагольствовал, не собирал вокруг себя ротозеев. Его поведение выглядело более чем подозрительным. Теряясь в догадках, я умышленно затягивал время.
Белобрысый, равнодушно нависавший над трапом, вдруг спросил:
– Слушай, откуда ты взялся?
Он повернул голову в сторону окна, из которого выглядывал редактор:
– А что… может, эта мокрая курица в самом деле лазутчик от гэкачепистов?
Редактор, скрывшись, что-то ответил, я не расслышал – в библиотеке дружно засмеялись.
– Эй ты, поэт… летописец… поэт-летописец, давай залазь, а то выберем трап!
Сверху посыпались не то веселые угрозы, не то приглашения, но трап рывками действительно стал подниматься.
– Постойте! А-а, была не была, – сказал я и ухватился за трап.
Моя внезапная решительность вызвала веселое одобрение. Я не столько поднимался по трапу, сколько меня втягивали вместе с ним.
У окна, когда влезал на подоконник, меня поддерживали с десяток дружеских рук и чуть было не уронили на отмостку.
– Если хотите что-нибудь провалить – поручите комсомолу, – резюмировал я, чем вызвал какой-то чересчур радостный смех.
И неудивительно, большинство молодых людей (я насчитал их с дюжину) представляло собою цвет Н-ского комсомола. Во всяком случае, в черноголовом и белобрысом (в обычном ракурсе) сразу узнал заведующего отделом рабочей и сельской молодежи и его зама. Они, конечно, меня не узнали (да и кто я для них?!), зато обратили внимание, что я в ботинках без носков. Черноголовый задрал мне штаны и попросил, чтобы я постоял в таком положении на подоконнике. Он юркнул за стеллаж и через секунду вынырнул с телекамерой. Снимая мои ноги, комментировал:
– Нельзя делать революцию в белых перчатках (оных может не оказаться). Демократическую революцию должно делать в белых носках, ибо чуть-чуть воображения, и всякий босяк – архиреволюционер! Однако перед нами не всякий – нет. Поступило срочное распоряжение из-под стола: за выдающиеся заслуги в области культпросвета премировать будущего буржуина двумя парами белых носков.
Мне действительно всучили две пары белых носков, после чего под жидкие аплодисменты пригласили пройти в вестибюль – подкрепиться.
– Пришло время ланча, а для кого-то линча, – шутили за моей спиной.
Кстати, я обратил внимание, что все поголовно были в белых носках. Вообще все происходило как во сне – ярко и неправдоподобно. Четыре состыкованных письменных стола со всякой снедью, густо уставленных бутылками с водкой. На диванах – прикорнувшие молодцы. Какие-то шаркающие шаги внизу, на первом этаже, и наверху, на третьем. Беспрерывно звонящие телефоны и сама атмосфера какого-то показного, ненастоящего веселья вызывали во мне невольное напряжение. Если бы не редактор, взявший надо мной опеку, не знаю, чем бы для меня закончилось посещение ДВГ! Вполне допускаю, что «белые носки», как мысленно я окрестил их, могли меня довольно запросто поколотить. Слава Богу, усаживаясь рядом, редактор шепнул, чтобы на все вопросы отвечал – не знаю, впервые вижу.
Белобрысый лихо сорвал пробку, налил мне полный стакан «Посольской».
– Штрафную – к линчу! – изрек он.
– Никаких штрафных, – не повышая голоса, сказал редактор и, переглянувшись с черноголовым, многозначительно пояснил: – У него другое задание.
Черноголовый согласно кивнул, и кто-то, из припоздавших, сказал, чтобы с нормой каждый определялся сам. И действительно, каждый наливал себе сам. Я плеснул чуть-чуть на донышко и почувствовал, что мое равнодушие к водке вызвало подозрение. Меня наперебой стали спрашивать: кто я, откуда, зачем появился здесь, знаю ли редактора или кого-нибудь из присутствующих?..
На все вопросы отвечал односложно – не знаю, впервые вижу.
– Ты что же, и своего имени не знаешь? – вкрадчиво спросил усатый молодой человек в темно-синем костюме и галстуке, поднявшийся с первого этажа и, в отличие ото всех, пивший из стакана не водку, а кефир.