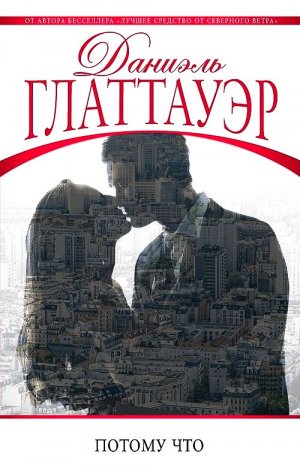
1 глава
Не в моей привычке проклинать день, прежде чем он закончится. Я встал, как только почувствовал, что не сплю. Главное — ни о чем не думать. Розовая зубная паста упала прямо на щетку, значит, не все так плохо. В худшие дни она выскальзывала мимо, в раковину, чтобы потом ее сухие комки напоминали о моих неудачах. Впрочем, я смыл их почти все. К счастью, я не депрессивный тип.
Но на сей раз я не промахнулся. Утро началось хорошо — больше никаких мыслей у меня не возникло. Из зеркала на меня смотрело нормальное человеческое лицо. В другой день я мог бы показать себе язык, но только не сегодня. Вот уже несколько недель я не поправлял челку перед зеркалом, как раньше, и не подсчитывал седые волоски на висках. В кухне я вскипятил воду и вылил ее в круглую желтую чашку, куда еще перед сном бросил пакетик черного чая с ароматом персика. Я всегда так делал. Непременно эта желтая чашка и персиковый чай. И каждый раз я клал его туда с вечера, будто заранее отдаваясь во власть следующего дня. Иногда меня это пугало.
Я недолго думал, что положить в большую дорожную сумку. Взял с собой лишь вещи черного и синего цветов, теплые и мягкие. Мои любимые пуловеры и красивые брюки, превращающие меня, по мнению дам, в интересного мужчину, я оставил дома. Покидая квартиру, чувствовал, что именно сейчас переживаю самый сложный период сегодняшнего дня. Но я справился, поскольку сразу же запретил себе об этом думать. Я закрыл глаза. Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Незабываемо. Я повернул ключ до упора. Мысль, что теперь в мою квартиру никто не проникнет, придала мне уверенности. Бросив сумку в машину, я поехал.
В одиннадцать я был у Алекс, как и договаривались. Она стояла, прислонившись к дверному косяку. Я прикоснулся к ее горячим ушам и сказал:
— Дай же мне разглядеть тебя как следует.
У нее был вид женщины, которой нужно как следует выругаться, прежде чем начинать новую жизнь. Больше всего на свете мне хотелось сейчас поцеловать ее, а потом вместе с ней идти навстречу будущему. Или нет, только поцеловать.
— А остальные уже собрались? — спросил я.
— У меня для тебя плохие новости, Ян, — произнесла Алекс.
— Никто не придет? — догадался я.
— А тебя бы это очень расстроило?
И тогда я понял, что больше никого не будет.
Она хочет быстренько отсюда съехать с моей помощью. Оставить Грегора одного. Сегодня суббота. Вернувшись в воскресенье вечером с семинара, он не должен застать ее в квартире. И это означало следующее. Мне придется спускать с четвертого этажа сотню кубометров цельной древесины, тяжелые металлические вещи, фарфор и тому подобное, чтобы в другом доме поднимать все это на третий.
— Ты уже позавтракал? — спросила Алекс.
Я усмехнулся. Мысленно я кричал.
А потом Алекс ела, а я смотрел на нее. А она, в свою очередь, наблюдала, как я не свожу с нее глаз.
— С тобой что-нибудь случилось? — поинтересовалась она.
— А что? — удивился я.
На тот момент пока ничего не произошло.
Мы переезжали весь день. Снаружи бесновалась непогода, как всегда бывает в этом городе в период смены времен года. К счастью, я не депрессивный тип. Покончив с каторжной работой, я смог наконец принять ванну в ее новой квартире. Мне полегчало. Чтобы отвлечься, стал думать о сексе, но сразу вспомнилась Делия. Тогда я отогнал эти мысли прочь.
Алекс принесла полотенце. Она держала его перед своими глазами, не желая смущать меня. Но я отвел ее руки в сторону, чтобы дать понять ей, что она ошибается.
К сожалению, секс был не без страсти. Как с моей, так и с ее стороны.
— Что ты делаешь сегодня вечером? — спросила она меня за чашечкой кофе, обжигавшего желудок.
— Ничего особенного, — беззастенчиво солгал я и улыбнулся, чтобы обратить обман в шутку.
— Новая? — поинтересовалась Алекс, поднимая брови.
Я готов был расцеловать ее за этот вопрос и за подозрительность. Ответил ей какой-то риторической пошлостью, что-то типа «не будь такой любопытной». Я торопился, несмотря на ранний час. На прощание прижал ее к себе, словно пытался незаметно взять от нее нечто такое, о чем она не подозревала.
— Выше нос! — крикнул я, имея в виду разрыв с Грегором.
В другой раз я мог бы добавить, чтобы она звонила мне, когда пожелает.
Но не в этот день.
Следующие несколько часов прошли в мучительном ожидании. Мне нечем было заняться. Я сидел в припаркованной машине и старался ни о чем не думать. К счастью, по крыше автомобиля стучал дождь. Я мог сосредоточиться на этих звуках и чувствовал, как с каждой каплей уходит время.
Раньше я работал в издательском доме «Эрфос», и ко мне в руки попал один роман, в котором через каждые несколько страниц барабанил по крыше дождь. Стоило только авторской фантазии истощиться, как действие замирало, и возникала эта картинка.
— Красивый образ, — сказал я писательнице во время нашей первой встречи.
Мне стало жаль ее. На ее лице застыло выражение, с каким трижды поскользнувшаяся фигуристка ожидает судейских оценок. От отчаяния она кусала себе губы. Ей было чуть за тридцать, а она только сейчас переживала крушение иллюзии литературного успеха. Написала совершенно пустую вещь, ничего не сказав читателю, ничего не пережив. Кроме, пожалуй, этого дождя, стучавшего по жестяной крыше.
Бар Боба открывался в десять часов. Я пришел туда пятым. Из окна своей машины я видел, как заходили первые четверо посетителей.
— Привет, Ян, ну и погодка, — произнес Боб.
Я опустил голову. Ему, наверное, показалось, что я стряхиваю с волос дождевые капли. Я похлопал его по плечу. Это сошло за приветствие. К счастью, в заведении Боба были приняты сдержанные отношения. На того, кто много говорил, начинали коситься.
Я заранее заказал маленький круглый столик, за которым уже ужинал несколько раз. В нише, где он стоял, хватало места лишь на одного человека. Царивший в зале полумрак надежно защищал мой укромный уголок от любопытных взглядов.
Предыдущие несколько вечеров я делал вид, будто работаю здесь над очередной «историей». Боб и остальные знали, что я репортер, и думали, что моя работа состоит в том, чтобы шляться по разным притонам, вроде этого бара, и писать заметки, — наплевать, что темно, — попивая блауэр цвайгельт.[1] Чем больше вина, тем круче получается «история», тем лучше репортер, — так, видимо, полагали они и видели во мне мастера своего дела.
Официантку звали Беатриче. Она знала меня в лицо, я же едва замечал ее и не стремился к более близкому знакомству. Однако за последнюю неделю ее имя так часто звучало, что я успел к ней привыкнуть. Когда она подходила к моему столику, я погружался в изучение меню, прикрывая лоб рукой, а потом приглушенным голосом заказывал всегда одно и то же: пол-литра блауэр цвайгельт. Мне не нравилось, что я не могу смотреть в лицо официантке, с которой разговариваю. Обычно так поступают дешевые зазнайки, и сейчас я походил на одного из них.
Получив свое вино, я избегал дальнейшего общения. Мне было больно за Грегора. Я будто раздваивался, и у меня в голове разворачивалась отчаянная борьба. Одна моя половина впадала в панику, готовая закричать, — другая зажимала ей рот рукой. Одна хотела все хорошенько обмозговать — другая противилась любой мысли. В глубине души я всячески поддерживал вторую. «Главное — не думать, Ян, — говорил я себе. — Все давно решено».
Около одиннадцати часов поток посетителей усилился. Моя ниша располагалась всего в каких-нибудь четырех метрах от входной двери, и между ними не было никаких препятствий, поэтому я все видел. Справа несколько человек сидели спиной ко мне за барной стойкой. Слева выстроились вдоль стены первые три столика, четвертый исчезал в клубах табачного дыма.
Я знал заранее, когда в зале появится очередной гость. Вот дверная ручка опускалась, проходило несколько секунд — и новый посетитель уже стоял на пороге. Большинство тут же оборачивалось, чтобы закрыть дверь. Но даже те, кто не делал этого, полагая, будто она захлопнется сама, замирали у входа, чтобы оглядеться, привыкнуть к табачной завесе, отыскать в зале знакомых и отметить тех, с кем хотелось бы подружиться.
Дверь освещалась вмонтированными в стены лампами, но лишь до полуметра. Далее ее пересекала тень массивной балки. Со своего места я мог видеть входящих примерно до уровня их шеи. Они носили мужскую и женскую обувь, с квадратными или острыми носками, черную или иных расцветок. Я различал их длинные или короткие ноги, узкие или широкие брюки, тощие фигуры и толстые животы, обтянутые яркими куртками или строгими пальто. Ни один из них не походил на другого, каждый был по-своему уникален. Однако всех их объединяло одно: они вступали в зал обезглавленными тенью балки, не имея ни лиц, ни мимики, ни эмоций.
Зажмурившись, я открыл глаза. Глотнул вина — оно пахло Делией. Тогда я вытер рот тыльной стороной ладони, чтобы уничтожить следы, которых не было. К счастью, я не депрессивный тип. Передо мной лежали листки бумаги, похожие на журналистские заметки. Но я не мог читать, буквы расплывались перед глазами.
В половине двенадцатого я вынул из кармана куртки черную шерстяную перчатку и положил на стол. Потом жадно схватил ее обеими ладонями, словно ребенок-сладкоежка шоколадку, и следующие три секунды прощался с сорока тремя годами своей жизни. Несколько мгновений ранее я думал только о Делии. Видимо, любил ее.
Я повернул перчатку так, что ее короткий большой палец указывал в сторону входа, положил ее на стол и прикрыл своей правой ладонью. Потом я просунул вовнутрь левую руку, осторожно двигая указательным пальцем, пока не почувствовал холод металлического рычажка.
Тем временем веселье в баре продолжалось, стирая любые проявления индивидуальности. Голоса смешались в одном неразличимом гуле, постоянно прерываемом отдельными громкими выкриками. Несомненно, алкоголь сыграл свою роль. И лишь имя Беатриче по-прежнему звучало отчетливо. Каждый раз, когда его слышал, я словно натыкался на железный столб. В остальном же обстановка нагоняла на меня тоску, и я радовался тому, что еще осознаю это.
Теребившие перчатку руки действовали словно помимо моего сознания. Я посмотрел на входную дверь. Стенные часы над барной стойкой показывали двадцать три тридцать восемь. Прошло еще три минуты, прежде чем дверная ручка опустилась в очередной раз. Минуты на три я затаил дыхание, это меня успокоило. Похоже, теперь мой мозг просто не мог давать другие команды, кроме тех, на которые был запрограммирован.
И вот дверь отворилась. Один-два-три-четыре, — считал я. Кончик указательного пальца левой руки двигался сам собой, как последний сопротивляющийся боец. Он то прижимался к холодному металлическому рычагу, то снова ослаблял давление. Появившаяся в дверном проеме фигура пряталась за большим темным кругом, будто надеялась таким образом избежать своей судьбы. Мне хотелось кричать, громко протестовать. Тот, кого я ждал, вошел, прикрываясь зонтом. Я был готов вскочить, но мои ноги будто парализовало. Губы онемели, пальцы не двигались, слившись в одно целое с предметом, который сжимали.
Секундная стрелка стенных часов обежала круг и еще немного. Дверная ручка снова опустилась, а я как сумасшедший стал считать до пяти. На цифре 3 мои барабанные перепонки словно лопнули, а сердце остановилось.
— Хотите еще чего-нибудь?
Вопрос был обращен ко мне. Забыв обо всем, я глядел Беатриче в лицо. Она испугалась, заметив мое волнение. Я не хотел этого, мне нельзя пугать людей.
— Нет, спасибо, — услышал я собственный голос, мысленно проклиная себя за неосторожность.
Вероятно, я даже улыбнулся. Беатриче исчезла, некоторое время перед моими глазами еще мелькало ее испуганное лицо. Потом голова снова опустела. Почти. В мозгу крутилось одно: два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь.
Пальцы снова заняли прежнюю позицию. Минутная стрелка переместилась на одно деление, прежде чем ручка опустилась. На счет «раз» приоткрылась щель. На «два» — в проеме показался мужской ботинок. «Три» — голубые джинсы. «Четыре» — вокруг поплыли красные блики, а затем все потемнело. Глаза заволокло пеленой. Я прижал ладони к лицу и наклонил голову. Указательный палец левой руки согнулся. Все мои физические и душевные силы сконцентрировались сейчас в этом пальце, давящем на курок. Я сжал зубы, пульс толчками отдавался в висках. Наконец металлический рычажок пошел вниз. На счет «пять» раздался глухой щелчок, и что-то тяжело упало возле входной двери. Этот звук еще долго отдавался эхом. Где-то далеко-далеко, в другой жизни.
2 глава
Я снова разрешил себе думать. Мне казалось, все они сейчас ринутся на меня и одолеют, повалят на пол, заставят лечь на спину. Они усядутся мне на руки, осыпая градом пощечин: удар слева, удар справа. Я представил, как моя голова будет мотаться из стороны в сторону, а на щеках появятся царапины от их ногтей.
А вскоре раздастся грубый, рассудительный голос:
— Хватит, оставьте его.
И я потеряю сознание. «Но в камере я опять приду в себя», — пронеслось у меня в голове. Я столько раз видел подобное в фильмах!
Я поднялся и положил перед собой варежку со спрятанным в нее пистолетом. Это означало: «Я сдаюсь». Я хотел, чтобы меня схватили и избили, причинили боль. Но мною никто не интересовался, они не замечали меня.
События разворачивались всего в нескольких метрах, у двери. Там сосредоточилась вся шумиха. Человек в красной куртке вытянулся на полу, Боб и остальные склонились над ним. Беатриче с кувшином воды стояла рядом. Я вспоминал ее испуганные глаза. Жаль, что ей пришлось видеть весь этот ужас. Я подумал о Делии. Просто проверил, способен ли я еще на это, и оказалось, что да. И тут я разрыдался без слез, если такое вообще возможно.
Боб поднялся с беспомощно-растерянным выражением лица, хорошо знакомым мне по криминальным фильмам. Не хватало только возгласа: «Доктора! Здесь есть врачи?» И вот уже «сэр» в длинном романтическом плаще склоняется над жертвой, пытаясь нащупать (безуспешно) пульс, а потом роняет ее безжизненную руку. Он прикладывает ухо к сердцу, заглядывает в глаза, отодвигая веки кончиками пальцев, и поднимается, отворачиваясь от лежащего на полу человека.
— К сожалению, я ничем помочь не могу. Он мертв, — провозглашает доктор, обводя взглядом толпу.
Я чувствовал, что выгляжу смешно, стоя с оружием, поэтому выпустил пистолет, разжав пальцы. Я не слышал, как он упал, вероятно, он больше не имел веса, а может, просто прилип ко мне намертво. Тем временем кто-то допил мой блауэр цвайгельт. Кто же, если не я сам? Время уходило впустую. Уже час ночи. У двери разыгрывался последний акт криминальной драмы. Два человека в белом, ворвавшись в бар, положили мужчину в красной куртке на носилки и исчезли. По толпе будто пробежал вздох облегчения. Напряжение, теперь уже равномерно распределившееся по залу, спадало. «Обстановка нормализировалась», — как сказал бы ведущий выпуска новостей.
Теперь никто не может покинуть помещение просто так. Это понятно. Но чтобы не тянуть резину, я хотел немедленно прояснить ситуацию. Однако прореагировали они оперативно. Вероятно, об этом уже успели позаботиться его родственники. Я глубоко вдохнул, собираясь перекричать стихающую суматоху возгласом: «Это сделал я!» — и уже протянул вперед скрещенные запястья, чтобы на них надели наручники. Но тут меня охватил ужас: я заметил инспектора Томе-ка. Слишком поздно: он уже увидел меня и, конечно, сразу поспешил ко мне.
— Я мог бы держать пари, что вы появитесь здесь раньше нас, — произнес он, грубовато усмехаясь и кладя мне на плечо руку.
Для Томека не существовало никаких «вы» и «ты», только «мы, полицейские» и «вы, журналисты». Он и не подозревал, как унижает меня подобным обобщением. Однако в остальном инспектор был милым человеком. Он покупал своей дочери на день рождения лошадей и прочие безделушки.
— Он мертв? — спросил я.
Вопрос показался Томеку наивным. Он видел, что я немного не в себе, и глядел на меня с сочувствием. Я был одним из его любимых репортеров, потому что никогда не задавал провокационных вопросов, ничего не вынюхивал. Я довольствовался тем, что мне давали, и писал обо всем этом. Тем не менее я плохой журналист, точнее, не журналист вообще. Правда, этого до сих пор никто не замечал.
— Уже что-нибудь разведали? — спросил Томек.
Я объяснил ему, что нахожусь здесь не по служебной надобности, употребив слово «случайно». Я стыдился, но не мог открыть Томеку правды. Я не пережил бы его взгляда.
Инспектор же сообщил мне, что им пока известно немногое. (Они всегда говорят так, и в большинстве случаев не лгут.) Убитого тут никто не знал. Может, в «наших» кругах он известен? Нет, ответил я, «мы» с ним тоже не знакомы. Преступник, я слышал, выстрелил только один раз? С близкого расстояния, подтвердил Томек. Пуля попала в один из желудочков сердца со спины.
— Со спины? — воскликнул я.
Томек решил, будто я возмущен коварством убийцы.
«Наверное, этот тип в красной куртке успел повернуться», — догадался я.
— Мы полагаем, что его застрелили с улицы, когда он заходил в бар, — произнес Томек.
— Но ведь дверь была закрыта, — пробормотал я. (Или открыта?)
Инспектор улыбнулся и по-отечески тронул меня за плечо. Он думал, что я в шоке, и не был далек от истины.
Беатриче принесла нам кофе и воды. Она решила, что мы с Томеком работаем вместе. На мгновение наши взгляды встретились, и я подумал, что охотно увез бы ее отсюда куда-нибудь в Бразилию. Самое ужасное, что она верила мне. Какое все-таки счастье, что я не депрессивный тип!
В помещении уже работали криминалисты, а полицейские обыскивали посетителей. Их выстроили в ряд и попросили вытянуть руки в стороны. Некоторых заставили раздеться. С ними обращались, как с преступниками. И все это из-за меня. Хорошо, что в зале находились только мужчины, которые к тому же выглядели вполне крепкими. Это несколько успокоило меня.
Меня не трогали, полагая, что я из команды инспектора. А для Томека лишь я один и оставался вне подозрения. Боб заметно присмирел. Он боялся меня как газетчика, способного в нескольких строчках уничтожить его преуспевающее заведение. Я чувствовал себя паршиво. Все пошло не так.
Не в силах стоять на ногах, я присел. Я не ел почти тридцать часов, и теперь меня мучила изжога. Я узнавал этот болезненный голод, который ничем не утолить. Можно было засунуть в рот хоть черствую корку хлеба, но как заставить себя проглотить ее! Мне предстояло разобраться еще с одной проблемой: с пистолетом. Он лежал на полу. Затолкав его ногой под стул, я нагнулся и подобрал оружие. Чтобы использовать свой последний шанс на немедленное признание, мне оставалось крикнуть: «А вот и орудие убийства!» Но слова застряли у меня в горле. И тогда левая рука затолкала пистолет в карман куртки, — она знала, что делает.
На негнущихся ногах я побрел к выходу. Место на деревянном полу, где лежал мужчина в красной куртке, было обведено мелом. В школе нас учили рассчитывать площадь и периметр таких геометрических фигур. Как прилежный ученик, я охотно делал это.
— Пропустите его, это журналист! — крикнул Томек дежурившему у двери полицейскому.
— Ступай домой, Ян, и выспись хорошенько, — сказал он мне.
Наверное, я выглядел ужасающе, если инспектор на сей раз отказался от привычной формы множественного числа.
— И приходи в комиссариат завтра утром, когда мы начнем готовить протокол! — продолжил Томек кричать мне в спину. — Может, тогда мы будем знать больше.
— Удачи, — пробормотал я.
Только за одно это слово меня следовало бы арестовать.
У входа я оглянулся на место, с которого стрелял, и опять прокрутил в уме, как все происходило. Беатриче скользнула по мне взглядом. «Бразилия…» — снова подумал я.
Скольких еще жизней это потребует?
3 глава
На улице я почувствовал себя преследователем и преследуемым в одном лице. Мне захотелось спрятаться — и вот я оказался в своей машине. Обстановка изменилась. Ведь теперь я стал беглецом, а на заднем сиденье лежала сумка, будто специально собранная для следственного изолятора, куда я не попал из-за неудачного стечения обстоятельств. «Неудачное стечение обстоятельств» — это фраза, кажется, из области медицины. Однако я сам использовал ее много лет, не отказывая себе в удовольствии посмеяться над безжизненным языком газетчиков. Одного меня это и веселило, другие находили подобные обороты вполне нормальными. Такие вот «обстоятельства»…
Небо прояснилось, дождь перестал барабанить по жестяной крыше. Я должен уехать, оторваться, отдохнуть. Я решил поставить автомобиль возле ближайшей полицейской будки, но не видел места для парковки. Припарковаться во втором ряду у меня не хватило смелости. Поэтому я поехал дальше. Голод — ничто по сравнению с тем, что я сейчас ощущал. Будто позвоночный столб вошел в голову и теперь выжимал последние остатки сознания из моего мозга.
Раньше я тосковал по своей тоске по Делии. И теперь я знал только один путь, ведущий в мое прошлое. Я выехал на него раньше, чем успел сообразить, куда, собственно, направляюсь. Словно автомобиль сам повез меня к Алекс. С улицы ее квартира показалась заброшенной, и это удивило меня. Мне понадобилось время, чтобы вспомнить: Алекс ушла от Грегора в самом конце моей прежней жизни. Наконец моя машина отыскала ее новый дом на улице с односторонним движением. Я нажал кнопку домофона так, что заболел палец.
— Кто там? — раздался голос в динамике.
Он звучал жалко. Еще бы, в три часа ночи!
— Это Ян, — почти выдохнул я. — К тебе можно?
— Что-нибудь случилось?
Теперь в голосе слышались неприятные нотки. Это было отчаяние Алекс.
Щелкнул замок в подъезде. Наверху дверь была уже открыта. Там стояла Алекс, беспомощная и усталая. Голубой халат висел на ней, как на вешалке. Короткие светлые волосы торчали в разные стороны. Щеки помялись, губы припухли, как у разбуженного ребенка. Мне тут же захотелось заняться с ней сексом. Я упал в ее объятья и крепко прижал ее к себе.
— Что случилось, Ян? — испуганно спросила она.
Я закрыл ей рот поцелуем, потом добрался до ее бедер, откинув махровый халат. Она не сопротивлялась, лишь тихо стонала. А может, вздыхала? Я не знал, хотела ли она того же, что и я, но был уверен, что ради меня она готова и на это.
Мы споткнулись о пустые картонные коробки в холодной спальне. Алекс помогла мне расстелить постель и упала на спину, словно пловчиха, стряхивая с себя халат. Пока мои руки стягивали с нее майку, я вдыхал тепло ее кожи, обнажавшейся миллиметр за миллиметром. Взяв ее за пальцы, я положил ее ладони на свои бедра и задал направление, в котором они должны двигаться. Через несколько секунд я уже лежал на ней голый, проталкиваясь между ее согнутых ног и обнимая их своими бедрами. «Алекс, Ян, Алекс, Ян…» — повторяли мы в одном умоляющем тоне.
Далее во мне словно волной поднялось все то, что я пережил за последние несколько часов. Все, что еще жило в моем теле, казалось, сконцентрировалось в одном месте, как упакованный груз, чтобы вырваться наружу. Прежде всего воспоминания о Делии. Смогу ли я когда-нибудь расстаться с этой женщиной? Как долго она еще будет преследовать меня? Я взглянул в глаза Алекс, полные желания, и закрыл свои. И снова я увидел красную куртку и бар Боба. Я никогда не смогу раз и навсегда запереть эту дверь.
Алекс дошла до высшей точки блаженства и начала успокаиваться, пока я подсчитывал наши с ней совместные стоны. Один. Второй. (Снова перед глазами поплыли красные круги, а потом все потемнело.) Третий. Четвертый. (Тут я опять зажмурил глаза, а затем открыл их.) Пятый. Освобождение. Опустошение. Мое страдание вырвалось наружу, его больше нет во мне. Мои локти подогнулись, и я стал опускаться на постель. Алекс подхватила меня. Я спрятал голову между ее грудями. Она гладила мне лицо.
— Почему ты плачешь, Ян? — спросила она.
— Я голоден, — услышал я собственный голос, прежде чем провалиться в сон.
Когда я проснулся, все шло своим чередом, без видимых улучшений. Я тоже существовал, к сожалению. Пребывал в свободном падении из блаженного бездумного состояния в осмысленную реальность и напрасно ждал столкновения. Я знал, что здесь меня быть не должно. Всему виной «неудачное стечение обстоятельств». И вот я наказан пением Элтона Джона, доносившимся из двух колонок. Солнечный свет ложился на постель, пробиваясь сквозь зеленые жалюзи. К счастью, Алекс рядом не оказалось. Как я мог прикоснуться к ней? В этом погребе, который почему-то назывался квартирой, пахло утренним кофе, а из соседней комнаты доносился стук сабо на деревянной подошве. Рядом на кровати лежала моя рубашка. Отыскав в своей сумке перчатку со спрятанным в ней пистолетом, я окончательно удостоверился в реальности вчерашних событий и снова зарыл оружие в кучу тряпья, спрятав его от самого себя. А потом, закрыв глаза, повторял вчерашнюю мантру: два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь.
У входа в помещение, которое предполагалось когда-нибудь превратить в кухню, стояла, прислонившись к двери, Алекс и безуспешно пыталась улыбаться «воскресному утру и теплому солнцу». Сотня тоскливых знаков вопроса тут же возникла в ее глазах.
— У тебя, случайно, не найдется черствой корки хлеба? — спросил я.
Так к ним добавился еще один, сто первый.
— Это как-то связано с Делией?
«Нет, — ответил я мысленно. — Просто я тут кое-кого убил».
Но вслух сказал, не желая портить ей воскресенье:
— Да, с Делией. Она звонила мне из Парижа. Собирается замуж за того писателя, ну, ты знаешь… за того французского ветрогона… чтобы рожать ему таких же французских ветрогонов… — Я попытался изобразить гнев и сжал кулаки.
Два десятка вопросительных знаков исчезли.
— А что это была за секс-атака сегодня ночью? Как тебя понимать, Ян? — спросила Алекс.
— Я хотел бы, я мог бы все тебе объяснить…
Но ответа не получилось. Ни одним вопросительным знаком не стало меньше. Когда-то мы любили друг друга, Алекс и я. Это случилось много лет назад и продолжалось две секунды. Сначала она была влюблена в меня одну секунду, следующую — я в нее. К сожалению, мгновения ускользнули от нас, и мы остались друзьями.
— Это был не ты, — произнесла Алекс, имея в виду вчерашний секс.
Прозвучало обидно, но похоже на правду.
— Я устал от одиночества и соскучился по тебе.
Можно лгать хорошо и плохо. Я лгал отвратительно.
— Грегор не объявлялся? — поинтересовался я.
Ни одного вопросительного знака не исчезло из ее взгляда. Алекс видела, что в данный момент меня это не волнует.
— Нет, он не звонил, — ответила она и провела по щеке пальцами, будто уничтожая следы давно высохших слез.
(Не исключено, что он объявлялся. Ведь она любила его. Таких ветрогонов любят, причем самые лучшие женщины.)
— Ты можешь, наконец, объяснить мне, что случилось? — спросила Алекс.
Все три черствые булочки были уже съедены, чай с персиковым вкусом выпит, и мое самочувствие несколько улучшилось.
— Дорогая Алекс, — обратился я к ней, и голос мой задрожал, как при произнесении торжественной речи, — у меня была чертовски трудная ночь, а ты меня приютила.
— И этого ты никогда не забудешь, — язвительно заметила она.
Я погладил ее лицо и приложил палец к губам, совсем как в любовном фильме среднего качества. В совсем плохом я бы еще шикнул на нее: «Тсссс…»
Когда я уходил, взгляд Алекс окончательно прояснился после сна, и вопросительные знаки читались в нем еще отчетливее. «К счастью, когда она все узнает, меня не будет рядом», — подумал я, понимая, что не пережил бы этой минуты.
4 глава
Никогда не верил, что преступника тянет на место совершенного злодеяния, однако в обед снова припарковался у бара. Я заглядывал в окна закрытого заведения, будто ждал того, кто наконец наденет на меня наручники и освободит от дальнейших мучений.
И такой случай представился, когда вдруг кто-то рывком распахнул дверь переднего пассажирского сиденья. Я сдался сразу же, может, даже слишком рано.
Мона Мидлански из «Абендпост», не дожидаясь приглашения, — что вполне соответствовало ее стилю, — уселась рядом со мной.
— Привет, Ян, не хотела тебя пугать, — солгала она.
— Поздно, — произнес я, положив руку на сердце, как плохой актер, имитирующий инфаркт.
При этом я был хорошим актером, потому что переживал сейчас самый настоящий инфаркт, делая вид, будто только разыгрываю его.
— Зачем ты сюда приехала? — спросил я, опередив аналогичный вопрос с ее стороны.
— Расследую убийство в среде геев, — объяснила она, как и полагается криминальному репортеру, работающему в бульварном жанре. — И поэтому ты мне сейчас очень кстати, — добавила Мона, грубо похлопывая меня по плечу. — Ведь мне известно, что за всем этим стоишь ты.
Нет, последнего она не говорила. Мне вообще было плевать, что она несла. Меня тогда ничто не волновало. Но слово «геев» запало мне в душу. Мой желудок снова сжался, забыв о трех булочках, съеденных за чаем у Алекс.
— В среде геев? — переспросил я.
— Да, инспектор Томек рассматривает и такую версию, — кивнула Мона. — Может, ты знаешь больше? Томек говорил, что ты находился там. Ничего не успел пронюхать? Ставлю пиво за любую информацию. Даже три пива.
«Три пива и дам потрогать грудь», — вероятно, добавила бы она, окажись на моем месте кто-нибудь другой. Но ко мне Мона питала особое уважение. Разумеется, она никогда не позволяла коллегам просто так прикасаться к своей груди. Но такова уж была игра, и она им нравилась. С ней их собачья работа становилась приятнее. Любое малейшее продвижение в расследовании становилось для них чем-то вроде прикосновения к груди Моны Мидлански, может, именно поэтому они и рыскали днем и ночью.
Я объяснил, что не занимаюсь данным случаем как журналист и нахожусь здесь не по долгу службы, а исключительно из личного интереса.
— Странное чувство испытывает человек, на глазах у которого кого-то убивают, — произнес я.
Мона с сочувствием посмотрела на меня. Она всегда считала меня мягкотелым и немного не от мира сего. Вероятно, чувствовала, что я не из их среды, однако отдавая мне должное как профессионалу.
— Позвони в редакцию, как только что-нибудь разведаешь, — попросила она. — Три пива — это здорово. Пока.
Лишь только дверца за ней захлопнулась, я завел мотор и поспешил в полицейский участок на Траубергассе. Я никого не знал там, но должен был наконец во всем сознаться. Эта ненастоящая, отягощенная прошлым свобода становилась для меня невыносимой.
В кабинете, где я появился около часу дня, все напоминало о казенном доме, каким он должен выглядеть в одно из солнечных октябрьских воскресений. Однако дежурный вел себя совсем не как страж порядка. Он держал в руках желтую кофейную чашку с изображением божьих коровок. Перед ним лежал раскрытый журнал с комиксами. В сущности, все полицейские — дети, не переставшие играть в сыщиков. Он посмотрел на меня, словно я только что осознал самую большую ошибку в своей жизни (именно сейчас, в это солнечное октябрьское воскресенье в час пополудни).
— Я убил человека, — сказал я, не в силах больше вымолвить ни слова.
Он понимающе кивнул и предложил мне стул. Поставил чашку, закрыл журнал комиксов («Астерикс и римляне») и спросил преувеличенно спокойно:
— У вас есть паспорт?
Я достал из внутреннего кармана куртки перчатку со спрятанным в ней пистолетом и положил на стол.
— Вот орудие убийства.
Полицейский отодвинул перчатку в сторону и еще раз потребовал удостоверение личности. Он напоминал Майка Хаммера после двадцати лет безупречной службы и, похоже, все еще верил в неиспорченность человеческой природы.
Самой большой моей силой и слабостью было соответствовать ожиданиям. За неимением лучшего, я достал журналистское удостоверение. Полицейский ухмыльнулся, но тотчас снова посерьезнел.
— Ян Хайгерер из «Культурвельт», — прочитал он.
Это прозвучало, как сигнал отбоя, словно он вдруг нашел ответы на все повисшие в воздухе вопросы.
— Это я совершил прошлой ночью убийство в баре Боба, — произнес я громко и решительно. — И стрелял именно из этого пистолета.
Я кивнул на перчатку, которую дежурный будто только сейчас заметил. В его голове никак не могли увязаться между собой четыре вещи: мое появление в участке, удостоверение личности, признание и пистолет.
Тем не менее он попросил меня задержаться. И я долго сидел, глядя, как он, прикрывшись рукой, вел какие-то таинственные разговоры по рации, наблюдая за мной исподтишка, как старался выглядеть подозрительным и в то же время доверительно мне улыбался.
Между делом мы составили протокол, то есть я говорил, а он записывал. Так, небольшая формальность. (Видимо, и моя жизнь была, в сущности, делом неважным.) Поскольку он не давил на меня, я никак не мог сосредоточиться. Во время нашего разговора я думал о Делии, даже мысленно целовал ее, несмотря на то что мы вот уже четыре года жили порознь. И я хотел, чтобы она снова полюбила меня за это. За то, что я тут нахожусь.
К нам присоединились еще двое коллег моего собеседника. В воздухе витали запахи воскресного дежурства в солнечный октябрьский день, должно быть, пивная находилась где-нибудь за углом. Один из вошедших сразу заинтересовался оружием. Он внимательно изучал его, не трогая руками. Потом пистолет тщательно упаковали, как показывают в посредственных криминальных фильмах. Второй дежурный объяснял мне, почему он подписался на «Культурвельт»: это интересная и серьезная газета. Я поблагодарил его, хотя и не мог с ним согласиться. Серьезных газет не бывает, как и черной плесени.
Вечером они доставили меня в центральный комиссариат. Там меня, как почетного гостя, приветствовал психиатр. Он вынес свой вердикт, лишь только завидев меня: «Вероятно, господин репортер принял вчерашнее убийство слишком близко к сердцу». Я пытался возражать. Врач взял у меня кровь, проверил меня на алкотестере (этот анализ доставил ему и полицейским особое удовольствие) и сосредоточился на изучении моих зрачков, пытаясь обнаружить в них признаки помешательства.
— Я ничего не утверждаю, но некоторые люди отличаются особой восприимчивостью к происходящим вокруг них событиям, — говорил он, дыша мне в лицо через рот, как и все врачи.
Я кивнул, потому что был хорошо воспитан. За это мне дали чай и бутерброд с ветчиной и ломтиком помидора. Я ел, преодолевая тошноту. Вскоре мне стало плохо. Я пришел в ужас от самого себя и от людей, которые сейчас мной занимались.
Потом мне разрешили немного подремать на диване. Не иначе как доктор сделал мне инъекцию против излишней восприимчивости. Проснувшись, я увидел инспектора Томека. Он сидел рядом со мной с видом заботливого старшего брата. Разве что за ручку меня не держал.
— Так вот вы какие! — воскликнул он и громко рассмеялся. — Всего один раз пережили то, через что мы проходим каждый день, и уже нервишки не выдержали.
Я закрыл глаза, чтобы избавить себя от этой кошмарной сцены. Напрасно.
— Выше голову, Ян, нам уже удалось на него выйти, — утешал меня Томек. — Мы идем по горячим следам, можно сказать, по раскаленным. — Ему так понравилось это выражение, что он снова захохотал. — Завтра вы увидите их крупным планом в ваших газетах. Покойник еще не остыл, а два его совсем тепленьких дружка не имеют надежного алиби. — Он постучал по краю дивана, давая понять, что разговор окончен.
— Я могу здесь остаться? — спросил я.
Это прозвучало так жалобно, что я смутился.
— Разумеется, Ян, выспись хорошенько. Ты переутомился. Синдром эмоционального выгорания — так они это называют. — Томек собрался уходить, но вдруг произнес: — Да, и еще одно. — Он строго посмотрел на меня. — У тебя есть лицензия на оружие?
— Нет, — ответил я.
Он поднял указательный палец и несколько раз медленно покачал им из стороны в сторону.
5 глава
Около полуночи я проснулся. «Весь взмокший от пота», — как пишут в девяноста из ста детективных романов. Мне снился сон, который мучил меня постоянно: будто бы я кого-то убил, а труп спрятал в подвале. Ухудшения своего состояния я практически не чувствовал. Я находился в пустом медицинском кабинете полицейского участка, пропахшем оружейным маслом и лекарствами. Здесь обрабатывали подозреваемых, что, по мнению полицейских, само по себе являлось частью возлагаемого на них наказания. Среди преступников попадались и безобидные провокаторы, помогающие полицейским выпустить пар. Я сам часто писал о таких.
Прежде всего я подумал о том, что до сих пор нахожусь не в камере. То есть они терпели мое пребывание в участке, но так и не взяли под стражу. Значит, мне нечего здесь делать. Надо отсюда бежать и как можно скорее. В кабинете секретаря горел свет. Голос Рода Стюарта звучал жалко, это все равно что повторять ритуал погребения только потому, что первый раз получилось красиво. Двое сонных полицейских слонялись без дела.
— Выспались? — спросил меня один.
— Да, спасибо, — ответил я, следуя привычке благодарить за дурацкие вопросы. — Приятного дежурства! — пожелал я на прощание, потому что мне было уже все равно.
Второй взглянул на часы и сделал какую-то отметку в бумагах.
Я покидал участок с совершенно пустой головой. Ни одна из клеток моего мозга не работала. Однако моя машина подобрала меня, и мы поехали, не теряя надежды достигнуть цели нашей поездки. Где-то под задним пассажирским сиденьем до сих пор лежали ключи. Ведь у меня была квартира, совсем недавно, меньше сотни часов назад. «Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь», — повторял я.
Я направился бы домой, если бы меня там ждала Делия. Нет, тогда бы я не шлялся по городу, заставляя ее ждать. Она не должна была ждать и никогда не делала этого. Но мы отвернулись друг от друга в поисках людей, с которыми можно было бы начать новую жизнь. Нам захотелось опереться на кого-нибудь, с кем-нибудь обняться, куда-нибудь причалить, выплакаться.
Так получилось, что я снова оказался у дверей бара Боба. Я вошел, оставив машину обеспечивать мне прикрытие. В зале стоял запах, какой распространяет пепельница с плохо затушенной сигаретой. Завидев меня, Боб испугался, решив, наверное, что встреча со мной предвещает очередного покойника. Опершись руками о барную стойку, я заказал пол-литра блауэр цвайгельт.
— Ничего не нашли? — поинтересовался Боб, словно это я занимался поисками преступника.
— Ничего.
Он успокоился. Ему показалось, что он знает причину моего плохого самочувствия.
— Убитый был геем, — сообщил он, хотя я не слушал. — Здесь разыгралась драма ревности, говорю я тебе. Геи такого не прощают.
— Мне надо присесть за столик, — произнес я. — Можно еще пол-литра цвайгельт, Боб?
Столик в нише оказался свободным. Уровень алкоголя в крови позволил мне до него добраться и опуститься на место убийцы. Прислонившись спиной к стене, я уставился на входную дверь и представил того типа в красной куртке, контуры фигуры которого постепенно размывались по мере опорожнения бутылки. Вскоре в поле моего зрения попала Беатриче, и с того самого момента я следовал за ней взглядом от одного столика к другому, собирал стаканы, менял пепельницы, приносил новые свечи.
Она подошла ко мне, заметив мое внимание и угадав, что я чего-то хочу от нее. И тогда я спросил, можно ли мне приложиться своей щекой к ее животу с маленьким серебряным колечком в пупке, чтобы на мгновение почувствовать себя таким же молодым и голопузым, как она. Разумеется, я не говорил ей этого. Просто заказал графин красного вина, хотя знал, что заведение закрывается. Тем не менее она принесла мне его. И тогда я предложил ей выпить со мной. Она согласилась.
Мы беседовали, если это можно так назвать, потому что я почти не говорил. Беатриче оказалась студенткой. Ее лицо находилось сейчас всего в нескольких миллиметрах от моего. Я порядком опьянел. Она изучала экономику, но хотела перевестись на психологический факультет. Я тронул ее за плечо. Беатриче смотрела на меня участливо, как мать.
— Вам не следует больше пить, — заметила она, когда я одним махом осушил стакан. — Убитый был вашим другом?
— Пожалуйста, не надо, — услышал я собственный лепет.
Вскоре последовали две паузы: одна — чтобы выпить, вторая — расслабиться. Я ткнулся лбом в ключицу Беатриче и коснулся щекой шеи. Неужели это я так рыдал?
— Все будет в порядке, — успокаивала меня она.
Все вокруг завертелось, а затем погрузилось в темноту. Позднее, когда я открыл глаза, в зале никого не было, а стулья стояли на столах. Музыка смолкла.
В следующий раз меня разбудил ее голос:
— Так, значит, в Бразилию?
Мы находились на улице, было прохладно. Беатриче поддерживала меня.
— Значит, в Бразилию? — Она засмеялась.
Я обнял и поцеловал ее. В мечтах или на самом деле?
А потом мое тело валялось на охряно-желтом диване. Рядом на стеклянном столике стоял кувшин с водой. Для меня или для цветов? Нет, все-таки для меня. Моя мука продолжалась. На сей раз я вовлек в круговорот своих страданий юную официантку.
— Ну, воскресший из мертвых, как дела? — крикнула она из соседней комнаты.
У нее был сладкий голос. «Сладкий» — слово, которое можно произносить только мысленно. Сказанное вслух, оно всегда истолковывается неправильно и не воспринимается всерьез. А я относился к сладкоголосой Беатриче гораздо серьезнее, чем к себе.
Очевидно, я находился в ее квартире. В моих планах этого не предусматривалось. Я не имел ни малейшего понятия, как здесь оказался. Подобное могло бы случиться с каждым, только не со мной.
— Чертовски неприятная история, — прохрипел я.
При этом моя черепная коробка окончательно развалилась на мелкие части, и я ощутил адскую боль.
— Вы всегда так напиваетесь? — поинтересовалась Беатриче.
Теперь она находилась где-то рядом.
— Я не хотел вам навязываться…
— А вы и не навязывались. Вы были без сознания.
Она присела на край дивана, положила ногу на ногу и направила на меня острую коленку — жест, в котором мне почудился упрек. Я собрался с последними силами и принял сидячее положение.
— Я не могла оставить вас на улице в четыре часа утра, — произнесла Беатриче.
Я не знал, как мне извиниться за свое пьяное поведение, и в то же время так часто это делал, что Беатриче устала меня слушать.
— Вы помните, что говорили мне? — спросила она.
Из сладкого ее голос стал полусладким. Теперь Беатриче смотрела на меня подозрительно-испытующе, что совсем не сочеталось с ее легкомысленным обликом.
— Ничего не помню, — оправдывался я.
И это должно было означать: «Я ничего не хочу знать, оставьте меня в покое».
— Речь шла об убийстве, — произнесла она.
Ее строгие глаза моргали, будто фотографировали меня.
— Об убийстве?
Как я мог об этом забыть?
— О том человеке в красной куртке, — продолжила Беатриче уже с горечью.
«В красной куртке»? Это были мои слова, почему она их говорила? Я боялся и думать обо всем этом.
— У вас нет таблеток от головной боли? — простонал я.
И это должно было означать: «Я сдаюсь». Беатриче оказалась скромной и отзывчивой победительницей.
— Хорошо, я принесу вам одну, — кивнула она.
Но я попросил две.
Люди всегда относились ко мне по-доброму. Вдобавок ко всему, что произошло, я попросил у нее разрешения принять душ. Она повесила на ручку двери ванной комнаты чистое нижнее белье. Я не стал интересоваться, чье оно. Похоже, его владелец был моложе меня лет на двадцать. Вне всяких сомнений, он занимался серфингом и сноубордом.
— Ну, и что вы теперь собираетесь делать? — поинтересовалась Беатриче.
Она налила мне кофе, который вдохнул в меня жизнь.
— Бразилия? — усмехнулась Беатриче.
Ее голос снова зазвучал сладко, даже очень. «Да, Бразилия, — хотелось ответить мне. — Поедешь со мной?» У меня было два шанса против девяноста восьми, что она согласится: «Да, а почему нет?» В детективных романах молодые легкомысленные женщины часто отправлялись за границу с незнакомыми убийцами.
Но я сказал совсем другое:
— Поеду домой и прилягу.
— Хорошая идея, — кивнула она не без горечи в голосе.
С вероятностью пятьдесят на пятьдесят Беатриче могла бы предложить мне остаться у нее еще на пару часов. Как жаль! Я поблагодарил свою спасительницу, запечатлев на ее щеке легкомысленный поцелуй. Она зажмурилась и вздохнула, что означало: «всего хорошего!»
Я не смог удержаться от последнего вопроса:
— А почему вы не позвонили в полицию?
— В полицию?
И это был ответ.
Я нашел свою машину через три переулка. Город окутал густой туман; и я видел вокруг лишь клубящуюся бездну. Коллеги из «Культурвельт» уже сидят в редакции и выжимают из этого затхлого октябрьского дня последние соки, пока от него не останутся одни заголовки. Я взял отпуск на неделю, чтобы побыть свободным. Удивлялся собственной дерзости. Поэтому сейчас ничто не мешало мне поехать домой.
Ключи отворили дверь в мое прошлое, в бесполезное и отягощенное собственной бессмысленностью десятилетие жизни. На полу лежала кипа макулатуры, предлагавшая по самой выгодной цене мясо с брюшной части. На вешалке болтал рукавами старый черный пиджак. Он мечтал о более мощных плечах, чем мои. Возле окна в кухне стояла в кадке моя мужественная спармания — единственное, что здесь еще было живо. Она опустила листья, чтобы я почувствовал себя виноватым. Я дал ей трехдневную порцию воды, дальше пусть заботится о себе сама. Жизнь с каждым днем все сложнее. Мимо притихших стенных часов я проскользнул в спальню и упал на кровать, ткнувшись носом в подушку. Рядом стоял телефон — что-то вроде почетного караула у гроба.
Звонок, которого я ждал, раздался лишь поздно вечером.
— Это инспектор Томек. — Его голос дрожал от напряжения, как я того и желал. — Не мог бы ты подъехать к нам в комиссариат, Ян? У нас есть к тебе несколько важных вопросов. Ты должен кое-что нам объяснить. Речь пойдет…
— Я выезжаю немедленно!
Время побеждать и время проигрывать… Я бросил прощальный взгляд в сторону спармании и наступил на рекламную листовку с предложением мяса с брюшной части. Захлопнул за собой дверь, оставив ключ внутри.
Томек сухо поздоровался со мной. Он раскраснелся, как рак. Не от гнева, от смущения. А оно заразительно, поэтому мне тоже стало стыдно за нас обоих. Двое откомандированных полицейских, лица которых показались мне знакомыми, помогали инспектору подбирать нужные слова. Они сообщили мне, что только что получили результаты обследования моего оружия. Криминалистическая рутина.
— К нашему сожалению, установлено…
Томек теребил кончиками пальцев свои усы.
— Это орудие убийства, — сообщил полицейский, что был выше ростом.
— С большой долей вероятности, — уточнил Томек и добавил: — Разумеется, мы должны проверить еще раз.
Он выдохнул воздух, издав при этом шипящий звук, будто обжег себе язык.
— Получили мы и результаты обследования отпечатков пальцев, — продолжил второй полицейский, низенький и круглый.
Остальные тревожно переглянулись. Вероятно, это было что-то вроде считалочки: кому сообщить мне следующую новость. Жребий пал на высокого.
— Мы нашли там только ваши отпечатки пальцев, — произнес он.
— Разумеется, Ян, это еще ни о чем не свидетельствует, — заверил Томек.
Я высвободил плечо из-под его руки.
— Могу я попросить у вас стакан воды?
Все трое бросились исполнять мое пожелание. Толстяк оказался проворнее остальных.
— Где ты взял этот пистолет, Ян? — поинтересовался Томек.
Он попросил меня на сей раз обойтись без «этих ваших журналистских штучек» и «рассказать все как есть», ведь речь идет об убийстве, и тот, кто скрывает информацию от полиции, становится соучастником.
— Итак, где ты его нашел?
— Я не нашел его, он всегда находился при мне, в этой перчатке, — ответил я. — А перчатка лежала в кармане куртки. Черт возьми, это моя перчатка, моя куртка, мое оружие, и убийца — я.
Последней фразы я не сказал. Все и так ясно. Как мне казалось.
— Ну, как хотите, — пробурчал Томек.
Он имел в виду «нас, журналистов». Разозлился. Воображал заговор работников прессы, репортерскую инсценировку. Вероятно, в мыслях Томек уже стоял перед своим начальником, который тыкал пальцем в развернутую перед ним газетенку: «И что же я тут читаю, инспектор?..»
— К сожалению, Ян, мы вынуждены немедленно задержать тебя, — сказал он.
Все. Двери захлопнулись. Двое других стояли рядом и молчали, словно не знали, что со мной делать.
6 глава
В моем распоряжении оставалось три дня, прежде чем за мной должны были захлопнуться двери камеры предварительного заключения. Эти три дня и две бессонные ночи в полиции — тема отдельного романа. Еще будучи ведущим редактором в издательстве «Эрфос», я не любил главы, посвященные полицейским допросам. Каждый раз, натыкаясь на них, я словно ощущал боль. В них слишком часто проникали клише из дешевых криминальных фильмов. Для авторов существовали только две разновидности полицейских: добрые и злые, герои и мерзавцы, гениальные знатоки человеческой психики и жестокие идиоты.
Высокую литературу, которая могла бы уловить нюансы, полицейские участки не интересовали. Никто и не желал разрушения подобных стереотипов. Кто из авторов действительно имел представление о скуке и приступах ярости полицейских во время допросов? Кто из них тридцать шесть часов кряду сидел с ними за одним столом в качестве подозреваемого в убийстве?
В рукописях, приходивших в издательство «Эрфос», полицейские всегда занимались трюкачеством: строили разные каверзы, выбивая из подозреваемых признание, и делились на статистов, садистов и тупых исполнителей. Для них все средства были хороши, лишь бы столкнуть трагического героя, с которым автор отождествлял самого себя, в пропасть. А читателя неизменно вынуждали становиться на сторону жертвы. И что бы ни следовало за этим — смертельное столкновение или мягкая посадка, — отношение к полиции не менялось. Потому что ни один из авторов никогда не имел с ней дела, ничего не понимал и не желал понимать в ее работе.
За три дня и две ночи я продвинулся в своих познаниях дальше, чем за три предыдущих года моей жизни. Дальше вглубь, разумеется, и вширь. И дальше внутрь себя. Можно сказать, трагические обстоятельства сдружили нас четверых. Один из нас совершил ужасный поступок, убил человека. А его приятели — все трое носили форму — не могли в это поверить. Они даже были обязаны поверить, но никак не хотели.
Сотни раз они спрашивали меня: почему? Под конец это звучало как «зачем ты втянул нас во все это?». Они чувствовали себя почти соучастниками. Я не мог их обманывать: друзьям не лгут. Я не отвечал им, и мое молчание лишь укрепляло в них надежду в моей невиновности. Только на это нам понадобилось три дня.
Большую часть времени мы беседовали на посторонние темы, например о нас самих. Ломан, имевший более высокий чин, чем остальные, был всего на несколько лет старше меня. Он устал от службы и сам высмеивал иллюзорность целей, которые некогда преследовал. Курсировать на яхте под парусом где-нибудь вокруг островов Зеленого Мыса — это ему было бы сейчас в самый раз. Или пересекать на мотоцикле какую-нибудь австралийскую пустыню с женщиной на заднем сиденье — ее надо придумывать отдельно, — обхватившей его туловище и сцепившей руки в замок на его животе, который, конечно же, должен быть килограммов на десять легче и не так сильно выдаваться вперед.
Тем не менее Ломан всю жизнь был женат на одной женщине и имел двоих детей. Точнее, дети были у его жены, а у него — только его работа, за ней он прятался от собственного одиночества. Но квартиру в доме типовой застройки они содержали вместе. Иначе нельзя, ведь они взяли кредит. Этим летом собрали первый урожай помидоров черри на своем маленьком участке, целых пять штук! На следующий год ожидалось в три раза больше. Так у Ломана появилась новая цель.
Двое других были моложе. Резковатый Ребитц, видимо, страдал от превратностей судьбы, сделавшей почему-то Тома Круза Томом Крузом, а его — инспектором полиции Людвигом Ребитцем, а не наоборот. Он мог приготовить коктейль из тридцати восьми различных напитков, и когда начинал об этом рассказывать, над Майами-Бич, где он, вне всякого сомнения, когда-нибудь откроет бар, солнце сияло ярче.
Вторую ночь мы говорили о женщинах. И тут он показал нам фотографии своей Николь, которая училась в школе манекенщиц, велев рассматривать их именно в том порядке, в каком они сложены, и не перемешивать. От снимка к снимку мы узнавали Николь все лучше, открывая для себя новые детали ее красивого тела. В конце концов она предстала перед нами в бикини, крупным планом. Мне не понравился ее взгляд. Такое впечатление, будто она хотела немедленно заняться сексом с фотографом, на которого смотрела.
— Этот снимок я сделал всего несколько недель назад, — пояснил Ребитц.
Ломан присвистнул сквозь зубы. Я не смог добавить ничего, кроме банального «черт возьми». Над Ребитцем будто одновременно взошли три солнца Флориды.
Брандтнер, самый молодой и тихий, был бас-гитаристом в группе «Ультимо», вероятно, лучшем полицейском блюзовом коллективе города. (Хотя я не думаю, что существовали и другие.) Он же писал для них песни. Брандтнер встречался с Сюзи из тринадцатого комиссариата, певицей той же «Ультимо». Последнее следует понимать так: Брандтнер полагал, что у них с Сюзи роман, поскольку очень хотел этого, однако девушка его точки зрения не разделяла.
На прощание я подарил Брандтнеру песню о любви, которую знал наизусть и записал на обратной стороне протокольного формуляра. Речь в ней шла об одном мужчине. Он любил некую женщину больше, чем самого себя, и имел глупость ей об этом сообщить. Она расценила его слова как самое лучшее признание. Короче говоря, все у них закончилось хорошо.
Этот текст я написал для Делии, однако положить его на музыку не успел. К тому же писатель Жан Лега уже тогда встал между нами, и Делия захотела закрутить с ним роман, что у нее сразу же получилось. И с того момента я стал собирать свои песни, в которых речь шла о нас с Делией и все кончалось хорошо, в папочку. Брандтнер пришел в восторг от моего подарка. Он признался, что всегда мучился над текстами. С мелодиями было проще.
Потом меня вынудили рассказать о себе. Это далось нелегко и мне, и им, так как делалось уже по долгу службы, собственно, из-за этого все мы здесь и находились. Я почувствовал, как трое моих приятелей напряглись. Теперь их волновал один вопрос: почему я утверждаю, будто застрелил человека в красной куртке. И в каждом моем предложении, в каждом незначительном происшествии моей жизни они искали объяснение.
Я старался больше говорить о женщинах. Не хотел, чтобы они приняли меня за гея. Вероятно, именно поэтому они и сочли меня таковым.
За три дня они успели получить новые результаты криминалистической экспертизы, во всяком случае, лица моих приятелей заметно помрачнели. Наконец Ломан признался мне, что я остался единственным подозреваемым и выстрел в баре Боба, как установило следствие, произведен именно из моего угла.
Это успокоило меня. Однако, к сожалению, еще больше встревожило остальных. Юного Брандтнера я особенно жалел. Он еще верил в человеческую доброту, это было видно невооруженным глазом. Брандтнер едва не плакал, не желая примириться с тем фактом, что я — убийца. Я подарил ему песню, а он вместо благодарности должен надеть на меня наручники. Этого он не мог простить ни мне, ни себе.
Наша беседа заняла сорок четыре страницы протокола, и мне понадобилось три часа, чтобы перечитать ее. Я требовал исправить каждое третье предложение, но это мало помогало против общего тона, в котором был выдержан весь текст. Они приписали мне то, чего я не говорил, сумев обойтись исключительно моими словами. «Случай», «несчастный случай» — так и сквозило между строчками. Я мог быть пьян в стельку и не осознавал своих действий. Или же меня запугал настоящий убийца, и я подвергаюсь давлению с его стороны. Одно из двух: либо это сделал не я, либо я шизофреник и убийство совершила неподвластная мне часть моей личности, неподконтрольная моей воле, и за нее я, следовательно, не отвечаю.
По версии моих друзей, мое преступление начисто лишено смысла и логики. Не существовало и намека на то, что могло бы послужить мотивом. В последнем я был виноват сам: ведь я упорно отказывался говорить с ними о человеке в красной куртке. Боялся даже думать о нем.
С моей стороны было бы жестоко требовать нового протокола. Я не хотел мучить своих друзей. Я оставил текст и подписал сорок третью страницу. На последнем листе хотел поместить свое итоговое заявление, продиктовав Ребитцу буквально следующее:
«Я, Ян Хайгерер, решительно настаиваю на том, что заранее спланировал убийство до мельчайших деталей и совершил его умышленно. При этом я не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни какого-либо иного душевного помешательства. Голова моя оставалась ясной. О жертве мне сказать нечего. Мотив я раскрою позже. Я заявляю, что не раскаиваюсь в содеянном».
По поводу последнего предложения мы спорили не менее часа, прежде чем вычеркнули его из протокола. Их было трое, и они вынудили меня сдаться.
7 глава
Я снова плыл против течения. Сам себе я представлялся туристом, наконец нашедшим пристанище, уже отчаявшись бродить в чужой стране среди людей, говорящих на непонятном языке. Доставивший меня в камеру тюремный охранник вполне мог сойти за потрепанного жизнью гостиничного портье, разве что держал в руках огромную связку ключей. Не хватало только носильщика, потому что отсутствовал багаж. Значит, о чаевых можно не беспокоиться.
Я протянул ему руку, точнее, обе сразу, потому что иначе не мог. Он оглядел меня, освободил от наручников и заверил, что считает меня невиновным, независимо от того, что я там натворил. Я начинал привыкать к таким словам. Он счел своим долгом утешать меня на пути в камеру. Говорил в основном о плохой погоде и скверных прогнозах, о холодных выходных и предстоящей зиме. Он имел в виду, что лучше всего пересидеть этот противный сезон в камере. Я согласился с ним и почувствовал облегчение. Однако он погрустнел, очевидно решив, что я сделал это из вежливости. Он и вправду поменялся бы со мной местами, только ради того, чтобы облегчить совесть. Как и большинство людей, он ненавидел свою работу.
Камера оказалась тесной, убогой комнаткой, где вряд ли можно было чувствовать себя свободным. Однако здесь я окончательно успокоился. С первого взгляда стало ясно, какие возможности предоставляются тут заключенному: никаких. Но здесь можно было дышать, спать, бодрствовать и думать о Делии. Я уже представлял нашу неожиданную встречу в этих стенах. Она явится сюда вместе со своим неотразимым французским ветрогоном Жаном Лега, воспользовавшись моим законным правом на свидание. Пара-тройка ярких переживаний — вот что нужно ему сейчас для подпитки нового, столь перспективного и долго им вынашиваемого романа. (Надо заметить, из долго вынашиваемых и перспективных романов никогда не получается ничего хорошего. Что-нибудь одно: либо ожидание, либо проза. Потому что талантливое произведение всегда непредсказуемо.) И вот Делия пойдет по тюремному коридору, опершись на руку Жана Лега. А потом дверь моей камеры откроется. Осмотрев убогое помещение, Делия видит меня. А я сижу на койке. Я брошу в ее сторону взгляд, словно удочку без наживки на крючке. Что она скажет? «Ян, Ян, Ян…» Или что там говорят в подобных ситуациях? А потом вдруг вырвется из рук ветрогона, словно это он во всем виноват. (Прекрасная деталь!) «У меня все в порядке, Делия», — успокою ее я. Раньше я не одолел бы такой сцены без подступающей к горлу тошноты. Однако я мог быть пошлым, сентиментальным, жалким писателишкой, когда того хотел. А я хотел. Я наслаждался своей фантазией и даже позволил стечь по моей щеке паре соленых слезинок.
Самое неприятное началось после обеда. На мой уродливый раскладной стол бросили кипу газет. К счастью, я не депрессивный тип. Несколько часов я их не трогал. К вечеру их вид стал для меня невыносим, и я засунул прессу под шкаф. Однако ночью, будучи не в состоянии заснуть, я принялся вытаскивать газеты, одну за другой, будто бы только ради того, чтобы просмотреть новостные рубрики. Пролистал политику, экономику, задержался на «Киноафише». Это выглядело как извращение, но доставляло мне удовольствие. Раньше я ходил в кино, потому что так нужно, люди таким образом проводят свое свободное время. Каждый фильм — калька предыдущего, а калькировать проще и веселее, чем писать с натуры. Тогда я снова и снова вчитывался в афиши в поисках фильма, который послужил оригиналом для всех остальных. Однако его не существовало. А сейчас о кино я могу лишь мечтать и готов пересмотреть все фильмы. И тот, главный, больше меня не занимает.
Я листал дальше и дальше. Вероятно, работал какой-то деструктивный инстинкт, против которого я был бессилен. Когда болит зуб, постоянно трогаешь его то кончиком языка, то пальцем, словно специально, чтобы усилить боль. То же происходило сейчас со мной. Конечно же, я не мог пройти мимо новостей. Ни одна из газет не обошла вниманием мой случай. Даже и теперь, неделю спустя, он оставался для журналистов главной темой. «Выстрел в баре» — звучало чертовски заманчиво.
В рубрике последних известий я прочитал следующее: «Наконец появилась зацепка в расследовании преступления в баре. Главный инспектор Томек подтвердил факт обнаружения орудия убийства. На основании обследования отпечатков пальцев ничего конкретного установить не удалось. Так или иначе, следствие вступило в решающую стадию».
Они ничего не знали.
«Анцайгер» развивала «гомосексуальную» версию. «Подозреваемый в тюрьме. Полиция отказывается от комментариев». Обо мне ни слова. «Культурвельт», где я в качестве сотрудника мучился еще несколько дней назад, отделалась коротенькой заметкой. Я боялся заглянуть в нее. Однако Крис Райзенауэр играл в молчанку, как и все остальные. Крис был хорошим парнем и порядочным журналистом. Мне повезло, что работал с ним в одной комнате. Он не хуже меня понимал, чего стоит наша работа, и выполнял ее лучше многих. Крис никогда не писал больше, чем знал. По причине своей лени или порядочности, но он всегда позволял правде идти на шаг впереди себя и следовал за ней неуклонно. Иногда ей удавалось оторваться от него, и тогда Крис терпел неудачу. Но карьеристом он не был. И еще, он знал, в какой кондитерской продается лучшая в городе нуга. А когда я уезжал в отпуск, Крис заботился о моей спармании.
«Абендпост» я взял в руки в последнюю очередь. Фотография крупным планом на девятой странице на мгновение парализовала мой мозг. Рольф Лентц. Тот самый, в красной куртке. Он все еще смотрел на меня. Он до сих пор ухмылялся, высмеивал, умолял меня, как живой. Я накрыл снимок ладонью. Однако не мог спрятать той истории, частью которой оставалось это лицо. К сожалению, я осознал это слишком поздно.
Наконец я прочитал заголовок: «Как гей ты умираешь каждый день по три раза». «Убитый художник-акционист[2] Рольф Лентц вращался и среди знаменитостей». Подпись: Мона Мидлански. Кому же ты все-таки поставила пиво? Кому пообещала дать потрогать свою грудь? Кого провела на сей раз?
Первые ночи в камере протекали однообразно. Я видел перед собой бесконечное слайд-шоу из одного и того же изображения: портрета человека в красной куртке. Я поклялся себе никогда не называть его по имени и ничего больше не читать о нем в газетах. Пообещал заткнуть себе уши, если кто-нибудь в моем присутствии заговорит о нем. Я умел это делать без помощи рук еще со школьной скамьи. «Ну-ка, детки, сейчас мы закроем рот и откроем уши!» Я блокировал то и другое. В этом состоял мой тихий бунт, правда, о нем никто не подозревал.
Дни проходили лучше. В основном я спал, отдыхая от ночного слайд-шоу. Самым тяжелым в моем нынешнем положении оказалось то, что кто угодно мог зайти ко мне, когда ему вздумается. Сначала это были сотрудники «отеля». Они приносили мне еду, но она не могла пробудить аппетит в нормальном человеке. Эти задерживались у меня положенное время и отличались приветливостью. Они были готовы часами напролет болтать со мной. По какому-то странному недоразумению я производил впечатление человека отзывчивого, а они тяготились своей работой. Я кивал, вероятно, слишком часто. И поэтому на закуску был вынужден выслушивать их жалобы на судьбу.
На сей раз минуту затишья прервал голос Ляйтнера:
— Погоди, Ян, я вызволю тебя оттуда!
Он не мог сказать «отсюда», потому что не успел дойти до камеры. Ляйтнер тяжело дышал, он спешил.
— Давайте оставим все как есть, — сказал я, когда он появился на пороге.
Тем самым я вежливо намекнул Ляйтнеру, что ему лучше исчезнуть. Мне не нужен самый известный и дорогой адвокат по уголовным делам в городе, пользующийся самым лучшим кремом для загара. Мне вообще не нужен адвокат, потому что защищать мне нечего. Конечно, я отдавал себе отчет, что представляю собой лакомый кусочек для этой братии, падкой на газетную шумиху.
Ляйтнер оказался проворнее и алчнее остальных. Мы знали друг друга по одному шумному судебному процессу, где он показал себя большим другом журналистов, любой ценой стараясь попасть на газетные полосы. Его неуклюжая рука, похожая на лапу хищного зверя, которой он приспособился ощупывать, трясти и душить богиню правосудия, сжимала свернутую в трубочку «Абендпост» — причину его нынешнего внеочередного визита.
— Ты — убийца?! — кричал он. — Да они с ума посходили! Мы дойдем до Страсбурга, и завтра — я обещаю тебе! — ты выйдешь отсюда! Нет, они спятили. В конце концов, в какой стране мы живем? Или мы совсем дикари? Сегодня они хватают наших первых журналистов прямо на улице…
«Нашим первым журналистом» он мог назвать любого репортера. Но горе тому газетчику, который присвоил бы титул «нашего первого адвоката» кому-нибудь, кроме Ляйтнера.
— Все, что здесь написано, пахнет скандалом, какого еще поискать! — воскликнул он и несколько раз хлопнул по столу газетой, будто пытался выбить из нее непонравившиеся ему слова.
Однако в итоге все буквы остались на месте.
Я узнал, что мое задержание «было подобно разорвавшейся бомбе». Инспектора Томека под давлением СМИ отстранили от дела. На сегодня назначена пресс-конференция нового руководителя расследования. Убийство в баре попало на первые страницы всех газет. И почти каждая разместила мою фотографию. За исключением «Культурвельт», которая, кроме того, сократила мое имя до инициалов. Бедняга Крис Райзенауэр! С каким удовольствием я избавил бы его от этой работы!
«Моргенжурналь» разместил на своих страницах заявление Союза журналистов с требованием моего немедленного освобождения. Они ручались за меня. Полагали, что знают меня.
— Там, снаружи, словно дьявол проснулся! Ты не представляешь! — бушевал Ляйтнер.
К счастью, я находился здесь, внутри, и не желал представлять ничего подобного.
— Беспрецедентная клевета, — продолжил Ляйтнер, — не имеющая аналогов в истории права! Мы задавим этих свиней, я обещаю. Дойдем до Конституционного суда и Европейского парламента, мы достучимся до независимого…
— Это сделал я, — оборвал я Ляйтнера.
На несколько секунд в камере воцарилась тишина.
— Ты шутишь? — тихо спросил он, приложив руку к сердцу. — Никогда больше не говори этого, слышишь? Я не желаю больше этого слышать. Я защищаю тебя бесплатно, мой друг, знай это, — быстро проговорил он, щелкнул замком своего серебристого кейса, выудил оттуда бумажку и вложил ее мне в руку. — Я не возьму денег за этих свиней. Уничтожить их — мое заветное желание.
Отложив договор в сторону, я принялся имитировать приступ мигрени, чтобы вынудить адвоката уйти. «Лучше совершить еще одно убийство, чем быть клиентом Ляйтнера», — подумал я.
— Держись, мой мальчик, я вытащу тебя отсюда! — крикнул он, покидая камеру.
А на следующий день я удостоился визита самого директора нашего «отеля». Вместе с ним и президент апелляционного суда почтил своим присутствием мою скромную обитель. Он оказался культурным человеком. Разумеется, мы беседовали о Шекспире. Это следует понимать так: он говорил, а я кивал. У нас возникли кое-какие коммуникационные проблемы. Он был глубоко удручен тем положением, в котором я оказался. Я — его визитом. Поэтому мы быстро распрощались.
— О, господин Хайгерер, — пробормотал он. — Вас уже сегодня переведут в другую, совсем другую комнату.
— В этом нет необходимости, господин президент, — ответил я.
— Сожалею, господин Хайгерер, но ситуация экстраординарная, — возразил он, уловив в моих словах намек на немедленное освобождение. — Пока вы здесь, наши руки остаются в некотором смысле связанными… — Он потер один о другой большие пальцы рук.
— Мои в некотором смысле тоже, — усмехнулся я.
Мне эта шутка понравилась больше, чем ему.
— Господин эээ… Хайгерер, вы пользуетесь популярностью. На сегодняшний день мы уже располагаем внушительным списком желающих попасть к вам на прием, — произнес он, положив листок бумаги на мой складной столик. — Разумеется, вы можете принимать посетителей, когда вам удобно.
И оба чиновника собрались покинуть камеру, не желая больше меня тревожить.
— Надеюсь, недоразумение скоро разрешится, — сказал на прощание президент.
— Не будем опережать события.
Мой гость поморщился. Он опасался за репутацию своего заведения.
Вскоре мне действительно предложили новое жилье. Можно сказать, я получил «президентский люкс» с просторной кроватью, гардеробом, телевизором и электронным будильником. Был здесь и кухонный угол, и кофеварка, а также письменный стол, кресло и книги с газетами. Мне стало стыдно, и я пообещал себе ничего не трогать. Очевидно, не обошлось без вмешательства какого-нибудь влиятельного лица, против действий которого я был бессилен. Я лег на пол, закрыл глаза и представил, что вокруг меня ничего нет.
Инспектор Ломан, тот самый, с помидорами черри, один из трех моих незабвенных друзей, с кем я провел свои последние дни на свободе, оказался первым, кто нарушил мое привилегированное одиночество. К сожалению, всего лишь для того, чтобы внести дополнения в протокол полицейского допроса. По крайней мере, таков был предлог, под которым он явился воззвать к моей совести.
— Ян, милый, — шептал он, — не усугубляй ситуации. Помни о людях, которые переживают за тебя.
Это звучало вульгарно. Я сразу вспомнил Алекс. Сейчас я не мог ее видеть и был не в силах освободить ее от переживаний.
— Ответь мне только на два вопроса, — продолжил Ломан, положив мне на плечо тяжелую, как и его горе, руку. — Во-первых, насколько хорошо ты знал Лентца?
— Плохо, — ответил я.
«Плохо, что Ломан не может позволить событиям развиваться без его участия. Плохо, что он задает мне эти вопросы», — вот как следовало меня понимать.
— Ян, ты гей?
— Нет.
«Нет, я не желаю говорить на данную тему. Это к делу не относится», — вот что я имел в виду.
Ломан закрыл ладонями лицо и вздохнул.
В сущности, он был прекрасным человеком.
8 глава
В понедельник, в день окончания моего отпуска, когда, если бы не мое заключение, я вышел бы на работу в «Культурвельт», меня впервые вызвали к следователю. Удивительно, но накануне ночью мне удалось поспать. Тот, в красной куртке, неожиданно сжалился надо мной. Но его милосердие оказалось ловушкой, потому что тем самым он оставил меня наедине с Делией и отдал во власть сексуальных фантазий. В них Делия внезапно менялась: ее кожа делалась вдруг грубой, лицо и запах — чужими. И каждый раз это происходило слишком поздно, когда я уже переживал оргазм. Я проснулся, чувствуя себя обманутым и усталым.
Явился с наручниками мой «дворецкий», чтобы отвести меня на завтрак, от которого я, как обычно, отказался.
— Сейчас вы познакомитесь с самой красивой женщиной в этом заведении, — пообещал он.
Он не оставлял усилий сделать мое пребывание здесь хоть чуточку приятнее.
Следователя звали Хелена Зеленич. Об этом мой страж поведал на пути к ее кабинету. Мы проходили мимо «обезьянника», где я увидел за решеткой несколько откровенно бандитских рож. Они проводили меня косыми взглядами, словно увидели во мне предателя нашего общего дела.
Хелена Зеленич — это звучало красиво. Почему женщина с таким именем стала следователем, а не, например, чемпионкой по прыжкам в воду? Хелена — я мог бы назвать так свою дочь, если бы она у меня была. Одно из моих любимых имен. Делии оно тоже нравилось, но вряд ли она думала обзаводиться дочерью, по крайней мере, не со мной. Хелена Хайгерер — звучит хорошо, даже, пожалуй, слишком. Хелена Зеленич — неплохо, хотя и не столь совершенно. С достоинством и несколько эротично. Уверенно и мягко одновременно. Как имя героини хорошего романа.
Будучи ведущим редактором издательского дома «Эрфос», я порой часами спорил с авторами по поводу имен их персонажей. Я умолял их, если они упрямились, придумать что-нибудь получше. В большинстве случаев они оставались глухи к моим просьбам. В этом вопросе каждый считал себя вправе делать, что ему вздумается, и не терпел вмешательства.
Собственно, достаточно взглянуть на список главных героев, чтобы оценить жанр рукописи, а зачастую и ее уровень. Анастасии, Себастьяны, Евгении и Элеоноры, как правило, парили в эмпиреях высокой литературы и крайне редко спускались на землю, где разворачивается действие всех хороших романов. Авторы, использовавшие такие имена, как Том, Джим, Роб, Кейт, Фил и Энн, тем самым заранее предупреждали о своей безнадежной вторичности. Отсутствие фантазии вынуждало писателей называть героев в честь родственников, друзей или — в самом худшем случае — своих возлюбленных, о которых авторы думали за работой, вместо того чтобы сосредоточиться на тексте, что, безусловно, пошло бы ему на пользу.
Таким именем, как Хелена Зеленич, романист сразу снискал бы мое уважение, после чего ему оставалось бы лишь оправдать доверие.
Видимо, Хелена Зеленич не имела опыта работы следователем. Во всяком случае, она показалась мне одной из тех немногих, кто подошел к моему делу беспристрастно. Похоже, она ничего обо мне не знала. Я радовался ей, как измученный велогонщик, внезапно оказавшийся у подножия крутого спуска. Далее оставался суд присяжных — самый трудный этап, сравнимый, пожалуй, с подъемом в гору. Потом все будет кончено.
Еще у дверей мой «дворецкий» освободил меня от оков. «Чтобы я смог поцеловать даме ручку», — так я прокомментировал его действие. Раньше я был способен и на лучшие шутки, однако сейчас радовался, что чувство юмора не покинуло меня. Кроме того, ему понравилось. Тюремные охранники вообще не особенно избалованы остроумием заключенных. Наверное, она слышала его смех, потому что встретила меня с улыбкой, как актера, а не убийцу.
Взглянув на нее, я поначалу подумал, что ошибся дверью. Она выглядела довольной, будто была готова к такому эффекту и теперь давала мне понять, что заметила мое смущение. Она рассчитывала на это, и я сразу почувствовал себя побежденным.
— Ну, приступим? — спросила она.
И все-таки она напоминала мне чемпионку по прыжкам в воду. Она словно стояла на вышке и, прикрыв глаза, старалась сосредоточиться на предстоящем пируэте. У нее были серьезные глаза, как у участника соревнований, уже преодолевшего нервозность и ушедшего в себя за несколько секунд перед прыжком, который решает все. Независимо от его шансов на победу.
Она не смотрела на меня, и я не чувствовал себя вправе требовать от нее этого. Сообщила, что три раза перечитала протокол полицейского допроса, приподняв своими нежными руками чудовищно толстую папку. Ее тоненький мизинец обнимало самое миниатюрное в мире черное колечко. «И что скажете?» — хотелось мне спросить у нее. Я волновался, как молодой автор, представивший на суд издателя свой дебютный роман и теперь ожидающий его вердикта. Отличие состояло в том, что я заранее знал, что надеяться мне не на что.
— Это вы сделали? — спросила она.
— Да.
— Зачем?
— Пожалуйста, не надо, — прошептал я.
Почувствовав, что она на меня смотрит, я сразу опустил голову. В сущности, я трус.
— В таком случае благодарю вас, этого пока достаточно, — приветливо проговорила она.
Это был ее прыжок с вышки. Потом она скрылась под водой и больше уже не показывалась. Некоторое время я стоял у края бассейна, пока «дворецкий» не дал понять, что пора возвращаться в свои апартаменты. Это меня не устраивало. Я хотел находиться здесь, раз уж меня вывели из камеры. Все-таки по натуре я оставался бунтовщиком, хотя об этом мало кто догадывался. В конце концов, я проскользнул в свою келью и лег на пол.
Хелена Зеленич забыла обо мне на целую неделю. Гордость не позволяла мне наводить справки. Я с удовольствием думал о том, сколько ей предстоит со мной провозиться. Надо будет еще раз пройтись по всему протоколу и обо всем расспросить меня заново. Однако ничего подобного она, похоже, и не собиралась делать, что еще больше раздражало меня.
Я довольно успешно избегал контактов с внешним миром. Это давалось нелегко, поскольку писем я получил больше, чем за весь предыдущий год. В основном я их выбрасывал, не распечатывая. Это были весточки от моих старых друзей, знакомых и коллег, которые не в силах поверить, что я нахожусь за решеткой, спешили выразить мне сочувствие и поддержку. В чем, интересно, они поддерживали меня?
С десяток адвокатов оспаривали друг у друга честь защищать меня в суде и наперебой убеждали меня в действенности своей стратегии. Каждый из них обещал мне как минимум немедленное смягчение режима содержания, максимум — оправдательный приговор по завершении процесса с приличной компенсацией за моральный и материальный ущерб, которая сделает меня богачом на всю жизнь. Если поначалу арест принес мне известность, то сейчас во мне видели мученика.
К сожалению, персонал нашего «отеля» не оставил привычки жаловаться на жизнь, прислуживая мне за обедом. При этом они против моей воли потчевали меня информацией, которая, по их мнению, могла меня заинтересовать. Например, сообщили, что тип в красной куртке был неоднократно судим и баловался наркотиками. Сам я за неделю до убийства будто бы начал втайне от всех тренироваться в стрельбе из пистолета. Моя мать погибла в автомобильной катастрофе, и нервы мои не выдержали: я запил и влез в долги.
Боб якобы знал, что человек в красной куртке попал в лапы русской мафии, и она вымогала у него деньги. Оказывается, я расследовал эту историю, и полиция использовала меня в качестве наживки. Консьерж моего дома всегда подозревал, что я голубой, и теперь настаивал на версии убийства из ревности, удивляясь, насколько искусно я имитировал внешний вид и манеры порядочного человека. «Разве можно было заглянуть ему в душу?» — рассуждал он, отвечая сам себе глубокомысленной банальностью.
Наконец одна из моих коллег, имя которой я слышал впервые, якобы уверяла, будто я невиновен, но знаю и покрываю убийцу. И так у нас проходил обед за обедом. Я узнал, таким образом, что в газетах появлялись новые леденящие кровь истории обо мне и убийстве в баре. Разносчикам еды нравилась роль информаторов, хотя я постоянно просил их избавить меня от подобной услуги. Это плохо сказывалось на моем аппетите. Я терял в весе.
В один из тех коротких периодов, когда мне было хорошо, потому что я полагал, что другим еще хуже, я взялся за письмо Алекс. Закончив его через неделю, я перечитал текст. Я хотел от нее невозможного: чтобы она простила меня за то, что я причинил ей; что я сделал ее своей невольной пособницей и злоупотреблял отношением в период эмоционального срыва. Я заранее извинялся за повестку, которую она, конечно же, получит, и связанные с этим неприятные визиты в суд. Хотя, как моя близкая подруга, она могла отказаться давать показания.
Я писал ей, что у меня все хорошо, я готов отвечать за содеянное, и просил не беспокоиться за меня. Заверил ее, что я не наркоман и не псих, заранее опровергая то, что она может обо мне услышать. У меня нет никаких тайн, «кроме одной, — добавлял я, — которую я сам еще не раскрыл». Я рассказал ей о своей уютной камере, о приветливом тюремном персонале, отличном питании и уважительном ко мне отношении. Не хватало «умиротворяющего природного ландшафта» и «прекрасного вида из окна», чтобы чувствовать себя как на курорте.
Я знал, что мое преступление было и остается за пределами ее понимания. «Но, Алекс, — писал я, — постарайся не задавать лишних вопросов. Ты все равно не приблизишься к истине. Есть вещи, которые надо принять такими, каковы они есть». Самое страшное, что в этих словах я отказывался отвечать перед ней за содеянное и поэтому не мог оставаться для нее тем, чем был раньше. «Однако если после всего случившегося ты все-таки не отвернешься от меня, мы сможем заново…» Тут я не выдержал. Разорвав письмо в клочья, я набросал вместо него коротенькую записку: «Алекс, пожалуйста, прости меня. Ян». И лишь после этого позволил себе разрыдаться. Мне заметно полегчало: образ человека в красной куртке стал размываться.
В первый понедельник ноября Хелена Зеленич снова потребовала меня к себе. Готовясь к встрече, я переоделся, побрился и прыснул на себя «Импульсив» от «Армани». Уж и не знаю, кто подсунул мне флакон с туалетной водой. Я злился, что оставил свои лучшие брюки дома, и как мог прятал старые джинсы под длинный темно-синий кардиган. Стоило мне переступить порог кабинета следователя, как перед глазами снова поплыли красные крути.
— Как поживаете? — поинтересовалась она тоном моего домашнего врача и предложила стул.
Ее черный пуловер в обтяжку как нельзя более соответствовал ситуации.
— Спасибо, не жалуюсь, — ответил я, стараясь выглядеть бодро.
Она улыбнулась, вероятно желая вознаградить меня за мои усилия. Когда она растянула губы, на щеках появились крохотные пугливые ямочки, которые исчезли, как только она заметила, что я их разглядел.
— Я прошу вас рассказать немного о себе.
Теперь она не выглядела беспристрастной, и голос ее звучал слишком приветливо, что насторожило меня.
— Охотно, — солгал я. — Что именно вас интересует?
— Меня интересуете вы.
Такого мне давно никто не говорил. Слышал ли я вообще когда-нибудь что-нибудь подобное?
9 глава
На сей раз она не спрашивала меня о причинах содеянного. Решила зайти с тыла. Я был честен и ни разу не намекнул, что ей это удалось. Она терзала меня почти два часа, так ничего и не выудив для протокола.
Поначалу я сильно мучился. Моя жизнь представлялась мне чем-то ничтожным, о чем не стоило упоминать. В сознании всплывали отдельные факты, события. Они падали мне в руки, как созревшие яблоки. Мимо некоторых я проходил, не нагнувшись. О другие спотыкался и, подобрав, шел дальше. Я брел прямой дорогой через тоскливый пустынный ландшафт, не видя вокруг ни холмика, ни развилки.
Я миновал несколько перекрестков, не сменив направления, — я не хожу окольными путями. Насыпи по обочине дороги всегда казались мне слишком высокими. Так я и двигался, никуда не сворачивая, пока не постарел. И что мне теперь сказать этой умной, красивой женщине? Нужно ли утомлять ее, знакомую, может, с интереснейшими мужчинами, подробностями однообразного ландшафта моей жизни?
Заметив, что я безнадежно застрял на своем «счастливом детстве» и ухмылка не сходит с моего лица, она вдруг принялась рассказывать о себе. Если это и был всего лишь особый прием, применяемый на допросах, то воспользовалась она им профессионально.
Хелена начала с того, на чем в эту минуту остановился мой взгляд. Она поведала мне, какими роскошными рыжими локонами наделила ее природа с рождения. «Красивые волосы», — заметил я, хотя считал, что они бесподобны. Потом я узнал о ее младших сестрах-двойняшках и их золотых хомячках Билли и Лилли, которых она из ревности к малышкам заперла в холодильнике. До сих пор, признавалась Хелена, она не открывает холодильник без крайней необходимости и каждый раз сначала осторожно заглядывает в него: не притаились ли там жаждущие мести души Билли и Лилли? Она поинтересовалась, нет ли у меня сестер или братьев, и высказала сожаление, услышав, что я один. «Зато я без проблем открываю холодильник», — нашелся я. Мы оба рассмеялись, хотя не находили в этом ничего веселого.
Далее Хелена сообщила о театральной школе и крушении иллюзий покорить сцену. О «самой большой страсти в своей жизни», — первой, второй, третьей, — которая каждый раз катастрофически быстро переходила в разряд легкой влюбленности. Об учебе и дальнейших победах разума над чувствами. О помолвке и браке, например. И о своем учителе танцев — отчаянном реванше страсти. О разводе, заброшенном деревенском доме и двухэтажной новой квартире в городе. Она, наверное, догадывалась, о чем я думал: что она рассказывает мне о своих случайных увлечениях, цену которым она всегда узнавала слишком поздно; и о трех свободных вечерах в неделю, какие теперь вряд ли захочет с кем-нибудь разделить. Без малого час ворошила свое тридцатишестилетнее прошлое. За это время на ее щеках успели появиться и исчезнуть сотни ямочек.
Я, в свою очередь, кое-что поведал о нас с Делией. Старался говорить о самом несущественном, и это оказалось несложно. О немногочисленных значимых фактах моей жизни, — например, о том, что Делия связалась со мной случайно, из любви к приключениям, — я умолчал. Тогда я потерял голову, и Делия ничего не могла с этим поделать. Дальнейшая наша история описана в романах, тех самых, которые я редактировал, а она продавала. Но читали-то их мы оба, поэтому всегда находили о чем поговорить. Делии оказался нужен тот, кто писал книги и жил, как литературный герой. Наконец она встретила его, и я благословил их союз. Последнее было неправдой, но я не мог признаться в этом Хелене Зеленич. Слишком мне нравилась ее улыбка. И я боялся спугнуть ямочки с ее щек.
— Что вы собираетесь сегодня делать? — спросила она, слишком рано, поскольку время нашей беседы еще не вышло.
Ее вопрос меня рассмешил.
— Весь день проваляюсь дома, — ответил я.
Хелена улыбнулась.
— И вы не хотите на свободу? — поинтересовалась она.
— Нет.
— Почему? — удивилась она. — Это всего лишь несколько затянет дело.
Хелена не слушала меня. Объяснила, что, поскольку в моем случае нет опасности бегства или рецидива преступления, она готова немедленно ходатайствовать об освобождении под залог, правда достаточно высокий. Она уверена, что убийство не более чем несчастный случай. Мне остается найти хорошего адвоката. Я кивнул, хотя не нуждался ни в каких адвокатах. Я вообще не хотел, чтобы меня защищали. Мне было бы достаточно, чтобы кто-нибудь поверил мне без лишних вопросов.
— И когда я должен буду явиться к вам в следующий раз?
Я специально задал вопрос в такой форме и подчеркнул слово «должен». Это далось мне не без усилия, и теперь мы глядели друг на друга. Ее взгляд остановился. Я хотел, чтобы это мгновение продолжалось бесконечно.
— В следующий раз мы начнем работать, — сказала она.
Ее голос звучал тихо. «Вам не следует так смотреть на меня», — добавила бы она в дешевой мелодраме, героем которой мне так хотелось тогда стать.
— Хелена, — прошептала она, протягивая мне руку.
Мою она сжала крепко, желая убедить меня в искренности своего расположения. Тем не менее рукопожатие получилось фальшивым.
— Ян, — произнес я, вероятно покраснев.
— Но только в этих стенах, — предупредила она, подняв указательный палец.
— Только здесь, — кивнул я и повторил эту фразу, когда за мной явился «дворецкий».
Лишь в стенах ее кабинета я и чувствовал себя заключенным.
Ночи теперь проходили быстрее и не так мучительно. Благодаря Хелене я стал видеть фигуру в красной куртке не столь отчетливо, как раньше. Однако во сне я по-прежнему убивал, просыпаясь в холодном поту и стараясь уснуть снова. Например, сочинял для моего следователя письмо, полное утопических мечтаний. «Дорогая госпожа Зеленич, — писал я. — Вы окажете мне большую честь и не меньшее удовольствие, если в удобный для вас день — желательно в один из ближайших трех, а еще лучше сегодня, — согласитесь выпить со мной в моей скромной квартире чашечку кофе. В моем надежно защищенном от хомячков холодильнике лежит кусок шоколадного торта, — подарок заботливого персонала, — который с нетерпением ждет прикосновения ваших губ». Закончив, я перечеркнул и переписал заново последнюю фразу: «…кусок шоколадного торта ждет… когда вы им насладитесь». В третьей версии я заменил «им насладитесь» на «съедите его». На следующее утро я вложил листок в конверт с надписью: «Дополнения к протоколу для следователя Зеленич» — и отдал своему «дворецкому». Тот подмигнул мне: его не проведешь.
Теперь по утрам и вечерам охрана выводила меня во внутренний двор на пробежку. Раньше я этим не увлекался. У меня никогда не было желания обострять свои чувства и усиливать переживания. Физическая нагрузка, несомненно, идет на пользу телу и укрепляет дух, однако нелишне задаться вопросом: чего вы все-таки в итоге хотите добиться? Теперь все изменилось. Я бежал, чтобы устать, вымотать себя, обессилеть, израсходовать энергию, которая в противном случае уйдет на мучительные переживания. Я хотел выбить, вытеснить из своей головы образ человека в красной куртке, дать ему полностью раствориться. И это мне никак не удавалось, хотя ноябрьский туман, размывающий очертания предметов, казалось бы, должен способствовать выполнению данной задачи.
С каждым разом я старался бегать дольше и быстрее, чтобы оторваться от своей жертвы. При этом был втиснут в определенные временные рамки: не более часа утром и столько же вечером. И каждый раз на финише я снова видел его лицо — невыразительное, как на фотографии на паспорт. Тюрьма не самое лучшее место, чтобы убежать от своей судьбы.
А между пробежками я принимал посетителей. И поскольку силы мои были на исходе, получилось так, что я пригласил к себе в камеру ту, кого меньше всех хотел видеть. Но она настойчиво добивалась встречи со мной: Мона Мидлански из «Абендпост».
— Ни слова о покойнике! — закричал я, лишь только она переступила порог моей камеры, и загородился от нее выставленными вперед ладонями с растопыренными пальцами.
В ответ несколько раз щелкнула камера — безболезненные выстрелы исподтишка. Двое тюремных охранников приготовились наброситься на Мону, чтобы вырвать у нее из рук фотоаппарат.
— Все в порядке, — сказал я им, загородив ее собой. — Это ее работа.
Мона просияла. Она вспотела от напряжения. Сейчас у нее во рту была жевательная резинка, а челюсти ходили, как у лошади. На висках надувались жилы.
Мона села напротив меня и склонилась над столом. Между второй и третьей пуговицей слишком тесной блузы, не столько прикрывающей, сколько подчеркивающей ее пышные формы, я мог (или должен был) видеть грубый сетчатый бюстгальтер, выгодно контрастирующий с нежной кожей. Меня не удивило бы, если бы Мона позволила мне за несколько снимков до самой моей смерти ежедневно трогать ее грудь. Фотографии должны удвоить стоимость самой Моны как журналистки. Уже одно это многое говорит о ее профессии.
Тем не менее она не остановилась на достигнутом.
— Ян, — заговорщически прошептала она, приближаясь ко мне.
Я дышал запахом ее пота, а она гипнотизировала меня взглядом. Как подозреваемый в убийстве я возбуждал ее еще больше.
— Ты ведь все это разыграл, Ян?
Я тряхнул головой.
— Готовишь грандиозный репортаж о жизни в тюрьме?
— Нет, — ответил я.
— Что же тогда? Откройся мне, Ян, — умоляла она.
Мне стало жаль ее.
— Мне, Ян, и никому больше…
Мона ведь всего лишь делала свою работу.
— Ты гей, Ян? Разве ты гей? Ведь нет, — продолжила она, все ближе наклоняясь ко мне.
Теперь ее грудь лежала на столе. Мне было неудобно перед тюремными охранниками: что они обо мне подумают?
— Ты можешь написать, что я признал себя виновным, — произнес я. — В конце концов, кто-то должен объявить об этом.
Полицейские как будто ничего не слышали. Они демонстративно поглядывали на часы и зевали. Мона застыла с открытым ртом.
— Это безумие, Ян, — прошептала она. — Я никогда такого не напишу. Кто мне поверит? Меня немедленно уволят.
Я вымученно улыбнулся.
Это было самое трагичное в моей истории. Какое там убийство, когда Мону Мидлански могут уволить, в то время как она должна делать карьеру! Я пожал плечами. Мона склонила голову и прижалась к столу так, что ее груди наполовину вывалились из бюстгальтера. Я не мог оторваться от того, что увидел. Еще немного, и я бы захотел ее. Любовь и смерть, отвращение и сексуальное влечение расположены в крайних точках жизненного круга. Иногда они подходят друг к другу слишком близко, можно сказать, стоят спина к спине. И тогда им остается только развернуться и слиться в единое целое.
— Ты убийца? Ян, не молчи, — сказала Мона почти ласково и вдруг выпрямилась.
Разговор снова вошел в официальное русло. Охранники словно очнулись и опять обратили на нас внимание. Каждый посмотрел на свои часы и постучал пальцем по крышке циферблата. Я не стал возражать: действительно пора.
— А ты хитрец, — усмехнулась Мона, отблагодарив меня на прощание поцелуем в щеку.
Это было лишним.
10 глава
Вот уже неделю как о моей чемпионке по прыжкам в воду не было ни слуху ни духу. То что она проигнорировала приглашение на чашечку кофе в мой президентский люкс, меня не удивило: терять работу, вероятно, в ее планы не входило. Однако паузы между нашими допросами стали непозволительно долгими, а она мне ничего не объясняла. Снова и снова я читал во взгляде моего «дворецкого», что сегодня мне рассчитывать не на что. Сначала я по нескольку раз в день спрашивал о ней. Потом решил сдерживаться. Я слишком уважал свои чувства к ней, чтобы демонстрировать их без необходимости. Вскоре мне пришло в голову, что Зеленич могли отстранить от дела, и меня охватил ужас. Она не оставила мне никакой возможности бороться за нее. В то же время она должна была понимать, что самое тяжелое в моем положении — ждать неизвестно чего. «Такая у нее, наверное, теперь тактика, — утешал я себя. — И пока она играет со мной, я не потеряю ее».
Ответ Алекс окончательно разбил мне сердце. «Я понимаю, что ты хороший человек, Ян, — писала она. — За тридцать лет своей жизни я не встречала лучше. Именно поэтому я не могу простить тебе того, что ты со мной делаешь. Хотя бы потому, что это не укладывается у меня в голове. Твоя загадочная история каждый день обсуждается в газетах. Я не решаюсь включить телевизор, чтобы снова не увидеть на экране твое лицо. Все в недоумении. У тебя много друзей, Ян! И они постоянно звонят мне. Они ошеломлены случившимся. Многие плачут, и я вместе с ними. Михаэла, Геральд, Беньямин, Дорис. Неужели ты забыл о них? Я перестала брать трубку. Других тем для разговоров у нас просто не существует. Никто не считает тебя преступником. И то, что ты до сих пор сидишь в тюрьме, сводит нас с ума. Я хочу тебя видеть, Ян, но у меня совсем не осталось сил. Твоя Алекс.
P. S. Грегор переехал ко мне. Я сдалась. Без него мне не встать на ноги. Ты нужен мне, идиот! Тебя нет — и все идет не так».
Я не мог плакать: боль выжгла мне глаза. На дворе еще было темно, но мне надо было срочно наружу. Разносчик пищи раздобыл мне разрешение выйти на свежий воздух. Правда, перед этим он ныл целый час, уговаривая меня отложить прогулку.
Мне хотелось сделать десять больших кругов: мимо гаража, вниз, к котельной, вдоль так называемой берлинской стены, потом в сад, мимо небольшой столярной мастерской, и назад. Все это время мой охранник будет курить в раздевалке. Он доверял мне, как и все остальные здесь.
Дистанция в несколько раз превышала мою обычную дневную норму. Я обогнул гараж и побежал к Алекс, которая до сих пор стояла на лестнице, прислонившись к дверной коробке. Я снова падал в ее объятия, гладил светлые волосы, словно мы с ней решили еще одно мгновение принадлежать только друг другу.
Возле сада, похожего сейчас на кладбище, мне в лицо ударил порыв холодного ветра. Это был привет от Делии. Теперь я пробегал свою первую с ней зиму. Тогда за окном мело, а мы с ней забрались в постель и целовались. Никакой мороз не страшил нас. Наша любовь казалась нам устойчивой к холоду, а мы — созданными друг для друга. Зима могла длиться вечно.
В котельной горел свет, и я представил, что меня ждет там Хелена Зеленич. «Кофе готов», — скажет она, кладя мои ладони себе на бедра. И это были не какие-нибудь пустые фантазии. Мы стояли одни в тесной комнатке. Я чувствовал ее наполовину обнаженное тело и больше не мог себя сдерживать.
Приключение оборвалось внезапно. Когда я восьмой раз пробегал мимо котельной, свет в окошке уже погас. Мне показалось, что я слышу голоса. Вероятно, это всего лишь мои собственные хрипы повисали в ноябрьском воздухе. Я ускорил темп, и они усилились. Теперь они приближались ко мне. Я никогда не принадлежал к числу тех, кто разворачивается, ощутив опасность. При всей моей трусости я был для этого слишком неповоротлив.
На полого спускающейся тропинке сада почву под моими ногами поглотила темнота. Внезапно я обо что-то споткнулся. Потеряв равновесие, ударился о бетон, вероятно налетев на берлинскую стену. Вскоре я сообразил, что произошло, хотя еще некоторое время отказывался в это верить.
Я не видел, сколько их было, двое или трое. Один связал мне руки, завернув их за спину. Другой схватил меня за горло и встряхнул. Взявшись за мои тренировочные штаны, кто-то из них перебросил меня через плечо. Меня протащили несколько метров, словно мешок с мукой. Хлопнула дверь. Мы оказались в тесном, темном помещении, вероятно столярной мастерской. Один привел меня в полулежачее положение, прижав к земле нижнюю часть моего туловища, как в бобслее, и обхватив мой живот своей огромной рукой. Другой надавил мне пальцами на щеки, заставив открыть рот. В меня влили жидкость — водку или чистый спирт. Я подумал, что сейчас меня обольют бензином и подожгут, и мысленно попрощался с жизнью. Однако, похоже, спиртное играло роль наркоза, а мне предстояло перенести какую-то операцию.
Наконец один из них заговорил. Голос его звучал хрипло, булькающе. То, во что я никак не решался поверить, подтверждалось.
— И кого это к нам занесло? — спросил он. — Неужели это наш гей-убийца? А знаешь, что мы делаем с гей-убийцами?
Я все понял прежде, чем успел почувствовать. Первый еще крепче сжал мой живот. Чья-то рука взметнулась, как хищная птица. Жгучая боль стала для меня спасением: благодаря ей я не ощущал ни стыда, ни отвращения. В мой задний проход проникло что-то вроде толстого пальца. Мне в ухо будто каркала птица. Я содрогнулся.
— Еще глоток?
Это был другой. Нажав руками на колени, он развел мои ноги в стороны. Я почувствовал, что мне на лицо льют водку, и высунул язык. Я думал о Делии. Мне хотелось, чтобы она видела меня сейчас. И даже не мое оскверняемое тело. Мое лицо. Его выражение. Мой позор. Боль. Обморок. Наказание. Искупление. Раскаяние. Мою решимость пройти через все это и выдержать. Мою несломленную волю. Собственно, что они могли мне сделать? Что на свете страшнее пустоты? Что невыносимее взгляда Делии, отражающего мое ничтожество? Ее разочарования во мне, словно в бессодержательной книге? Сейчас, когда она смотрела на меня, я чувствовал себя живым. Ее глаза блестели, как в нашу первую ночь. Такой она любила меня. Такой она останется со мной навсегда.
А потом между мной и Делией втиснулось чье-то тело, заслонив ее лицо. Сознание мое помутилось. От моих мучителей несло алкоголем и потом, и я задержал дыхание.
— Посмотрим, что ты на это скажешь, — прохрипел тот, что держал мою голову.
Я ткнулся лицом в его волосатую грудь, а затем уперся во что-то твердое, как гранит. Я стал беззащитен, будто с меня содрали кожу. Мой рот открывался сам собой, глотая что-то склизкое, отдающее плесенью и гладкое на конце. Оно заполняло мне рот, горло, душило изнутри. Теперь этот человек уперся коленями мне в грудь и держался за мои волосы, как всадник за конскую гриву. Время от времени он хлестал меня по щекам. Они обмякли, отчего удары становились болезненнее, а мое унижение изощреннее.
На некоторое время мне еще раз удалось увернуться от звериных стонов, запаха рыбной муки, пальцев, лихорадочно разрывающих мой задний проход, и этой омерзительной твердокаменной штуки, все глубже проникающей мне в рот. Впервые я добровольно вызвал в сознании образ человека в красной куртке. Такая ли смерть была написана у него на роду? — спрашивал я его. Если нет, то как долго он бы еще прожил, если бы не я? Может, он расстался бы с жизнью в тот же вечер? Или днем позже? Или это случилось бы через десять, двадцать, тридцать лет? Не лучше ли ему было погибнуть от моей руки, чем больным стариком? Что дали бы ему эти годы? Прибавили бы мудрости? Стал бы он чувствительнее к боли? Стоны переходили в крик, каменная мерзость дергалась во рту, лапы все крепче вцеплялись мне в волосы.
Снизу в меня вгрызался лютый зверь. Я зажмурился, почувствовав под веками вместо слез капли водки. Мне предстояло выдержать несколько секунд, после чего наконец прояснится, что должно остаться от меня после всего этого.
Мой рот наполнился шерстью, а потом в него вдруг хлынула обжигающая, будто вулканическая лава, жидкость. От отвращения кишки в животе начали закручиваться в спираль. Я отвернул лицо в сторону, спасаясь от ядовитого дыхания, но мой мучитель руками вернул мою голову в прежнее положение. Шерсть становилась все мягче, по вкусу напоминая тухлую рыбу. Затем она исчезла изо рта, а мне на губы упало несколько жирных капель.
— Воды, — услышал я собственный голос.
Проявив милосердие, они вылили мне в глотку полбутылки водки.
— Ну смотри, гей-убийца, — пригрозил мне тот, что сидел возле моей головы.
Его голос звучал, как раскат стихающей грозы.
Вскоре они ушли. Я открыл глаза, чтобы убедиться в том, что до сих пор жив. И тут впервые потерял сознание. Делия отложила книгу в сторону и зевнула.
11 глава
Я не знаю, как провел следующие несколько дней. Память будто вырвало от неудобоваримой пищи. Мой охранник понял, что произошло. Поначалу он решил, что я просто-напросто бежал. Однако вскоре обнаружил меня возле котельной лежащим в позе эмбриона и с глазами замерзшего насмерть пьяницы, уставившимися в ноябрьский туман. Я не мог остановиться, пока не отполз на пару сотен метров от места моей пытки. «Кто они?» — должно быть, спросил он меня. «Славные парни», — вероятно, выдавил я.
Перетащив меня в камеру, охранник принес мне мази и таблетки, благодаря которым я уснул, несмотря на боль. Он панически боялся потерять место. Чем паршивее работа, тем больше у людей страх расстаться с ней. Я обещал молчать о случившемся. Он зарекся выпускать меня на пробежки в темные места.
Вероятно, ночью тюремщики слышали мои крики. А может, я харкал кровью и слизью. Во всяком случае, меня вырвали из кошмарного сна и уложили на носилки, как учили нас делать в школе при вывихе коленки, разрыве сухожилий и связок. Тогда мне впервые пришло в голову, что терпение персонала на исходе.
На следующее утро я обнаружил себя в довольно странном и удивительно светлом месте. Здесь пахло удаленными аппендиксами. При виде женщины, пожавшей мне руку, я вспомнил мать. Она была портнихой и никогда не носила белых халатов, только голубые. Мать погибла в автокатастрофе. Сейчас я представлял лицо Делии в тот момент, когда рассказывал ей об этом. Однако медсестра, присевшая на больничную койку, ничего общего с моей матерью не имела. Она проверила шланг от капельницы на руке другого убийцы, избитого сотрудниками тюрьмы. К счастью, я не депрессивный тип.
— Тяжелое кишечное отравление, — сообщил я врачу, а тот мне, и оба мы всем, кого это интересовало.
Хорошо, что они не исследовали мой задний проход, а синяки объяснили столкновением с берлинской стеной. Я действительно на нее налетел. Такое уже бывало с арестантами камер предварительного заключения во время пробежек. Но сейчас мое состояние стабилизировалось, как сообщила мне сестра. Она кое-что понимала в медицине.
Моя жизнь вернулась в прежнее русло. Хелена Зеленич передала мне через «дворецкого» сердечные пожелания выздоровления.
— Она действительно сказала «сердечные»? — уточнил я.
— Сердечные, или добрые, или просто пожелания выздоровления. Какая разница? — раздраженно проворчал он.
Я кивнул, хотя не мог с ним согласиться.
Список тех, кто жаждал со мной увидеться или обещал вызволить из тюрьмы, катастрофически удлинился. Меня не трогали встречавшиеся в нем фамилии друзей и родственников. Я не мог пустить их к себе и не представлял, о чем с ними говорить. Об убийствах и изнасилованиях они знали лишь из фильмов, в лучшем случае — из журналистских расследований. Но они не носили в себе ничего подобного. А я чувствовал сейчас только это. Мне достаточно было один раз оказаться в шкуре преступника, чтобы потом на всю жизнь остаться жертвой.
Два события указывали на то, что не все еще кончено. Важнейшего из них мне предстояло дожидаться несколько дней. «Допрос следователем Яна Хайгерера, подозреваемого в убийстве Рольфа Лентца», — значилось в моем расписании.
— Что за следователь? — спросил я охранника, не увидев фамилии, и приготовился к худшему.
— Женщина-следователь, — улыбнулся тот.
У меня отлегло от сердца. Если кто сейчас и оставался мне нужен, так это Хелена Зеленич. Без нее мое положение представлялось невыносимым.
Менее важное событие оказалось более срочным. «Сам профессор» желал меня видеть. Доктор наук Бенедикт Райтхофер, член правления нескольких институтов, почетный президент разных фондов, руководитель третьего отделения больницы, приглашенный профессор университета, владелец частной клиники, присяжный судмедэксперт.
Разве у нас существует судебная психиатрия? Или он и есть ее основатель?
Я знавал его еще в те времена, когда делал вид, будто занимаюсь журналистикой. Не раз приходилось мне пожимать его рыхлую, белую руку и смотреть в уже тогда заплывшие жиром глаза.
Необходимость контакта с внешним миром у профессора давно отпала. А внутренний мир состоял из пятитомного энциклопедического словаря — дела жизни доктора Райтхофера, обещавшего обеспечить его потомкам безбедную жизнь. Из этого сочинения можно было узнать, почему человек таков, какой он есть. С точки зрения Райтхофера, по крайней мере. Составление словаря вымотало профессора, и теперь он находился на заслуженном отдыхе. За него работала его визитная карточка, а помогали ей гонорары.
И еще одно. Доктор Райтхофер считался лучшим другом Гвидо Денка, главного редактора «Культурвельт» и моего бывшего шефа. Поэтому мы начали беседу с воспоминаний о Денке и о том, как он понимал литературу, — глубже, чем сам профессор, по его собственному признанию. Это означало, что Райтхофер говорил, а я не мешал. Томас Манн оставался лучшим писателем всех времен, в противном случае у меня не было никаких шансов пережить этот час.
— Ну, мой мальчик… — задумчиво произнес профессор и замолчал, тяжело дыша, словно вдруг вспомнил о своей работе и возможном гонораре, — давайте выясним, в какой же все-таки переплет мы с вами попали?
Он поставил вопрос о моей личности и о тех узелках, которые, независимо от меня, завязала судьба на нити моей жизни. С присущей мне учтивостью и пониманием сути дела я принялся расписывать ему всю свою бессмысленную биографию, в ней полусонный почтенный старец безуспешно пытался усмотреть признаки шизофрении или мании преследования.
Стараясь облегчить себе работу, он напрямую спросил меня, страдал ли я когда-нибудь психическими заболеваниями. «Никогда», — с сожалением вздохнул я. Тогда он поинтересовался, не слышал ли я каких-нибудь голосов, отдававших мне приказы. Тут мне в голову пришло несколько пошлых анекдотов, но я сдержался. «Голоса были, — серьезно ответил я, — но лишь в воображении. В основном — моих знакомых, но они ничего не приказывали мне».
Лицо профессора просветлело. Он кивнул и продолжил: не возникало ли у меня желания умереть? Я честно признался, что да, иногда время от времени, бывает и такое. Он успокоил, что все это не так страшно и подобные мысли приходят многим, начиная с него самого. Тут он ввернул очередное умное словечко.
Он любил меня и верил мне. Ему доставляло удовольствие беседовать со мной. В каждой его фразе звучал намек на мою невиновность. Самой большой моей силой и слабостью было соответствовать ожиданиям. Потом мы беседовали о женщинах. Это означало, что он говорил, а я улыбался. Всю жизнь он прожил с одной, время от времени позволяя себе отдыхать от нее с другими. И сейчас воспоминания о тех прекрасных днях отвлекают его от мыслей об ужасном будущем. Глаза старика наполнились тоской по невозвратному прошлому.
— Вот так мы растрачиваем себя попусту, мой мальчик, — вдруг сказал он и, будто опомнившись, взглянул на часы. — Ну, мой юный друг, — профессор прокашлялся и пригладил редкие волосы, — а теперь расскажите-ка мне, что нашло на вас в ту ужасную ночь.
Его глаза снова заплыли жиром. Через полчаса мы расстались.
Доза снотворного, которым потчевал меня мой охранник, день ото дня снижалась. Однако во сне я снова и снова возвращался к событиям в столярной мастерской и чувствовал между ног лапы насильников, разрывающие еще не зажившие раны. У меня во рту опять ходила вверх-вниз отдающая плесенью твердокаменная штука. Как я ни плевался, как меня ни рвало, запах прочно засел в моей глотке. Заслышав малейший шорох за стенами камеры, я с бьющимся сердцем ожидал нового нападения. Лишь с наступлением утра мне удавалось немного вздремнуть.
Разносчики еды не переставали терзать меня информацией извне и тыкать носом в газетные заголовки. Шумиха вокруг меня не стихала. «Гей-убийство в баре: смягчающие обстоятельства». Или наоборот: «Убийство в баре: новые подозрения против Яна Хайгерера». Подзаголовок «Есть свидетельства, что журналист „Культурвельт“ посещал злачные места в компании жертвы убийства».
«Абендпост» под заголовком «Шок: падение Яна Хайгерера» поместила снимки, которые Мона Мидлански сделала у меня в камере. В тексте она ни словом не упомянула о моем признании и нагло врала в лицо читателю: «Эксперты подозревают несчастный случай. Следствие рассматривает версию неудачной попытки самоубийства».
Я вспомнил Алекс и едва не разрыдался.
Сейчас судьба подозреваемого в руках следователя, говорилось дальше. Обвинение должно быть предъявлено или снято в ближайшие дни. Вполне вероятно, что произошло убийство по неосторожности. «Прокурор Зигфрид Реле, известный своей нелюбовью к СМИ, отказался от комментариев». Увидев фамилию Реле, я несколько часов проспал спокойно.
Но одно письмо, без обратного адреса, значительно сократило мне время ожидания встречи с Хеленой. Я перечитывал его всю ночь, по сотне раз за час. Тысячи раз я мысленно повторял его. Десятки раз проговаривал пересохшими губами, смаковал шероховатым языком, беззвучно рассеивая это послание в спертом воздухе своей камеры.
Написанное красным фломастером на бумажной салфетке, письмо состояло только из одного слова. То, в свою очередь, содержало четыре слога, из которых первый насчитывал три буквы, следующие два по две, а последний одну. То есть всего восемь печатных букв. Чья-то рука, скорее женская, чем мужская, тщательно вывела их на салфетке.
Вероятно, женская. Женская, вне всякого сомнения. Не знаю, был ли я удивлен или шокирован, обрадован или растроган, ранен или убит наповал, во всяком случае, я ощущал себя обманутым и застигнутым врасплох и наслаждался этим. Я видел в этом своего рода противоположность насилию. Я больше не чувствовал себя ни убийцей, ни жертвой и, конечно, сразу понял, кому этим обязан.
Одна и та же буква повторялась два раза, на пятом и седьмом месте. Это была «И». Она придавала слову глубину. Первые три были сочными и яркими. Середина — филигранной, нежной и немного размытой, как лепестки лилии. Конец выдержан в сочных и теплых тонах. Из букв, составляющих это послание, можно было сложить много разных других слов: например, «зал», «бра», «я», «раз» или «лира», но только не «нет».
Утром охранник обнаружил меня склонившимся над столом. Тронув за плечо, он вернул меня к действительности. Подняв голову, я почувствовал, что к моему лбу пристала та самая салфетка. Осторожно отлепив, я развернул ее на столе. Мне надо было готовиться к допросу. По шее текли холодные струйки пота.
— Как я выгляжу? — спросил я охранника.
Но тот не слышал меня, стараясь разобрать буквы. «Бра-зи-ли-я», — наконец прочитал он.
12 глава
Хелену Зеленич, мою чемпионку по прыжкам в воду, следователя, я видел всего пару секунд. Черный пуловер оттенял ее рыжие волосы. Ямочки на щеках прорисовывались как никогда отчетливо. Она не поднялась из-за стола, чтобы пожелать мне доброго утра. Хелена улыбнулась и с торжествующим видом развела руки в стороны, словно хотела изобразить самолет или передвинуть какой-то невидимый предмет, чтобы освободить место, или очерчивала пространство, готовясь к панорамной съемке.
Я отвел от нее взгляд и осмотрел комнату. Я сделал это. Рискнул, о чем сразу пожалел.
На светло-сером диване меня ждала гостья. Она скрестила ноги и завела одну за другую, так что сквозь кожу сапог от модного дизайнера обозначились большие пальцы ног. Только одна она могла так сидеть. Я хотел вернуться в камеру. Делия. Ни радости, ни грез — ничего не осталось. Дешевая мелодрама закончилась. Делия.
— Ян, Ян! — неотрепетированные возгласы отчаяния. — Алекс рассказала мне по телефону, что пишут о тебе в газетах. Мы сразу же приехали.
Мы? Да, мы. Она и ее разлука со мной. Теперь они вместе. Они остались мне верны в своей измене. Ее голос звучал ниже, грубее, чем раньше. Новый акцент смешил меня. Разговорный вариант литературного французского языка. Вероятно, во Франции это пропуск на литературный олимп. Она уже там, наверху. Дышит горным воздухом. Выглядит как парижанка с рекламного щита «Виши» или «Ланком». И какого щита! Десятки квадратных метров, которыми можно заслонить Триумфальную арку.
Ежедневно тысячи и тысячи ног проходят мимо нее по Елисейским Полям. Тысячи глаз впиваются в нее. Жены дружно толкают своих мужей локтями в бок, чтобы те наконец захлопнули разинутые рты. Франция распростерлась у ног Делии. Участь ветрогона незавидна. Все его мысли о том, как удержать возле себя эту женщину. Новый роман каждые два-три месяца — минимум, чего ему следует опасаться. Однажды он умрет от сердечного приступа. Нет, этого я ему не желаю.
— Рад видеть тебя, Делия, — произнес я.
Я мог бы сказать лучше. Каждый день мне на ум приходила первая фраза нашего разговора, и всегда более удачная, чем эта. И сейчас я выразился бы не хуже, если бы подумал пару секунд. «Рад тебя видеть», — после тысячи ста семидесяти шести дней воздержания. Плюс ко всему убийство. Хотя это уже совсем из другого романа. Кровавое преступление между строчек, между жизней, между мной и ею. Человек в красной куртке и его приятели из тюремной столярной мастерской — вот мои нынешние ночи. А ее? Французские кровати?
— Почему ты здесь, Ян? Что произошло?
Делия замахала руками, растопырив пальцы, словно хотела высушить покрытые лаком ногти. Однако ее участие казалось искренним. Она всегда умела заниматься несколькими делами сразу, при условии, что они задействовали разные уровни сознания. Почему нельзя сочувствовать человеку и красить при этом ногти? Делия проявляла внимание и отворачивалась, смотрела куда-то в сторону и на меня одновременно. Ей нравилось разнообразие, и любила она сейчас полную мне противоположность.
Я присел рядом с ней. Ее запах показался мне чужим, уголки рта стали острее, ноздри шире. Наверное, влияние горного воздуха. Или рядом с Жаном Лега так его не хватает? У меня всегда найдется для нее воздух. Если ей потребуется, я задержу дыхание и поделюсь с ней. Ее парижский взгляд скользил по моим волосам, словно я был ищущим утешения мальчиком, у которого отняли мяч. Да, именно таким здесь самое место. Несколько скорбных морщин облагородили ее лицо. Она тряхнула головой — и в глазах отразилась жалость, граничащая со страхом, пренебрежением или желанием немедленно поставить меня под душ.
— Со временем все прояснится, — ответил я.
Никакого душа. Я чистый. Разве я обязан что-нибудь говорить? Объясняться с ней, подбирать слова? Кому, как не ей, все должно быть и так понятно! Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Она, как никто, близка всему этому.
— Ты хорошо выглядишь, — заметил я.
Ведь она меня больше не любила.
— Спасибо, — прошептала Делия и пожала плечами. — Ян, я тут, чтобы…
Я заткнул уши, не касаясь их руками. Я умел это делать со школьной скамьи. Это ее «я здесь для того, чтобы» представляло для меня опасность. Что она хотела сказать на сей раз? «…чтобы проститься с тобой навсегда»? «…чтобы сказать, что мы с Жаном собираемся пожениться»? «…чтобы объявить, что я на четвертом месяце»? Я боюсь таких предложений, и они всегда появляются, когда я их боюсь.
Тогда, в конце нашего с Делией тринадцатого лета, меня пугало, что я могу ее потерять. Моя жизнь была для нее слишком спокойной. Моя дорога — слишком широкой, плоской и наезженной. Однажды в редакции «Культурвельт» вахтер сообщил, что ко мне пришли. Это была она, женщина из иного мира. Она отвела меня в сторону и прошептала: «Ян, я здесь для того, чтобы сказать тебе, что я от тебя ухожу». — «Почему?» — удивился я. «Потому что».
Объяснение читалось в ее взгляде.
— Ян, ты слышишь меня?
Не слышу. Но это уже упрек, значит, я что-то пропустил.
— Ян, я тут для того, чтобы помочь тебе выбраться из неприятностей.
«Из неприятностей» меня разочаровало. Но оно ничего не требовало и не отнимало. Даже вызвало во мне нечто похожее на благодарность. Кроме того, оно указывало на определенный формат. Визитная карточка. Делия выложила ее на стол и обвела по периметру большим и указательным пальцем, словно живописную миниатюру.
— Это лучший адвокат, которого можно найти для такого дела, — сказала она.
«Для такого дела»? Разве мой случай не единственный?
— Паскаль Бертран, площадь Виктории, 14, Париж.
Красивый шрифт.
— Это друг… — Я задумался, потому что нужное имя вылетело у меня из головы.
— Да, Жана, — кивнула она.
И как она это сказала? Будто только что выклянчила у Жана пропуск в рай.
— Паскаль вытащит тебя отсюда, — заверила Делия.
Отсюда? О боже, знала бы она, как нелегко было мне сюда попасть!
Я кивнул. Самая большая моя сила и слабость в том, что я соответствую ожиданиям. Люди привыкают к этому. И если однажды я обману их, мир вокруг меня рухнет.
— Паскаль может уже сегодня поговорить со следователем, — продолжила Делия.
Да, следователь! Она все еще здесь? Неужели она все это слышала, наблюдала за нами, протоколировала?
Похоже, лак на ногтях уже высох, и теперь Делия нетерпеливо барабанила пальцами по столу. Этот тип, сообщила она, долго работал в Гамбурге и выиграл там все крупные процессы. Я уже ненавидел его. Справедливость не имела больше никакого отношения к моему делу. Вопрос заключался в том, «проиграем» мы или «выиграем». Финансовая сторона — не моя забота, успокоила она.
— Я не возьму с тебя ни евро, Делия, — возразил я.
Она нежно улыбнулась мне. Разве она предлагала мне свои деньги?
Я уже протягивал ей руку, чтобы попрощаться. Пора заканчивать с благотворительностью. Ветрогон, наверное, заждался в такси. На вечер, вероятно, намечена культурная программа. Надеюсь, Жан заблаговременно позаботился о билетах в оперу? В это время с ними могут быть проблемы. Даже у звезд французской литературы в таком блистательном сопровождении. Прощай, Делия! Я не хочу больше быть объектом твоего сострадания, мне предстоят дела поважнее. Я возвращаюсь в камеру, где буду ждать суда.
Делия схватила мою руку и сжала ее. Какая тонкость, какой такт! Разумеется, этому она научилась во Франции. Она пристально посмотрела мне в глаза, будто вселяя мужество. «Держись!» — говорил мне ее взгляд. Или, может: «Посмотри, у меня новая тушь от „Виши“». В конце концов, какая разница?
Я знал, что выйду из этой комнаты в паршивом настроении. Мне оставалось произнести еще несколько слов, которые могли бы смягчить удар. Наклоняясь к ее уху, я все еще не знал, что скажу. «Я до сих пор люблю тебя»? «Ты — моя жизнь»? Нет, роман дописан. «Ты изменилась»? Разве? «Я жду тебя»? Лучше прикусить язык. «Хорошо, что ты пришла»? Ах, если бы это было правдой!
— Делия, чтобы ты знала, — начал я. — Я совершил убийство и признаю себя виновным. Так и передай своему адвокату.
Она скользнула по мне взглядом, опуская голову. На мгновение наши глаза встретились. Это время она была со мной. Мне полегчало.
— Блестящая инсценировка, поздравляю, — сказал я следователю, когда Делия вышла.
Ее ямочки исчезли. Я снова занял свое место. Я всхлипывал и стыдился своих слез. Она же не предпринимала никаких попыток утешить меня. Пусть, так даже лучше.
— Думаю, допрос следует перенести на вторую половину дня, — предложила Хелена.
Я не возражал, оставаясь сидеть с прижатыми к лицу руками.
— Прошу прощения, я не знала… — оправдывалась Зеленич.
Но теперь-то она знала! Я старался не слушать ее, однако слово «свобода», которое я уловил, вернуло меня к действительности.
— Вы не хотите на свободу?
Ее ходатайство одобрили «наверху». Миллионный залог уже внесен.
— Кем? — спросил я.
— У вас много друзей, Ян, — ответила Хелена.
Она сказала «Ян», и ямочки на щеках появились снова. Старалась поднять мне настроение. Только благодаря состраданию окружающих я знал, каким несчастным выгляжу со стороны.
— Подумай, Ян. Если ты сегодня решишься, то уже завтра выйдешь отсюда.
Она говорила мне «ты». Вот как мы с ней сблизились! Зачем же было приглашать сюда эту парижанку?
После обеда мне стало лучше. Теперь я был готов выслушать стенания разносчиков пищи. Они жаловались на тяготы службы, нехватку персонала, сокращения отпусков, дежурства по выходным, сырой воздух, низкое жалованье, семейные проблемы и одиночество, на детей, алименты, сломанные или слишком дорогие спортивные автомобили, бесконечную скуку и безденежье, и так каждый день. Чего стоили мои неприятности рядом со всем этим?
Я принял важное решение. Хелена Зеленич удивилась, как быстро я пришел в себя. Во-первых, никакого освобождения. Я отклонил ее ходатайство. Хочу остаться там, где нахожусь. Она покачала головой. Ох уж эти ямочки!
Во-вторых, никаких парижских адвокатов! Мне не нужен ни друг французского ветрогона, ни победа в суде в ущерб истине. В-третьих, меня не интересует ни один из трех десятков лучших в стране специалистов по уголовным делам, которые в последнее время осаждают мою камеру. Ни один из тех загадочных типов, пытающихся с моей помощью пробиться в высшую лигу. Только бесстрастный, объективный и честный представитель. Пусть это будет положенный мне по закону защитник, услуги которого оплачивает государство.
Мне было приятно видеть ее удивленные глаза. Она полагала, что я уверен в победе, и радовалась. Правда, не понимала почему. И это беспокоило ее.
А потом начался допрос.
13 глава
Во время работы в издательстве «Эрфос» я имел дело с определенным видом рукописей, особенно огорчавшим меня. Речь идет о произведениях с многообещающим началом и безнадежной концовкой. С первых строк они ослепляли фейерверком идей, рассыпавшихся самыми невероятными искрами и посылавших тысячи разноцветных лучей во всех направлениях. Маниакально действующие герои напоминали столбы высоковольтной линии электропередачи, прикосновение к которым угрожало жизни читателя. Действие было подобно извержению долго дремавшего вулкана. Мысль, эмоции, страсти — все било через край.
Однако примерно на трети рукописи аккумулированная в текстовых программах энергия шедевра куда-то рассеивалась, и все сходило на нет. Линия сюжета обрывалась, словно не выдержав напряжения. Персонажи становились плоскими, как игральные карты. Помотавшись еще пару сотен страниц, они достигали долгожданной развязки, точно выброшенные на берег останки потерпевшего крушение корабля. Каждый раз, покончив с таким романом, я вздыхал со смешанным чувством облегчения и досады: «Слава богу, готово! Но жаль, жаль… что могло бы из этого получиться!»
Случалось, я встречался и с авторами. Как правило, это были большие таланты: блестящий слог, гениальная образность, неподражаемое чувство юмора, безупречное драматическое чутье. Но когда я видел их изгрызенные ногти, искусанные губы, вздувшиеся вены на шеях, стиснутые челюсти, будто в попытке восстановить пошатнувшееся равновесие между амбициями и действительностью; сверкающие глаза, дрожащие колени, мне становилось ясно: эти люди опустошили себя, выпустив наружу слишком много. Писательское мастерство и бурная фантазия сыграли с ними злую шутку.
Роман созревает где-то внутри. Его вынашивают и терпеливо ждут. Одни переносят его в реальность, другие — на бумагу. Первым писать не следует. Проза, выросшая из самого яркого и глубокого переживания, может оказаться плохой. Но взятая из головы целиком и полностью никогда не бывает хорошей.
— И что же ты им такое говорил, беднягам? — поинтересовалась Хелена.
Шел третий день нашего допроса. Мы беседовали без малого четырнадцать часов и почти закончили. Оставалось только, чтобы один из нас сказал: «Ну, на сегодня все».
Однако ни я, ни она не торопились.
Теперь я был почти уверен: Хелена поверила, что я намеренно убил человека в красной куртке. Я описал ей свои действия в мельчайших деталях, ничего не приукрашивая и не скрывая.
Вот уже сотни раз она, напрямую или косвенно, спрашивала меня: зачем? Ничто во мне не напоминало ей убийцу. Хелена полагала, что достаточно повидала их, наслушалась жизненных историй и описаний совершенных злодеяний во всех подробностях.
Я возражал. Ведь в качестве сотрудника газеты «Культурвельт» я имел дело с не меньшим числом убийц, и они также исповедовались мне с глазу на глаз. Должен сказать, эти люди производили впечатление совершенно нормальных. Под всеми нами зияет пропасть, от нее мы отделены несколькими ступенями падения. Вот только проходим мы к ней по-разному. Преступникам присуща особая сила толчка, позволяющая преодолеть сразу несколько уровней.
— Какая сила толкнула тебя, Ян? — недоумевала Хелена.
Так звучал один из вариантов вопроса «зачем?», ответа на который она так и не получила.
— Это как-то связано с Делией?
Я пожал плечами. «А что в моей жизни не было хоть как-то связано с Делией?»
Раньше я не знал, что Хелена может быть безжалостной. Наш допрос вступил в третью стадию. Если на первой она наказывала меня своим формализмом, а на второй соблазняла ямочками, то теперь Хелена вела меня за руку, взяв на себя роль одновременно союзника и старшей сестры моей жертвы. Она пыталась докопаться до истины и взывала к моей совести. «Почему именно Рольф Лентц?» «Ты его знал?» «Откуда?» «Что у тебя общего с геями?» «Что он тебе сделал?» «Как у тебя рука поднялась убить человека?» «Ты решил поиграть в Бога?» «Как ты смог нажать курок?» «Откуда эта жестокость?» «А о его семье ты подумал?» «Почему в тот момент ты стал другим?» «Что ты за человек?»
Больше всего на свете мне хотелось сейчас обнять ее и не отпускать от себя. Но я не решился коснуться бы и ее пальца, если бы она протянула его мне. Потому что это был палец следователя, неподкупного и несгибаемого. И сейчас он должен был указывать на меня как на виновного.
В ближайшие две недели Хелена планировала закончить и допрос свидетелей. Ей оставалось побеседовать с инспектором Томеком, родственниками убитого, полицейским, которому я сдал оружие, тремя посетителями бара, самим Бобом и юной официанткой.
Официанткой? Ах да, Бразилия… Ту ночь я помнил отрывочно, и это беспокоило меня. Алекс тоже предстоял разговор в суде. «А без нее нельзя?» — спросил я. Нет, это оказалось необходимо. Я расстроился еще больше.
В течение трех недель Хелена хотела окончательно оформить протокол в письменном виде и передать его прокурору.
«На сегодняшний день у него есть все для предъявления обвинения в убийстве», — сказала она. Это прозвучало с угрозой и вызовом. Хелена ждала ответа на главный вопрос, который мог бы изменить ситуацию. Но я только повторял: «Ну, вот и отлично», чем причинял ей боль.
— И что же ты им такое говорил, беднягам? — спросила Хелена.
Если трехдневный допрос можно сравнить с ужином на двоих в итальянском ресторане, то сейчас мы сидели в баре за заключительным коктейлем. В здании уголовного суда все стихло. Приглушенно звучало фортепиано. Свет в коридоре уже погасили, лишь в кабинете Зеленич все еще горела настольная лампа. Это была наша свеча.
В плохом романе я немедленно принялся бы соблазнять Хелену. В совсем никудышном мне бы это удалось. Автору не пришло бы в голову, что я не оправился после ночного приключения в столярной мастерской. Однако сейчас мы оба были готовы опуститься до героев дешевой мелодрамы, вступив в четвертую стадию нашего допроса.
— Жаль, что мы не встретились несколькими неделями раньше, — прошептала она.
— Жаль, — соврал я.
Потому что «несколькими неделями раньше» было уже безнадежно поздно.
Я разглядывал самое миниатюрное в мире черное колечко, сверкающее на самом тоненьком пальчике самой нежной из следовательских ручек. Я почти забыл, зачем здесь нахожусь, и не напоминал об этом Хелене.
Что я сказал бы автору, представившему мне безжизненный роман? «Хорошо», — заметил бы я. В конце концов, кто я такой, чтобы судить? Или на меня возложена обязанность прекратить его мучения последним выстрелом? «Начало просто великолепно, середина, возможно, нуждается в доработке, конец еще не созрел». И, предупреждая уже появляющееся на его лице выражение разочарования, быстро добавил бы: «В целом неплохо, местами даже очень, отдельные пассажи просто блестящи. Вижу в вас открытие года», — я не стал бы уточнять, какого именно.
— Зачем ты это записываешь? — спросил я Хелену.
14 глава
Сорок четыре ночи до Рождества, а потом еще семьдесят две до самого суда пролежала салфетка с посланием Беатриче возле моей подушки. «Бразилия» зимовала со мной. И когда я чувствовал себя потерянным — а это ощущение не оставляло меня, — я трогал пальцами яркие буквы.
Иногда меня охватывала жалость к самому себе, и я переживал ее гораздо острее, чем стыд за то, что хладнокровно забыл своих старых друзей. Вот уже пятый день я клеил для Алекс рождественский календарь. Сама мысль о подобном подарке для лучшей подруги наполняла мои глаза слезами. Я всегда находил эту штуку жалкой. Каждый день открывать очередной картонный ящик, словно не ожидая от жизни ничего большего, кроме дешевого детского сюрприза. А теперь вот и сам докатился до того, чтобы мастерить нечто подобное из скорлупок грецкого ореха и полосок бумаги, на которых писал свои лицемерные пожелания.
В общем, пять дней я действовал вслепую, поскольку глаза мне застилали слезы. Но я ощущал близость Алекс и наслаждался запахом ее кожи. Однажды, лежа рядом со мной в постели, она спросила меня, не припомню ли я фамилии чилийского спортсмена из семи букв, третья «С»? Я ответил, что не знаю никаких чилийских спортсменов, ни с какими буквами. Однако теперь мне в голову пришла мысль, что жизнь, пожалуй, не задавала мне загадок труднее, чем эта, и для меня нет ничего важнее, чем найти для Алекс этого несчастного чилийца, потому что я люблю и всегда любил ее. Почему же этот ее вопрос прозвучал тогда, а не сейчас? Ответа не было.
Итак, я клеил и всхлипывал, пока, наконец, ореховая скорлупа не поплыла перед глазами.
В конце ноября я получил весточку от Алекс. Она писала, что теперь достаточно удалилась от меня, чтобы выдержать свидание, и поэтому хотела бы меня видеть, а я должен позволить ей это без всяких «но».
К счастью, я не депрессивный человек. Нас разделяло убийство и стеклянная стенка. Меня все-таки признали опасным, хотя и долго извинялись за это. Прокурор заявил во всеуслышание, что предъявит обвинение в убийстве. Прозрачная перегородка в комнате для свиданий рассматривалась, пожалуй, как наименьшая из мер предосторожности и начало готовой обрушиться на меня справедливой кары.
Алекс была в темно-синем свитере с норвежским узором, который я помнил из своей предыдущей жизни. Ее утратившие эластичность светлые волосы торчали в разные стороны. Лицо будто отказывалось принимать наложенную на него косметику. Щеки немного запали. Алекс производила впечатление женщины, которой достаточно чихнуть, чтобы остатки ее жизненной силы развеялись в воздухе.
— Когда, Ян? — спросила она стеклянным, как стенка между нами, голосом.
— Седьмого марта, — ответил я.
Гордые слова после нескольких месяцев молчания.
— Есть надежда, что тебя оправдают? — Алекс старалась не выдать своего волнения.
— Слабая, — произнес я, соврав, по обыкновению.
Поняв, что следующий вопрос она хочет начать со слова «почему», я покачал головой и усмехнулся. Уже за одно это я заслуживал пожизненного.
— Я встречалась со следователем, — сообщила Алекс.
Извинившись, я заметил, что ей не стоило этого делать.
— Замечательная женщина, — продолжила она.
Я кивнул. Не хотел ни соглашаться с ней, ни опровергать ее мнения.
— Ты ей нравишься.
Еще один кивок.
— Она верит в тебя.
— Алекс!
Это означало «пожалуйста, не надо».
— Она верит в тебя, как я, — проговорила она.
Я охотно рассказал бы ей об изнасиловании, чтобы освободиться от своей тайны, чтобы Алекс погладила мои раны и навсегда разогнала преследовавших меня призраков. Но между нами встало стекло. Неужели ни одна из этих статуй в форме, с бесполезным револьвером у пояса не догадается хотя бы раз в жизни сделать что-нибудь для людей и разбить проклятую перегородку?
— Делия уже была здесь? — поинтересовалась Алекс. — Она звонила мне, и я обо всем ей рассказала. Она обещала помочь, у нее есть связи. «Ты прилетишь сюда?» — спросила я ее. И она ответила, что да, именно это она и намерена сделать, и она многим тебе обязана. Она была здесь?
— Да, действительно приезжала, — ответил я, словно речь шла о каком-то маловероятном событии. — У нее все прекрасно. Стала настоящей француженкой. А ты снова живешь с Грегором? — вдруг спросил я, потому что до сих пор мы говорили только о приятных вещах, а мне хотелось подпортить ей настроение.
— Да, но я не сплю с ним, — с гордостью заметила она.
Ее впалые щеки покраснели.
Напрасно мы пытались нащупать тему, которая заставила бы нас обоих расслабиться. И тут мне вспомнилось нечто бесспорно жизнеутверждающее — наш поход в Доломитовые Альпы. Раньше мы выезжали туда чаще, иногда даже с Делией. Хотя ее сил хватало лишь до первой встречной хижины — подниматься в горы она категорически отказывалась. Мы же с Алекс каждый раз покоряли вершины. Нас тянуло наверх, независимо от того, доставляло это удовольствие или нет. Мы просто не могли остановиться раньше. Там мы обнимались и чувствовали себя победителями. Но мы обманывались: настоящая победительница оставалась там, внизу, у первой встречной хижины. Она берегла себя для более важных дел.
— Когда я выйду отсюда, мы уедем на Доломиты на целую неделю, — пообещал я.
Алекс наградила меня воздушным поцелуем. Это был знак прощания. Очевидно, она знала, на сколько. Я же понятия не имел. Лишь в камере я вспомнил, что забыл передать ей рождественский календарь.
Господин Томас Эрльт, мой адвокат, с первого взгляда мне очень понравился. Он был на двенадцать лет моложе меня и примерно в три раза толще. Вероятно, в детстве одноклассники частенько надирали ему уши и прятали его очки. Самое интересное, что Эрльт специализировался на жилищном праве и в жизни не видел убийц. Он за сто шагов узнавал спекулянта недвижимостью, но совершенно не интересовался уголовным правом. Закон обязывал его посещать меня не реже раза в месяц до начала слушаний и проводить со мной не менее часа. Дольше адвокат не задерживался у меня ни на минуту, поскольку каждый раз его ждало новое квартирное дело. Я понимал его и сожалел, что вынужден похитить у него эти полагающиеся мне сто восемьдесят минут. Однако мне нужен адвокат, да и он мог кое-чему научиться, занимаясь моим делом, «для жизни», как он выразился, словно я приходился ему отцом. (В какой-то степени именно так я себя рядом с ним и чувствовал.) Кроме того, с моей помощью он приобретал известность, независимо от своего желания. Впрочем, все адвокаты этого хотят.
При первой встрече мы оба чувствовали себя неловко. По его лицу текли струи жирного пота, и он всячески избегал смотреть мне в глаза. Вероятно, это был первый человек в моей жизни, который меня боялся. Надеюсь, и последний. Я не люблю иметь дела с пугливыми людьми.
— Господин Хайгерер, как вы представляете свою защиту? — спросил Эрльт меня.
Голос его звучал так, будто у него в горле сидела металлическая пластина.
— Я собираюсь целиком и полностью признать свою вину, так что вам почти ничего не придется делать, — ответил я.
— Вы раскаиваетесь? — робко поинтересовался адвокат.
Пластина исчезла, словно он ее проглотил.
— Не знаю. Но у нас еще будет время над этим подумать.
Потом я вкратце рассказал ему, как было дело. Заметив, что он собирается спросить меня о мотивах содеянного, я перевел разговор на новую поправку к Жилищному кодексу. Наверное, Эрльт решил, что я коротаю время в камере, занимаясь покупкой и продажей недвижимости, и испугался. Прощаясь со мной (без рукопожатия), он выглядел значительно увереннее, чем в первые минуты нашего знакомства.
— Вы читаете детективы? — спросил я.
Я не думал шутить, но Эрльт хмыкнул так, что его жирные щеки задрожали.
— Одну книгу Донны Леон осилил лишь наполовину. Честно говоря, предпочитаю специальную литературу. После нее лучше спится.
Адвокат произвел на меня хорошее впечатление. Я подарил ему рождественский календарь, который клеил для Алекс. Я не был уверен, что он ему нужен, однако знал, что передаю его в добрые руки.
На Рождество в нашем учреждении организовали небольшой праздник. В тюремном корпусе установили уродливое дерево — не то елку, не то пихту — с вялыми, тупыми иглами. Видимо, из опасения проносить на территорию тюрьмы колющие предметы. Свечей, разумеется, не было. Настоящие пожароопасны, а при помощи электрического кабеля можно организовать прекрасный захват заложников.
Я получил много подарков и передал их для розыгрыша в лотерее. Каждый из коллег все более отдаляющейся от меня «Культурвельт» счел своим долгом порадовать меня коробкой конфет, пачкой кофе или книгой безобидного содержания — то есть ни в коем случае ни психологическим романом, но чем-нибудь для поддержания тонуса атрофирующихся в моем положении «смеятельных мышц».
Тем не менее желаемый эффект был достигнут. Меня развеселила мысль, что эти люди всерьез полагают, будто я буду коротать Рождество, уютно обложившись в камере их глупыми книжками, созданными специально для того, чтобы скрашивать их сытую повседневность. Потом я вообразил себе своих насильников сидящими в соседних камерах за чтением развлекательной литературы, которую они выиграли в лотерею. Я мог бы отомстить им таким образом, поскольку это занятие хоть на время перебило бы их сексуальный аппетит.
В качестве вознаграждения за пожертвованные подарки меня решили не задерживать на празднике и позволили вернуться в камеру уже через несколько минут после его начала. Здесь я погрузился в воспоминания о прошлом и расчувствовался. Рождество еще предстояло пережить.
Я вспомнил отца, которому нечего было предложить моей матери, и он быстро оставил ее навсегда. А моя мать, в свою очередь, ничего не могла предложить мне, потому что слишком устала. Иногда мне удавалось ее хоть немного утешить. А потом мне оказалось нечего предложить Делии. Я хотел воздавать ей почести, она же — просто радоваться жизни. Мы так и не договорились.
Утром в День святого Стефана, когда я уже думал, что пережил Рождество, мой «дворецкий» принес письмо. Он утаивал его от меня три дня. Оно было от Грегора, и одного взгляда на него оказалось достаточно, чтобы понять, что произошло. Посредине листка с черной окантовкой — на таких я получал соболезнования после смерти матери — мне бросились в глаза буквы имени Александра, слишком крупные, будто она еще жила. Проглядев листок и прочитав фразу: «добровольно покончила собой», я скомкал послание. К официальному уведомлению прилагалась записка, в ней Грегор, видимо желая смягчить удар, сообщал, что Алекс «переживала тяжелую депрессию, и никто не мог ей помочь. Она приняла таблетки. Все прошло быстро, она не страдала».
Вечером разносчик пищи испугался моего вида и предложил вызвать тюремного врача. Я ответил, что хочу сделать официальное заявление. Я лгал. Что я мог сообщить? Я понятия не имел, как все получилось. Но это сработало, подобные банальные трюки всегда проходят. «Завтра утром я обязательно уведомлю следователя», — пообещал он. «Утром будет поздно», — возразил я. «Вы не желаете позвать своего адвоката?» — поинтересовался он и попал в самую точку: меньше всего мне хотелось сейчас видеть Эрльта. «К сожалению, он уехал за границу», — вовремя сообразил я. Наконец тюремщики позволили мне позвонить Зеленич на мобильный и даже вернули мне по этому случаю ее визитку. Обычно они изымались: случалось, заключенные вскрывали себе вены такими карточками. Я гордился тем, что для меня сделали исключение.
— Ян Хайгерер, — официально представился я, немного заикаясь. — Мне срочно надо с вами поговорить.
Она вежливо поинтересовалась, что такое взбрело мне в голову, если я решился побеспокоить ее в рождественский вечер.
— Я должен сообщить вам нечто важное.
Нет, это не может подождать до завтра. Сегодня или никогда. Я уперся. В чем мне было еще проявлять настойчивость, если не в этом?
— Это очень, очень важно, — повторил я, словно для того, чтобы облегчить разносчику пищи понимание того факта, что Зеленич вечером, в самый разгар рождественских праздников, способна добровольно приехать в тюрьму выслушивать признания заключенного.
В оставшееся время мне хотелось отвлечься, и у меня получилось. Сейчас я видел перед собой только слово «Бразилия» и не переставал гладить пальцами салфетку, не замечая, как летят минуты. Потом «дворецкий» молча отвел меня к двери следовательского кабинета и снял наручники.
Хелена только что вошла, на ее черном пальто еще блестели капли растаявших снежинок.
— Вам не обязательно ждать, — обратилась она к охраннику. — Я позову вас, когда будет нужно.
Под пальто оказался праздничный красный пуловер с высоким воротником. Вероятно, это был подарок, который она только что распаковала. Он открывался мне постепенно, по мере того, как Хелена расстегивала пуговицы своими тоненькими пальчиками. Она стояла совсем близко. Коснувшись руками красного бархата, я положил голову ей на плечо.
— Алекс покончила собой, — услышал я свой голос.
Я потерся лбом о мягкую ткань, чувствуя руки Хелены на своей спине. Я закрыл глаза. Сейчас наши тела будто замкнулись в одну электрическую цепь.
Я поднял голову и приложился щекой к ее лицу. Для этого мне пришлось преодолеть десять сантиметров.
Я сделал свой выбор семьдесят дней назад. Тогда речь шла о нескольких миллиметрах, отделяющих нормальную человеческую жизнь от глубочайшей пропасти. Или за меня все решил мой указательный палец? Человеческое существование подобно узкой тропинке. Жизнь и смерть почти касаются друг друга, разделенные ничтожным коридором.
И сейчас, приложившись к щеке Хелены, я возомнил, будто могу все переиграть. Мои руки обвились вокруг бедер Хелены. Мои ноги касались их. Она не возражала, позволяя мне и дальше прижиматься к ее телу. Ее рука на моей спине потеплела и перестала двигаться. Все вокруг меня остановилось.
Я считал удары собственного сердца и приходил в себя. На шестьдесят пятом раздался пронзительный звук, и Хелена отпустила меня.
— Да, все в порядке, — сказала она в телефонную трубку. — Да, еще на некоторое время… Понимаю… Тогда вы свободны, спасибо. Я сообщу вашему сменщику, если понадобится помощь охраны…
Я прижал руку к сердцу, стараясь заглушить его удары.
— Да, будет лучше, если мы поговорим с ним с глазу на глаз. О, так будет гораздо лучше! Думаю, это можно оформить как ночное дежурство.
Ночное дежурство, ночное дежурство, ночное дежурство…
15 глава
Доктор Зеленич предложила мне устроиться на том самом диване, где несколько дней назад сидела, скрестив ноги, как королева парижской моды Делия. Я отказался. Сейчас я стоял там, где Хелена упала в мои объятия, и не желал сходить с этого места.
Она сделала несколько телефонных звонков. Я слышал ее профессиональный голос. «Экстренный вызов», — пару раз повторила она. «Возьмите охрану из третьего корпуса» и еще: «Срочно… за домом».
Похоже, Хелена хотела организовать мой побег.
— Не хочешь подышать свежим воздухом? — спросила она, отложив телефонную трубку.
Я молчал. Колени обмякли, но я еще мог стоять.
— Что касается меня, — ответил я, — то мне все равно, насколько свежим будет воздух. — Только бы им дышала Хелена, и главное — рядом со мной.
Мы покинули ее кабинет. Вахтенный, которого я раньше никогда не видел, проводил нас до моей камеры. Я мог или был должен переобуться и взять с собой зимнюю куртку. Потом мы пошли мимо «обезьянника»: молчаливый охранник, гремя связкой ключей, я и Хелена. Ее каблуки стучали в такт моему сердцу.
У ворот Хелена заполнила какую-то бумагу и еще раз пожелала дежурным счастливого Рождества. Огромные ворота распахнулись, открывая перед нами зимний ландшафт. Холодный воздух, как в детстве, обжигал нос. Свет фонарей висел в воздухе сине-белыми полосами, как на картине безумного художника. Черные деревья жалобно скрипели на ветру. Где-то стучало мусорное ведро. Это была моя свобода.
Преодолев несколько метров занесенной снегом дороги, мы наконец достигли заброшенного дома, укрывшись за которым могли чувствовать себя в относительной безопасности. Там стояла наша машина. Та самая, на которой мне предстояло совершить побег. Меня усадили на заднее сиденье и оставили ждать. Я привык к этому состоянию, и оно меня успокаивало. В салоне пахло Хеленой. Я решил не сопротивляться мыслям о человеке в красной куртке, моих мучителях и Алекс. Хотел проверить, не покинули ли они меня окончательно. Нет, они пока оставались здесь, но уже не причиняли боли, как раньше. Мне словно ввели наркоз. Вскоре появилась Хелена, мой доктор, мой возница. Она завела мотор. Не хватало охранника с ключами. Мы трое стали героями приключенческого романа.
Автомобиль тронулся с места.
— А где охранник? — спросил я. И проглотил конец фразы, осознав, что это мои первые слова на свободе.
— Он с нами не поедет, — ответила Хелена.
Ее голос звучал равнодушно.
— Куда ты меня везешь? — поинтересовался я.
— Ко мне.
Я замолчал. Зеркальце заднего обзора, через которое она сейчас наблюдала за мной, я охотно бы открутил, вынул из рамы и повесил над койкой в камере, где мне предстояло отбывать пожизненное заключение.
Наша поездка была борьбой света и тьмы. Последний светофор мигал зеленым. Машина остановилась. Хелена решительно потянула рычаг ручного тормоза, словно хотела показать мне: она знает, что делает.
Подъезд. Лифт. Дверь ее квартиры. Мои глаза. Мое пальто. Моя рука. Все открывалось, распахивалось ей навстречу. Она всегда находила нужный ключ. Коридор. Камин. Рояль. Ковер. Картины на стенах. Шкаф. Диван. Все было великолепно. Все имело цвет и запах владелицы. Внутри словно стояла тихая, безветренная осень.
Благодаря Жаку Оффенбаху мы могли молчать без смущения. Подходящих слов просто не существовало. Я держался за рюмку виски, чтобы не потерять равновесия, и опорожнил их пять, прежде чем вспомнил, кто я и что со мной произошло. Не в силах оторвать свои пальцы от затылка Хелены, я целовал ее губы. Следы от прикосновений и раны прошлого будто покрылись защитным слоем. Она вдыхала в меня свою жизнь. Ее язык мягко шевелился у меня во рту и имел медовый привкус.
Ее руки гладили мою кожу. Я заглядывал в ее прищуренные глаза, следившие за руками, и видел там ее страсть. Точнее, свою собственную, питавшую ее. Мы будто поддерживали огонь друг в друге, и он в конце концов стал неуправляемым. Хелена тихо застонала. Я посчитал бы тот момент кульминационным, если бы на этом игры моего загнанного в угол желания закончились. Но все только начиналось.
У меня закружилась голова, и я сполз на пол. Некоторое время я катался по паласу в обнимку с Хеленой Зеленич, моей чемпионкой по прыжкам в воду, моим судьей, палачом, пока не остановился. Она прижалась ко мне и, приподняв зубами мою рубашку, разметала рыжие кудри по моему животу. Она щекотала языком мой пупок, словно раскапывала, освобождая, мою заживо похороненную страсть.
Снова последовал резкий рывок, доказывающий, что Хелена знает, что делает. На сей раз она расстегивала «молнию» на моих брюках. Она решилась и полностью брала на себя ответственность за возможные последствия своего поступка. Как далеко я мог зайти? Ее губы шептали о безудержной страсти. Руки, скрестившись на груди, отбросили в сторону красный рождественский пуловер. Она сидела, поглаживая мою открытую ладонь, пока с ее плеч соскальзывали бретельки бюстгальтера. Потом встряхнулась, окончательно освобождая себя от одежды, и наклонилась, поднося свою грудь к моим губам.
Слишком много счастья, незаконного, контрабандного, бесстыжего. Глаза чесались от подступивших слез. Я словно хватался за эти мгновения, боясь их потерять. Пальцы Хелены касались моей спины, пробуждая желание. Я куда-то проваливался. Достигнув кульминационной точки, страсть была готова покинуть наши тела. Сейчас она кричала, заглушая во мне все остальные голоса: радости, счастья, горя, страха, смерти.
Хелена приподнялась, повернувшись на бок, снова упала на меня, и мы покатились по мягкому паласу. Она сверкала глазами, внезапно оказываясь подо мной, и умоляла продолжать. Еще, еще и еще — только бы никогда не останавливаться. Я же насладился достаточно, и теперь в голове у меня крутилось одно: за это придется платить. Ничто не дается даром. Напрасно я старался отогнать эту мысль. Понимал, какие бездны раскрылись внутри меня, пока я кричал. Уже сейчас я замечал, как слабеет мой голос, затихая с последним стоном. Хелена была на вершине блаженства и старалась соединить его с моим. Она водила указательным пальцем по моему затылку. Слезы жгли мне глаза. Рыжие локоны падали мне на лицо, утирая их.
Я снова и снова подливал себе виски. Оффенбах все еще звучал, будто ничего не произошло. Хелена гладила мое лицо.
— Ты сделала это из жалости? — спросил я.
— Разумеется, — кивнула она и блаженно улыбнулась, как влюбленные в фильмах после своей первой ночи.
— Подумай, чем ты играешь! Ты рискуешь потерять работу, — строго заметил я.
— Но это не игра, — серьезно произнесла она. — Это твоя жизнь, и я не могу спокойно наблюдать, как она летит под откос.
— Тогда почему ты лежишь рядом со мной?
Она продолжала водить указательным пальцем по моей груди, будто ждала чего-то. В голове у меня шумел виски.
— Зачем ты все это делаешь? — воскликнул я.
— А ты?
Я налил себе еще бокал, чтобы ничего не слышать. Может, это просто очередная фаза нашего допроса, особый прием, который позволит ей окончательно прояснить ситуацию со мной? А если секс потребовался ей именно для того? Совместимо ли это с любовью?
Когда я очнулся, мне хотелось кричать. Хелена лежала рядом и обнимала меня.
— Нам надо поторопиться, — вдруг сказала она. — В шесть часов мы должны быть у ворот тюрьмы.
Я все понял. Речь шла о работе, а это прежде всего. Я подставил голову под струю холодной воды, стараясь вернуть себе человеческий облик.
Сумасшедшая автомобильная гонка стала логическим завершением нашего приключения. Мы бежали обратно, в тюрьму. Ничего не было. Путешествие подошло к концу. В силу вступал обычный тюремный распорядок. Поиграли — и в клетку. К счастью, я не депрессивный тип. Подкупленные охранники ждали нас там, где мы их оставили. Я с готовностью надел наручники. Морозный воздух резал легкие, пропитанные парами виски. Ворота открылись. Мрачное здание поглотило меня, чтобы снова выплюнуть на пороге камеры.
Хелена молчала. Последние ее слова: «в шесть часов мы должны быть у ворот тюрьмы» — остались где-то в осеннем воздухе ее квартиры. Я все понимал, тем не менее не выдержал:
— Мы еще увидимся?
Хелена быстро отвернулась, будто хотела проигнорировать мой вопрос. Однако я услышал ее «да» — невнятное, приглушенное, неуверенное. Но «да»!
Я помнил о нем следующие три месяца.
16 глава
Нет, не о таком судье я мечтал. На месте той женщины мне виделся спортивный молодой человек, которому надо срочно делать карьеру, потому что карта члена яхтенного клуба уже готова. В конце января я узнал, что председательствовать на моем процессе будет Аннелизе Штелльмайер. Это была старейшая и, вероятно, самая мягкая из всех судей данного заведения. Мне она очень нравилась. Госпожа Штелльмайер казалась слишком доброй для своей профессии, которую, видимо, выбрала по ошибке, и больше походила на миссионера, чем на юриста. Она верила, что плохие люди, давшие обещание не совершать больше преступлений, действительно становятся лучше и заслуживают сокращения положенного им по закону срока.
По иронии судьбы именно в отношении Штелльмайер Верховный суд отклонил обвинения в предвзятости, несмотря на то что мы с ней были знакомы раньше и тепло улыбались друг другу, беседуя в перерывах заседаний о журналистике. Последнее следует понимать так: говорила она, а я кивал. Защищать свою работу противоречило моим убеждениям; ругать — профессиональной этике.
Накануне назначения Штелльмайер по непонятным причинам были отклонены кандидатуры троих ее коллег. Раньше мне приходилось видеть их только издали, и они-то, судя по всему, собирались дать мне почувствовать в полной мере тяжесть карающей десницы закона.
Обо всем этом я, сам того не желая, узнал от тюремных служащих. Как они радовались, глупцы! Я готов был поклясться, что дело не обошлось без чьего-то влиятельного вмешательства. Подозрения пали на моего шефа Гвидо Денка, главного редактора газеты «Культурвельт».
«Все мы стеной стоим за вас, — писал бывший начальник на отвратительной рождественской открытке с изображением трубочистов. — Мы глубоко тронуты вашим несчастьем и уверены в вашей невиновности».
Я ненавидел журналистов. Никто не умеет лицемерить так, как мы.
Вот уже тридцать четыре дня я ждал встречи с Хеленой. Каждую ночь я прислушивался: не идет ли тот мужчина со связкой ключей, который провожал нас «подышать свежим воздухом». Я вспоминал нашу машину в снегу; рычаг ручного тормоза, который Хелена так решительно потянула на себя; дверь в квартиру, где царствовала вечная осень. Я снова и снова представлял Хелену катающейся со мной на мягком паласе, где она в лепешку раздавила ужасы моего прошлого.
На тридцать четвертый день нашей разлуки я получил весточку от своего защитника. Она была короткой, но внушала беспокойство.
«Уважаемый клиент, — писал мой адвокат, — обстоятельства позволили мне ближе ознакомиться с вашим делом, и я увидел новые для нас с вами возможности. Именно об этом я и хотел бы с вами поговорить. Прошу позвонить мне.
С уважением,доктор Томас Эрльт
P. S. К письму прилагаю весточку от одной вашей знакомой и по ее просьбе».
Тут я обнаружил еще одно письмо. Я сразу понял, что оно от Хелены, хотя и было подписано именем Хельга. Я не стал распечатывать его, поскольку недостаточно хорошо себя чувствовал. Однако в полночь мое терпение лопнуло, и я вскрыл конверт.
«Дорогой друг, — писала она, — моя работа, ты уже знаешь какая, завершена. Мое прошение о переводе в другое место удовлетворено, в настоящее время я нахожусь в отпуске. Так будет лучше для нас обоих. Уколы заживают быстрее, чем порезы».
Я отложил письмо в сторону. Лишь утром я снова взял его в руки.
«Я верю в тебя, Ян, — так начинался следующий абзац, — и я прошу тебя: борись! Ты отвечаешь за себя. Пора кончать эту мазохистскую игру в справедливость. Признай, наконец, правду. Ты не смог удержать Делию, и что? Хватит наказывать себя за это. Вы не созданы друг для друга. И твоей вины тут нет. Прекрати самобичевание. Ян, я знаю наизусть, что написано в П. — (П? Ах да, „протокол“…) — Ян, никто не становится убийцей добровольно. Человек идет на это, считая, что иначе нельзя. Я вижу лишь одно возможное объяснение тому, что с тобой произошло. И я прошу тебя: не молчи, скажи об этом! Уверена, в скором времени ты сможешь покинуть тюрьму, если захочешь. И тогда я приеду и заберу тебя. У нас впереди будет целое лето. — (Лето? Она действительно так написала? Разве будет еще лето?) — Если же ты решил играть до конца, прошу тебя вычеркнуть меня из своей памяти…»
Я скомкал письмо и вычеркнул Хелену из своей памяти. Однако с наступлением вечера она вопреки моей воле вернулась.
На следующее утро я ощущал такое равнодушие ко всему, что позвонил адвокату и попросил его не откладывать обещанного разговора и приехать ко мне при первой же возможности. Он как раз осматривал какую-то квартиру и, судя по голосу, смутился. Наверное, ему было неудобно общаться с убийцей в компании маклеров.
Эрльт ответил, что готов побеседовать со мной прямо сейчас, выказав понимание. А может, ему просто недоставало воображения представить распорядок дня заключенного, и он думал, что я с трудом нашел для него место в своем деловом графике.
В общем, в полдень мы сидели с ним в комнате свиданий. Оба выглядели измотанными: я — из-за бессонных ночей, он — преодолев двадцать ступенек без лифта. После рождественских праздников Эрльт прибавил еще несколько килограммов. Вспотел он, вероятно, не в последнюю очередь из страха передо мной. Я был небрит, мои волосы жирно блестели, как и его кожа. Мой серый тренировочный костюм висел мятыми складками.
В моем взгляде читалась обреченность, с которой я намеревался выслушать приговор, сулящий мне пожизненное заключение. В этом отношении я тренировался, готовя себя к встрече с присяжными.
— То, что вы рассказали мне во время нашего последнего разговора, — начал он, и в горле у него будто снова зазвенела металлическая пластина, — нуждается в пояснениях. Если точнее, мне не совсем понятны причины, побудившие вас совершить это, и, преодолев страх…
Волна накатывала на волну. Из вежливости я притворился, будто не поспеваю за стремительным полетом адвокатской мысли.
— …довести дело до точки.
Я не ожидал такого оборота и встревожился.
— Вы должны были знать свою жертву, — продолжил Эрльт.
Я вздрогнул и хотел вскочить, но адвокат снял очки и строго взглянул на меня своими свиными глазками, пригвоздив к стулу.
— Ваши пути пересекались. Разве вы не учились вместе в школе? — Он был слишком взволнован, чтобы дожидаться ответа. — Лентц два семестра изучал германистику. Вы были знакомы по университету?
Ситуация становилась абсурдной. Еще чуть-чуть — и я рассмеялся бы ему в лицо. Эрльт достал розовый лист плотной бумаги с наклеенными на него газетными вырезками и дрожащими руками развернул его передо мной.
— Лентц был активистом движения в защиту гомосексуалистов, вел семинар по организации политических акций. Он возглавлял демонстрации за легализацию легких наркотиков, числился среди организаторов конгресса по СПИДу, выступал против дискриминации гомосексуалистов. И вы писали об этом, господин Хайгерер. Может, вы знали его ближе? Вы гей? У вас была с ним связь? Он изменил вам, и вы убили его из ревности? Если в состоянии аффекта, то у вас есть смягчающие обстоятельства. Параграф шестьдесят…
— Хватит! — закричал я, испугавшись собственного голоса.
Эрльт вздрогнул, собрал вырезки в папку и быстро убрал ее с глаз долой. Его обидели. На него, образцового ученика, Шерлока Холмса, замаскировавшегося под маменькиного сыночка, наорали. Он ведь с детства привык получать вознаграждение за внеклассную работу, например, ванильными трубочками. Я оказался слишком груб для него, и это меня огорчало.
Я объяснил ему, что нахожусь не в лучшем психическом состоянии и в настоящее время мне нечего сказать об убитом и нет желания даже слышать его имя. Как он понял мои слова — его проблемы. Он должен был избавить меня от объяснений. Ему вообще не следовало продолжать заниматься моим делом. Он изложил факты — они говорили сами за себя. Эрльт робко кивнул, избегая смотреть мне в лицо.
— Поверьте, я благодарен вам за желание помочь, — произнес я, трогая его за плечо. — Но вы проделали никому не нужную и кропотливую работу. Мне она не принесет никакой пользы, вам тоже ничего не даст, даже денег. Приберегите свои силы для более сложных дел. Мое — слишком простое.
Он взглянул на меня. Его свиные глазки снова исчезли за очками. Я подмигнул ему.
— Все будет хорошо.
Адвокат поблагодарил меня, сам не зная за что. Он понял, что не нужен мне, и уходил в плохом настроении. Я искренне жалел его.
Следующие несколько дней оказались для меня очень тяжелыми. Я напрасно искал себе занятие, способное отвлечь от тягостных размышлений. Мне даже пришла идея полистать Библию, лежавшую на ночном столике. На всякий случай в каждой камере имелось по экземпляру Священного Писания в черном переплете. Книга нагнала на меня тоску, чего со мной никогда не случалось за время моей работы в издательстве. Ни одна из ее притч не имела ко мне никакого отношения. Религия — не то, что можно понять. Это либо знание, либо вера, либо притворство. Ни то, ни другое, ни третье было мне не под силу. Меня хватало лишь на то, чтобы соответствовать ожиданиям. Очередное состояло в том, что я должен выстоять. Шахматный журнал подошел бы мне сейчас больше. Или решение и составление шахматной задачи.
Мое уединение нарушили разносчики пищи.
Из того, что они мне давали, я съедал ровно столько, сколько нужно, чтобы не выглядеть жертвой добровольной голодовки. Никто больше не решался предлагать мне прессу, поскольку одним из моих развлечений стало разрывание газетной бумаги на мелкие кусочки, напоминающие конфетти. Несмотря на тяжелое душевное состояние, я оставался приветлив со своими тюремщиками. В благодарность за это они перестали пересказывать мне новости из большого мира. Иногда я даже интересовался, как их дела.
«Спасибо, все нормально», — отвечали они, не досаждая мне дальнейшими разговорами. Вероятно, им становилось хорошо уже от одного моего вида.
Как-то раз, мучимый бездельем, я откопал скомканное письмо Хелены, твердо решив дочитать его до конца, пропустив начало. Мне это не удалось. Я снова увидел предложение: «Если же ты решил играть до конца, прошу тебя вычеркнуть меня из своей памяти». И возненавидел его. Оно показалось мне очень жестоким, напористым. Ниже шли строчки, которые было почти невозможно прочитать: в деловых сообщениях часто встречаются дополнения мелким шрифтом.
«В самом крайнем случае, если тебе действительно понадобится моя помощь, ты можешь оставить мне сообщение. Пароль: „Вильфрид“. („В“ как „W“.) В ближайшие дни я снова появлюсь в знакомом тебе кабинете, чтобы забрать свои вещи. Ты помнишь, что я ответила на твой вопрос, увидимся ли мы снова? Я сказала „да“. Твоя Хельга».
Подождав, пока мои официанты подадут следующее блюдо, я осведомился у них о человеке по имени Вильфрид, который как будто работает здесь в охране. Фамилии я не помню. Я хочу передать ему привет от нашего общего друга. С глазу на глаз, если такое возможно. Узнал, что единственный сотрудник с таким именем — Вильфрид Хёрль из третьего корпуса. Коллеги называют его Граф Дракула. Граф — потому что когда-то он служил дворецким в одном богатом доме. Дракула — за то, что он работает только в ночную смену и имеет такую бледную кожу, что кажется, в жилах у него совсем нет крови. Они обещали прислать его ко мне. В благодарность за услугу я съел весь картофельный суп и положил на тарелку записку для повара с одним-единственным словом: «Восхитительно».
Граф явился в ту же ночь, гремя все той же связкой ключей. Этот звук разбудил во мне тяжелые воспоминания о Рождестве и письме с черной каймой. Сейчас Алекс лежит в земле, а я не был даже на ее похоронах. Я подвел ее, как всегда.
Для начала я протянул Графу несколько купюр. Денег у меня здесь оставалось больше, чем я мог растратить.
— Где письмо? — спросил он.
Стоило ему раскрыть рот, как я сообразил, что у него в жилах вместо крови текла водка.
— У меня нет письма, я…
— Завтра в два часа ночи, — недовольно проворчал он.
— Простите, я хотел бы встретиться с ней лично.
— Так, значит, завтра в два ночи? — Он заметно нервничал.
— Да, думаю, это время меня вполне устроит, — улыбнулся я.
Он оставался серьезен, явно не желая любезничать с преступником.
На прощание я вручил ему еще одну купюру. Деньги не имели для меня никакого значения. Он прогремел ключами — и это была его единственная реакция на мои действия.
Меня переполняли эмоции, не имеющие выхода. Я словно воспламенялся изнутри, не имея возможности открыть предохранительный клапан. Когда я представил Делию, целующуюся с романистом Жаном Лега, меня прошиб холодный пот. «Это все картофельный суп», — убеждал я себя, стараясь отвлечься от этих мыслей.
— Вы зациклились, — объяснил тюремный врач, к которому меня потащили, обнаружив лежащим на полу камеры с бледным, как полотно, лицом. — Вам необходимо возобновить пробежки, снова заняться спортом.
Я вспомнил столярную мастерскую, и мне стало плохо.
По крайней мере, они оставили меня в покое. С наступлением темноты мне полегчало. Я подумал о бескровном Графе со связкой ключей, и это разорвало круг неприятных воспоминаний.
В полночь я принял душ, побрился и переоделся в чистое. Адреналин так и играл у меня в жилах. Я подумал, что совесть моя чиста, и за оставшиеся тринадцать недель со мной не должно произойти ничего страшного. Потом я взглянул в зеркало и увидел, как мое лицо искажается в плаче: кривятся губы, сужаются глаза, появляются морщины. Я пригладил челку и принялся считать седые волоски. Насчитав шестьдесят, перестал.
Граф оказался пунктуальным. Он даже прихватил для меня наручники. Мы пробирались по тускло освещенному коридору, пропахшему картофельным супом. Перед камерами стояли железные корыта, словно для животных. Наконец стоны и храп остались позади. Мы достигли следовательского корпуса, от стен которого исходил уже обычный запах штукатурки, и нащупали в темноте нужную дверь.
Сломав мои наручники о дверную коробку, Граф втолкнул меня в кабинет Хелены и запер дверь снаружи. Я слышал, как он удалялся, гремя связкой ключей. В комнате было жарко и совершенно темно. Я вспотел, меня охватил ужас. Глупая шутка? Жестокий розыгрыш, интрига? Я снова подумал о столярной мастерской. Крик о помощи застрял у меня в горле, готовый вырваться наружу. Мне оставалось только открыть рот.
— Я здесь, Ян, — раздался шепот Хелены.
Он доносился со стороны того самого дивана, где когда-то сидела, по особенному скрестив ноги, королева парижской моды. Я направился туда, ощупью пробираясь сквозь темноту. Почувствовал ее запах, когда она обняла меня, и снова оказался в царстве безветренной осени.
— Хорошо, что ты здесь, — сказала она.
Нет, я не слышал этих слов. Я прочитал их у нее в мыслях, потому что сам в тот момент повторял то же самое. Я залез под покрывало и прижался к ней, обхватив руками и ногами. Таким возмутительным образом я утверждал свое право на защищенность. По лбу стекали струи пота. Тишину нарушало лишь тиканье стенных часов.
— Ты продрог, — заметила она.
— Я зациклился, — повторил я слова доктора.
— Тогда, может, тебе следует возобновить пробежки, снова заняться спортом, — посоветовала Хелена.
Я засмеялся и поцеловал ее. Близилась пора прощаться. Теперь я словно падал куда-то и в любой момент ждал удара. Хотел спрятаться от себя самого и глубже кутался в покрывало, прижимаясь к ее телу. Но ужасный звук приближался. Через несколько минут Граф уже гремел ключами у двери. Я должен был уйти. Хелена — остаться.
17 глава
Хороший был день седьмое марта. Я понял это уже утром. Главное — ничего не воспринимать всерьез. «Дворецкий» разбудил меня в шесть часов. Я гордился тем, что мне удалось хорошо выспаться.
Еще некоторое время я лежал на спине и смотрел на лампочку в сорок ватт, напрасно старавшуюся осветить мое убогое жилище. Наконец утро вступило в свои права. Весна! Делия! Я хотел расплакаться, чтобы потом забыть о ней навсегда. Но ничего не получалось, я не мог выжать из себя ни слезинки. Хороший знак. Я сразу понял, что день обещает быть удачным.
В семь утра меня снова послали к тюремному врачу. Напрасно я убеждал своего адвоката в том, что здоров. Журналисты так настойчиво объявляли меня смертельно больным, что в конце концов в это поверили все. Даже в тюрьме мне не давали покоя. Сам главный судья явился в камеру доказывать мне, что я недостаточно хорошо себя чувствую. В любом случае, выдержать семь дней слушаний мне не под силу. Он чуть было не сорвал процесс, который так скоро обещал закончиться и для меня, и для него, и для прессы.
Я был здоров. Приступ рвоты, случившийся со мной на этой неделе, лишь доказывал, что у моего тела пока хватало сил противостоять самому себе. А худоба присуща мне от природы. Щеки запали, но после пятимесячного заключения это казалось мне естественным. Вероятно, невыносимо долгие февральские дни мне следовало коротать за едой, а не думать о том, когда меня поведут к Хелене.
— Вы мне не нравитесь, господин Хайгерер, — заявил тюремный врач.
Я тоже был от него не в восторге, но это не имело значения.
— Я прекрасно себя чувствую, — улыбнулся я.
— Вам виднее, господин Хайгерер, — махнул рукой доктор. — В конце концов, это ваш процесс.
Из благодарности я на его глазах выпил целую чашку черного чая с сухарями.
В восемь часов за мной приехали два незнакомых мне охранника. Оба выглядели свежими и подтянутыми. На их лицах лежал отпечаток светскости. Может, они выдержали конкурс за право мелькать рядом со мной на телеэкранах и страницах газет. Не исключено, что их даже пригласили из театра. Мы долго шли какими-то коридорами, сначала поднялись на один этаж, потом спускались. В дешевом детективе за это время я предпринял бы не менее пяти попыток побега и столько же — захвата заложников.
Я уже решил, что они заблудились, когда мы наконец вышли к комнате для задержанных, судя по табличке на двери. Внутри помещение оказалось совершенно пустым. Вероятно, так было задумано, и убийцы вроде меня быстрее во всем сознавались в подобной обстановке. Мои спутники молчали, и это действовало мне на нервы.
— Как вы думаете, будет ли еще снег в этом году? — спросил я.
В марте месяце такое вполне возможно.
— Видимо, да, — ответил один. Его голос звучал приглушенно, словно из-под слоя воска.
— Надеюсь, нет, — произнес второй.
Он, значит, умел надеяться. Я несколько успокоился.
— Позвольте и мне кое о чем спросить вас, — обратился ко мне второй. Самое время было задавать вопросы, пока мы сидели одни в пустой комнате. — Вы действительно застрелили человека?
Я молчал. Подождав несколько секунд, он продолжил:
— Разумеется, вы не похожи на убийцу.
Отблагодарив его вымученной улыбкой, я поинтересовался, как, по его мнению, выглядят убийцы.
— Они жестокие, свирепые на вид, — ответил за него его товарищ.
— Настоящая жестокость таится внутри, она не видна, — возразил я.
Я тут же пожалел о своих словах. Я не хотел выглядеть умным, как Харрисон Форд. Но охранники закивали, будто действительно узнали для себя что-то новое.
Наконец зашумела рация, избавив меня от дальнейших расспросов. Тот, который ждал в этом году снега, кивнул тому, который надеялся, что его больше не будет. Оба прокашлялись, расправили плечи и пригладили волосы.
— Вы готовы? — спросил меня первый.
Я улыбался. Я готов уже много лет.
Голоса приближались. Их было много, и они вызывали у меня неприятные чувства. Мне сразу вспомнились шумные посиделки, душой которых всегда становилась Делия. Она нуждалась в людях, чтобы находиться в центре внимания, поэтому ей не нравилась моя компания. Я не отличался общительностью, меня слишком сковывала любовь к ней.
Шум усиливался. Я радовался, что встречаю его не один. Мы с охранниками находились возле служебной двери большого зала заседаний. В своей прошлой жизни мне приходилось входить в него с другой стороны. Знал ли я тогда, как все повернется?
Переступив порог, мы сразу оказались в эфире. И если слепивший глаза свет напомнил мне мои детские представления о рае, то шум стоял, как в аду. Отдельные голоса и звуки смешались в неразличимую истерическую какофонию. Я считал свои шаги до скамьи подсудимых. Четырнадцать. Большинству убийц нужно больше. Обычно они спотыкались и еле ползли, в качестве репортера я часто видел такое. Многих сюда втаскивали. У меня никогда не хватало сил смотреть в их лица.
Не выдерживая вспышек, я прикрыл глаза, хотя прекрасно знал, что многим это не понравится. «Главное — ничего не воспринимать всерьез», — думал я. В усиливающемся гуле я различал свое имя.
— Эй, Хайгерер!
— Посмотри сюда, Ян!
— Ян, сюда!
Я старался сохранять на лице приветливое выражение. Хотел оставаться для них хорошим коллегой.
— Как дела, Ян?
— Ты здоров?
— Скажи что-нибудь!
— Тебя оправдают?
Некоторые голоса я узнавал.
— Господин Хайгерер, что вы ели сегодня на завтрак? — кричал один.
Любимый журналистский вопрос. Тем самым они усаживают убийцу за один стол с добропорядочными гражданами. Я радовался банальным вопросам, от них становилось легче.
— Чай с сухарями! — крикнул я коллеге.
Сотни человек раскрыли свои блокноты.
Я тоже был когда-то одним из них. Записывал «чай с сухарями».
Вокруг меня развязалась ожесточенная борьба. Каждый из фотографов стремился приблизиться ко мне. Они еще не располагали достаточно четкими снимками волосков в моих ноздрях. Полиция теснила людей с камерами. Те отходили, двигая свою тяжелую аппаратуру. Журналисты были готовы костьми лечь, только бы закончить свою работу. В сущности, сам по себе я их не интересовал. Мое преступление явилось лишь хорошим поводом для шумихи. Это немного успокаивало мою совесть.
Они пропустили ко мне социального работника, и его рука легла на мое плечо. Разумеется, рядом стоял и мой адвокат, он смотрел в толпу, ища поддержки. В его страхе, как часто бывает у толстяков, чувствовалось что-то животное.
Я вежливо поздоровался, наклонившись к его уху.
— Рад видеть вас, доктор, — произнес я.
На душе у меня было гадко. Ведь я втянул его в это дело, и теперь его мать видит сына по телевизору рядом с убийцей.
Он что-то отчаянно прокричал мне в ухо. Я не расслышал, однако кивнул. Вероятно, спросил меня, читал ли я заключение прокурора. Адвокат постоянно напоминал мне о нем. До сих пор я отвечал: «Пока нет». Адвокат говорил что-то еще, я понял только «с предъявленным обвинением». Наверное, его интересовало, согласен ли я с обвинением. Я энергично закивал и похлопал его по плечу. Это означало: все в порядке. Он так тяжело вздохнул, что мне захотелось ослабить узел на его галстуке. Но я сдержался: в конце концов, я ему не отец.
Внезапно шум стал стихать, вспышки света слабеть. Охранник, еще ожидавший в этом году снега, снял с меня наручники. Другой заметил, что теперь я могу опустить руки. Однако я по-прежнему держал запястья вместе, и пульсирующие вены чувствовали друг друга. Я оставался преступником, прежде всего для самого себя.
— Мы просим фоторепортеров и телевидение покинуть зал, — объявил в микрофон приятный голос.
Он принадлежал Аннелизе Штелльмайер, сидевшей метрах в семи от меня, на возвышении. Я не смел повернуть голову в ее сторону. Она помнила меня другим, и это меня смущало.
Я вообще не хотел никого здесь узнавать, и мне удалось: три сотни окруживших меня человек так и остались для меня безликой массой. Я смотрел куда-то вперед. Справа от меня выстроились рядами журналисты и любопытные. На ложах и ярусах, вероятно, собрались почетные гости. Где-то среди них мог находиться и Гвидо Денк, мой шеф. Я представил рядом с ним главного судью с ободряющей улыбкой на лице.
Адвокат стоял у меня за спиной, я дышал запахом его пота. Слева от него должны находиться эксперты и криминалисты. Рядом с ними прокурор, я не мог его видеть. Метрах в пяти передо мной двумя рядами сидели присяжные. Я не различал их лиц, но понял, что женщин среди них больше, чем мужчин. Я предпочел бы, чтобы было наоборот.
Все смолкли разом, словно каждая минута пребывания в зале стоила больших денег. Что такое суд, они знали скорее из американских фильмов. Они вообще плохо представляли реальную жизнь. Кино изображало действительность схематично, как на плакатах, отчего все становилось понятнее. «Добро» вынимали из одного ящика, «зло» — из другого. Даже если ящики по ходу действия менялись местами или один из них куда-нибудь прятали ради интереса, их содержимое никогда не смешивалось. Этого публика не одобрила бы.
Штелльмайер спросила меня, отдаю ли я себе отчет в том, что делаю. Она имела в виду не убийство, а предстоящий процесс. В руке она держала кипу медицинских заключений, грозящих все сорвать. Там было написано, что я страдаю тяжелой формой гастрита, у меня катастрофически низкий уровень сахара в крови, не говоря о других анализах. Я заверил ее, что чувствую себя достаточно хорошо, чтобы выдержать заседание. Во всяком случае, переносить его нет необходимости. К сожалению, мне не удалось избежать умоляющего тона.
Присяжные пришли в движение. Третья дама слева в первом ряду склонила голову. Теперь я разглядел ее. Она была пожилая и чем-то напоминала мне мать. И она смотрела на меня так, будто видела во мне своего сына. Мне хотелось улыбнуться и успокоить ее: «Все будет хорошо, мама». Я с трудом сдержался и повернулся в другую сторону. Надеюсь, я выглядел достаточно бездушным. Они не должны любить меня. Мне не следует ничего воспринимать всерьез. Таковы главные запреты на ближайшие дни.
Слушания объявили открытыми.
— По настойчивой просьбе обвиняемого, — услышал я голос судьи, — врач находится в зале.
Мои бывшие коллеги одобрительно зашумели. Перенос заседания означал бы для них катастрофу. Разве за этим они завоевывали себе драгоценные минуты телеэфира и место на газетных страницах? Чем они стали бы заполнять промежутки между рекламными паузами и время трансляции?
Аннелизе Штелльмайер начала с самого неприятного: с официального сообщения. Это походило на заполнение формуляра, только устно. Я подтвердил, что действительно являюсь Яном Руфусом Хайгерером, тысяча девятьсот шестьдесят первого года рождения, гражданином Австрии. Мои родители, Хильдерад и Бертольд, умерли, я не имею ни сестер, ни братьев.
— Семейное положение? — спросила она.
— Холост.
— Где проживаете?
Странный вопрос для человека, содержащегося под стражей. Понимая, что она имеет в виду, я назвал свой старый адрес.
Образование? Да, я ходил в школу, как положено, был хорошим мальчиком. Сначала в начальную, потом в гимназию. Получил аттестат зрелости.
— С отличием? — уточнила судья.
Откуда она знает? Да, с отличием. Я заметил, как при этих словах она склонила голову набок и кивнула присяжным. Десять семестров изучал германистику в университете.
— Вы окончили курс? — поинтересовалась она.
Да, конечно. В моем нынешнем положении это звучит как насмешка.
Профессиональное развитие? Хорошее выражение. Жизнь — вечное движение, постоянный рост. Каждый сам выбирает темп, главное, чтобы не слишком быстрый. Я шел уверенной поступью. Шутка ли, семь лет проработать ведущим редактором в издательстве «Эрфос»!
— Ведущим редактором?
Да, ведущим. Вплоть до очередного поворотного пункта в карьере. Такого незначительного, что на него почти никто не обратил внимания. Журналистская школа в Гамбурге.
— Тоже с отличием?
Да, с отличием. Но какое это имеет отношение к убийству?
От злобы на нее у меня перехватило дыхание.
Потом девять лет работы журналистом. Репортер и редактор газеты «Культурвельт».
— Судебный репортер, помимо всего прочего, — вставила Штелльмайер.
Я кивнул, она улыбнулась.
— Хорошо знакомый с порядками и устройством нашей системы, — добавила она.
— Можно сказать и так, — кивнул я.
Я старался оставаться серьезным. Но не ответить на ее улыбку было трудно.
Доходы? Да, я хорошо получал. Даже имел сбережения. Покупал акции, опционы и тому подобное. Лотар Хумс, мой коллега из отдела экономики, так долго убеждал меня в этом, что я наконец поддался. Я понятия не имел, сколько они стоили. Я ничего не смыслил в данных вопросах. Никогда не имел желания копить деньги и не задумывался, зачем их зарабатываю.
Дети? Ах да! Двое вне брака. Я плачу им лишь жалкие алименты. Тут женщина, напоминавшая мне мать, снова подняла свою сочувственно склоненную голову.
Судимости? Конечно, Штелльмайер все и так известно. Но кое-кто из присяжных мог об этом не знать и принять ее вопрос за чистую монету.
Я сделал вид, будто задумался.
— Нет.
— Действительно, лист судимостей чист, — подтвердила Штелльмайер. — Репутация подсудимого безупречна, — объявила она, повернувшись к присяжным.
Настала очередь формальностям, которые я знал наизусть.
— Господин Хайгерер, — обратилась ко мне Штелльмайер. — Я могла бы вам этого не говорить, но на все вопросы вы должны отвечать только правду. Вы знаете, что чистосердечное признание является существенным смягчающим обстоятельством. — Она сделала паузу. — Обязана предупредить вас по протоколу, — добавила она, смутившись.
18 глава
Слева за моей спиной прокурор Зигфрид Реле начал свою вступительную речь. Она длилась почти два часа с перерывами. Под воздействием ли этого приглушенного баритона, которым сейчас говорило само правосудие, или по какой-либо иной причине, но мой желудок вдруг пронзила резкая боль, грозящая разорвать его на части.
Я попросился в туалет. Охранники надели на меня наручники и повели из зала.
— Вам плохо? — спросил тот, который еще ожидал в этом году снега.
— Нет-нет, — успокоил я, — просто утром выпил слишком много чая.
Меня рвало. Я спустил воду, чтобы заглушить звуки, которые издавал.
Я прошел на свое место, стараясь держаться подальше от Реле и опустив голову. Не хотел, чтобы присяжные видели мое лицо, в то время как прокурор рассказывает обо мне разные ужасы. Охранник, который не ждал в этом году снега, пару раз нагнулся, пытаясь разглядеть, не заснул ли я, не потерял ли сознания и жив ли вообще.
Я всячески избегал взгляда Реле. Так и не посмотрел на него, зная, как бывает ухожен французский газон, если состоит из короткой черной бороды, покрывающей острые скулы. Его исполненная здравого смысла речь походила на сообщение по радио. Такая же взвешенная, ровная и беспафосная. Не пытаясь управлять вниманием слушателей, он так часто повторял одно и то же, что информация впитывалась в мозги, как жидкая каша в стенки желудка, — сама собой.
Реле попросил присяжных забыть все, что они знали обо мне из газет. Это было правильно, и я остался благодарен ему за это. Он ограничил деятельность СМИ сферой мифов и легенд, где присяжным искать нечего. Насколько я знал, Реле ненавидел журналистов и не желал иметь с ними никаких дел. Он считал их врагами правды и трусами, беззастенчивыми клеветниками, манипулирующими законом. Они расшатывали правовую систему, вместо того чтобы ее укреплять. Создали свои властные структуры, при помощи которых управляли и политиками, и обществом.
— Истерия СМИ вокруг данного преступления не обошла стороной и меня, — признался Реле. — Однако вынужден констатировать, фактическое содержание…
Он любил выражения «вынужден констатировать» и «фактическое содержание». Первое точно схватывало суть его работы, второе являлось своего рода квинтэссенцией юриспруденции, поскольку объединяло в себе понятие «факта» и допускающего различные истолкования его «содержания».
— Однако вынужден констатировать, фактическое содержание дела оставляет нам мало возможностей для радужных фантазий, — продолжил Реле. — Честный, уважаемый, порядочный, состоявшийся в профессиональном плане, высокообразованный и успешный гражданин… — это лишь часть тех эпитетов, которыми он наградил меня за два часа своей вступительной речи, — обаятельный, дружелюбный, внимательный, вежливый, вечно улыбающийся и очень приятный мужчина… — это я-то «вечно улыбающийся»? — который, казалось бы, и мухи не обидит, совершает нечто такое, чего никак не мог бы ожидать от него ни один здравомыслящий человек.
Признаться, я и сам не предполагал, что способен на такое.
— Самое ужасное из злодеяний, величайшее преступление против основ нашей западной цивилизации, — на секунду его бормочущий голос стих, словно мотор, наконец, дал сбой. — Он совершает убийство — жутчайшее, отвратительнейшее из известных нашему закону правонарушений, карающееся у нас самыми строгими мерами, вплоть до пожизненного заключения.
Я воспринял это как намек на ожидающий меня приговор и энергично кивнул.
— И тут мы, естественно, спрашиваем себя: почему он это сделал?
Я прикрыл глаза. В моем желудке копошились морские ежи. Могут ли они спровоцировать инфаркт миокарда, если доберутся до сердца?
— Позвольте мне задать данный вопрос в другое время. Позвольте мне также подойти к нему без предубеждений.
Морские ежи медленно сворачиваются в клубочки. С правой стороны от меня, где сидели журналисты и зрители, снова послышался нарастающий шум, а затем стих.
— Давайте же посмотрим на факты, предоставим им возможность говорить за себя, — призывал Реле присяжных. — Человека застрелили на входе в бар с близкого расстояния. И нажавший курок сидит перед нами.
Последняя фраза отозвалась в левом полушарии моего мозга острой болью. Видимо, Реле готовился обратиться ко мне.
— Прежде чем судить его, мы обязаны представить, как все происходило. Хотя нет, — спохватился Реле, — у нас ведь есть полное признание подсудимым своей вины, и оно исключает как необходимость самообороны или несчастный случай, так и соучастие в этом деле второго или третьего лица, что подсудимый подтверждал и в чем расписывался неоднократно. И в его показаниях нет никаких противоречий. — Он достал пистолет. — Налицо важнейшая улика — орудие убийства, оно принадлежит подсудимому и было при нем на момент преступления, отпечатки пальцев…
Где Хелена? Она в зале? Любит ли она меня?
— Разрешите мне, наконец, зачитать заключительные слова полицейского протокола, принадлежащие обвиняемому.
Неужели она любит меня?
— Вот что он говорил: «Я, Ян Хайгерер, решительно настаиваю на том, что заранее спланировал убийство до мельчайших деталей и совершил его умышленно. Я не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни какого-либо душевного помешательства. Голова моя оставалась ясной. О жертве мне сказать нечего. Мотив я раскрою позже».
Так любит ли она меня?
— Дамы и господа присяжные! Я полагаю, вам не остается ничего иного, как классифицировать действия подсудимого Яна Руфуса Хайгерера в соответствии с параграфом 75 Уголовного кодекса и вынести соответствующий приговор.
Неужели ей удалось выяснить, зачем я это сделал?
— Чрезвычайно трудноразрешимой и интересной задачей как для психологов, так и для всех нас остается вопрос «почему?», — продолжил Реле. — Собственно, мы имеем здесь два «почему»: во-первых, непонятна причина самого преступления; во-вторых, не меньшую загадку представляет собой столь упорное замалчивание ее подсудимым. Для решения вопроса о виновности все это не имеет значения, однако может существенно повлиять на определение меры пресечения. Не исключено, что подсудимый уже завтра…
Любит ли меня Хелена? Зачем она возила меня к себе домой? Жалела или хотела со мной секса?
— …но я хотел бы предостеречь вас, дамы и господа: опирайтесь на факты и не позволяйте обманчивым чувствам руководить вами. Да не введут вас в заблуждение ни внешность, ни манеры обвиняемого. Не поддавайтесь неоправданному состраданию. Человек рука которого не дрогнула привести в исполнение столь хладнокровно спланированное убийство, не заслуживает…
Внезапно другой мужской голос заглушил монотонное прокурорское жужжание.
— Простите, но мне кажется, подсудимому плохо.
Он доносился со стороны присяжных.
Оба охранника взяли меня под руки и поставили на ноги. Мысли о Хелене плохо повлияли на мое самочувствие. Я ничего не должен был воспринимать всерьез, я забыл это правило. Извинившись за кратковременное помрачение сознания, я сослался на спертый воздух. Потом скользнул помутившимся взглядом по рядам присяжных. Женщина, похожая на мою мать, протирала глаза. Судья объявила большой перерыв. Меня сразу же доверили заботам трех медиков.
Мне полегчало. Вероятно, желудок болезненно реагировал на глуховатое прокурорское бормотание. Иногда оно набирало силу и звучало, как из самых дорогих усилителей системы «хай-фай».
— Реле — козел, — прошептал мне охранник, ожидавший в этом году снега. — Самый настоящий онанист, — подтвердил он, когда я попытался возразить ему жестом.
Я кивнул. В конце концов, все мы, так или иначе, онанируем, каждый по-своему, даже если и не в традиционном смысле этого слова.
И вот слово взял Томас Эрльт, мой защитник. Я нервничал не меньше его, чувствуя себя отцом мальчика, который должен рассказывать на празднике по случаю юбилея школы стихотворение, но плохо знает текст, в чем я убедился непосредственно перед выступлением. Я давно хотел сказать Эрльту, что неприятные запахи можно значительно ослабить при помощи дезодорантов. Кроме того, сейчас нетрудно достать в магазинах хорошие хлопковые и льняные рубашки, они, особенно в дни распродаж, стоят, пожалуй, не намного дороже его клетчатой полиэстровой синтетики, троекратно усиливающей потоотделение. Он сидел напротив меня. Вероятно, день седьмого марта выдался не таким удачным, как мне поначалу показалось.
Эрльт говорил тихо. Его металлический голос терялся среди шума в зале. Собственно, никто, кроме меня и моих охранников, не заметил, что он начал свою речь. И это, к счастью, потому, что он стал рассуждать о недвижимости. Нет, Эрльт ничего не продавал присяжным и не предлагал им своих посреднических услуг. Он всего лишь пытался объяснить, как он, специалист по жилищному праву, чувствует себя на «процессе года»: немного потерянно — только и всего.
— Но, так или иначе, — продолжил Эрльт, уже обратив этими словами на себя внимание части публики, — у обвиняемого есть право на защиту.
Разумеется, он не имеет ко мне никаких предубеждений. Ни в коем случае не ищет оправдания моим насильственным действиям. (Хотя, по-моему, до сих пор только этим и занимался.)
— Я все еще не могу понять, — верещал адвокат, — почему подсудимый отказался сам выбрать себе защитника. Когда речь идет о таком серьезном обвинении, вряд ли имеет смысл экономить на услугах адвоката. А вы сами слышали, какими средствами располагает мой клиент.
Он признался, что связался со мной не по своей воле, что такой уж ему выпал жребий — защищать меня. И с самого начала чувствовал себя не вполне комфортно в роли моего адвоката. Сообщил, что все его попытки наладить со мной отношения с треском провалились. В зале стало тихо.
— Я так и не сумел войти в доверие к своему клиенту, — закончил Эрльт.
Его голос звучал жалобно. Потом он замолчал, давая всем в полной мере ощутить его беспомощность.
Вскоре я решился поднять голову и посмотреть на присяжных. На нижней скамье слева, с тяжелой золотой цепью на груди, сидел порнопродюсер, который обычно требовал для подсудимых смертной казни. В правой стороне той же скамьи я заметил накрашенную молодую женщину в массивных очках, старательно мявшую челюстями жевательную резинку. В своей родной деревне она, вероятно, была участницей всевозможных антииммигрантских движений. Присяжные откровенно скучали и демонстрировали равнодушие к происходящему. Я готов был поспорить, что свой приговор они уже вынесли.
На остальных шести я не стал задерживаться, потому что чувствовал на себе их пристальное внимание, строгое и в то же время доброжелательное. Мне даже показалось, будто их скамьи несколько придвинулись ко мне за время заседания. Женщина, напомнившая мне мать, держала голову прямо. Это успокоило меня.
— Должен признаться вам, — продолжил свою исповедь Эрльт, — что не имею ни малейшего представления о том, что произошло в ту октябрьскую субботу в баре.
Далее он сообщил, что до сих пор у него не было оснований ставить под сомнение справедливость обвинения в убийстве. Выражение «до сих пор» несколько покоробило меня. Но я решил, что это хороший конец для его вступительной речи. В целом он выглядел неплохо и, конечно же, подготовил себя к последующим заседаниям, на которых ему явно будет нечего сказать.
— В заключение я хотел бы вспомнить, чему меня с детства учила мать.
Даже если она сейчас страшно горда своим сыном и готова вознаградить его сегодня за ужином любимым лакомством, — нужно ли это?
— В определенном смысле ее наставление противоречит тому, что говорил вам наш глубокоуважаемый прокурор в конце своей вступительной речи.
О нет, только не это! Морские ежи уже ощетинились у меня в желудке, пока, правда, несильно.
— Томас, — говорила мне она, — загляни человеку в глаза, и ты увидишь, хорош он или плох.
Я повернулся и посмотрел ему в лицо.
Я плохой человек, но Эрльт этого не понимал. Он был слишком увлечен своей мыслью.
— Я не раз вглядывался в глаза моему подзащитному, — произнес он. — И даже если сейчас мне нечего добавить к обстоятельствам того ужасного убийства и всего, что с ним связано, я утверждаю со всей определенностью: Ян Хайгерер хороший человек. Убедитесь сами, господа присяжные. Загляните ему в глаза и только после этого доверьтесь голосу своего разума.
Я тряхнул опущенной головой в знак протеста. Толкнул стоявших по обе стороны от меня охранников, с целью вызвать их возмущение своим поведением. Дешевый трюк! Что можно определить, глядя в глаза? Размер зрачков, цвет радужной оболочки, степень опьянения. Остальное — вздор.
— Благодарю вас за внимание, — закончил Эрльт.
Я злился на него, но не мог не испытывать к нему симпатии. Он был хороший человек.
Меня снова повели в туалет, а в заседании объявили перерыв до девяти часов утра следующего дня, восьмого марта.
19 глава
Я окончательно успокоился только в камере, сидя под будто уставшей от непрерывной работы сорокаваттной лампой, и задумался над тем, как мне лучше подготовиться к завтрашнему дню. Съел целых пять гнилых бананов, очистив их от уже почерневшей кожуры. Принял все порошки и выпил все соки, которые прописал мне тюремный врач на неделю. Сжевал весь сухой хлеб, раскрошил себе прямо в рот черствое печенье, проглотил плитку горького шоколада, запив ее ромашковым чаем. Наконец стенки моего желудка обрели прежнюю эластичность. По крайней мере, мне так показалось.
Тогда я пригласил двух дежурных охранников на чашку кофе. Я понимал, что делать этого не следует, однако ничего иного мне не оставалось, одиночество стало мне невыносимо. Полицейские вели себя смиренно. Они принесли с собой всю вечернюю прессу и теперь очень гордились возможностью потыкать меня носом в газетные заголовки. Я отбивался. Но они настаивали и в конце концов вынудили меня принять эти трофеи.
Я был для них сегодня героем. Большим, чем актер, только что получивший «Оскар», или политический лидер — посредник в деле урегулирования ближневосточного конфликта. Потому что и тот, и другой уступили мне сегодня место на первых газетных полосах, украшенных моими фотографиями, вдвое большими, чем прочие. И шрифт заголовков с моим именем был в два раза крупнее.
«Фурор на заседании суда!» — возвещала «Анцайгер». «Прокурор склоняет присяжных осудить убийцу». Подпись под фотографией гласила: «Ищейка против зайца: Зигфрид Реле и Ян Хайгерер». «Таг актуэль» выразилась еще изящнее: «Первый день процесса года. Позор прокурору: жидкий суп, жесткие слова. Подсудимый два раза терял сознание».
«Абендпост» проявила объективность, какой и следовало ожидать от нашего ведущего бульварного издания. «Опытные юристы согласятся с нами: убийцы выглядят по-другому» — таков был заголовок, под которым шел текст, набранный жирным шрифтом: «Вид Яна Хайгерера оставляет тяжелое впечатление. После нескольких месяцев на сухарях и чае он похож на скелет. Однако приветливая улыбка не сошла с его лица. Симпатии всех на стороне Хайгерера. Его неуклюжий защитник также вызывает сочувствие. Первый день слушаний отмечен злобными выпадами прокурора против обвиняемого и СМИ. Отсутствие мотива преступления нисколько не смущает Зигфрида Реле. Оставайтесь с нами. „Сегодня мой друг Ян Хайгерер нарушит молчание“, — сообщает близко знающая подсудимого репортер Мона Мидлански специально для наших читателей».
«Процесс года: анализ, комментарии, снимки. Страницы 3–10».
«Серьезная» «Культурвельт» просто шокировала меня, вынеся крайне сомнительное высказывание моего адвоката в заголовок: «Хайгерер — хороший человек». Подзаголовок: «Вступительная речь адвоката поразила всех искренностью. Обвинение в убийстве, выдвигаемое против известного журналиста „Культурвельт“, сомнительно», — это, вероятно, написано под диктовку Гвидо Денка. «Читайте на странице 7: Человек, которому сочувствуют. Психологический портрет улыбчивого мечтателя. Ян Хайгерер, каким его знают коллеги».
Под конец этого тягостного обзора тюремщики попросили меня оставить им автографы на газетных страницах. Чувствуя себя достаточно наказанным своим собственным цинизмом, я подписал весь этот позор. Улыбка не сходила с моего лица, а банановое пюре подступило к горлу. Я сглотнул. Повторюсь последний раз: седьмое марта был удачный день. Я знал это с самого начала.
Ночью я видел кошмарные сны о Хелене. Утром мне хотелось кричать: я боялся обмануться в ней и одновременно опасался ее предательства. Мутный свет лампочки заставил меня подняться с постели. Выблевав банановое пюре в раковину, я ощутил облегчение и принялся набивать снова только что опорожненный желудок. У меня оставалось два часа, чтобы привести себя в приличный вид. Я начал с тридцати отжиманий.
Наверное, мне удалось оттолкнуться от пола не больше тринадцати раз, прежде чем руки отказались работать. Затем я углубился в изучение инструкций всех имеющихся у меня лекарственных препаратов и принял максимально допустимую дозу каждого. После чего снова принялся за бананы. Теперь я мог бы претендовать на титул чемпиона мира по их глотанию. Оставалось научиться удерживать бананы в желудке. Вероятно, это только после следующего убийства. Шутка. Рассмеявшись, я посмотрел на себя в зеркало. Знал, что запустил себя за последние несколько недель, но все-таки не ожидал увидеть там Кейта Ричардса.
В шесть утра я позвал «дворецкого» и попросил его сделать мне прическу. Он нашел мою шутку довольно удачной для обвиняемого в убийстве на второй день судебных слушаний. Напомнив, что я никогда ничего не клянчил, я убедил его в том, что ни в чем не нуждаюсь сейчас так, как в аккуратной короткой стрижке.
— Как хотите, — пожал плечами он. — Я принесу ножницы.
За завтраком я заставил себя проглотить три подсушенных ломтика хлеба. Яйца и масло выбросил, однако оставил на подносе скорлупу и пустую обертку, чтобы обмануть тюремного врача. Тщательно выбрился и во время чистки зубов долго держал во рту пасту.
В одном из нераспечатанных пакетов из тюремной прачечной я нашел черный костюм. Не знаю, был ли он мой или попал сюда по ошибке, но он оказался мне впору. Правда, штаны застегивались только на бедрах, но подобный стиль лишь года два назад вышел из моды.
Я поддел под пиджак черную футболку и решился снова подойти к зеркалу. На сей раз я остался доволен: вместо Кейта Ричардса на меня смотрел Ник Кейв.
Для тюремного врача этого оказалось достаточно.
— Сегодня вы мне нравитесь, — сказал он, увидев меня.
Я улыбнулся.
— Берегите себя, — напутствовал он меня, убийцу. — Если вы опять потеряете сознание, я получу нагоняй.
В половине девятого за мной зашли охранники. Тепло поздоровавшись, они осторожно надели на меня наручники и повели, словно по кругу почета, по коридорам тюрьмы. Попадавшиеся нам навстречу полицейские приветствовали их, как рыбаков, вытащивших на сушу самую большую рыбу. Мои провожатые не скрывали гордости. Карнавал давно закончился — какие еще развлечения оставались им теперь в этой стране? Пара-другая снежных лавин, грабежей или заварушек на автотрассе. И все? Поэтому-то они и радовались, что у них есть я и мое преступление.
— Как ваши дела? — поинтересовался тот, который еще ждал снега в этом году.
— Спасибо, пока жив, — ответил я, мысленно добавив: «К сожалению».
— Сегодня выдержите? — раздался голос другого.
— Как там, на улице? — в свою очередь спросил его я, делая вид, будто не расслышал его вопроса.
— Холодно, — произнес один из охранников.
— Вероятно, выпадет снег, — добавил его товарищ.
Это был тот, который раньше полагал обратное.
— Значит, хорошо, что мы здесь, а не там, — заметил я и рассмеялся, как Джек Николсон в «Сиянии». По крайней мере, в одной сцене. Оба охранника тоже расхохотались. Вероятно, они не видели этого фильма.
— Вы знаете, о чем я хочу спросить вас в первую очередь, господин Хайгерер? — начала Аннелизе Штелльмайер.
Мне нравился ее голос, ее благородное спокойствие и симметричная шапка волос, напоминающая серебристо-серый тюрбан.
Я сидел напротив нее, в середине небольшой площадки, за ней находилась так называемая свидетельская трибуна. Она представляла собой маленький пульт с микрофоном, на который было удобно опереться, когда у свидетеля возникала необходимость подумать.
Позади меня шепталась публика. Справа присяжные внимательно слушали судью. Я чувствовал их напряжение. Слева находился прокурор. Встретившись взглядами впервые за день, мы кивнули друг другу, почтительно опустив головы. Его вид меня разочаровал: он сбрил бороду. Вероятно, таким желала видеть его жена на страницах газет.
— Да, госпожа судья, я полностью согласен с предъявленным мне обвинением, — твердо произнес я.
Воздух в зале, где для полноценного ярмарочного настроения не хватало только запаха попкорна и жареных орешков, дрожал от напряжения. Похоже, я разочаровал публику своим ответом, как вратарь, пропустивши пенальти в дополнительное время.
Аннелизе Штелльмайер вздохнула, поочередно поворачиваясь к двум помощникам, сидевшим по обе стороны от нее. Одного из них, вечно заспанного старика, звали Хельмут Хель. Он поглядывал на часы, словно с минуты на минуту ожидал выхода на пенсию. До сих пор Хель не произнес ни слова и, похоже, не особенно слушал то, что говорили другие. Тем не менее он постоянно кривил рот, как бы реагируя на происходящее в зале. Не исключено, что он был глухонемой и боялся, что теперь, на последней неделе его службы, эта тайна откроется. После моей реплики он приподнял локти и снова в бессилии опустил их на стол. «Ну, что тут поделаешь!» — вероятно, означал этот жест.
Слева от Штелльмайер сидела Илона Шмидль. Поговаривали, у нее роман с президентом коллегии адвокатов. Однажды секретарша застукала их у него в кабинете. Целую неделю юристам было о чем посудачить в буфете коллегии. «Ах ты, грязный поросенок! — наверное, воскликнула она своим сюсюкающим детским голосом. — Меня-то ты так никогда не обхаживал!» Адвокаты воображали пышный бюст склонившейся над столом обманутой секретарши и честные глаза Илоны Шмидль и смеялись от души. Интересно, что мы можем представить, как выглядят в определенных ситуациях люди, которых совершенно не знаем, и как много говорит о нас то, что мы думаем о других.
А Илона Шмидль, вероятно, размахивала руками, будто отбиваясь, и кривила свои по такому случаю накрашенные губы, как героиня комикса. «Ты ничего мне не сделаешь!» — означало это.
— Ну что ж, тогда поговорим о вас, — сказала судья.
Голос ее дрожал, словно она еще не оправилась от шока. Похоже, судья до последнего момента верила в мою порядочность. Я искренне жалел ее.
Детство? Зачем это нужно?
— Ну, это было так давно… — начал я извиняющимся тоном.
Я твердо решил говорить только по существу. Вспомнил об одной прогулке в лесу в пятилетнем возрасте, когда заблудился и меня нашли лишь спустя несколько часов. Уже тогда во мне что-то сломалось, и я почувствовал, что жизнь полетела под откос.
— Запомнившиеся переживания детства? Ничего интересного, госпожа судья, — вздохнул я.
Позади меня по залу пробежал шум. Публика, похоже, ожидала услышать парочку леденящих кровь историй в стиле Хичкока.
— На Рождество небольшая елка, немного подарков, в целом — вполне праздничное настроение, — соврал я. — На Пасху — крашеные яйца. На день рожденья — торт. В день причастия — свеча в руке. На конфирмацию — часы. Летние каникулы с мамой и папой. Без роскоши, но вполне пристойно. Потом с мамой. Опять-таки скромно, но тоже неплохо.
Кем работал отец? Он преподавал философию и немецкий язык. В свободное время писал стихи. Нет, он их не публиковал, сочинял для себя. «Он был глубокий интроверт», — добавил я. Отношения с папой? Хорошие, мы нравились друг другу.
— Вы сказали «нравились», но не «любили», — заметила Штелльмайер.
— Я крайне редко произношу слово «любить», госпожа судья.
Тут нелишне было бы вспомнить, что отец оставил нас, когда мне исполнилось семь лет.
Мать? Зарабатывала шитьем. Умная, скромная, приветливая женщина.
— Вы говорите о ней как-то отстраненно, — усмехнулась судья.
— Десять лет назад она погибла в автомобильной катастрофе.
Почти два часа они безуспешно вглядывались в мое детство. Стало совсем тягостно, когда к поискам присоединился друг Гвидо Денка психиатр Бенедикт Райтхофер. Он почти сливался со скульптурными изображениями деятелей истории права, украшавшими обитые деревянными панелями стены зала, поэтому я не замечал его, пока он не задал свой вопрос, вспомнив, видимо, о гонораре:
— Как часто в вашей семье случались ссоры?
— Мы были тихой семьей, господин профессор, — ответил я.
— Вы не злились на своих родителей?
— Бывало, — кивнул я, — например, когда мне хотелось почитать перед сном, а мама гасила свет. Она экономила электричество.
— Я не это имел в виду. Не казалось ли вам, что родители плохо с вами обращаются, унижают вас, вам не хватает свободы, денег у вас меньше, чем у приятелей?
— Все мои приятели были небогаты, — возразил я.
Их лица сразу помрачнели. Мой ответ им не понравился, но что я мог поделать? Психиатр что-то записал, это выглядело вполне профессионально. Казалось, он готовится поставить мне диагноз.
Первая часть заседания закончилась для меня неприятно. Женщина, напомнившая мне мать, встала со скамьи и попросила у судьи разрешения задать мне вопрос. Это всех удивило. Обычно присяжные уточняли то, что их интересует, в конце слушания или вообще молчали.
— Как вы пережили развод родителей? — обратилась она ко мне.
Судя по ее голосу, развод моих родителей огорчал ее больше, чем меня.
— Разумеется, это было неприятно. Но главное, что моя мать достойно перенесла его. Отношения оставались хорошими, если сравнивать с семьями моих тогдашних друзей. Иногда родителям лучше расстаться, чем жить вместе.
Я видел, как она восприняла мой глупый ответ. Она казалась подавленной оттого, что, по ее мнению, приблизилась к разгадке моего преступления. Зачем вообще такой культурной и чувствительной даме почтенного возраста лишний раз соприкасаться с чудовищной изнанкой жизни? Другое дело — порнопродюсер в нижнем ряду слева. Ему привычно копаться в чужом грязном белье с выражением презрительной скуки на лице. Именно с такими присяжными я хотел бы иметь дело.
Вскоре поднялся другой. Молодой человек в черной водолазке. Очки в никелированной зеленой оправе. Студент. Будущий архитектор или программист. Может, из высшего училища декоративно-прикладного искусства. Мне стало страшно. Он из тех, кто хочет знать все, кто не привык отступать перед нерешенной задачей.
— Господин обвиняемый, у меня к вам вопрос… — Я узнал этот голос. Он прервал вчерашнюю речь прокурора, заметив, что мне плохо. — Отчего умер ваш отец?
— Самоубийство.
— И вы знаете почему?
— Депрессия.
— Каким образом он это сделал?
— Застрелился.
По залу пронесся вздох облегчения. В перерыве заседания я пил таблетки.
20 глава
После перерыва я заметил сочувственные взгляды, которыми публика теперь пронизывала меня насквозь. Вероятно, мои ощущения обострились под воздействием лекарств. Я произнес ключевые слова, заронив в их души надежду. Теперь им казалось, что они сумеют освободить меня от ответственности за мой поступок, и в их лицах сквозило нетерпение. Они были готовы переступить через труп моей жертвы, лишь бы разрешить дело в мою пользу.
Они ошибались во мне, чем вынуждали меня снова и снова разочаровывать их. Пока они, наконец, не осознают, что понимать здесь нечего, я — убийца, самый обаятельный, расчетливый и коварный, поскольку намеренно не даю своему поступку какого-либо объяснения. Я использую все свои козыри, пока игра не кончена и мое преступление не превратилось в газетную пыль.
Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Они не имеют права судить мое безумие, в котором убийство стало лишь кратким мигом просветления. Я слишком старательно навязывал себе нормы их жизни. С этим я вырос, жил.
— Мы вернемся к вашей предыстории позже, когда допросим свидетелей, — сказала судья Штелльмайер. — Сейчас же я предлагаю вам совершить скачок в другом направлении.
Я кивнул, хотя ненавидел скакать и прыгать. Боялся приземления, оно никогда не получалось мягким. К счастью, я не депрессивный тип.
— Насколько близко вы знали Рольфа Лентца? — поинтересовалась она.
Я ждал данного вопроса с тех самых пор, как в голове у меня застрял образ человека в красной куртке. Шок сменился облегчением, будто Рольф Лентц, наконец, начал отстреливаться.
— Я не был знаком с ним, даже имени его не слышал. Впервые увидел его в ночь убийства, — ответил я.
Сказал ли я это или только подумал? Судя по шуму в зале, мои слова до них дошли.
— Как умер Рольф Лентц? — спросила Штелльмайер с напором, но спокойно.
Удар ниже пояса. Я недооценил ее.
— Я его застрелил.
— Вы хотели его смерти?
— Да, конечно.
И сам испугался этого «конечно». Публика шумела. Имей такую возможность, они забросали бы меня камнями. Настроение мое улучшилось.
— Вы должны нам все объяснить, — продолжила Штелльмайер.
Она взглянула на психиатра. Тот дремал, словно хотел заработать свой гонорар с еще меньшими усилиями, наблюдая за мной во сне. Не сдержавшись, я оглянулся на студента в черной водолазке. Тот что-то писал, склонившись над листком бумаги. Все шло не так, как мне хотелось. Прокурор с шумом втянул воздух. Он один был здесь моим союзником, моим единомышленником. Это он готовил дорогу, по которой я собирался идти навстречу правде. Нам с ним предстояла тяжелая работа. Но мы должны были отстоять справедливость и добиться обвинительного приговора, вопреки настроению зала.
— Нечего объяснять, — пожал плечами я.
В моих словах прозвучал вызов. Это им не понравилось. Позади послышался ропот, заглушивший призывы Хельмута Хеля к порядку. В каждом его действии сквозило желание скорее со всем покончить и выйти на пенсию.
— Я полагаю, здесь есть что объяснять, — мягко возразила Штелльмайер.
Я скользнул взглядом по ярко-красным губам Илоны Шмидль и посмотрел влево. Мой храбрый защитник вжался в кресло и энергично вытирал пот со лба. Он сидел с разинутым ртом и застывшей гримасой удивления на лице, словно не желая, чтобы очередной сюрприз застал его врасплох. Я ободряюще подмигнул ему. Ну вот, теперь я видел их всех.
Я прикрыл глаза и мысленно приготовился к прыжку. Сейчас я слушал только слова судьи и свои собственные, которые эхом отдавались у меня внутри. Таким образом я пытался сохранить равновесие, одновременно нащупывая под ногами твердую почву.
— Соответствуют ли показания, данные вами следователю и полицейским, истине?
— Да.
— Интересующее нас событие произошло полгода назад. Если вы чего-то не сможете вспомнить, лучше честно в этом признаться, чем вводить нас в заблуждение.
— Я помню все.
— Когда у вас появилось оружие?
— Тринадцатого сентября прошлого года.
— То есть примерно за четыре недели до убийства.
— За четыре недели и пять дней, — уточнил я.
— Откуда оно у вас?
— Я купил его в оружейном магазине.
— У вас есть лицензия?
— Нет.
— Зачем вы приобрели оружие?
— Чтобы кого-нибудь убить.
Тишина, потом шум в зале.
— Кого-нибудь?
— Все равно кого.
— Себя вы тоже относили к числу потенциальных жертв?
— Нет, я — это я. Я хотел убить другого.
— То есть вы не планировали самоубийство?
— Нет.
— Господин Хайгерер, вы не хотели покончить с собой, как ваш отец?
— Нет.
— Тем же способом, я имею в виду.
— Нет.
— Вы не хотели положить конец своей жизни?
Тишина, затем шум в зале. Я закрыл лицо ладонями.
— Господин Хайгерер, может, нам сделать перерыв?
— Нет, спасибо.
— Насколько хорошо вы знали бар, где все произошло?
— Достаточно хорошо. Готовясь к преступлению, я побывал там не менее двадцати раз.
— А раньше вы часто заходили в подобные заведения?
— Нет.
— Правда ли, что за последние десять лет вы ни разу не посетили ни бар, ни ресторан?
— Да.
— Почему же так вдруг?
— Я готовил убийство.
— Ваше самоубийство?
— Убийство, поверьте же мне, наконец.
— Как я могу поверить человеку, который замалчивает от меня правду?
— Никто не признается в убийстве, если он его не совершал.
В зале приглушенный шум, переходящий в ропот.
— Но ведь никто не совершает убийства просто так.
Тишина.
— Вам стыдно за то, что вы не смогли покончить с собой?
— Я спланировал убийство и совершил его.
— Зачем?
— Пожалуйста, не надо.
Тишина.
— Итак, вы готовили убийство несколько дней?
— Да.
— Каким образом?
— Я сидел в баре у Боба всегда за одним и тем же столиком в нише и наблюдал за входом. Выбрал место, чтобы линия выстрела была свободной и я хорошо мог видеть дверь, оставаясь при этом незаметным. Я сотни раз прокрутил в уме весь сценарий…
— Зачем?
— Для полной уверенности.
— В чем?
— В том, что все получится.
— А что должно было получиться?
— Убийство.
— Самоубийство?
— Убийство!
Последнее слово я прокричал, но тут же извинился.
— Давайте перейдем к событиям семнадцатого октября.
— Хорошо.
— Что это был за день?
— Суббота.
— Вы помните, какая стояла погода?
— Шел дождь.
— Довольно мрачно, не правда ли?
— Нисколько, я люблю дождь.
— В тот день вы не работали?
— Совершенно верно.
— И это была первая за долгое время суббота, когда вам не надо было на службу?
— Именно.
— Это выбивает из ритма, не так ли?
— Что вы имеете в виду?
— Выбивает из ритма повседневности. Словно проваливаешься в дыру. Появляется время, чтобы задуматься над собственной жизнью.
— Я так не считаю.
— Тогда что же?
— Человек или проваливается в дыру, или нет, от погоды ничего не зависит.
— И вы провалились?
— Нет.
Было бы уместно добавить, что вся моя жизнь — сплошная дыра.
— Итак, в тот день вы проснулись в своей квартире один…
— Человек всегда делает это в одиночку.
— Я имею в виду, что на постели рядом с вами никого не было.
— Я давно уже жил один.
— Почему?
— Потому что никого не было.
— Никого, после вашей подруги Делии?
— Да, госпожа судья.
— Завтра мы еще вернемся к данному вопросу.
В ее словах звучала угроза. У меня забилось сердце. В зале царила тишина.
— Что вы делали в то субботнее утро?
— Спал.
— А потом?
— Встал с постели.
— И?
— Стал готовиться.
— К чему?
— Моя подруга переезжала. Я договорился помочь ей перевезти вещи.
— Сначала помочь подруге с переездом, а затем убить незнакомого вам человека?
— Да.
— Довольно необычные планы на дождливый октябрьский выходной, вы не находите?
— Вероятно.
— И кто вам поверит, господин Хайгерер, как вы думаете?
— Вы, госпожа судья, суд, присяжные. Вы должны мне верить, потому что это правда.
По залу пролетел беспокойный шепот.
— Вашу подругу звали Александра?
— Да, ее больше нет.
Тишина, потом легкий шум. Я закрыл лицо ладонями.
— Может, имеет смысл сделать перерыв?
— Да, пожалуйста.
— Когда вы покинули свою подругу Александру в тот день?
— Около шести часов вечера. Уже стемнело.
— И чем занимались потом?
— Ждал в своей припаркованной машине.
— Ждали чего?
— Пока пройдет время.
— Вы чувствовали тяжесть на душе?
— Нет.
— А потом?
— Скорее воодушевление.
— Отчего?
— Я думал об убийстве.
— Что именно?
Я не ответил. В зале стало тихо.
— Где лежало ваше оружие?
— В кармане куртки.
— Все время?
— Да, я засунул его в вязаную перчатку.
— Зачем?
— Таким образом я его спрятал.
— Когда вы появились в баре?
— Около десяти часов. Я был в числе первых посетителей.
— Что бы вы делали, если бы ваш столик оказался занят?
— На всякий случай я его зарезервировал.
— Что произошло позднее?
— Я пил блауэр цвайгельт.
— Много выпили?
— Этого я вам сказать не могу.
— Один бокал или около литра?
— Около литра.
— Много.
— Я нервничал.
— После такого количества алкоголя вам могла прийти в голову любая глупость.
— Самые большие глупости приходят в голову трезвым, полагаю.
— Вы хотели, чтобы это придало вам смелости?
— Очевидно.
— Для чего?
— Чтобы совершить убийство.
Тут по залу снова пробежал шепот.
— Ну, а потом что произошло?
— Я положил пистолет на стол.
— Зачем?
— Чтобы привести его в нужное положение.
— Что вы имеете в виду?
— Повернуть дулом к входной двери.
— Вы не пытались повернуть его дулом к себе?
— Нет.
— Может кто-нибудь подтвердить ваши слова?
— Нет. Этого никто не видел.
— Чего именно никто не видел, того, как вы поворачивали пистолет дулом к себе?
— Я повернул его дулом к входной двери.
Последнюю фразу я прокричал и тут же извинился.
— Дальше.
— Я положил палец на курок и приготовился ждать.
— Чего?
— Пока кто-нибудь войдет.
— Кто именно?
— Моя жертва.
— Кто должен был стать вашей жертвой?
— Кто-нибудь.
— А если бы вошел ребенок?
— Дети не посещают подобных заведений.
— А если беременная женщина?
— К Бобу ходят только мужчины, именно поэтому я и выбрал его бар, чтобы совершить убийство.
— Вы часто повторяете слово «убийство» без необходимости. Зачем?
— Просто называю вещи своими именами.
— Мне кажется, будто вы произносите это слово с гордостью.
— Я не горжусь тем, что совершил убийство.
— Самоубийство у вас не получилось, но кое-что вы смогли, так?
Я потер глаза кулаками.
— В самый последний момент вы инстинктивно отвернули дуло от себя, но выстрел все-таки прозвучал, и пуля попала в только что вошедшего мужчину?
— Нет! — закричал я.
— А что, если баллистическая экспертиза допускает вращательное движение оружия на момент выстрела?
— Значит, она ошибается!
— Пожалуйста, не кричите.
— Извините.
В зале поднялся шум, и я зажал уши руками.
Судья объявила перерыв на десять минут.
Я остался на скамье подсудимых. Охранники поддерживали меня с двух сторон. Адвокат положил мне на плечо руку. Я чуть заметно вздрогнул, потому что не хотел обидеть его. Тогда он убрал руку, ведь он был хороший человек.
И тут я уставился на мою обувь. Она была из моей прошлой жизни. Для моей прошлой жизни. Выходные ботинки. Черная, матово блестящая кожа, широкий мысок. Около четырех лет назад я купил их в магазине. Мерил. Смешно! Стоял солнечный день. Понедельник, я уже закончил работу. Через пару недель после ухода Делии. Они мне сразу понравились. «Я беру их», — сказал я продавщице. Наверное, даже рассмеялся. Мне было весело. «Без коробки, пожалуйста», — попросил я. «Возьмете что-нибудь из средств для ухода за обувью?» — предложила она. «Нет, спасибо», — ответил я. Так я купил ботинки. Смешно!
— Продолжим, господин Хайгерер?
— Да, госпожа судья.
— Итак, вы нацелились на входную дверь?
— Совершенно верно.
— И что вы увидели там?
— Как открылась дверь.
— И?
— И кто-то вошел.
— Кто-то?
— Да, кто-то.
— И?
— Я начал считать: «один-два-три-четыре-пять».
— Зачем?
— Потому что я знал, что через пять секунд вошедший будет находиться на линии визирования. Я наблюдал это уже сотни раз.
— И?
— На счете «пять» я спустил курок.
— Не глядя?
— Я поднял голову, после того как выстрелил.
— Почему?
— Не выдержал.
— А ранее?
— Видел его лишь мельком.
— Что же вы видели?
— Темные мужские ботинки, голубые джинсы и красную куртку.
— А лицо?
— Не видел. На лицо падала тень.
— Тень?
— Да, тень.
Аннелизе Штелльмайер замолчала, потом что-то пробормотала, закрыв глаза.
— И что потом?
— Что именно вас интересует, госпожа судья?
— Как вы себя чувствовали?
— Плохо.
— Почему?
— Потому что я убил человека.
— Вместо того, чтобы убить себя?
— Пожалуйста, не надо, госпожа судья.
— И что вы делали? Вы сразу признались?
— Я хотел.
— И что?
— Мне было стыдно.
— Перед кем?
— Перед самим собой, инспектором Томеком. Мы давно знакомы, он мне не поверил.
— Почему же он вам не поверил?
— Потому что он знал меня другим.
— Вас все знали другим, господин Хайгерер. И теперь нам приходится заново привыкать к вам.
— Да, и в этом моя проблема, — согласился я.
В зале все стихло.
Судья закончила. Теперь пришел черед других задавать вопросы. Я отвечал не задумываясь. Так прошло несколько часов. Физически я чувствовал себя хорошо, то есть вообще не ощущал своего тела и действовал машинально. Иногда я смотрел на присяжных. Каждый раз, поднимая голову, я видел их испуганные лица. Их тронула моя история. Даже порнопродюсер как будто ею заинтересовался. Он нашел этот фильм захватывающим.
Я все еще надеялся на Зигфрида Реле. Он был моим человеком, потому что поверил мне. Он спросил, нет ли во мне подавленной агрессии. Я был вынужден его разочаровать, чему он, казалось, не удивился. Тогда он изменил формулировку:
— Скажите, откуда у вас странная идея фикс — убить человека?
Реле произнес это сурово, как того требовала ситуация. Он сжал кулаки и широко раскрыл глаза. На его висках надулись жилы. Почему я не такой, как он? Быть убийцей недостаточно, нужно хотя бы немного выглядеть соответствующим образом. Почему я не такой, как Реле?
— Да, это была идея фикс, — согласился я.
— И причину вы нам назвать не хотите.
— Нет.
— Значит, все-таки причина есть?
Коварный ход. Я задумался.
— Разумеется, все на свете имеет свою причину.
— И вы ее знаете?
Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь.
— Да, — нерешительно кивнул я.
Я хотел бы оставить данный вопрос открытым, но дал на него определенный ответ. В зале поднялся шум. Пенсионер Хельмут Хель призвал публику к порядку.
— То есть вы не желаете нам ее открыть, — задумчиво промолвил Реле.
Он хотел, чтобы это прозвучало с сарказмом. Оскалился, чего ему делать не следовало: слишком много дырок зияло между зубами.
— Совершенно верно, — прошептал я.
— Просто так не хотите или же и на это имеется своя причина?
Реле встал и смотрел сейчас куда-то поверх моей головы. Он набрал в грудь воздуха и походил сейчас на оперного певца. Вот только голос подкачал.
— На все есть причины, — произнес я.
— Спасибо, вопросов больше не имею! — прокричал Реле.
В прошлой жизни я тысячи раз слышал эту фразу, когда готовил репортажи с судебных заседаний. Формула победителя. В кинофильмах она обозначала конец эпизода.
Тут разбудили профессора Бенедикта Райтхофера, чтобы он прокомментировал мой случай «неудачного самоубийства». И он сказал то, что от него хотели слышать. Его формулировка не оставляла лазеек для дальнейших уточнений, поэтому обе стороны остались довольны. По словам Райтхофера, внутреннюю агрессию в большинстве случаев установить гораздо труднее, чем ориентированную вовне. Мучительный стыд в результате неудавшегося самоубийства часто притупляет страх перед возможными последствиями уголовного преступления, вплоть до многолетнего тюремного заключения. Идентификация себя как убийцы в собственном смысле этого слова в данном случае может иметь для пациента толковательное значение и даже сыграть роль антидепрессанта, поскольку дает выход подавленному чувству стыда.
— Вот так, если хотите знать мое мнение, — осторожно добавил профессор.
Тем самым он напоминал, что его слова не имели здесь никакого юридического веса и звучали скорее как дополнение к основной, так сказать, программе. Заседательницу, напомнившую мне мать, от них еще больше потянуло в сон. Меня же вдруг охватил панический страх, который возникал каждый раз при мысли, что меня могут оправдать. Что я, убийца, буду делать там, на свободе? Покупать обувь? Мерить ботинки?
21 глава
В камере меня ждало письмо. Его засунули в газеты, которые я больше не разворачивал, поскольку сейчас как никогда надежно был изолирован от внешнего мира. Белый конверт покрывали красные пятна. На месте имени и фамилии значилось: «Заключенному Хайгереру, освободителю». Там, где указывался отправитель, стояло одно-единственное слово: «Спасибо». Кто и за что благодарил меня? Я терялся в догадках.
«Дорогой Хайгерер, — писал некто на крохотном клочке бумаги раздражающими глаз крупными буквами, — мы с тревогой следим по газетным репортажам, как вы берете на себя одну вину за другой. Это противоречит соглашениям, Рольф так не хотел. Во всяком случае, не за эту цену. Пожалуйста, не надо. Да поможет вам Бог. Анке Лир».
Мне захотелось увидеть Хелену. Кому еще я мог довериться, кроме нее? Я позвал в камеру трех охранников, которые принесли мне газеты с бросающимися в глаза заголовками: «Главный враг Яна Хайгерера — он сам»; «Несостоявшееся самоубийство — наиболее вероятная из версий»; «Самоубийству обвиняемый предпочел убийство»; «Многое указывает на убийство по неосторожности»; «Прокурор не сдается»; «Хайгерер спасен? Известный журналист признается в убийстве, которого, видимо, не совершал».
Я начал жаловаться тюремщикам на малоутешительную для меня ситуацию, сложившуюся в ходе слушаний. Вспомнив, как было дело, они принялись давать мне ценные советы касательно моего поведения в суде. Я молчал, потому что хотел, чтобы они говорили дальше. Наконец один из них положил на стол свой мобильник. Я принялся как бы между делом вертеть его в руках, а затем незаметно сунул в карман. Пока они спорили, я скрылся в туалете и набрал номер Хелены.
— Зеленич.
— Хелена, нам надо встретиться.
— Ян? К сожалению, это невозможно.
— Хелена, я получил письмо, о котором хотел бы с тобой поговорить.
— Ян, ты знаешь, что я больше не занимаюсь твоим делом. Пожалуйста, не звони мне. Ничего хорошего не выйдет.
— Но это действительно важно!
Я стыдился своего умоляющего тона.
— У тебя есть адвокат, Ян. Поговори с Эрльтом. Он защищает тебя.
— Понял. Извини за беспокойство.
Я рассердился на себя, уловив в своем голосе упрек.
— Потерпи, Ян, — продолжила она. — Осталось несколько дней. А потом…
Я не слушал. Спустив в унитазе воду, я нажал кнопку завершения разговора и вышел из туалета. Охранники ругали моего адвоката. У меня же не оставалось ни сил, ни желания защищаться. Было поздно. Я попросил их оставить меня одного.
На третий день слушаний я решил щадить себя. Всю ночь размышлял о письме, напрасно убеждая себя в том, что оно меня совершенно не касается и не интересует. Кроме того, за любую мысль о Хелене мне приходилось платить бессонницей.
Тюремный врач остался доволен тем, что узнал от меня. Я улыбнулся и сообщил, что мой желудок работает нормально. Это успокоило их обоих, и врача, и мой желудок. Чему-чему, а моей улыбке люди верили всегда. Я сам убеждался в ее действенности, наблюдая за своим отражением в зеркале. Сейчас я лгал самому себе, что все остальное тоже будет хорошо, и гордился тем, как у меня это получается. Поклялся себе выстоять до конца. Надо мной нависала гора, ее мне предстояло покорить. Там, на вершине, меня ждал долгий отдых.
В зале по-прежнему ощущалась напряженная атмосфера предыдущего дня. Охранники помогли мне подняться на место. Мы перекинулись парой фраз о погоде. Я узнал, что на ближайшие выходные они планируют первые в этом году весенние прогулки на природе. К счастью, я не захватил в тюрьму подходящую для такого случая походную обувь.
Сегодня журналисты проявляли меньше настойчивости, чем в первые два дня. Фотографы, казалось, расслабились. Вспышки были не столь яркими и вскоре прекратились. Вероятно, какое-нибудь иное событие отвлекло от меня внимание прессы. Люди из моей прошлой жизни махали мне руками. Кто-то в знак поддержки поднял сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем.
Этот день был посвящен представлению доказательств. Значит, я получил возможность помолчать, откинувшись на спинку кресла. Я предвкушал радость встречи со старыми друзьями из полицейского участка. Они значились первыми в списке свидетелей.
Однако прежде мне предстояло ответить на вопросы, касающиеся предыдущего дня слушаний. Для этого я еще раз должен был появиться на сцене сидящим спиной к публике. Я заметил, что сегодня шапка волос на голове судьи Аннелизе Штелльмайер немного съехала набок. А у члена коллегии Илоны Шмидль новая губная помада коричневого оттенка, которая ее старит. Мой адвокат Томас Эрльт нацепил полосатый галстук поверх рубашки в красно-белую клетку, видимо, с целью вызвать у публики больше сочувствия. Прокурор ощупывал высунутым языком верхнюю губу. Не пробиваются ли усы? Это придало бы ему силы. К счастью, до меня никому не было дела.
Наконец Аннелизе Штелльмайер обратилась к присяжным:
— У вас есть вопросы к подсудимому?
Руку поднял наголо обритый студент в зеленых очках.
— Скажите, а сегодня вы повторили бы то, что сделали? — поинтересовался он.
Он никак не мог зафиксировать свой решительный взгляд в одной точке.
Итак, этот умник не верит в неудавшееся самоубийство. Уже одно это внушило мне глубокое уважение к нему, в чем я охотно признался бы публично. Но я его разочаровал.
— С тех пор многое изменилось, — солгал я. — При всем моем желании я не смогу вам ответить.
— Можно еще один вопрос? — спросил молодой человек у судьи.
— Разумеется, — кивнула она.
— Господин подсудимый, вы хотите сидеть за решеткой?
Это прозвучало слишком неожиданно. Временем на раздумья я не располагал.
— Я хочу справедливого приговора, не более.
— Вы совершили убийство, чтобы оказаться в тюрьме? — допытывался студент.
Никто не возмутился. Я посмотрел на судью: ее лицо не выражало никаких эмоций.
— Нет, — ответил я.
Я постарался произнести это как можно тверже и громче. Мое «нет» не допускало никаких толкований.
— Спасибо, — кивнул тот. — Вопросов больше не имею.
В качестве первого свидетеля вышел инспектор Ломан. Он не смотрел в мою сторону, что меня расстроило. Хотя я знал, что и этим он тоже старается мне помочь.
Он подтвердил, что составлял протокол. Помнит ли он мой допрос?
— Такое не забывается, госпожа судья, — ответил Ломан.
Он на службе вот уже более восемнадцати лет. Десятки подозреваемых прошли через его руки. И никогда он не сталкивался ни с чем подобным. Может ли он пояснить?
— Прежде всего, у меня и моих коллег возникло чувство, будто этот человек не способен на зло, — произнес Ломан. — Все, что с ним происходит, напоминает кошмарный сон, который никак не закончится. Мы до сих пор ничего не понимаем. Характер преступника согласовывается с содеянным — таков закон криминалистики. Но здесь мы не видим ничего подобного, госпожа судья. Хайгерер так же похож на убийцу, как муравей на хищного зверя.
Прокурор побагровел от ярости.
— На что вы опираетесь в своей работе? На факты или на эмоции и умозрительные рассуждения? — прорычал он.
— Разумеется, речь идет о фактах, — спокойно ответил Ломан.
— И что тогда сорок четыре страницы вашего протокола — признание в убийстве или поэма в прозе? — продолжил прокурор.
— Все верно, он признался, но…
— Благодарю, вопросов больше не имею.
— Можно задать свидетелю вопрос? — обратился я к судье.
— Разумеется, — кивнула она.
— Скажите, инспектор, помидоры черри в вашем огороде уже зацвели? — поинтересовался я у Ломана. — Их действительно ожидается в этом году в три раза больше, чем в прошлом?
— О чем вы говорите, господин Хайгерер? — воскликнула Штелльмайер.
Публика за моей спиной зашумела.
— Прошу прощения, это личное, — пояснил я.
— Помидоры зацветут не раньше июня, — застенчиво промолвил Ломан.
Он кивнул мне в знак того, что у него все хорошо.
Потом выходили резковатый Ребитц, а за ним юный бас-гитарист Брандтнер.
Ребитц незаметно для остальных изобразил для меня на пальцах знак победы. Он сказал, что, видимо, мой случай скорее из сферы психиатрии.
— Вероятно, у обвиняемого имеется еще одно «я», иначе я ничего не могу понять, — пожал он плечами.
Не выглядел ли я на допросах подавленным или растерянным? Нет, они воспринимали меня скорее как коллегу, чем как подсудимого.
— Мы приятно проводили время вместе, даже шутили, — вспоминал Ребитц.
— Похоже, это новый стиль работы полиции — веселиться с подозреваемыми в убийстве, — усмехнулся прокурор.
— Но мы до последнего момента не верили в это, — возразил Ребитц. — Ждали, когда он нам наконец все объяснит.
— Ну а после допроса?
— Мы были ошарашены, поверьте. Спрашивали себя, не мазохист ли он, или что-нибудь в этом роде. Нам казалось невероятным, что он совершил преступление по своей воле.
Брандтнер приветствовал меня, заговорщически подняв брови. Вероятно, он сделал из моих стихов потрясающую песню.
— Поначалу мы думали, что он голубой, — начал Брандтнер, обращаясь к судье. — Ведь говорили, что это убийство в среде геев. Однако он совершенно не производил такого впечатления. Все, что он нам говорил, записано в протоколе. Мы вникали во все детали, анализировали мельчайшие подробности. Это убийство становилось для нас все загадочнее, непостижимее, хотя факты, казалось, были налицо.
Вмешался мой адвокат. Ему захотелось знать, что может сказать обо мне и моем деле Брандтнер, исходя из своих личных впечатлений.
Прокурор выразил протест.
— Все это домыслы! — воскликнул он. — Полицейский не психолог и не может выступать в качестве эксперта в данном вопросе!
— Но у него есть опыт общения с преступниками и свое личное мнение, — возразила судья.
Она разрешила Брандтнеру ответить.
— Мне кажется, это всего лишь несчастный случай, — сказал он. — Очевидно, подсудимый просто крутил в руках пистолет и нечаянно нажал на курок. А потом он был шокирован. Вероятно, он до сих пор пребывает в шоке.
— И вы полагаете, это может быть следствием неудавшегося самоубийства? — спросила судья.
— Я так не думаю, — пожал плечами Брандтнер. — Так или иначе, он был полон жизни. Интересовался нашими делами и буквально излучал оптимизм. Он не походил на самоубийцу.
Перед тем как вернуться в камеру, я осмотрел зал. Внезапно взгляд мой упал на знакомые рыжие волосы. Бросившая меня чемпионка по прыжкам в воду беседовала с миниатюрной женщиной, повернувшейся ко мне спиной. Я видел только длинные черные волосы и жестикулирующие руки ее собеседницы, но мне вдруг показалось, что я знаю ее. Коллега? Писательница? Кто-нибудь из прошлой жизни?
— Вы очень популярны, — произнес у меня над ухом охранник, еще ожидавший снега в этом году.
Я усмехнулся.
— Как кинозвезда, — добавил другой.
Я молчал и размышлял над тем, кто эта женщина. О чем Хелена беседует с ней? В желудке снова возникли неприятные ощущения.
Позднее выступали свидетели, которых я не боялся: мои бывшие коллеги из «Культурвельт». А меня вынудили комментировать заключительную девятилетнюю главу моей профессиональной карьеры. Я лицемерил. Говорил, что работа мне нравилась.
— Особенно писать репортажи из зала суда, — пошутил я.
В сущности, еще невинная ложь.
— Мы ценили вас как серьезного репортера, — серьезно сказала Штелльмайер.
Зигфрид Реле вспыхнул от гнева. Он ненавидел журналистов, в том числе и меня.
Я отличался честолюбием, приветливостью и обходительностью — вот то немногое, что могли рассказать обо мне коллеги.
— Это один из самых приятных членов нашего коллектива, — заметил Лотар из отдела экономики.
— Жизнелюбивая натура, — добавил Йенс, который писал о спорте и совершенно не знал меня. И одному лишь Крису Райзенауэру было известно больше.
— Ян запомнился мне как замкнутый и спокойный человек, — начал он. — Его подавленность иногда даже представлялась мне искусной актерской игрой.
Слова Криса мне не понравились, я готов был их опротестовать.
— Его улыбка казалась загадочной, — продолжил Райзенауэр. — Бог знает, какие бездны она скрывала!
Я повернулся к своему адвокату, ожидая от него очередной глупой выходки. Но Эрльт только пожал плечами.
— Иногда он производил впечатление очень несчастного человека, — подытожил Крис.
— Вы беседовали с ним о личном? — поинтересовалась судья.
— Нет. Однако все знали, что у него была подруга по имени Делия. Одно время он звонил ей несколько раз в день.
— А потом?
— Разговоры прекратились.
— Почему?
— Ни малейшего представления, — развел руками Крис.
Разве я не рассказывал им о том, что Делия от меня ушла?
— Вероятно, они разошлись, — предположил он.
В последний день своей работы в «Культурвельт», за два дня до убийства, я шесть часов сидел за компьютером напротив Криса.
— Заметили ли вы какие-нибудь изменения в его поведении? — поинтересовалась судья.
— Нет, он был такой, как всегда.
И тут снова подал голос юный очкарик:
— Господин свидетель, вашему коллеге Хайгереру действительно нравилось работать в газете?
Крис надолго задумался.
— В общем, нет, — наконец ответил он. — Ян не был журналистом, как ни старался убедить себя в обратном.
— А кем он был? — допытывался студент.
Черт! Что у него за вопросы?
— Скорее писателем, он пришел к нам из издательства. Книги оставались для него главным интересом в жизни.
— Почему же он ничего не написал?
Слова прозвучали для меня как гром небесный.
— Вы можете спросить об этом его самого, — заметил Крис.
Получив разрешение судьи, молодой человек повернулся ко мне:
— Господин Хайгерер, почему вы сами не написали ни одной книги?
Я встал, чувствуя, как у меня подгибаются колени. Вопрос эхом отзывался в моей голове. Перед глазами будто опустился серый занавес, который становился все темнее. Я чувствовал на себе руки охранников. Спертый воздух зала суда забил мне дыхательные пути.
— Ему плохо! — раздался голос, в котором звенела металлическая пластина. — Нужен перерыв!
Наконец-то Эрльт хоть что-то сказал по делу.
Я извинился за причиненное беспокойство. Видимо, у меня подскочило давление. Может, виновата духота. Судья еще раз обратила внимание присяжных на вопросы молодого человека.
— К теме писательства и работы подсудимого в издательстве «Эрфос» мы вернемся, когда будем обсуждать свидетельские показания, — пообещала она.
Мне полегчало. Я вдохнул полной грудью и попробовал улыбнуться.
Теперь на свидетельском месте появилась Мона Мидлански. Пуговицы на ее черной блузе в нужных местах были расстегнуты. Однако Реле смотрел в бумаги, Хель на часы, а Эрльт мне в затылок Остальные были женщины. Илона Шмидль смерила журналистку презрительным взглядом, выпятив нижнюю губу. Похоже, она находила ее вульгарной. А человек не может так думать в отношении кого-либо, если сам не таков. В общем, Мидлански и Шмидль стоили друг друга.
Для начала Мона ответила на вопросы судьи. Нет, она не приходится мне родственницей. Да, ей известно, что ложные показания караются по закону. Да, она знает меня хорошо. (Первая ложь.) Помнит как милого, чувствительного коллегу, от которого нельзя было требовать слишком многого. Что это означает? Профессиональные сплетни, обсуждение статей, посиделки за пивом — это, по словам Моны, не для меня. Журналистские темы я считал приземленными.
— Написание репортажей воспринималось им скорее как наказание, — продолжила Мидлански. — Наша работа требует жесткости, Ян для нее очень мягок.
Потом она вспомнила наш разговор в машине в день убийства. Что я там делал?
— Он к чему-то готовился. Не исключено, что кто-то вызвал его туда.
В зале поднялся шум.
— Суду ничего не известно об участии в данном деле третьего лица, — разочарованно заметила Штелльмайер.
Какое впечатление я произвел тогда на Мону?
— Он походил на девушку, которая внезапно обнаружила, что беременна, — отвечала Мидлански. — Ян сильно переживал трагедию в баре, ведь он находился рядом с местом преступления.
— Вы знаете, что убийство совершил обвиняемый, — произнес обозленный прокурор. — Он сам признался. Почему вы игнорируете факты?
— Я не поверю, что Ян Хайгерер может кого-нибудь застрелить, пока сама этого не увижу, — отозвалась Мона Мидлански. — Он совершенно безобидный человек.
Желает ли суд знать ее личное мнение? К сожалению, да. Мидлански считает, что я влип в какую-то историю. На меня кто-то оказывает давление. А как же оружие? Отпечатки пальцев? Они все подделали.
— Именно поэтому инспектора Томека отстранили от дела, — заявила Мидлански. — Здесь замешаны высшие полицейские круги.
Есть ли у нее доказательства?
— К сожалению, это журналистская тайна, — вздохнула Мона. — Мы ведем свое расследование.
Я закрыл ладонями лицо.
— Вы имеете в виду восточную мафию? — спросил порнопродюсер с массивной цепью.
Он оживился. Ему понравилось то, что говорила Мидлански. Теперь не хватало банды торговцев людьми или какого-нибудь свингер-клуба.
— Больше я ничего сказать не могу, — закончила Мона.
Это была ее самая умная реплика за сегодняшний день. Я посмотрел на присяжных и заметил, что молодой человек в никелированных очках не сводит с меня глаз. Мы улыбнулись друг другу. Он видел больше других, хотя и сам не знал, что именно. В пятнадцать лет он, вероятно, имел ум сорокалетнего мужчины. Он должен был понимать меня.
22 глава
В камере меня поджидало одно письмо в конверте с кроваво-красными пятнами и надписью «Яну Хайгереру, освободителю». Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Еще неделя прошла. В перспективе — покой, до самой смерти. И никакие письма не вернут меня обратно.
Я распечатал конверт. В нем оказался листок бумаги с наклеенными на него газетными вырезками. Все из материалов, опубликованных в августе-сентябре прошлого года в «Культурвельт». В основном объявления и короткие сообщения из раздела «Разное». Среди них выделялись три текста различной длины, каждый из которых повторялся в подборке трижды.
Самый короткий гласил: «Ищем исполнителя главной роли. Время дорого. Шифр 371, в редакцию». Второй: «Мужество живо. Искусство живо. Театр жив. Все это придает смерти смысл». Подпись: «Бессмертный Рольф, в редакцию». Третий отрывок был самый длинный: «Моя жизнь убегает от меня, твоя течет мимо тебя. Давай встретимся где-нибудь посредине и разойдемся, довольные. Ты решительно ринешься навстречу себе. Я украдкой ускользну от себя. Искусство станет нашим союзником: тебе спасителем, мне освободителем». Подпись: «Бессмертный Рольф, в редакцию».
Через несколько минут я разорвал письмо в клочья.
Вечером, как мы и договаривались, явился Эрльт. Я не сказал ему о письме. В комнате свиданий нашелся чай и печенье. Я ел один.
— Томас, — представился он, протянув мне руку.
— Ян. — Я вытер ладони о салфетку, прежде чем ответить ему.
Я был первым убийцей, с которым он перешел на «ты».
— Все идет, как мне кажется, к нашему освобождению, — громко объявил Эрльт.
Жаль, что под рукой не оказалось микрофона. Охранники довольно закивали. Я улыбнулся, потому что всегда радовался хорошим новостям. Кроме того, я ему не верил. Однако предотвратить оправдательный приговор было моей заботой. Я не хотел взваливать ее на плечи Томаса Эрльта. Наконец-то он перестал меня бояться. В его глазах я оставался добропорядочным самоубийцей, болезненно одержимым идеей взять на себя вину за смерть другого человека. И сейчас он старался ободрить меня, пусть даже не совсем честными средствами, чтобы я, чего доброго, не попытался снова наложить на себя руки. По крайней мере до конца процесса он считал меня суицидальным. Изобразив на лице счастье, я просто хотел сделать ему приятное.
— Я пригласил тебя сюда из-за Рольфа Лентца, — сказал я как можно менее официально, чему способствовало обращение на «ты».
Удивившись, как легко соскочило с моих губ имя человека в красной куртке, я попросил Эрльта принести все имеющиеся у него документы о моих контактах с убитым.
— Хочу подготовиться к выступлениям остальных свидетелей, — объяснил я.
Адвокату это понравилось. Готовиться — то, что было понятно ему со школьной скамьи.
Напоследок я поинтересовался его делами. Он поведал мне о предстоящем выселении некоего арендатора и его протестах. Я похлопал Томаса по плечу, взяв реванш за аналогичные его действия по отношению ко мне в зале суда.
— Ты выкрутишься, я знаю, — ободрил я.
Он обрадовался. Это стало достойным завершением нашего разговора. Теплое прощание не испортило нам настроения: ведь совсем скоро нам предстояло увидеться снова.
На следующее утро я проснулся с нормальной температурой. Солнечные лучи заглушали свет сорокаваттной лампочки. Я позвонил тюремному врачу, и он согласился, что сегодня нам можно не встречаться. Узнал, что журналисты вовсю трубят о моем освобождении. Самое время было вынуть голову из петли.
Я вытерпел выступление на суде главного инспектора Томека. Он первым видел меня после убийства и совершил большую ошибку, позволив мне бежать. Но Томек не раскаивался, наоборот.
— Если Хайгерер убийца, то я не полицейский, — категорично заметил он и добавил: — Вот уж не думал, что мне придется сыграть одну из главных ролей в театре абсурда.
Почему его отстранили от моего дела?
— Я сам попросил об этом, потому что не хочу преследовать невиновного.
Он хорошо помнил нашу встречу в баре примерно через час после убийства.
— Ян был ошарашен больше всех. Так хорошо сыграть невозможно. Если бы он совершил преступление, то или немедленно признался бы, или бежал. Поверьте мне, я знаю, как ведут себя убийцы!
До сих пор прокурор оставался спокоен. Он тыкал в лицо свидетелю уликами, неопровержимо доказывающими, что убийцей мог быть только я.
— Как вы можете считать себя детективом, если, имея на руках такие факты, продолжаете защищать своего друга из газеты! — разозлился Реле.
— Нужно защитить молодого человека от самого себя, — ответил Томек, — от абсурдного спектакля, грозящего уничтожить его. Не бывает убийств без причины, как и убийц, не проявляющих никакой склонности к насилию.
— Но есть жертва! — крикнул прокурор. — Есть ни в чем не повинный посетитель бара, жизнью заплативший за это ничем не объяснимое извращение.
Наконец Реле изменила его железная выдержка. Теперь он возмущался громче всех. На это заседание следовало прислать студентов театральной школы!
Томек отстаивал версию несчастного случая.
— Подсудимый играл с оружием и нечаянно выстрелил, а теперь не может себе это простить, — сказал он.
Что же я делал с заряженным пистолетом в баре около полуночи?
— Данный вопрос не поставит в тупик полицейского с тридцатилетним стажем, — заявил Томек. — О том, какое действие производит на человека один только вид оружия, я могу написать книгу.
Прежде чем покинуть зал, инспектор подошел ко мне.
— Выше голову, приятель, — прошептал он, склонившись к моему уху.
Я послушно кивнул.
В перерыве охранники снова поздравляли меня с оправдательным приговором.
— Еще сирень не расцветет, как вы выйдете на свободу, — пообещал тот, который еще верил в появление снега.
Меня же объял ужас при мысли, что придется когда-нибудь нюхать сирень.
Когда радостное возбуждение в зале улеглось, я поднял руку. Получив разрешение судьи высказаться, я вышел на середину сцены. Смотрел на публику, в которой сейчас не видел ни одного знакомого лица.
— Вы не хотите присесть? — произнес голос, показавшийся мне незнакомым.
— Уважаемый суд! — провозгласил я. — Я хотел бы сделать признание.
Опять поднялся шум, он заставил меня напрячь глотку. Голова закружилась, и я вцепился в микрофон, чтобы не упасть. Обхватив обеими руками, я близко поднес его ко рту, словно поп-звезда, которая старается обмануть публику, раскрывая рот под фонограмму.
— Я стрелял не в кого-нибудь, — четко произнес я. — Я хорошо знал Рольфа Лентца. Он был моим… моим…
Перед глазами опустился темно-фиолетовый занавес, на его фоне закрутились серебряные спирали. На счет «раз» дверь приоткрылась. На «два» — я узнал темные мужские ботинки. «Три» — появились голубые джинсы. «Четыре» — перед глазами поплыли красные круги, а потом все стало черным. Я прижал кулаки к глазам, из них брызнули слезы, и нагнул голову. Указательный палец моей левой руки согнулся. Я жал на курок изо всех моих сил, физических и душевных, которые сосредоточились сейчас на кончике этого пальца. Сжал зубы, почувствовав, как в виски стучит кровь. Наконец металлический рычажок поддался. «Пять!» — раздался громкий крик позади меня. Микрофон упал, развалившись на части. Каменная плитка пола коснулась моего лба.
— Он был моим любовником, — услышал я собственный голос, перед тем как упасть.
Ужас сказанного мною эхом отдавался у меня внутри, однако я улыбался. Потом вокруг меня все потемнело.
Через несколько часов я снова сидел напротив судьи. «Давление», — объяснил я, извинившись за причиненное беспокойство. С давлением все было в порядке, просто от переутомления силы покинули меня, и я споткнулся. Студентов театральной школы следует направлять на заседания суда: здесь роли не просто играют, их проживают.
Сейчас все они увидели во мне преступника. Женщина на скамье присяжных, напомнившая мне мать, держала голову прямо. Активистка антииммигрантского движения жевала резинку, с ненавистью глядя мне в лицо. Физиономия человека с массивной цепью выдавала его желание поколотить меня. Он легко простил бы мне убийство, но не публичное признание в том, что я голубой. С лиц прочих также исчезло благостное выражение. Это придало мне сил и позволило рассказать всю мою историю без запинки.
Я прошелся по всем пунктам наших с Рольфом Лентцем отношений, которые так тщательно изучил вжавшийся сейчас от стыда в кресло мой адвокат. Я подготовился.
Заученное перед сном хорошо запоминается. Я это знал, бывший отличник.
Два года Рольф Лентц и я вместе изучали германистику. Я признался, что сразу почувствовал любовь к нему. О, без подобных фраз мировая литература немыслима! Однако я усердно сопротивлялся набиравшему силу чувству. О том, чтобы открыться родителям, не могло быть и речи. Судья печально кивнула.
Обстоятельства вынудили меня связаться с женщинами. Это у меня получилось, однако счастливым не сделало. Четырнадцать лет я прожил с подругой Делией. Это воспоминание доставило мне несколько приятных секунд.
— Платоническая страсть, если хотите, — объяснил я присяжным.
Они больше ничего не хотели, я стал им противен. Тогда я поведал, как загнанное в угол желание внезапно проснулось, когда я встретил Лентца на конференции, о которой готовил репортаж. Он возглавлял движение в защиту прав гомосексуалистов и вел семинар по организации политических акций, а я посещал его под чужим именем.
— Он оказался законченным наркоманом, — продолжил я, — но это лишь усилило мое влечение. Я знал, что должен находиться рядом с ним, чтобы вытащить его из болота, и не замечал, как сам все глубже погружался в трясину.
Будучи ведущим редактором издательства «Эрфос», я хорошо умел осушать такие «мокрые места» в рукописях. Литераторы, которые не могли без них обойтись, отчаянно барахтались или шли ко дну, взывая к моей помощи.
Итак, наша связь с Лентцем восстановилась, и мы стали видеться регулярно. Вскоре наши отношения переросли в интимные.
— Однако я требовал от него сохранения строжайшей тайны.
Никто не должен был знать, что мы живем друг с другом. Я очень стеснялся моей матери, друзей, самого себя.
— Я никогда не имел проблем с гомосексуалистами, — произнес я. — Они появились, когда я обнаружил, что сам один из них.
Чтобы уменьшить его дозу, часть «дури» я забирал себе. Таким образом, вместо того, чтобы отвадить Лентца, я сам стал членом их шайки. В августе до меня дошло, что я у него не один. (Тут я потер глаза ладонями и изобразил муки ревности в стиле Майкла Дугласа. Накануне я все утро репетировал перед зеркалом.) Кроме меня он встречался с некими Джимом, Роном и Борисом. Так они себя называли, никто не знал их настоящих имен.
Иногда эта история казалась мне дешевой выдумкой. Но суд — рынок, где ложь продают за правду, и чем дешевле, тем больше спрос. Не на шутку разочарованные взгляды окружающих доказывали, что сегодня я предложил им качественный товар.
— Вскоре во мне взыграла беспричинная ревность, — рассказывал я. — Я шпионил за ним, заманивая в злачные притоны, и устраивал сцены похлеще, чем в итальянских фильмах. Со временем я совсем сошел с ума. Наркотики помутили мой рассудок. Я требовал решающего разговора с Рольфом, желая все выяснить. Мне был нужен только он.
А он перестал ходить ко мне.
Наконец мы договорились встретиться в месте, которое никто из нас толком не знал: в баре Боба. Пять вечеров подряд я напрасно прождал его там. Он смеялся надо мной. А потом позвонил мне утром от одного из своих любовников и извинился. И чем больше Рольф издевался надо мной, тем больше я ему прощал. Но однажды моя обманутая любовь превратилась в ненависть. (Именно так я и выразился!) Я принес с собой в бар оружие.
— Он так и не пришел бы, если б не острая нужда в деньгах, — вспоминал я. — Когда дверь открылась и показалась его красная куртка, я не выдержал и выстрелил ему в грудь. Я понял, что́ наделал, лишь когда услышал его крик. — Я замолчал, чтобы дать залу перевести дыхание. — Уважаемый суд, господа присяжные! Я убил Рольфа Лентца из ревности и должен понести за это достойное наказание.
Лишь взглянув на своих охранников, я сообразил, что́ произошло. Они грубо схватили меня и, толкая в спину, поволокли в комнату для задержанных. Щелкнули замки наручников. Никто не предложил мне стакана воды. Оба они отвернулись от меня, дав возможность отдохнуть от их болтовни. Я ничего не пропустил. Слышал, как снаружи барабанил дождь. Он стучал по крыше, а я беззвучно смеялся. Я стал, кем хотел. Преступления нет без жертвы, убийцы и того, кто признает убийцу убийцей. Мое преступление состоялось.
За время перерыва Зигфрид Реле словно вырос на десять сантиметров. Он поглаживал свой выбритый подбородок, наслаждаясь триумфом. Наконец нарисованный им отвратительный портрет стал походить на человека со скамьи подсудимых. А ведь он не держал на меня зла, лишь анализировал плохое во мне.
Аннелизе Штелльмайер тоже не могла скрыть разочарования. Работа больше не доставляла ей никакого удовольствия. Сейчас охотнее всего она удалилась бы на совещание с присяжными, чтобы поскорее вынести приговор. К сожалению, судья была вынуждена продолжать свое дело. Не в силах переварить мое признание, все они снова и снова пережевывали самые жесткие его куски.
— Почему вы сообщили об этом только сейчас? — спрашивали меня все.
И я отвечал им, что ведь это такой позор!
— Никто не знал, что я гомосексуалист, в том числе и мои близкие друзья. До определенного времени даже я сам.
Или я объяснял им, что чем дольше замалчиваешь тайну и загоняешь ее вглубь себя, тем труднее потом ее открыть. Или говорил, что не мог рассказать о плачевных обстоятельствах моего преступления, поскольку они выдавали мою беспомощность и слабость. Я предпочел вообще замалчивать причины убийства, чем признаваться в том, что совершил его, следуя животному инстинкту. Они проглотили это. Моя история показалась им логически связанной и хорошо сформулированной. Я остался доволен.
— Что вы чувствовали после всего этого? — поинтересовался прокурор.
Видимо, он хотел вытянуть из меня еще пару сенсационных признаний.
— Сначала облегчение, а затем ужас, — ответил я. — Ведь я убил самого дорогого для меня человека.
Теперь он мог расквитаться со мной за все мои репортажи из зала суда.
Бенедикт Райтхофер со своим «синдромом неудавшегося самоубийцы» оказался теперь как бы вне игры. Но он не сдавался. «Если хотите знать мое мнение…» — начал он и объявил, что его совсем не удивило мое признание.
— Только оскорбленная любовь способна пробудить в бесконфликтном человеке такую энергию, — сообщил он.
Далее последовали уже знакомые рассуждения об агрессии, направленной вовнутрь и вовне. Они объясняли все. Не зря профессор посвятил данной теме целые тома своих сочинений.
Наконец и Томас выполз из своего укрытия. Теперь его задача изменилась. Он должен был попытаться вбить в головы присяжным новое понятие «убийства в состоянии аффекта». Это преступление считалось более безобидным. За него по закону полагалось не более двадцати лет лишения свободы.
Ведь я сделал этот выстрел, не помня себя от сильнейшего эмоционального напряжения, предположил он. Я был вынужден с ним не согласиться.
— Но когда ваш друг Рольф появился в дверях бара, все ваши эмоции, сдерживаемые в течение дня, вдруг прорвались наружу, разве не так? — спросил мой адвокат.
— Не совсем, — ответил я. — Незадолго до этого я разработал план. Я хотел с ним покончить и совершил преднамеренное убийство. Он не должен был принадлежать никому, кроме меня.
Томас утонул в своем кресле. Я решил после вынесения приговора вознаградить его муки прибавкой к гонорару.
— Есть еще вопросы? — бесстрастно спросила Штелльмайер.
Присяжные опустили головы. Вдруг молодой человек в никелированных очках поднял руку. Его лицо не выражало никаких эмоций.
— Господин Хайгерер, почему вы рассказали обо всем именно сегодня?
Интересный вопрос. Мне захотелось отметить это и поблагодарить его, но он ждал от меня совсем другого.
— Признание зрело внутри меня давно, — ответил я. — Я уже несколько раз порывался открыться, но что-то меня останавливало. В конце концов носить его в себе стало невозможно. Теперь я чувствую облегчение.
Последнее было правдой. Сейчас мне не терпелось вернуться в камеру, где меня ждал обед. По пятницам давали картофельный суп. Я надеялся, что сегодня пятница.
— А может, вы просто боялись оправдательного приговора?
Я взглянул на судью и подумал, что процесс всем нам порядком надоел. Поговорили, и хватит. Людям пора по домам.
— Отвечайте на вопрос, — велела Штелльмайер.
— Я уже неоднократно говорил, что совершил тяжкое преступление и хочу понести за него наказание. Прошу вас вспомнить вступительную речь господина прокурора. Я совершенно согласен с ее положениями.
Реле почтительно поклонился мне. Мы с ним могли бы стать хорошими друзьями.
Однако студент не садился.
— Позвольте продолжить? — обратился он к судье.
Она разрешила. Заседатель Хель напрасно смотрел на часы.
— Кто еще знал о ваших отношениях с Лентцем?
— Никто, — произнес я.
— А его любовники?
— Не исключено, — пробормотал я.
Молодой человек начинал действовать мне на нервы.
— Надеюсь, этих троих мы еще услышим здесь в качестве свидетелей?
Вопрос был обращен к председателю суда, но я опередил его. Я объяснил студенту, что установить настоящие имена Джима, Рона и Бориса довольно сложно и скорее всего эти трое давно уже, как говорится, «залегли на дно». Я покосился на порнопродюсера. Тот кивнул, соглашаясь со мной.
— Завтра приглашены несколько свидетелей со стороны потерпевшего, — ответила очкарику Штелльмайер.
Это означало, что на сегодня достаточно. Она была права.
23 глава
Оказалось, что сегодня четверг и на обед чечевичный суп. Есть мне расхотелось. Третье письмо с кроваво-красными пятнами и надписью «Яну Хайгереру, освободителю» уже валялось в картонной коробке для мусора, разорванное на четыре части. Однако свое дело оно сделало. То, что я его не читал, не имело значения.
У меня было достаточно времени, чтобы восстановить послание. Я управился за несколько секунд. «Спокойно, Ян, — говорил я себе. — Это всего лишь листок бумаги».
Я думал о том, что совершил тяжелое восхождение и уже почти покорил вершину. Оставалось установить крест. (Как бывшему редактору, мне понравилась эта метафора. Крест — хороший образ.)
На сей раз послание выглядело иначе. Написанное изящным курсивом, оно не содержало ни заглавных букв, ни знаков препинания. Текст тянулся по белому листу бумаги тонкой чернильной вязью.
высокочтимый ян хайгерер почему вы рассказываете суду в чем вы виновны вы не совершили ничего плохого вы подвели скверное дело к хорошему завершению вы делаете то чего мы боимся больше всего вы должны быть оправданы и освобождены вы покончили с серым ни один земной суд не вправе за это наказывать мы вынуждены принимать меры рольф вольный каменщик смерти смотрит на вас с небес что он видит что ему приходится видеть вам не место в тюрьме храни вас бог энгельберт ауэршталь.
Спокойно, Ян. Это всего лишь письмо. Я утоплю клочки бумаги в чечевичном супе. К счастью, я не депрессивный тип.
Перед началом пятого дня слушаний в наказание за свое признание я целый час провел в комнате для задержанных. Охранники больше не разговаривали со мной. И это при том, что почти всю ночь шел дождь, — я слушал его, размышляя о письме. Дождь в марте — ничего необычного, однако это подходящая тема для беседы.
Тот, который больше не надеялся на появление снега, таращился на радиопередатчик. Создавалось впечатление, что он изучает его устройство. А может, там была какая-то новая компьютерная игра для полицейских? Бог знает, как далеко могла зайти техника за время моего заключения.
Тот, который еще ждал появления снега, сидел, уткнувшись в газету. Вероятно, он просто отгораживался ею от меня, убийцы-гомосексуалиста. Не исключено, что тем самым он хотел лишний раз ткнуть меня носом в последние творения моих друзей-журналистов.
«Хайгерер признался в убийстве из ревности» — гласил набранный гигантским шрифтом заголовок, под которым шло пояснение: «Драматический поворот в суде». «Всемирно известный журналист газеты „Культурвельт“ сделал сенсационное заявление. Теперь ему грозит пожизненное тюремное заключение. Приговор огласят в ближайшую среду».
Больше всего на свете мне хотелось сейчас обсудить с охранниками ночной дождь.
У входа в зал я сразу понял, что она там. Сам не знаю, как это произошло, наверное, успел скользнуть взглядом по ее рыжим волосам. Сразу повеяло вечной осенью — единственный из ароматов внешнего мира, который я пока воспринимал. Хелена собиралась сесть в одном из первых рядов, и это меня беспокоило. Что ей нужно? Чего она здесь ищет? Или ее работа с моим делом не закончена?
Вопросы множились. Придет ли миниатюрная брюнетка, с которой Хелена разговаривала несколько дней назад? Откуда я ее знаю? Что общего у нее с Хеленой? Чего они от меня хотят? Или их не устраивает мое признание, которому я сам почти уже поверил?
В начале заседания подводили итоги предыдущего дня, задавали вопросы. У меня поинтересовались, как часто я виделся со своим любовником в последние три месяца накануне убийства.
— Насколько было возможно, — ответил я.
Не присутствовал ли при этом кто-нибудь посторонний?
— Нет. Наши свидания проходили втайне, в основном у меня дома.
— А где еще?
— У него. Каждый раз в новом месте, — махнул я рукой. — На квартирах его друзей, которые вечно были в отъезде. Рольф жил везде и нигде.
На их месте я запретил бы мне отвечать таким образом.
Часто ли мы ссорились?
— Довольно редко.
Чем мы занимались во время наших встреч?
— Чем занимаются люди, состоящие друг с другом в интимных отношениях? — Я заметил сердитые лица присяжных. — Ну, хорошо… Мы слушали музыку, говорили об искусстве, курили и нюхали «травку», рисовали картины, мечтали, размышляли о будущем…
Вскоре им надоело задавать мне вопросы. Никто больше не боролся ни «за», ни «против» меня. У Томаса не оставалось аргументов, у остальных — желания.
Вскоре вышли свидетели, которым я не мог взглянуть в лицо. Роберт и Маргарета Лентц — родители и Мария Лентц — кузина.
— Это должно было кончиться именно таким образом, — начал отец, и он имел в виду вовсе не свое разъеденное водкой горло. — Он так и не стал взрослым человеком. Жил своей собственной жизнью и плевал на семью. Плевал на все и думал, что один такой на свете. Но чтобы чего-нибудь добиться, надо работать. Он этого так и не понял.
Последний раз Лентц видел отца в пятилетнем возрасте, и вопросов к свидетелю ни у кого не возникло.
— С Рольфом приходилось тяжело, — вспоминала мать. — Он водился бог знает с кем, был неуравновешен и легко попадал под чужое влияние. Считал себя художником и на этом основании лез во все сомнительные аферы. Ему не хватало отцовской руки.
У нее самой, к сожалению, на сына оставалось мало времени. Ведь надо было же как-то сводить концы с концами!
О наркотиках мать узнала из газет. Она часто навещала его в исправительном учреждении для несовершеннолетних, и он обещал стать другим.
— Рольф часто повторял, что я буду еще гордиться им, — говорила она.
Повисла пауза. Вероятно, Маргарета Лентц плакала, но я не слышал. Такие матери обычно плачут беззвучно. Я опустил голову, сдерживая слезы. То же самое она рассказывала бы о нем живом, так какая разница?
Кузина Мария знала человека в красной куртке ближе всех. Она работала медсестрой, и пару лет Рольф прожил у нее в доме.
— Он все время пытался покончить с наркотиками, — вспоминала она. — Был бунтарем, нонконформистом и строил большие планы. Ждал, что ему повезет хотя бы однажды. Дальше он пошел бы сам.
Это верно для всех. Но успех приходит к тем, кому он не нужен, кто прекрасно справляется своими силами.
— Но он же занимался германистикой! — удивилась судья.
— Германистикой? — рассмеялась девушка. — Что вы, Рольф не окончил и курса средней школы.
— Обвиняемый утверждает, что два года изучал с ним германистику!
— Это неправда, — возразила свидетельница.
Я был вне себя. Мой толстяк Томас действительно ни на что не годился.
Пришлось выкручиваться. Я объяснил, что Рольф регулярно посещал лекции как вольнослушатель, и я полагал, что он серьезно увлечен наукой. Наверное, он стеснялся открыть мне правду.
— Неужели вы никогда не обсуждали данный вопрос?
— Нет, мы не говорили о подобном, — ответил я.
Они удовлетворились.
— Когда вы в последний раз видели Рольфа? — обратилась Штелльмайер к свидетельнице.
— Примерно за год до его смерти.
Я вздохнул с облегчением и только теперь посмотрел на нее. Она напомнила мне фотографию Рольфа в газете.
— В последнее время у него стало совсем плохо со здоровьем, — заметила девушка.
Я надеялся, что ее слова они пропустят мимо ушей. Так и вышло.
— Рассказывал ли он вам что-нибудь о своих друзьях?
— Нет, об этом мы обычно не говорили. Я знала только, что все его друзья значительно моложе его.
Я кивнул в знак того, что мне известно, каким исключением я являлся.
— Упоминал ли он когда-нибудь имена Джима, Рона и Бориса?
— Нет, впервые о них слышу, — удивилась девушка.
— А об известном журналисте Яне Хайгерере ничего не говорил?
Меня передергивало, когда она называла меня журналистом.
— Нет, но, как я уже сказала, в последний раз мы виделись за год до его смерти.
— Есть ли еще вопросы к свидетельнице?
Реле поднял руку.
— Вы знаете, как погиб ваш двоюродный брат?
— Его застрелили.
— Почему вы говорите об этом так равнодушно, ведь вы любили его! — возмутился прокурор.
— Да, я его любила, поэтому мне больно, что его нет с нами, но то, какой смертью он умер, здесь ни при чем.
— Не понимаю, — пробурчал Реле, слишком тихо, чтобы это можно было воспринять как вопрос. — У меня все, — объявил он.
Мысленно я уже поздравлял его с победой.
Допрос кузины Лентца, похоже, закончился. Я закрыл глаза, надеясь услышать от Штелльмайер долгожданное «спасибо, вы свободны», хотя прекрасно знал, чей голос сейчас прозвучит.
— Разрешите? — поднял руку студент в никелированных очках.
Кто мог ему запретить?
— Почему вы не виделись со своим кузеном целый год?
— Он не хотел, — ответила свидетельница. — Рольф прекратил общаться со мной.
— Вы поссорились?
— Нет, — покачала головой девушка. — Рольф стал ужасно выглядеть после болезни и заперся в четырех стенах. Он никого не пускал к себе, кроме врача.
Публика зашумела.
— Что же произошло? — поинтересовался студент.
По американским законам подсудимый имеет право давать присяжному отвод. Меня судили явно не в той стране.
— Он был ВИЧ-инфицирован, и болезнь успела зайти далеко.
Эти слова были подобны вспышке молнии. Почти одновременно грянул гром, и разразилась гроза. К горлу подступила тошнота.
Аннелизе Штелльмайер словно проснулась. Теперь она ожесточенно листала материалы моего дела.
— Госпожа свидетельница, подтверждаете ли вы, что говорили правду на допросах в полиции и у следователя? — спросила она.
— Разумеется, — кивнула девушка.
— Но ведь вы ни словом нигде не помянули о тяжелой болезни Рольфа.
— В самом деле? — удивилась Мария Лентц. — Вероятно, они просто не интересовались этим.
Она заметно нервничала.
— Но о таких важных проблемах надо сообщать независимо от того, спрашивают вас или нет.
— Я исходила из того, что об этом знают все. Его приятелям было известно, что Рольф долго не проживет. Лишь от его матери это скрывали.
— Может ли его врач подтвердить ваши показания, если мы освободим его от необходимости хранить профессиональную тайну?
— Разумеется, — кивнула Мария и протянула бумажку с именем и адресом доктора, будто только и ждала случая вручить ее судье.
— Я могу идти?
Ей разрешили. Слишком поздно.
— Что вы на это скажете, господин Хайгерер? — повернулась ко мне судья после того, как Хельмут Хель пролаял что-то в зал, призывая публику к порядку.
— Я ошарашен не меньше вашего, — ответил я.
Я поклялся, что ничего не знал о болезни.
— Теперь мне многое стало понятно в его поведении, — продолжил я. — Я-то воспринимал приступы головокружения как симптомы абстиненции. — Я сделал долгую театральную паузу. — Вот почему он ни с того ни с сего исчезал на несколько дней, — пробормотал я, словно рассуждая вслух.
Потом закрыл лицо руками и изобразил рыдания. Они оставили меня в покое, поняв, что больше ничего не добьются.
Были и другие свидетели из окружения жертвы. Друзья детства, наркоманы, деятели движения по защите прав гомосексуалистов, несостоявшиеся художники-акционисты или же просто те, кто когда-либо имел какие-нибудь дела с Рольфом: любовники на одну ночь и отморозки всех мастей. Никого из них гибель Лентца особенно не задела, никого не возмутило его убийство. Смерть является логическим продолжением жизни. Это верно для любого, но в случае человека в красной куртке неоспоримость данной мысли особенно бросалась в глаза.
Зигфрид Реле казался подавленным после успеха предыдущего дня. Он желал бы, чтобы жертву оплакивали больше и мое преступление выглядело бы вопиющим. Это придало бы смысла его работе.
Никто из выступавших не знал меня, никто никогда не слышал моего имени. Многие удивлялись моей дружбе с Лентцем. «С таким типом Рольф точно не стал бы иметь дело», — сказал один наркоман. «Слишком стар, — заметил другой. — Он не водился с папиками». Однако доказать никто ничего не мог.
Некоторые из близких Лентцу людей не подозревали о его тяжелой болезни. Это укрепило мои позиции. Другие же, имевшие с ним лишь шапочное знакомство, были подробно информированы о развитии инфекции. Что-то здесь не состыковывалось. Не понимая, что именно, я злился.
Двое свидетелей полагали, будто в последние месяцы не заметить болезнь Рольфа стало невозможно. «Если его и отпускало, то лишь на короткое время», — говорили они. А я демонстративно качал головой, словно удивляясь тому, как мой друг и любовник обманывал меня.
Наконец последний из допрашиваемых утверждал, что это ему в ночь убийства Рольф Лентц назначил встречу в баре Боба. Его звали Ник. Ему явно следовало бы заняться своей прической, хотя я плохо представлял парикмахера, который согласился бы его обслужить. У Ника заплетался язык, а по запаху чувствовалось, что незадолго до явки в суд он пил пиво, вероятно с похмелья. Больше всего на свете я хотел, чтобы его как можно скорее выпроводили из зала.
Встреча планировалась как деловая. Вероятно, купля-продажа «дури», — подобные аферы нередко совершались у Боба в туалете. Ник опоздал. Когда он вошел в бар, человек в красной куртке уже лежал на полу. «Так что делать мне там было нечего», — заметил свидетель. Он имел в виду, что в таком состоянии Рольф вряд ли бы заключил сделку. Нику удалось выскользнуть из бара, прежде чем его заметила полиция.
— Ступайте домой и проспитесь! — велела Штелльмайер.
— Конечно, госпожа судья! — с готовностью воскликнул свидетель, в глазах которого читались совершенно другие планы.
У студента на сей раз вопросов не возникло. Это удивило и успокоило меня.
— В ближайший понедельник мы попробуем пригласить лечащего врача Рольфа Лентца, — объявила судья. — А на сегодня я запланировала выступления еще двоих свидетелей со стороны потерпевшего.
Достигнув дверей своей камеры, я попросил сопровождавшего меня охранника войти первым и вынести оттуда почту. Только таким образом я мог избежать очередного письма с красными пятнами.
Позднее, как и было условлено, адвокат Томас прислал мне обещанные материалы, касающиеся человека в красной куртке. Выходные я провел за изучением протоколов допросов. Ни один из свидетелей ни словом не помянул в них о ВИЧ-инфекции Лентца, хотя Хелена расспрашивала их о самых незначительных подробностях его жизни. То, что такой дотошный следователь не сумел докопаться до заболевания убитого, казалось мне невероятным. В протоколе медицинского вскрытия, со всей скрупулезностью описывавшего состояние печени, почек и легких моей жертвы, я не обнаружил и намека на ВИЧ-инфекцию. Мне оставалось надеяться, что плохое состояние здоровья Рольфа Лентца не является для меня смягчающим обстоятельством. Мнения закона на этот счет я не знал.
Версия убийства из ревности пока казалась надежной. Вечером в воскресенье я съел свой любимый хлебный суп и лег в постель, уставившись на сорокаваттную лампочку. Мне предстояло пережить встречу с самой главной свидетельницей моего прошлого.
24 глава
Утром я встал под душ, чтобы смыть с себя холодный пот — последствие ночных кошмаров, которыми продолжал мучить меня человек в красной куртке. Я выдавил на зубную щетку двойную порцию пасты, чтобы как следует освежить рот. Из зеркала на меня смотрел человек, боявшийся собственной тени и в то же время решительно настроенный завершить начатое им дело. Ради такого случая я даже разгладил свою белую рубашку и самый красивый пиджак, положив на них стопки книг. Настало время прощания со старыми представлениями о свободе и всем, что с ними связано.
Я взял в руки газету, поклявшись себе, что делаю это в последний раз. «Ни дня не проходит без сенсации на процессе по делу убийства в баре у Боба, — вещала „Абендпост“. — Известный журналист застрелил больного СПИДом. Он утверждает, что ничего не знал о тяжелом заболевании своей жертвы… Читайте далее: Двойная жизнь гея Яна Руфуса Хайгерера. Его любили все, но он — только одного. Шокирующий репортаж Моны Мидлански, одной из немногих, кому доверял Ян Хайгерер».
Тюремный врач остался мною доволен. Как гетеросексуал, он утратил ко мне всякий интерес.
Охранники явились за мной минута в минуту. На их лицах я читал признаки прогрессирующей деградации. Сейчас они выглядели еще глупее, чем до выходных. Не исключено, что они больше не могли со мной разговаривать, даже если бы того хотели. Однако все еще надевали и расстегивали наручники, и это оставалось, вероятно, единственным действием, на какое они были способны. Тот, который верил в появление снега, только надевал, а его товарищ расстегивал. По крайней мере в тот раз они распределили обязанности именно так. Оба приоткрывали рты и просовывали кончик языка между зубами — признак того, что даже эта работа стоила им теперь немалого напряжения, а в ближайшем будущем грозила стать и вовсе непосильной. Правда, дорогу в зал судебных заседаний охранники не забыли.
— Скоро все завершится, — утешал я их.
Они никак не отреагировали на мои слова.
Меня усадили под свидетельской трибуной. Судья хотела начать день с моего выступления, в котором я бы коротко рассказал о семи годах своей жизни между учебой и работой в «Культурвельт», то есть об издательстве «Эрфос».
— Это было славное время, — произнес я с ностальгией в голосе. — Я охотно занимался книгами.
Я усмехнулся. Присяжные выжидающе смотрели на меня. Чего они еще хотели? Сюрпризы закончились, как и сам процесс. Пора завершать представление.
— Перейдем к допросу свидетелей, — объявила Штелльмайер.
Мои паузы показались ей слишком длинными. Я опустился на свое место между двумя истуканами в форме. Отсюда я мог видеть знакомые печальные лица: старейшего работника издательства Прехтля, ответственного секретаря Сусанну, менеджера по маркетингу Эгона, ведущих редакторов Клаудию и Еву-Марию, в чьих глазах можно было увидеть буквы: так много они прочитали текстов за долгие годы и так мало жили.
«Он работал как одержимый», — говорили они. «Феноменальное чувство языка». «Лучшего работника у нас никогда не было». Нигде люди не льстят так беззастенчиво, как в воспоминаниях.
— Многие авторы обязаны ему своим успехом. Из посредственной рукописи он мог сделать замечательную книгу, — добавил старик Прехтль. — Теперь мы можем только мечтать о том, что издавали тогда. Ян Хайгерер — уникальный редактор.
Так ли уж нужна была суду эта информация? Я в смущении разглядывал свои отросшие ногти.
Как я обращался с коллегами и авторами?
— Вежливо, уважительно, иногда, пожалуй, недостаточно строго, проявляя бесконечное терпение, — ответила Сусанна. — Они могли быть спокойны, когда работали с Яном Хайгерером.
Сусанна мне нравилась. Она чем-то напоминала золотого хомячка — бывший талисман «Эрфоса». Мне постоянно хотелось ущипнуть ее за щечку.
— Почему же он бросил издательство? — спросила судья.
— Он всегда стремился осваивать что-то новое. Слава, признание и деньги для него ничего не значили, — предположил Прехтль.
— Ян не производил впечатления довольного человека, — добавила Сусанна. — Он окружил свою личность тайной. Мы всегда видели его радостным и приветливым, но так и не поняли, каков он в действительности.
Я усмехнулся в подтверждение ее слов.
Знают ли они что-нибудь о моей личной жизни?
— С Яном можно было говорить о чем угодно, только не о нем самом, — поведала ведущий редактор Клаудиа, которая с пяти абзацев понимала, чего стоит рукопись. — Он казался очень уравновешенным. Мы думали, что жизнь у него настолько упорядоченна, что он просто не считает нужным рассказывать о ней. Как же всех нас шокировало известие о том, что произошло с ним в баре!
«Ну, это произошло не со мной, хотя и не без моего участия», — мысленно возразил я коллеге. Однако вслух ничего не сказал.
— Ян убил из ревности? Невероятно! — Сусанна даже рассмеялась.
— Так бывает только в плохих романах, — заметила Клаудиа.
Мои слова.
Знала ли она, что я гей?
— Ну, вот еще, — недовольно буркнула редактор.
Она занималась историческими романами, наша Брюнхильда.
— Вообще-то я в это не верю, — продолжила она. — Ян серьезно увлекался одной женщиной из книготорговли и мог часами разговаривать с ней по телефону. Она оставалась для него одной-единственной и всем на свете. Или нет, всем на свете для него все-таки являлись книги.
Ее слова прозвучали как поэтическая преамбула к выступлению следующей свидетельницы, для которой я сегодня так тщательно приводил себя в порядок. Однако оставался не проясненным еще один вопрос, о чем помнили по крайней мере двое в зале: я и молодой человек в никелированных очках. Вот уже минуту я наблюдал за тем, как он собирается поднять руку. Наконец он попросил слова. В данном случае мое преимущество состояло в том, что я знал, о чем он сейчас спросит. Из чего вовсе не следовало, что он получит ответ.
Для начала студент обратился к Прехтлю:
— Скажите, почему господин Хайгерер сам не написал ни одной книги? Разве вы никогда не советовали ему заняться сочинительством?
Старик объяснил, что прекрасный редактор может оказаться бездарным автором и наоборот. Одним дано растекаться, как река в половодье, другим — подтирать за ними. Одни жмут на газ, другие — на тормоз. У одних больше дерзости, у других — добросовестности. Ян был одним из выдающихся представителей именно второй группы.
Старик сделал паузу.
— Кроме того, он прекрасно понимал это сам и никогда не изъявлял желания сочинить роман.
— Господин Хайгерер! — обратился свидетель ко мне.
Я сидел, погруженный в речь Прехтля.
— Господин Хайгерер, вам никогда не хотелось самому написать книгу?
— Нет.
При этом я махнул рукой, почувствовав на лице ветерок. Я ожидал, что, получив ответ, студент сядет. Однако он продолжал стоя разглядывать меня.
— Господин Прехтль все очень хорошо сформулировал, — добавил я. — Я аккуратный редактор, а не свободный художник слова.
Я посмотрел на мужчину с массивной цепью. Он прикрыл глаза, всем своим видом показывая, как ему надоело слушать эту белиберду.
— Но ведь позже вы все равно писали как журналист, — не отставал юный присяжный.
Я уже пророчил ему блестящее адвокатское будущее.
— Одно дело создавать картины, другое — рисовать схемы, — пояснил я.
Я старался говорить убедительно, не исключено, что даже поднял палец.
— Я оказался хорошим чертежником, но никудышным художником. Чтобы заниматься живописью, нужна причина, или мотив, если угодно, которого я не имел.
Последняя фраза стоила мне усилия над собой. Я уже ругал себя за нее. Правда, господин присяжный и не подозревал, какой подарок я ему сделал. При благоприятном стечении обстоятельств его рекомендовалось распаковать не позднее чем в ближайшие пятнадцать лет.
— Благодарю, вопросов больше не имею, — произнес он.
Я с трудом избегал его пронзительного взгляда.
Перерыв был очень кстати. Я мысленно репетировал предстоящую встречу с Делией и отрабатывал свои реплики, снова и снова представляя ее входящей в зал. В конце концов я мысленно поприветствовал ее так, как не хотел: а именно как старую школьную подругу, которую случайно увидел впервые за тридцать лет и с которой мне не о чем говорить.
Когда же появилась настоящая Делия, у меня, как обычно в таких случаях, прихватило сердце. Но, как всегда, этого никто не заметил. Даже она.
Строгий, соответственно ситуации, но не без легкой эротики темно-синий костюм дополнял аромат «Коко Шанель». Не роняя достоинства, она опустилась на простую деревянную скамью возле свидетельской трибуны.
Под яркого цвета кожей ее сапог от модного дизайнера сразу же обозначились большие пальцы ног, образовав тот самый знаменитый «ведьмин крест Делии», — ее визитную карточку, фирменный знак. В ней не было ничего настоящего, все на продажу. Повернув ко мне свою гладко причесанную и покрытую лаком кукольную головку, Делия одарила меня полным сострадания взглядом и три раза моргнула. Она старалась утешить меня, несчастного гея-убийцу. Я усмехнулся. Этим я, в свою очередь, выразил свою жалость по отношению к ней, бедной парижской декадентке. Но она подумала, что я просто восхищен ее красотой, и отблагодарила меня тем, что еще раз прикрыла глаза, опустив свои длинные ресницы. Я снова усмехнулся. Да, она была красива, и я любовался ею.
Вскоре я заметил, что мне не следует так пялиться на Делию. Потому что мое прошлое, забытое и запертое на ключ, вдруг начинает бунтовать и отчаянно ломиться в дверь.
Осознав это, я перевел взгляд на присяжных, стараясь не различать их лиц, как я научился делать. Таким образом мне удалось хоть немного собраться с мыслями и подготовиться к вопросам парижанки.
Делии напомнили, что она должна говорить только правду.
— Да, я знаю, — кивнула она.
У нее изменился голос. Прежний звучал иначе. Не исключено, Жан купил ей новый набор голосовых связок на Елисейских Полях. Что ж, старые действительно износились, столько раз повторяя попусту любовные признания какому-то ничтожному редактору.
Правда ли, что она была моей подругой?
— Да, — ответила Делия.
Без гордости, но все же подтвердила. А добровольное признание является, как известно, существенным смягчающим обстоятельством.
Когда?
Она задумалась. Я мог бы прийти ей на помощь, потому что случайно вспомнил все нужные даты. В общей сложности связь продолжалась четырнадцать лет. Как мы познакомились? Интересный вопрос, но в зале суда совершенно неуместный. Как и все, что связано с Делией. И она рассказала о неделе книги, с которой началось то блаженное время, перечислила произведения современной литературы, какие нам обоим нравились и мы, помимо всего прочего, продвигали их на рынок.
Какими ей запомнились наши отношения?
— Было хорошо, — рассудительно заметила она.
Это прозвучало как «и все-таки недостаточно хорошо».
— Сначала просто сказочно.
Она произнесла это таким тоном, словно умела мечтать.
— Ян был нежен ко мне, внимателен, чуток. Он занимался только мной. Женщина может лишь мечтать о таком любовнике.
Так продолжалось еще несколько минут. Ее похвалы угнетали меня. Она считала, что обязана это говорить ради того, чтобы господа присяжные пощадили меня, несчастного голубого убийцу.
Почему мы не поженились? Почему не создали семью? Почему у нас нет детей?
Я ей быстро наскучил. Ведь я не романтический герой, и мне нечего было предложить ей. Жизнь со мной показалась ей серой.
— К сожалению, мы не созданы друг для друга, — вздохнула Делия.
Это предложение я вычеркнул бы у любого, даже самого знаменитого автора.
— Мало-помалу мы все больше удалялись друг от друга.
«Мало-помалу» — ужасное выражение, вполне соответствующее своему кошмарному содержанию.
— Вопрос деликатный, но я вынуждена его задать, — предупредила судья. — Что вы скажете о вашей сексуальной жизни?
— Все было хорошо.
Видимо, она насмехалась надо мной.
— Первое время даже очень хорошо, — продолжила Делия. — Ян страстный любовник, мне не на что жаловаться.
Ответ прозвучал нарочито вульгарно, она переигрывала. Я прикусил язык, пока не почувствовал во рту вкус крови.
— В этом смысле все всегда работало по первому классу.
Достаточно. Меня бросило в дрожь от такой оценки наших интимных отношений.
Судья сообщила ей, что я признался в любовной связи с человеком в красной куртке и убийстве на почве ревности.
— Вчера я прочитала в газете, — кивнула Делия. — Я ничего не понимаю и не верю этому.
Теперь, очевидно, звучали ее старые голосовые связки. Странно, но она до сих пор носила их при себе.
— Ян не мог любить мужчину, абсолютно уверена. И он не убийца. Готова поклясться чем угодно. Именно для того я и прилетела из Франции, чтобы…
— Но подсудимый утверждает, что вас связывали исключительно платонические отношения! — перебила Штелльмайер.
— Не понимаю, зачем ему? — недоумевала Делия.
В ее голосе прозвучало отчаяние. Мне хотелось взглянуть на ее лицо, оно должно было выглядеть, как тогда. Но я сдержался и продолжал смотреть на присяжных, как и прежде, не различая их.
— Что вы скажете о темпераменте господина Хайгерера? — продолжила судья. — Он вспыльчивый или сдержанный человек?
— Я бы сказала, сердечный, — уточнила Делия.
Приятно слышать. Жаль, что сейчас я на стороне прокурора.
— Кто кого оставил: вы его или он вас? — подал голос Реле.
— Трудно сказать, — солгала Делия. — Мы оба знали, что дальше так продолжаться не может. Но получилось, что первой сказала я.
— Когда это произошло?
Странный вопрос… Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Я затаил дыхание.
— Точно не помню, — ответила Делия тем голосом, который купил ей Лега.
Я выпустил из ноздрей воздух, точно ядовитый газ.
— Мог ли ваш разрыв сломить его, сделать другим человеком, способным убить? — спросил прокурор.
— Нет, — покачала головой Делия.
От негодования ее старые голосовые связки зазвучали с новой силой.
— Что же сделало ваши отношения под конец столь невыносимыми? — поинтересовалась судья Штелльмайер.
— Наша жизнь остановилась, — произнесла Делия. — Мы не видели никакой перспективы. Ян ушел в себя, буквально вцепился в себя зубами. Он привык работать, не выходя из дома, и совершенно не подходил для занятий журналистикой. Последние несколько лет он только и делал, что читал и писал.
Совершенно верно, пока она коротала ночи со своим писателем.
— Почему же он ушел из издательства?
— Я думаю, ему просто надоели все эти амбициозные литераторы, — предположила Делия. — Он же работал на них, как слуга.
Конечно, а Делия стала для одного из них примадонной и музой.
На скамье присяжных началось движение. Снова поднялся молодой человек с обритой головой.
— Госпожа свидетельница, вы сказали, что подсудимый только и занимался дома тем, что читал и писал. Что же он писал?
— Не знаю, — пожала плечами Делия. — Он окружил себя тайной. В конце концов у нас не осталось общих тем для разговоров.
— Господин Хайгерер…
Это прозвучало, как звонок будильника. Он обращался ко мне. Я хотел подняться, но ноги отчего-то стали ватными.
— Можете сидеть, — разрешила Штелльмайер.
— Над чем же вы так упорно тогда трудились? — спросил студент.
Я усмехнулся. Я чувствовал, как мои губы касаются век Делии. В таком состоянии мне было трудно открыть рот.
— Я вел дневник, — ответил я. — Иногда я писал для газеты. Не все успевал сделать в редакции, а дома работалось спокойнее.
— Но ведь ты пытался начать роман, — напомнила Делия.
Зачем она так?
— Ах, это…
Я громко рассмеялся. Теперь я испугался не на шутку. Ее парижские ресницы словно околдовали меня, а взгляд высасывал все соки. Я встряхнулся, прогоняя наваждение.
— Я действительно написал пару несвязанных фрагментов, так, в порядке эксперимента, — пояснил я, — но быстро покончил с сочинительством. Это было нечто вроде упражнения, разминки для пальцев…
Я говорил и говорил, сам себя не слушая. Наконец ресницы Делии отпустили меня. Похоже, я снова ей наскучил.
Раздался голос судьи:
— Еще есть вопросы?
Нависла пауза, и у меня появилась возможность перевести дыхание.
— Тогда мы отпускаем свидетельницу, — объявила Штелльмайер.
Краем глаза я видел, как Делия повернулась ко мне с поднятыми руками и победно сжала кулаки, выставив большие пальцы. Зацокали ее парижские шпильки, пробивая дырки в моем черепе, и вскоре все стихло. Дверь захлопнулась — еще одна между нами. Охранник, специализирующийся на надевании наручников, выполнил свою обязанность, и это удалось ему с первого раза.
25 глава
На четвертом письме с красными пятнами я осознал свое бессилие. Послание подстерегло меня исподтишка. Томас, мой несчастный защитник, вручил его мне, словно квитанцию, которую я должен был подписать, чтобы не нарушить порядка в его канцелярии. Томас выглядел таким несчастным, что я подмахнул бы ради него любую бумажку. Он проиграл этот процесс. Я выиграл его во имя высшей справедливости, о которой прокурор понятия не имел. До триумфа мне оставалось просидеть в зале суда всего несколько часов. А потом еще несколько дней в камере предварительного заключения.
— Это передал тебе охранник, — сказал Эрльт.
Увидев красные пятна, я немедленно смял письмо, однако успел заметить буквы «К. Л.», выведенные на конверте черными чернилами. Мой мозг словно прошибло током. Совпадение? Вероятно. Конечно, что же еще? Я сделал вид, будто успокоился. Расправив бумажку, убедился, что это инициалы отправителя. Под ними стояла приписка: «Ян, нам известно все».
Я вскочил, намереваясь выбежать из зала. Мне нужно было собраться с мыслями, чтобы не впасть в панику. Однако охранники снова толкнули меня в кресло.
— Уже началось, — произнес тот, который верил в появление снега в этом году.
Оказывается, он мог говорить.
«Мы знаем все», — бормотал я. Никто не реагировал, не ужасался. Прекрасный блеф! Отличная шутка! Кто-то издевался надо мной, и я не хотел портить ему игру. Я рассмеялся, словно разговаривал с невидимым собеседником. Сейчас меня развеселило мое робкое второе «я». Первое «я», участвовавшее в процессе, ничто уже не страшило. Все кончено. На лбу выступили капельки пота. Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Никто не знал об этом. Буквы «К. Л». — просто совпадение. Меня не интересует содержание письма.
Слово предоставили экспертам. Первым делал доклад специалист по баллистике и огнестрельному оружию. Он смотрел на меня дружелюбно. Для него убийцы являлись прежде всего хорошими стрелками, а потом уже плохими людьми.
— В середину правого желудочка! — восхищенно воскликнул он. — Смерть наступила мгновенно.
Последнюю фразу он произнес таким уважительным и радостным тоном, словно смерть совершила какое-то большое благодеяние.
Насколько вероятно вращательное движение пистолета на момент выстрела?
— Не исключено, — ответил эксперт.
На стене появилась собственноручно начерченная им диаграмма с несколькими баллистическими кривыми, возле каждой из которых стояла цифра со знаком процента — ее вероятность.
Видимо, подобные расчеты являлись для него скорее хобби, чем профессиональной обязанностью. Может, он занимался ими, пока его жена косила траву на участке перед домом или выносила пустые пивные бутылки.
— Когда ты, наконец, начнешь убирать за собой посуду, Карл! — кричала она.
А он отвечал ей:
— Разве ты не видишь, что я работаю, Хильда!
Итак, пока она, проклиная его, гремела бутылками, он вычерчивал свои баллистические кривые. И теперь имел право на этот доклад хотя бы потому, что они стоили ему немалых усилий. Собственно, эксперта не слушали. После моего признания никто не верил в неудавшееся самоубийство.
— Но ведь тот, кто сделал прицельный выстрел со столь короткого расстояния, заведомо рассчитывал на смерть своей жертвы? — спросила судья.
— Разумеется, — кивнул эксперт.
Он повесил еще парочку таблиц с расчетами и диаграммами, не оставившими у присяжных сомнений в том, что они имеют дело не с какими-нибудь там «телесными повреждениями, повлекшими за собой смертельный исход», а с убийством.
Во время выступления профессора Бенедикта Райтхофера, представлявшего психиатрическую и психологическую экспертизу, я снова отвлекся от происходящего в зале. Вспомнил Алекс и наши вылазки в горы. Мы оба сбились с дороги. Она остановилась где-то на полпути и собственноручно положила конец своим блужданиям. Я же ползал теперь по дну пропасти, в которую свалился. Сейчас, когда туман над моей головой рассеялся, я увидел, в какую ловушку угодил. Дух мой сломлен, и руки связаны, однако я пока жив. Еще несколько дней — и я останусь здесь навсегда, без всякой надежды когда-либо выбраться. Мне хотелось попросить у нее прощения, почувствовать ее руку в моей. Мне было стыдно, что я оставил ее. Но для двоих моя камера слишком тесна.
Райтхофер придал еще больше достоинства своему и без того солидному голосу и заговорил громче. Очевидно, он перешел к самой важной части своего выступления. Я узнал, что «в общем и целом» показатели моего интеллекта выше среднего. Я полностью владею своими умственными способностями. С психиатрической точки зрения я практически здоров и «не обнаруживаю никаких психических патологий, но лишь незначительное перевозбуждение». Он хвалил меня за «совершенно нормальный уровень потенциала конфликтности, в подобных случаях практически не встречающийся».
В моей биографии он не нашел «никаких признаков расстройства личности, а также намеков на параноидальные, шизофренические, шизоидные или маниакальные расстройства». На момент убийства мой мозг не проявлял «характерных признаков деградации, вызванных длительным употреблением тяжелых наркотических веществ или алкоголя», наблюдался разве что «синдром депрессивного состояния». Мое дружелюбие по отношению к окружающим можно рассматривать как «обратную сторону тяжелой формы меланхолии, питающейся…» Тут он вернулся к «двум формам агрессии, направленным вовнутрь и вовне», все объясняющим и ничего не значащим.
Комментируя убийство на почве ревности, он объявил, что «в основе этого поступка все же прощупываются сложные объяснительные модели из области судебной психиатрии, хотя мы и не можем утверждать с полной уверенностью, что именно заставило человека с таким интеллектом и характером его совершить».
Более жалкое объяснение трудно вообразить. Однако зал отблагодарил профессора овациями, и он ответил на них многочисленными поклонами. На некоторое время он стал здесь фигурой номер один.
Мне разрешили не покидать скамью подсудимых во время перерыва. Я хотел бы именно здесь дождаться приговора, хотя понимал, что такое невозможно. Впереди была целая ночь. Уставившись на ботинки, я считал дырки для шнурков. На моих их оказалось четырнадцать, а у моих охранников — только по двенадцать. Хотя не исключено, что я обсчитался. Потом, запустив два пальца в карман пиджака, я скомкал нераспечатанное письмо с припиской «Ян, нам известно все» на конверте.
Никто не мог этого знать. Я снова пересчитал дырки для шнурков. На моих ботинках их оказалось четырнадцать, а у моих охранников — только по двенадцать. Я оказался прав. Однако для полной уверенности не мешало проверить еще раз. А потом еще. Только после этого я успокоился. Я не ошибся. Никто не мог этого знать.
Как я себя чувствую? Это голос судьи. Все заняли свои места и теперь смотрели в мою сторону. Может, они о чем-нибудь спрашивали меня, а я не слышал.
— Прошу прощения, со мной все в порядке, — ответил я, не поднимая головы.
На свидетельской трибуне появился седой человек в белом пиджаке. Я его не знал и не хотел знать. Он чужой на процессе, ему здесь нечего делать. Кто пустил его сюда?
— Итак, вы доктор Сабо и имеете собственную практику, — обратилась к нему Штелльмайер.
Мужчина кивнул.
— И вы освобождены от врачебной тайны?
— Да.
— Вы знали Рольфа Лентца?
— Да.
— Насколько хорошо?
— Очень хорошо, — ответил Сабо, и в голосе его прозвучала боль. — Очень-очень хорошо.
Вероятно, доктор плохо себя чувствовал, а может, действительно любил своего пациента. Потом он повернулся в мою сторону. На меня смотрел человек без лица. Такие герои действуют в фильмах ужасов, постоянно разевая рот, чтобы продемонстрировать зрителям вампирские клыки, и сверкая красными глазами.
— Долгое время Лентц был моим пациентом, — начал доктор. — Он заразился восемь лет назад. Мы смогли бы отодвинуть роковой исход болезни на достаточно длительный срок, но Рольф не щадил себя. Прошлым летом он подхватил пневмонию, от которой так и не оправился. С тех пор летальный исход стал вопросом времени.
Я не верил ему. Такие серьезные люди не умеют врать. Как хороший лжец, я безошибочно распознал плохого.
— В последние недели перед смертью я находился при нем круглые сутки, — продолжил свидетель.
Я сжал зубы от негодования.
— День и ночь, — добавил он, перекрывая шум в зале.
Но публика разволновалась не на шутку. Я опустил голову. Пересчитав дырки для шнурков, я обнаружил, что их всего двенадцать. Две куда-то исчезли.
— У него была последняя стадия, — произнес Сабо. — Большую часть времени он не мог говорить. По ночам кричал от боли, вынуждая меня успокаивать его морфием. Если болезнь и давала ему передышки, то непродолжительные.
— Когда вы видели его в последний раз? — спросила судья.
— Вечером накануне его смерти. В тот день он воспрял духом. Такое случается с безнадежно больными. Все сопротивляются смерти, а Лентц был из числа самых непокорных. Он не желал оставаться в постели. Его тянуло на улицу, к приятелям. Он хотел еще раз показаться им: смотрите, я еще жив! Друзья, вы рано списали меня…
— Тогда почему вы не пошли с ним?
— Он запретил мне. Отправил меня домой, тем самым недвусмысленно изъявив желание прогуляться в одиночестве. Я не мог его не послушать. Воля покойного — закон, а Рольф был для меня уже мертв. Я знал, что эта ночь для него последняя. Но я никак не ожидал, что…
— Чего вы не ожидали?
— Что он погибнет насильственной смертью.
Вампир хрипло захихикал.
«Обман!» — мысленно закричал я. Но никто не заметил.
— Что вы скажете, господин Хайгерер? — спросила Штелльмайер.
Я? А что я могу? Ничего. Мне надо подумать, нельзя оставлять это вот так…
— Видимо, господин доктор кое в чем ошибается, госпожа судья, — ответил я, оставаясь в кресле, поскольку у меня закружилась голова. — Лентц не мог быть настолько плох. Ведь мы проводили с ним ежедневно много часов. И столько же времени он должен был посвящать своим любовникам. Из чего я заключаю, что мои подозрения несправедливы. Последние свои силы Рольф направил на то, чтобы скрыть от меня свои муки, и это несмотря на то, что я подозревал его в измене, считал себя обманутым и отвергнутым, ненависть моя к нему росла…
— Нет, господин Хайгерер! — оборвал меня Сабо.
Как он посмел? Почему никто не вмешался?
— Последние пять недель своей жизни Лентц не был способен ни на какие любовные отношения. Доказательство тому — его медицинские показания. У меня на руках все необходимые заключения. Я готов представить суду результаты анализа крови. Я уже говорил, что находился при нем день и ночь. Он не пускал к себе никого, кроме меня. Повторяю: никого!
Что я могу возразить ему? Ничего.
— У меня нет слов, — сказал я и, устыдившись своего ответа, добавил: — Меня дурачат. — И закрыл руками лицо.
— Давайте послушаем еще двух свидетелей, — предложила судья, — а затем предоставим слово вам, господин Хайгерер.
Последнюю фразу она произнесла, как мне показалось, с угрозой.
— Я убил Рольфа Лентца из ревности, — жалобно захныкал я. — Неужели вам так трудно мне поверить? Почему бы не остановиться и не дать мне возможность искупить свою вину?
26 глава
— Итак, вы приглашены на заседание суда в качестве свидетельницы и вам есть что сказать по нашему делу?
— Да.
— Как вас зовут?
— Анке Лир.
Анке Лир. Отправительница первого письма в красных пятнах.
— Нет! — закричал я и рванулся к Штелльмайер. — Протестую! Я даю отвод этой свидетельнице, госпожа судья! Все это несущественно и давно уже не имеет ко мне никакого отношения, мы теряем время…
— Господин Хайгерер, прошу вас занять свое место, чтобы мы могли продолжить заседание, — сказала Штелльмайер. — Или вам нужен перерыв?
— Нет, только не перерыв…
Мой адвокат Томас повел меня, точно слепого, на скамью подсудимых. Я опустился в кресло между двумя истуканами в форме и принялся считать дырки для шнурков. Четырнадцать. Их снова оказалось четырнадцать. Я не ошибся.
— Художница-акционистка, — произнес певучий голос свидетельницы.
Фиолетовый цвет ее платья гармонировал с желтыми волосами. Взгляд, исполненный солнечного света и воздуха, был сладким, как йогурт. Она смотрела на мир с нежностью, которой тот не заслуживал, и принадлежала к числу женщин, в которых расчетливость сочетается с сумасшествием. Такие похожи одновременно на пай-девочек и законченных наркоманок. Как можно верить этой свидетельнице?
Разумеется, она знала человека в красной куртке. Насколько хорошо?
— Очень хорошо. Он был нам как брат.
— Нам?
— Мы всегда держались втроем.
Кто же третий?
Я понял и усмехнулся, чтобы в очередной раз не потерять сознание. Все уставились на меня. Вероятно, в моей улыбке было что-то истерическое.
— Мне назвать имя? — уточнила она.
Может, мне действительно рухнуть в обморок? Неужели весь этот театр абсурда тоже подошьют к делу?
— Энгельберт Ауэршталь, — ответила свидетельница.
Автор третьего письма в красных пятнах.
— Это второй вызванный на сегодня свидетель, — заметила судья.
Я поднял руку и попросил сделать небольшой перерыв. В туалете я напрасно пытался привести свои мысли в порядок. Трудно что-нибудь придумать, когда действуешь в одиночку против всех.
Где Хелена? Она единственная видела меня ползающим по дну пропасти. Она одна сопровождала меня пусть даже и на незначительном участке предназначенного мне пути. Почему же ее нет рядом сейчас, когда я лежу на спине, как жук, и болтаю лапками в ожидании порыва ветра, который мне поможет? Я снова пересчитал дырки для шнурков. Их было двенадцать или четырнадцать. Я убедил себя в том, что мне все равно. Тюремный врач дал мне успокоительное.
Вместе они реализовали пять авангардистских проектов, сказала она. А началось все с того, что Рольф подцепил вирус и стал искать в Интернете помощников для создания «необычного произведения искусства на тему ухода человека из жизни». Анке Лир, бывшая больничная сиделка, и Энгельберт Ауэршталь, свободный художник-график, откликнулись на его предложение. Они назвали свой проект «Вольный каменщик смерти». Целью его было представить заключительные стадии неизлечимой болезни в произведениях перформанса.
— Он решил рассказать о своих муках, чтобы научиться лучше справляться с ними. Бесчеловечной природе он противопоставил энергию искусства. Нам понравилась его идея, и мы загорелись, — продолжила Анке Лир.
До такого не додумался ни один автор издательства «Эрфос». Слава богу, я не депрессивный тип!
Последний проект заканчивался в день его смерти.
— Что он подразумевал? — спросила судья.
— Его освобождение, спасение и убийство, — ответила Анке.
Мне показалось, по залу пробежала дрожь, словно зрители находились вокруг эпицентра небольшого землетрясения. Я чувствовал, как мои вены взрываются.
— Если публика не успокоится, мы будем вынуждены очистить помещение, — обиженно повторял Хельмут Хель.
— Вы знаете подсудимого? — продолжила допрос судья.
— Лично нет. Только по переписке.
Она достала из своей джутовой сумки желтую папку и положила ее на свидетельскую трибуну.
— Мне рассказать о нашем проекте?
«Нет», — мысленно прошептал я.
— Разумеется, — кивнула Штелльмайер.
— В августе Рольф заболел тяжелой формой пневмонии. Результаты анализа крови оказались катастрофическими. При помощи лекарств его жизнь можно было продлить не более чем на несколько недель, а он не желал медленно угасать. Рольф решил сразу положить всему конец, но ему казалось трусостью уйти из жизни, наглотавшись таблеток. Он задумал сделать из своей смерти перформанс. Так появилась идея умереть от чужой руки, причем отодвинув роковой момент как можно дальше. Рольф говорил об «искусстве освобождения», которое должно было совсем ненадолго опередить естественную смерть. Он хотел уйти из жизни открыто, на глазах у публики. Так появилась «Сцена 5», наш последний проект из серии «Вольный каменщик смерти».
Он дал три объявления в газету «Культурвельт», разместил информацию в Интернете. Эти вырезки я, должно быть, и видел во втором письме с красными пятнами.
— Мне зачитать? — спросила свидетельница.
Я хотел выразить протест, но у меня сорвался голос. Я помнил первый отрывок: «Ищем исполнителя главной роли. Время дорого». Второй: «Мужество живо. Искусство живо. Театр жив. Все это придает смерти смысл». Третий: «Моя жизнь убегает от меня, твоя течет мимо тебя. Давай встретимся где-нибудь посредине и разойдемся, довольные. Ты решительно ринешься навстречу себе. Я украдкой ускользну от себя. Искусство будет нашим союзником: тебе спасителем, мне освободителем».
Анке Лир понесла тексты судье. Проходя мимо скамьи подсудимых, она бросила в мою сторону свой солнечный взгляд, который ожег меня, словно крапива.
— Что же произошло дальше? — поинтересовалась судья.
— Он откликнулся на объявление.
Я почувствовал, как ее направленный на меня указательный палец вонзается мне в живот. Я был просто не в состоянии пошевелиться. Руки окоченели, в горле пересохло. Не в силах сопротивляться, я покорно внимал ее словам. Потом опустил голову и пересчитал дырочки для шнурков. Тринадцать. Ложь. Все ложь. За что мне это?
Вскоре зазвучал другой, более низкий голос. Значит, говорил Энгельберт Ауэршталь. Такие мужчины пристают к прохожим на улице, предлагая показать самую короткую дорогу к Господу, с которым они знакомы лично. «Нет, спасибо», — шепотом ответил я ему. Разумеется, этого никто не услышал.
Этот блондин всем понравился. Голос его звучал мягко. Речь текла сплошным, профессионально отрегулированным потоком. Компьютерная распечатка договора со смертью свисала вдоль светлых льняных брюк до самых охряно-желтых ботинок из мягкой кожи. Ему позволили зачитать ее. Никто не остановил его. Он окончательно одурманил суд своим враньем.
17 сентября, 22:19. Ян Хайгерер — Рольфу Лентцу: «Ваши объявления в газете пробудили мой журналистский интерес. Прошу вас выслать более подробную информацию».
22:37. Рольф Лентц — Яну Хайгереру: «Я ВИЧ-инфицирован и умираю. Мне остались считаные недели. Помоги мне. Освободи меня. Избавь меня».
22:45. Ян Хайгерер — Рольфу Лентцу: «Вы сумасшедший? Что вы такое пишете? Я поставлю в известность экстренную социальную службу. Опомнитесь!»
22:47. Рольф Лентц — Яну Хайгереру: «Да, я сумасшедший. Боль отняла у меня разум. Неизвестный Ян, мой ангел-хранитель, стань для меня экстренной службой! Помоги мне. Напиши мне. Выслушай. Останься со мной. Услышь мое сердце. Давай встретимся и покончим с этим. Исполни мое последнее желание».
И так далее. Целую неделю мы переписывались по электронной почте. Он рассказывал мне о своей беде, я ему — о своем монотонном, мучительном и безболезненном существовании. Я пытался отговорить его, ободрить. Но чем больше узнавал о его несчастной жизни, тем менее безумной представлялась мне его затея.
«Вы застали меня не в лучшее время, — писал я. — Повседневность схватила меня за горло. Мне нечем дышать. Я хочу наслаждаться жизнью. Что ни неделя — слушание в суде. Я один из тех смешных репортеров, которые пытаются описать внутренний мир убийцы. На самом деле герои моих очерков — обыкновенные граждане, вроде меня. Может, я только и делаю, что пишу о самом себе, о журналисте, которому надо рассказать о преступниках. Мы всегда говорим лишь о собственных чувствах и подгоняем факты под свою правду, так что в конце концов они не выдерживают. Да, я таков. Зритель с галерки. Я никогда не играл на сцене, там, где живут».
Автор этого текста должен был изучить меня насквозь.
Получалось, что это Рольф Лентц выбрал меня.
4 октября, 1:26. Ян Хайгерер — Рольфу Лентцу: «Как вы себя чувствуете? Не лучше ли было нам встретиться у вас дома и обсудить подробности нашего дела? Обещаю, что не оставлю вас умирать в одиночестве. Но если вы и сегодня повторите, что все еще хотите этого, если в этом действительно состоит ваше самое заветное и последнее желание, то я, Ян Хайгерер, готов его выполнить».
4 октября, 5:11. Рольф Лентц — Яну Хайгереру: «Боли в груди и суставах сводят меня с ума. Дорогой друг, я пишу почти вслепую. Я не в состоянии открыть глаза, которые больше не выносят земного света. Освободи меня! Ты должен. Поторопись, друг, время дорого. Пистолет ты получишь завтра вместе с почтой. Сможешь ли ты его зарядить? Это просто, я приложу схему. Там будет три патрона, хотя тебе хватит и одного. В баре у Боба. Я знаю там каждый угол. Мои друзья подробно описали мне зал. Там есть маленький столик в темной нише, где ты будешь совершенно один. И оттуда всего 2:35 метра до входной двери, которая хорошо просматривается…»
Я взглянул в сторону присяжных, стараясь отвлечься от этого кошмара. Женщина, напомнившая мне мою мать, снова склонила голову. Итак, она опять расчувствовалась, в глазах у нее блестели слезы. Она подмигнула мне. Ей было стыдно, что она думала обо мне плохо. Как она могла!
Студент снял свои никелированные очки и протер стекла рукавом рубахи. Надев их, он уставился на свидетеля Энгельберта Ауэршталя. Его глаза сузились, а взгляд стал подозрительным. Он был скептиком и видел больше других. Заметил, что я его разглядываю. Мы улыбнулись друг другу. Меня поразило выражение его лица. Такому не надо никого лишать жизни, чтобы знать, что чувствует убийца. Не то что мне!
17 октября, 3:16. Рольф Лентц — Яну Хайгереру: «Мой друг, я больше не могу. Мы должны сделать все сегодня. Мой врач не отходит от меня, но он ничего не понимает. Он лишь наблюдает агонию моего тела. Сейчас он сделает мне очередную инъекцию, чтобы я мог протянуть еще немного, а потом я выйду на свою последнюю прогулку.
Ты дождешься меня в баре, как мы и договорились. Положишь перед собой шерстяную перчатку со спрятанным в нее пистолетом.
Сделай все, как я написал. Ни у кого не должно возникнуть подозрения. Я войду в бар в 23:50. Ты не пропустишь меня, стенные часы будут висеть у тебя перед глазами. А мои друзья позаботятся о том, чтобы никто другой в это время не встал между нами.
Когда я нажму на дверную ручку, ты начнешь считать. На счет „раз“ дверь приоткроется. На „два“ ты увидишь темные мужские ботинки. На „три“ — голубые джинсы. На „четыре“ — мою красную куртку. Этого достаточно, друг. Потом ты можешь зажмуриться. Сверху будет падать тень от балки. Но мое лицо тебе не нужно, у меня его нет. Далее ты выпустишь смерть. Ты освободишь меня. В существовании любой травинки этой осенью больше смысла, чем в моем. Я прожил тоскливую жизнь. Ты избавишь меня от нее.
Ты сожмешь указательный палец и почувствуешь легкое сопротивление. На счет „пять“ надавишь на рычажок. До моего освобождения всего несколько миллиметров. Это так просто! Ты согнешь палец — и я там, наверху. Одним движением прогонишь мою боль. Это такая игра. Ты принесешь мне счастье. Спустишь курок и забудешь мое имя. Ты просто освободил человека в красной куртке. Сделал для меня (и для себя!) больше, чем кто-либо для другого на этой земле».
В перерыве на меня, воскресшего, с новой силой набросились фотографы. Самые ловкие репортеры уже задавали вопросы. Их интересовало, как я себя чувствую и что за странная оборонительная тактика — симулировать неудавшееся самоубийство. Рассчитываю ли я на условное наказание? Вернусь ли в газету «Культурвельт»? Они повторяли ужасные слова, сами того не замечая.
— Что вы скажете, господин Хайгерер?
Это уже официально. И это не судья. Ко мне обращалась телеведущая. Судя по голосу, она только что поздравила меня с выигрышем в «Лото-миллион». Что мне сказать? Нечего.
— Что мне отвечать, госпожа судья? — обратился я к Штелльмайер.
— Вам ничего не приходит в голову, господин Хайгерер? — усмехнулась та.
Ее правая рука лежала на папке с поддельными документами. Лицо сияло от счастья. Я нравился ей. И моя реакция на вопрос телеведущей пришлась ей по душе. Такие скромники редко играют в «Лото-миллион».
Другой неудачник, сидевший слева позади меня, тоже искал утешения.
— Прокуратура рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела против свидетелей Анке Лир и Энгельберта Ауэршталя по статье 77 Уголовного кодекса «Убийство по просьбе жертвы», — пробурчал Реле.
Внезапно я вспомнил о своем защитнике Томасе, который тоже превратился в маленького героя. Он совсем сошел с ума и высказался за мое немедленное освобождение из-под стражи. Я принялся возражать.
Публика смеялась. Она больше не воспринимала меня всерьез. А я улыбался, подыгрывая ей.
После короткого совещания мне объявили, что на данный момент я свободен. Я расхохотался во весь голос. Никто не понял, что таким образом я стараюсь заглушить свое отчаяние. Ведь завтра предстоял последний день слушаний, с заключительными речами прокурора и адвоката и приговором.
Есть ли у кого-нибудь вопросы? Конечно! Здесь только один умник, который видит больше других. Вот он поправил свои никелированные очки и поинтересовался у свидетелей, почему они сказали всю правду лишь сейчас? Они ответили, что таково было желание Рольфа: никто не должен знать о проекте «Вольный каменщик смерти». Поначалу они не сомневались, что я обо всем рассказал еще в полиции. Однако позднее, прочитав в газетах о моей попытке взвалить на себя вину за убийство из ревности, решили открыть тайну, так как это могло бы способствовать смягчению приговора.
— Вы все еще утверждаете, что ничего не знали о болезни Рольфа Лентца? — обратился ко мне студент.
— Я настаиваю на этом, — ответил я.
У меня хорошо получилось. Удалось зафиксировать взгляд, сохраняя серьезную мину. Даже очкарик не засмеялся. Я снискал себе популярность в качестве артиста разговорного жанра.
Мой верный охранник явился в камеру, когда совсем стемнело. Он отпер дверь, чтобы выпустить затхлый воздух моего пятимесячного заключения, и испугался, не увидев меня.
— Вы здесь, Хайгерер? — спросил он.
— Да, наверное, задремал, пакуя вещи, — солгал я. — Можно мне остаться тут на ночь?
— Не хотите уходить? — Он покачал головой.
— Я хотел бы сейчас побыть один, — объяснил я.
— В самом деле?
— Если позволите.
Он разрешил. Дверь захлопнулась. Я лег на пол и перевернулся на спину. Я никогда больше не встану. Я — мертвый жук.
27 глава
Внезапно я снова обнаружил себя в зале заседаний, словно матрос с потерпевшего крушение корабля, которого волнами вынесло на берег. Охранники последний раз усадили меня на скамью подсудимых. Я воспринимал их скорее как приятелей, с которыми пережил тяжелые времена. Впрочем, в этом плане никаких улучшений не предвиделось.
Оголенные запястья болели. Сегодня мои «друзья», похоже, забыли взять наручники. Не исключено также, что они их просто потеряли или сломали. Теперь они гордились мной. Прикасались ко мне без отвращения, потому что я не был голубым. Что-то говорили мне, видимо, о погоде. Я не слушал. Меня ничто не интересовало в этом зале. Судебное расследование завершено. Все поверили в мою невиновность и благородство. Я не знал, кто это все подстроил. Я вообще не был способен ясно мыслить. Чувствовал себя жуком, который лежит на спине и уже перестал болтать лапками.
Откуда-то сзади донесся печальный голос Зигфрида Реле, завершающего свое итоговое выступление. Он извинился, что неверно понимал обстоятельства моего преступления, одновременно предупреждая об опасности новых ошибок. Попросил присяжных не упускать из виду психологический момент.
— Подсудимый Хайгерер, — говорил Реле, — сам ощущает себя убийцей. Он осознает, что совершил тяжкое злодеяние. Может показаться смешным то упорство, с каким он отвергает болезнь своей жертвы, но разве это не лучшее доказательство того, что совесть его нечиста?
Ни один из присяжных не кивнул ему в знак согласия. Студент в никелированных очках улыбнулся мне. Я опустил голову.
Реле поблагодарил нацию, республику, суд, Уголовный кодекс и соответствующие его параграфы. Выразил удовлетворение тем, что дело мое, наконец, прояснилось и теперь мне ставится в вину самое легкое из убийств — «по просьбе жертвы».
— Но это тоже серьезное преступление, — заметил прокурор. — Представьте, что каждый будет стрелять в безнадежно больного, выполняя желание, которое тот высказал в минуту невыносимых мучений. В кого тогда мы превратимся?
Я кивнул, посочувствовав ему. Он выполнил свою работу лучше, чем могло показаться на первый взгляд. Сумел распознать добро и зло, хотя в сложившейся ситуации это не имело никакого значения.
— Перехожу к вопросу о мере пресечения, — произнес прокурор умоляющим тоном.
Однако после этой фразы в его словах прозвучала строгость. Словно у него снова отросла борода. Он напомнил, что для таких «человеколюбивых убийц», как я, законом предусмотрен срок тюремного заключения от шести месяцев до пяти лет. Реле попросил присяжных, невзирая на все смягчающие обстоятельства, не назначать мне минимального наказания.
— Нужно продемонстрировать общественности, что лишение человека жизни не может быть оправдано никакими мотивами, как бы благородны они ни казались.
И я с ним согласился.
Поднялся мой адвокат Томас.
— Я буду краток, — пообещал он. — Вчера у каждого из нас камень упал с души. Да что там камень? Целая глыба…
Неудачная игра слов. Зато теперь я надежно погребен под этими булыжниками.
— Мы чувствовали, что мой подзащитный не способен на жестокое убийство.
Почти все закивали. Очкарик усмехнулся.
— Одно время и я проникся состраданием к неизвестному мне смертельно больному акционисту, — заверил Томас.
Он убеждал публику, что я воспринимал их перформанс всерьез. Выполняя волю умирающего, стал участником спектакля. Не исключено, что мой защитник сам верил в то, что говорил.
— Мой клиент явился своего рода инструментом дистанционной эвтаназии, — продолжил Эрльт. — Фактически он убил мертвого. И только позднее он осознал, что произошло.
Видимо, в последнее время Томас читал плохие детективы. Уж лучше бы занимался своей недвижимостью.
— Отсюда острое чувство вины. Все это нам разъяснил наш высокочтимый эксперт, профессор психиатрии Райтхофер, — солгал Томас.
Итак, я чувствую себя убийцей и хочу понести наказание.
— В определенном смысле мой подзащитный до сих пор находится в шоке, — произнес Эрльт. — Это объясняет и его странное поведение в суде. Он рассказывал нам фантастические истории о гомосексуализме и убийстве из ревности, чтобы вы, господа присяжные, дали ему возможность искупить свою вину. Помогите ему простить самого себя, — умолял Томас. — Я призываю вас проявить милосердие и приговорить моего подзащитного к минимальному сроку.
Адвокат полагал, что в моем случае вполне можно обойтись и условным наказанием. Как мой официальный защитник, он должен поддерживать меня.
— Мой клиент достаточно отсидел в тюрьме за попытку помочь человеку.
Похоже, адвоката я выбрал все-таки неудачно.
— Позвольте ему вернуться домой, насладиться весной. Верните ему свободу!
Итак, в тот момент я должен был думать о весне, цветущей сирени и аромате пионов. До меня донеслись всхлипывания. Кто-то горько рыдал. Плач становился все громче, пока, наконец, я не сообразил, что он исходит от меня. Охранник, уже не надеявшийся на появление снега в этом году, сунул мне в руку носовой платок. Вскоре объявили перерыв. Все ушли, оставив меня одного. И в этом вся моя весна, моя свобода. Меня предоставили самому себе, дав возможность и дальше опускаться на дно.
— Господин Хайгерер, ваше последнее слово, — обратилась ко мне Аннелизе Штелльмайер.
— В таком случае я благодарю каждого за его работу, — произнес я. — Мне неловко оттого, что доставил вам столько хлопот.
В зале кто-то рассмеялся. Кто ему разрешил? В таком случае я не скажу больше ни слова. Просто буду ждать решения присяжных.
— Означает ли это, что вы согласны с мнением вашего защитника господина Эрльта?
Ей не следовало меня об этом спрашивать.
— Нет, госпожа судья, — ответил я.
Я сам удивился силе своего голоса, когда закричал:
— Это означает «нет»! Это ничего не означает! Я не могу с ним согласиться!
Я решительно сжал кулаки в карманах пиджака. Последние дерганья мертвого жука. Левая рука нащупывала мокрый платок. Правая — жесткую бумагу. Я вспомнил о нераспечатанном письме. Ксавер Лоренц? Не может быть, это совпадение. Я насчитал двенадцать отверстий для шнурков. Каждый из наших ботинок, моих и моих охранников, имел по двенадцать дырочек. Нет, я не ошибся. О Ксавере Лоренце никому не известно, кроме меня. Никто, кроме меня, не знает правды.
— Я совершил умышленное убийство совершенно незнакомого мне человека, — услышал я собственный голос. Почему публика смеется? Кто им разрешил? — Я имею право на заслуженное наказание.
— У вас все, господин Хайгерер? — спросила судья.
— Я могу это доказать!
Наконец-то они смолкли. Неужели я только что признался им, что могу все доказать?
— Дайте мне два часа времени, — закончил я.
Что я такое говорю? Ведь это означает выдать тайну, погубить все дело. Но я не могу спокойно молчать, думая о весне там, снаружи…
— Господин Хайгерер, я прошу вас избавить нас…
— Два часа, госпожа судья. Я прошу у вас лишь два часа.
Хельмут Хель выразил протест. Ему и без того оставалось два шага до пенсии. Илона Шмидль согласилась. Она не могла придумать себе более интересного занятия, чем сидеть в суде. Сегодня ее губная помада гармонировала с цветом платья. Большинство присяжных высказались против. Мужчина с массивной цепью ненавидел затянувшиеся фильмы. Женщина, похожая на мою мать, сочувственно склонила голову набок. Она не хотела лишиться такого счастливого конца. И только юный очкарик не стал возражать.
— Что нам эти два часа? — спросил он, позволив мне представить обещанные доказательства.
Мы улыбнулись друг другу, как сообщники.
Томас был против. Из-за меня он вынужден перенести осмотр квартиры. Кроме того, он должен сопровождать меня в вылазке в город. «Я плохой водитель», — признался адвокат. Я предвидел это. Может, нам удастся заодно приобрести для него дезодорант. Только ради этого имело смысл выехать в город.
Я прикрыл глаза, потому что их слепило солнце. Как можно терпеть такое изо дня в день?
На улицах много людей. Все они спешат по своим делам. Некоторые так и живут. Они делают это нарочно. Автомобильный радиоприемник сообщает дорожные новости. Впереди пробка, как обычно. Пространство перегружено. Я застегнул страховочный ремень. Томас — нервный водитель. На свободе все люди таковы. Ремень обеспечит мне безопасность.
— Зачем нам в аэропорт? — поинтересовался он.
До сих пор мы разговаривали мало. Адвокат немного боялся предстоящих сюрпризов. Он предпочел бы и сегодня день напролет улаживать свои дела, как и все.
Вероятно, ему пришло в голову, что я собираюсь бежать, а он помогает мне. Томас уже обвинял себя в сообщничестве.
— Это займет несколько минут, — успокоил я.
Мы почти подружились. Между нами было убийство, больше ничего.
Вскоре мы припарковались. Я открыл глаза. Мы вошли в здание аэропорта. Вокруг находились люди, которые улетали отдыхать от дел или улаживать их. И те, и другие экономили время. Неподалеку от камеры хранения стоял синий автомат, о котором я часто думал в тюрьме. Он напомнил мне мою камеру. Мне захотелось снова надеть наручники. Я скучал по своему гнездышку на дне пропасти.
Томас отстал от меня на несколько шагов, чтобы, если мне вдруг вздумается взорвать бомбу, иметь шанс уйти живым. Я нажал зеленую кнопку и набрал код. Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. 26. 08. 98. Это нельзя забыть. Именно в тот день вахтер из газеты «Культурвельт» сообщил, что ко мне пришла женщина. А потом возникла Делия, принадлежавшая иному миру, и прошептала: «Ян, я здесь для того, чтобы сказать тебе, что я от тебя ухожу». «Почему?» — удивился я. «Потому», — ответила она.
26.08.98. Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Незабываемо. После обеда я получил последнее отказное письмо от издателя. В тот день кончилось время основной игры. Мне больше ничего не оставалось делать в той жизни. Именно тогда у меня родилась безумная идея. Она стала началом моего перформанса.
Синий автомат выплюнул карточку. Таким образом он дал мне ключ от моей ячейки. Осужденных на пожизненное заключение при благоприятных обстоятельствах освобождают через двадцать лет. Это мое дополнительное время, ради которого я все и затевал. То самое, госпожа судья. То самое, господа присяжные и уважаемый суд.
— Еще немного, — утешал я Томаса.
Мой адвокат нервно слонялся из стороны в сторону. Он не мог понять, чем я занимаюсь, однако мой уверенный вид успокаивал его, и он радовался, что дело продвигается быстро. Шестая ячейка снизу в четырнадцатом ряду. Я сразу нашел ее. Правой рукой открыл дверь. Просунув вовнутрь левую, вытащил оттуда небольшой пакет. Он оказался подозрительно легким. Я принялся ощупывать его и вскоре убедился, что того, что мне нужно, там нет.
Ячейка была пуста. Невероятно! Я побежал к дежурному по залу, я протестовал. Ошибка исключена, заверил меня он. Я закричал. Томас пытался успокоить меня. Сбежались люди. Мы снова пошли к дежурному. Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Этого не знал никто. Но в ячейке ничего нет! Я прислонился к стене, теряя равновесие. Томас поддерживал меня. Он вспотел.
— Ему нужно сесть, — произнес незнакомый голос.
— Он теряет сознание! — воскликнул кто-то.
— Принесите стакан воды.
— Мужчине плохо.
— Он хочет лечь на спину.
— Может, вызвать врача?
Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Меня ограбили. Вокруг меня топтались чьи-то ноги.
— У меня всего лишь закружилась голова, — объяснил я.
Меня предали.
— Нет-нет, не надо «Скорую». Только стакан воды.
Передо мной возник человек в красной куртке. Он закрыл мне глаза большими пальцами рук.
Ячейка оказалась пуста. Ради чего он умер?
— Все в порядке? — поинтересовался Томас.
Я сидел в машине. Там, за окнами, моя свобода слепила глаза нестерпимо яркими огнями.
28 глава
Тюремные врачи понятия не имели, кто ограбил мою ячейку. Однако у них нашлись хорошие лекарства, благодаря которым мне снова удалось забыть о весне и свободе. Давление, вероятно, опять поднялось. Бог знает, отчего, почему и насколько. Мне надо было полежать. Я не мог ничего пропустить. Пока присяжные решали мою участь, я не имел возможности повлиять на них. Я вообще не распоряжался больше своей жизнью. Волнение утихло, наступила апатия.
На пути из аэропорта мы с Томасом заключили соглашение. Я дал ему слово успокоиться. Он, в свою очередь, пообещал передать суду от моего имени, что я застрелил человека в красной куртке вовсе не из сострадания, я самый настоящий убийца, и на последнем заседании подкупленные свидетели представили фальшивые доказательства. У меня не было никакой переписки с жертвой. Я вообще не знал Рольфа Лентца. Наконец, что я не гей и ни к кому не ревновал его. Я солгал суду, потому что не мог уйти безнаказанным.
Я убил незнакомого мне человека. Почему? Ответ выкрали из моей ячейки в камере хранения.
Кому был известен код? Никто его не знал. Я обманут высшими инстанциями. Я бы и так все объяснил, но сейчас сил у меня хватало лишь на то, чтобы сосредоточиться на отдельных моментах моей истории. Я вспомнил о письме. «Конверт с красными пятнами», — очевидно, пробормотал я.
— Что за конверт? Какие пятна? — спросил человек в белом, державший в поднятой руке шприц.
— В моем пиджаке лежит письмо, — объяснил я.
Мне тут же его принесли. На конверте стояли инициалы К. Л. Ксавер Лоренц? Этого никто не мог знать. Я разорвал конверт, вытащил из него маленькую записку и протянул ее человеку в белом, который сделал мне укол. Пусть читает, он же врач!
— «Ян, ты должен начать все сначала, но не в тюрьме, — услышал я слова доктора. — Ты не Ксавер Лоренц, а Ян Хайгерер. Тебе только сорок три, впереди половина жизни. Прекращай играть!»
— Ксавер Лоренц? — переспросил я.
— Ксавер Лоренц, — повторил доктор, убедившись, что не ошибся. — Кто он?
Голос его звучал равнодушно.
— Этого никто не мог знать, — бормотал я.
Код неизвестен никому, кроме меня. Даже Делии, о которой напоминают мне эти цифры. Для нее не существовало даты нашей разлуки. Слишком много чести для какого-то редактора!
Человек в белом положил мне на руку лоб.
— Жар прошел, — заметил он.
Уже совсем стемнело, когда адвокат Томас явился за мной в кабинет врача.
— Готово, — объявил он.
Он волновался, как ребенок перед первым причастием. Капли пота у него на пальцах напоминали растаявший воск.
Мы шли слушать приговор. Человек в белом следовал за нами. Оба они поддерживали меня, потому что сам я не стоял на ногах. Скоро Томас снова сможет спокойно заниматься своей недвижимостью. Он ничего не говорил, но я чувствовал, как он молча умоляет меня не подвести его. Я должен держать себя в руках. Никаких обмороков и новых признаний. Никаких поездок в аэропорт и пустых ячеек в камере хранения. Никаких срывов!
В зале заседаний все было очень мило. Пахло дешевой парфюмерией и вполне сносными дезодорантами. Помещение озарял неоновый свет, как на телестудии. Мы были в эфире. Как репортер я неоднократно присутствовал на объявлении приговора. Мероприятие походило на оглашение конечного счета спортивного состязания и раздачу призов. К противостоянию добра и зла оно не имело отношения.
Я опустился на скамью подсудимых. Охранники стали чуть поодаль. Мы приветливо помахали друг другу руками. Мне не хватало их и наручников. Сидевший рядом со мной врач взял меня за запястье, стараясь нащупать пульс. Напрасно. Моя рука оставалась безжизненна, как тело мертвого жука.
— Прошу внимания, дамы и господа, — произнесла Аннелизе Штелльмайер. — Именем Республики мы объявляем приговор. Передаю слово председателю коллегии присяжных.
Поднялся студент в никелированных очках. В руках он держал бумагу.
— Первый главный вопрос состоит в том, застрелил ли Ян Руфус Хайгерер Рольфа Лентца семнадцатого февраля прошлого года в баре из личных соображений, то есть можно ли классифицировать его действие как умышленное убийство?
Возникла пауза. Молодой человек поднял голову и, поймав мою улыбку, решительно провозгласил:
— «Да» — один голос.
Он произнес фразу так, чтобы я понял: это был его голос. Я уже собирался поблагодарить студента, но тот продолжил, теперь уже будто с иронией:
— «Нет» — семь голосов.
Я проиграл с разгромным счетом.
— Второй главный вопрос: застрелил ли Ян Руфус Хайгерер Рольфа Лентца семнадцатого февраля прошлого года в баре по его же собственной настоятельной просьбе, то есть можно ли классифицировать его поступок как убийство по желанию жертвы?
По залу пронесся шепот. Собственно, ответ на вопрос уже был дан, но почему бы не посмотреть красивый гол еще раз, в замедленной съемке?
— Семь голосов: «да»; один: «нет».
Тут, как это бывает на матчах, зрители разразились бурными овациями. Аплодисменты на заседаниях суда строго запрещены. Пронести меня на плечах по залу они тоже не могли, как бы им того ни хотелось. Хельмут Хель мужественно восстал против беспорядка.
— Если публика не успокоится, мы будем вынуждены немедленно очистить помещение, — прошипел он, собрав в этой фразе всю злобу и на свою работу, и на человечество в целом.
Не исключено, что для таких случаев он держал наготове баллончик слезоточивого газа.
Судья Штелльмайер, глубоко тронутая словами председателя коллегии присяжных, приготовилась объявить конечный результат:
— Итак, Ян Руфус Хайгерер за убийство по желанию жертвы приговаривается к лишению свободы сроком на шесть месяцев. Согласно параграфу 23 Уголовного кодекса наказание назначается условно с испытательным сроком на три года. Условно, — подчеркнула она, сделав паузу.
Это означало, что я свободен. Человек в белом халате снова взял меня за запястье. Он ничего не мог там нащупать. Но я улыбался ему, а это было каким-никаким признаком жизни.
Потом судья в строгой юридической форме рассказала о том, каким хорошим человеком я оставался даже в момент убийства. В этом и состояло мое так называемое смягчающее обстоятельство. Я улыбался. Наибольшей моей силой и слабостью было соответствовать ожиданиям. На этот раз я действительно «превзошел самого себя», как говорят о спортсменах. Я встал и поклонился. Благодарная аудитория себя не помнила от восторга. Некоторые визжали, словно хотели что-то получить от меня персонально: не то пропитанный моим потом носовой платок, не то благословение. Почему я не был Хельмутом Хелем, презирающим, осыпающим их всех искрами своего праведного гнева?
— Господин Хайгерер, вам понятен приговор? — обратилась ко мне судья.
Она буквально захлебывалась от счастья.
— Да, — кивнул я.
И Штелльмайер повторила еще раз, что я осужден условно, то есть как бы наказан, но оставлен на свободе. Мне всего лишь нужно не совершать подобных преступлений в течение трех лет, иначе эти шесть месяцев добавятся к новому наказанию.
Под конец она посоветовала мне в случае, если я захочу обжаловать приговор и подать апелляционную жалобу, обратиться к своему адвокату. Я повернулся к Томасу и прочитал в его глазах слезную просьбу не делать этого.
— Я принимаю приговор, — ответил я.
Закон бессилен против апатии. Даже прокурор не стал возражать. Он оказался бесхарактерным, из тех, кто в итоге принимает сторону победителя.
— Как вы собираетесь дальше справляться со своими проблемами, господин Хайгерер? — поинтересовалась Штелльмайер.
Вероятно, это был самый лучший ее вопрос за время слушаний, даже если он и прозвучал несколько цинично.
— У меня много друзей, — солгал я.
Ей понравились мои слова.
— Я настоятельно советую вам воспользоваться услугами профессиональной психологической помощи, — сказала судья. — Вам следует проработать этот травматический опыт. Вы должны избавиться от неоправданной строгости к самому себе, научиться прощать себя.
Она растрогалась до слез.
— Буду стремиться к этому, — кивнул я, чтобы скорее закончить разговор.
— Надеюсь, вскоре снова увидеть вас здесь в качестве судебного репортера, — добавила Штелльмайер.
Славная женщина, она не почувствовала, как гадко это прозвучало. Я улыбался.
— Судебные слушания объявляю закрытыми, — провозгласила Штелльмайер.
Зал разразился аплодисментами. Никто не протестовал. Очевидно, Хельмут Хель уже вышел на пенсию.
В последующие часы я давал интервью, подставляя свою кровоточащую душу рентгеновским лучам СМИ. Я не уставал повторять, что обязан освобождением замечательному адвокату, — который сейчас сиял, словно светлячок, развалившись перед камерами, — и справедливому суду. На все вопросы, начинающиеся со слова «почему» и касающиеся моего признания, я реагировал бессмысленной улыбкой. Каждый журналист интерпретировал ее по-своему, поэтому я удовлетворил их всех. В этом состояло наше своего рода негласное соглашение.
Вскоре появился служитель здания и объявил, что пора закрывать зал. Даже врач устал щупать мой пульс. Друзья, которые любили меня за то, что я стал знаменитым и успешным и ловко выкрутился на суде, хлопали меня по плечу, желали всего хорошего и угрожали скорейшими свиданиями за кофе и пивом в том или ином заведении на свободе.
Томас поинтересовался, что он еще может для меня сделать.
— Ничего, спасибо, — ответил я, — теперь все будет нормально.
Мне стало жаль его. Теперь ему предстояло, как и всем, снова изо дня в день улаживать свои проблемы. Когда меня, наконец, оставили в покое, я тоже пошел. Куда? Я знал лишь одну дорогу, и она вела в камеру, но на нее я только что потерял право. Меня лишили моего места лишения свободы. Тем самым меня, убийцу, довели до последней стадии апатии.
В тюремном корпусе меня поджидал сюрприз в лице молодого председателя коллегии присяжных. Мы холодно пожали друг другу руки. Его звали Михаэль Фабиан, и он работал учителем в школе для трудновоспитуемых подростков.
— Я верю вам и считаю вас убийцей, — сказал он.
— Знаю, — произнес я, — но какое это имеет теперь значение?
Не улыбнувшись на мои слова, он поинтересовался, зачем я сделал это.
— Слишком поздно, — ответил я. — Я был готов обнародовать свой план и тем самым поставить на нем крест. Однако кто-то выкрал из ячейки в камере хранения мои вещественные доказательства.
— Выкрал? — удивился он. — Кто же?
Мне показалось, что он прекрасно знает ответ на данный вопрос. Однако я сразу понял, что ошибся. Он работал учителем в школе для трудновоспитуемых подростков и был хорошим человеком. И он в отличие от меня сохранял способность мыслить логически. В этом состояло его преимущество.
— Похоже, кто-то узнал код, — предположил я и добавил: — Что в принципе невозможно.
— Вы никому его не сообщали?
Я покачал головой:
— Я действовал в одиночку.
— Уверены?
Нет лучшего вопроса, чтобы заставить человека засомневаться. Тем не менее я кивнул.
— Кто мог быть заинтересован в том, чтобы уничтожить ваши доказательства?
— Никто.
— Точно?
Черт возьми, я просто убежден в том, что теперь это не имеет никакого значения!
— А кто устроил спектакль с убийством по просьбе жертвы? Откуда взялись свидетели? Кто состряпал переписку по электронной почте? — продолжил допытываться он.
Михаэль Фабиан задавал сложные вопросы. Я не знал, с какого конца мне подобраться к решению загадки. В хорошем детективном романе мы с ним, дружно взявшись за дело, распутали бы этот клубок.
— Мне пора, — сказал я.
На прощание он крепко пожал мне руку.
— Мне кажется, я догадываюсь, что хранилось в той ячейке, — заметил он.
— Вряд ли вы ошибаетесь, — проговорил я.
Никто из нас ни разу не улыбнулся. Мы уважали друг друга.
Охранник отпер дверь моей камеры. Он дал мне пару часов, чтобы проститься с местом моего предварительного заключения. Я лег на спину, наблюдая, как поток воздуха из вентиляционного отверстия под моей кроватью гоняет похожие на сахарную вату пыльные комки. Я думал о том, как мне пережить вторую стадию моей апатии, и вдруг заметил на полу что-то белое. Предмет показался мне знакомым, хотя я не мог вспомнить, что бы это могло быть.
Я полез под кровать и достал оттуда разорванную салфетку, которая провела на моей подушке не одну ночь. Наверное, она незаметно слетела, а я со временем забыл о ней и о послании, которое было на ней написано. «Бразилия».
Я вдруг понял все. И любой врач зафиксировал бы у меня сейчас появление пульса. Одной свидетельницы на суде не хватало. Она одна не участвовала в спектакле и проигнорировала процесс. Юная Беатриче, официантка из бара Боба. Это она была той миниатюрной шатенкой, что беседовала с моей чемпионкой по прыжкам в воду. Это у нее, маленькой черноволосой официантки, я, в стельку пьяный, провел вторую ночь после убийства.
Осторожный стук в дверь прервал мои размышления. В замке повернулся ключ, лязгнул засов. На пороге появилась еще одна фигура, принадлежащая промежутку между моим навсегда похороненным прошлым и несуществующим будущим. Словно актеры выходили на поклон один за другим по окончании спектакля.
Это был господин Вильфрид, бескровный Граф, охранник из третьего корпуса. Он провожал меня к Хелене, когда та еще не опустила руки в отчаянных попытках спасти меня.
— Вы готовы? Можно ехать? — спросил он.
Я не смог сдержать смех. Это напоминало мне «Лесного царя» Гёте или пьесу Гуго фон Гофмансталя «Имярек». Сама смерть является за главным героем — излюбленный прием многих лишенных воображения романистов и драматургов. Граф действительно походил на посланца ада. И скоро кони, погоняемые его безжалостной плеткой, умчат меня сквозь ночь и ветер в царство дьявола. Ужасное клише! Это ли не лучшее доказательство тому, каким провальным романтическим героем я был?
Разумеется, я последовал за ним. Сейчас я готов был выполнить любой приказ. У меня не осталось дел, которые нужно улаживать. Моя дальнейшая жизнь не нуждалась в моем участии. И появление Графа свидетельствовало о том, что я вплотную приблизился к заслуженному концу.
Мы покинули тюрьму через черный ход. Несколько дождевых капель упало мне на затылок и лоб. Они были холодными и навевали мысли о плохой весне. Я устроился в ожидавшей меня машине. Граф сел за руль, и автомобиль медленно тронулся с места.
— Куда мы едем? — спросил я, нарушив молчание.
Он не ответил, потому что знал, что я уже обо всем догадался. Меня ожидало прекрасное путешествие! Свобода за окном больше ничего не значила. И дождь барабанил по крыше.
29 глава
Граф проводил меня до двери. На этом, видимо, его миссия заканчивалась. Я охотно дал бы ему на чай, но боялся обидеть. Ведь он — человек чести.
— Госпожа Зеленич в отъезде, — сообщил мой провожатый, отпирая дверь. — Квартира в вашем распоряжении. Кровать застелена, подготовлены чистые полотенца, холодильник полон, есть что почитать. Отдыхайте.
Он передал мне ключ. Я не мог принять его.
— Закройте дверь снаружи, — попросил я.
— Но ведь вы не заключенный, — возразил он, — и я не вправе лишать вас законной свободы.
Граф сунул ключ в замок изнутри и захлопнул дверь, оставив меня в прихожей цвета золотой осени. Я лег на мягкий ковер и попытался заплакать.
Хелена знала, что когда-нибудь я захочу послушать Жака Оффенбаха. Под коробкой с диском я обнаружил первое письмо. Я не испугался. Кроваво-красные буквы хорошо накладывались в моем сознании на эту музыку. Я мысленно подготовился к разгадке мучащей меня тайны.
«Дорогой Ян, это пишет Беатриче, твоя знакомая официантка. Пришло время открыть тебе мой секрет, который, собственно, является твоим. Ты сам мне обо всем рассказал! Помнишь вторую ночь после убийства? Ты сидел в нашем баре. Был пьян и в полном отчаянии. Я пожалела тебя. Ты бился головой о стол и почти не помнил себя. Я не могла тебя бросить.
Боб помог мне поставить тебя на ноги, и я потащила тебя к себе домой. По дороге ты постоянно бормотал о Бразилии. Спросил меня, поехала бы я с тобой туда? Бразилия. Бразилия. Бразилия. И так без конца. Ты показался мне милым, когда то смеялся, то плакал в моих объятиях. Ты был чертовски пьян.
Я положила тебя на диван. Ты бредил. А потом начал повторять числа. Постоянно одно и то же. Два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь. Я спрашивала тебя, что они означают? В ответ ты бормотал что-то невнятное про человека в красной куртке. И вдруг: „Код. Тайный код. Ячейка в камере хранения. Ключ к убийству. Это сделал я. Это я стрелял“. И тому подобные странные фразы. А вскоре снова: два-шесть-ноль-восемь-девять-восемь.
Я записала. Видимо, сработал инстинкт. Я и не подозревала, какую роль они сыграют в дальнейшем.
Я никогда не верила, что ты способен на зло. Меня шокировало известие о твоем аресте. Все мы считали его ужасным недоразумением.
А потом я связалась со следователем. Хелена оказалась удивительной женщиной. Мне кажется, она любит тебя. Я рассказала ей обо всем. Мы проговорили о тебе несколько часов подряд. И теперь мне известна, к примеру, твоя история с Делией. И я знаю, как ты мучился, работая журналистом.
Я послала тебе салфетку с надписью „Бразилия“, чтобы хоть ненадолго отвлечь от грустных мыслей.
Через несколько недель я опять встретилась с Хеленой в ее кабинете. Следователь выглядела серьезной и даже удрученной. Она спросила меня, хочу ли я, чтобы ты получил пожизненный срок? Я пришла в ужас. „Нет, конечно, нет“, — ответила я. „Даже если он действительно совершил умышленное убийство?“ — продолжала она. „Даже в этом случае“, — подтвердила я. Я не считала тебя плохим человеком, что бы ты там ни натворил.
Хелена вздохнула с облегчением. Она рассказала мне, как все было на самом деле. Она нашла ячейку и все прочитала. Теперь мы с ней знали, почему ты это сделал. Но не понимали, что это: болезнь, сумасшествие или нечто иное.
Поступай как знаешь. Хелена говорит, что ты можешь выдать нашу тайну и добиться повторного расследования. Снова сесть в тюрьму, наконец. Я рискнула.
Вот такая, Ян, вышла у нас история. Захватывающая, не правда ли? Я никому не рассказывала о ней. Я верю в тебя. Было бы здорово как-нибудь увидеться, и совсем не обязательно в Бразилии. На то она и свобода! Твоя Беатриче».
В горле у меня пересохло. Его надо было чем-нибудь смочить. Полная бутылка виски цвета багровой осенней листвы уже манила меня с верхней полки буфета. Рядом с ней я обнаружил записку со строгим предупреждением: «Сначала Оффенбах!»
Я обрадовался. Разумеется, я должен вести себя хорошо: сначала музыка, потом виски. Второе письмо оказалось под бутылкой. Я ожидал увидеть в нем продолжение первого. Налив рюмку, я устроился на диване и погрузился в чтение.
«Мой милый Ян, это Хелена. Мне жаль, что я разрушила твои планы. Я понимаю, какое серьезное преступление совершила. Сфабриковала доказательства, подделала документы и подкупила свидетелей, вынудив их лгать. Я больше не имею права работать юристом. Поэтому я решила сменить профессию. С тех самых пор, как ты появился в моей жизни, я потеряла способность различать добро и зло.
Юная официантка Беатриче открыла мне большую тайну.
Я набирала твой код в разных камерах хранения, пока наконец не дошла до аэропорта. Только там автомат выдал мне ключ. Я вытащила бумаги из ячейки и просмотрела их в электричке. Ночи напролет размышляла о том, что же мне делать. Я могла объявить тебя преступником, предоставив тебе тем самым „время дополнительной игры“, как ты это называешь, и наблюдать, как ты медленно угасаешь за решеткой, осужденный на пожизненный срок. Это оказалось выше моих сил, Ян. Ты слишком мне дорог.
Был и второй вариант действий. Замалчивать настоящий мотив убийства, направив следствие по ложному пути. Тем самым я „подарила“ бы тебе от пятнадцати до двадцати лет тюрьмы, которые не принесли бы никакой пользы, потому что ты и не думал раскаиваться. Ты ведь хотел стать бессмертным и превратить свое поражение в победу! Но и этого я бы не вынесла. Ты не Ксавер Лоренц, ты — Ян Хайгерер.
Оставалась третья возможность — убийство по просьбе жертвы. Рольф Лентц был наркоманом, конченым типом. Но он не болел. Это я приписала ему СПИД. Доктора Сабо я знаю с детства как любовника своей матери. В определенном смысле он ее у меня отнял, поэтому чувствует себя виноватым передо мной. Разумеется, его я посвятила в твою историю.
Собственно, он один из многих, кто не верил в то, что ты убийца. Мне удалось уговорить его помочь тебе незаконными средствами. Он подделал бланки с результатами анализов и медицинские заключения и выдал себя за лечащего врача Лентца. Сделал его ВИЧ-инфицированным на последней стадии болезни. Я завербовала в наши ряды и кузину Лентца, Марию, пообещав ей финансовую поддержку. Она мало общалась с братом. Чтобы подтвердить нашу версию, мы наняли и других свидетелей из окружения твоей жертвы.
С Анке Лир и Энгельбертом Ауэршталем — под их настоящими именами — я познакомилась через Интернет. Сейчас там имеется посвященная тебе страничка. Тебя чествуют как мученика, почти боготворят! Ты стал культовой фигурой, Ян! Мне удалось выйти на связь с этими двумя. Они на все были готовы, чтобы освободить тебя из тюрьмы.
За несколько ночей мы сфабриковали переписку между тобой и Рольфом Лентцем и зарегистрировали на вас почтовые ящики в Интернете. Письма в конвертах с красными пятнами — тоже наших рук дело. Мы же напечатали и вклеили в них объявления из газет. Это было рискованно, но мы надеялись, что проверять никому не придет в голову. Мы часами напролет готовили выступления свидетелей, пока, наконец, все не сошлось.
Нам без проблем удалось склонить суд к нашей версии. Аннелизе Штелльмайер, Бенедикт Райтхофер и почти все присяжные приняли ее с благодарностью. Никто не видел и не желал видеть в тебе убийцу. Зигфрид Реле оказался бессилен. Ты же выглядел воплощенным страданием. Никто не поверил твоей правде. После твоих признаний каждый считал своим долгом защитить тебя от самого себя.
Итак, зачем все это, Ян? Почему я выгораживала убийцу? Не думай, что я делала это ради себя или „нас“. Только ради тебя! Действовала ли я против твоей воли? Нет, разве что вопреки Ксаверу Лоренцу. Лишь на свободе ты сможешь осознать, насколько сумасшедшей была твоя затея. В том, чего нельзя исправить, можно раскаяться. Подумай об этом, Ян!
И еще. На кухонном столе ты найдешь содержимое твоей ячейки. Твое жизнеописание, или исповедь, если угодно. Делай с этим, что хочешь. Исполни задуманное или уничтожь все свидетельства. Принеси Яна Хайгерера в жертву Ксаверу Лоренцу или забудь о Ксавере Лоренце, чтобы Ян Хайгерер начал все сначала. Если выберешь второй путь, можешь на меня рассчитывать.
Ну а сейчас разрешаю тебе налить еще. Ведь твоя рюмка пуста, не так ли?»
30 глава
Я выключил музыку, вылил рюмку виски в раковину, налил себе стакан воды и сел за кухонный стол, словно собираясь просмотреть материал перед началом выступления. Я должен прочитать это вслух и внимательно себя выслушать. Сейчас я сам себе и профессор, и аудитория, а это моя заключительная лекция. Я прощаюсь с собой, на сей раз окончательно. К счастью, я не депрессивный тип.
Сверху лежали письма из крупнейших немецких издательств. Четырнадцать листочков, аккуратно скрепленных степлером, как я и оставлял. Когда-то я распределил их на четыре группы, в зависимости от мотивировки отклонения. Я выбрал по одному письму из каждой группы.
Первую я определил как «категорические отказы». «Уважаемый господин Лоренц, мы с интересом прочитали вашу рукопись, однако вынуждены сообщить, что, к сожалению, она не вписывается в планы нашего издательства».
Ко второй группе принадлежали так называемые трусливые письма. «Глубокоуважаемый господин Ксавер Лоренц! За этим именем скрывается несомненный писательский талант. Советуем вам начать с какого-нибудь небольшого издательства у себя на родине, так вы сможете сделать себе имя. Не будем скрывать, что для новичка ваше предложение представляется нам слишком смелым».
Третья категория объединяла отклонения «из соображений морали». «Глубокоуважаемый автор, отдавая должное вашему языку, вынуждены сообщить, что ваш роман кажется нам слишком циничным и противоречащим нормам этики, к тому же совершенно нереалистичным. Ничего подобного у нас никогда не издавалось».
Четвертая группа состояла из одного-единственного письма, которое я получил 26.08.98, через несколько часов после того, как меня покинула Делия. Я глотнул воды. По крайней мере, сюжет мне удался.
«Уважаемый господин Ксавер Лоренц, или кто там вы на самом деле! Я нахожу не слишком оригинальной манеру прятаться за спину героя повествования. Таким образом, вы сами становитесь частью своей фантастической рукописи.
Мне необходимо немедленно лететь в Бостон, однако я нашел время дать вам подробный ответ. В ближайшие несколько лет я буду пропагандировать в США литературу. А сейчас хочу сказать вам то, чему, помимо всего прочего, собираюсь учить американскую молодежь: никогда не пишите о том, чего не знаете! Это первый смертный грех беллетриста. Хорошую книгу надо прожить. Только действительно великие романисты могут писать о том, чего не видели собственными глазами. Простите меня, господин Лоренц, но вы не из таких. А потому придерживайтесь фактов, которые наблюдаете в повседневности.
Вы внимательны, вам удаются описания. Вы демонстрируете прекрасное владение языком. Если ограничите повествование рамками жизненных реалий, обязательно найдете своего читателя. И прошу вас, забудьте о великом психологическом романе!
Ксавер Лоренц — это вы сами: отличный писатель, чувствительный человек, честный парень, приветливый коллега, вероятно, хороший семьянин. Ксавер Лоренц не может быть убийцей! Фантазия сыграла с вами злую шутку. Вам не удался этот трюк, что видно из каждой строчки. Господин Лоренц, ваша книга ни о чем. Проницательный читатель не купится на ваши штучки. Ваша история должна выглядеть правдоподобной. Она же совершенно невероятна. В ней не хватает вас самого. Вы слишком хороши для нее.
Позвольте дать совет. Отложите эту рукопись и возьмитесь за что-нибудь другое, желательно повеселее. Бросьте фантазировать, опишите свою жизнь. У вас получится! Надеюсь, я не разочаровал вас».
Отложив письмо в сторону, я взял рукопись. Она лежала в фирменном желто-коричневом пакете книжного магазина Делии. Я чувствовал ее немалый вес. Выброси я сейчас ее в окно, она могла бы покалечить человека. Несчастный рухнул бы в мгновенье ока, ударившись головой о бетонный край тротуара. Или, если бы ему удалось вовремя отскочить в сторону, выбежал бы на дорогу прямо под колеса встречного автомобиля. Не исключено, что во втором случае погибли бы несколько человек. Такие рукописи опасны. Они, как выразился один плохой журналист, «бомбы замедленного действия».
Отложив орудие убийства в толстом картонном переплете в сторону, я взял следующую папку, которую оставил в ячейке в тройном слое бумаги. Это был эпилог романа и моя главная улика. Я развернул ее и углубился в чтение.
«Меня зовут Ян Хайгерер. Я убил человека. Пока только в своем воображении, но это не делает мое преступление менее тяжким. Время ведет со мной запутанную игру. Оно гонит меня, принуждая следовать своей судьбе. Настоящее ко мне беспощадно. С усилием нажимая на клавиши, я ставлю дату: „двадцать шестое августа девяносто восьмого года“. Сегодня неудачный день. Только что навсегда захлопнулась дверь за той, ради которой я жил. Рядом со мной лежит последнее отказное письмо из издательства. Роман, составляющий смысл моего существования, отвергли. Я потерял все, и тут ничего не поделаешь.
Вы находитесь в моем будущем, поэтому этот документ можно считать предисловием. Если вы его читаете, значит, со дня убийства прошло не менее двадцати лет. Это было мое дополнительное игровое время. Наверное, я уже искупил свою вину. Надеюсь, я страдал. Хотя уверен, что мучился недостаточно.
Никакое наказание не может уничтожить моего преступления. Сделанного не исправишь. Речь лишь о том, что задуманное нужно довести до конца. Может, вы еще помните тот процесс: убийство без мотива, Ян Хайгерер застрелил незнакомого ему человека.
Но вернемся в настоящее. Ян Хайгерер безобиден. Он не в состоянии причинить зла никому, кроме себя. Именно поэтому он и убил незнакомца. Все уже позади. Он успел написать об этом.
А теперь давайте отправимся в мое прошлое, еще на три года назад. Именно в то время я начал эту книгу. Тогда я создал Ксавера Лоренца. Он был хорошим, отзывчивым человеком, совершенно не агрессивным. Все любили его. Но однажды он бросил гранату в прохожих на улице. Погибла пожилая женщина. Почему? Он не хочет об этом говорить.
А теперь мы вернемся в мое настоящее.
26.08.98. Сегодня я получил последний отказ на свою рукопись. Я больше не буду беспокоить издателей. Хорошую книгу нужно прожить, так учат в Бостоне. Я последую этому совету и проживу свой роман. Заплачу за все. И через двадцать лет, когда передо мной снова откроются ворота тюрьмы, я переработаю рукопись. Вдохну в нее жизнь. Свою жизнь и свое убийство.
Давайте же, уважаемый читатель, опять перенесемся в будущее.
Итак, два десятка лет назад я, Ян Хайгерер, застрелил совершенно незнакомого мне человека. Наугад, без ненависти, страха, колебаний и угрызений совести. Почему? Потому. Ответ вы держите в руках».
31 глава
Сейчас я выпью еще виски. Прямо из бутылки, как показывают в плохих фильмах, когда за несколько секунд герою нужно напиться в стельку. У напитка вкус травяного чая. Не исключено, что Хелена каким-то образом выпарила спирт. Сейчас я ей позвоню и буду жаловаться. Номер своего телефона она оставила на последней странице моих мемуаров. «Я жду твоего звонка. Хелена», — написала она ниже.
И вот я у аппарата. Мы поговорили о новых облегченных сортах виски и прочих прелестях жизни. Язык у меня заплетался. Видимо, немного алкоголя в бутылке все же оставалось. Смешно, но, как выяснилось, Хелена никуда не уезжала. Она находилась в квартире своей подруги, в доме за углом. Я заметил, что не хотел бы так осложнять ей жизнь. Она ответила, что все нормально.
Как мои дела? Я и сам не знаю. Трудно оценить сразу. Пожалуй, мне нужен кто-нибудь, кто бы мне в этом помог. Раньше в мире существовали только Хелена и я. Теперь меня нет. «Звучит не так плохо», — заметила она.
Хелена по-прежнему само очарование. Ее рыжие локоны сияли мне через отверстия телефонной трубки.
В любом случае, сказал я, хорошо, что мои вещи снова у меня. «Нет ли в квартире зажигалки?» — спросил как бы невзначай. Но Хелене сразу понравилась идея сжечь вещественные доказательства. «Это лучше, чем выбросить рукопись в окно», — заявила она. Однако действительно надо было что-то делать. Я понимал, что признание в убийстве не может лежать на кухонном столе целую вечность. В противном случае оно становится неправдоподобным. А этого с меня достаточно!
Что же мне предпринять? Я терялся в догадках. Не мог принять решение самостоятельно. Но пока в этой квартире царила осень, уходить отсюда я не хотел. «Может, заказать тебе пиццу?» — предложила Хелена. Я не понял ее вопроса. Вот если бы угощение мне принес господин Граф. Но что делать рассыльному из пиццерии в моем романе? Вероятно, Хелена тоже была под хмельком.
— Как долго я могу здесь жить? — поинтересовался я.
— Оставайся навсегда, если хочешь, — ответила она.
Звучало прекрасно, но срок слишком долгий. Может, мне следует сообщить о своем местонахождении в прокуратуру? Идея не понравилась Хелене. Я должен забыть о Реле. Пожалуй, это будет нетрудно. Сейчас мне почему-то хотелось чем-нибудь усложнить себе жизнь.
— Я не слишком побеспокою тебя, если зайду завтра утром? — спросила Хелена.
Она? Побеспокоит? Но это ее квартира! Там, где у нормальных людей обычно бьется сердце, что-то затрепыхалось. Тем не менее я задумался, как бы смешно это ни звучало.
— Ты не помешаешь мне, наоборот, — произнес я.
Я повесил трубку лишь на следующее утро. Нам было о чем поговорить. В середине беседы мне пришла в голову достойная заключительная фраза.
— Хелена, ты когда-нибудь была в Бразилии? — поинтересовался я, терпеливо дождавшись прощания.
В издательском доме «Эрфос» я перечеркивал подобные концовки даже у самых известных авторов. Но я не был больше ни редактором, ни писателем, ни заключенным, ни свободным гражданином. Я чувствовал себя убийцей, которого осень взяла на поруки. Поэтому повторил свой вопрос.
— Пока нет, — ответила Хелена.
И я нашел эту фразу удачной.