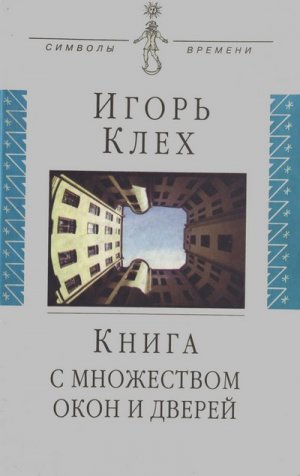
Игорь Клех
Книга с множеством окон и дверей
О ЦЕЛЯХ
ПИСЬМА ПУШКИНА КАК ИСТОЧНИК
А. Битову
Напрашивается вопрос: чего? Трудно ответить. Просто — источник, ключ.
Есть лицемеры, требующие не лезть в частную жизнь Пушкина, желающие сохранить это право за собой, подобно акционерам анонимного ТОО (т. е., в случае краха отвечающие только своей долей вклада, но не всей полнотой достояния). Сколько в этом разумного охранительства и сколько привилегированной спеси, пусть решит каждый для себя. Потомки недолго раздумывали, прежде чем запустить свой нос в переписку поэта. Со смертью поэта жизнь его и все, поддающееся документированию в ней, автоматически становится общим достоянием всех оставшихся в живых, — и то, что было в высшей степени предосудительным и доводило поэта до бешенства, когда в его переписке гостил нос почтмейстера Булгакова, III-го отделения и двух русских царей, последовательно, — все это естественным и само собой разумеющимся образом уже спустя одно поколение перестает быть предосудительным для распоследнего читателя, только вчера утвердившегося на задних конечностях. И так и должно быть. Это прекрасно понимал Пушкин, который, в противном случае позаботился бы о большей своей бесследности в русской истории, — вплоть до уничтожения бумаг, подобно Гоголю. В юридически более зрелых обществах вопрос с письмами разрешается так, что письмо является имуществом адресата, но интеллектуальной собственностью отправителя, и на него распространяется действие авторского права еще на пятьдесят лет после смерти последнего. Режим более чем щадящий.
Вот уже двести лет как натянута гигантская птицеловная сеть для уловления той порхающей стаи, что зовется у нас «Пушкин». Почему столь неодолимо притягательной для русского человека оказалась, в частности, личная жизнь Пушкина? Почему даже поморский простолюдин, а то и крестьянин, на своем цокающем наречии слагали травестийно-мелодраматические, истинно комические сказания на темы перипетий судьбы Пушкина? Ответ очень прост. Но лучше начать издалека. Отвечать будет Джойс.
Затевая своего «Улисса», Джойс лукаво, как змий, допрашивал в цюрихских кафе собутыльников: какого исторического героя, какой мужской характер назовут они, который обладал бы полнотой человеческих воплощений и характеристик? И сам отвечал, — рядом с Одиссеем поставить некого.
Ахилл — герой, Александр — завоеватель, Моисей — законодатель, Христос — Учитель, — но все богатство и разнообразие человеческих мужских ипостасей и ролей пересекается более всего в личности царя Итаки, в его судьбе. Он и воин, и изобретатель, и скиталец, и сын, и отец, и муж, и любовник, и нищий, и мститель, и царь, — не уклоняющийся по пути домой ни от одного из испытаний и вызовов судьбы, дерзко и мужественно играющий с нею.
Другого спектра, но подобная полнота в наиболее выраженном виде в русском мире встречается именно в личности Пушкина. Плюс еще одно: ОН ТОТ «ОДИССЕЙ», КОТОРЫЙ ПРИ ЭТОМ ОКАЗАЛСЯ БЫ ЕЩЕ И СОБСТВЕННЫМ «ГОМЕРОМ». Или иначе: если представить его сочинения в виде «Илиады», то, пока им составлялась и записывалась эта книга, сама жизнь написала еще и его «Одиссею», мерой искусства часто не уступающую первой, и вскоре разнесенную рапсодами и офенями по самым удаленным уголкам огромной страны, — или российской ойкумены, что то ж. Жизнь Пушкина оказалась построена по законам искусства, что позволило ей так глубоко проникнуть в ткани отечественной исторической жизни, — достигнув ее хтонических оснований, нечто выведать у судьбы, заговорив в слове игру определяющих ее ход стихий. Его поэтический подвиг дал русским опору в самих себе, — в глубине собственного духа. Конечно, за такие вещи надо платить. То, за что не заплачено, превращается при свете дня, как «золото фей», в мусор и труху.
В жизни американского и других протестанских сообществ — в школах, на ТВ, в судах — немало времени уделяется чему-то вроде прикладной этики, — разбирательству и обсуждению непростых и амбивалентных жизненных ситуаций на конкретных примерах. Подобной сколько-нибудь заметной практики, если не считать школьных уроков литературы, у нас не было и нет. Сколь блаженны потому ученики, учителя, домохозяйки, на свой страх и риск соприкоснувшиеся с личной жизнью Пушкина, начавшие в ней «копаться», — пусть из самых случайных, неясных и даже сомнительных побуждений, — в жизни несовершенной, грешной, внутренне противоречивой, и все же столь адогматичной, исторически проявленной, полнокровной, ориентированной на свободу и просветление человеческой природы, — превзошедшей обстоятельства и претворившей дряблую участь в мускулистую судьбу. Допущенный внутрь сознания, попросту говоря, полюбленный Пушкин способен стать стимулом и компенсацией за нашу малую способность к творчеству, за ослабленный или дезориентированный жизненный инстинкт. Конкретнее.
Жизнь Пушкина вбрасывает нас сразу в роковой треугольник меж трех царей: это Царь-Пушкин — «пушки с пристани палят, кораблю пристать велят», — «веселое», громкое, артиллерийское имя (а ведь «пушка с ядрами» заключает в себе еще и эротический фаллический смысл, — прости, читатель!..), имя, будто долгожданный пароль, пробудившее от тяжкого дневного сна Россию, растормошившее и разогревшее ее;
в отличие от спящей царевны Натальи, — этимологически: Природы, Натуры, — к тому же Гончаровой, с Полотняного Завода, с талией, как горлышко кувшина, бывшей «первой красавицею России», балолюбивой и слегка косенькой, — т. е. глядящейся в себя, — рослее Пушкина;
под стать ей был только третий из царей, — собственно царь, Император Николай, танцор в сапожищах, прагматик. Как для императора, впрочем, ума у него было довольно, — не повесить пятерых декабристов на одной перекладине он просто не мог. Кто утверждает обратное, не смыслит ничего ни в царствовании, ни в истории, — не только российской.
Производя Пушкина в камер-юнкеры, император пытался закрепить за собой главенствующее положение Отца, чтоб обеспечить себе «право первого танца» с Натальей Николаевной. Но об этом позже.
Строго говоря, царем Пушкин не был. Т. е. он был «царем», но власть его простиралась не над протяженностью пространств, подобно императорской, а над сохранностью времени, подобно власти чародея, волхва, «кудесника», — и без исполнения этой роли не могло существовать ни одно племя, а позднее царство, ибо они лишались поддержки небес, — в предельном случае, солнце для этого племени и царства просто не всходило.
Конечно, Пушкин никакой не чародей, не маг, — но «чародей», «жрец», «Пушкин», даже, прости Господи, «комиссар» — все это разного уровня попытки именовать как-то исполнителей важнейшей в обществе функции, обеспечивающей существование его во времени, придающей ему минимальную длительность и связность, — т. е. надежду.
«Разгадчик великих тайн, царь над страстями», — говаривал Пушкину молодой из ранних философ Веневитинов. Пушкин немедленно сбегал и, стряхивая наваждение, садился писать письмо другу, что-то в таком духе: «Законная п…а — род теплой шапки с ушами».
И все же отмеченная нами царственность своего рода тройственного антагонистического союза не может не привораживать любопытствующей мысли читателя. Особенно, когда, как в мелодраме, в треугольник проникает «злодей», «измена», и все, наконец, разрешается поединком. И современник записывает: «Закатилось солнце России».
Но где та пучина, из которой оно поднялось?
Разные «Пушкины» у разных народов. Наш — целиком из XVIII века, полгода, которые он успел в нем прожить, определили в его судьбе невероятно много, — вплоть до гибели на поединке.
XVIII век в России не был поверхностным, скорее — грубо, утрировано сюрреальным. Его государственно-культурные постройки производят впечатление классицистского дворца, упирающегося массивными мраморными колоннами прямо в подмороженный грунт Азии. Любая оттепель, любой тектонический сдвиг (вроде пугачевского возмущения) представляют для такого здания немалую опасность.
Стилистически это могло выглядеть так:
«Бибиков собрал у себя дворянство и произнес умную и сильную речь, в которой, изобразив настоящее бедствие и попечения правительства о пресечении оного, обратился к сословию, которое вместе с правительством обречено было на гибель крамолою, и требовал действие от его усердия к отечеству и верности престолу». Уф!..
Или несколько лучше: «В сей крайности Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастия оружия».
Так мог Пушкин писать еще в 1834 году, — в том же считай году, в котором он говорил Далю (в совместной их поездке в Берды): «Надо бы сделать так, чтоб научиться говорить по-русски и не в сказке…»
На Пушкина легла непосильная для одного лица задача: разморозить схватившиеся языковые глыбы XVIII века, эти мерзлые комья, чтобы почва оттаяла и напиталась влагой, и начала плодоносить, а «здание» не поехало при этом куда-то в овраг, — задача гармонизации оснований российской имперской и русской национальной жизни, где четырнадцать классов, три «штиля», сколько-то народов и сословий сцеплены были в наибольшей степени силой трения, — совокупным весом и государственным волением, нежели чем-либо еще. Казенный, т. е. «ничей» язык может и годится для временного согласия строителей вавилонских башен, но только язык (и необязательно «словесный»), проникающий до сердца и до сокровенного в уме, открывает возможность связи людей по существу. Задача наверняка была бы выполнена и без Пушкина — в ходе затянувшейся трудовой повинности, поповичами и бастардами, — но исчезло бы это очарование всплеска молодых сил, уместности и ошеломительной своевременности цветения, созревания и сбора плодов всего за один сезонный цикл, на протяжении одной, к тому же оказавшейся недолгой, человеческой жизни.
Понятно, что Пушкин при этом решал в первую очередь свои проблемы, — он просто обладал счастливым даром погружать их в контекст целого, целомудрием, умением выходить на начала и концы, теряющиеся в нерезкости, — т. е. памятью, органической, о Божьем замысле. Так мне кажется…
Пушкин просто заговорил по-русски (то, что впоследствии Якобсон назвал «поэзией грамматики»: голос, дыхание, горло, — и способ ориентации в мире), — «не велеть ли кобылку запречь?», или такого рода coda: «Куда ж нам плыть?» (а читатель уже «плывет») — на какой язык это можно перевести? И зачем?
Голос поэта оказался столь же непоседлив в пределах русского универсума, как и его носитель в рамках государственных границ, «намотавший» по России без железных дорог, как кто-то подсчитал 30 тысяч верст (словно муха в сосуде, бьющаяся о его стенки).
Человек, решающий подобную задачу, должен остро чувствовать свежесть повседневного и странность обычного в жизни и языке. Как бы находясь на границе двух сред, такой человек всегда должен быть несколько ино-странен, не-от-мирен, экс-центричен, всегда слегка не совпадать «по фазе» со своими современниками и соплеменниками. Таковы в своих странах Шекспир, Гете, Данте, Сервантес, таков и Пушкин в России — афро-галло-русс. Точнее, таковым он являлся поначалу. Привой африканского темперамента присажен был к подвою столь же неукрощенного русского характера, часто невнятного для самого себя, непросветленного. И так образовалась гремучая смесь, — не раз в ранние годы повергавшая Пушкина в состояния беспричинной и беспредметной «тоски и бешенства», — смесь, которой назначено было пройти мучительную дрессуру у галльского картезианско-куртуазного ума, а шире — у всего XVIII века Просвещения, озабоченного, прежде всего, самопостроением человеческих характеров. И самое удивительное, что подобная мюнхгаузеновская практика вытаскивания себя за косицу из болота долгое время приносила плоды. Появились русские характеры никогда не встречавшиеся ни до, ни после того. Излишне говорить, что одним из них был Пушкин, к восемнадцати годам получивший высшее образование в самом элитном учебном заведении России. Это оно, в частности, привило ему столь редкое во все времена, удивительное чувство соразмерности части и целого. Образование включало в себя и физическую подготовку, которой Пушкин, — в детстве толстый, неповоротливый и малоподвижный, т. е. просто почти сидень, — в дальнейшем всю жизнь придавал исключительное значение.
Осуществление Пушкиным своей миссии оказалось бы невозможным также без наличия у него развитой «интуиции смерти», которая в наибольшей степени остраняет жизнь и позволяет заглянуть за ее изнанку. Подобная интуиция не может развиться сама по себе — ей нужен корм. Часто такой становящийся поворотным пункт доступен наблюдению: у Толстого — это Севастополь (и Чечня), у Достоевского — эшафот и «Мертвый дом», у Чехова — поездка на Сахалин (а до того, может, «анатомичка», для многих русских — это Кавказ периода войн. Впрочем, смертность, особенно детская и материнская, была в те времена столь велика, что не столкнуться уже в самом раннем возрасте с ее пребыванием в собственном доме было почти невозможно. Была еще страшная и счастливая война 1812 года, прокатившаяся волной по России — туда и обратно — и почти пробудившая ее от извечного на Руси полуденного полуобморочного сна, потому что не нашествие привел Наполеон в Россию, а Историю. Поддерживали также «интуицию смерти» в Пушкине дуэли, свои и чужие, смерти и казни друзей, Арзрум, погружение в материалы и эстетику пугачевского бунта.
И все же не здесь лежат истоки этого ощущения бренности, тщеты и тлена, — на каковые факты человек XVIII века взирал прямо, не отводя взгляда, не без доли здравого цинизма: «повешенные повешены», «делать нечего, так и говорить нечего»;
У Державина о том же — еще круче, еще проявленней, поскольку на смертном одре. Ничтожным крошащемся грифелем по аспидной доске, — какое великолепное презрение!
Истоки же лежат, как правило, в раннем детстве, в ощущении нежеланности и ненужности своего появления на свет, в травме, понесенной в возрасте первых впечатлений. И подавляющее большинство художников вербуется из этой «агентуры несчастья» первого призыва, с тем чтобы последующей жизнью, творчеством, воображаемыми, а иногда и реальными преступлениями изжить сидящую в них отраву отъединенности, одиночества, пораженности в правах, обреченности смерти. Собственно, речь идет о тяжелой деформации способности любить, при огромной потребности в этой самой недополученной и в ответ неизрасходованной энергии любви.
В случае т. н. «счастливого детства», когда конфликт и травма случаются позднее, писатель имеет шанс стать «вкусным» писателем, как А. Толстой или даже «гениально вкусным», как Набоков, но дефицит раннего отрицательного опыта не позволяет достичь ему в творчестве предельного накала, достоверности в выходе на первые и последние вещи, что несколько снижает ценность его усилий, если они будут предприниматься в этом направлении.
Так все литературные путешествия сводятся, в конце концов, — даже тогда, когда они заканчиваются гибелью, — к поиску «дома» и «возвращению домой», возвращению к себе. Именно поэтому литература нужна не всем и не всегда, а лишь тем, кто в этом нуждается.
Пусть это будет гипотеза и предположение — но только не в отношении Пушкина!
Поразительно мало материалов о долицейском детстве Пушкина, и думается, что это не случайно. Оно подверглось психологическому и идеологическому вытеснению уже не самим Пушкиным, а русским национальным, во многом «литературным», сознанием. За дифирамбами пушкинской «няне» забылся и был оттеснен вопрос: а почему не к «маме» обращался первый русский поэт, где хоть одна строчка у него, посвященная ей! Увы, кроме «любви к отеческим гробам», о родителях у Пушкина не сказано больше ничего. И «бочка» и «Салтан» — это ведь о себе самом! — только там, в сказке, младенец был хотя бы с матерью. Здесь же — толстый Сашка, своей неповоротливостью и апатией огорчающий родителей, затаившийся, замерший от того, что не зван, — окликнутый, наконец, няней. От тех, вероятно, лет его гипертрофированная восприимчивость не к обидам даже, а к одной гипотетической возможности быть вышученным, подвергнуться насмешке, его взрывная бескомпромиссность в вопросах чести.
Вообще, принятый в империях (от Британской до Российской) способ получения образования детьми правящих классов в закрытых учебных заведениях, — один этот обычай в состоянии был переломить психику ребенка и деформировать его характер в направлении, желанном государственному управлению. Своего рода опыт подмораживания душ, нащупанный империями. Когда ребенка отправляют в такое заведение, он, как зверек, понимает не умом, а животом, что родители от него отреклись и бросили, что прошла трещина через его универсум, что он за что-то наказан, и если попытаться методом проб и ошибок найти за что, то можно ошибку исправить.
(Перечитайте письма Гоголя маменьке из нежинского лицея первых двух лет, исполненные проглоченного отчаяния, простодушной хитрости, деланной прилежности, — все девять лет у него текло из ушей, карманы полны были халвы и крошек, и — раз уж с ним так — был он намеренно неряшлив, неухожен, скрытен. Там вынашивалась и отстаивалась неповторимая «гоголевская» конфигурация его психики.)
Отсюда сохраненное на всю жизнь пушкинское «товарищество», культ лицейской дружбы, и «отечество» — Царское Село. Не случайно, первое место, куда Пушкин привезет в 1831 году молодую жену, будет Царское Село — его «дом». Вторым домом стала полюбленная им… ссылка, куда его поставили в угол, — Михайловское (и няня там!). Третий — он попытался строить сам.
Впервые, может, что такое «правильные» семья и дом, он почувствовал в воронцовском доме в Гурзуфе, пожив в семье Раевских, — в возрасте 22 лет.
Тынянов уподобил как-то Пушкина «винному брожению» в крови времени. В Михайловском это «винное брожение» закончилось. Михайловское стало тем погребом, где вино отстоялось. Поначалу Пушкин и сам этого не понял. По возвращении в свет он попытался вести прерванный образ жизни. Однако никакое повторение пройденного, никакое умножение дон-жуанского списка ничего не могло уже прибавить к его опыту по существу. Более того, спустя некоторое время он начал томиться бесцельностью и пустотой собственного существования. Бессонница, всегдашняя спутница внутренних кризисов и сомнений, надиктовывала ему мизантропические строки, — поскольку все, что можно было сделать на одном дыхании, уже было им сделано. Типичный кризис возраста 27±2. Герои его, кстати, переживали то же самое. В частности, Онегин, — в фамилии которого слышится мрачноватый оксюморон студеной северной реки с «негой».
Пушкин ценил всегда остроту созвучий, — как и не был невнимателен к лепетанью забарматывающейся Парки, когда в 26-м году всплыл модный «поэт из народа» Слепушкин. Конечно же, он понял сразу, что кто-то его дразнит.
Следовало либо умирать (а «поезд уже ушел» без него, — 1826, совпавший с началом нового царствования, и стал годом смерти затянувшейся по инерции эпохи), либо искать приемлемых перемен, — самому ставить цели и открывать новые для себя дистанции: отправиться за границу; на войну; жениться. Все три попытки были им поочередно предприняты. Из первых двух с большим скрипом получился… Арзрум. Может, это и неплохо. Жизненная энергия, описав таким образом круг, вынуждена была вернуться вовнутрь, расплавив окончательно в душе поэта одну — молодую и холостую — систему ценностей и приступив к непростому делу формирования ценностей Пушкина-мужа. Ни в какой другой период своей жизни Пушкин не был столь смятен, не переходил столь резко от надежд и решительных действий к сомнениям и деланому — «многоопытному» — цинизму. Он лихорадочно оглядывался вокруг в поисках невесты и жены. И сделал так, как сделал (посоветовавшись перед этим с одним Нащокиным, всегда слушающимся только собственного сердца). Забавно звучали бы пушкинские самоуговаривающие записи этого времени, если бы не проступающие за ними одиночество, неприкаянность, а, возможно, и отчаяние. Вся глубина его интуиции не могла не говорить ему, что он агент другого мира, и, пытаясь обрести личное счастье, — или хотя бы достичь умиротворения, — он покушается на права и достояние этого мира, на то, что не может принадлежать ему по праву. Он продолжает уговаривать себя: «счастье на избитых дорогах», «в тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди» (о которых незадолго перед тем: «люди — сиречь дрянь, говно. Плюнь на них да и квит»). Потому что все более отчетливо он понимает, в неотступной уже почти хандре и тошноте, что отпустить его сердце эти последние смогут только в его собственном доме, которого никак иначе не достичь ему и не обрести, кроме как соорудив его собственными усилиями. Никакие Панурговы переживания (глядя на семейную драму Дельвига, — да к тому ж чьими глазами!), никакая возрастная разница, — которая, не взирая на обычаи того времени, была все же близка к критической, — уже не могли его остановить. В прорубь, в ответственность, в новую жизнь! Пушкин женится, сокрушая все возникшие на его пути преграды. На бесприданнице. (А разве можно, кстати, представить себе, что могло быть иначе? Пушкина-зятя?)
Расчеты Пушкина полностью оправдались, он ощутил это на себе сразу: «Я женат — и щаслив», — докладывает он немедленно в письме другу, — «одно желание мое чтоб ничего в жизни моей не изменилось… Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился».
И все пять последующих лет, принадлежа двум мирам, он был почти что счастлив. А это чего-то стоит.
Часы однако были запущены.
Пушкин купается в новых ощущениях и через собственное отцовство — осуществленное мужество — начинает открывать теперь для себя отцовский и сыновний смысл истории. Новое семейное состояние приводит в движение огромные нетронутые пласты его внутренней жизни.
«Медный всадник», «Капитанская дочка» — эти книги просто НЕ мог написать писатель, НЕ достигший зрелого семейного состояния; ныне же уточняющий свои представления о месте и роли отца и сына, о соотношении исторического и частного, о чести, уверенно погружающийся в проблематику, исполненную нерешаемых окончательно коллизий и принципиального драматизма.
По нашей догадке, другой лицеист, малороссийский, Гоголь искал в Пушкине не литературно-художественный авторитет, не кумира, но искал — по запаху — отца (как сам Пушкин — в Петре, или Пугачеве). Это для него он писал — от «Кюхельгартена» до «Мертвых душ», — Пушкин прочтет! За Пушкиным Гоголь был, как за стеной, — и вдруг… огромная русская литература навалилась на его хилые — физически — плечи. Именно поэтому так лично пережил Гоголь (а может, и не пережил) смерть Пушкина, — он вторично оказался брошен, оставлен старшим; что бы теперь он ни написал этого некому уже будет прочесть, — зачем тогда все??
Не здесь ли надломилось что-то внутри Гоголя, от чего несколько лет спустя начнет в нем развиваться душевная болезнь?..
Вернемся все же к Пушкину. Нырнув в род и историю, Пушкин не предал, однако, личного начала (что и делает его Пушкиным), но утвердил его, закалил в потоках лавы безличных родовых стихий, — всегда готовых променять при нужде Пушкина на Слепушкина. Он не уставал дразнить клинком время от времени, как он написал в одном из писем, огромную обезьяну мира. Природу нельзя победить, ее можно только переиграть.
Себе цену, в своем мире, он знал, — он знал, что Время принадлежит ему. Этот мир, однако, крепко и цепко держал его за жену и семью, забирая в лапу все больше, запуская нос в его письма, спальню, душу, прицениваясь к его жене, которую это отнюдь не смущало, ибо она сама была похищена Пушкиным, вынута им из рода и субстанционально продолжала ему принадлежать, — так что мир обращался к ней как свой за своим. Вот так встреча: Пушкин — и трюизмы! Невыносимо спотыкаться о них в переписке его женатых лет, к тому ж когда излагаются они менторским, едва не «каренинским»(!) тоном: «будь молода, потому что ты молода»… — Пушкин поучающий: «было бы корыто, а свиньи будут», — Пушкин неискренний: «…кокетничай… я сам тебе разрешил», «я неревнив», — или еще чего похлеще: «свобода, смело дарованная монархом писателям русским»! За все приходится платить.
Жизнь протекала в обществе тотального протекционизма, — «семействености» и кастовости, — требующем от соучастников (конечно, никаких не сограждан) инфантильной преданности, постоянной подсознательной готовности лизать руку за благодеяния и унижать самим, обществе простодушной «отеческой» работорговли, наконец. Честь могла быть покуда защищена… наказуемым образом. При дворе, однако, куда Пушкин очень скоро попал, — для жены, и благодаря ей, — гораздо выше ценился антипод чести — лишенное всякого о ней представления, непробиваемое чувство собственного достоинства, а также неукоснительное следование игре по правилам.
Видимо, это не вполне счастливое сочетание качеств и породило хлесткий оксюморон того времени — «светская чернь».
Люди, впрочем, как люди. Как и те пугачевцы, незлые, в сущности, мужики, что тащили упирающегося офицера на виселицу, приговаривая: «Не боись, не боись!..» А другим разом уже сами вязали своего Пугачева…
После забывшейся клеветы о порке в молодости, — не считая натягивающихся пут финансовой и отчасти служебной зависимости, — было не так много мест, за которые мир мог Пушкина взять, опустить, отыграться за строптивость, не полную подвластность своим законам, — тоже мне, важная птица, Пушкин!.. Он знал такое место: «муж и жена — плоть едина». И одна мысль об уязвимости его в этом пункте, — полной беспомощности в мире волеизъявлений другого, и самого близкого, человека, — способна была доводить Пушкина до бесплодного бешенства. Каких-то вещей при этом он просто не мог себе позволить. Рука его, пытаясь удержать Наталью Николаевну, как во сне, промахивалась сквозь нее, и неважно, кто кому здесь снился, — ведь они принадлежали субстанционально разным мирам. Пока на пересечении этих встречных снов не материализовался Дантес — жалкий статист судьбы Пушкина, гвардейский жеребец, призывным ржанием растревоживший семейный сон Пушкиных.
Судьбе не откажешь здесь в логике и выборе оружия. Пружина, взведенная пять лет назад и ежегодно подкручиваемая с рождением каждого нового ребенка, стремительно распрямлялась в последние месяцы, недели, дни. Затянутые ею до срока, разлетались теперь: архивы и балы, семья и свет, «пора, мой друг, пора» и полудетский придворный мундир, «плоть едина» и лицо, род, — уже навсегда.
Всегда ли надо умирать, чтоб выяснилось вдруг, что прожита-таки счастливая жизнь??
Как оказалось, Пушкин был любимцем судьбы. Или Бога, — Он тоже таких прибирает. «Я только перебесился», — говорил Пушкин Далю за три года до смерти. Вот и хорошо. Праведники нам не нужны, — говаривали на Руси, — нам нужны угодники. (И Даль все записал).
Жизнь поэта оказалась построена по законам искусства столь абсолютным, что искусство становится уже как бы незаметным. Чтение пушкинской переписки (особенно, томов, подготовленных к печати старшим Модзалевским) засасывает, когда, следуя за ветвящимся комментарием к комментарию, читатель вдруг обнаруживает себя внутри целой густонаселенной огромной страны, уцепившейся, как грешник за луковицу, за корешки, за упоминания и строчки пушкинских писем, и тем самым спасенной от холода, прозябания и безразличия, — где на каком-то невидимом волоске с прицепившимся комочком грунта находится место и безвременно почившему в бозе мышонку, приготовленному однажды нащокинским поваром и поданном в его кукольном домике под видом поросенка, — «жаль, не было гостей», — восторженно пишет Пушкин жене.
Иногда кажется, что судьбе было угодно насытить жизнь Пушкина только отборными дарами — плодами отменной спелости, свежести, полной проявленности качеств. Однако это не так. Судьба не была скаредна по отношению к своему избраннику, но не следует забывать, что все лучшее и самое драгоценное на этом свете делается вопреки обстоятельствам.
Судя по всему, так деформировал, а затем трансформировал всю картину-сцену-пьесу, почти неотступно сопровождавший Пушкина гений. Ему не пришлось, впрочем, в отличие от пушкинских черновиков, почти ничего поправлять здесь, только, как хорошему редактору, поставить в нужном месте точку. Скорей всего, все же Пушкина опекали все силы, в пределах досягаемости которых он находился. Так что неизвестно, какого анонима благодарить за то, что он не позволил первому русскому поэту сделаться убийцей, — подставив под его пулю руку и пуговицу Дантеса.
Совсем недавно французы сняли в верховьях Амазонки документальный фильм. Ими было обнаружено в джунглях первобытное племя, которое никогда не встречалось с цивилизацией белых людей, — а может, и вообще никакой. Люди этого племени не знают одежд, огонь добывают трением, в пищу употребляют жареных обезьянок, убитых стрелами из духовых трубок. Довольно странное впечатление производят их маленькие дети, со смышленным взглядом, спокойные. Особого внимания, впрочем, заслуживает только одно: эти люди каждый вечер не знают, что утром опять взойдет солнце, — что будет следующий день.
Каждый вечер они полагают, что солнцу кранты, каюк, пропало и все, — не будет больше. Они набиваются в хижину, — никто не спит, — томятся, плачут, потеют, во второй половине ночи, отчаявшись, обхватив плечи друг друга и опустив головы, слипаются в какой-то глиняный, неразличимый, многорукий и безглазый организм, что, сидя, раскачивается, в такт бубнит что-то, поскуливает, напевает, — и так до самого рассвета. Только тогда они позволяют себе немного отдохнуть. Есть что-то в этом трогательное. И равно безнадежное. Тысячи лет продолжается так каждую ночь. И вечность до того. И другую вечность — после.
Странно жить в той же почти стране, где жил Пушкин, разговаривать на том же (почти) языке, на котором разговаривал и писал он, и каждый вечер откуда-то абсолютно точно знать, — и даже быть уверенным, — что завтра утром взойдет солнце.
Странная вещь, непонятная вещь!..
Март 95, Кратово.
МЕДНЫЙ ПУШКИН. 7 ЮБИЛЕЕВ[1]
Он «памятник себе воздвиг нерукотворный», мы же в дополнение к нему соорудили рукотворный памятник — МЕДНОГО ПУШКИНА, со стуком выпадающего в осадок всякого юбилея. И собственно история пушкинских празднеств в России начинает свой отсчет с совсем не «круглой» даты, и даже не вполне календарной — с установления в Москве первого памятника поэту в 1880 году.
Мысль о сооружении памятника Пушкину возникла двадцатью годами ранее у бывших царскосельских лицеистов в связи с предстоявшим полувековым юбилеем лицея. Дважды проводилась всероссийская подписка по сбору средств, образованный десятилетие спустя комитет по сооружению памятника провел открытый конкурс среди «ваятелей» и остановил, в конце концов, свой выбор на проекте скульптора Опекушина, как «соединившем в себе с простотой, непринужденностью и спокойствием позы тип наиболее подходящий к характеру наружности поэта». Из всех статуй была выбрана самая «задумчивая» и «человечная», что ли, — Пушкин стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Не потому ли, что бывшему крепостному крестьянину, скульптору Опекушину, удалось расслышать в звучании собственной фамилии в рассыпанном виде звучание фамилии любимого поэта?
Памятник возводился на собранные по подписке деньги, возводился почти что частному лицу, не отмеченному чинами и наградами (в свое время министр просвещения Уваров, отчитывая редактора, отозвавшегося на смерть Пушкина, выразил общее мнение петербургской бюрократии: «Писать стишки (…) не значит еще проходить великое поприще!»). Поэтому решено было ставить памятник в Москве, чтоб подчеркнуть гражданский, т. е. в прямом и первоначальном смысле — общественный, негосударственный характер акции. Место под памятник отведено было на Тверском бульваре, напротив Страстного монастыря.
Открытие памятника состоялось 6 июня 1880 года при большом стечении народа, в присутствии 100 депутаций от различных городов и губерний России, выросших детей поэта, оставшихся в живых его соучеников, а также большинства самых известных российских литераторов. Достаточно сказать, что окна соседних зданий сдавались внаем, как сообщали газеты, за пятьдесят рублей — большие деньги. Затем последовало два дня торжественных заседаний, обедов и юбилейных речей, самой громкой из которых стала речь, произнесенная Достоевским и навсегда связавшаяся с этим первым пушкинским юбилеем. Ею в особенности подан был пример для всех последующих юбилеев поэта — как «сузить» Пушкина, как имя его может быть использовано различными общественными силами, группами, «партиями», а следовательно и государством, в своих собственных далекоидущих целях.
Стоит рассмотреть пристальнее, как это происходило в первый раз.
Открытие памятника сопровождалось ожесточенной «подковерной» борьбой и даже интригами различных идейных направлений в русском образованном обществе, главным образом — т. н. «западников» и «славянофилов», или иначе — «либералов» и «консерваторов». Так получилось, что главой первых оказался Тургенев, а выразителем идей вторых — Достоевский. Отказались приехать Щедрин и граф Толстой, переживавший в это время духовный кризис, в связи с чем был запущен в обществе слух о его якобы «помешательстве». К графу посылали Тургенева, но тот вернулся ни с чем. Все это, однако, «кухня».
В действительности же, российское общество балансировало в очередной раз в точке «слома», заканчивался фактически 25-летний период реформ, и государство вступало в фазу стабилизации с той же неизбежностью, как то происходит в мире, описываемом естественными науками. Что называется, ломаются дрова и делаются глупости по обе стороны подобного гребня времени — и в каждом из этих процессов имеется своя правда. За два года до открытия опекушинского памятника победоносно закончилась русско-турецкая война, что придало сил и оживило надежды консервативного лагеря. Неожиданным побочным следствием патриотического воодушевления явились первые еврейские погромы на юге империи.
Достоевский в своей блестящей, по общему признанию, речи фактически предложил мир «западникам» на весьма почетных условиях: «мы» (с Победоносцевым, Сувориным, Катковым) признаем законность и оправданность петровского 200-летнего периода модернизации и приобщения к Европе, а «вы» в ответ, признав достоинство и смысл русского национального начала, несводимого к современным западноевропейским стандартам, двигаетесь с нами заодно к некоему расплывчатому утопическому идеалу, окрашенному мессианизмом. Т. е. производится своего рода обмен прошлого на будущее. Более всего Достоевский, как русский человек, не выносил даже тени высокомерия «оскорбителей человечества», т. е. несправедливости, — оттого и придумал своего русского «всечеловека» и поставил его над мировой историей. Но при этом Достоевский так перемешал и взболтал в своем патриотическом коктейле этические и эстетические компоненты — до полного их неразличения, — что хмель ударил во все головы. Чего, протрезвев, ему не простили поначалу ни «свои», ни «чужие», вылившие на него в газетах и журналах, когда речь была опубликована, отрезвляющий ушат критики (характерно название статьи Г. Успенского: «На другой день»).
Красноречивее всего об атмосфере первого пушкинского празднества и эффекте, произведенном речью Достоевского, говорят его горячечные письма жене. Все в них описанное подтверждено свидетельствами современников и участников события. Речь Достоевского стала лишь кульминацией, замкнувшей и разрядившей неоформленные ожидания толпы. Об успехе речи ее автор писал так (8.06.1880):
«Нет, Аня, чет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим!»
«Я читал громко, с огнем. Все, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: „Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!“. „Пророк, пророк!“ — кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. „Вы гений, вы более чем гений!“ — говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя — есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений. „Да, да!“ — закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! (…) Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру».
Что говорить — праздник удался. Много ниточек от него протянулось в российское будущее.
Как бы там ни было, Россия с памятником Пушкину в центре древней столицы была уже не та, что была без него. Также это была победа Москвы над Петербургом в такой же степени, как и, увы, победа идеологии над поэзией. За ходом пушкинских торжеств следила по отчетам газет вся читающая Россия. Щедрин в письме Островскому, также державшему речь, отозвался примирительным парадоксом: «По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу».
В тени памятника поэту расположилось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть.
Первый пушкинский праздник едва не был отменен и оказался перенесен почти на две недели из-за внезапной смерти императрицы. Ровно через три месяца в России впервые было отпраздновано 500-летие Куликовской битвы. В середине зимы, накануне даты пушкинской смерти, умирает Достоевский. Месяц спустя народовольцы убивают, в конце концов, царя и наступает новое царствование. Все это менее чем за год.
Этот юбилей интересен тем, что является годовщиной смерти поэта. Но не в России придумали отмечать юбилеи смерти, то же незадолго перед тем делалось, скажем, в Германии с полувековыми годовщинами смерти Шиллера и Гете. Чем, кстати, вообще являются два центральных праздника христианства как не символическими годовщинами рождения и гибели (с последующим воскресением) Сына Божьего? Тем более что в России особо ценятся «праздники со слезами на глазах», победы духовного свойства (Куликово поле, Бородино), иногда находящиеся за гранью физического поражения (Севастополь или «Варяг»).
Что остается от человека, когда он исчезает, — и остается ли хоть что-то?
К этому времени умирает подавляющее большинство пушкинских современников, коротко его знавших. Поэт окончательно созревает для канонизации.
Неваловажным было также то обстоятельство, что срок действия авторских прав истекал по прошествии 50 лет, и теперь на Пушкине становится возможным заработать деньги. Дешевизна изданий вызвала ажиотажный спрос, — некоторые магазины пострадали, в т. ч. в столице. За несколько дней книг Пушкина оказалось продано в 5–6 раз больше чем за предшествовавшие полвека.
Эти торжества проводятся уже по установленной свыше, из Петербурга, схеме. Сперва панихида, затем торжественные заседания с юбилейными речами, смысл которых предельно обнажен в речи, произнесенной 29 января 1887 года в Императорском Санкт-Петербургском университете преподавателем А. Незеленовым, где о Пушкине говорится так:
«Этот гений — наша слава перед миром; он и его создания — одно из наших главных прав на имя великого народа». Вот какая санкция требуется от поэта. И поэт исправно отрабатывает свой посмертный медный мундир.
И только «в глухой провинции у моря», в южных губерниях, этот докатившийся до окраин империи праздник приобретает отчасти живые черты. Граждане Кишинева заказывают скульптору Опекушину сделать и для них памятник и устанавливают его в своем городе в 1885 году, «ибо здесь — в этом пункте (на Инзовой горе, где жил Пушкин) — слава Кишинева, имеющая перейти в потомство». Празднуют Новороссийский университет и Ришельевский лицей, в Одессе издается книга «Отзывы о Пушкине с юга России», в которой по крупицам собраны свидетельства очевидцев, восстановлена топография мест, еще помнящих легкую походку поэта, в ней же пересказываются салонные провинциальные толки, что поэт и умер-то «какою-то как-бы неразрешенною, недозволенною смертью, на дуэли…»
К этому времени Опекушин успел сделать статую поэта и для Петербурга (1884).
Этот год явился также годом покушения на нового царя (1 марта 1887 — ровно 6 лет спустя после убийства Александра II) и годом казни, в числе других, Александра Ульянова (что на протяжении еще тридцати лет, как казалось, имело не столь уж большое значение для судеб России и царствующего дома).
Столетие пушкинского рождения.
Чудеса да и только! Был ссыльный — «а теперь вот нна — как его всяким огнем освещают, будто главного победителя!»
«Имя великого поэта пущено в умственное обращение толпы», — пишут газеты. Газетчик доносит: «Майский шум Пушкинских празднеств сделал то, что любой кондуктор может дать вам все надлежащие сведения». «В Святых Горах в читальне, открытой при богадельне, целых два бюста Пушкина, в народной чайной портрет Пушкина, в покоях настоятеля опять несколько портретов Пушкина; в лавках „карамель Пушкин“, „папиросы Пушкин“; даже в окне церковной лавочки, при монастыре, на кисейной занавеси чьей-то искусной рукой тоже нарисован весьма схожий Пушкин».
В эти годы начинается паломничество на могилу Пушкина (но тогда же из 40 подписных билетов на первое полное собрание сочинений поэта Псковская губерния возвращает 18).
Кое-где (в Перми, Костроме) духовенство уклоняется от проведения панихиды по Пушкину. В других городах дома иллюминируются и убираются флагами, как в Царский день.
В столице — торжественное заседание в Мариинском театре.
В Кинешме столоначальник вопрошает:
«Что такое сделал, в сущности, Пушкин? Красно писал — вот и все!.. Хороший стилист — и больше ничего!!» Телеграфист ерошит волосы рукой:
«Позвольте, а как же Петербург, и потом Москва… ведь не глупее же там люди, если устраивают такой парад? Или вы полагаете — глупее?..»
Об общем стиле празднования дает представление изданная во Владимире брошюра «Пушкинские дни в губернском городе Владимире (26–29 мая 1899 г.)».
Председатель Губернской Ученой Архивной Комиссии князь Урусов в виду предстоящего юбилея предложил Комиссии «примкнуть в этом деле к общеимперскому течению».
Празднования начались проведением панихиды в Успенском соборе. Затем действие переместилось в большой зал Дворянского собрания:
«Пред портретом Государя Императора красовался большой поясной бюст А. С. Пушкина, выписанный Комиссией из Москвы от магазина Аванцо. Слева от него возвышалась кафедра для лекторов с золоченым гербом Владимирской губернии посредине. Как бюст, так и кафедра утопали в зелени цветов и тропических растений, привезенных из оранжерей губернаторского дома и Владимирского купца В. Н. Муравкина. Зелеными гирляндами были украшены и хоры. По обеим сторонам Царского портрета боком к нему и публике были поставлены стулья для гг. Членов Архивной Комиссии. Вдоль же всей длины зала от окна к окну лицом к портрету Государя и бюсту Пушкина были поставлены ряды стульев для публики, причем первые три ряда были предназначены для дам, пожелавших сделать честь Комиссии почтить ее заседание своим присутствием». В городском театре прошли музыкально-драматические вечера с представлением «живых картин», бесплатными чтениями для учащихся и показом «туманных картин» на экране, пел хор архиерейских певчих, выступил оркестр Ковровских жд мастерских. «Бюст Пушкина, поставленный на сцене и эффектно освещенный бенгальскими огнями, венчали лавровыми венками герои и героини его произведений». В перерывах играл оркестр Пожарной дружины.
Но также: 1000 экз. избранных сочинений поэта и 200 экз. его полного собрания сочинений было роздано народу и всем ученицам и ученикам города.
Аналогичным образом происходило чествование Пушкина в Кинешме. После панихиды в храме по «болярине Александре», в Кинешемском городском театре, перестроенном из солдатской казармы, состоялись «чтения с туманными картинами». Где еще так возможно «разумной твари душу отвесть»? Играл семейный немецкий оркестр из 6, или даже 7 человек — «если удобно признать за человека малолетнего Шварца, музицирующего на барабане».
Представлены были «живые картины»:
«Нетребовательная и добродушная Кинешемская публика, вообще, не скупилась на аплодисменты, а „Апофеоз“ — Пушкин стоит на красном помосте, окруженный некоторыми фигурами из своих произведений (в том числе рыжий матрос с засунутыми фамильярно в карманы руками), и его венчает зеленым венком полногрудая женщина в блестящем кокошнике и желтом сарафане — этот апофеоз вызвал настоящий рев восторга», — как писал заезжий литератор (Иван Щеглов. «Новое о Пушкине». СПб., 1902).
Вместе с тем в юбилейном и следующем за ним году издаются книги о пребывании Пушкина в Кишиневе, Каменке, Крыму, Казани, начинает выходить первое академическое полное собрание сочинений поэта (быстро устаревшее и по причине революции 17-го года так и не доведенное до конца), устанавливаются памятники в царскосельском Лицейском саду (1900), Екатеринославе (1901), — несколько раньше бюсты поэта появляются на бульварах Одессы (1889) и Тифлиса (1892).
Столетний юбилей Пушкина отмечался также в Западной Европе, сотни статей о поэте появились во всех сколько-нибудь влиятельных газетах. Французская печать (в частности, Золя) назвала Пушкинский юбилей праздником всей цивилизации и отвела место русскому поэту в «Пантеоне гениев всего цивилизованного мира» (через 14 лет станет ясно — насколько «цивилизованного»). В. Розанов предложил создать в Царском Селе Пушкинскую Академию Изящных искусств, но его предложение не встретило никакого отклика. Как и предложение какого-то петербургского сторожа в «Сельском Вестнике» возвести в память поэта церковь: «для облегчения загробной участи Пушкина, которому могла бы только помочь искренняя молитва». В это же время, однако, начинает складываться пушкинистика как особая филологическая и гуманитарная дисциплина, давшая в последовавшие десятилетия целую плеяду блестящих, чтобы не сказать великих, пушкинистов, — не хочется перечислять, чтобы кого-то не обидеть ненароком: старший Модзалевский, Оксман, Цявловский, Томашевский, Гуковский, Тынянов, Бонди и др.
Столетие смерти — самый драматический из всех юбилеев.
Неузнаваемо изменилась страна, прокатились войны, рухнул царизм, пытавшийся приспособить Пушкина к своим нуждам. Пушкин вместе с другими «начальниками» был сброшен с «парохода современности», но затем опять поднят на борт, где получил предложение поработать в агитпропе от поэта, назначенного вскоре лучшим поэтом советской эпохи и наказанного собственным памятником неподалеку. Названия типа «Мой Пушкин» (Брюсов, Цветаева) стремительно теряли актуальность, им на смену «всерьез и надолго» приходило: «Наш Пушкин».
К 37-ому году в канонизации нуждался не Пушкин, хотя бы и МЕДНЫЙ, а государственный режим, построивший «социализм в основном» и готовившийся отметить свое двадцатилетие. Народу была дарована Сталинская Конституция и предложен сильно осовремененный и слегка подчищенный «под Лениным» Пушкин. Причем не столько подводился фундамент под систему (в таком качестве Пушкин понадобится Сталину только в годы войны, заодно с православием, «царскими генералами» и пр.), сколько декорировалась т. н. «надстройка». От Пушкина опять требовалась санкция: малообразованная и весьма дикого нрава власть намеревалась предъявить всему миру нечто вроде «аттестата зрелости» — приняв наследие Пушкина, тем самым засвидетельствовать законность и благородство собственного происхождения.
Что-то такое, впрочем, ожидалось, и к юбилею готовились загодя. Еще в 1933 г. Академия Наук приняла программу подготовки к 100-летию смерти Пушкина. В 1935-м выходит первый из томов юбилейного академического полного собрания сочинений поэта. Сталину том не понравился — пространные и изумительные комментарии выдающихся пушкинистов были, на его взгляд, излишними. Том изъяли, людей заменили, академическое издание перепланировали и существенно упростили.
В декабре 1935 года постановлением правительства учреждается Всесоюзный Пушкинский комитет во главе с М. Горьким для подготовки к юбилейным торжествам («Правда», 17.12.35). Выходит книга Кирпотина (кстати, сделавшегося позднее специалистом по Достоевскому) «Наследие Пушкина и коммунизм». Что-то есть даже трогательное, вызывающее сочувствие, в потугах коммунистических сектантов адаптировать в меру своего понимания и утилизовать свободную стихию пушкинской поэзии. Поскольку им приходится все же под оглушительный вой идеологических фанфар и волынок в одном 1936 году запустить в читательскую среду 12,5 млн. экземпляров пушкинских сочинений — больше чем было издано за все 20 лет советской власти. Параллельно с «насаждением» Пушкина — под лозунгом «да здравствует солнце, да скроется тьма!» — ведется активная прополка культуры. («Правда»: 28.01.36 «Сумбур вместо музыки»; 6.02.36 «Балетная фальшь»; 1.03.36 «О художниках пачкунах»). Погромы в культуре дополняются политическими репрессиями и сопровождаются демагогией об особой ценности людей, т. н. «кадров». Сталин сказал как-то Г. Уэллсу: «Чтобы переделать мир, надо иметь власть». Интересно, догадывался он, КТО КОГО переделывал — и таки уделал в итоге?
Устраивается гигантская Всесоюзная Пушкинская выставка в Историческом музее в Москве:
«Всему миру известные народные живописцы села Палех покрыли тончайшими лаками новые шкатулки, блюда, лари и подносы, воспроизведя в чудесных миниатюрах мотивы из поэм и сказок Пушкина. Прославленные вышивальщицы Украины приготовили ткани и аппликации на пушкинские темы. Уральские литейщики отлили из чугуна монументальные иллюстрации к творениям своего поэта. Холмогорские резчики по кости выточили из мамонтовых клыков трубки и брошки с изображением героев Пушкина. Гранильщики из Гусь-Хрустального воплотили в стекло и хрусталь сцену дуэли поэта. Московские игрушечных дел мастера создали из дерева и кости царя Додона, золотого петушка и бабу Бабариху. Ленинградские мастера изготовили для кукольного театра марионетки дон-Жуана и донны-Анны. Вологодские мастерицы соткали единственные в своем роде кружева, в тонкой паутине которых, как в изморози зимнего окна, выступают изображения бессмертного пролога к „Руслану и Людмиле“».
Выпускаются марки с Пушкиным, в кинотеатрах идет документальный фильм «Пушкинские места» (1936), издается огромное количество юбилейной литературы, материалов торжеств и научных конференций, на которых корифеи пушкинистики продолжали делать свое дело, но рядом Дантес именовался не иначе как «наемным убийцей» и «агентом самодержавия», благодаря чему поиски и казни всевозможных «агентов и наймитов» приобретали вид еще как бы и «мести за Пушкина». Или же, в духе «плановой экономики», демонстрировались сводные таблицы переводов Пушкина на иностранные языки.
Но каждый, в конце концов, выбирал сам — выбор существует всегда. Другое дело, что подчас он настолько дрянной, что фактически не оставляет человеку выбора.
Проведение торжеств 37-го года обеспечивалось всей мощью государственного аппарата.
Подключена была восточная поэтическая челядь и социалистическая переводческая индустрия, все эти Джамбулы и Сулейманы Стальские:
(Уж насколько лучше был цветистый Фет-Али Ахундов в «Московском Наблюдателе» 1837 года: «О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять белизну свою, чтобы только перо его проводило по лицу ее»!)
Профессиональный комсомолец Безыменский вещал задорно со сцены Большого театра на всю страну:
Тогда же, в 37 году, снесли Страстной монастырь, лицом к которому повернут был памятник Пушкину. И факт обратного порядка: с памятника убрали, наконец, благонамеренную переделку Жуковского и восстановили подлинный пушкинский стих.
Сбылись самые смелые мечтания и самые жуткие опасения Достоевского вкупе, одновременно, — это ли не тот материал, из которого и состоит кошмар!?
Пушкина адаптировали и использовали так, как только возможно, — произведя дворянина и помещика в предтечи соцреализма и вызолотив, как языческого идола, в предвкушении массовых арестов и расстрельных процессов. «Правда» 10.02.37: «В конечном счете творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан». Кто посмел когда-либо сказать кривое слово о Пушкине, спешил покаяться в газетах еще в 36-ом. Безмолвствовавший столетиями народ обучился говорить нужные слова — и юбилейный пир на праздничном помосте, как во времена Батыя, покрывал лагерные стоны репрессированных.
Сохранявшие в этой обстановке рассудок, подобно Хармсу, защищались от «такого Пушкина» испытанным народным средством — анекдотами (Александру Сергеевичу, кстати, они не повредили — он и сам, был бы жив, мог присочинить и добавить к ним не один).
Лишняя морщина появилась на медном челе, но Пушкин выжил, и его книги разошлись гигантскими тиражами по всей стране, чтоб когда-нибудь в ней выросли другие дети, и однажды она проснулась другой страной.
150-летие Пушкина еще более, чем в 1937 году, было присвоено государством. К тому же пушкинский юбилей в этом году предварял и готовил площадку для проведения куда более грандиозных торжеств всемирного масштаба — празднования 70-летия вождя половины человечества, известно кого, для которого и «Пушкин» являлся лишь одной из плит пьедестала.
Во всех без исключения газетах империи были напечатаны статьи под двумя типами заглавий: либо «Слава и гордость великого русского народа», либо «Наш Пушкин».
Известный профессиональный погромщик культуры Ермилов издал целую книгу «Наш Пушкин», со страниц которой провозгласил подобие тоста:
«Только нашей эпохе по росту великан Пушкин, и разве в круг друзей, таких, как Чкалов и другие могучие богатыри — сыны Сталина, не вошел бы со своей простодушной улыбкой мудреца Пушкин и не содвинул бы с ними стаканы — за музы, за разум, за родину, за свободу!»
Именем Пушкина награждались улицы, школы, колхозы (например: сельхозартель им. А. С. Пушкина села Новый Егорлык Ростовской области, — как много в этом звуке…). Во всех городах страны проводились конкурсы чтецов и вокалистов, исполнявших произведения Пушкина. В прокате шел документально-биографический фильм «Пушкин» (1949), а в ходе самих торжеств снимался фильм «Пушкинские дни». Приглашены были гости и верные друзья Советского Союза со всего света: черный бас Поль Робсон, чилийский поэт Пабло Неруда и многие другие.
На этот раз Пушкин использовался преимущественно в целях борьбы с «поджигателями войны» (стихотворение «Клеветникам России»), с международным империализмом (очерк «Джон Теннер», содержащий саркастическую оценку американской демократии), а также с «низкопоклонством перед Западом».
Генеральный секретарь СП Фадеев на торжественном юбилейном заседании в Большом театре Союза ССР (6.06.49), сообщив, что сегодня практически в каждом советском доме и в каждой семье имеются сочинения Пушкина, немедленно переходил к обличениям:
«Пусть-ка попробуют хоть что-нибудь противопоставить этому факту развития народной культуры в СССР современные „клеветники России“, враги нашей страны социализма, враги собственных народов, охвостье буржуазной культуры, давно позабывшие и оплевавшие своих отцов и дедов и криками о „свободе“ и „демократии“ прикрывающие все более полную, все более откровенную зависимость от своих хозяев — империалистов».
Не отставал от писательского генсека и его «зам» Симонов, а темпераментом даже превосходил:
«Тем, кто вешает негров, незачем вспоминать Пушкина! Тем, кто на глазах у голодных жжет пшеницу, незачем вспоминать Пушкина! Тем, кто хочет купить совесть народа за яичный порошок, незачем вспоминать Пушкина! Тем, кто хочет залить мир кровью, незачем вспоминать Пушкина! Он их враг, враг каждой их мысли, каждого их слова, каждого их гнусного поступка…»
Между тем, действительно, опять в юбилейный год было издано почти 12 млн. экз. пушкинских книг; в срок, к дате, завершено издание первого академического полного собрания сочинений поэта в 16 тт. и 20 книгах; также заявлен был акад. Виноградовым и опубликован проект беспрецедентного издания — словаря языка Пушкина.
В целом празднование 49 года отличалось, помимо чрезвычайной помпезности, удушающе казенным, бюрократическим характером.
Организован был своего рода «пушкинский» рейд — нечто вроде агитпоезда — на самом высоком государственном уровне. Специальный ж/д состав с академиками, писателями, гостями из-за рубежа отправился из Москвы в Ленинград, где в бывшем Царском Селе в помещениях бывшего Александровского дворца состоялось торжественное открытие Всесоюзного Пушкинского музея. Снаружи — митинги, внутри — юбилейные заседания. Затем поезд проследовал в Псков на торжественное юбилейное заседание в облдрамтеатре. Завершилось все гигантским митингом в восстановленной после войны усадьбе в селе Михайловском — 100 тысяч человек сошлось и съехалось на него отовсюду по проселочным дорогам.
Открывая митинг, председательствующий Тихонов заявил:
«Самодержавие хотело сделать это место самым глухим, самым незаметным, самым неизвестным. Это место сегодня видно всему миру».
После чего, пользуясь случаем, провозгласил горячую здравицу товарищу Сталину, на протяжении всей поездки единогласно избиравшемуся вместе с Политбюро ЦК в почетный президиум всех торжественных заседаний.
На следующий год, бог весть с какой целью, памятник Пушкину перенесли через улицу Горького и развернули лицом к тому месту, где он стоял прежде, и спиной к снесенному в 37-м юбилейном году Страстному монастырю. Площадь переименовали в Пушкинскую еще ранее.
Кое-какой свет на перенос памятника проливают стишки в «Крокодиле»:
Следующим перенесут вскоре памятник Гоголю. Его вообще спрячут, поставив вместо него статую какого-то чиновника…
Этот юбилей прошел самым незамеченным. Потому что страна жила настоящим временем и шла на всплеск, отряхивалась от морока власти одряхлевших геронтов. Года не прошло после Чернобыля. Прокатилась по стране антиалкогольная кампания, начали расти тиражи журналов. Первые крупные капли «гласности» с шипением всасывались пересохшей почвой. Площадка у памятника Пушкину в Москве становится с этого времени излюбленным местом проведения политических митингов и акций. Особенной карикатурностью отмечен случай, уже в середине 90-х, когда у памятника сошлось сразу два митинга, и «коммунисты» загнали снежками «демократов» на балкон кинотеатра «Россия», переименованного в «Пушкинский». Неузнаваемо и не менее карикатурно — почти сюрреально — меняется сам облик площади.
С юбилеем 87-го года связан выпуск беспрецедентного подписного издания сочинений Пушкина в трех томах тиражом почти 11 млн. экз. (!). В периодике филологами, писателями и официальными лицами было, как всегда, опубликовано большое количество статей, посвященных Пушкину.
И вот что интересно: на фоне нарастающего и всеобъемлющего идейного кризиса интеллигенцией предлагается народу нечто вроде «пушкиноверия» — полуязыческого, полумессианского культа русского национального поэта (отношение, идущее от Гоголя и эпохи романтизма XIX века), на фоне колеблющихся и рушащихся авторитетов вчерашнего дня делается попытка утвердить догмат о «непогрешимости» Пушкина и опять поставить таким образом читателя «на колени». Старые и небескорыстные игры, хотя культ Пушкина, положа руку на сердце, не худший из культов. Один из образцов такого отношения — слова известного поэта в журнале «Новый мир» о посещении им могилы Пушкина: «Мне было трудно, почти невозможно представить, что здесь лежит Пушкин. Как, здесь покоится его прах? Куда естественней было думать, что он — божество, воскресшее после смерти, взятое на небеса. Он растворен в воздухе, которым мы дышим. Он в хлебе, который мы едим, в вине, которое пьем. Разве его стихи стоят у нас на полке? Нет, они всегда с нами, растворены в пашей крови».
Приблизительно в таком тоне выдержаны и другие статьи января-февраля 1987.
Неузнаваемо переменившаяся внешне, измочаленная командами «реформаторов» Россия, находясь на пороге новой стабилизации (или, если угодно, «застоя») опять призывает Пушкина «сослужить государеву службу». Издается президентский указ об установлении Пушкинского дня России, за полгода до юбилея под председательством премьер-министра проводится заседание государственной комиссии по подготовке и проведению празднеств, на котором утверждаются сводный план мероприятий, юбилейная символика и пр. в том же духе. У государства свои виды.
Люди также устроены таким образом, что должны сами себе кое о чем напоминать. Пушкин, задаваясь вопросом, почему мы любим чужую славу, сам отвечал: оттого, что в ее состав входит и наш голос.
И все же лучшими юбилеями Пушкина представляются два прижизненных и непроизвольных, не замеченных его современниками.
В 1824 году артиллерийский прапорщик Григоров, нечаянно узнав в проезжем, вышедшем из коляски спросить дорогу, поэта Александра Сергеевича Пушкина, приказал произвести в его честь пушечный салют из двух вверенных ему орудий. Сбежался гарнизон, командование — юный прапорщик пошел под арест (и, кстати, закончил свой век монахом в Оптиной пустыни).
Во втором случае тридцатилетнего Пушкина чествовали грузины в Ортачальских садах на берегу Куры, в застолье, так как это умеют — или умели — делать только на Кавказе. Было это в Тифлисе в конце мая 1829 года.
И надо ли говорить о том единственно правильном празднике, который Пушкину необходим не меньше, чем большинству из нас, — когда мы обращаемся к нему (как и он к нам) за душевной помощью, открывая любой том его сочинений. И тогда поэт (или иначе — его гений) воскресает и оживает в душе читателя, сообщая ей бодрость духа как в прижизненных, так и посмертных испытаниях.
Нынешний юбилей отделяет нас от Пушкина уже двумя веками — мы не являемся больше не только современниками, но и историческими соседями. Пушкин теперь не позади и не впереди нас (как мнилось Гоголю), а возможно — над. Там где Шекспир и некоторые другие (с которыми загадочным образом связаны наши приливы, отливы, неурожаи и пр.). Мы знаем давно, как и чем все закончилось у него. Он наблюдает теперь: чем все закончится у нас?
Потому еще, что, по-прежнему, несмотря ни на что, мы остаемся его соотечественниками. И потому, что он — тот, кому уже удалось однажды расколдовать нас в слове для самих себя.
КАМНИ И ДРОВА
За лесом не разглядеть деревьев или за деревьями не видно леса?
Город прячется за домами или дома — в городе?
Нехорошо «говорить под руку», когда Москва так беспрецедентно чистится-строится, однако истина дороже: РУССКИЕ НЕ ЛЮБЯТ КАМНЯ, не чувствуют его и строить из него, по большому счету, так и не научились. С деревом дело обстоит наоборот: здесь русские мастера экстракласса (во всяком случае, были). Каменное же строительство носит подражательный, связанный характер, — оно лишено дара свободы, дающейся только интимной связью с материалом, и потому взлеты в нем единичны, исключительны, не характерны (будь то взорванный Днепрогэс, Покрова-на-Нерли или затерявшийся где-то на пригорке между полем и лесом орешек часовни греческого обряда).
Утверждение можно смягчить: отношения русских людей с камнем напряжены и затруднены, — «камень в огород», «камень за пазухой», тот камень на раздорожье, что предлагает добру молодцу варианты на выбор, один другого хуже, и далее — «от трудов праведных не наживешь палат каменных», или так — «деньги тяжело на душу ложатся, что каменья». Сизиф — не наш герой, и третий поросенок не мог быть русским даже по бабушке. Ни в одном из русских монастырей не стали бы искать «философский камень», по определению.
Деревни были ДЕРЕВЯННЫМИ. И город ОГОРАЖИВАЛСЯ поначалу частоколом либо присыпанными землей деревянными срубами, — так и говорилось: «городить стену», «срубить город». Топор в руках русских, будто приросший к ладоням, умел все. Одно только условие требовалось для этого: надо было любить дерево — его гулкость, цвет и запах стружек, его пользу, тепло и ощупь. И божищи дохристианские делались, как борти, из гигантских чурбанов, а не тесались из камня. Чтобы, в случае чего, могли зажечься от молнии, но только не пойти камнем ко дну. Каменными были скифские «бабы», — они и задержались кое-где, — бесполезные, позабытые, невостребованные. А о камнях любой славянин знал, они — дело рук Сатаны, и подло раскиданы Вредителем по белу свету на седьмой день творения, покуда Автор после трудов праведных отдыхал и собирался с мыслью.
Конечно, можно упереться здесь в географию, в условия обитания (хотя и Германия дремуча была лесами), — но, так или иначе, по каким-то причинам Восточно-Европейская низменность не успела вовремя узнать и полюбить камень. Горы маячили где-то по краю, как Уральский Камень, — «ветер с Камня», «за Камнем — Сибирь», — так же, как за тридевять земель, моря разноцветные: Белое, Черное, «синее», «зеленое море тайги» — как пелось еще в советское время. И столетие тому назад базальты для брусчатки, пиленый белый камень для строительства, каррарский мрамор и отделочные породы, кораллы для девичьих бус, — все это добывалось где-то, привозилось из-за горизонта. Остаются кирпич да недавний бетон — бедные каменные родственники. Азия додумалась еще до расписных «карамельных» изразцов, — но модуль не тот, и глины не те, не то упорство и представления «о сладком», — не пошел, короче.
Русские города горели не реже, чем в наше время жильцы заливали водой квартиры нижних соседей. Только тогда выгорали улицы и слободы. Так что последний запомнившийся пожар Москвы, сломивший дух Бонапарта (корсиканца, — он и умер на скале в море), являлся лишь суммой предыдущих (или последующих). Все ценное держалось горожанами в земле, в горшках, — рылись потом в пепелище. А заготовленный комплект бревен завезти да дом поставить, — уже через пару-тройку лет от всепожирающего пожара не оставалось и следа. На юге строили глинобитные дома, — «мазанки» из самана, — и в их экономичности и экологичности имели возможность убедиться «куркули» позднесоветского строя, когда понастроили себе, всеми правдами и неправдами, двух-трехэтажные «хоромы» из силикатного кирпича, — а оказалось, что зимой в них холодно, а летом жарко. Из-за отсутствия отходов камня — битого щебня — не получались также долго в России шоссейные дороги, — наша притча во языцех. Когда же Советы в приступе американизации залили города «асфальтовыми озерами» (как говорилось тогда), состояние строительства дорог сразу же перешло в состояние их непрекращающегося ремонта — с неким эсхатологическим окрасом. Кому не доводилось наблюдать на лицах собратьев из дорожных служб легкого замешательства, когда, опростав с самосвала кучу асфальта в очередную бездонную осенне-весеннюю лужу, они пытаются разгладить затем подобием деревянных скребков морщины на ее дымящемся, чем-то недовольном челе?
(Их деды и прадеды были проще сердцем, и когда в 30-е годы на восточной Украине было проложено несколько асфальтных дорог, то уже через полгода били всем сходом челом властям предержащим, чтоб оставлены были им их битые, пыльные, разъезженные шляхи, на которые так мягко и убаюкивающе ложатся колеса их телег, и все идет медленно, но путем, — тогда как первое же таяние снегов выводит из строя новую дорогу с асфальтовым покрытием враз со всем гужевым транспортом, а из возниц и иных подорожних вытряхивает душу на выбоинах, будто немилосердный бес сотрясает их бренным составом весь неблизкий путь от Великих до Малых Будищ.)
Если вернуться вспять, то Запад учился строить у римлян, греков и мавров (в период их расцвета). Достаточно один день провести — внимательно и подробно — в самом заштатном итальянском городишке, чтобы на уровне физиологии ощутить, чем может и должен быть город, на что способен правильно понятый КАМЕНЬ. О копировании не может быть и речи — в лучшем случае, будут получаться доходные дома, особняки Рябушинского, либо еще чего похлеще «в мавританском стиле». Но фиаско в чуждой им среде терпели поначалу даже физически перенесенные сюда итальянцы. Трудно принять «их» Кремль, — этот итало-татарский продукт из чередующихся задастых, с нарушенными пропорциями, круглых пирамидок и квадратных шатров. Памятник истории — да! Крепость? Без сомнения. Шедевр зодчества? Увольте.
Срабатывает архаический (или же «детский») стереотип красоты как украшенности, раскрашенности, искусности как искусственности. Таковы, впрочем, и китайцы, — только с пропорциями у них все в порядке, с чувством материала, и Стена самая великая, видная, наверное, с других планет, все-таки у них. Соблюди хотя бы пропорции — и получится Третьяковская галерея, а не Исторический музей, — с уродливым кирпичом цвета сурика для полов, прикидывающимся резным деревом, и подслеповатыми северными оконцами. Последнее, правда, уже климат — против него не попрешь.
Как давно это началось — культурное паломничество за кордон, «припадание к священным камням» Европы, бегство с возвращением: до-петровские и петровские «птенцы», Чаадаев, Гоголь, весь «серебряный век» со следами культурного шока (включая Блока), часто умолчанного, крайне редко — отрефлектированного. Показательно, в этом свете, название первой книги Мандельштама — «Камень». Не пройдет, однако, и нескольких испытательных лет, и другая песня начнет прокладывать себе дорогу в его стихе: «Уничтожает пламень сухую жизнь мою, и я теперь не камень, а дерево пою!»
Будто дудочка посмертная, проросшая из-под снега. А в другой сказке: Аленушка с камнем на дне лежит, сестрица братца-козла!)
Сравнить ли царя Петра с упавшим на Россию метеоритом? Царя, сумевшего стать городом. Это его имя лежит в основании «каменного периода» русской истории. И Империя вокруг образовалась, может, потому, что был построен, наконец, каменный город — центр, вышедший из себя и переместившийся на окружность, — так циркуль меняет опорную ногу. Указом 1714 года Петр запретил возводить каменные строения где-либо, кроме Санкт-Петербурга, — на время его строительства. На этом фоне переливанье колоколов в пушки выглядит частностью. Все каменные и металлургические ресурсы страны оказались собраны в кулаке демиурга. Последняя из цариц, правивших после него, единственная сумела разгадать послание Петра и смысл его деятельности, когда велела доставить камень для постамента Медного всадника хоть из Лапландии, если больше неоткуда, — волоком, катаньем, по льду, если не хватит русских и чухонцев, запрячь гусей! Потому что Всадник — ничто, камень — все.
Тогда впервые в России (уже не Руси) востребована оказалась философия камня, принят на вооружение господствующий архитектурный стиль, набрана армия крепостных и инженеров, — гигантский Франкенштейн разлегся на берегах в устье северной реки. Удар грома оживил его, наведя следом наводнение и бурю, чтоб в оплату прибрать жизнь царя. (Кажется, перед смертью он страшно мучался каменно-почечной коликой.)
Понастроить же из дерева кораблей было для русских уже делом техники. КАМЕНЬ приблизил к ним горы, сделал доступными моря, дал представление об островах.
Давняя тяжба Петербурга с Москвой имеет еще и такое измерение: борьба литофила с дендрофилом, пращи с палицей — в русской душе. Или иначе — органики с неорганикой, «химией». Москва в этой полемике представляет из себя не меньшую загадку, чем Питер. Корректнее все же не посягать на метафизику и остаться в пределах материаловедения. Постоянный эпитет «белокаменная» и наличие древней, большей частью уже подземной кладки лишь затемняет существо дела. Парадокс состоит в том, что Москва после пожара 1812 г. в значительной степени так и осталась «деревянным городом», — сам покрой ее сохранил топографию до-наполеоновской Москвы (описанной, по счастью, поэтом Батюшковым), гигантской азийской торговой столицы (полночного Багдада), разрастающейся деревянными теремами с крытыми галереями, флигелями «от балды», цветастыми шатрами. Камень вытеснил дерево, но дерево проникло в его состав, — исказило пропорции и декор зданий, позволило «вязать» в Москве ВСЕ СО ВСЕМ. Это были уже не камень и не дерево, потому так легко и приходило в негодность это гибридное образование, состоящее будто из одной штукатурки, крошащееся, словно пересохший пряник.
Революция (начавшая, кстати, с выламывания булыжников из мостовой) много чего натворила, — безвозвратно, — однако, перейдя к строительству, она же открыла в Москве катакомбы «третьего Рима» — метро, — помимо транспортных удобств, давшее народонаселению наглядный урок отношения к камню как к материалу, к его фактуре, прожилкам, оттенкам, возможностям. Остались также «сталинские» высотки, будто вынутые из мультфильмов периода холодной войны, — остались ВМЕСТО половины из «сорока сороков», — и все же как уныло гляделся бы без них силуэт современной Москвы!
Сегодня, хорошо ли плохо, начали, наконец, работать большие деньги. Однако, в половине случаев архитектор, а за ним и строитель, не чувствуют материала, насилуют его свойства, следуя дремучей гордыне заказчиков, то обезьянничают, то по-новой изобретают НЕЧТО. И вновь возникает на брегах Москвы-реки помесь дощатого сортира с небоскребом.
Однажды мне довелось выпивать с кузнецом. Как все люди его профессии, он не был многословен, — на этот раз, однако, в самом конце разговорился:
— Железо… — сказал он. — Я так его люблю! Когда его куешь, оно на наковальне, оно такое… — я бы его зубами грыз! — так завершил он свой монолог. И мне нечего к этому прибавить.
Интересно, не появится ли на приливной волне терроризма новая его разновидность в будущем веке, — эстетическая? Чур меня! Время само и без всякого тротилового эквивалента проверит наши постройки на прочность.
Плоха однако та статья, что, начавшись за упокой, им же и закончится.
Есть нечто в Москве, этой «мировой деревне» в буквальном смысле, кроме людей, что дает надежду на будущее ее и ее обитателей. Может, именно благодаря своей разношерстности и недоделанности она предоставляет человеку не БОЛЬШУЮ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ, но БОЛЬШЕ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ.
И еще: каждому «москвофобу» или просто измученному мегаполисом обывателю я бы рекомендовал, как откроется навигация, прокатиться на речном пароходике от Киевского вокзала до Новоспасского, или хотя бы Устьинского моста, — вы увидите другую Москву, заслоненную обычно скверными постройками, толпами людей и машин. Не вы, а она теперь будет поворачиваться перед вами, будто на помосте или стенде, приоткрывая анатомию своего рельефа, меняя гардероб и декорации, не оставляя сомнений, что она ГОРОД, несомненно, организм и, возможно, даже одушевленное существо, умеющее быть привлекательным, когда ему того хочется.
А это будет значить, что, невзирая на озабоченность, обязанности и пережитое, возможно еще отыщется в вашем сердце незанятый кармашек для этого города, загнанного, отвыкшего от сочувствия, так подозрительно похожего на целую страну.
ШКОЛА ЮГА
Нет места на свете, находясь в котором, нельзя было бы повернуться лицом к Югу. Путешественники давно замечали, что такой страны нет и что на юге каждой самой небольшой страны находится ее собственный Юг. И даже если в южном полушарии называться он будет как-то иначе, то разве что от противного — по логике соперничества полушарий. Потому что речь всегда идет об одном и том же юге, о том Юге, сумма одежд на котором уменьшается, телесность же количественно прирастает, — об обманчивом приближении к эдему. Совсем не обязательно должен совпадать он с климатическим югом, так же как невроз Юга не носит географического характера, но только свидетельствует о силе влечения. Судить о приближении к нему можно лишь по начинающейся легкой вибрации красного конца компасной стрелки, грозящей при упорном продвижении потерей ориентации. При этом Юг аналитически неуничтожим, как нельзя механически уничтожить магнит: дробя его, будешь только получать большее количество меньших магнитов. Ведь все знают, что лучше жить в умеренном климате, однако Юг неодолимо притягивает мысли людей. Он попросту снится им. Так, в полуночной Швеции врачи прописывают своим пациентам слайды солнечной погоды, а в полуденной Индонезии дают потрогать лед за деньги.
Совсем не исключено, что три русских столицы — на ноге, за ухом и чуть пониже левого соска — могут оказаться тремя точками акупунктуры, управляющими тремя разными снами. И пока русские спят, в глубинах их подсознания, возможно, ведется перекрестный допрос, происходит очная ставка тех ноуменов, что люди зовут городами.
Городов ведь, как и народов, много, — как обуви разного размера, назначения и вида, в которой ходит по земле босая нога человека. Но люди — они такие, они и рождаются сразу в обуви. Случается, что переобуваются, — иногда не в свой размер; но снимают обувь только с мертвого тела. Поэтому тела выносят из городов вперед ногами — чтобы тем, кто потащит их за ноги, издалека было видно, что они босые. Обутых те не берут. Впрочем, таких случаев еще не бывало. Это вопрос лишь времени — иногда препирательств и нервов. Повторно обувь никогда не используется и в починку не принимается. И все же, все же…
Каждый мальчик по достижении какого-то возраста должен пойти и взять город. Иначе он не считается жившим. Некоторые, во всяком случае, так утверждают. Но как и какой город брать ему, он должен решить сам. Все эти взятые города, накладываясь один на другой, и образуют Город. Видно такой Город только с самолета и только ночью, поскольку, как уже говорилось, города — это не феномены, а ноумены. Города, империи, столицы основываются теми, что покинули дом. Бежали — говорят одни. Другие им возражают: да, чтоб не сойти с ума от раскалывающего голову беззвучного зова, услышанного и не исполненного, — от того полуобморочного, всепроникающего запаха феромонов земли, на который они и явились в этот мир.
Самой южной столицей русских был Киев. И столицей стал он не когда из Царьграда перенесен оказался в него слепок Софии, но еще ранее, когда Владимир загнал Русь в реку и, стоя на высокой круче, заявил: «Теперь вы — христиане!»
То есть он назначил, и перед этим его жестом меркнут все дальнейшие ломки и переделки самых грозных царей и революционеров будущего. Кияне же, выйдя из реки, долго бежали в мокрых рубахах по берегу за колодой своего Перуна, прыгая по камням, и кричали, как дети, над чьими играми надругался нетрезвый взрослый: «Боженька, выдыбай, выдыбай, боженька!» — пока годная на дрова чурка бога огня и грома не скрылась и не исчезла в бешеной пене порогов. Что должно утонуть — не сгорит. Не с той ли поры ветер свистит во взломанной русской душе и за каждым самым нелепым поступком тянется такая родословная, что и не снилась никаким династиям?
Но именно оттуда, с Киева, с импорта Рюриковичами православия, началось ползучее осеверянивание византинизма. Пока много веков спустя последний отлетевший вздох Царьграда, поднявшись до широт Санкт-Петербурга, не схватился однажды морозным утром на его стеклах кристаллическим узором.
Этот последний, город Петра, нарочно придуманный, чтобы спорить с Москвой, может еще в большей степени призван был спорить по существу с давно оставленным и забытым Киевом — какая полярность во всем!
Объем рельефа — и плоскость плана;
органика — и штучность;
барокко — и классицизм;
песня — и балет;
пластика — и графика;
онтология — и гносеология;
превалирование устных и поведенческих жанров — и апофеоз письменности;
буйство цветения сошедших с круга женских стихий — и… прямая спина Каренина;
плотоядность — и диета;
«город любви» — и «город идеи»;
ночь украинская — и белые ночи;
Миша Булгаков, затачивающий на пороге гимназии пряжку форменного ремня, чтобы, если понадобится, драться уже сегодня, — и слегка мраморноватые на ощупь тенишевцы N. и М., плюс — предсмертная папироска Гумилева;
город зарождения «белого движения» — и «колыбель трех революций»;
плоская «черная дыра» Малевича, Архипенко, поднятый с тротуара каштан, зажатый в ладони, — и символизм, от «Медного всадника» до «Незнакомки»;
Гоголь Полтавы — и Гоголь «Петербургских повестей»;
иррациональность — и ирреальность;
группа сумасшествия маниакально-депрессивных психозов — и группа шизофрении.
И между ними полоумная — но и полумирная! — Москва, как вершина поставленного на попа равнобедренного треугольника, один угол в основании которого греется, а другой стынет.
Речь пойдет, однако, об одном частном случае, о т. н. киевской школе. Точнее, о ее проекте. Потому что никто точно не знает, что это такое. Адепты ее в том числе. И это справедливо. Поскольку существует она — с точностью до миллиметра и миллиграмма — ровно в такой степени, в которой ее нет. Парадокса здесь тоже нет никакого. Так, обычное, старое как мир наваждение, которое имеет место и располагает людьми, личным составом.
В любом городе и во всех школах существует класс «А» — он целиком принадлежит жизни и в культурном отношении бесплоден. В лучшем случае, он — более или менее колоритный фон. Скажем, еще недавно, незадолго до долгожданной и внезапной катастрофы чтения, типичный разговор в центральной детской библиотеке города Киева мог выглядеть так:
— Тьотя, дайте мени почитаты якусь казочку, — говорит девочка из младших классов.
— Деточка, визьмы краще почитай книжечку про Ленина, — отвечает ей полногрудая библиотекарша с расплывшейся талией.
— Тьотя, я не хочу про Ленина, я вже читала. Дайте мени казочку!
— Нет, деточка, на тоби книжечку про Ленина. Оце ты не хочешь зараз читать про Ленина, потим не захочешь выходыть замуж, потим не захочешь рожать… А женщина — это труженица, мать! На тоби книжечку про Ленина.
Или другое — в том же роде, может, даже там же, но уже без читателей: «Оце, колы я лягаю в постиль з кумом Петром, скажу тоби — це ни з чем не зравнимое чувство!» И раздумчиво, после паузы: «Хиба що зъисты» (разве что съесть что-то этакое!).
Сюда, как «переходник», примыкает другая история — их можно множить. Некий поэт, резко сменив православие на иудаизм, едет обрезаться. Как прежде он подправлял во время богослужения православных священников, так вскоре будет одергивать раввинов. В троллейбусе ему однако встречается представитель киевской школы, который спешит за город на шашлыки, где поджидает его развеселая гетеросексуальная компания. «А-а! — машет рукой поэт. — Обрежусь завтра!» И, круто изменив маршрут, также едет за город.
Поэтому гласная «А», отмеченная долготой, вполне может быть раскрыта здесь и как шифр жизненного «аппетита». Но речь пойдет о другом. Не о Киеве — родине жлобов, разбежавшемся быть большим городом, да так и застывшем на уровне от четырех до шести сталинских этажей — в неподвижности и тоске (бывают же на свете такие счастливчики, умеющие вязать носок длиною в жизнь, для припасов! Пусть живут, пока врут); и не о расположенном на тех же холмах городе со смещенным центром, зовущемся Кыйив, за которым будущее и другая, новая история — лет через пятьдесят-сто; но о Киеве-Киеве (так подзывают птиц), о тонком слое беззаботных трутней, всегда выделяемых инстинктивно озабоченным роем, чтоб не сбеситься от заведенного распорядка и не броситься, подобно свиньям, с обрыва в реку, сожрав перед этим весь мед.
Есть в этом Киеве одно громогласное умолчание, загадочное и знаменитое место — Поскотинка. Оно расположено в двух остановках от центра и нависает над Подолом. Это огромный вздыбленный луг, лысая гора, на которой ничего, кроме травы и чахлых кустов, не растет и вот уже две тысячи лет ничего не строится. Бульдозеры уходят под землю или распадаются на запчасти на дальних подступах к нему. Нигде так хорошо в Киеве не пьется, как на Поскотинке, с буханкой ржаного арнаутского хлеба, в высокой траве, продуваемой ветром, с видом на кучевые облака над поймой Днепра, на бутафорные башни фальшивого замка Ричарда Львиное Сердце, на хатки, отгородившиеся друг от друга заборами из щепы, лепящиеся на противоположных вертикальных склонах, по которым взбираются только куры — гуськом. Место это носит и удерживает только алкоголиков, хипов, сумасшедших философов, юнцов, фехтующих параджановскими шпагами, когда-то подаренными их отцам, — пытаясь таким образом воскресить представление о чести. Постороннему ничего не стоит исчезнуть на Поскотинке, несмотря на благодушный в целом и расслабленный характер места. Самый сумасшедший — именно что похожий на библейского патриарха, придумавший соборную Украину и, кажется, взявший курс на украинскую Богородицу, — утверждает, что холм Поскотины нарос на месте упавшего корабля инопланетян. На предложения скептиков или новообращенных приступить к раскопкам отвечает всегда сдержанно: «Пытались!..» И в лаконичности ответа прячется оттенок злорадства.
Таковы здесь последние, готовящиеся по обетованию стать первыми.
Любимая история «киевской школы»:
— Аустерлиц. Дымы, рвутся ядра. Атака. Поле боя пересекает нахмуренный человек в плаще с капюшоном. Он не глядит по сторонам. Временами что-то бормочет себе под нос. Это Агасфер.
Гробовое молчание, за которым следует громовой хохот — с нотками взвинченности.
Каждое лето двадцать две тысячи киевских юношей, выйдя из пубертатного возраста и прочтя книгу Отто Вейнингера «Пол и характер», бросаются с киевских мостов в реку. К ногам каждого из них привязан огромный кьеркегор.
Каждый день незадолго до окончания рабочего дня распахиваются здесь двери института философии, и на газон, отделяющий тротуар от проезжей части, выпадают от трех до четырех риторов, киников и богословов и долго медитируют, стоя на четвереньках, лежа навзничь или, подобно эмбрионам, ворочаясь с боку на бок. Прохожие обходят их, не обращая особого внимания. Машины в этом месте притормаживают перед спуском к Крещатику.
В пещерах Киево-Печерской лавры среди прочих костей лежит череп монаха, описавшего «Откуда есть пошла русская земля». Когда в пещеры запускали бывшего штангиста — знаменитого ныне гипнотизера одной из партий, он, кормящий черта на коленях с ложечки, дергался, будто муравей, попавший в поле под высоковольтной линией.
Тогда же примерно вместо денег появились купоны, а вместо гипотетической украинской Богородицы объявилась женщина-Христос. И продолжали лопаться все новые пузыри.
Ветвится непрекращающийся дискурс около застывших навсегда историй, удостоверенных и подкрепленных поцарапанными негативами и нищетой выцветших фотоотпечатков. Говорение идентично здесь припоминанию. Длится нескончаемое авантюрно-интеллектуальное приключение, в кульминации упирающееся всегда, к восторгу соучастников, в метафизический тупик. То остановленное время Потоцкого, Кортасара, Кастанеды, Гурджиева — подлинных культурных героев Юга — и связанных с этим ожиданий.
В малом социуме — в отличие от большого, с которым он не хочет иметь ничего общего, — представитель киевской школы хочет говорить всегда сам, и здесь он не знает компромиссов. Есть какой-то драматизм в этой всеобщей невыслушанности. Все есть — и нет ничего. Как в нескончаемой шахматной партии — нет хода, нет презираемых «достижений», которые можно было бы предъявить, — есть иллюзор- и сюр-реалистические картины, психоделические дневниковые романы, песни отчаяния, сложенные на утрированном киевском «суржике», герменевтические штудии, исполненные философской истерики и виртуозной брани, планы, наконец, столь материальные, что уже как бы не требующие исполнения. Желающий приблизиться извне неизбежно промахивается мимо. Ему остается только поиск по запаху, который задерживается более всего в устных и поведенческих жанрах, в женщинах «школы», в креатурах, ею созданных и отвергнутых, и прежде всего — в ненаписанной, но постоянно воскрешаемой ее летописи.
Есть материал киевской школы, ее неосуществленный проект — как выглядели бы, например, Довженко, Тарковский, Параджанов до изобретения кинематографа (этот последний, кстати, выглядел бы лучше всех). Собственно: отсутствие адекватного языка. Кто мог подумать только, что от чего-то, устроенного не сложнее мясорубки или швейной машинки, в сочетании с целлулоидом и темнотой может произойти новый язык, что сон, как дым без огня, может вторгнуться в жизнь и выволочь на божий свет коллективное бессознательное — бесконечно банальное и наделенное столь же бесконечной способностью к переодеваниям? Монокль всего-навсего и какое-то механическое стрекало, способное смаргивать двадцать четыре раза в секунду, — и все стронулось с безжизненных мест, ожило. Но вот нет его, и мир вновь расползается и расплывается, будто уходит резкость из кадра.
И остается голая конвульсия с болезненно-сладострастным стремлением к выворачиванию ситуации, к немотивированным переходам от любви к ненависти (когда с нечеловеческой энергией может произноситься, например: «Я ненавижу Киев за то, что это город, в котором убили Столыпина!») — здесь довлеет самоволя, соединившая присвоенное аристократическое право с гремучей мазохистской смесью, разносящей киевлянина на куски строго по законам признаваемой им над собой эстетики, — к чему сам он присматривается не без самодовольства, повторяя вслед за певцом: «Сумасшедший, к счастью, это я!» Киев оказывается городом, созданным для великих потрясений, которые сам он внутри себя пережить, однако, не в состоянии.
И вот тогда часть Киева спасается бегством. Вероятно, способность к бегству заложена генетически. Класс «Г» — «гибели» — остается за партой на следующий год, бессрочно, и кто не загибается сразу на излете молодости, цинично попирая законы природы, тот гибнет всю оставшуюся жизнь. Покуда смерть по-киевски не начинает звучать столь же тривиально, как котлета по-киевски. Класс «Б» — «бегства» — бежит, уносит ноги из киевского плена негативных систем, и в новообретенной жизни всеми силами пытается вытеснить и забыть то, что забвению не поддается и отчаянно сопротивляется, — забыть о полученном в городе на Юге, в ходе пряной игры с амбивалентным и запретным, глубоком проникающем ранении где-то в области сердца.
И те, кому действительно удается разорвать закладную на свою душу с покинутым городом, начинают собирать себя понемногу, по кускам: сперва учатся находить свое отражение в зеркале, отзываться на имя собственное, затем берут уроки дикции, определяются конфессионально, получают мастерские и делают то, от чего категорически отказывались там и тогда, — социализируются, наконец.
Жизнь у проточной воды в огромном и открытом городе, варварски безмерном внешне, но расстроенном внутри, здоровый прищур Москвы, навидавшейся тараканов, нескончаемое и безуханное цветение сирени месяцами и трезвящий воздух подмосковных боров со временем делают их неуязвимыми для стрел, продолжающих долетать время от времени из прошлого, с Юга: будь то преступная материализация слетевшихся из Карпатских гор деревянных резных ангелов — с пересадкой в Борисполе — или внезапная инспекция подвергнутых нежному остракизму и отчуждению, оставленных беглецами заложников. Наконец, у них перестают зябнуть здесь ноги.
В неулыбчивом воздухе севера Юг, однако, не был ими предан — лишь заговорен, трансформирован, локализован в творчестве, переходящем в игру, и игре, переходящей в жизнь. Потому что на деле проект киевской школы был невероятно артистичен, и задумана она была — не исполнителями — как деревянный мальчишка, призванный радовать детей и взрослых на краю невыносимой банальности того, что впереди. Так истинным культурным героем школы становится Актер несуществующей, принципиально анонимной и небывало свежей актерской школы, достаточно ироничной и интеллектуальной, чтобы не превратиться в театр, и достаточно артистичной и непосредственной, чтоб не обернуться движением или сектой. Но именно здесь, когда роли разобраны, подстерегает школу последняя и самая серьезная опасность: риск стать школой того, что изначально она вообще-то презирала, — школой жизни. Вдохновляющая цель попытаться быть «ураганом жизни, сметающим смерть», кончалась ведь всегда одинаково и обращала автора идеи в лучшем случае не более, чем в персонаж Истории — в материал.
Ныне ее постигает та же судьба, что и всех русских, и людей вообще, которые взрослеют окончательно тогда только, когда им становится некуда возвращаться.
ПРОЛЕГОМЕНЫ К ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СПОРТА
Еще сто лет назад под спортом понимались всякие вообще занятия, ставящие своей целью не выгоду, а забаву. И потому в графу «подвижной спорт» словарь Брокгауза включал, например, хождение на ходулях, танцы и запускание воздушных змеев, а к неподвижным — безмускульным — его видам относил: садовый спорт, составление коллекций, игры в помещении — в том числе карточные, — и любительскую фотографию. Высшими же видами спорта, по мнению составителей словаря, являлись: охота во всех ее видах, лошадиный и парусный спорт, и воздухоплаванье.
Думается, что подобная классификация порождена не путаницей в головах составителей, а некоторой расплывчатостью и непоследовательностью той жизни, где спорт не подвергся покуда столь радикальной специализации, а многие роды и виды досужей деятельности не выявили еще пределов собственных устремлений. С тех пор конституировались хобби, воздухоплаванье ушло в авиацию, часть лошадиного спорта — в конармию и затем в конскую колбасу, а бои животных — в подпольный бизнес.
В огромном же, отколовшемся и отплывшем материке собственно спорта универсальным принципом стало не столько даже требование достижений в сфере телесных упражнений, сколько приоритет самого принципа состязательности. Именно поэтому шахматы и карты — спорт в большей степени, чем аэробика и утренняя зарядка.
В одной из своих книг Леви-Стросс утверждает, что с «чужим», «другим», на свете можно делать только две вещи: или «убивать», или «жениться». Любовь онтогенетически и возникает как чудесный щелчок, переключающий энергию агрессии. Любовные танцы птиц, — когда, после демонстрации мощи и оперения, вместо смертоносного удара в доверчиво подставленное темечко следует символическое изображение кормления, сохраняющее при этом всю силу первоначального импульса, только переключающее его в регистр зверской нежности — поцелуя, — танцы птиц (и народов) зафиксировали эту стадию. Вероятно, следует полагать, что спорт также является способом РАЗРЯДКИ, выведения и заземления энергии внутривидовой агрессии. В первом случае — ПРЕОБРАЖЕНИЕ, сублимация, во втором — ПЕРЕНОС, осуществление по жестким правилам ряда символических и ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫХ действий, направленных на сжигание энергии, — аннигиляция и взаимопогашение двух встречных импульсов (с соперником или рекордом), оставляющее по себе ощущение удовлетворения, как всякий закономерный результат избавления от энергии, сброса давления. Для этого существовали войны и военные игры, наумахии, затем турниры, пришедшие в упадок вместе с рыцарством. Генетически спорт многим обязан пари. Именно поэтому так преуспели в нем поначалу заядлые спорщики — англичане, у которых спортклубы существуют уже лет триста.
Есть однако такой аспект спорта, что не покрывается столь простой схемой. И это стремление к совершенству. То, в чем когда-то так отличились греки, единственные в древнем мире, поставившие своей целью не взращивание превосходящих друг друга воинов-убийц, а гармоническое развитие человека, как они его понимали: атлетизм, кулачный бой, колесницы, игра на музыкальном инструменте, — чтобы смочь противопоставить Року и воле олимпийцев свой заранее обреченный героизм и самообладание — т. е. способность владеть своим телом, чувствами и тем остальным еще, что отличает человека от животных, мыслью и словом.
Кубертен — великий утопист конца прошлого века, чьи идеи, действительно, во многом видоизменили физиономию мира, — смог взять от них для своего «олимпийского» кодекса лишь то, что мог потянуть его век: правила и институт судей вместо благородства, латинизированные принципы «быстрее, выше, сильнее», и огонь, одолженный на горе у языческих богов. С массовидным обществом шутки плохи, и две последовавшие мировые войны продемонстрировали это наглядно. Человек так устроен, что ему невыносимо, трудно и противно быть самим собой, — ему во что бы то ни стало надо быть кем-то другим. И выбор здесь, вообще-то, невелик. Принцип состязательности и достижений перевесил изначальный античный принцип стремления к совершенству и срезонировал с общим стремлением эпохи — к состоянию сверхчеловеческому.
Именно поэтому так скоро из спорта выделился профессиональный спорт, что совпало также с другим фундаментальным принципом массовидного общества, — так возвысившим кино, институт «звезд» и ТВ: «Вы будете только работать и отдыхать, а жить за вас будем мы!» — специализация качеств вместо универсализма. И потому, в частности, успехи в разных отраслях спорта все более становятся подозрительно похожи на успехи селекционеров в выведении новых пород животных. При том, что сюда не подключилась еще генетика, хотя помечтать об этом можно уже сегодня.
Самым, однако, интересным во всей спортивной проблематике представляются отношения спортсмена и зрителя, болельщика. Именно болельщик делает спорт спортом — он тот, кто «заказывает музыку» и платит деньги. Потому что выдающихся спортсменов, как и великих воинов, всегда меньше, и не они, не рыцари и самураи, давно решают — и решали — исход сражений, а те, боявшиеся не столько смерти, сколько боли, дурачки, носившиеся по полям сражений с прикрепленными к спинам на шестах флажками с белыми иероглифами, и которыми начинялись затем окопы последующих войн — их общее среднеарифметическое состояние, которое и называется боевым духом.
Что же болельщик, не только обеспечивающий существование, но творящий сам феномен спорта, — ему зачем это пассивное участие в спортивных баталиях?? Великая сила воображения, партиципации, пантеистический атавизм позволяют ему с помощью двойного замещения — ПЕРЕНОСА в квадрате — достигать той же цели, которой прямым участием добивается спортсмен: с помощью выплеска интенсивных и проявленных эмоций сжигать энергию, избавляться от таких состояний в душе, возникающих в результате постоянно действующего напряжения, какие бывают с засиженной ногой, — встать, пройтись, — и даже в случае проигрыша «своих» действие остатка неизрасходованной энергии переключается на «подставу», на субститут, на мечту о сладости реванша. Поскольку результат никакой игры не является окончательным. Спорт надындивидуален и бессмертен, как сама Природа. Главное — не победить, и даже не участвовать, главное — болеть.
Из этого выводится несколько важных следствий. Участие в деле спорта воображения, психической заразительности людей, делает возможным появление время от времени великих матчей — событий, примыкающих вплотную к миру культуры, к исключительным по драматизму победам человека над самим собой, над собственной немощью, т. е. над материей. Неизвестно еще, что в большей степени — ноги и ракетки или сумма взглядов — перемещает с места на место шарики пинг-понга и футбольные мячи и заставляет их двигаться в непредсказуемо-определенном направлении. Спорт до некоторой степени и является культурой. Но — как и политика — культурой… для бедных. В высших своих проявлениях он расположен в месте стыка культуры и природы и, отчасти, истории. Но исповедуя культ силы и молодости, изгоняя самую мысль о смерти, — т. е. о времени (его время измеряется секундами, таймами, раундами), — поклоняясь видимому и измеримому, он никогда не достигает глубины и окончательности собственно культуры, — в каком бы плачевном состоянии она в каждый данный момент ни находилась. В низших же своих поползновениях он имеет прямое отношение к периодически разыгрывающимся в жизни природы схваткам за самку, к сезонным играм молодняка, в которых отстаивается и завоевывается право на доминирование и оплодотворение, — или, мягче, к цветению пола. Так невозможен спорт даунов — печально улыбающихся ошибок природы, особей никогда не достигающих возраста половой зрелости. Также детские игры становятся соревнованиями не раньше, чем гормональное беспокойство посещает их сухие, до поры, мошонки.
А что другое еще способно так волновать людей в стрельбе в цель — в «пупик» мишени, как называют это сами стрелки, — именно, что волновать? И чем является игра № 1 нашего столетия, если посмотреть на нее попристальнее, — т. е. отстраненно. Не двадцать ли два «сперматозоида» гоняют по размеченному полю пола чреватую голом «яйцеклетку», чтоб загнать ее в одну из двух «маток» ворот? Отчего взрывается оргазмом циклопическая чаша стадиона — этот распаленный вожделением фасеточный зрак соглядатая. Вспомните жест футболиста, «распечатавшего» ворота. Они оплодотворены. Тяжесть гола имеет здесь решающее значение. В отличие от легковесных резиновых шайб, в изобилии забиваемых при помощи хромых клюшек скорыми, но малоустойчивыми хоккеистами. Футбол — зрелище грандиозное, как сношение слонов, — как поединок тех исполинских клубов, на чьих плечах, по преданию, покоится Земля.
Вратарь отращивает руки, судья — глаз и свисток, но почему кричат «судью — на мыло!» и футбол — это все же НОГА? Не в одном же создании искусственных затруднений суть дела, — преодоление которых пусть даже очень украшает игру. Нога напрямую связана с телесным низом и имеет отношение к ранним дочеловеческим стадиям развития биологической особи. Потолок ее открытий — изобретение бега, — ускоренного передвижения при помощи прыжков с отрывом от земли. Лишены ног змеи, хром бог-кузнец и нечистая сила, козлоноги были сатиры. Чуть прихрамывающий мужчина наделен, как правило, неотразимой эротической привлекательностью. (Также эротичны чуть пришепетывающие, словно змеи, польки.)
Нога. В раннем возрасте человеческий ребенок — квадропед, и не делает большой разницы в пользовании руками и ногами. Его нижние конечности почти так же цепки и гибки, как и верхние. В дальнейшем, когда он утверждается вертикально, — т. е. на ногах, — просто перерезается или блокируется некая нервная связь, идущая от ног к спинному и головному мозгу. Головной мозг работает отныне исключительно с руками, отведя ногам, раз и навсегда, служебное, подчиненное положение подпорок. Так вот, представляется, что у великих футболистов эта связь — ментальная нить, — судя по всему, не перерезается и не атрофируется, поскольку выдающийся футболист, на самом деле, умеет «думать ногами» и достигает в этом подчас такого искусства, какого никакой дрессировкой, — если пресловутая нить перерезана, — не представляется возможным достичь. Какие последствия для умственной деятельности имеет поощрение в футболе ноги и наказуемость руки, трудно сказать, — да это и несущественно. Надо полагать меньшие, чем для углекопов и рудокопов работа под землей (это они своим молчанием добывают то золото, которым награждают чемпионов). Футбол в максимальной степени работает с самыми архаичными слоями коллективного бессознательного, движимого принципом удовольствия и стремящегося к исполнению желаний. Никакое кино ему здесь не соперник, — в кино все же слишком много культуры. Характерно также, что чем больше толпа, тем более отдает она предпочтение командным играм. Все индивидуальные состязания собирают существенно меньшие количества куда более прохладных ценителей.
Но даже такая в высшей степени интеллектуальная игра, как шахматы, легко может быть представлена чем-то вроде состязания изощренных, рафинированных грибников — борьбой, ведущейся за стяжание потенции и направленной на оскопление противника. В цивилизованном мире мата — гибели короля — вы не увидите. Устранение нарастающих угроз, снятие по правилам силовых нарывов фигур с доски, не в состоянии нанести вреда и внести помехи в работу сплетшегося под доской мицеллия — этого подлинного гения шахмат, — что, словно мозг, намечает комбинации «ведьминых кругов», заманивая игроков все глубже в дремучий шахматный лес. Выигрывают всегда мицеллий и тот из игроков, кто окажется с ним заодно. Потому нет ничего более позорного в шахматах, нежели пат, — это надругательство над шахматным искусством и публичное медицинское освидетельствование фаворита в импотенции.
То же в картах, где подобное состязание о сперме, — особенно, когда оно ведется на деньги, т. е. на содержимое мошны участников, — выступает в еще более неприкровенном виде и имеет все черты страсти.
Многое можно было бы сказать о мегаломанских и наркотических гонках на «Формуле-1», прыжках с трамплинов, о всех формах мордобоя по правилам, гольфе, крикете и прочем. Все это, однако, будут частности.
Куда более важным представляется отметить еще один очень важный аспект спорта — как деятельности, по видимости, эстетической, развивающейся в уже упоминавшемся месте средостения культуры и природы. Из спорта давно уже эманируют — через моду — в жизнь образы, обращенные в будущее, наделенные странной проективной силой. Скафандры космонавтов, пришельцы детских комиксов, киборги — все это прежде было обкатано (и даже в буквальном смысле) в спортивной форме хоккеистов и бейсболистов. Можно говорить уже о переодевании целых народов (населявших некогда СССР, например) в тренировочные костюмы фирм, экипирующих спорт. Формальное разнообразие и пышная разноцветность спортивных состязаний приводят на ум праздничное великолепие тех первых войн, исход которых решался еще искусством — а иногда и оперением участников, — а не количеством и скорострельностью стволов на километр.
Однако не следует забывать, что в спорте речь идет, в конечном счете, только о победе, а не об игре «красивой и грациозной», на что периодически жалуются проигравшие. Прискорбные гонки на инвалидных колясках и командные игры на костылях, вкупе со всеми красотами замедленной съемки, способны лишь подчеркнуть изначальную скудость спортивной философии.
И если у спорта есть будущее и будет конец, как у всего на свете, то концом этим легко представить себе не допотопные, элементарные, вообще-то, войны народов и государств, а войны болельщиков и континентов.
P.S. В наши дни в Афганистане перед началом спортивного состязания состоялась публичная казнь. Похоже, какими-то своими частями мы находимся уже — или вступаем — в следующее столетие…
Прошу прощения, — тысячелетие.
Осень 95, Берлин (едва не ставший городом Олимпиады 2000-го года).
ИСКУССТВО НАЗВАНИЙ
Если имя дано неправильно, слова не повинуются.
(Конфуций)
Давать названия, несомненно, древнейшее из человеческих искусств, связанное с проникновением в замысел Творца. Творил-то Господь, но по его следам шел созданный им номинатор Адам и именовал продукты творения, пытаясь угадать их смысл и назначение.
Наши предки не совсем безосновательно полагали, что знающий имена имеет определенную власть над душами их носителей — существ, явлений и предметов, — что в свою очередь открывает для него доступ и к их телам.
После столь ответственного заявления попытаемся сузить тему и ограничимся искусством называния произведений искусства — «дохудожествления художества», как несколько громоздко выразился единственный известный нам исследователь так поставленной темы Сигизмунд Кржижановский (по-русски было бы: Крестовский). Его пионерская работа «Поэтика заглавий», изданная в Москве в 1931 году, не дала потомства (не считая всякий раз писанных на голом месте словарных статей и спорадических экзерсисов в печати, — см. напр. статью С. Ромашко «Имя книги» в «пушкине» № 2/1998). Кржижановский написал одновременно искрометные и педантичные пролегомены к несуществующей теоретической дисциплине, фактически же — обратил внимание на поэтическую практику персонализации всякого творческого продукта, имеющую тенденцию к развитою в особый род искусства и осуществимую исключительно в минималистском жанре.
Названия достаточно поздно стали всплывать на обложки книг и приобрели самоочевидный для нас сегодня вид заклятия, замка, смысловой защелки книги или отдельного произведения. Первоначальные названия времен свитков, скрижалей и таблиц соответствовали «великанскому» периоду развития словесности и отличались простотой и благородством: просто «Книга» (раскрывающаяся целым деревом книг — Бытия, Исхода, Чисел, Царств и т. д.), «И цзин» (Книга перемен), «Бардо-Тюдол» (Книга мертвых), «Дао дэ цзин» (с некоторой натяжкой — Путевая книга закона и благодати), «Дхаммапада», «Илиада», «Младшая Эдда» и т. п. Даже в тех случаях, когда эти названия появлялись позднее и являлись делом рук кодификаторов. Имеющая ограниченное хождение рукописная книга предпочитала названия описательного характера, что отвечало элитарности и неторопливому характеру чтения как особого рода ученого занятия. Быть «книжником» означало если не должность, то весьма почетное звание или даже титул.
В результате изобретения Гутенберга количественный рост тиражей и позиций резко ускорил процесс образования и выделения книжных названий. Названия минимизировались, втягивая в себя подзаголовки с кратким изложением содержания, разнообразились, достигали максимальной концентрации выразительности в лучшем случае, в худшем — рыночной броскости. Торговля необеспеченной экспрессивностью заголовков сделалась специальностью газетчиков Нового времени. Когда весь пар расходуется на заглавия, происходит перерождение и вырождение искусства давать названия в ремесло зазывал. «Убойные» названия — это настоящий «конек» редакторов, издателей, продюсеров, антрепренеров, и выдерживаемый ими уровень специфического мастерства в этой области достаточно высок. Тем не менее выведем за скобки трескучую базарную идеологию, каковой является реклама. Отвратимся от штампованной бижутерии в пользу граненых и вставленных в оправу драгоценных названий, напоминающих нам о состоятельности и благородстве происхождения — было бы глупо отказываться от подобного наследства.
Поверхностный слой мировой литературы, словно царские одежды, осыпан мерцающими названиями книг и именами их авторов. Эта шкура литературы напоминает также старинную географическую карту, приглашающую к путешествиям и сулящую необычные приключения. Да, именно так: очарование географической карты, как и встарь, весьма сомнительной и подвергающейся непрестанной правке. Некоторая договоренность в отношении основных географических фактов имеется, однако не только высота гор, направление течения рек, все расстояния, местонахождение островов, но и очертания материков, как и способы проецирования шара на плоскость — все это является предметом непрекращающихся споров и собьет с толку членов любого национального географического общества. Принципы именования и здесь и там во многом идентичны: мыс Доброй Надежды — и Повесть временных лет; острова Испаньола и Огненная земля — и Овечий источник или Жизнь есть сон.
Имена — как запахи, источаемые территориями и книгами, с той только разницей, что первые располагаются в пространстве, а вторые во времени. Поэтому также не приходится сомневаться, который из миров — географии или литературы — является более разветвленным, глубоким и загадочным. Открыватель и первопроходец дает что-то одно — либо название, либо собственное имя, проливу или земле, как основатель города — городу. На обложках книг имя автора всегда сопутствует названию произведения. Они неразлучны и взаимно окрашивают друг друга, перекликаются, отбрасывают рефлексы. Упомянутому Кржижановскому принадлежит замечательное наблюдение, что названия всех трех романов Гончарова начинаются на «Об», что, по его мнению, указывает на подспудный сюжет и общую тему: об-рыв и об-лом некоего об-ыкновения. Если учесть гончарную округлость фамилии автора (…ов — «Об…»), то речь может идти, видимо, о битье горшков — занятии не чуждом всякому русскому человеку. Нередко названия срастаются с именами авторов намертво, как «кровь» и «любовь» фольклора, или, напротив, как самые изысканные и штучные рифмы модернистов: если «Улисс» (ау, Одиссей!) — то Джойс; если «Процесс» — то Кафка, а если «Мать» — то Горький. Или рельефное, пораженное бессмертием лицо слепца, отражающееся, как в полированном металлическом зеркале, в названии новеллы «Вавилонская библиотека».
Есть большая группа названий, как бы столбящих территорию (как то принято было среди старателей) по имени героя, типа, явления или топонима, и их успех или неуспех зависит в первую очередь от природных ресурсов застолбленного автором участка и уже во вторую — от гула и звучания самого имени: «Евге-нио-не-гин» или «БРАтья КАРАмазовы», или такой донельзя простой и труднопереводимый, глухо звучащий, будто одиночный удар колокола, «Тихий Дон», отзывающийся шелестом в речных камышах авторского имени — Ми-хаил Шоло-хов (что представляется, попутно, сильным аргументом в пользу отказа от версии о плагиате, — по крайней мере, в отношении названия).
Переводимость и непереводимость не имеют прямого отношения к нашей теме. Бывают редкие случаи, когда перевод оказывается содержательнее оригинала (признанный перл — «Отверженные» Гюго). Мы все же ограничим себя пределами русского мира чтения — он достаточно безграничен и универсален, чтоб уловить основные тенденции интересующего нас искусства, которое тот же Кржижановский уместно оснастил эволюционной метафорой: в процессе оглавления верхний позвонок выделяется из туловища и развивается, становясь постепенно головой, мыслящим отростком живого существа, — таков природный закон. И если продолжить метафору, возможно, книги являются не в меньшей степени разумными существами, чем написавшие их люди.
Позволительно взглянуть на весь корпус названий мировой литературы как на еще одну коллективную КНИГУ КНИГ, как на сокращенный лексикон самых важных для человечества слов и одновременно как на самый полный тематический сонник, обязанность быть толкователем и истолкователем которого ложится на читателя. Библиография — фактически, криптологическая дисциплина.
Люди прошлого наделяли книги целительными свойствами и, соответственно, библиотеку называли «аптекой души» (надо полагать, ряд ядов также с необходимостью включался в ее состав). Беда только, что от подобного сравнения разит карболкой — в нем есть упование, но нет особого спиритуального веселья, безусловно ассоциируемого нами с ценной книгой. Поэтому не менее уместным было бы сравнить книжные собрания с винными погребами или коллекциями вин, а библиографию с картой вин. Хотя данное сравнение хромает на обе ноги, если не едва их волочет.
На самом деле с первых слов этого текста я стремлюсь к одному: предаться, наконец, перечислительному кайфу, радости рассматривания и перебирания драгоценных названий, их извлечения из мусора и плевел и составления в цепочки, узоры, фигуры и призмы, заставляя заиграть их гранями смыслов: «Мертвые души» и «Живой труп»; «На дне» — «Яма» — «Котлован»; или, скажем, злокачественное разрастание металлургической метафоры — от «Среди стальных бурь» Юнгера (антипода Ремаркова капитулянтского «На западном фронте без перемен») по «Как закалялась сталь» Островского, сюда же примыкает заметочка Шкловского начала 20-х годов «О Великом металлурге», — покуда все не упирается в псевдоним «Сталин», окруженный легионом кинохроникальных, пробивающих летки, сталеваров сталинизма. От метафоры тянутся метастазы к ядерному грибу, выращенному «атомистическим» Дали на пляжном атолле Бикини, и еще дальше, к заслуженно позабытой «Планете бурь» в респектабельной коленкоровой серии «Мира приключений», успевшей выплеснуться на экран, когда уже был запущен Гагарин, объявлена Программа построения коммунизма и мне вырезали гланды, — робот там застревает в потоке раскаленной лавы, будто в сбежавшем варенье, и собирается сбросить в нее астронавтов, примостившихся на его плечах.
Есть другие названия, отравленные и бесплодные, но при этом похожие на дзеновские оплеухи, как «Над пропастью во ржи», например, или «Невыносимая легкость бытия». А также названия априорные и претенциозные, вроде «Исповеди великого грешника» или «Взгляда Горгоны», аннулирующие саму возможность порождения дальнейшего текста.
Однако, подобно хитрому и целеустремленному сумасшедшему, мне не терпится предъявить незаконно присвоенные сокровища. Вот эти звучащие перекликающиеся столбцы, этот парад замыслов и блеск идентичности, эта струящаяся река имен:
просто Книга (включающая Книги Бытия, Чисел, Судей, Царств, Песнь Песней, Благие Вести) и другие еще Книги: Перемен, Мертвых и т. д.
О природе вещей
Труды и дни
Метаморфозы
1001 ночь
Записки у изголовья
Божественная комедия
Декамерон
Неистовый Роланд
Утопия
Город Солнца
Государь
Левиафан
Опыты
Трактат о равновесии жидкостей и весе воздуха
Похвала глупости
Корабль дураков
Много шума из ничего
Сон в летнюю ночь
Школа злословия
Ярмарка тщеславия
Философия будуара
Физиология вкуса (и пр. «Физиологии…»)
Декларация прав человека
Об очертаниях облаков
Нравы насекомых
Германия. Зимняя сказка
Красное и черное
Утраченные иллюзии
Блеск и нищета куртизанок
Три мушкетера
Двадцать лет спустя
Падение дома Эшеров
Колодец и маятник
Низвержение в Мальстрём
Остров сокровищ
Всадник без головы
Или — или
Цветы зла
Пьяный корабль
Воспитание чувств
Капитал
Анти-Дюринг
Кольцо Нибелунга (Золото Рейна; Гибель Богов)
Рождение трагедии из духа музыки
Человеческое, слишком человеческое
По ту сторону добра и зла
Воля к власти
Алиса в Зазеркалье
Затерянный мир
20 тысяч лье под водой
Из пушки на Луну
Машина времени
Борьба миров
Человек-невидимка
Сердце тьмы
Бессознательное
Психопатология обыденной жизни
Я и Оно
По ту сторону принципа удовольствия
Масса и власть
Волшебная гора
Смерть в Венеции
В поисках утраченного времени
По направлению к Свану
Под сенью девушек в цвету
Процесс
Голод
Поминки по Финнегану
Путешествие на край ночи
На Западном фронте без перемен
Растворимая рыба
Человек без свойств
Человек, который был четвергом
Убийство в восточном экспрессе
Смуглая леди сонетов
Прощай, оружие!
Иметь и не иметь
Острова в океане
Трамвай «Желание»
Гроздья гнева
На перекатах
Унесенные ветром
Поющие в терновнике
Кавказский меловый круг
Посторонний
Лысая певица
Стулья
В ожидании Годо
Над пропастью во ржи
Игра в бисер
Игра в классы
Модель для сборки 62
Уловка 22
Бойня № 5
Завтрак для чемпионов
Вино из одуванчиков
Марсианские хроники
Кто-то пролетел над гнездом кукушки
Кто боится Вирджинии Вульф?
Александрийский квартет
Всеобщая история бесчестья
Сто лет одиночества
Средство от метода
Невыносимая легкость бытия
Жестяной барабан
Имя розы
Хазарский словарь
Повесть временных лет
Слово о полку Игореве
Домострой
Недоросль
Горе от ума
Каменный гость
Медный всадник
Пиковая дама
Пир во время чумы
Мертвые души
Нос
Шинель
Герой нашего времени
Былое и думы
Кто виноват?
Что делать?
Преступление и наказание
Идиот
Бесы
Братья Карамазовы
Война и мир
Смерть Ивана Ильича
История одного города
Скучная история
Дама с собачкой
Человек в футляре
Три сестры
Три источника и три составные части марксизма
Лев Толстой как зеркало русской революции
Материализм и эмпириокритицизм
Облако в штанах
Я
Про это
Хорошо!
Двенадцать
Форель разбивает лед
Шум времени
Тихий Дон
Как закалялась сталь
Хождение по мукам
Гиперболоид инженера Гарина
Бегущая по волнам
Продавец воздуха
Человек-амфибия
В прекрасном и яростном мире
Ювенильное море
Доктор Живаго
Другие берега
Архипелаг Гулаг
Аз и я
Жизнь в ветренную погоду
Птицы, или Новые сведения о человеке
Новые сведения о Карле и Кларе
Школа для дураков
История водки
Часть речи
Осенний крик ястреба
Конечно, в этом списке все смешано со всем, но на то и коллекция — нельзя отрицать, что в этом безумии наличествует метод. И потому продолжим.
Особняком, по нашему мнению, стоят «именные» и «местные» названия — от «Гамлета» до «Анны Карениной» и от «Чевенгура» до «Острова Крым» (заметим, попутно, что открытие типа или особой местности всегда важнее, глубже, богаче искусства «красно писать» или выражаться).
Однако всех богаче и живее, будто только вынутые из моря, названия стихотворений по первой строке: «Пора, мой друг, пора» или «Выхожу один я на дорогу» — ясное дело.
Напротив, беспомощны и всегда «из другой оперы» все названия музыкальных и живописных произведений, включая и лучшие из них, вроде т. н. «Лунной сонаты» или «На сопках Маньчжурии» и «Пейзажа в Арле после дождя», или «Великого Мастурбатора». Честнее господам музыкантам и живописцам было бы давать названия своим произведениям вроде «Опус № такой-то» или просто указывать жанр или технику и помечать датой. Увы, им слишком часто приходится накладывать на свою продукцию более или менее грубый грим, пасуя перед пресловутым «литературоцентризмом», фактически же — языковым характером нашей цивилизации.
И тем удивительнее, как роскошно звучат порой названия кинофильмов: «Огни большого города», «Скромное обаяние буржуазии», «Смутный объект желания», «Час волка», «Молчание ягнят», «Короткий фильм об убийстве», «Основной инстинкт», «Бешенство псов» (т. е. «каникулы»), «Хвост виляет собакой» и пр.
Пожалуй, они даже оставляют в аутсайдерах (в хвосте) названия книг, стремясь компенсировать, вероятно, сравнительную бедность языка зрительных образов.
Данный опус не преследует, однако, цели унизить какую-либо область творчества. Не ставит своей целью также подвергнуть анализу номинативную функцию человека — великого лаконизатора окружающего мира.
Достаточно будет, если он привлечет внимание к нашим языковым сокровищам, к непрестанно ткущемуся волшебному ковру, оживающему в любой точке, но главное — к древнейшему ЛЮБОВНОМУ ИСКУССТВУ давать имена и названия, неиссякаемому и передаваемому из рук в руки от праотца.
НИСХОЖДЕНИЕ АВТОРА
Излагать, повествовать, рассказывать способен на белом свете только человек. Т. е., если рассказывает — значит человек, и речь, естественно, может идти только о причинах, побуждающих повествователя мимикрировать под бессловесную тварь или даже неодушевленный предмет: возможен ли подобный кенозис? И какую цель преследует такая попытка?
Эти простенькие вопросы погружают нас в необозримое культурное пространство — от стихийного первобытного анимизма, через «вещь в себе», до не слишком успешных покуда попыток моделирования искусственного интеллекта.
Кто же кого создал, или создает, по своему образу и подобию: Бог человека — или наоборот?
Достаточно признать, что стремление к выходу за собственные пределы обнаруживается во вселенной (а с человеческой точки зрения и составляет ее главный нерв), что непереходимый порог между природой, Богом и человеком вызывает у последнего страстное желание его преодолеть, избавиться от одиночества, достучаться в запертые двери. Огромный по человеческим меркам мир тем не менее воспринимается им как хитроумно устроенная тюрьма, лабиринт, в который он углубляется, чтоб родиться, наконец, по-настоящему или, не найдя выхода из него, умереть. Он сочиняет сказки, в которых разговаривает с животными и потусторонними существами, создает Голема или монстра Франкенштейна, Соломенного Бычка и Пиноккио, Щелкунчика наконец, чтоб не оставаться наедине с самим собой и чтоб подсмотреть, как ребенок, что делается в природе в его отсутствие, будто в комнате, из которой все вышли и в которой никого нет. И даже ученые физики, как в белой горячке, ловят т. н. «демона Максвелла», отклоняющего и искажающего результаты любого научного эксперимента в силу простого включения в его среду наблюдателя (измерительной аппаратуры и проч.). Существует некий познавательный тупик — и человек способен если не познать и понять, то хотя бы освоить и приспособить только то, что он сам в состоянии произвести или хотя бы воспроизвести.
Не обойтись без еще одного трюизма: человек одинок по факту рождения и сознает свою смертность — этого достаточно, чтоб ощутить себя несчастным существом. Он, однако, не согласен с таким положением — так он не договаривался! — и тогда он предпринимает все возможное и невозможное, чтоб превозмочь собственную ограниченность и обреченность. Вся многоцветность его мира проистекает из одного этого источника: хозяйственная, историческая и политическая жизнь, науки, искусства, деторождение, поиски любви и религиозный минимум — вера в духовную подоплеку мира.
Homo не хочет в humus, homo хочет в Рай.
Литература работает с самым уникальным из всех материалов существующих на свете. Вообще, происхождение языка и происхождение человеческой цивилизации — это одно и то же. Танцевать, петь, рисовать и даже любить — не говоря уж о пресловутом использовании орудий труда, речевых сигналов и образовании достаточно сложно организованных сообществ — могут и более примитивно устроенные существа, отнюдь не стремящиеся эволюционировать. После работ Лоренца, Гудолл и других этологов в этом не приходится сомневаться. Но почему человек так оторвался от остальных живых и даже одушевленных существ приходится только гадать (если исключить гипотезу Бога). Возможно, вопрос следовало бы поставить так: почему спящий проснулся? Кто разбудил его? И что делать теперь проснувшемуся в сонном царстве инстинктов? Уснуть, забыться снова сном? Растолкать соседей? Изобрести будильник? Или бодрствовать и сторожить сновидения природы? Лично я понятия не имею, хотя склоняюсь к последнему.
Умные головы догадались, что вознесший человека язык тут же взял его в плен (Витгенштейн, Сепир с Уорфом, Барт и др. «тель-келисты», Деррида, наконец), что очень похоже на правду. (Заметим попутно в скобках, что аналогичные подозрения людей искусства привели в результате к массовым постмодернистским игрищам.)
Наш язык насквозь метафоричен, фантазматичен, окрашен желаниями и эмоциями, инстинктивно склонен к олицетворениям, тотальному очеловечиванию окружающего мира («дождь идет» и пр.). Благодаря ему мы повсеместно встречаем только постылых самих себя, видим и слышим себя одних.
Раз догадавшись об этом, узник языка не в состоянии больше думать ни о чем другом, кроме как об освобождении — это общий невроз всех искусств вообще. Искусство и существует только как освободительный порыв, как подготовка и осуществление дерзкого побега из царства необходимости в направлении Рая, который по не вполне понятным причинам представляется людям их родиной. Никакой из человеческих инстинктов не в силах тягаться с этим необоримым стремлением к полноте счастья вне каких бы то ни было пределов — в «нигде» и «никогда», в невесомости.
Таковы фон, почва и мотивация одного литературного приема — передачи повествовательной функции изначально бессловесному объекту.
К собственно олицетворению — прозопопее — он имеет только косвенное отношение. Олицетворяться, одушевляться, становиться действующими лицами способны и объекты повествования: буря, море, степь, меч, дуб, сад. Нас занимает передача важнейшей из авторских функций объекту, мнимый отказ от волевого выбора. Откуда идет голос? В какой контекст помещается человек? С какой целью?
Кажется, поначалу органически приговоренный к антропоморфизму человек вообще не мог помыслить себе происхождения вселенной иначе, чем в виде расчленения на части собственного тела (или тела божества, похожего на него). С древнейших времен распространены были повествования от имени животных, в более упрощенном и укрупненном виде переживающих те же приключения и мытарства, что и человек. В силу острой характерности животных, их темперамента и внешности, они явились очень удобными формами для собирания, накопления и осмысления неких природных качеств, получавших у человека психическую окраску. По мере вымывания первобытной религиозности (анимизма, фетишизма, тотемизма) этот прием все более перекочевывал в области антропологической или социальной сатиры. В литературе нового времени и толстовский Холстомер и кафкианский крот — никто иные как персонажи мизантропических басен в прозе. Из «говорящих» предметов большой популярностью пользовались: зеркало; в эротических повестях — кровать или софа; в эпитафиях — надгробие или камень. Такие предметы, сопровождая людей на протяжении жизни (а иногда и после: так много древнейших зеркал находится в музеях оттого, что состоятельных покойниц без них не хоронили), якобы позволяли подсмотреть за людьми, наподобие скрытой камеры, минимизировать их лицемерие, а «заговорив», способны были высказать как бы «объективное» суждение об их жизни, помыслах и пр. Однако благодаря такой тактике условность и искусственность художественных построений только возводятся в квадрат. «Объективных» повествований не существует в природе — кому как не литераторам это знать? И предосудительными в этом отношении являются только дремучая умственная девственность и упорство в симуляции. Высказывание, не полагающее себе пределов и не подвергающее себя испытанию сомнением, вызывает законное подозрение у всякого мыслящего читателя. Читатель согласен, в принципе, чтоб ему «морочили голову», но желает знать правила, по которым это будет делаться.
Отчаянные попытки проникнуть в т. н. суть явлений и в секретную жизнь вещей предпринимались постоянно (хотя еще в XVIII веке было объявлено, что «вещи в себе» способен созерцать только Бог, их создавший). Равно как и героические попытки овладеть несуществующим методом бесстрастного и объективного повествования, достичь «нулевой степени письма» (по выражению Ролана Барта, применительно к прозе Роб-Грийе), с удручающей неизбежностью заканчивающиеся соскальзыванием в пародирование «без берегов».
Т.е. сам по себе выбор неантропного повествователя (назовем его так), если это не достаточно примитивный сюжетостроительный трюк, достаточно симптоматичен. Он говорит либо о неком расчеловечивании человеческого мира, либо о трудностях авторства — о потере рассказчиком авторитета, не подкрепляемого более читательским доверием. Надо понимать, что в любом художественном выборе злонамеренность отсутствует, поскольку писатели пишут не то, что хотят, а то, что могут, — а это само по себе уже свидетельство. Язык показывает места будущих разрывов, которые способны оказаться также точками роста. Так, к примеру, когда в поэзии означающее теряет связи с означаемым, когда контуры отрываются от предметов и начинают вибрировать — жди скорых перемен и катаклизмов, поскольку сознание вкупе со своим «бессознательным» — самый чуткий из всех сейсмографов.
В первом из представленных «Гидом» текстов («ИЛ» № 8, 1999) — британской повести — функция повествователя передается автором старинной керамической вазе, за много тысяч лет неоднократно изменившей свое назначение, поменявшей уйму владельцев в разных странах, что делает оптику повести длиннофокусной и помещает современные события — веер довольно брутальных историй — в перспективу дурной бесконечности посюстороннего бессмертия, приводя на ум то ли Екклезиаста, то ли Борхеса, только без их накала и масштаба.
Можно было бы и не акцентировать вагинального характера вазы-повествовательницы, если бы в следующем тексте — японской новелле — не подчеркивался так маскулинный, фаллический и соглядатайский, характер другого неантропного персонажа и повествователя — фотоаппарата. Вообще, преувеличенная утрированная телесность, такая, как у вещей, провоцирует сексуализацию повествования. Либо наоборот, гипертрофированная сексуальность ищет и находит повсюду только и исключительно тотальную телесность. Таков был маркиз де Сад, для которого существовали только тела, пытки — и разговоры вокруг этого.
К сожалению, распространенным недостатком «неодушевленных» повествователей являются их многословие и резонерство, что не только приводит к избыточности повествования, но и указывает на головное, рассудочное происхождение самого его замысла. Даже у сверхизобретательного Барнса в его постмодернистском шедевре «История мира в 10 ½ главах»(«ИЛ» № 1, 94) мурашки Ноева ковчега после нескольких десятков страниц способны утомлить своими россказнями самого доброжелательного читателя. Есть пределы у воображаемого нисхождения в низшие формы жизни, чья участь существенно беднее и горше человеческого удела. Представляется, что малые жанры (особенно в поэзии, эпиграфике, минималистской прозе) лучше приспособлены к такого рода нисхождению и в некоторых случаях даже способны порождать шедевры.
Третий из представленных текстов — «Записки жирафы» Шарля Нодье — осциллирует в смысловом зазоре между социальной и антропологической сатирой (между Гулливером в Лилипутии и Гулливером у гуингмов). Текст очень симптоматичен для страны Руссо и Вольтера, для культуры моралистов и сатириков, в которой полтора столетия назад принято было описывать «физиологию» городов и «нравы» (!) насекомых. «Жирафа» Нодье — троянская лошадь Натуры, введенная в стены города Цивилизации и Культуры. Занятная пища для размышлений и различного рода сопоставлений.
И, наконец, нарциссическое стихотворение Болеслава Лесьмяна «Кукла» демонстрирует парадоксальную природу поэзии — когда мощное поэтическое усилие способно заставить служить своим целям и упадочную манерность, а прямое обращение к Творцу всего сущего в финале — повернуть читателя лицом к самому средоточию проблемы недочеловеческого, «полукукольного» существования. Так в одном позабытом советском фильме человекообразный робот по имени Роберт носился с подобранной тряпичной куклой: «Она такая же, как я, только маленькая и очень примитивно устроенная!..»
Еще несколько ступеней вниз — и дальше: «наступает глухота паучья», — как писал поэт, — «здесь провал сильнее наших сил». Лестница Ламарка и лестница Иакова оказываются одной и той же лестницей. И рожденный свободным автор (или, если угодно, сочинитель) сохраняет, благодаря воображению, относительную подвижность в перемещениях по ступеням не им созданного здания природы.
Но и это путешествие, как всякое другое, заканчивается возвращением человека к себе. Что в данном случае представляется особенным благом. Примерно, как при возвращении домой из нищей страны «третьего мира» без привычного душа и прочих удобств, по которым мы успели соскучиться. В чем и состоял скрытый от нас до поры смысл поездки.
К ВЫЧИСЛЕНИЮ ШАГА ВРЕМЕНИ
Шекспиром в «Макбете» сказано, что земля, как и вода, способна рождать пузыри. Особенным плодородием в этом отношении отличалась российская почва начала века. То были не только отмеченные Волошиным «демоны глухонемые» войн и социальных возмущений, но и нетерпеливый, лезущий «поперед батьки в пекло» и увлекающий за собой многоликий утопизм — социально-политического, религиозно-философского, естественно-научного и художественного характера.
Можно предположить, что на деле имел место выход сглаженных, умиротворенных и рассосавшихся конфликтов и войн, «проглоченных» XIX-м столетием. Каждое поколение, как минимум, раз в тридцать лет могло повоевать, — но те локальные конфликты все же не приносили настоящего удовлетворения начавшей складываться после Наполеона глобальной цивилизации. С каждым разом мир все более успевал надоесть и опротиветь себе. Ограниченное разнообразие, вносимое в его жизнь техническими изобретениями, также перестало его удовлетворять. На двадцатый век пришелся своего рода «девятый вал» энергетического выброса. Человеческая биомасса пошла сперва на один, затем на повторный всплеск — и долго улегались в последующих поколениях расходившиеся волны. Перерыва, однако, не было. Просто следующая волна, пиком которой стал Карибский кризис (с последовавшим падением глав двух сверхдержав), — зародившаяся в 1956-м в Москве, Будапеште, где-то на Ближнем Востоке и севере Африки, в Калифорнии и Ливерпуле, и сошедшая на нет в 1968-м в Праге, опять Москве, Париже, Вудстоке и в китайской «культурной революции», — оказалась совместными усилиями удержана и погашена, вероятнее всего, благодаря коллективному страху перед атомным оружием. Энергия ее разряжена, бунтарские молодежные движения дезинтегрированы и абсорбированы соответствующими обществами, благодаря комплексу предпринятых, хоть не всегда осознанных и продуманных мер. (Выходящие за пределы этого графика Вьетнам и Афганистан целиком соответствовали логике противостояния в «холодной войне» и использовались сверхдержавами как своего рода пограничные столбы для чесания спин.)
Однако к середине 80-х в народонаселении СССР сложилась критическая масса людей, неудовлетворенных условиями своего существования в оседланном и стреноженном состоянии, в квазииделогическом наморднике («квази», поскольку высшее оправдание его целесообразности — прокламированный коммунизм — оказался «замылен» и фактически отменен, задолго до своего наступления). Начиная с прекращения геронтократии в СССР и Чернобыльского выброса, вулкан России заработал вновь, в результате чего пошла цепная реакция и мир опасно накренился. Уже более десятка лет его удается совместными усилиями удерживать, локализуя выбросы энергии и не давая закружиться гигантской воронке. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря краху и отсутствию глобальных идеологий. Хотя… зарекалась свинья помои хлебать. Жить совсем без идеологий нельзя, а с ними — невозможно. Вирус бешенства всегда сидит в человеке, и только если мы не потеряем самообладания и не утратим рассудка, наши дети могут быть сохранены. Смердяковы остались без красивых идей и временно предоставлены самим себе. Наступившую эпоху исчерпывающе — авансом — из своего заокеанского далека определил Бродский: «Ворюги мне милей, чем кровопийцы». Количество лжи в обществе при этом не уменьшилось, но оказался разбит, по крайней мере, ее монолит — тайное подверглось секуляризации и имеет тенденцию становиться частично явным. По очкам покуда выигрывает недалекий и крайне неустойчивый прагматизм. Хотя подспудное идеологическое брожение идет, и, по-прежнему, способна «собственных Плутонов российская земля рождать». Ситуация отчасти схожа с памятным многим москвичам пожаром торфяников. Если его удастся придержать, не дать вырваться (и не только здесь уже, а во всем мире), — и это дело власти: дать людям возможность по-людски жить и работать в изменившихся условиях, — то следующая ВОЛНА придет не скорее, чем лет через 15. Поскольку пик последней по времени пришелся на два путча начала 90-х, — припомните количество людей, рыщущих в те годы по улицам в поисках смерти, — плюс по шесть лет на нарастание и затухание, как и в 56–62–68-ом. Т. е. вся фаза «всплеска» (или «смуты») длится в среднем около 12 лет, и начало ее и конец также отмечены всегда кризисами.
Прошу прощения у читателя за кажущуюся точность, я знаю, на самом деле, не больше него — и все это только попытка автора рассуждать здраво, находясь в подножии исторического оползня. Не приходится сомневаться, что история имеет если не цель, то, во всяком случае, направление, и ее приходится претерпевать, какими бы мы не были разными, заодно со всеми. Предположить можно все, что угодно, но, в свете сказанного, интересно было бы заполучить исчерпывающую статистику стихийных бедствий и катастроф для продолжения умозаключений, которые делать до того было бы поспешным. Давно высказано подозрение, что существует определенная связь между проявлениями социальной и природной активности, на что указывают многочисленные совпадения и непроясненная периодичность того и другого. Только к чести человека окажется, если в результате непредвзятого исследования допущение любого рода зависимости между ними будет отвергнуто. Хотя, по большому счету, это ничего не меняет. Следует также учитывать, что возможны варианты — локальные встряски, задержки, связанные с пробуждением и выходом на историческую арену политических «тугодумов», либо с обеганием вокруг земшара волн повального сепаратизма и терроризма, подстегиваемых, посредством масс-медиа, нашим к ним кровожадным интересом.
В отличие от природных последствия исторических катаклизмов никогда не успевают утихнуть настолько, чтобы их не перекрывало начало следующих. Виной тому, вероятно, большая реактивность человеческой природы, которую мы зовем памятью. Я не раз задумывался: с чего это поколение моих родных и двоюродных сестер и братьев размазало по всему глобусу, не потому ли что родились мы от участников и беженцев последней мировой войны?
Наша затянувшаяся молодость пришлась на годы стабильности, перешедшей в эпоху «застоя», — а когда мы перебесились, кто как умел, в обществе начались такие стремительные перемены, что только держись. Налицо полное непопадание в такт со временем: исторически бестактное, вынужденно перевернутое, опрокинутое поколение. Тем интереснее для тех в нем, кто сохранил не только вкус к переменам, но и способность к самостоянию. А также, возможно, для оторванного наблюдателя, следящего за ходом испытаний, — если таковой отыщется на земле или на небе. Хоть подобное отношение к происходящему и может показаться, в зависимости от направления взгляда, снизу — негуманным, сверху — самонадеяным, а сбоку — надуманным и не заслуживающим внимания.
И все же, отвлекаясь от политических одежд, трудно отделаться от представления о синусоидальном характере того, что разыгрывается сегодня по нашу сторону телевизионного экрана.
Закончив эти безобидные расчеты, я получил вскоре отказ их опубликовать последовательно в редакциях трех весьма серьезных московских газет. Я вполне допускаю, что продуцентам новостей высказанные мной соображения представились дилетантскими, но не могу не подозревать в цеховой солидарности этих неутомимых борцов с человеческой праздностью, защищающих от посягательств самый источник своего существования. Их дело — хроника, а не обобщения, и в профессиональном отношении скорей всего они правы. Хотя несколько другой вопрос — критерии и стратегия их начальников, удостоенных чести быть поставленными на страже «пузырей».
И все же, сказав «а», я намерен сказать и «б» — предъявить скрытые движущие части синусоидальности. В максимально откровенном виде исходный тезис будет звучать так: в 86-м и несколько последующих лет мы (несколько объединившихся поколений) «замочили» отцов, — если кто этого еще не понял. Мы сделали так потому, что они не давали нам жить, не позволяли вырасти, выдерживали в коротких штанишках (это только отчасти метафора — так восстали французские «бесштанники»-санкюлоты, лет двести назад заявившие: «длинные штаны на нас, решать будем мы»). Конечно, нам слабо было справиться с ними, пока они находились в силе и даже позднее. Переданная им сила дедов заключалась в том, что они умели умирать. Что-что, а это делать в свое время они умели, было бы низким этого не признать. То есть мы справились с ними только, когда они одряхлели (вспомним геронтов-генсеков) и растеряли окончательно родительский авторитет. Вот он, источник преследующего кое-кого из нас чувства вины. И все же их участь заслужена (тем более, что никто их физически, прошу прощения за повтор арготизма, не «мочил» — их лишили власти, прогнали, отстранили; те же, что удержались у власти, — не «бывшие коммунисты», чем их любят попрекать, а сменившие идентификацию перебежчики из одной генерации в другую, насколько успешно — другой вопрос).
Кто-то придет в ужас, читая предыдущий абзац. Могу дать только совет отказаться от дальнейшего чтения и вернуться к газетам — к той пище, с которой лучше приучен справляться его мыслительный кишечник. Если развить дальше эту метафору, здесь предлагается не слабительное, а средство от информационного поноса.
Уже догадавшись об этом всем, я узнал, что существуют книжки, в которых люди многократно более прозорливые все это давно описали. Это Фрейд в его последней работе «Моисей и монотеизм», это Юнг и Фрэзер (читанные, но не отнесенные на собственный счет), это Серж Московичи («низость в психологии толп всегда одна и та же — убийство своего отца»). С незапамятных времен либо недалекие отцы «мочат» недостаточно покорных сыновей, либо еще более недалекие сыновья, объединив усилия, «мочат» отца-кабана. И в отчаянии от содеянного сакрализуют и мистифицируют его фигуру (а затем уже «брат на брата» и «революция пожирает своих детей»). На противоположном же полюсе — «Возвращение блудного сына» Рембрандта и «Троица» Рублева. Это все один метасюжет, образующий едва ли не главнейший нервный узел нашей цивилизации (добавьте еще сюда фигуру матери — «Царя Эдипа», «Гамлета» и Богородичного мифа — и человеческий мир в своих определяющих чертах будет описан).
И даже когда дело не доходит до насилия, проходит 25–30 лет — и выросшие дети не желают больше носить и читать то, что носили и читали их родители-«предки». И наконец, прямо в лоб: находящиеся в зените мощи родители, не желающие начать делиться властью с отпрысками, вступающими в возраст зрелости (т. е. добывшими жен, давшими первое потомство, освоившими некоторые умения и ищущими себе дальнейшего применения), — эти родители, отцы, прекратившие подавлять сексуальность своих детей и отпустившие их из собственных семей, пожнут в результате бурю, если не начнут делиться захваченной либо полученной властью. Дети всегда правы, и только потом виноваты.
От дальновидности отцов зависит, как все мы будем кататься на своих синусоидах, и не станут ли в очередной раз задержанные до седых волос 30-летние (двадцать семь плюс-минус два — возраст первого взрослого кризиса — вполне может оказаться шагом синусоиды социальной истории), не станут ли они, синхронизировавшись с подоспевшими и на все готовыми 17-летними, скидывать и изгонять в очередной раз многоопытных, но, увы, самонадеянных, заскорузлых и жадных отцов.
В свете сказанного, если не доводить большие массы людей до крайности, к тревожному 2000-ому году еще не созреет поколение, которому хотелось бы бунтовать по причинам более глубоким, нежели несвоевременная выплата зарплат и пенсий. Если «отцы», захватившие и получившие в свое распоряжение власть и блага, проявят хоть минимальное понимание ситуации. Чего я совсем не взялся бы утверждать о пятилетии между 2010–15 годами.
Но как сказал один современный ребенок (о воскресении мертвых, кстати):
— Э-э, когда это еще будет!..
ОСВОБОДИТЬ ВРЕМЯ ОТ СЕБЯ?
Катание на волнах и валах времени, столько удовольствия доставлявшее в раннем возрасте, с годами способно вызывать все меньше энтузиазма, пока на излете зрелости не разряжается изжогой и симптомами морской болезни.
Это и понятно, если учитывать вращательную природу времени — annus vertens — ресурсы вестибуляции не безграничны.
Циферблат — та же карусель (или виниловая грампластинка), съезжаешь к ее краю, покуда не сорвешься (или не раздастся характерный хрип). Электронные времемеры будут похитрее, эти утверждают линейную и накопительную природу времени. Но они скупы и малодушны — и способны измерять лишь отрезки дуг, кривизной которых можно пренебречь и с которых не увидать, что линия горизонта замкнута и ты движешься по кругу. Впрочем, все разновидности так называемых часов — это лишь счетчики работы, равномерной, как колка дров или жатва, — нечто промежуточное и равноудаленное, как вершина угла между нами и временем.
Специфическая узость времени и его вращательная природа зафиксированы в древнейших представлениях о нем, подсказок для которых доставало на земле и на небе. Совершенно не случайно утверждение новых астрономических представлений совпало с изобретением механических часов (как до того солнечных — с мимезисом и утилизацией круга, а для отрезков дуги — водяной и песочных клепсидр). Тиканье внутри времени было расслышано именно тогда: оно и сложилось из шуршания песка — и капели по темени, пульсации и шелеста собственной крови — и звуков воображаемой сечи. До того же древние повсеместно представляли себе ход времени в виде грозной колесницы, с грохотом катящейся по небесным желобам, — однако снизу кажущейся беззвучной, как перемещение тени.
На территории будущей Европы измышлен был ими свирепый Кронос, пожиратель собственных детей, и три Мойры — три сестры, две из которых пряли, а третья, младшая, освобождала будущее от прошлого, перерезая нити жизней. Древние испытывали страх и трепет, но при этом понимали, что Кронос выявляет на деле скрытое содержание всякой мужской судьбы: бунт сыновей и низложение отцов, — а зловещие сестры Мойры бесстрастны, как каторжницы при поворотном круге дней.
Поразительно, что и без знакомства с сестрами Мойрами и Парками в подавляющем большинстве языков грамматически закрепилось представление о трех родах времени: настоящем, прошедшем и будущем. Надо полагать, это связано с филогенезом, и произошло так благодаря первоначальному выделению прошедшего времени, продиктованному повышенной реактивностью человеческой психики, получившей во всех языках название памяти. «Бывшее, да сплывшее» отразилось по другую сторону настоящего времени как еще не бывшее, покуда не наступившее, вполне неопределенное. Но даже первое и смутное представление человека о времени навсегда вырвало его из круга животных, положило начало отрезвлению от ежеминутного опьянения жизнью, приподняло его над природой и участью, позволив нащупать прутья невидимой клетки. Что сделало его самым несчастным из всех животных, но одновременно — самым свободолюбивым. Сомнительный подарок, от которого никто, тем не менее, уже не сможет отказаться, как бы того ни хотелось. От кошмара, зовущегося Историей, очнуться нельзя — его можно только попытаться пройти насквозь, сообща досмотреть до конца то, что отдельному человеку увидеть не дано. Увы, есть зоны и области, где жизнь становится невозможной без самоотречения. И в конце концов обязательно наступает момент вынужденного освобождения времени от себя.
У англичан есть представление о ковре, который, подобно свитку, разворачивается перед и сворачивается за, у китайцев — гадание по гексаграммам, у американцев — поговорка «время — деньги». Русские со временем не в ладу. Они презирают его за непостоянство и модальность, отчего периодически оказываются в безвременьи. Не время дорого русскому человеку, а пора. Что, надо сказать, вполне отвечает духу древнекитайской «Книги Перемен». На практике, однако, апология поры не предусматривает защиты от дурака, которому, как замечает русская поговорка, что ни время, то и пора. Времени предоставляется огромный люфт, отчего, по проницательному наблюдению Венедикта Ерофеева, все здесь происходит «медленно и неправильно», — пока кто-то не кричит: «Полундра!» — и не начинается аврал и очередная коррекция курса, отчего в течение десяти дней мир ходит ходуном, а затем еще четверть века укладывается. Есть, однако, в этом что-то симпатичное — живые все же люди. В промежутках — мастера терпения (т. е. искусства питать надежду, по одному из определений). И даже беспокойство и глупость — это ведь важнейшие из атрибутов жизни и непременные спутники всех живых человеческих чувств, не позволяющие соблазниться о себе «сверхчеловеческом» («родился мал, вырос глуп, умер пьян, ничего не знаю. — Иди душа в рай!» — кто еще смог так сказать о себе?).
Мир всегда был местом одновременного протекания разновременных событий. Но когда поверхность планеты оказалась освоена окончательно и средства сообщения и связи достигли беспрецедентного уровня развития, разновременные потенциалы различных территорий и культур стали «коротить» — постоянно сыплются искры и обугливаются контакты. Просто потому, что даже в одной и той же стране отдельные люди и целые регионы живут в разных временах и зачастую неспособны договориться и встретиться из-за рассогласованности своих временных представлений — из-за разногласий о сроках, мере и самих способах измерения времени. Отсутствует как бы общий циферблат — плоскость, благодаря которой взаимопонимание и взаимодействие достижимы.
И все же, если присмотреться к динамике и не падать духом, следует признать, что мир, в принципе, возможен, что, несмотря на все, возможна жизнь в общем времени, что на протяжении тысяч лет идет складывание интегральной цивилизации и устроение мирового хозяйства. Что, в конечном счете, выгорают помехи и взаимоустраняются факторы, препятствующие этому процессу. С недопустимой степенью упрощения я бы сравнил его с приготовлением супа, имея в виду разницу вкуса сырых ингредиентов и богатый оттенками, уравновешенный вкус готового блюда. Кто-то может принести с собой только щепоть соли или луковицу, кто-то лавровый лист, но без них весь суп рискует оказаться кастрюлей грубого и безвкусного отвара. Хозяйство, при всех негативных качествах людей, великий миротворец. Конечно, нарисованная картинка — идиллия, и люди, чтобы не дегенерировать, всегда будут нуждаться в соперничестве, опасностях и образе врага. Хотя, в конечном счете, агрессия — лишь способ сжечь избыток энергии, и даже защищая, добывая или создавая, она не утрачивает своей связи с деструктивными стихиями: сеять она умеет только ветер. Сохранилось на глиняных табличках шумерское ругательство: «Ты, негодная дверь, не держащая ветра…» Увы, сквозняки всегда гуляют в душе человека праздного или пострадавшего от нелюбви, уязвленного. Души, подобно телам, способны терять члены, и тогда их мало что способно остановить. Человек поразительно рискованное и смелое существо, не имеющее в живом мире соперников. И не будь он так одурманен настоящим, он сумел бы разглядеть, что не только он, но и все остальные всего более уязвлены временем. И не потому, что оно отбирает принесенный им же подарок — жизнь, а потому, что сама природа времени изначально разделяющая, делающая все мыслящие существа более или менее безродными: «куда? откуда?» спрашивать здесь бесполезно, как и «с какой женой — 1-ой, 2-ой или 3-ей — буду я там, где обещано, что времени не будет?»
Честно говоря, я ничего не понимаю в природе времени. Где-то я читал, что его якобы излучают звезды, что оно вид энергии, — как электричество что ли? Шашни времени с пространством, их кривизна и относительность мало меня волнуют. Перед категориями «вечности» и «бесконечности» мысль моя пасует еще на старте. Борхесовское предположение, что при условии бесконечно долгого существования каждым были бы совершены все возможные к осуществлению поступки, подвиги и преступления, продуманы все мысли, испытаны все чувства, каждый в конце концов переспал бы с каждым, — это видение протухшей вселенной в вообразившем ее сознании помимо неописуемого отвращения вызывает немедленное желание положить конец ее существованию единственным доступным человеку способом.
Освобождение прошлого от будущего (т. е., как я понимаю, от подтасовок и переписывания — но не от уходящего в бесконечность ряда интерпретаций) как и будущего от прошлого (т. е. от власти мертвецов, свинцового детерминизма и тавтологии — но не от проекций) представляется проблемой технической, психогигиенической или интеллектуальной, не более. Меня в разборках со временем занимает нечто другое. Прожив достаточно долго, я не могу относиться к себе иначе, как к процессу — одному из, — привыкшему откликаться на одно из мужских имен. Время, вероятно, также течет (хотя некоторые авторитеты утверждают, что, напротив, оно стоит, как пейзаж за окном вагона) — но я-то теку точно.
И по большому счету озабочен только тем, чтобы определить неподвижный источник времени и начать течь не центробежно, а центростремительно — перпендикулярно по отношению к вектору времени, — увлекая за собой и теряя по пути свой растекающийся, испаряющийся мир.
О КНИГАХ
УБИЙСТВО В ФИАЛЬТЕ
«Весна в Фиальте» несомненно принадлежит к числу лучших русских рассказов минувшего века. Однако трезвящая и похмельная осень века изменяет оптику: по мере удаления наблюдателя зерна стилистического растра объединяются и образуют вполне членораздельные фигуры. И, как с пятнами Роршаха или «слюнями дьявола» (переименованными в «Фотоувеличение» при экранизации), от раз привидевшегося наваждения уже невозможно избавиться.
Волнующие признаки весны не в состоянии далее скрывать следы совершенного писателем в вымышленной им Фиальте преступления.
Начнем издалека — с того, что, по мнению многих, не имеет непосредственного отношения к литературе. Литература, однако, не автономна, и главные губители ее — культуроверы и снобы, подтачивающие и выжирающие любую реальность подобно гусеницам.
Поскольку речь в рассказе ведется о несколько запутанных любовных связях, образовавших подспудную грибницу, обратимся сначала к презренной прозе жизни, давшей толчок искусству прозы, и какой прозы! Этот небезупречный шаг понадобится нам не для биографических разбирательств на уровне суда присяжных персонажей, а для понимания авторской логики создателя влажного мира Фиальты, со всеми ее далекоидущими литературными последствиями. Биографы Набокова установили, что прототипом Нины в рассказе явилась некая Ирина N., русская эмигрантка в Париже, зарабатывавшая на жизнь стрижкой собак (отсюда прелестная деталь о ее «лающем голоске» в телефонной трубке). С женатым и уже имевшим ребенка Владимиром у нее случился роман, от которого тот едва не потерял голову. Что-то задела она в нем такое, что до той поры дремало, а, вероятнее всего, и намеренно было похоронено в почти сорокалетием мужчине. Естественно предположить, что особая эротическая одаренность в ней отвечала характеру его эротизма. Произошло короткое замыкание. Это и само по себе в состоянии ошеломить. К тому же Набоков был уже прочно привязан многими узами к семье, что вносило дополнительное замешательство. Если тексты способны о чем-либо свидетельствовать, кажется, подобного диссонанса с собой он еще не переживал в своей жизни. Будучи изрядно дезориентированным, он сновал в нерешительности между стабильным Берлином и легкомысленным Парижем: тянуло его в обе стороны, как и тянуло бежать оттуда и оттуда — только по разным мотивам. Так не могло продолжаться долго, на всякого мистификатора довольно простоты — история всплыла. После чего Набоков уехал с семьей в Канны склеивать треснувшую семейную чашку. Вскоре туда же прибыла Ирина, чтоб забрать любимого насовсем. Встреча произошла на малолюдной набережной, где она внезапно предстала перед Набоковым, гуляющим с малолетним сыном. В любом случае это было ошибкой Ирины, она проиграла свое сражение. Набоков ее «не узнал» и, не теряя самообладания, удалился вместе с сыном с набережной и из ее жизни навсегда.
По возвращении с семьей в Берлин Набоков продолжает прерванную было работу над «Даром» — своим главным русским, семейным, положительным, прекрасно написанным и все же местами безнадежно фальшивящим романом, из которого автор глядит на читателя, как из ярма картинной рамы.
И вот здесь самое красивое место истории — он еще раз изменяет своему труду и, отставив роман, взяв паузу, в две недели пишет рассказ о любви «Весна в Фиальте». Рассказ этот не только являет собой пик творческих возможностей Набокова (поскольку все его романы несколько громоздки и старомодны — слишком много омертвелой соединительной ткани перекочевало в них из размеренных повествований предшествующего века), но посредством этого рассказа писатель осуществляет окончательный решительный выбор в пользу стабильности и Литературы как некой дисциплины, попутно провидя в общих чертах всю свою будущую судьбу (но об этом чуть позже).
Набоков выманил из своей души беззаконную любовь на сконструированный им манок Нины-Ирины, затем обмакнул его в весенний мир, воссозданный во всех подробностях, запахах, звуках, бликах, и неожиданно захлопнул ловушку, после чего, наняв двух негодяев, отправил Нину вместе с какой-то частью самого себя на тот свет, не позаботившись даже как следует замести следы. Заметать-то заметал, но «замочить» было важнее — неотложнее, насущнее, — чтоб притупить остроту воспоминаний и доставшегося знания.
Т.е. изложенная выше история адюльтера не имела бы для нас никакого значения, если бы результатом ее не явился рассказ поражающей свежести и гениальности. Отказавшись от описанного им вдохновенного весеннего мира в жизни, он вынужден был отказаться от него и на письме, письменно подтвердить свой выбор.
Т.о., открытости-уязвимости-ненадежности-необеспеченности он предпочел антонимы всего вышеперечисленного, ослепительному гибельному финалу «Весны в Фиальте» — пасмурное целомудрие финала «Дара». И дело не в чувствах вины или ответственности, не в любви к сыну-жене-семье, а в реакции захлопывания дверей наглухо — ответе на получение травмы. Но травмы, как и кризисы, затем и нужны, чтоб разбить скорлупу существования по инерции, чтоб человек мог очнуться. Дар Набокова старательно избегал попадания в неприятные ситуации, в которых мог бы пострадать, и стремился не столько к метаморфозам, сколько к саморазвитию, исходящему из относительно неподвижного центра — как у клубка, волчка или смерча. Атаку любимой женщины писатель воспринял, и не без оснований, как нападение извне на свою эстетическую систему, и не позволил сбить себя с той траектории, по которой двигался едва не с рождения.
Примат инстинкта самосохранения дара — вот что ограничивало и понижало все жизненные поползновения и творческие посягательства Набокова: при невероятной самоотдаче и щедрости расходуемых средств — какая-то внутренняя скуповатость, зажатость, самость. При сравнительном наружном благополучии (сравнительном не с нами, а с современниками, — каково везение: как колобок, успеть покинуть занятый красными Крым в 19-ом, гитлеровскую Германию с «расово неполноценной» женой в 38-м, Францию в 40-м, за считанные недели до ее капитуляции) Набоков, тем не менее, не является писателем-штукарем — вроде удесятиренного Олеши.
У него имеется — до поры и про запас — незаживающая травма отнятой родины, стократ обострившая врожденный сенсуализм и языковую чуткость и, однако, не нарушившая удивительную центрированность психики, крайне редко встречающуюся у русских.
И в каждом из его романов читатель легко обнаружит десяток левитирующих страниц и до нескольких сотен парящих абзацев и фраз.
Но самый вдохновенный из его рассказов, «Весна в Фиальте», явился для него точкой слома и прощания, стал тем перевалом, за которым открылся перед ним занявший еще сколько-то лет спуск в плодородные долины второго родного языка — английского. Никакой британофобии: Набоков не был британцем, но сыном русского англомана. С раннего детства в нем сосуществовали русское и английское начала, причем второе — в качестве воспитательной дисциплины, особого культурного и цивилизационного усилия. В частности поэтому так заворожен был Набоков загадкой Пушкина (с его вкусом к деталям и совпадениям им, несомненно, отмечено было про себя, что они «одногодки» с разницей в век) — «Евгения Онегина» он разобрал, переложил на свой второй язык и описал в 4-х томах как бабочку, — его мучал секрет и отличный от его собственного ответ на приблизительно ту же заданную пропорцию натуры и цивилизации (русско-французской, с кипяченной африканской кровью), данный Александром Сергеевичем. Не касаясь различия врожденных качеств, надо полагать, петербуржец и тенишевец Набоков с его культом счастливого детства не склонен был переоценивать роль в этом иного, компрессивного и взрывчатого, характера детства москвича и царскосельского лицеиста Пушкина.
Набоков, при всем своем остром лирическом инстинкте, очень русском по своей природе, психологически скроен был по меркам викторианской эпохи и расположен к той же скрытой, контролируемой маниакальности, что и Кэррол-Доджсон, чью «Алису» он сподобился перевести, превратив ее в Аню. Обоих роднит компенсаторная страсть к причудливому, нелинейному, безопасно чудаковатому, головоломкам и стишкам (только у Кэррола они из проективных, а у Набокова из отживших поэтик и логик), но также страсть к запретному и наказуемому, — и от Алисы Лиделл может быть прочерчена строгая циркульная кривая к Лолите.
Вернемся, однако, в Фиальту. Заметая следы, Набоков родословную своей Нины позаимствовал у героинь собственных ранних произведений — юность, поцелуи, Лужское имение, зима. Это счастливое механическое соединение, наложение, привело к неожиданному и стремительному росту емкости образа. В Нине оказалось выделено и подчеркнуто главное из того, что не давало ему покоя — тревожило, интриговало, мучало. Это ощущение абсолютной недоступности, непостижимости и неподвластности того бесконечно волнующего, что вполне доступно, подчиняется любой власти, невероятно примитивно устроено, и умудряется при этом сохранять все свое колдовское очарование и свою власть над ним. И это не только Ирина, юношеские любови, но также, прости Господи, Россия, которая «несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной», а эти самые они, как всегда, «отделались местным и временным повреждением чешуи».
Т.е. Набоков устроил прощальный пир всему, что любил, более того — самой способности любить. Нина погибает в результате столкновения на полном ходу автомобиля с фургоном бродячего цирка — мастерский фокус!
«Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва вообразимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости!»
Автор превышает здесь все собою же введенные лимиты на использование так называемой «пошлости», безвкусицы и — о ужас! — фольклора и даже романса:
«Говорят, что ты женишься.
Ты знаешь, что это меня убьет»(франц.).
Но: «как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаясь его грустью».
«„А что если я вас люблю?“… „Я пошутил, пошутил“, — поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь».
Хороша шуточка в манере чеховского персонажа! Да и сам Антон Павлович не схожим ли образом изъяснялся со своими пассиями? Полноте, уж не одна и та же ли это история? Не переписанный ли это Чехов, только концентрированный, яркий, как лампочка, выспыхивающая перед тем, как перегореть? От него эта чудная недоговоренность «Весны…». Очень возможно, что «Ялта», отчетливо различимая в звучании Фи-альты, не только мнемоним бегства с родины, но и напоминание о месте затворничества угасающего классика и прогулок по набережной его Дамы с Собачкой.
Другой корень вымышленного топонима, источающий «сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов», по закону ассоциативной связи безошибочно указывает на Париж как место, где собственно и разыгрался любовный роман.
Полюбить безоглядно и безусловно как для героя, так и для автора оказалось настолько страшно, что понадобилась вымышленная автокатастрофа — пришлось пойти на «мокрое дело» однажды весной в Фиальте. Препроводив Нину на воскрилиях своей прозы на сияющие небеса, от греха подальше, сладкоголосая райская птица Сирин выполнила свое предназначение и вправе теперь была и сама покинуть пределы.
Оставался Набоков, и вот что нагадал он себе той весной в Фиальте.
Желая заклясть судьбу, он вызвал собственного демона и попытался себя с ним расподобить, заключив его в тело злосчастного парижского венгра, модного писателя:
«В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев… но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь».
Какая злая карикатура на вектор эволюции собственного письма в направлении все более «бледных огней» и все большей «прозрачности вещей», — которые прозрачны, как известно, только для призраков и духов! Той весной Набоков противился еще «демонскому обаянию»:
«В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам».
Но после литературного убийства в Фиальте путь его пролег перед ним с галлюцинаторной беспощадной ясностью: он вел из страны бабочек в шахматную страну летучих мышей и теней — за спуском в англоязычную долину его ожидало покорение ледяной вершины «Ады».
Обе зоофильные метафоры привлечены не ради красоты слога — они извлечены из авторского текста. Вот прощание любовников, оказавшееся последним:
«…я повторил, я хотел добавить… но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение…».
А вот мгновение перед их последней встречей, подсмотренное в зеркальце взгляда путешествующего англичанина:
«…я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамариновым глазом с воспаленным лузгом, он самым копчиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину». И в этих перепадах зрения безошибочная трехходовка прочно связует Нину с бабочкой общим родом вожделения, поскольку еще тем же утром, за завтраком, тот же англичанин с тем же упрямым вожделением в прозрачных глазах: «которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине, на нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел». И далее: «Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой».
И, в дополнение к приведенному выше витражно-литературному шаржу, это второй, не менее характерный и беспощадный автопортрет Набокова в полном развитии, портрет серийного убийцы бабочек — обворожительных, бесполезных, бесчеловечных.
Невозможно отрицать определенное расчеловечивание творчества Набокова в целом, совпавшее с пересаживанием его на англо-американскую почву.
Уже совсем вскоре, в годы страшной войны, Набоков скажет и не один раз повторит в своем «Николае Гоголе», что не следует искать разгадки русских побед в книгах Гоголя и, вообще, писателей. Рядясь в рыцари Поэзии, Набоков обрубает питающие ее жизненные связи и скопит собственную музу, — а о чем другом говорит такого рода признание:
«…под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи. Истинная поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье, и писатель может гордиться собой, если он способен вызвать у своих читателей, или, точнее говоря, у кого-то из своих читателей, такую улыбку и такое мурлыканье». «Николай Гоголь», пер. Е. Голышева?!
А еще десятилетие спустя Набоков все же попытается реанимировать в «Лолите» нечто, упущенное той давней весной в Фиальте, — попытается вернуть и «дожить свое» в этой запоздалой литературной грезе стареющего американского профессора.
Вполне реализовавшись во взрослой и зрелой жизни, в творчестве он так и остался весьма инфантильным господином, или несколько мягче — тем гениальным русским юношей-переростком, о котором писал в послесловии к собственноручному переводу «Лолиты», сравнивая познавательные и выразительные возможности двух языков. Отсюда эта «китайщина», эта тяга к симметрии, это громоздкое и нелепое стремление к стилистическому совершенству и неуязвимости, призванное замаскировать боязнь жизни и, вероятно, смерти. Будто апология отца (в «Даре») — не эстетически подозрительный «конфликт лучшего с хорошим», будто поверхностность (в «Других берегах») и гладкопись (где только возможно) искуплены заранее неким писательским «мастерством». Отлетели давно стишки о расстреле в черемуховом овраге и сны «Подвига». Надвигалась «Ада» и все ее воинство.
Набоков до конца оставался человеком касты, и оттого многое для (и от) него было закрыто.
В сословно и литературно близком ему Бунине для него присутствовало слишком много естественной страсти.
О Достоевском нет и речи: в одеждах хорошего вкуса — полное неприятие религиозного психотипа. Походы на теософов и чтение гностиков еще в молодости утолили интерес и закрыли для него «тему». (Однако, был хитер, поскольку «Лолита» является его персональной сексуализированной вариацией на тему «Преступления и наказания», тему искупления: «на входе» романа — эгоцентричный маньяк, «на выходе» — очнувшийся человек, способный к неразделенной любви и готовый за это платить по всем счетам. В несколько суженном смысле «Лолита» представляет собой также скрытое продолжение «Весны в Фиальте» — символическую расплату за символическое преступление: Лолите достается то ненужное ей, в чем герой некогда отказал Нине.)
Толстой Набокову скорее симпатичен, поскольку, как и он, усыпил вечным сном — в пользу Левина — свою Анну, уложив ее на любовно-брачные рельсы — меж Вронским и Карениным — и колесовав, как пушистую и вредную гусеницу.
После битв, данных Набоковым самому себе в «Весне в Фиальте» и в «Лолите», и одержанных им пирровых художественных побед неудержимо стал развиваться в его художественной системе перекос в сторону всего второстепенного, малотемпературного, факультативного, наконец, лишнего. Хотя, даже увлекшись, не следует забывать, что речь идет не о нашкодившем «совписе», а о писателе первого ряда, гениально одаренном. Несметные его литературные богатства были таковы, что ему достало их до самой смерти и еще осталось. Ему было что тратить.
Что не отменяет, в свою очередь, того, что принадлежал Владимир Набоков к семейству тутовых шелкопрядов — и, надо полагать, в том лучшем мире, куда он переселился, сам незамедлительно принял облик бабочки, присоединившись к тем существам, к которым был так пристрастен и немилосерден в прежней жизни.
ПЛАТОНОВ. ФАЗЫ ПРОХОЖДЕНИЯ
1899: Борхес, Набоков, Олеша, Платонов, Хемингуэй (еще Вагинов, Мишо) — может, только Надежда Мандельштам не вписывается в принесенный этим годом «помет» великолепных стилистов. Стилист — отчасти обидное определение, но как иначе назвать гипертрофированную характерность и мгновенную узнаваемость почерка каждого из них, когда способ выражения затмевает предмет письма и становится самостоятельной темой? Когда благородная и несколько тяжеловесная проза минувшего века переживает превращение в «искусство прозы» и посягает на территории не только поэзии, но почти что каллиграфии. Отчего так происходит, можно спорить, но фактом остается, что каждый из перечисленных — писатель более вычурный, чем Тургенев с Чеховым, Марк Твен с Генри Джеймсом или испанцы «поколения 1898 года». Какая-то нужда (сродни нужде хозяйствования в условиях малоземелья) заставляет их добиваться невиданной интенсивности и плотности письма. Одних из них читатель может превозносить, других не ставить в грош, но, кажется, в этом ряду Набоков с Платоновым составляют идеальную пару стоящих друг друга антиподов, чтоб не сказать, антагонистов. Обоих пробудила к творчеству русская революция, отобравшая у Набокова родину детства, а Платонову подарившая из пандорина ящика его «зарю туманной юности» (цитата из стишка XIX века, ставшая метафорой мечтательного состояния помраченного сознания): без этих подарков-отдарков сомнительно, чтоб каждый из них сумел достичь своего масштаба, но оба, к счастью, сумели распорядиться полученным.
При том, что поздний Платонов и поздний Набоков в разных условиях и в силу разных — по видимости — причин утрачивали свой письменный дар, взятый каждым когда-то, как укрепленный город, почти сходу. Талант одного истощал компромисс на жестких условиях с реальным социализмом, второго — компромисс более замедленного действия с мелкобуржуазным образом жизни, но с идентичным результатом: разоружения в пользу фикций. Никакое количество зеркал и ловушек, предусмотрительно расставленных Набоковым, не скроет постепенного обращения его в англоязычный период в бюрократа, отгородившегося от опасного и непредсказуемого мира письменным столом, — склоняющегося к творчеству «типа В» в терминологии, предложенной им в своей поэме «Бледный огонь» (пер. с англ. Веры Набоковой): «Я озадачен разницею между // Двумя путями сочинения: А, при котором // происходит // Все исключительно в уме поэта, — // Проверка действующих слов, покамест он // Намыливает в третий раз все ту же ногу, и В, // Другая разновидность, куда более пристойная, когда // Он в кабинете у себя сидит и пишет пером». Набоков-Шейд колеблется: «Но метод А — страдание!» и «Без пера нет паузы пера» — «Или же развитие процесса глубже в отсутствие стола»?..
У оставшихся в Советской России письменного стола быть не могло — в том смысле, что он не мог служить никакой защитой. Так Мандельштам в «Четвертой прозе» беспощаден: «густопсовая сволочь пишет <…> Какой я, к черту, писатель? Пошли вон, дураки!» Еще и по этой причине творчество Платонова онтологически серьезнее. Однако, по его же выражению, на всякого героя имеется своя курва: оно также уже, локальнее во времени и пространстве и не во всякую пору обнаруживает свою глубину. Потому затмевает его в последнее десятилетие, и даже в юбилейный для обоих год, Набоков — барин (что потрафляет новому холуйству нашего времени), космополит и, со всеми оговорками, здравомысленный человек АРИСТОТЕЛЕВСКОГО, а не ПЛАТОНОВСКОГО склада, предпочевший драматизму пещерных видений золотое сечение, страсти — пропорцию, асимметрии — равновесие и в результате катарсису — самоудовлетворенное «мурлыканье» гурмана (см. «Николай Гоголь», 1944 год). Россия переживает сейчас эпоху перемен и умственной смуты, и, казалось бы, в большей степени отвечает характеру времени письмо Платонова, а не Набокова — ан нет.
Следующее утверждение способно вызвать взрыв негодования, но ничем другим, кроме беспрецедентного для российских метаморфоз преобладания в обществе позитивных ожиданий и настроений, предпочтение Платонову Набокова не может быть объяснено. То есть: то, что было повержено, если и не зло, то труп, будущее же — не мираж, а результат выбора и личной инициативы, с чем худо-бедно согласилось до времени большинство населения. Издатели и читатели 90-х помнят о Платонове, но совсем не горят желанием переиздавать и перечитывать его книги.
На туманной заре «перестройки» Бродский вообще прописал другим языкам противопоказание пытаться осваивать прозу Платонова — в том смысле, что это духовно опасное занятие, способное уничтожить язык как инструмент смыслополагания, рассосать, подобно костоеду, грамматику заодно с цивилизацией. Исключительная гибкость так и не отвердевшего русского языка дала шанс осуществиться в нем такому писателю как Платонов, читателям же — заглянуть вместе с ним в ту речевую магму, где рождаются и совокупляются слова. Я заостряю, но, кажется, не искажаю закругленную, как всегда, мысль Бродского из его эссе-предисловия для англичан. При чрезвычайно высокой оценке гения Платонова, ошеломленности навсегда его т. н. «веществом прозы», кажется, поэт испытывал по отношению к сделанному им род священного ужаса (прекрасное — та часть ужасного, которую мы в состоянии вынести, — прошу прощения за затасканную цитату из другого поэта, не утратившую убойной силы).
Платонов — хтонический писатель, через которого пытается с нами заговорить сама природа, чьим созданиям доставляет боль рождение лопающейся в мозгу мысли, а ее прохождение родовыводящими путями речи приводит живые существа в изнеможение, нередко уродуя саму мысль до неузнаваемости. Так один из его героев: «Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит». И дело совсем не в чтении, а в том, что не видеть снов в этом описанном Платоновым мире полагается признаком здоровья человека! Или иначе: «В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал». (Так матушка заклинала слабого головой Бальзаминова: «Только не думай! Не думай только!» — только не это!)
Родильные щели природы трудятся неустанно, и каждое десятилетие приходят на свет очередные новонародившиеся, отходящие от небытия, будто от наркоза, истомившиеся в предродовых накопителях, задвинутые, затурканные и обездоленные, и неизменно требуют своей доли участия в общей жизни — освежения для себя самых ее основ, отчего прежним хозяевам жизни придется потесниться. И поэтому Платонов будет актуален всегда, но не во всякую пору, точнее, фазу. Когда прямые и грамотные речи завираются окончательно, превратившись в инструмент господства и эксплуатации, начинает работать косноязычие, спрямляющее и упраздняющее грамматику, — вместо «монопольки» самогон! «Люди грубо выражались на самодельном языке, сразу выражая задушевные мысли» («Сокровенный человек»). Или так еще: «Федор Федорович говорил, как многие русские люди: иносказательно, но точно. Фразы его, если их записать, были бы краткими и бессвязными: дело в том, чтобы понимать Федора Федоровича, надо глядеть ему в рот и сочувствовать ему, тогда его затруднения речи имеют проясняющее значение» (Очерк «Че-Че-О», совместно с Б. Пильняком).
Так называемый «сокровенный человек» более всего сокрыт от самого себя, его реакции и речи описывались Гоголем, позднее Щедриным с Лесковым, но оживший и полнокровный (также в медицинском смысле) образ его смог создать Платонов: «И вот мечется человек — в пиджаке, в кепке, взволнованный и хороший — новый Каин буржуазии, Агасфер земного шара, интернациональный пролетарий». Вероятно, потому, что ему дано было увидеть этого человека изнутри, открыть его в себе.
Еще когда начинал свое речетворчество Хлебников со товарищи, следовало бы догадываться, что это за симптомы и чего предвестники (как в начале 80-х — что означает и что сулит отрыв контура от предмета и его двоение в творчестве метафористов и концептуалистов). Будетляне, обернуты, Зощенко и Платонов — все это явления одного ряда: они «озвучили», в разных ее фазах, ту волну, что, прокатившись по лицу земли, стерла с него старую Россию. Платонову, как писателю превращенной религиозности, было по пути с советской властью (да и вообще с людьми) лишь до определенной развилки: с советской властью, покуда та готова была мириться с его утопической верой, а с людьми, пока он сам не растерял окончательно этой веры — после ее похорон он оставался тенью самого себя.
«Сокровенному человеку» Платонова, плывшему с десантом во врангелевский Крым, не посчастливилось повстречаться там с юным Набоковым и отвести его, как впоследствии тому грезилось, в черемуховый овраг для расстрела. Тому помешал Посейдон и, может, еще какие-нибудь второстепенные обитатели Олимпа. Но зато во вполне легальной и не очень длинной повести ему же удалось выговорить самые сокровенные мысли автора — о жизни, устроении космоса, вере, собственном ремесле и, вообще, обо всем на свете. Здесь сжатая капсула платоновского письма, взятого в фазе до его усомнения в собственной правоте, в фазе плодоношения — до того как плоды будут собраны и распробованы. Плоды эти сочны и вкусны, как ювенильные яблоки, но почему-то люди, отведав их, мрут, как мухи, и отряхиваются от морока не раньше, чем в третьем поколении.
Столетие Платонова совпало с его апогеем — в астрономическом смысле. Храни нас Господь увидеть его в перигее… И, во всяком случае, надо попытаться до той поры успеть многое сделать.
ОБ «ОБЛАКАХ В ШТАНАХ» И В ЮБКАХ
«Истматом» ли движется мир или «любовью», поэты и революционеры сошлись в начале века здесь в одном: старый безлюбый мир, мир браков по расчету, мир состоятельных вдовцов и нищих матерей-одиночек был обречен в очередной раз потопу. Два грозных певца Бунта — Владимир и Марина — накаркали ему ПРО ЭТО и сами оказались раздавлены вскоре собственным бунтом. Тот мир, запутавшийся, изолгавшийся и безответственный, мир дезориентированной семейной жизни обязан был провалиться хотя бы потому, что делал детей несчастными, — и они отплатили ему за это сполна. Потому что, что бы ни происходило в этом мире, дети должны быть в нем ЛЮБИМЫ — и больше ничего, ничего сверх! — иначе, возрастая, они придут, как гунны, и разрушат его дотла. И был ли этот мир тонким или очень грубым — не будет уже иметь никакого значения.
Была такая болезнь, достигшая пика накануне 1-й мировой, — ТБЦ, когда, — может, не самая благородная, но самая чуткая, во всяком случае, — часть людей не могла уже дышать отравленным миазмами воздухом Европы (газовая атака из той же, кстати, оперной арии — наступления на легкие). То были миазмы разлагающегося «высокого» — всего этого выдуманного, рукодельного, воспарившего вранья, доведенного до пароксизма «идеализма», отчаянного самообмана, по-детски — простодушно и цинично — оторвавшегося полностью от реальности. И стихи двух упомянутых так похожи кажутся порой на дневниковые отчеты туберкулезников, находящихся в предсмертной эйфории:
— Мама, ваш сын прекрасно болен!
— Мама, у вашей дочери «высокая болезнь» (стихи Пастернака ей нравились).
И вот два несчастных запутавшихся ребенка, которым не дали в детстве наиграться, — два гордеца, «наполовину враных», — Тринадцатый Апостол (правильно себя посчитавший), и амазонка и Валькирия, певица Мышатого (Мохнатого!), не лермонтовско-врубелевского Демона даже, а мокрого пса (Щена) — ужаснувшаяся перед открывшейся ей бездной, и вдруг обнаружившая в себе такую же, сосущую. Как было им не кощунствовать и не мстить, не играть в бонапартов и не проявлять твердокаменную верность в ненужном (будь то «агитпроп» или вымученная игра на рояле), чтоб тем верней и с «чистой» уже совестью взыскивать свое, недополученное: — силу (т. е. власть), компенсацию от Рода. И они нашли каждый свой род, и обрели силу… — и род и сила обманули их, не признав своими. Кто осудит за перетягивание одеяла на себя — их, мерзнувших самыми студеными десятилетиями? Да им все равно было откуда получить жар и уголья, — хоть из Преисподней! А ведь и повзрослевший, благополучно не разбившийся в зоне риска вдрызг и вдребезги, делает не меньше ошибок, как кто-то удачно заметил, а только меньшие ошибки. (И само «облако в штанах», кстати, — не языческий ли бог Перун, явившийся тысячу лет спустя отмстить? Хоть такое допущение и было бы чересчур рискованным.)
Шанс их был в другом, и они стучались отчаянно в эти двери: чтобы кто-то принес за них жертву, вместо них, — потому что только, когда кто-то гибнет за тебя и вместо тебя, может содрогнуться и очнуться навсегда бредящее человеческое сердце. Им не дано было найти такого человека, — это ведь так понятно. Они и сами к тому же, словно дикие подростки, наезжали на встреченного ими живого человека со всей силой и торопливостью своего невостребованного темперамента, не давали ему вздохнуть, они так молили и требовали личной, единственной, неповторимой и жертвенной любви, что освободит их, наконец, от позорной зависимости у рода, выведет из унизительного им-персонального анонимата, — вырвав из ряда и рода, примирит с ним, наконец, — а, значит, и с миром.
Естественно, что вокруг них не могла не образоваться со временем непереходимая пустота. В чьих силах снять было тавро от поцелуя Сатаны в сердце?! Женское и мужское в этой паре было изрядно перепутано. Ум — как мужское — в несравненно большей мере принадлежал Цветаевой, — но и у той направлялся преимущественно на соломинку и бревно в глазу ближнего (достаточно прочесть «Мать и музыка», «Дом у Старого Пимена» и «Черт», — именно в такой последовательности). В конце концов, она принялась рыскать в поисках любимых среди оставленных и мертвых, — что и сделало ее окончательно писательницей, — переложив искус при этом на плечи последующих читателей, отяготив их небескорыстным в своей слепоте культом людей, а также подчищенными векселями отношений с близкими. (Ничего, кстати, более стыдного, чем переписка Цветаевой-Рильке-Пастернака втроем, я не читал. Так же как не видел в жизни ничего более безблагодатного и ненатурального, чем пресловутый штейнерианский Гетеанум в Дорнахе, — именно там можно увидеть воочию, что Гитлер и Сталин не могли не прийти. Поезжайте, сами убедитесь.)
Фьючерсная сделка с будущим не состоялась для них в жизни, но состоялась в литературе, в поэзии. Слово их, словно приручало, присваивало, возвращало им их мир. В жизни же (литературной, в том числе), не будучи мазохистами в традиционном понимании (оба не эстетизировали страдания, не искали уюта в боли), они оба пытались переключить автоагрессию с себя, любимых и нелюбимых, на мир, — но по какому-то закону (благородства?) она вернулась к своему источнику и уничтожила, испепелила его. Маяковский, в конце концов, пролил кровь — свою. Цветаева же, переживя его, просто удавилась (а не из-за места судомойки в Елабуге, черт побери!).
Две саламандры, два демона, две трагические фигуры из крови и мяса, — сейчас я хочу выделить только этих двух, — лежат в основании русской поэзии советской эпохи.
О «КАФКАХ» ПОЛЬСКИХ, ЧЕШСКИХ И РУССКИХ
В начале года вышла наконец на русском языке отдельным изданием книга прозы Бруно Шульца в переводах Асара Эппеля.
Польская литература в прежние годы переводилась у нас обильно, качественно, даже разнообразно, но странным образом в число переводов не попадали не политэмигранты даже, что легко объяснимо, но три, может, самых значительных и, уж во всяком случае, самых оригинальных польских писателя XX века: Виткацы, Бруно Шульц, Витольд Гомбрович. Что характерно, всех троих в межвоенной Польше, несмотря на разницу в возрасте, происхождении, месте проживания, связывали узы если не дружбы, то приязни, понимание того, что в современной им литературной и культурной ситуации они — «другие», да просто — монстры.
Но оказалось, что именно эти трое как никто почувствовали гнойный нарыв внутри своего бодрящегося времени, какой-то изъян в природе человека, обративший мир в наклонную плоскость, а затем в воронку. Двое первых оплатили счет собственной интуиции жизнью. Третьего война застала на экскурсионном пароходе, идущем в Аргентину. Экскурсия растянулась на двадцать лет.
Бруно Шульц — писатель и художник-график, невольный гражданин трех империй, последовательно переводивших его из первого сорта в третий, вплоть до полного списания. Была еще, к счастью, пауза для жизни в послеверсальской Польше, в которую и укладывается его недолгая творческая биография. Весь свой век он прожил в родном Дрогобыче, небольшом прикарпатском городке, на улицах которого и был застрелен в ноябре 1942 года. Сам по себе факт практически безвыездной жизни писателя такого (европейского) класса в захолустье — факт знаменательный, во многом задавший характер как его прозе, так и писательской судьбе. Убогие стены этого провинциального мирка могло раздвинуть только воображение, выводящее за пределы линейного времени, — и оно правит пир в прозе Шульца. Следует отличать воображение от экстенсивного — безответственного вообще-то — фантазирования, направленного вовне. Фантастов много. Мастеров воображения, проникающих в глубь явления, в его скрытую потенцию и суть, гораздо меньше. И Шульц закладывает и возводит на литературной карте мира свой мистический и гротескный Дрогобыч, с его опасной и непредсказуемой «улицей Крокодилов», запахами колониальных «коричных лавок», музейными миазмами «второй осени», с зимними «завирюхами», сравнимыми с космическими катаклизмами, с прогулками, длящимися вечность, с желаниями, что заплетают воздух тугими узлами и затем — будто пройдя сквозь руку фокусника — растворяются без следа, с неспокойными снами об упокоении, обретенном наконец в санатории, внутри траурной рамки, под водяными часами, — и город этот оказывается не меньше чего бы то ни было в мире, все, что есть во вселенной, сохранено и отпечаталось в его изотропной структуре.
Странная субстанция использована для его строительства: материя снов, энергия парадоксально выстроенных словесных рядов, сецессионная цветистость и шарм декадентской рефлексии (со всеми этими «экземплификациями», «транспозициями», «фебрильными грезами» и «эксцитациями» в авторской речи), но главное — с галлюцинаторной ясностью увиденная хищным глазом художника вещность мира, на деле — обманчивое ветхое покрывало, оптический фокус, создаваемый интерференцией невидимых, но ощутимых, перетекающих волновых энергий, лежащих в основе мира, — единственно подлинных и реальных. Содержащийся в этом последнем допущении, ставшем убеждением, магизм и есть ключ к его вегетирующему стилю, к миру, попавшему в плен бесконечной фабрикации материализующихся метафор, обращающихся на глазах в сор. И единственно, что здесь важно, — это сам длящийся момент трансформации, в котором и заключена искомая и ускользающая, утрачиваемая жизнь.
Мотив трансформации, превращения, взаимоперетекания «книги» и «мира» и трагической перманентной утечки смысла при этом и есть то, что связывает Шульца с современной ему новой европейской литературой. В частности, с Кафкой. Кафка при этом — особая тема. Расхожий трюизм, всеми ныне опровергаемый — «Шульц — польский Кафка», — все же имеет некоторые основания для существования. Опровергатели исходят из стилистической непохожести Кафки и Шульца: лабораторно стерильного, пуриста в стилистическом отношении — Кафки и варварски цветистого, неумеренного, «переразвитого» — всего на грани (и за гранью) дурного вкуса — Шульца, а отсюда следует и разница достигаемых ими художественных результатов. Что ж, это действительно так. Шульц сам предлагает визуальную метафору своего стиля — важнейшей из его составляющих — это сад-палисадник-пустырь где-то на задворках города, взбесившийся от послеполуденного зноя и разрастающийся буйно вспухающим бесстыжим мясом лопухов, бурьяна, бузины, в припадке языческого (по-польски лучше: поганьского) плодородия. У Бабеля есть где-то воспоминание, как мучительно не давалось ему описание разлагающегося трупа: как всегда, переделывал раз десять, множил все цветовые пятна, поминал сукровицу, повылазившие черные жилы, затем перечеркнул и написал: «На столе лежал длинный труп». Так вот, Шульц чаще всего похож на первую редакцию Бабеля. Та же бешеная вещность, педалирование материальности предмета описания, как бы призванное компенсировать немощность его экзистенции, подвергшейся разъедающему воздействию рассудка: еще немного и — аллегория, карикатура. По счастью, за редкими исключениями («Весна»), до этого не доходило.
Без сомнения, Шульц — явление не столь художественно бескомпромиссное и универсальное, как Кафка. И все же огромное количество черт связывает их и роднит, начиная с общего культурного пространства Австро-Венгерской империи — взятого во всей подробности его духовной проблематики, воспринятого и представленного сквозь общую для обоих призму мазохистической личности, — и кончая некой «сно-родностью» их творческого метода; это как два дополняющих друг друга подхода к описанию снов. Сердечник магнита, возбуждающий токи в текстах обоих, — в снах, в не исполненных желаниях, в фобиях и травмах. С некоторой натяжкой я бы рискнул утверждать, что они отличаются, как, скажем, ранний экспрессионистский Кандинский от позднего.
Ключевой фигурой мира обоих является Отец, конфликт с которым или утрата которого служат тем первым толчком, что понуждает каждого из Сыновей привести в движение свои творческие миры. На какой-то стадии этот конфликт с необходимостью приобретает религиозный характер, перерастает в конфликт с миром, с тем чтобы вернуть Отца. Одежды разные: у Кафки драма разыгрывается в беспощадных одеяниях ортодоксальных, с юридическим уклоном, категорий (Закон, Процесс, Замок), у Шульца — скорее, в причудливом хасидском халате, с живописанием и неким пантеистическим душком; но конфликт один, характер травм очень близок.
И еще: оба эти мира не стоили бы ничего без подлинной страсти, без подробности и абсолютной достоверности заключенных в них личных обертонов их создателей и жертв. Странное дело, с громоподобной наивностью когда-то заметил Паскаль, что ведь мы любим писателя, художника. И совсем не за то, что он «хорошо пишет», — это лишь условие, необходимое, но недостаточное.
В мире Шульца разыгралась драма поражения отца — Иакова. В героическом противостоянии хаосу последний был умален и низведен до чучела кондора, до таракана, до кучки сора. Вследствие этого ничего поначалу не понимающий сын — Иосиф — оказался брошен на произвол сошедших с круга стихий, подвергнут безраздельной и беспрекословной, лишившейся формы женской власти, вовлечен в механизм прогрессирующего грехопадения, «уподления» мира, где место духа — освежающе абсурдных идей отца — занял болезненный, потерявший ориентацию эротизм, а место Истории — погода и климат. Из мира оказался вынут стержень — рыцарь («Мой отец идет в пожарники»), — и мир обернулся дешевкой, мистификацией, псевдоматерией. Так устроено, что Сын не может и не должен быть свидетелем позора Отца, иначе мир рушится. Иосиф — это Гамлет, не отомстивший за низведение, унижение отца, за что и наказан неизбывной виной. Здесь истоки письма Шульца.
Оказавшись онтологически нищим — или еще точнее: ограбленным, обобранным, — он проваливается в магию и ворожбу. Он пишет две книги — «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой», которыми хочет вернуть Отца в его силе и где развивает апологию чуда, вселенского декалькомани, возвращенного времени или «гениальной эпохи», как называет он ее на своем артистическом жаргоне. Однако остаточный принцип реальности, чувство вкуса и вдруг откуда-то взявшееся — да! — мужество понуждают его тонко окрасить эти книги, пропитать их во всю глубину животворящей влагой комического, что придает им такое горькое и грациозное очарование.
Симптоматично появление переводов Шульца сейчас — действие некой скрытой закономерности видится в этом. Что вообще необходимо, чтобы переводчик заинтересовался автором и чтобы его перевод был воспринят читателем? Эдгара По, например, начали переводить и читать в России чуть ли не при жизни, а его современника Гоголя переложили на английский лишь в XX веке, чтобы еще позднее числить его чем-то вроде «русского Кафки» или чего-то «в этом роде». Рискну предположить, что удачно своевременный перевод — словно ответ, подсмотренный в задачнике, когда условия задачи уже поставлены твоей культурой на твоем языке, но соответствующего решения пока нет. Переводится ведь, в счастливом случае, не просто другое-далекое-новое, а как раз то, чего как бы не хватает здесь, на месте.
Русская литература в каком-то смысле вернулась сейчас к тому месту, где она разошлась с мировой. Поэзия, потрепетав на встречном историческом ветру, сложила на время свои летательные части. Беллетристика спит вечным сном, что является ее естественным состоянием, позволяющим в любую эпоху и в любой стране фабриковать в неубывающем количестве свои стандартизированные грезы. За нее можно быть спокойным — она бессмертна. Проза же ведет монолог запойного пьяницы, очнувшегося в незнакомом месте: где я? кто я?! Это место очень похоже на раз уже описанное лет семьдесят назад Тыняновым в статье «Промежуток». Примерно в то же время, начиная мучить бумагу, Шульц думал примерно над теми же вопросами.
Шульц не реалистический писатель, он примыкает к тому ряду крупнейших прозаиков XX века, которые провели внезапную и стремительную операцию по захвату исконных территорий поэзии, смело введя языковую проблематику в плоть своей прозы, сделав упор на фактуру слова и долготу дыхания фразы, на сам характер высказывания, на языковую по преимуществу интуицию размера целого. Способ речи потеснил у них и перевесил традиционные прозаические «добродетели» — как то: фабула, персонажи — с их психологией, идеологией, диалогами, пространственно-временными и каузальными связями, завязками-развязками и прочим. Потерявшему восприимчивость, полуослепшему читателю дали новую оптику — вернули зрение: состоялось открытие нового полноценного способа бытования в языке литературного текста. Набоков, Платонов, Джойс, Борхес, тот же Гомбрович растворяются в своем языке практически без остатка — он подлинный субъект их творчества, имеющий собственное бытие, свое словесное, парадоксальное тело, свои гносеологические пределы. Переводить таких писателей невероятно трудно. Их переводчиков следовало бы производить в кавалеры и награждать по факту перевода медалями за отвагу.
Асаром Эппелем, переводчиком Шульца, проделан огромный — каторжный труд. Им был взят верный курс на сохранение во всей полноте словарного богатства Шульца и экстремул его стиля, когда из ряда синонимов, скажем, берутся лишь самые крайние, максимально экспрессивно окрашенные, почти вышедшие из повиновения — «неподзаконные» — слова. Многие решения Эппеля изящны, хотя, на вкус рецензента, кое-где в переводе можно было обойтись без экзотически звучащих для современного русского уха — и вполне обыденных для польского «эксцитаций», «элоквенций», «арогантных контрапостов» и прочих опытов языкового расширения. Помимо выписанных с большим чувством лирических пассажей наиболее удачными представляются переводы тех новелл, где прослеживается фабула, опосредование действием, где фраза укорочена и где в буйство не впадают предавшиеся «разнузданному партеногенезу» шульцевские описания. Именно здесь подстерегала — и подстерегла — переводчика опасность.
Некая стратегическая ошибка при этом была, как кажется, допущена им — грех потери дистанции. Наведя фокус на слово и гоняясь за ним, как за бабочкой, переводчик, поддавшись коварству близкого языка, дал втянуть себя в лабиринт его ветвящихся конструкций — и потерял ориентацию. Там, где у Шульца идут выходящие из-под контроля саморазрастающиеся описания, монологи с практически незнакомым русской литературе пафосом, с их головоломным синтаксисом (за которыми, между прочим, в польской словесности века иезуитской риторики и католической проповеди), и где Шульц всегда почти сводит концы с концами, переводчик зачастую теряется и начинает выдавать «близорукий» перевод, местами просто подстрочник. И возникают в русском переводе обороты типа «для цепляния и удержания кислородных струений» или пассаж о бабочках, «трепыхающихся в пламенном воздухе неуклюжими метаниями», — так же как скалькированные по польским словообразовательным моделям «неологизмы» вроде: «сказненные головы», «выпространивается», «вымерещивая», «осолнцованная», «фантастилась», «неуклюже учудовищненное» и т. д., и т. д. Но это частности.
Главное — после разрозненных публикаций в различных журналах Шульц пришел наконец к русскому читателю отдельной книгой и практически в полном объеме. Будем читать этого странного писателя. Он того стоит.
ПРОФЕССОР КИСЛЫХ ЩЕЙ, ИЛИ HOMMAGE ВИЛЬЯМУ ПОХЛЕБКИНУ
Почему при мысли о еде, ставшей страстью, неизменно всплывают в отечественной традиции эти три имени: Гоголь (улетающий от раздосадованных охотников селезень), мохнатая и плотоядная фамилия Молоховец, и бочком присевший за общий с ними стол Похлебкин, — почему-то Вильям?
Все очень просто — стол-то письменный, и бумажный лист, лежащий перед каждым, по законам волшебства превращался в скатерть-самобранку. Все трое — писатели, — разных масштабов, направлений и судеб, — но у всех троих предстает в гипертрофированном обличьи одна общая тема. Сказать еды, яств, значит, не сказать ничего. Писатель — это всегда память об утрате, травме, и работа с ней. Все трое, как сказал бы психоаналитик, желают быть накормленными, вернуться в мир заботы и опеки, превозмочь межчеловеческий холод ощущением сытости и теплоты. Потому они и пишут в книгах об этом, — поскольку их голод не физиологического характера и практическими мерами неутолим. Они — драматурги (не отсюда ли имя Вильям?), тогда как повара, гурманы, едоки — режиссеры и актеры, — постановщики, действующие лица и исполнители одной очень древней и вечно переписываемой драмы. По своим истокам — мистерии, десакрализованной, похоже, ныне окончательно. Потому что еще донедавна за пищу благодарили молитвенно, первобытные же анимисты просили прощения у духов убитых ими животных и задабривали за позволение съесть их тела. Но побеждает всепроникающий «общепит», и происходит это не только в жизни — в кулинарных отраслях стран Запада и Востока, — но и в письменности, в сознании.
По счастью, в такие моменты всегда, рано или поздно, включается механизм архаической консервативной контрреволюции, призванной спасти то ценное, что можно еще спасти, восстановить рвущиеся связи. Вильям Похлебкин из таких — последних Рыцарей кухонного стола. Припомним фон: курс на уничтожение домохозяйки, кухарок — в депутаты! Экспансия общепита, укрупнение пищевых гигантов — комбинатов и фабрик. При этом феерическое оскудение ассортимента, когда бесследно исчезали не продукты уже, а целые их виды и классы, и оставались только роды: «колбаса» вообще, «мясо» как таковое, просто «рыба». Одно из возможных определений социализма — это и есть «отсутствие ассортимента». В мире провизии это значит — ничего лишнего, только необходимое — желательно, общедоступное. И определенные достижения на этом пути были: хороший хлеб, сносная водка, мороженое для всех (амбициозный Микоян, — его программа 1937 года), неплохие конфеты и торты, растительное масло, сметана, горчица, майонез и селедка такие, к каким мы привыкли, и других не надо. Забудем про все более целлюлозные колбасы, кислое пиво, выродившиеся и кормовые сорта овощей, разбавленное молоко, не к ночи будь помянуты, «шницель с гарниром» и «четверг — рыбный день»(замечательный еще и анонимностью своего изобретателя). Так получилось, что 70-е годы оказались помешаны на поисках чего-нибудь вкусного, деликатесного, праздничного, — все это «доставалось» и каким-то чудом оседало, презрев все сроки хранения, в морозилках граждан. С особенным удовольствием ходили друг к другу в гости еще и потому, что это почти всегда значило вкусно поесть. Рестораны с хорошей кухней оставались только в столицах кое-где, да, неизвестно почему, в каких-то совершенно непредсказуемых местах на периферии. Началось возвращение домохозяек на кухню, все чаще стали заглядывать туда и их мужья.
Кулинарные книги выходили каждый год и исправно раскупались (поскольку считались почему-то хорошим подарком). Их отличала, как правило, редкая бестолковость, компилятивный характер и умственный кругозор авторов на уровне нормировщиков планового отдела Минпищепрома. Читатели с ностальгией вспоминали поздне-сталинскую «Книгу о вкусной и здоровой пище», но и она годилась скорее для уточнения правописания устаревших слов и разглядывания цветных репродукций, — нечто вроде диафильма о роге изобилия из будущего для взрослых. Много было книжек аналогичных по глупости и всеядности самой популярной телепередаче той эпохи — «Клубу кинопутешественников». Были также эмпирики, поставлявшие иногда дельные, но всегда куцые рецепты для кулинарных колонок женских журналов — «Работница», «Крестьянка» и «Здоровье», — тираж каждого из которых превышал 10 млн. экз. Рецепты вырезались и переписывались женщинами, домохозяйки обменивались ими, как дети марками, их использовали в качестве книжных закладок, наподобие гербария перекладывая ими листы поваренных книг, — так что снимать с полки поваренную книгу всегда следовало с крайней осторожностью, чтоб не ловить затем по всей кухне и не ползать по полу, подбирая пересушенные вырезки и пожелтевшие тетрадные листки, исписанные разными почерками женщин всех поколений.
Именно на таком фоне — в безнадежный и тупой полдень «развитого социализма» (названного позднее «застоем») встречены были и восприняты первые книжки В. Похлебкина. В них он пренебрег суеверием «пользы» — его кредо стала вкусная кухня, возвращение радости жизни и поэзии еды. Читатель, сохранивший в себе зерно здравого смысла, не замороченный окончательно завиральными «плановыми» теориями, радостно откликнулся на приглашение «поесть», — почитать, узнать, подумать, приготовить самому. С тех пор, как человек изобрел экспериментальную науку, способность его воспринимать и понимать распространяется почти исключительно на собственные продукты, изделия, на то, что он сделал сам или сумел повторить. Возможно, это имел в виду философ Иммануил Кант, называя все остальное «вещами в себе».
Вторая не менее важная заслуга Похлебкина — это внятное изложение общих принципов кухни, смысла операций, которым подвергается провизия в ходе кулинарных процессов. Что происходит под крышкой? О, это огромное освобождающее знание, дающее повару власть над еще не готовым материалом обеда, предоставляющее ему необходимую свободу для маневра, для импровизации, развивающее в кухмистре интуицию, сродни композиторской. Не зря в одной из книг Похлебкин уподобил бридость, неразвитость вкусовых рецепторов (угнетаемых, по его мнению, табаком и алкоголем), отсутствию музыкального слуха. В другой его книге поражает описание гастролей поваров в знаменитых ресторанах, обставленных зачастую не менее торжественно, чем приглашение дирижеров.
Любые знания однако — лишь условие, необходимое, но недостаточное. Так в мировой практике существует 150 типов супов, или тысяча их видов, скажем (по Похлебкину): 24 варианта щей, 22 борща, 18 — ухи и т. д. Но все это лишь классификация, сродни Линнеевой, групп продуктов и блюд. Чистых вкусовых ощущений, таких как «соленость», «горькость», «кислота» и т. д., едва ли больше чистых цветов спектра, — но как каждый живописец из 7 цветов (плюс черный и белый) создает свою неповторимую цветовую гамму, соблюдая и одновременно нарушая правила их сочетаемости (чему учит наполовину лженаука «цветоведение»), так и повар своим талантом перекрывает и перекраивает по-своему любое наше знание о вкусе. И в этом третий урок Похлебкина: знание правил нужно еще и затем, чтобы смочь пренебречь ими при необходимости. Потому что и самые великие и основополагающие кухонные принципы без маленьких хитростей, — а точнее, тонкостей, — это грубый муляж, чучело Общепита, вселенский «Макдональдс», и дальше: харч для космонавтов в запаянных тубах.
Книги Похлебкина известны и переиздаются: это «Чай…», «Все о пряностях», «История водки», «Тайны хорошей кухни», «Занимательная кулинария», «Национальные кухни наших народов» (где, кстати, была предпринята едва ли не первая в отечественной кулинарии робкая попытка выхода на некие ментальные основания национальных кухонь — попытка описания их как органического и сложно устроенного целого, неразрывно связанного со способом выживания данного народа, в конкретике историко-географических реалий и не всегда ясных предпочтений). Незабываемо описание трех волн влияния французской кухни на русскую, окончательно прояснивших ее для себя самой ко времени, описанному Гиляровским. Увы, ненадолго, как выяснилось. Начало положено было хитрой лисой Талейраном, уступившим Александру I на три года лучшего повара Франции, который обслуживал по его распоряжению европейских монархов, собравшихся на Венский конгресс, чтобы решить участь Франции после Ватерлоо. Искусство великого кулинара Мари-Антуана Карема в немалой степени повлияло на мягкость принятого ими решения. Несколько лет спустя в Петербурге и Москве открылись первые французские ресторации. И Пушкин принадлежал к первому поколению русских гурманов — уже не гастрономов — ценителей, а не любителей. Из взятого Парижа русским войском оказались прихвачены с собой не только некоторые любовные штучки, но и вывезены новые гастрономические представления. А вот Гоголь (может, потому что малоросс) отдавал предпочтение не французской, а более южной и простонародной итальянской кухне — ее макаронам с подливой и сыром, равиоли, фруктам, овощам и, возможно, салу. Книги Похлебкина еще и потому «литература», что провоцируют читательскую мысль и инициативу. Обрисованная им историческая драма «выжирания» мороженной морской рыбой в России, особенно за последние полвека, ее великой пресноводной кулинарной традиции, способна взолновать не меньше, чем драма из жизни дворянских гнезд. Картины повального русского пьянства накануне изобретения водки вносят неожиданные коррективы в наше понимание истории. Стиль Похлебкина, когда его «зашкаливает», способен достигать иногда подлинной энергичности выражения. Квалификация им кашевара как кулинарного «фельдшера», или блестки вроде «этот салат — пищевая молния» (и далее следует рецепт).
И все же это именно блестки. Потому что у Похлебкина есть еще тягостный двойник. Его также зовут Вильям Васильевич Похлебкин, и он кандидат исторических наук, и книгу о водке написал по заданию косыгинского правительства, в высшей степени интересную, но не в меньшей степени предвзятую, и если уж спорить с поляками о приоритете изобретения водки, то название их «гожалки» (горелки), стоило хотя бы уметь прочесть правильно, а не как «горзалку» (неоднократно). Еще много писал он по истории дипломатии, и язык департамента, где он состоял на службе, отомстил ему, пробравшись, словно филоксера, в его книги «для души» и поразив «словесный вертоград», — не дал ему, увы, сделаться по-настоящему большим писателем, — не только кулинарным.
Одна из его книг бесхитростно и трогательно обнажает перед нами драму неверного выбора: как с детства гнали с кухни мальчика, завороженного тем, что на ней творится, кричали «ну ты, кухонный комиссар, марш отсюда!», обзывали «девчонкой», даже если он только сидел в уголке и тихо смотрел. Прогнали. Была еще встреча с удивительным кашеваром в армии в войну. После войны — учеба и государственная служба.
Те, чью «искру» намеренно, целенаправленно и долго гасили, поучившиеся к тому ж на советском истфаке, сумевшие соответствовать большей части издательских требований, — такие люди часто становятся сознательными государственниками. Губы Похлебкина поджались, — он делал, и неплохо, то, чего хотели от него люди. Однако «искра» прорвалась, пусть поздно. Пусть горит теперь все к чертовой матери, как — говорят злые языки — горит ясным пламенем на его неустроенной кухоньке в Подольске газовая плита с сорванной дверцей, когда, при всякой попытке зажечь одну из двух конфорок, из скрученной ручки бьет, будто из огнемета, струя горящего газа, — чистая литература!
И сам Похлебкин ныне стал похож на дервиша, и с миром перешел к общению исключительно через абонементный ящик. Как все это по-русски! Даже имя: Вильям.
ИГРА, «ЧТОБ ВЕЧНОСТЬ ПРОВОДИТЬ»
Круг чтения пополнился сонником для изощренных эстетов. В ближайшее время в России, вероятно, возникнет еще одна читательская секта — ловцов сновидений, играющих в «хазарский словарь», почитателей и фанатов Павича, — каковые уже имеются у Толкиена, Булгакова, Кастанеды, Кортасара, Борхеса. Павич и является до некоторой степени «славянским ответом» на вызов «Борхеса с Маркесом». Однако еще большую степень родства его литература обнаруживает с книгами У. Эко, — другого профессора, решившегося семена своей элитарной учености прорастить на делянках массовой культуры. Опыт увенчался успехом, чтение вышло отменное — в меру занимательное, в меру головоломное, в меру элитарное, в меру доступное. Несомненно, оно завоюет своего читателя. Среди славян уже случался подобный писатель — Потоцкий, в чьей «Рукописи, найденной в Сарагоссе» столь же сильно запечатлелось влияние мусульманского способа рассказывания историй, наиболее полное выражение получившего в великой книге «1001 ночи».
Павич — белградский профессор, серб, с генетически (а не опосредованно, как у Борхеса и европейских каббалистов) вживленной памятью мусульманского владычества, навсегда зачарованный тонкими и смертоносными ароматами Передней Азии и Ближнего Востока. Сама фамилия обязывает его быть по-восточному цветистым и загадочным. Профессор проговаривается: «скучно», — скучно преподавать, ездить на симпозиумы, останавливаться в знакомых до зевоты гостиничных номерах, писать, сидя на немецком гранте, восточную сказку о пылинке дальних стран, обнаруженной на перочинном ножике, и о мирах, закутанных в цветные туманы. Эшер дал графический, жесткий эквивалент такого рода литературы. Достославные югославские «примитивисты» поделились с Павичем своим мягким, мерцающим колоритом. Сюрреализм его образов, принципы построения фразы носят не литературный, французский, — а фольклорный, славянский и лунатический, характер. Лучшие его фразы «в доску пьяны» и, при этом, виртуозны и точны последней сумасшедшей точностью, — так что у следующего за ними след в след читателя дух перехватывает, если он рискнет обернуться, чтобы оценить преодоленное только что препятствие.
При всем том книга замахивается на историософию и антропософию, пытаясь троицей, переплетением трех составляющих ее частей — христианской, мусульманской и иудаистской, — одолеть двоицу, разлагающую непрестанно мир, по Павичу. В глазах рябит от этих рук с двумя большими пальцами, так что каждая может быть одновременно и правой и левой, от множащихся двойников, дублей, повторов, магических зеркал, снящихся друг другу персонажей, чья реальность дезориентирована окончательно и навсегда — как в знаменитой притче про бабочку Чжуан-Цзы (отличающейся, по крайней мере, лаконизмом). Вслед мистифицированным им хазарам, Павич пытается якобы построить гносеологию сна. Если это не удается в выхолощенной реальности, то хотя бы в снах достичь искомой и желанной полноты существования, собрать разрозненные пространства и времена воедино в теле Адама Кадмона (читай — человечества). Здесь и начинаются накладки, натяжки и «нескладухи».
Борхес в свое время мужественно поставил себе пределом новеллу — и написал «Алеф». То же с «Вавилонской библиотекой». В силу славянской ли ментальности, или желания написать «непременно роман», точнее, «роман века», а может в силу профессорского нежелания расстаться с забавой, доставшейся таким трудом, — но «Хазарский словарь», в конце концов, становится избыточным, продолжая безобразно и бесформенно разрастаться. Повторы начинают томить читателя, рассеивается зачарованная атмосфера «не-критичности», и режет уже слух цветистая безвкусица фраз, искусственность интонаций, произвольность и нарочитость умственных построек, наступает девальвация того сновидческого материала, который способен был так поражать поначалу. Выдумки, выдумки, — апофеоз всего ненужного и третьестепенного. Вся современная часть, где автор наскоро приканчивает последних участников затянувшейся надысторической «хазарской полемики» перенасыщена отдышанным углекислым газом и бедна кислородом, так что автор уже и сам просится на воздух.
В финале ему видится пара молодых людей, только что познакомившихся благодаря его книге и теперь, сидя в обнимку в велосипедных седлах, поедающих бутерброды, разложенные ими на уличном почтовом ящике.
Что ж, Павич перевыполнил свою задачу. Ему удалось написать современную, окрашенную лексикографией и семиотикой, волшебную сказку, не лишенную намеков.
ЧИСТЫЙ БРИЛЛИАНТ «МУТНОЙ ВОДЫ»
Малопишущий, пятидесятилетний Анатолий Гаврилов — писатель «без дураков», прозаик от Бога. Выражусь сильнее: совсем нельзя исключить, что читатели будущего из всей русской прозы конца XX века на своих книжных полках только и оставят стоять переизданный томик его рассказов и рассказиков. Такое случается, и аутсайдер приходит первым, поскольку единственный достигает цели. Проза Гаврилова достаточно вынослива для этого. Устранившись от наших игр, сосредоточившись на собственной проблеме, он в силу художнической бескомпромиссности попутно, непроизвольно выработал в своей прозе механизм защиты ее от времени — time-proof — защиты от нынешнего и будущего «дурака».
Самое при этом интересное, что писатель Гаврилов представляет собой тип мечтательного мазохиста, и вся его художественная система — это машина по введению себя и читателя в состояние, способствующее «фиксации на травме», как выразился бы психоаналитик. Приписываемый его прозе в былые годы и недалекими людьми «антисоветский окрас» — это просто заблуждение. Бедность и поруганность окружающей жизни — модус природной среды обитания Гаврилова-писателя, отвечающий глубинной структуре его душевных потребностей. Им отторгается не большевизм, но вульгарный мужской активизм, повязанность иерархией, насмешку вызывают любого толка «сэлфмейдмены» и ловцы удачи, в выявлении примитивного устройства психики которых он неутомим. Составленные из клише ловкие речи и непередаваемая «каша» в голове — неиссякаемый источник комизма, извлекаемого писателем при описании своих персонажей. Отсюда особая чуткость к идиотизму армейской, производственной и прочих форм организованной жизни. Важно отметить, что автора привлекает при этом не осмеяние, но последовательное отслеживание субстанционального комизма, изначальной странности самой жизни. И лирический герой Гаврилова лишен привилегий и ничем в этом отношении не отличается от остальных персонажей. Единственное его отличие — это умение из очень немногих слов составлять рассказы, воспроизводящие условия несложной шахматной задачки, неизбежно ведущей к пату.
Чтоб не быть голословным, почти наугад:
«<…> среди цветочных горшочков стоит аквариум, в мутной воде которого доживает свой век последняя рыбка» (рассказ «Музыка»), Музыка, кстати, здесь — метафора красоты, иной жизни, и она же — синоним всего, что тревожит и обманывает, заводит и бросает. Рассказ заканчивается так: «Музыка, музыка… Я ее ненавижу». Отметим отсутствие восклицательного знака.
Поэтому же: «Про цветущую сирень сказать мне решительно нечего» («В Италии»).
«А про любовь расскажет кто-нибудь другой» (последняя фраза рассказа «Наступила весна»).
«Ликер был красивый, вкусный, но после него было плохо, особенно в районе мебельного комбината» («Философия»), В этот же рассказ для пущего контраста заложены обмылки былой красоты: «… есть прекрасное в этом прекрасном и яростном мире <…>, и вот я стал говорить, но тут подкисление пошло волнами, и стало из меня вылетать все выпитое и съеденное, а девушка испугалась». И резюме: «На свете счастья нет, а есть покой и сало».
«Памятные даты» — богатый перечень мест, где автору вместе с героем бывало нехорошо: «а совсем недавно — в Хельсинки, в Милане и в Берлине».
Замечательна парабола, как человек вырезал из камня розу, а у него выходили раз за разом «то прокатные станы, то градирни, то вагонетки и шлаковозы…» («Но где же розы?»).
И это правильно, потому что как только Гаврилов пытается отступить от своей темы, изменить себе, как у него выходит нечто вроде описания успешного коитуса в вымученной повести «Элегия»: «Женщина, не давая опомниться, властвовала до рассвета. Утром она исчезла, и Суровцев разрыдался» — и т. п. Искать пропавшую курицу или навоз для огорода, протереть потемневшую пуговицу или окислившуюся пряжку ремня аксидолом, лечь и отвернуться лицом к стенке или доставить «поздравительную телеграмму тому, кому уже ничего не нужно» (Гаврилов служит во Владимире почтальоном на телеграфе) — задача посильная для его героев. Так же как для автора написать рассказ «У-у-у» (ау, Толстой, Мережковские, Леонид Андреев!).
Откуда столь неутолимый вкус ко всем видам и формам поражения?! Хотя, — разве это внове для русского читателя (да и для западного — вот уже добрую сотню лет)? «Свернете шею», как говорил Мандельштам, попытавшись вырвать или удалить Гаврилова из литературного контекста последних двух столетий. Тот же Мандельштам дал нечаянно подобие ключа к гавриловской прозе, в одной из статей причислив Ходасевича с Баратынским к «младшей линии» русской поэзии, варьирующей на разные лады «тему недоноска». Ничего обидного в этом нет, поскольку удельный вес писателей не определяется принадлежностью или непринадлежностью к мэйнстриму. Гаврилов и вырос и писать начал на берегу моря-недоноска, Азовского, — как и его почти земляк (Мариуполь, Таганрог), писавший о предметах, людях и положениях столь непочтенных, чтобы не сказать ничтожных… что оказался допущен в первый парадный ряд русской литературы. Но начать придется с Гоголя, первого и всех далее раскачавшего маятник между ощущением абсолютной творческой мощи и столь же интенсивным состоянием всеобъемлющей и безысходной импотентности. В Гоголе квартировал гений, и оттого регистр его оркестрового звучания огромен. Дарование Гаврилова сравнимо со звучанием одного инструмента, — скорей всего, с заунывным звучанием флейты (последняя его покуда не опубликованная в России повесть так и называется «Берлинская флейта»), откуда он извлекает — да простят меня ненавистники Фрейда — глухую песнь «об утраченном фаллосе» или — в терминах почты — о пропавшей посылке с неверно составленным адресом. Изъяв эту флейту, придется вымарывать кое-что и из партитуры Гоголя. А также Гончарова, Федора Сологуба, Добычина, Хармса, даже Жванецкого, а Кафку и Беккета просто «слить», — их и не жалко.
Отметим, что, несмотря на фактуру прозы Гаврилова, он совершенно неинтересен поборникам т. н. «реализма», этого русского национального искусства, писатели же «почвенники» те просто удушили бы его собственноручно, будь их во Владимире немного поболее, и если бы сами они ощущали под собой хоть какую-то почву. Это и неудивительно. Гаврилов — писатель гротескный, галлюцинирующий, очень формальный, несколько даже в русле французской традиции. Изящный слог при заведомой неаппетитности предмета описания, выверенности интонации, отсутствие в ней фальши — вот и все, что Гаврилов может предъявить в свое оправдание читателям реальным, потенциальным и гипотетическим. Та музыка, которую, по его словам, он «ненавидит», определяет построение всех его текстов. Ритм — основной их структурообразующий элемент (и этого так давно уже не случалось в пространстве короткой прозаической формы, при нашем многословии). Слова могут быть почти любыми — важно, чтоб они повторялись, каждый раз отклоняясь на необходимый и точно установленный градус. Этот танец простейших слов, круговорот танцевальных позиций, завораживает. На это, видимо, и рассчитывает Гаврилов. И похоже, что это единственное, что примиряет как-то его самого с протеканием жизни и с собой в ней.
Если пристальнее присмотреться к письму Гаврилова и вернуться к уподоблению его затерявшейся посылке, то придется убедиться, что наш почтальон и не хочет ее найти, — он «сачкует»! И уж подавно не желает знать, что содержится в ней. Поэтому и старается держаться, несмотря на все заверения, подальше от Москвы, где непременно выведут на чистую воду: «Я не художник. Я здесь ошибочно. Это недоразумение…» (рассказ «В Италии»), Человека с подобным складом психики должен преследовать в частной жизни распространенный сон, будто бы он оказался в присутственном месте без порток, — или что-то в этом роде. Ничего удивительного поэтому, что он предпочитает ареалы обитания «старух и дурачков» («Старуха и дурачок» — название владимирской книги Гаврилова) с их недоразвитыми фантазиями и ничтожным достоянием, где, слившись с фоном, прикинувшись одним из них, можно отсидеться вдали от грозных работающих турбин пола и жесткого соперничества обслуживающего их мужского персонала, дождаться вожделенного угасания жизненных функций, бунтующих естество. («Раньше дрожал, возбуждался, перевозбуждался, сгорал и обугливался, а теперь — спокоен. Ах, сколько драгоценных мыслей, сколько драгоценного времени сожжено в топках того, что называется женщиной».) В нищете и скудости материи, ее ускоренном обветшании, некой окончательности провинциальной жизни его герой способен обретать подобие уюта и даже находить микроскопические радости («Теперь я знаю, что сказать»; «Будут еще парки и рестораны»). Думается, что, помимо прочего, автор испытывает странную, не требующую мотивации, врожденную солидарность с миллионами людей, живущими без надежды. Конечно, его герою, как и всем, хотелось бы рассчитывать на что-то по праву рождения. Но этого чего-то ему не досталось. А поскольку даром ничего не дается в этом мире, герой и решил, что тогда не надо вообще ничего. Он не желает никакого места в иерархии. Не будет миру мира, пока каждый, самый последний, хотя бы временно не станет любимым и единственным «навсегда». Комментарии излишни.
Приступая к письму, писатель думает, как войти в текст. В середине его он обычно слишком увлечен. Но заканчивая текст, каждый писатель вспоминает о читателе и ему адресует законченное произведение. Расставаясь навсегда со своими героями, он наиболее откровенен. Coda, концовка, последний абзац расставляет все по своим местам в произведении, как биологическая смерть в жизни человека. Она последним знаком, расположением запятой входит в ту величину, которой будут меряться и исчисляться масштаб и пропорции постройки. Гаврилов не любит заканчивать свои произведения и в большинстве случаев просто «придушивает» своих героев, вполне возможно, из побуждений милосердия. Вслушаемся в ламентации, на которых обрывается, как правило, нейтральный тон его письма:
«Люди! Помогите! Брат! Где ты? Спаси меня!» («В преддверии новой жизни»).
«Встань же, Отец!» («Объяснительная»).
«Он подошел к ним, опустился на колени и сказал: — Убейте меня!» («Будут еще парки и рестораны»). Любящий шарады читатель может попытаться угадать с одного раза, как заканчивается рассказ «У-у-у». Или другой вариант: «Николай натянул одеяло на голову и закрыл глаза».
Отдельная тема — это непроявленные и безысходные романы с. мужчинами. Вернее с одним и тем же мужским типом, принимающим разные и всегда узнаваемые обличья. Некто Н., Войцеховский, Вегерт, наконец, Мориц в уже упоминавшейся «Берлинской флейте». Это вечный Штольц из лучших побуждений терзающий Обломова, заставляющий его стать кем-то другим, — еще одним Штольцем. Приходится притворяться. Первоначальная признательность за участие, этот эрзац любви, сменяется отторжением, подавляемой ненавистью, усугублением чувства вины — и в результате еще более глубокой формой утробного бегства по направлению к нулевому уровню энергии. Подспудный поиск СТАРШЕГО БРАТА, патрона, имеет результатом для гавриловского героя такое же фиаско, как и все прочие попытки и формы сопротивления. Кроме одной — и, кажется, это самое важное в феномене Гаврилова и его прозы. И здесь же кроется ответ, зачем эти проблемы человеку другого психического склада и темперамента, — его-то зачем «грузить»?!
Случай Гаврилова — почти эксперимент и практически отвечает условиям стерильности лабораторного опыта. Результат его примерно таков: можно подавить волю, инициативу, способность к сопротивлению, но невозможно подавить талант, т. е. творческую волю. Или не так категорично: всего труднее подавить талант. Подобно пьезокристаллу при давлении на него он индуцирует энергию, перевести которую в звучание является делом техники.
Таким образом книга о всеобъемлющем жизненном поражении становится книгой о столь же полной победе творческого начала. Этот момент трансформации энергии, это парадоксальное состояние и есть то, что вот уже две с лишком тысячи лет с легкой руки Аристотеля именуется катарсисом. И там, где Гаврилову удается загнать свое ритмическое «камлание» в конструкцию, композиционно разыграть, возникают маленькие по размеру шедевры, перевешивающие многие и многие тома и отнюдь неплохих писателей. Таков, например, «роман воспитания» на 16 страницах «В преддверии новой жизни», невероятно смешной и гнетущий одновременно, — оставляющий по себе долгое послевкусие, как хорошее вино, выпитое с близким человеком.
И чтобы закрепить это ощущение, закончим так: книгу рассказов Гаврилова можно читать с похмелья (а много ли сегодняшних книг способно выдержать подобный тест!?), и это, как кажется, лучшая похвала для книги русского автора из всех возможных.
САЛЬТО-МОРТАЛЕ ВЛАДИМИРА САЛИМОНА
Пять лет назад мне уже доводилось писать о стихах Салимона — признаюсь, делал я это тогда с тяжелым сердцем. Не я один полюбил его первую книжицу «Городок», изданную в начале 80-х и, вопреки сгущавшемуся унынию тех лет, невероятно свежую, легкую на подъем, отчасти меланхоличную, смешную, основным содержанием которой были молодость и настроение типа «если вдруг взгрустнется». Она состояла из замечательных всевозможных пыхтелок, сопелок, бухтелок, кричалок и бормоталок. Но шли годы, и, как то бывает, Салимон нежданно-негаданно вдруг обнаружил себя заблудившимся в сумрачном лесу. А тут еще одна шестая суши непоправимо расползлась, как ветхие мехи. Ее перекроили, подлатали и перелицевали как смогли, по ходу дела откуда-то возникли новые люди, которые все сделали «не так». Салимон помрачнел, забеспокоился, растерялся (речь идет исключительно о поэзии, о писании «стишков», поскольку удовлетворять жизненные потребности низшего свойства в изменившихся условиях он научился не хуже многих других) и, как поэт весьма плодовитый, стал множить все более беспросветные, мизантропические и, называя вещи своими именами, суицидальные книжки. «Саду — конец. // Наше дело — труба» — еще самое мягкое из утверждений, каким заканчивается одна из неприкаянных, ернических и угарных книг этого периода, «За наше счастливое детство», изданная в Санкт-Петербурге «Пушкинским фондом». Именно этот симптом — когда все, что было в жизни аппетитного и благого, вызывает теперь одно лишь отвращение — и был зафиксирован мной в той рецензии пятилетней давности «Печальная повесть о „добрых“ стихах» (потерявшей свое название при публикации в «ЛГ»). Главенствующий мотив всепоглощающего разочарования и отвращения, лишь изредка отступая от него не более чем на полшага, Салимон тянул до последнего времени. Мизантропические, жизнеотрицающие стихи, кстати, вполне могут быть замечательными, даже шедеврами, но при этом отличительными их чертами являются, как правило, монотонность, монохромность и болезненная склонность к тавтологии (звериная скука наравне с вселенской тоской душит даже автора Екклезиаста, как и Державина в его последнем стихотворении, и Бродского). Чтоб сильнодействие подобных стихов не обесценила ответная скука читателя, их по определению не может быть много.
Совершенно не имею понятия, доводилось ли когда-то Салимону в школьном спортзале прыгать через длиннотелого деревянного «коня» с разбегу, оттолкнувшись от подкидной доски и перекувыркнувшись на лету (трудно представить, чтоб он не прогуливал физкультурные занятия в первую очередь), но его затяжной прыжок без тренировок и подстраховки неожиданно для него самого завершился успешным приземлением на маты на обе ноги. Аплодисменты, читатель!
В своей восьмой по счету книге «Бегущие от грозы» Салимон сделался поэтом для тех, кто уцелел посреди обломков прежней жизни и научился с этим жить. Оговорюсь: фактически, катаклизм 90-х годов не сделал ничего иного, кроме как обнажил катастрофическую природу времени, которого намыленный узел затянулся на горлах тех, кто оказался не готов к наружным и не способен к внутренним переменам (либо решился разделить судьбу своего стремительно исчезающегося на глазах мира, т. е. остался верен ему). Чаще всего человеку трудно соотнести себя более чем с одной какой-то «эпохой» или ее периодом, еще и потому, что все они пребывают в открытом или подспудном соперничестве друг с другом, — линия намеченного маршрута ломается и стремительно уводит куда-то вбок. Но не таким же ли образом парусник переставляет паруса и перекладывает руль, чтоб, используя силу переменившегося ветра, продолжить плавание? Тем не менее для большинства людей хуже нет, чем оказаться в зоне безветрия, иначе — в безвременьи (хотя для кого-то из их современников та прежняя эпоха и прежнее состояние могли быть похуже безвременья). Люди, выпавшие из времени, переставшие служить медиаторами общественных сил, возвращение к своему натуральному и естественному масштабу нередко воспринимают как несправедливость и низость, учиненную по отношению к ним лично, что свидетельствует не только о полном отсутствии добродетели смирения, но возможно и самой личности. Но вернемся к теме.
В самом конце 90-х изрядно потрепанный прожитыми годами Салимон пишет и издает неожиданно жизнеутверждающую книгу, несмотря на всю зрячесть и горчащий привкус составивших ее стихотворений. Салимон — поэт по своей природе на редкость органичный, можно сказать, патологически органичный (таким определением наградил кто-то артиста Леонова, озвучившего роль Винни-Пуха), бегущий всяческих абстракций и «пустопорожних слов», по его собственным словам, — как же удалось ему так вывернуться?? Поэзия — область достаточно автономная, и одной переменой внешних обстоятельств не может быть объяснено обновление ее тональности и звучания (часто такая перемена даже не относится к числу необходимых). Поэзия прорастает совокупность собственных условий во всю их глубину, осваивает и вживается в них, производит пересмотр всего своего звучащего хозяйства — и лишь тогда она способна заговорить иначе и по-новому. Потому что только по младости лет она может восприниматься в качестве одного из средств т. н. «самовыражения». По природе же своей она является «художеством» (а художник — «хытрец») и «культурой», т. е. «возделыванием», совместным трудом таланта, речи и души, не отпускающим от себя далеко и надолго и не прощающим ни измен, ни ошибок. Крепостное право никогда не было и не будет отменено для поэтов, и относительный выбор для этих тружеников-сибаритов возможен только между барщиной и оброком. И «барин» у них есть, хоть его не видел никто (у Салимона стишок: «господский дом спалить, // конюшню сжечь. // Теперь нас негде будет сечь»), другие его имена — «гений», «муза», «талант», «контекст» — в зависимости от степени секуляризации. Поэты и художники, красавицы, черные монахи нужны остальным людям, чтоб не перебеситься от непрестанного преследования пользы и упущенной выгоды и не броситься всем скопом с ближайшего обрыва в пучину.
Стихотворения, вошедшие в книгу «Бегущие от грозы», писались Салимоном на протяжении последних полутора лет. Фактически, это три книги стихов под одной обложкой, составившие своего рода «трилогию»: «Веселые плясуны» (март-ноябрь 98 г.), «Предместья рая» (ноябрь 98 — апрель 99), «Грозовая туча» (апрель-август 99) — всего две с лишним сотни стихотворений! Полноте, уж не графоманией ли страдает Салимон?! Ведь по-настоящему живой поэзии во все времена и во всех литературах пишется крайне мало. И как приятно ответить: нет.
Но мало того, что эта поэзия жива, по-новому зазвучала, волнует и врачует, а не бередит, — читая, с изумлением обнаруживаешь в ней обилие мыслей (как не вспомнить тут пушкинское motto: он оригинален у нас, поскольку мыслит). Уж не размышления ли вытеснили и разоружили, как террористов, деструктивные переживания в текстах Салимона? Отчего в стихи вернулось былое разнообразие тем, мотивов, интонаций, цвета, «присаженных» и облагороженных приобретенным опытом, как в старой живописи: «Розовый сквозь серый просочился…» — таким стихотворением на этот раз заканчивается вся книжка. Живописи, кстати, в ней предостаточно, особенно, живописи передвижников, — начиная с обобщающего и силлогизирующего названия «Бегущие от грозы» (опущено: «дети») и первого же стихотворения, открывающего книгу, — «Московский дворик…» — «Поленова, художника хренова».
«Ненастье. Морок. Сырость. Грязь», как и «ушанка, кепка, куртка, койка», — все это осталось, но поверх всего прошлась могучая волна лиризма, и вернулись: беззлобие иронии, как в ранних стихах, тонкость ощущения жизни, своей и страны, возникла новая открытость течению времени («гроза», «листопад», «половодье», прочие виды ненастий, убытков, бедствий — все это не только заменители имени неумолимого Хроноса, но также залоги обновления и великие чистильщики, санитары мироздания). Вышли, как и всегда у Салимона, очень русские, даже руссацкие, и очень «московские» стихи. И отнюдь не за счет каких-то наружных характеристик — будь то характерный говорок, расхожие фразеологизмы, узнаваемые реалии и позолоченные отсветы, время от времени, не то православия, не то поповщины, — а по самому своему строю, по внутренней свободе и срезанным напрямик дорожкам, по меткости реакций и смекалистости (этому практическому парадоксализму). Особенно интересно получается в первой книге «Веселые плясуны», когда подобный склад ума и речевой предрасположенности накладывается на подмосковные медитации (ну, или созерцания), и поэтическое мышление, отталкиваясь от погодных и сезонных явлений, перекликается с природным круговоротом — оживает и припоминает, кружит и замирает в непрямой, но тем более убедительной связи с ним. Такой способ сочинения и проживания стихов придает им неуловимо «дальневосточный» смысловой ореол (во всяком случае для рецензента). Когда-то чтоб суметь оценить это «свое», художественно его санкционировать, многим в поколении Салимона пришлось находить сперва нечто схожее в старокитайском и японском искусствах. «Сходит лед на ручьях, это так важно!» или «из путей живописца тушь простая превыше всего», «достаточно долог и год, если прожить его мудро» (сегодня уже режет слух; может, лучше было бы перевести «вдумчиво» или «подробно») — все это произносилось и записывалось много веков назад на Дальнем Востоке. Но оказалось, что аналогичная дистанцированность от социальных перипетий и философски окрашенная душевная повернутость к природному миру давно представлена в отечественной традиции (в пушкинской и лермонтовской «ссыльной» и пастернаковской «дачной» лирике более всего, у некоторых русских пейзажистов, а если покопаться — то вы обнаружите частичное присутствие и, как минимум, дань этой традиции у всех сколько-нибудь значимых авторов, за исключением драматургов — без Чехова — и писателей, одержимых идеями). Эта традиция знает, что никакого готового смысла ни в природе, ни в общественной или частной жизни не имеется. Сегодня часто тиражируется вполне обессмысленная патентованная формула (помимо красоты, которая мир спасет), что следует возлюбить жизнь больше смысла ее. И не в том первоначальном значении, чтоб доверять, что смысл у нее имеется, а в том, что как-нибудь приложится, а не то и так сойдет, — когда жизнь без смысла это и есть ад, вся Салимонова шкура еще постанывает от знания этого! Чтобы добыть смысл собственного существования, надо ого как набатрачиться. И больше всего на свете поэту теперь хочется, стыдно сказать, «до чистой лирики возвысить голосок // и не сорваться чтобы». Но, кажется, последнее ему не грозит. Мало в ком из наших сочинителей так силен рефлекс отвращения к необеспеченным словам и к пафосу, этому заменителю любви. Салимон из тех, не столь многочисленных, кто в состоянии еще отличать живое от мертвого. За упомянутую выше живость его стихов (не знаю уж насколько является она спонтанной) приходится, впрочем, и ему платить неряшливостью некоторых из них (споткнулась мысль или кисть — надо выбрасывать безжалостно лист). И по нескольку таких необязательных, не весьма удачных, «лишних», я бы из состава каждой книжки все же исключил. При этом мысленно потираю плотоядно руки, представляя себе со вкусом подобранный и, как всегда, изящно изданный томик «Избранного» Владимира Салимона. Не потому, что его стихи можно или следует делить на категории, а потому что должно существовать нечто вроде искусства составления «избранного» — такого или этакого. Поэт добывает квинтэссенцию практического смысла существования в такой форме, которой можно делиться — заочно, в том числе — с другими. И в этом отношении может быть смело уподоблен виноделу (мандельштамово «только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык»), и если вернуться к горчащему вкусу новых салимоновых стихов, то я бы рискнул определить их вкус как вкус хереса или мадеры. Эти стихи хочется цитировать, их колеблющиеся образы оседают в памяти, десятки строчек парят, внутри головы, как легкомысленные бумажные голуби: «чем больше в небе голубей, // тем небо кажется грубей»; «Не то что гипсу, //мрамору — хана», «Механизации — каюк. //Животноводству крышка.//Комод в углу. В дверях сундук. //Под носом — шишка» — но стоп!
Конечно, недурно было бы рассмотреть книгу «Бегущие от грозы» повнимательнее, но в планы рецензента не входит написание монографии о стихах Салимона (не говоря о том, что это потребовало бы совершенно иного журнального формата). И будет лучше во всех отношениях просто почитать их, пожить с ними:
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВАЙЛЮ
Собственно рецензия на книгу могла бы быть короткой (поскольку неинтересно ни заниматься пересказом, ни толочь воду в ступе):
— Вайль написал замечательную книгу;
— ее стоит купить;
— ее надо прочесть;
— и у нее есть все шансы быть признанной лучшей книгой года на русском языке в жанре non-fiction.
Поставив ее на полку, вы получите:
— путеводитель для интеллигентного путешественника по 35 знаменитым городам мира;
— сборник незаурядной эссеистики о 36 «гениях места» (Байрон и Бродский поделили Стамбул), сыгравших роль гидов, — о знаменитых писателях, художниках, архитекторах разных стран от древности и до наших дней;
— и, наконец, замечательной удобоваримости интеллектуальное чтение, отмеченное широтой кругозора, свежестью привлекаемого материала и остроумием.
Несколько распространив вышесказанное, можно добавить: само по себе воскрешение жанра путевых очерков на таком уровне, как у Вайля, — благо. Угнетенная в советский период как минимум 200-летняя литературная традиция обрела достойного проводника. Более того, расходясь во взглядах и установках с предшественниками (озабоченных более всего, как пишет Вайль, собственными эмоциями и сакраментальным Веничкиным вопросом: «Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?»), Вайль решительно модернизирует традицию. Конечно, как и все они, Вайль повсюду таскает за собой, будто горб, свое отечество — книга его написана исключительно для российских читателей (о чем свидетельствуют не только бесчисленные ретроспекции, отсылки и лирические отступления, но и сам строй, «оптика» его текстов). Однако при этом он не теряет исключительного любопытства к чужим культурным традициям — вкуса к незнакомым цивилизациям. Понятно, что такую книгу мог написать либо профессиональный путешественник с естественно-научным складом ума (исчезнувшая в XX столетии порода), либо эмигрант, на собственной шкуре испытавший, что такое погружение в чуждую среду и выживание в ней. (Настойчивая манифестация кулинарных интересов оттого так и неглубока, что выполняя функции т. н. «оживляжа», свидетельствует лишь об одном: о неврозе, о желании «быть накормленным» — удобно устроиться в незнакомой и непривычной обстановке, — причины те же, по которым кормят в полетах, и по которым часть людей немедленно принимается за еду, едва только заняв свои места в ж/д купе.)
Материал, переработанный Вайлем, огромен. Книга превосходна в познавательном отношении, увлекательна и легка в чтении. Автором сделана в ней масса микрооткрытий (чего стоят, например, увиденный им Чарли — «всеобщий любимец, маленький человечек в котелке, злой, как мышиный король», или «Путешествие в Стамбул» Бродского — как болезненная вакцинация, предохраняющая от безумия мыслей о возвращении на родину, — так ездят в другую страну лечиться от наркомании или делать аборт).
Старательно рядящийся в гедониста автор поражен вирусом смыслополагания. Эффектно составленные и эффективно работающие пары городов и персонажей (Дублин Джойса и Лондон Конан-Дойла, например, или Барселона Гауди и Сантьяго-де-Компостела Бунюэля) как бы удваивают свои смыслы, что позволяет сопоставлять их не на плоскости, а в виде трехмерных проекций. Пары (или, как говорилось в годы нашей общей с автором молодости, «оппозиции») удобны для анализа — но уже триада потребовала бы выхода на совершенно другой уровень, с большим количеством, как теперь говорится, «степеней защиты».
Предшественниками и вдохновителями Вайля в изобретенном им симбиотическом жанре являются — Плутарх, с его «Сравнительными жизнеописаниями»; П. Муратов, с «Образами Италии», настольной книгой Серебряного века; и, надо думать, наш современник Г. Гачев, с его методом практического погружения в т. н. «национальные картины мира» (писанные им в 60–70 гг., не выходя с подмосковной дачи).
Вайль предпринял попытку олицетворить искусственную природу городов, их замысел и характер — и у него получилось. Будто факир с дудочкой, он заклинает отобранных им авторов, и те поднимают головы над облюбованными и насиженными местами, как кобры, и согласно покачиваются в такт вайлеву дискурсу. Факир откладывает дудочку, берет указку и превращается в школьного учителя географии и изящных искусств, по совместительству, — и на доступном для подростков хлестком газетном языке объясняет смысл телодвижений прирученных им «гениев места».
О той школе, в которой он работает, т. н. «нью-йоркской школе», и пойдет речь. Потому что в прекрасной ясности и позитивном посыле и этой книги, и этой «школы», есть нечто, что рецензента, как минимум, настораживает и местами отвращает.
Надо сказать, что разлука с Генисом, многолетним соавтором и бойким расщелкивателем литературных и мировых проблем, пошла Вайлю на пользу. Как и пространственная удаленность от поцыкивающего зубом нью-йоркского философа Б. Парамонова, который, подобно Коту в Сапогах, хитростью превращает «проклятые вопросы» в мышей и затем поедает в больших количествах. Все это люди талантливые, временами (местами) блестящие, при том — работяги. Но сколько их ни читай, они всё глядят в капиталистические джунгли — перебежчики в другую цивилизацию, отстаивающие свою завоеванную буржуазность.
Утверждения Вайля, что Достоевский писал, на деле, детективы (т. е. в «Братьях Карамазовых» всего важнее, кто все-таки папашку «замочил»?), что все проблемы нашей жизни «суть проблемы возрастные», его гимн путеводителям, защита здравого смысла толп, желание снять напряжение и разрядить полюса, отношение к драматизму такое, будто кто-то испортил воздух, — все это рефрены все той же арии, разложенной радиожурналистами «нью-йоркской школы» на три голоса: «Буржуа лучше, чем гений! Буржуа лучше, чем гений! Буржуа лучше, чем гений?..» Не знаю. Вряд ли.
Но роли разобраны. И Вайлю идет роль дитяти мирного сосуществования, разрядки и объединенной Европы (увы, так неожиданно споткнувшейся и усевшейся посреди променада в кровавую лужу Югославии). Неизвестно, что — старение, знакомство с Бродским или долгожданные трофеи в собственной литературной охоте — заставляет их ныне смягчиться по отношению к гениям, — «гениям места», во всяком случае. И вступать на практике во все большее противоречие с выстраданным сообща «символом веры».
Начав с выступлений против российской «литературоцентричности», они сами давно превратились в российских литераторов, и из-под их пера начинают порой сами собой выползать такие строки и такие тексты, что способны насмерть перепугать их вчерашних авторов. Начав с борьбы за полную конвертируемость человека, Вайль впадает сегодня в другую «гносеологическую» крайность, утверждая совершенную несравнимость алкаша российского с мексиканским: «с похмелья встают разные люди». И, наоборот, Нью-Йорк питерца и рижан неожиданно оборачивается этакой Москвой-на-небесах — расчеты и там и здесь ведутся в одной валюте, а наши нью-йоркеры, вдруг выясняется, те же русские, только обогащенные опытом «антиподства» и спора с господствующей в метрополии культурной традицией.
И это, кажется, самый любопытный географический урок, содержащийся в книге о путешествиях Петра Вайля.
В ОГНЕ НЕ ГОРИТ, НО ТОНЕТ В ВОДЕ
В начале года в конференц-зале РГБ (в просторечии, «Ленинки») состоялась презентация одного любопытного проекта, или, если угодно, объекта. Это была толстенькая книжечка с громким названием «Библиотека утопий», заключенная в опечатанную металлическую коробочку (изд. Орден Пятой Масти совместно с ИМА-пресс, тир. 1000 экз). В книжечке оказался также кармашек для CD, где-то застрявшего на таможне.
Огромный стильный зал, в котором происходила презентация, заслуживает особого описания — он выдержан в духе даже не «сталинской», а какой-то «муссолиниевской» эстетики. Как только журналисты и телевизионщики, сделав свое дело, отступили на задний план, залом завладело несколько сот людей мало похожих на завсегдатаев библиотек. Скорей уж, на посетителей молодежных ночных клубов, почитателей «Птюча» и «Матадора», непременных участников акций и арт-тусовок «параллельной», андерграундной культуры. На большом киноэкране мелькала хроника времен нацизма в Германии, с маршами и книжными аутодафе, «продвинутый» ди-джей на полную мощность запустил свою аппаратуру, по сцене медленно переползала в мигании стробоскопа слипшаяся в ком группа танцоров в алюминиевых одеждах, похожих на самурайские доспехи. Остаток вечера публика прогуливалась со стаканами, покуривая, разговаривая и переходя от легких пузырчатых вин ко все более крепким напиткам. После чего самые стойкие и приближенные перебрались в ночной клуб «Петрович» на Мясницкой, где, послушав весьма недурной рок-ансамбль со скрипкой и, вполуха, тексты нескольких участников альманаха, вскоре предпочли им застолье «на халяву» (какой русский не любит его — втайне или явно?) и общение во весь голос. И уже самые-самые стойкие поехали на остаток ночи в оплаченный устроителями боулинг (спортивные кегли).
Для кого-то подобное — норма жизни, для остальных — туристическая экзотика. Нечто похожее, хоть и существенно скромнее (всего навсего — цирк лилипутов на подворье Музея Искусства Востока, 22 апреля с.г., с продолжением в ночном клубе «Третий путь» на Пятницкой) происходило и на представлении следующей книжечки «Библиотеки утопий», выпущенной вдогонку первой и укладывающейся в ту же металлическую коробочку, изготовленную в Германии, кстати. Правду сказать, и книжечка была потоньше — похожая на записную книжку «Тетрадь № 1999».
Должен оговориться, что тексты пишущего эти строки представлены в обеих книжках, но поскольку я собираюсь повести речь не о текстах, но о некоторых симптомах, мне не представляется предосудительным писать о том, в чем сам принял участие.
То есть, конечно, на все описанное выше предприятие можно посмотреть как на один из способов времяпрепровождения людей «параллельной» субкультуры, с их особыми иерархиями, знаменитостями, ценностями и пр. («золотой молодежи», некоторых «новых русских», а также различных маргиналов и художественных экстремистов, конфликтующих с общепринятым в своих областях и жанрах).
Но, во-первых, этот дополнительный план и уровень существования никому не мешает. Это дело сугубо добровольное: хочешь — сиди по уши в «мэйнстриме», хочешь, напротив, не кажи носа из своего «подполья» (ночного, «параллельного», изнаночного мира), хочешь — побывай в гостях и приглядись (возьми друзей с собой, чтоб не стало скучно). Если ты не боишься и если тебе не «необходимо нужно» (как писалось полтора столетия назад) всякий раз убеждаться в собственном превосходстве. Мэйнстрим и подполье воспроизводят себя при любом режиме, и всегда небесполезно для них присмотреться друг к другу — от этого они не поменяются местами. Ведь людям не так важно, где они, гораздо важнее — найти себя и своих. Как сказано в одном классическом романе — чтоб человеку было куда пойти.
Во-вторых же, такого рода предприятия стали оставлять иногда после себя и вполне весомые продукты в виде книг — а это имеет отношение уже не к тусовке, а к посягательству на территории, окучиваемые мэйнстримом. Методика известная — берется несколько имен, приемлемых для составителей, и к ним присовокупляется энное количество текстов, по тем или иным причинам составителям любых. Содержание, как правило, оставляет желать лучшего. Но для составителей это и не важно — есть принципиальная разница между книгами официальной культуры и книгами субкультуры. Во втором случае смысл полагается в самом факте книгоиздания и в некоторых формальных признаках книги как художественного объекта (конечно, включенные в нее материалы не должны сильно контрастировать с «авангардной» формой их подачи). Такие вещи уже делались и в современной живописи, и, несколько ранее, в искусстве книги — когда объекты нематериальной природы (собственно, «искусство») и материальной («реальный», утилитарный предмет) соревновались и оттеняли друг друга.
Автор проекта «Библиотека утопий», Борис Бергер, утверждает, что его проект, подчеркивая «телесные» параметры книги, стремительно дематериализующейся и перекочевывающей на дисплеи персональных компьютеров, нацелен на то, чтобы возвратить ее в обиход современников, все более предпочитающих ей путешествия в виртуальной реальности. Своего рода «реакция» и «контрреволюция» на отведенном для этого пятачке. Позиция не бесспорная, книжечки же довольно милы — их приятно держать в руках, перелистывать, рассматривать. Трудности «модной» верстки известного (в указанных кругах) дизайнера Гуровича служат той же задаче: не столько читать, сколько удивляться и разглядывать книжицу. Надо сказать, что налицо определенный прогресс в этом жанре, прежде так набранные тексты не только не хотелось читать, но и разглядывать, — последние работы того же Гуровича выглядят более стильно.
Смысл, между тем, пресволочная вещь — ты его гонишь в дверь, он возвращается через окно.
Образованные люди полагают, что утопия — это место, которого нет. Но русский язык не даст соврать: утопия — это то, что уже утонуло или существует в ожидании потопа. Не случайно во второй книжице «Библиотеки» возникает тема наводнения: у Битова, восстанавливающего по записям историю создания пушкинского «Медного всадника»; в помещенном следом отрывке из повести, заканчивающейся видением наводнения в Карпатах; наконец, у мастака на все руки Курицына, дежурящего, как сантехник, в три смены у экрана телевизора, из которого хлещет MTV. Эта книжечка зовется, как уже говорилось, «Тетрадью № 1999», и три ее девятки готовятся отбросить хвосты, чтоб, получив свой «неуд», стать свитой нулей — кругами на воде, пузырями над концентрично идущими на дно веком и тысячелетием. Еще нолик — и 200-летие Пушкина плавно перетечет в 2000-й год. Утописты станут утопленниками. Гераклитова река выходит из берегов. Может, стоит напомнить, что последняя книга Бродского, вышедшая уже после его смерти, звалась «Пейзаж с наводнением».
В изящной металлической коробочке лежит кусочек переработанной древесины с нанесенными буквами. Чему суждено тонуть, то не сгорит.
МОМЕНТАЛЬНОЕ ФОТО ОПОЛЗНЯ
Писать о чужом и чуждом методе письма занятие не из легких — конституциональные изъяны лезут в глаза, достоинства же брезжут где-то в отдалении. И все же что-то понуждает меня высказаться о книге своего коллеги Хургина. Может, общность страны происхождения и сходство литературных биографий: Украина в составе СССР и после его распада; «задержанное» поколение, первые публикации в «перестройку» и пр., — т. е. нечто вроде человеческой и литературной солидарности.
Хургин — писатель состоявшийся, и единственное, по-моему, в чем он нуждается, — это включение его в литературный контекст современной русской прозы. Впрочем, это общая проблема всех ныне действующих писателей, поскольку критика если и не сложила перья в середине 90-х, то действует чрезвычайно вяло в этом направлении — усугубляющаяся маргинализация художественной литературы будто поразила ее чудным безволием. Приходится авторам переходить на самообслуживание — как в баньке, по очереди хлестать друг друга критическим веником и поддавать пару.
Ряд, в который, мне кажется, должно поставить Хургина, — это, условно говоря, «критический реализм» в различных версиях: социально-бытовой, «чернушной», сатирической и выходящих за его пределы экзистенциальной и музыкально-метафизической. Это такие писатели как Волос, Петрушевская, Евгений Попов, Маканин, Гаврилов, с каждым из которых Хургин до определенной степени перекликается (сюда же, кстати, может быть подверстана ленинградка Инга Петкевич со своим романом «Плач по красной суке»). Нетрудно заметить, что почти все они выходцы или представители провинций РСФСР и бывших советских республик. С автором «Хуррамабада» Хургина роднит печальная необходимость описывать регионы прогрессирующего одичания; герой его заглавной повести «Комета Лоренца» практически идентичен герою маканинского «Андеграунда»; баек и анекдотов — «чернушных» и не очень — в его произведениях немногим меньше, чем у Петрушевской или Попова; и он так же культивирует тему «недоноска» — недоразвитой или стертой индивидуальности, — что и писатель Гаврилов, переехавший из Мариуполя во Владимир и служащий там почтальоном. Последний выведен у него даже в качестве персонажа в повести «Сквер» — и делает это Хургин, надо думать, чтобы «сверить часы». Похоже он заворожен формальными достоинствами лучших гавриловских рассказов и хотел бы разгадать секрет «мастерства». Фокус, однако, не в мастерстве, но в мировоззрении и складе таланта. И еще в характере героя. Хотя в данном случае уместнее было бы говорить «персонажа», у которого не только практически отсутствует личность, но едва просматривается и индивидуальность. Здесь придется сделать нелитературное отступление.
Я знаю поколение современных 40–50-летних изнутри, так как сам принадлежу к нему. Разгадка его поразительного безволия и «общего» выражения лица довольно проста — это поколение выдерживавшееся «в коротких штанишках» до того возраста, в котором немало порядочных людей уже заканчивало свой творческий путь либо находилось в пике формы. Называя вещи своими именами, речь идет о репрессированной «сексуальности», если понимать ее расширительно, со всеми ее социальными коннотациями. Под властью дряхлеющих геронтов, построивших общество «под себя», с нами произошло то же, что происходит в мире каких-нибудь моржей, с той только разницей, что стратегий жизненного поведения было несколько больше, чем у животных. Карьерист, продемонстрировав лояльность и приняв позу подчинения, получал какие-то права (которые уместнее было бы назвать привилегиями) и начинал восхождение по социальной лестнице. Людям недостаточно амбициозным удобнее всего было в той системе прикинуться дураками или, по удачному выражению И. Померанцева, «неказистиками» — на таких распространялся государственный протекционизм в награду за послушание и успехи в дрессуре. Остальные должны были уйти в течь — «черный рынок» или андерграунд, алкоголизм, тюрьму. Наступившие перемены испытали на прочность и способность изменяться весь перечисленный контингент, и в самом незавидном положении оказалась самая массовая категория — «неказистики». Они-то и являются героями Хургина.
Есть поучительная тайна природы в том, что приспособленчество наказуемо самим ходом жизни — карается предательство творческого духа или, как минимум, жизненного инстинкта, отвечающего не за потребности, а за желания, мечты etc. Персонажи Хургина желать не смеют — у них не осталось на это жизненных сил, их природа превращена и даже их интерес к тем редким — инородным — персонажам, в ком еще горит огонь желаний, имеет яловый привкус. Вся картина жизни приобретает в результате печальный, честный и… неинтересный характер.
То есть со своей задачей Хургин справляется неплохо. Центральная в книге повесть «Комета Лоренца» стремится стать притчей, но, по существу, ее достает лишь на аллегорию. Хургинские персонажи наблюдают за оползнем в его родном Днепропетровске:
«Наконец, люди почувствовали себя в безопасности и остановились, и повернулись лицом к своему дому, и стало тихо. Остановилась и Марья. И мы вышли из машины. Я хлопнул в тишине дверцей — и дом рухнул. Поднялась пыль, как от взрыва. А когда пыль улетучилась или, может быть, осела, на месте дома ничего не было. Даже горы обломков. Был котлован с бурлящей грязью, яма с полужидкой подвижной субстанцией.
Я стоял над ней, смотрел и пытался сообразить, как связано исчезновение в этой субстанции моего дома с тем, что было со мной сегодня — с головной болью, с грозой, кометой, со всеми этими неудачными людьми и смутными бессмысленными встречами, и одновременно я повторял: „Это был мой дом. Мне некуда теперь прийти и уйти мне неоткуда. У меня ничего нет. Только кошка“».
А комета Лоренца, которая дала бы им возможность хотя бы погибнуть по-людски, оказывается фикцией, газетной уткой. Чтобы внести подобие разнообразия в эту монотонную историю Хургин пускается на некоторые композиционные ухищрения, играет с персонажами и точками зрения, снабжает свой текст примечаниями и комментариями, но тот не делается от этого ни богаче, ни разнообразнее. По той простой причине, что уровень зрения у всех, включая автора, един и не отклоняется ни на йоту от усвоенного и принятого стандартной человеческой особью, состоящей в рутинных отношениях со столь же стандартными другими особями.
Что имеется в виду? Зощенко, к которому апеллирует непосредственно в другой своей повести Хургин, высекал же откуда-то свой неподражаемый комизм, имея дело с еще менее очеловеченными персонажами? Платонов, на которого также ссылается автор, вообще особь-статья — как и Гоголь, — эти на землю смотрели если не с космической, то какой-то почти неантропологической перспективы. То есть наличествовал конфликт (без которого не бывает катарсиса — главнейшего признака искусства — здесь ничего не изменилось) не только между персонажами, темами, словесными течениями, образующими завихрения, но и между автором и его произведением, что отбрасывает на него всегда особый свет. Если не конфликт, так хотя бы зазор — без этого остается одна злоба дня, бесследно испаряющаяся вместе со своим временем.
Качеством time-proof, времестойкостью, наделен в книге, по моему мнению, только один рассказ — замечательный, напоминающий чем-то некоторые рассказы А. Эппеля, — «В ожидании Зины». Концовка его могла бы сделать честь Гаврилову. Описана жизнь двора, Зина — почтальон, разносящий пенсию, для самозащиты ей выдали газовый баллончик.
«И тут Алябьев стал орать:
— A-а, значит, на наши деньги вам баллончики покупают! Гады! Давай деньги! Мне на хлеб надо.
Зина не испугалась крика Алябьева. Она к крикам давно привыкла и считала их нормальным явлением природы. Она сказала:
— Отойди, дед.
— Не отойду, — сказал Алябьев.
— Брызну, — сказала Зина.
— Брызгай, — сказал Алябьев и рванул на себе пиджак.
Зина брызнула ему в нос и пошла на почту. А Алябьев постоял обрызганный, прислушиваясь к себе и своему организму, постоял и сказал:
— Не действует. Слышь, Матвеевна, не действует! — он поймал потерявшую бдительность Матвеевну за грудки и тряхнул: — Дай трешку, старая, дай трешку — это дело надо обмыть.
Матвеевна попробовала вырваться, поняла, что ничего у нее в этот раз не получится и, набрав в себя побольше воздуха, медленно начала кричать „помогите!“»
Вот это «медленно» дорогого стоит. И вообще, немного страсти, несовпадения темпа письма и событий — и дело завертелось, рассказ ожил, выбрался из трясины описания и констатации. Остальные рассказы занятны (как и книга в целом), но не более.
Мне кажется, Хургину не повести надо писать, а книгу новелл о жизни послушной и бедной, и если хоть несколько из них были бы такого же класса, что «В ожидании Зины», могла бы получиться замечательная книга. Не фотография, но летопись и метафизика поразившего постсоветское общество «оползня».
«СТРЕКОЗИНЫЕ ПЕСНИ» КРУСАНОВА
Поэтический дар проявляется, как правило, рано — если к 22 годам не поэт, пиши пропало. Прозаик в таком возрасте только учится ходить (неученическую прозу в двадцатилетием возрасте писали, кажется, одни романтики). Возможно, дело в разнице отношения ко времени: поэзия нацелена на длящееся настоящее, а проза оперирует и сводит счеты со всеми видами прошедшего — отстоявшегося, выдержанного, утраченного. Не вся однако. Крусанов вот пишет свою прозу как конституционально молодой человек.
Бес аналогий искушает меня: и письмо Павла Крусанова, и его психотип, и даже внешний облик неодолимо напоминают мне молодого Алексея Парщикова. Парщикова, основным содержанием поэзии которого была… молодость — а когда она прошла, улетучились и стихи. Есть еще одна деталь: оба они «южане», и это многое объясняет. Крусанова в детстве прогрело солнце Египта, да настолько впрок, что он и в сорокалетием почти возрасте умудряется находить в «полнощном» Питере солнце — ловить его, ценить и радоваться ему — редкое для русского писателя свойство! В своих рассказах он поет «дар бесцельного существования» и право на «отрадную праздность» — независимо от погоды за окном вечное лето царит на страницах его прозы. Это бодрая проза, с румянцем на щеках от пульсирующей в жилах крови, не взирая ни на какие алкогольные «подвиги» (а пьют в его рассказах много — едва ли не больше, чем в годы «застоя»).
Писатель пишет не то, что хочет, а то, что может (по утверждению прототипа одного из персонажей Крусанова, известного питерского писателя Б.). Ранние рассказы Крусанова напоминают более всего своими свежестью и строем «серапионовскую» (Каверин) или «обериутскую» (Вагинов) прозу 20-х годов истекшего века — видать, их потенциал не был исчерпан до конца.
Пусть читатель простит меня, я позволю себе здесь небольшое отступление. Безвозвратно «тонут» перегруженные значениями и избытком красоты, исполнившие свое назначение миры и художественные системы (как Атлантида, Эллада или Венеция). Только то, что в силу каких-то причин не было доведено до конца, может быть воскрешено и продолжено. В логике существуют так называемые малые и большие квадраты Вэйча: определенное число параметров (скажем, цвет-рисунок-композиция в живописи) способно породить ограниченное количество комбинаций (проявленность всех трех компонентов — высокий реализм; выпадение из триады цвета — эпигонский реализм; ослабление интереса к цвету и композиции и помешательство на изяществе линии — модерн; и наоборот, доминирование цвета и композиции — абстракционизм; только цвета — импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм; отсутствие интереса ко всем перечисленным означает отказ от традиционного живописного канона и переход к чему-то другому — дада, инсталляции etc. Добавив салонное требование «сюжета» или кубистско-супрематической «формы», вы сильно усложните картину, но и тогда число вариантов останется исчислимым. Механизм описан мной предельно грубо и, скорей всего, неверно проиллюстрирован, но интуитивно понятен: тавтология — ужас Бродского — это прижизненная смерть). Когда все допустимые комбинации оказываются исчерпаны, система окостеневает и «закрывается», насущно-острой становится необходимость перехода на какие-то отличные от прежних основания.
Так вот, сенсуализм, гедонизм, антипсихологизм (всегда сопутствующие молодости) — установки потенциально очень бедные и, чтобы не исчерпаться и не опротиветь до срока, требуют подпорок и пряных приправ в виде экзотики, не очень опасных авантюр, эстетства, мистики или, не к ночи будь помянута, эзотерики. В целом, это требование новизны любого качества по разумной и доступной цене.
Самые свежие у Крусанова рассказы — одновременно и самые простые. Это объединившиеся в повесть новеллы цикла «Дневник собаки Павлова» (даже «философема» о неком Небесном Павлове, использующем людей для своих экспериментов, здесь на месте). Их вкусно читать. И далее — все хорошее, что можно сказать о сравнительно молодом, одаренном и многообещающем прозаике: стиль, диалоги, интрига, остроумие (не могу отказать себе в удовольствии поделиться с читателем его первоклассной шуткой, что Шишкин был очень смелым живописцем — так близко подобрался к семейству медведей! Сомнительны, однако, каламбуры — вроде «урбанства» Москвы; вообще, за каламбуры принято было извиняться еще в позапрошлом веке).
Есть определенная «гулкость» во всем, что он делает, поскольку он приходит сегодня к всероссийскому читателю не один, а с целой поколенческой группой вполне сложившихся питерских авторов. К сожалению, нередко обремененных опытом маргиналитета и забывающих, что культура Петербурга существует не для одного соперничества с Москвой, а для красоты выбора русскими людьми своей судьбы и ее испытания. Крусанов, надо сказать, выглядит удачливым счастливчиком на общем фоне, ему не приходилось никогда писать «в стол» и «для друзей». Даже рецензируемая книга, перед тем как выйти в «Амфоре», издавалась питерским же «Борей-Арт» — пусть тиражом всего 500 экземпляров.
Именно этот круг книжников-бражников, к которому целиком принадлежит сам Крусанов, оказался наилучшим строительным материалом для его прозы. Как автор он знает его в мельчайших любовных подробностях, ему сочувствует, с ним старится и разделяет то, чего с ним разделять, может, не следовало бы. То, что способно погубить одаренного писателя. И, кажется, это уже происходит.
Это мертвящее представление, что словесное искусство может и должно быть чем-то вроде китайских ажурных костяных шаров, вложенных друг в друга, что оно — вопрос ремесла, искусности и выдумки. Даже в этом сравнительно раннем сборнике половина рассказов уже «ушиблена» (как выразился рецензент «НГ») Павичем, что хуже — безвкусной и фальшивой набоковской «Адой», в лучшем случае — экзотикой во вкусе автора «Александрийского квартета» (боюсь, писатель не только прогрелся солнцем в детстве, но и набрался «египетских» впечатлений).
Стиль, столь легкий и энергичный у Крусанова, дегенерирует до стилизации в рассказах цикла «Знаки отличия», рассказах с рыхлой композицией и претенциозными названиями («Сотворение праха», «Тот, что кольцует ангелов», «Скрытые возможности фруктовой соломки»). Титульный «Бессмертник» — просто ученический и эпигонский текст. Но что самое тревожное — выход из пределов конституционально «молодой» прозы Крусанов увидел для себя (примерещилось!) в намертво зализанном, закругленно риторическом, историко-фантастическом и находящемся в опасной близости к коммерческой литературе романе «Укус ангела», дошедшим к российскому читателю прежде рассказов.
Хочется забежать назад и вскричать: Паша, осторожнее — ты между Сциллой и Харибдой!
Но возвращаться поздно, останавливаться нельзя — остается попытаться проскользнуть. Или перепрыгнуть. Впереди — путь параллельный Б. Акунинскому (другие модификации: Эко, Павич, Пелевин, Сорокин, общий знаменатель творчества которых — изобретательность, быстро переходящая в собственную противоположность), на котором каждые год-два придется поставлять на книжный рынок по увесистой выдумке, насколько достанет срока жизни. Позади остался исчерпанный ресурс одной из петербургских литературных традиций 1920-х гг.
Сверкающее и трепещущее стрекозье лето, «ювелирски отделанное» (по выражению Достоевского, так и не преуспевшего в этом искусстве), промелькнуло. Вот-вот на авансцене покажется муравей (но не басенный труженик, а пожиратель времени и глашатай неотвратимого наступления зимы) и спросит стихами дедушки Крылова:
В обрисованной коллизии отражается не личная проблема Крусанова, но общий эстетический и мировоззренческий тупик, в котором очутилась современная русская проза, если не вообще литература.
Как никогда, возможно, искусство повествования нуждается сегодня в открытии нехоженных троп.
ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАДЕННОЙ КНИГИ
Это история, которую надо рассказывать с конца. И хотя всем известно, чем заканчивается всякая доведенная до конца история, предлагаемая читателю книга — не предисловие к смерти или гибели, но история жизни, сплетшейся с любовью, — теперь уже навсегда.
В общих чертах финал таков: в жившей в Москве на улице Горького генеральской семье в 1994 году умер генерал; три года спустя погибает в огне его невестка, прима ефремовского МХАТА Елена Майорова, а еще 9 месяцев спустя умирает ее муж, известный художник Сергей Шерстюк.
К этой опустошительной серии смертей мы вернемся еще. Прежде следует объясниться, почему это все зовется «историей», а книга, составленная из хронологически упорядоченных дневниковых записей, названа «Украденной книгой» с подзаголовком «Документальный роман».
Ответ прост: потому что, собравшись под одну обложку, все эти уцелевшие в разных тетрадях записи складываются во внятную историю, проступающую со страниц вырванной из рук Безносой Украденной книги, адресованной живым и являющейся, по существу, романом в жанре non-fiction. Но начать придется издалека.
Нет на свете ничего интереснее загадки и тайны личности, живой и непоследовательной, даже не снившейся бедному воображению беллетристов, этих каторжников «реализма», наловчившихся для пропитания «тискать романы». Дневник — жанр в высшей степени литературный, в том смысле, что всегда адресован не современникам, а некой «понимающей субстанции» — персональной, но при этом лишенной определенности очертаний и реагирующей на фиктивность и фальшь, как лакмусовая бумажка на мочевину: моментально приобретают трупную синюшность или краснеют от стыда целые страницы.
Все, к чему ни прикасался Сергей Шерстюк, либо превращалось в дневник, либо неудержимо стремилось к этому, — чтобы внутри него продолжить мутацию дальше. Будучи офицером запаса, историком искусства по образованию, автором нескольких нетрадиционных романов, лидером московской школы художников-гиперреалистов и драматургом и постановщиком своеобразного созданного им «театра жизни», Артистом, в широком смысле, и весьма нетривиальным интеллектуалом, все же в первую голову он являлся многоликим автором собственных дневников. Его ранний роман «Джазовые импровизации на тему смерти» был написан в форме дневника — точнее, дневник описываемых лет совпал с ним по мерке и сделался его формой. Жизнь как бы поставляла зерна событий, а автор дневника перемалывал их в муку: на выходе это были уже другие события и совсем другой «мельник». Получив освобожденную от природных форм «муку», можно было начинать что-то с ней делать.
Последовательно пройдя путь от реализма до абстракционизма, почти одновременно потеряв владевшую его сердцем Жрицетку, завершив роман и закончив высшую школу, киевский хипстер Шерстюк превратился по закону метаморфоза в русского монархиста и гиперреалиста, сколотившего собственную, если не «школу», то группу и художественное направление. Похожая история повторялась и в дальнейшем, и Шерстюк, таким образом, пережил еще ряд превращений. Хотя возможность всех их была заложена в нем изначально, как в куколке (и как в каждом, кто не боится самостоятельно проживать свою жизнь).
Подобная полярность всякий раз лишь являла то или иное положение его пребывания in betweeness — в промежутке, между. Между словом-краской-мыслью-и-сценой в первую очередь; между магией и православием; психоделикой и монархизмом; свободолюбием и империализмом; Кремлем и андерграундом; кастовостью и открытостью; западничеством и славянофильством; Киевом и Москвой; украинской козаччиной и русским офицерством; интеллектом мужчины и «сердцем женщины» (как он догадался о себе в «Джазовых импровизациях…»); между борющимися вкусом к жизни, на грани сластолюбия, и страстным саморазрушительным стремлением к погибели (запись после баррикад 91 года: «первый симптом в день победы был: жаль, что мы не погибли»). И все это был все тот же человек, взятый в разных возрастах и отношениях с миром и почти до конца не отрекшийся бесповоротно ни от чего из приведенного перечня. Понятно, что его бы очень скоро разнесло на куски, если бы он не находил в себе искусства бежать так быстро, чтобы даже дьявол не мог угнаться за ним (по выражению из его дневника).
И все же «Украденная книга» — это не интеллектуальная биография, тем более не дневник эклектика или оппортуниста. Шерстюк был человеком чести (не путать с расхожим и доступным пониманию черни «чувством собственного достоинства») — на большом дневниковом пространстве он старался достичь в своих построениях предельной интеллектуальной честности и открытости. Он знал, что позволительно морочить неумных современников, но нельзя морочить язык — все равно выдаст. Как писатель и художник он знал, что книга, как и картина, — это не «зеркало» для кривляний и поз, а попытка смастерить или обнаружить «окно», с помощью которого только и можно, будучи увиденным «оттуда», найти и узнать себя настоящего (поэтому это вынесенное им из иконологии правило в равной степени распространяется на читателя книг и зрителя картин). Неприятно и страшно узнать себя настоящего, но без этого невозможно очнуться от морока того, что зовется у людей «реальной действительностью», позволяя манипулировать их сознанием не хуже всякой магии. К тому же, как известно, «боящийся несовершенен в любви».
И так получилось, что главная книга, не дававшаяся автору при жизни, украденная смертью, была, оказывается, дописана любовью — и осталось только вернуть ее тому, для кого она писалась. Читателем ее может стать каждый (недвусмысленное указание на этот счет есть в дневниках).
Почему дневники, а не романы? Не выставка картин?
Потому что главное — здесь, здесь санкция, все остальное потом — и на фоне главного оно представляется второстепенным. Как составитель книги, я убежден, что это чтение — находка для будущих историков, праздник для парадоксалистов и аналитиков всех мастей, и хорошая встряска для всякого нормального и вдумчивого читателя.
Вообще, все обстоит несколько сложнее.
Будучи разнообразно одарен, образован, наделен амбициями и задатками достичь положения не ниже тогдашнего кумира Энди Уорхола (а может, и вообще, Нерона в смушковой шапке на Мавзолее), Сергей в разные периоды испытывал тяжелые сомнения в собственных способностях и разочарование в достигнутом. Действительно, его живопись походила на раскрашенную скульптуру или обездвиженный театр; на полях одного из его дневников вписана реплика жены: «Меня не интересует театр жизни, меня интересует написанная пьеса»; друзья-писатели не принимали его за «своего», романы его не получили признания в «перестройку» и печатались в отрывках малотиражными элитарными журналами; интеллектуальные построения не сложились в систему или доктрину и заполняли страницы дневников на правах разрозненных эссе; журналисты летели на него, как мухи, но уже вскоре от журналистики его воротило; реально существовавший миф южнорусской «киевской школы» и почти эзотерического учения Ёмасалы («наш миф», как гордо говорили его адепты), придясь не ко времени и месту, к началу 90-х рассосался, как настроение (словечко из культурологии Шерстюка), а деньги на жизнь приходилось теперь зарабатывать за океаном, приспосабливаясь к уровню запросов и эстетическим критериям заказчиков и покупателей. Было отчего впадать в отчаяние. Не говоря о том, что рухнула советская империя, чему он по неразумию своему не противился, не сразу разобравшись в собственных классовых интересах (привилегированной советской фронды) и идейных пристрастиях, предпочтениях, вкусах.
Единственное его счастье состояло в том, что в 85 году, считая себя к этому моменту в очередной раз полным неудачником, он повстречал женщину, с которой ему захотелось умереть, проживя с ней перед тем долгую и счастливую жизнь. С той поры дезориентация и отклонение инстинктов (и в первую очередь — жизненного инстинкта), через которые он прошел, все более утрачивали над ним свою власть. Природа его все более осветлялась, переходя от смертолюбия к жизнеутверждению. Со своим прошлым он научился жить, как с хорошо изученными за долгие годы минными полями, постепенно их разминируя. С разливанным морем агрессии в его картинах начинает спорить тема прелести жизни — покоя, флоры, радостей консьюмеризма (серия и выставка «Все это я ел»). Его перестает терзать бешенное честолюбие (зачем власть тому, кто любит и любим?!), своим демонам он указывает их место (к этому времени он уже давно верующий церковный человек). Вся его жизнь была вереницей блужданий и странствий в поисках Золотой книги (на его жаргоне; я бы сказал — «плана Рая»), и никогда он не был еще так близок к тому, чтоб подержать ее в руках (и надо полагать, что в снах, где это только и возможно, это иногда ему удавалось).
Но так получилось, что и эта женщина оставила его после 12 лет совместной жизни по любви. Вольно или невольно, сознательно или бессознательно — здесь совершенно не место гадать об этом и предлагать однозначную версию. Но сам выбор способа — самосожжение (женщины и актрисы!) — говорит о том, что в этом поступке присутствовал момент очистительной жертвы (не дара, но мены и выкупа). Последние дневниковые записи Сергея о жизни без Елены Прекрасной — их тяжело, но надо читать. Потому что это последняя в XX веке трагическая история любви (забытый жанр — казалось, что такого уже не может быть в обмельчавшем современном мире). Он умер ровно через 9 месяцев после ее ухода, день в день, — выносив свой земной срок, как ребенка от нее, соединившего их теперь уже бесповоротно не рождением, а смертью. 39 лет и 47, 23 августа и 23 мая, — август и май всегда были его критическими месяцами.
Смерть придает особую гулкость прожитой жизни, как звуку струны пустой деревянный резонатор. Сейчас уже невозможно отделаться от впечатления, что поставил эту пьесу Рок, — так эту имперсональную силу звали древние. Сквозь дымовую завесу собственного эстетизма Сергей Шерстюк еще в минувшую эпоху догадался, что существует закон, по которому люди покидают сцену вместе со своим временем. Как люди чести, в наступившие времена бесчестия, генерал, актриса и художник не пожелали пережить надолго ту страну, которую полагали своей и последние остатки которой стремительно растворялись в мутной и едкой среде 90-х. В посткоммунистической России они не признали того отечества, в котором им хотелось бы жить. Все трое похоронены на воинском Троекуровском кладбище в Москве. Служили панихиду по ним и отпевали — в порядке убывания — в Большой Вознесенской церкви у Никитских ворот, где венчался некогда Пушкин.
Одна из последних записей в дневнике художника такая:
«P.S. 26 октября 1997 года, 2.25 ночи.
Пролистал сейчас дневник и поразился тому, что в нем так мало о Леночке, любимой и единственной, умершей два месяца и три дня назад. Иногда она читала мой дневник и говорила: „Разве это дневник? А где же мы с тобой? Ведь кроме нас с тобой тебя ничего не интересует. А — ты, наверное, пишешь не для себя, а для других“.
Вообще-то, я собирался вдруг сесть и написать для нее пьесу, все придумывал и, сколько хорошего ни придумал, не придумал главного — о чем? Теперь я точно знаю, что пьесу для Леночки не напишу, хотя знаю — о чем, — но, и вот тут-то я замолчу, потому что, как сказала одна девочка, „счастье не знает, что оно счастье, а вот горе знает, что оно горе“. Я хотел бы, чтобы Леночка сидела рядом, а я писал свою галиматью. Отныне это невозможно».
ДРЕЙФ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Тема «Литсобытие-96» подразумевает либо обнаружение литературного шедевра в истекшем году, либо свидетельство в пользу откуда-то налетевшего ветерка, как-то: выход на авансцену нового художественного направления, генерации или хотя бы писательской стаи, появление перспективного периодического издания нового типа — или разветвленного издательского дела, имеющего непосредственное отношение к современной литературе и пытающегося строить отношения с ней, ее авторами и потенциальными читателями на несколько видоизмененных основаниях. Ничего из этого не наблюдается — дрейф продолжается, заседание тоже.
Дрейф, однако, также форма жизни, и событий меньшего калибра пруд пруди. Особенно интересно наблюдать за теми, что разыгрываются в области долитературной, в сфере ценностей, самочувствием которых и определяются условия порождения литературных высказываний. Отчего страдают писатели? А писатели страдают, страдают все и страдают всегда, таков их «modus vivendi» — иначе бы они с успехом занялись чем-то другим. Чтобы вести и поддерживать образ жизни, достойный себя, они должны убедить остальную часть общества в сверхценности своего труда. Ничего, кроме слова и голоса, у них для этого нет (причем зависимость слова и голоса обратно пропорциональна), — иначе бы они отобрали у общества причитающееся себе другим способом. Большая часть из них и поныне, уже почти десять лет, страдает от крушения системы привилегий. Однако слово с распадом СССР перестало служить всеобщим эквивалентом, и литературный горлохват вымирает ныне как вид. Роль эквивалента вернулась к гораздо более простому и для того предназначенному человеческому изобретению — к деньгам. Другая, более благородная часть страдает по залежам свободного времени, которыми располагала Империя, — сами того не подозревая, все мы были невероятно, чудовищно, незаслуженно богатыми людьми (вне зависимости от социального статуса), — и теперь эта часть платит «стрекозиный» долг, как всякий ВТОРОГОДНИК (если кто помнит, что это такое). И наконец, последняя часть, начавшая печататься в конце «перестройки», платит по унаследованным векселям, как бы расплачиваясь за сверхгонорары Алексея Толстого и иже с ним, — но кто-то же должен за это заплатить? — и жаловаться негоже.
Далее: в результате перемен возникла массовая журналистика газетного типа, американское кино в полном объеме и ТВ на выбор — «маклюэновская» цивилизация пришла и на нашу улицу. «Горячие» масс-медиа довольствуются гораздо более прохладным, пассивным и универсальным потребителем информации, эмоций и желаний. Показательно количество писателей-«перебежчиков» на ТВ (где большинство их программ либо уже лопнуло, либо обречено). Мотив был даже не в деньгах, но — в нежелании покидать рампу, выходить из-под лупы общественного интереса. Самые неистовые из них — по существу, крепостные актеры бывших хозяев страны — готовы становиться смешными, лишь бы им позволяли еще, от случая к случаю, погреться в тепле юпитеров. Если они и заслуживают осуждения, то не за это все же.
Конечно, странно, что среднего музыканта, актера, художника, как правило, в состоянии прокормить их профессии, а писателя, имеющего десятки тысяч читателей, как правило, нет. Возможно, художникам, к примеру, приплачивают за отрезанное ухо Ван-Гога, за всех умерших в нищете и посходивших с ума. А то среди литераторов давно перевелись сумасшедшие. Психов и сейчас — немерено, а сумасшедшего настоящего, то есть бескорыстного, ни единого.
И все же, если отвлечься от сползания страны «по направлению к генералу Свану», ситуация с письменным словом понемногу нормализуется. Писатель может быть услышан, а это немало. Гонорары медленно, но растут. Имеется определенный спрос на высокопрофессиональное письмо. Почти неизбежное сотрудничество с массовыми изданиями вынуждает писателей выражаться менее кучеряво и выспренне, то есть служит благой стилистической (и этической) цели. Между собой писатели поделились по отношению к ценностям этого мира и тем самым назначили себе цену. Время перемен и испытаний дает шанс каждому узнать кое-что о себе, не то мы так и умерли бы дураками. Очень большое количество пишущих пишет очень неплохо. Чего-то из ряда вон выходящего, однако, можно сказать, не появляется. Значит, дело не в этом, умение хорошо писать выносится в общий знаменатель, и получается: чем лучше, тем в некотором отношении хуже — дробь мельче. Никакой не писатель — композитор Вагнер указывал: «Ошибка начинается тогда, когда хотят писать лучше, чем умеют». Так целое направление «семидесятнической» литературы, в частности, дегенерировало до состояния «красноречия».
Консерватизм «толстяков», этих двухсотлетних одряхлевших «квотерли», общая эстетическая дезориентированность, вполне, впрочем, объяснимая узостью писательского кругозора, и давление западного книгоиздательского рынка стимулировали как массовое занятие в России писание романов. О чем говорить скучно — на этом пути писатель предсказуем на 200 %.
Читателя своего он, впрочем, найдет. Покуда существует писательская многотиражка и покуда литературная критика бодра бодростью лошади, выведенной цыганами на продажу.
«Событие» все же в этом году было. Очень важное — хоть и отмеченное некоторой «нелояльностью по отношению к будущему». Век, политически начавшийся в 1914-м и закончившийся в 1986-м, литературно закончился в текущем, 1996 году:
Умер Бродский. Чтобы оценить смысл его смерти, надо оказаться циником и мизантропом большим, чем он в своем последнем стихотворении, законченном за неделю до смерти. Поэт притом исключительный, местами гениальный. И если нужна книга года (а возможно, и десятилетия), то ею может быть его последний «ардисовский» сборник «Пейзаж с наводнением», самая характерная, как представляется, и откровенная из его книг, насколько допускает откровенность его художественная система, поднявшая трюиз до вершин остроумия и стилистической виртуозности. Мне трудно представить себе русского пишущего человека, который мог бы обойтись, по меньшей мере, без знакомства с этой книгой.
Другой бывший питерец, слава Богу, жив и намерен здравствовать, но также счел необходимым в минувшем году подвести свой итог стремящейся к завершению эпохе литературного развития, издав в харьковском «Фолио» четырехтомную «Империю в четырех измерениях», — конечно же, Битов. Кажется, ему удалось уйти от бесхребетного «собрания сочинений», осуществив жесткую сборку корпуса текстов, которая призвана продемонстрировать читателю внутреннюю логику и скрытую архитектонику дела его жизни, — сдается, несколько переборщив при этом с добавлениями и пояснениями. Что только свидетельствует о том, что даже писатель такого класса чувствует в конце века вокруг себя некую вакуумную прослойку. (И вынужден называть себя «гастарбайтером» и второй год подряд ездить читать лекции за океан.)
Еще один итог нашему времени подвел М. Павич — он хоть и серб, а книжку написал важную для всех. В 1996 году вышел впервые полный русский перевод его «Хазарского словаря». Не один русский читатель (особенно из тех, кто ищут книгу-«омега», то есть окончательную «книгу книг») упьется этим «романом XXI века». Хотя вашего покорного слугу и сокращенный перевод несколько утомил. Никакой это не «славянский Борхес», и даже не Маркес, скорее уж — Эко: оба — профессура. Только у Павича фраза «пьянее», круче.
В минувшем году вышло еще несколько полезных переводных книг, хоть с опозданием лет на 30–40, для заполнения «пробелов»: Розеншток-Хюсси, В. Беньямин, «Мифологии» Барта. Отрадно также, что М. Эпштейн, было затихший, стал возвращаться на отечественные печатные площади высококлассными публикациями — значит, уцелел, и лично мне это прибавляет оптимизма. Оттуда же, из-за океана, блеснул предельно острым радиоэссе о гибели Цветаевой сам себя превзошедший (как показалось, сам себя испугавшийся) Б. Парамонов. Да и в стране — в Питере, Владимире, на Урале, не говоря уж о Москве, этом «Париже сегодня», — есть имена и люди, от которых можно ЖДАТЬ. Только в этом году они почему-то ничего не сделали — или я просто не знаю.
Кстати, чтоб не забыть. Даже в букеровском шорт-листе оказался один живой, внутренне свободный, нетрадиционный текст — А. Сергеева. Мне трудно будет понять решение столь «прогрессивного» в этом году жюри, если оно остановит свой выбор не на нем. Я знаю школьников, которые по книге Сергеева (когда отдельные ее части печатались в рижском «Роднике») восстанавливали «распавшуююся связь времен», — это ведь современные «Очерки бурсы» с пимесью Галковского, который пребывал тогда еще в нетях, а те школьники — будущие читатели XXI века.
Вдруг вспомнилось, как ехал я лет пятнадцать назад — 9-го, что ли, мая? — в переполненном «пазике» по узким улицам Нового Львова. Было еще совсем светло, когда начался праздничный салют. Народ шарахался то к правому, то к левому борту, автобус опасно кренился. Старик галичанин, сидевший у окна и державший на коленях внучку, а оттого видевший не больше половины скудного провинциального фейерверка, мечтательно сказал, я слышал:
— Дожить бы до двухтысячного року — ото, мабуть, салют будэ!..
Литература — везде. В шальном полуночном вагоне метро, несущемся под землей в сторону Ясенева, где на стекле нацарапано ключом: «Хочу домой».
О ВИДЕНИЯХ
КИНО КАК СОН И МИРОВОЙ ТЕАТР
Начиналось и заканчивается кино как балаган, как чистое зрелище. В промежутке уместилась трагедия и драма авторского кино — Тарковских, Бергманов, Бунюэлей, Феллини.
Эти пришли сделать из кино искусство и что-то еще. И оно изрыгнуло их. Или переварило.
Потому что обладало природой сновидения, а не искусства, — то есть исполнения желаний, фиксации страхов, канализации того и другого, — искусство же к канализации не сводится, у него восходящая природа, а не нисходящая, разрушительная, в каком-то смысле, аннигилирующая, а не терапевтическая. Миллионам его прописывают в гомеопатических дозах, в субститутах и паллиативах, — для героев же авторского кино всякий компромисс был оскорбителен. Потому кит копродукции, потерпев их и помаявшись брюхом, изрыгнул раздражителей, чтоб, подобно гигантскому кинозалу, вновь предаться раз брутальным, раз мелодраматическим, но всегда безнаказанным грезам.
Кино вернулось к себе, пополнив список великих изобретений с жалкой судьбой. Переходящее знамя ныне у коммунистического Голливуда, потому что второй и главный аспект коммунизма — не равенство бедных и прочие привходящие, а именно — исполнение желаний, максимально полное и, желательно, без задержек. Может, уместнее было бы сказать — без запоров. Уже было в начале века: «мягко слабит». Кто не заснул, пусть посмотрит на экран под этим углом зрения — исполнения желаний, пассивности восприятия, — и он увидит подлинное лицо экрана, лицо спящего «быстрым сном», переходящим в гипсовую маску вечного.
Не отпускает одна мысль, одна простенькая фигура судьбы — Тарковский, то есть человек с его задатками и способностями, родившийся в середине XIX века или ранее, — второразрядный постановщик на театре, третьестепенный драматург, может, фотограф или малоизвестный живописец, промаявшийся всю жизнь, всех кругом изведший, только потому, что кино еще не было изобретено. Пусть даже в возрасте за пятьдесят он сходит еще посмотреть первые ленты… Как просто все, и как жутко!
Собаки, кони живут в мире монохроматическом, фактически черно-белом, — какие провалы, Господи! Откуда столько смертной тоски, столько каторжной рутины в этом сотворенном Тобой непрестанном чуде, разматывающемся, будто фильма из коробки?
Что делать с этим сухим счетом, этим фатальным невозмутимым «End», этим нулем в ответе?!
Как-то пару лет назад, на второй день пьянки, меня затащили на Таганку смотреть чего-то по Хармсу. Прикрывая ладонью один глаз, чтоб не так двоилось, беспрестанно падая со стула, будто подкупленный зритель или подсадной актер, думая, как бы не сблевать, все первое действие я мучительно думал: «Боже, что я здесь делаю? Я же вообще не люблю театр!!»
Чтобы читать пьесы, надо быть социопатом (божественного Шекспира и еще двух-трех поэтов выведем за этот круг), также чтоб быть актером, — из которых каждый, сколь-нибудь стоящий, всегда немножко позер, как каждый пишущий — фразер; есть, конечно, Кантор, вне сцены вызывающий недоумение, может, кто-то еще, но ТЕАТР в принципе?!
Пока я не раскаялся и не простил его, за вдруг обнажившийся самым непочтенным и случайным образом его экзистенциальный нерв. Было так: обедая в воскресенье перед телевизором, я увидел вдруг кусок какого-то спектакля, где умирающий забацанный какой-то актер снят был со стороны задника сцены, так что поверх лежащего, договаривающего последние слова, видны были темнеющие слитные ряды, ряд над рядом — глаза, глаза, глаза. Я так и остался с ложкой во рту. Это же — то самое! Ведь нас видят: духи, ангелы и Он — жизнь прозрачна для них.
И для поддержания одной этой метафоры — этого несомненного допущения — театр будет сопутствовать нам вечно, то есть до конца. Что бы они из себя не представляли, и какую бы ерунду у себя там ни ставили.
В отличие от дряблой, самой принадлежащей миру духов — окрашенному дыму — машинерии кино.
Да, именно так — окрашенному дыму.
ПЛЕВОК ШВИТТЕРСА, ИЛИ НОВЫЕ РЕДУКЦИОНИСТЫ
В начале 20-х годов немецкий дадаист Курт Швиттерс заявил, что его плевок является произведением искусства, поскольку он исходит из недр художественной натуры. Похоже, что плевок этот долетел до наших дней, и в его вязкой слюне погрязло все изоискусство так называемого постмодернистского периода, в ней барахтаются художники, служивый ис-кус-ство-едчес-кий люд, зрители.
Колоссальное количество недоразумений гуляет ныне по улицам искусств, всяческое «самовыражение» (прежде, чем спустить воду), всякие трюизмы — последнее прибежище наглеца — вроде «каждый человек — художник». Да не каждый, не каждый, — не всякий!
Каждый человек может испытывать большую или меньшую нужду в «красивом», как Сталин и его народ в парадах — вот род красоты для бедных! — но к искусству это никакого отношения не имеет. К нужде — да. К красоте — да. К искусству — нет. Потому что искусство — не вопрос нужды или нарядности мундира, а (простите за невольный каламбур) вопрос формы, которая не дается малой кровью, а может и, вообще, никакой, происхождение которой загадочно, как всякое изобретение, то есть открытие. Можно насытить раствор, но откуда берется палочка — не фокусника и не жонглера! — на которую все оседает в неповторимой конфигурации, бог весть! Говорить об этом бесполезно, представление об этом или дано, или не дано.
Отметим только, что без работы с разрушительными стихиями форма не дается никогда, — она сама — результат аннигиляции двух разнонаправленных витков энергии, двух вихрей с вовлеченными в них элементами.
С трудом можно удержаться от сарказма при виде новой пролеткультовской рати (как мы помним, первая оказалась — и была — абсолютно бесплодна). Такая лихая мысль закрадывается, что потерпев историческое поражение в области политической, Великая Октябрьская социалистическая революция таки победила, парадоксальным образом, в одной отдельно взятой области — в сфере изоискусства, — с ее уравниловкой и главным плохо завуалированным пафосом — шантажировав волю реципиента, качество назначать.
Что ж, картины уже пишут только в провинции, и кое-где еще — стесняясь этого — в Москве. Остальные заняты другим.
Такого же рода диссоциация культурного тела происходит в литературе. Легионы доброхотов трудятся над удалением из этой странной формы жизни творческого нерва. Конечно же, подавляющее число их по усердию своему заслуживает большего дара, чем тот, которым располагает. Это им Мамардашвили отвечал: философия (литература, etc.) закончилась и не нужна? Да, — но для тебя, и в тебе!
Источники замутнены, но это не значит ничего. Гуляет молодняк популяции, бдительные радиосуслики «общества потребления» энергично жуют свою жвачку, — что с них сжулить, нищих, — вдомек ли им, что месячные их женщин, погода, урожаи, навигация — таинственным образом связаны с лунами, некогда запущенными на орбиту Шекспиром, Кафкой, Гоголем, что действительные книги делают нас беззащитными, несчастно-счастливыми, открытыми, живыми — вернувшимися к себе, — и что это неотменимо?
Толковать ли самозарождающимся умникам конца века, что, к великому их сожалению, фаллос все же, по-прежнему, отличается слегка от пениса, — примерно, как восставший от повешенного?! И прошло уже более чем достаточно времени, чтобы все желающие смогли почувствовать разницу.
СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ ДЛЯ РАДИО
В разгар мировой войны в 1915 году сумасшедший коммунистический язычник Хлебников в книге «Кол из будущего» описывал радио будущего, где правильные радиопостановки в страду увеличивают работоспособность слушателей в десятки раз, а к столу тружеников, состоящему из «простой и здоровой пищи», — также по радио — подаются деликатесные ощущения и запах мяса. Гениальный сукин сын.
И все же Радио сошло с дистанции. Жаба так и не стала быком. Тем более — Юпитером. Произошла редукция Радио. Ведь на деле — оно очень бедная вещь. Не в смысле трат, а в смысле языка и замысла. Вроде и устная речь, но какая-то сценическая, нарочитая, утратившая большую часть своих коленец и обертонов. Девиз его: воздействие! Оно походит, с одной стороны, на палку для развеселых слепых, с другой — на дудочку Крысослова, заманившего крыс, а затем и детей неблагодарного города Гаммельна в нехорошее место. Обретается в эфире, где растут голоса и уши. Оно — организм, болтающий без умолку, под музычку, двадцать четыре часа в сутки, — и так вечность! Слава богу, что мы покуда не радиоприемники, что выключатель пока еще в наших руках.
Теперь о радио особого сорта. Отключение от «глушилок» особенно злую шутку сыграло с «Радио „Свобода“», обратив его имя и существование в оксюморон. В дни путча в нем проснулось было что-то лучшее, что заключалось в людях его делающих, — вопреки Радио, — то единственно точное и скромное, что от него требуется, — но то был предсмертный зевок. Далее трагический комизм нарастал с каждым его оборотом вокруг себя — с пребывающей в нем тошнотворной неспособностью измениться. Продолжились лакейские пляски краснознаменного ансамбля плясок смерти на оскопленном великом трупе. Наступило полное господство «срединного царства». Журналисты с удвоенной прытью, как обманутые мужья-любовники, бросились уязвленно твердить, что высокого нет, — как в жизни социума, так и в «литературе», — что все покупается и проверяется мануально, что надо быть скромнее, особенно «совкам», и знать свое место. Но когда нет «высокого», как вы твердите об этом круглосуточно, как дрессированные попугаи, господа, то нет и «низкого», и еще много чего, и всем вашим талантам также цена — полушка в базарный день. И дело не в идолах и идолостроительстве, не во вчерашних кумирах, оказавшихся в говнеце и тогда уж заляпанных толпой по глаза включительно, — а в интеллектуальном такте, по крайней мере. Могу представить, как покойный Довлатов в ясную минуту до рвоты ненавидел свои оплаченные и прилипшие радиоухмылки…
Радио не ставит вопросов — оно отвечает. Оно чревовещает, следовательно, существует. Скорей, скорей снова подняться на ноги и сделаться неуязвимым, как плавучая — восьмимоторная, круглая, как сковородка, — батарея русского флота «Не тронь меня», груженая по ватерлинию боезапасом душевного комфорта. Задача так понимаемого радио — селекционирование конвертируемого человека.
Так на американском ТВ, где все взрослые чуть играют в детей, а все дети — во взрослых, фальшивый пуританский след, сродни русскому дореволюционному «Задушевному слову», журналу для «деток», — строго говоря: эстетика наказания детей.
Но есть ответственность тех, через кого приходит соблазн, — как сказано в одной книге.
Больше всего я боюсь, что в моем личном аду радио включено будет на полную громкость.
МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ…
Деятели искусств жалуются на упадок кормивших их отраслей. Так и бывает: большая рыба сожрала всех малых. В очередной раз жизнь поглотила зазевавшиеся искусства и хочет теперь представлять сама. Требование вернуться в мир реальности из мира фикций сыграло с населением злую шутку. Недооценен оказался природный идеализм человека. Его гнали в окно, он вернулся в дверь — и едва в нее прошел.
Не надо искать и изобретать «новую идеологию», она уже наличествует в рекламе всех сортов, привычно берущей тебя за горло. Большинство простодушных покупателей приобретает не товары, а их образы, — символы потребления. Селфмейдменов быстро сменяют имиджмейкеры, спрос — на представителей и «идолов» (как зовут их на искушенном Западе). Какой театр и какие актеры смогут конкурировать с теми персонажами и образами, что вошли в действительность, вышли на подмостки улиц? Кино выполоскали и затем заслуженно слили. Его с успехом заменили «кинотавры» и «ники», собирающие в кадре массовки половину известных стране лиц. Часть художников давно перестала писать картины и принялась создавать контекст — играть собственное отражение. Утратившие — последовательно — форму, содержание, а затем и репродуктивную функцию писатели, пошарив в литературной промежности и ничего не обнаружив, ответили на вызов реальности повышенной сексуальной языкатостью, — остальные просто сникли.
Есть некие умо-не-постигаемые линзы, которые будучи направлены на произвольную область деятельности, на фигуру музыканта, актера, писателя, спортсмена, политика — стимулируют их бурный рост. Но вот искусственное солнце покидает делянку, — или просто рядом построили сарай, отгородивший ее от света дня, — и то, что прежде произростало на ней, прекращает свой рост, задатки увядают, либо не развиваются вовсе: один Чайковский уже был и другого не надо. Пока. И напротив, вырастает следом чертова уйма скрипачей, как стручки гороха.
Человечество концентрирует свою энергию, оно совсем не обязано быть лучше каждого из нас. Нынешняя линза — телевизионная, она мощнее всех предыдущих, при том что она — лишь щуп световода, подпитываемый и направляемый миллиардами пар гляделок. Грешно не лететь погреться на свечение ее голубоватого огонька. Это такая игра. Лепится реальность, про которую можно будет только сказать в конце: см. начало.
АЛИБИ СПИЛБЕРГА
Достаточно установить кинокамеру — и из ее объектива налетит в будущий кадр, на свет, тьма фантомов. Таково кино. Люди, которые его делают, знают это лучше других. И когда первый из этих фокусников, возвышающийся над остальными подобно Копперфильду, начинает вдруг путать явь и сон, не мешало бы задуматься, зачем это нужно ему и тем легионам зрителей-доброхотов во всем мире, что присягнули его «Списку Шиндлера». Кто там из слабонервных говорил, что нельзя писать стихи после Освенцима? А вот же: и «после», и «об» — красиво составленные, даже эстетские, кадры, впечатляющая голливудская панорама картины уничтожения евреев. Камера жадно льнет к глазку газовой камеры: что увидит она там?
Век начинался и заканчивается газом, меж ипритом и зарином, от полей сражений до токийского метро, век удушья, превращенного воздуха, есть воздух — и нельзя им дышать. В середине века тоже был газ. Для избранных.
Спилберг верен себе. Он снимает фильм о каких-то нацистских инопланетянах, откуда-то прилетевших и начавших в промышленных количествах уничтожать евреев. Собственно, по первому общероссийскому каналу был показан хорошо нам знакомый «производственный фильм», о том, какие уродливые формы принимает иногда конфликт между устаревшими производственными отношениями и развивающимися производительными силами. Есть сцены, особенно в конце, построенные по самым кондовым законам соцреализма даже не советского, а китайского образца. Ничего удивительного в этом нет. Голливуд коммунистичен ровно в той мере, в какой он стремится к исполнению желаний. Автора показали накануне. Предваряя просмотр, потупив глазки, ухоженный и изнеженный — так, во всяком случае, это выглядело — Спилберг сказал, едва слышно: «Этот фильм (читай — „мой фильм“!) должен посмотреть каждый». Так мы это уже проходили! Но со столь обаятельным и доверительным цинизмом я лично сталкиваюсь впервые. Как в анекдоте: — Понимаешь, старик, деньги очень нужны.
Зачем Спилбергу деньги? Если вы способны задать такой вопрос, вам неведомо благородство побуждений. Во-первых, если всерьез принять один из «меседжей» фильма, необходимо иметь их достаточное количество, чтобы, при случае, смочь выкупить, условно говоря, «всех евреев». Во-вторых, помнится, в «Сталкере» говорилось о творцах, каждое душевное движение которых должно быть отмечено публикой и оплачено — и тем выше, чем оно благородней. Чтобы в последующих своих душевных поползновениях творцы смогли достичь еще большего благородства и соответствующего им вознаграждения. Ничто так не возвышает душу, как волнующее зрелище творца, передвигающегося к незримой цели на задних конечностях.
Все этическое содержание фильма, на которое он так неуместно претендует, сводится к лапидарной формуле Бродского: «ворюги мне милей, чем кровопийцы». Мне тоже. Ну и что? Поэтому, в частности, мы и имеем сейчас то, что имеем. Маленький вопрос только — если бы на фабрике Шиндлера производились не тазики для вермахта, а, скажем, авиабомбы (что невозможно, и все же, в порядке допущения) — ничего бы не изменилось в акцентах фильма, сходились бы так легко его концы?
Вся мощь Голливуда раскручивала этот фильм. Размах постановки массовых сцен заставляет вспомнить советских кинобаталистов брежневской поры — похоже, и те и другие исходили и исходят из презумпции того, что чем больше всего в кадре, чем монументальнее, тем сильнее воздействие. Типичное «он пугает, а мне не страшно». Анонимность увиденных откуда-то сверху участников, идиотский конвейерный темп бесконечно тянущихся сцен, не дают зрителю продыха. При высочайшем, просто немыслимом профессионализме всех служб голливудского кинопроизводства, при безошибочном знании расположения, устройства и функционирования слезных желез зрителей, при отработанных методах бесконтактного массажа подкорки, при хищном взгляде, схватывании на лету, нестесненности в средствах в фабрикации реальности более «достоверной», чем минувшая и нынешняя вместе взятые, — при таком захвате и прессинге чего-то стоящего в кадр не могло не попасть, просто в силу перелопаченного материала. Раз или два в середине фильма, презирая себя, и я пустил слезу. Презирая потому, что мною в этот раз расчетливо манипулировали, что мною можно так беззастенчиво манипулировать, потому что это стыдно, в конце концов.
Рукоделие Спилберга здесь ни причем, он сам не знает, что зацепил. Потому вся махина его фильма промахивается мимо своей темы — материал сверх-достоверен, а фильм врет, как дышит. Да это и неудивительно — это кино. Пусть бы снимал фильмы, несущие детям радость, какие-то сильные переживания. Так нет же — вот сейчас коммерческий режиссер, который всю жизнь снимал всякую забавную муру, вот он придет и сделает фильм жизни на все времена. Если его персонаж Шиндлер может переродиться (или очнуться, что точнее), то почему нечто подобное должно быть заказано ему — его режиссеру, творцу??
Но заказано. То, что возможно в жизни, где душа, в отличие от утраченных конечностей, способна отрастать и может иногда проснуться и в самом закоснелом душегубе, в искусстве невозможно. Вероятно, потому — хоть это и дико звучит, — что искусство с младых ногтей требует от человека большей ответственности и отдачи. Кажется, никогда еще не удавалось писать-писать на заказ, а потом вдруг взять и слепить шедевр. В искусстве — коготок увяз, всей птичке пропасть. Это область гораздо более беспощадная, чем жизнь. Казалось бы, чего проще: не бояться и не брехать, — а вот поди ж ты!
Возражать, спорить бесполезно. Начинает лгать, в силу неадекватности, сам язык, накатанная система «художественных средств». Для всей оптики Голливуда оказывается непроницаемым глазок газовой камеры. Не получается ни искусства, ни жизни. Искусства еще так-сяк, а жизни, на которую посягает фильм, просто никакой. Солженицын, в свое время, оказавшись перед необходимостью решения аналогичной задачи, описал один лагерный день — и, независимо от результата, это было движение в верном направлении, — а отдельно он написал историко-публицистическое исследование. В фильме же, вопреки декларированному талмудическому принципу — «кто спасет одного человека, спасет целый мир», — гибнут тысячи, а мир не спасается. Потому, в частности, что Шиндлер — загадка для Спилберга, «черный ящик». Ему легче и безопаснее печься о всех, чем о каждом. А происходит так потому, что еще более «черный ящик» для Спилберга — природа зла в человеке. «Черный ящик» — в грудной клетке, в ящике — сердце, в сердце — иголка. Но это очень, очень опасно!
Ханна Арендт в конце и сразу после войны писала, что нацисты, как правило, были хорошими отцами семейств, писала о банальности зла, о том что это были обыкновенные, обычные люди, и что не «стыдно быть немцем», а стыдно быть человеком. Ей этого не простили. Потому что она посягнула на партийные интересы одних и душевный покой других. Спилберг как раз выступает медиатором между первыми и вторыми. «Шиндлер» — его алиби. Его можно поздравить.
Говорят, что он снял «нужный» фильм, что миллионам людей полезно «напомнить хоть таким образом». Может полезнее иметь фиктивное представление, нежели смутное или, вообще, никакого. Может — не знаю.
Не мне пасти стада. Но я не люблю лапши. И кажется, не я один.
ПЕСЬЯ СУТЬ И ИДЕЯ КОШКИ, ИЛИ ИСТОРИЯ ПРИРУЧЕНИЙ
Бог некогда — вместо, чтоб спорить с Иовом — показал ему своих собаку-кошку: Левиафана и Бегемота — и тот… понял.
Ведь загадка человека и загадка животных суть одна загадка. Отчуждение человеком зверя в себе началось и шло путем приручений — меня, в данном случае, не интересует их прагматический характер. Вот человек в доме своем и хозяйстве, окруженный великолепной свитой качеств: отлитыми в совершенные сосуды — скоростью коня, силой вола, тучностью коровы, верностью пса, плодовитостью — а также арифметикой и геометрией — овечьих стад, идеей водоплавания, идущей от гусей и уток, петухом, что с временем накоротке, и недалекими его женами, которым дано каждое утро сносить по обмазанной пометом вселенной, вот голубь — делитель пространств, и доартиллерийский снаряд — сокол, подтекающий под добычу, подбрасывающий ее и вспарывающий на лету отлетным когтем, — как пишет Даль.
Теплокровные были по-человечески понятней ему, но во власти его было заставить трудиться на себя и рой пчел.
Завершая круг приручений, человек впускает в свое жилище кошку — существо бесполезное, означившее лишь, что сам он наконец покинул царство необходимости и не принадлежит больше целиком миру животных. С появлением кошки человеческий мир приобретает сложность, внутреннюю конфликтность, — крадучись, входит в него тайна, умаленная до талисмана. Приручение кошки выводит и женщину из круга домашнего скота.
Началось со спора о первородстве, с того, что старейшее из прирученных и приближенное к хозяину животное — собака возненавидела незаконно проникшую в дом и обольстившую хозяев кошку.
Но здесь нет прямых соответствий. Мужское и женское, песье и кошачье — это четыре, а не два: два географических и два магнитных полюса. «Мужик да собака на дворе, баба да кошка в избе», — наружу — в мир, и внутрь — в дом, на самом деле, это мало что говорит.
Пес — аналитический отстойник человека.
Отучив собаку убивать, человек научил ее брехать, и с тех пор выход из роли у нее только в бешенство. Четвероногий друг неспособен к предательству, и это страшно понижает его преданность, его любовь-обожание.
Человек же, как меньшой божок, выдумал породы применительно к климатам и нуждам, без излишней рефлексии приурочил живое существо к своим потребностям. Разнообразие пород, их размеров и вида, интуиция наивно-хитроумной биоинженерии поражает и сегодня.
Кошка приходит из Египта, из Царства Мертвых. Она — нубийка с высокой грудью и горячими ножнами, вложенными в промежность. Ей всего шесть тысяч лет. Египтяне изображали себя в профиль в виде птиц и к нагретому богу-Солнцу обращались: «Ты — Великий Кот, мститель богов». Когда умирала кошка, в знак траура все в доме сбривали брови. Кошек уважал и Рим, в отличие от псов — «canis domcsticus», — за независимый нрав, самообладание, за текучую царственность движений, в отличие от суетливого сервилизма псов, бесстыдства их соитий и жадности в приеме пищи, — культура сластен и гастрономов против обжорства лестригонов.
Собачья смерть — смерть без покаяния, без погребения.
Кошачья смерть? До нее еще надо добраться, она по счету девятая. Собачий нос — и кошачий глаз, точность хватания — и цепкость удержания (матрос Кошка, прыгающий с мачты на все четыре лапы, хвостом — как большим пальцем — показывающий: все о’кей!) Кошка ведет дневник, собака писать не умеет. Кошка — статуэтка рока. Когда хозяин гибнет, она поворачивается на четырех лапах и уходит, оставляя тело непогребенным. Собака воет трое суток на луну и ложится рядом со своим господином. Всегда заглядывает в глаза. Говорит: мой господин! Кошка мурлычет, как молится: дай мне! — Трется. А собаке: сука!..
Черепа их вмяты и сплюснуты пальцами Творца, неполнотой воплощения, на них больно смотреть. Собака-пустобреха — и кошка-пустомойка, — как ни моется, все равно воняет, воняет и псина, особенно в дождь. Это и не удивительно. Они животные. Часть собак рождается сразу в шинелях, и таких берут на военную службу. Танк пускается наутек при виде собаки, обвешанной гранатами, — роняющей слюну. Собака была Павлову милее, потому она слетала с его Родины в ближний космос и там, как и подобает псу, геройски погибла. Кошка завидует этому и отыгрывается на мышках — этих маленьких подземных собачках.
Оба, без сомнения, телепаты. Оба — хищники по происхождению. Собака — кошкодав и кошкодер. Но победить друг друга они не в состоянии. Ведь они внутри единого замысла.
Так Грозный был песиголов, а Петр — котообразен.
ПРАВДА О НАБОКОВЕ, ИЛИ БАБОЧКИ ПО ФРЕЙДУ
Набока был дороден и из хорошей семьи, и до поздней старости в шортах и с сачком — уже в очках, плешивый и грузный — гонялся за бабочками. Еще он известен своей ненавистью к доктору Фрейду. Немотивированность этой ненависти заставляет задуматься — доктор его не трогал. Набоков, без сомнения, наносил упреждающий удар, отводя назойливых психоаналитиков от гнезда своей перверсии. Как и Кэррол, человек, вообще-то, викторианской эпохи, он был простодушен хитростью маниака. Хорошее воспитание исключало бордель, человек начинался в метре от пола, то, что выше, обтиралось холодной водой. Крутые горки несколько укатали его, правда, к сорока. Было только одно. О, какое невыносимое, боже! Эти порхающие над нагретым лугом в Выре, в холодной России — и далее, когда и где угодно, — умопомрачительно беззаконные бабочки — герольды женских гениталий.
Перечитайте любое место, повествующее о ловле бабочек, — это перехваченное (чем, как не страстью?) дыхание, эта неотрывность взгляда и готовность сорваться хотя бы в пропасть, это умолчанное счастье обладания, — или вы тоже ослепли, читатель? Садовник и цветовод подпольного гарема, уловляющий сачком отлетевший от тела чистый секс — волшебно преображенный, лишенный тяжести этого мира.
Позднее «Лолитой» он отводил внимание, пускал преследователей по расходящимся тропкам ложных следов, но даже девочка была существом слишком тяжелым и плотяным для хрупкого роя его эфемерид, которого он являлся единственным безраздельным властелином, — когда, запершись, со стесненным телом, усыплял очередную отлетавшую прелестницу, щипчиками расправляя жировые складочки ее крыльев, замирая, чтоб не сдуть их пыльцу, безжалостно прокалывая булавками и распяливая радужное, мучнистое видение на крошечной подушечке одалиски, безвозбранно упиваясь узором — мучительно бессмысленным — ее никем не тронутого срама, и в пронумерованной коробочке с надписью на латыни, насытившись, задвигая затем в шкафы, хранящие тайну его перверсии. Сразу оседая обмякшим телом, отяжелевшим от вдруг навалившейся гравитации.
О, бедный высокомерный Набока, американский профессор, любивший на деле из всего только шахматы, бабочек и слова!..
ОПЫТ ЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. С. ПУШКИНА СО СЛОВАРЕМ «РЯ»
Не знаю, нуждается ли глуповатая шутка в предисловии. Какой-то неясный мотив, однако, побуждает ею поделиться, некая магия кривого зеркала, притягательность уродства, беспричинная веселость пародирования широкого дыхания русской повести XIX века, странным образом удержанного прутьями грамматической клетки. Не очень умная, а для кого-то и предосудительная, шутка — только и всего. Неоскорбительная, впрочем, для памяти поэта, как известно, обожавшего (и не только в буйной молодости) всяческие игры, розыгрыши и переодевания. Забывчивым можно напомнить, как — у Олениных, что ли — на столе Пушкин изображал гору с ручьем, испросив предварительно у дам накидку и графин с водой, или как он же азартно переплевывался, рассевшись на полу, с малолетним Павлушей Вяземским. Подобные детали поведения не представляются мне, в отличие от ортодоксальных пушкинистов, третьестепенными и не заслуживающими внимания.
В данном случае использован незатейливый метод, изобретенный кем-то из «черных юмористов» — американских романистов-шестидесятников, игра называлась «субстантив + 7». Семь, вероятно, чтоб избежать ненужных ассоциаций с барабаном револьвера. Произвольно выбранный текст в этой литературной игре «перелицовывался» при помощи словаря: все слова в тексте, кроме служебных (в нашем случае, местоимений и союзов), заменялись следующими за ними в словаре седьмыми по счету. Получалось высказывание всегда неожиданное, звучащее убедительно и нелепо одновременно, завораживающее своей мнимой знакомостью, — особенно в том случае, когда бралось какое-то общеизвестное утверждение. Трудно удивить чем-то таким читателя из страны Хлебникова, Крученыха, академика Щербы, — с его университетской «глокой куздрей, штеко будланувшей», — и др. (по новейшие «сказки» Л. Петрушевской, включительно). Чтобы не исказить до неузнаваемости грамматическую форму текста, лучше воспользоваться вес же «Грамматическим словарем РЯ» (М., «Русский язык», 1980)[2], где слова подверстаны по алфавиту своими окончаниями, — т. н. «обратным словарем» (словари такого рода, кстати, обожали не так давно стихотворцы и переводчики, испытывавшие хронический дефицит созвучий при общем перепроизводстве рифмованной продукции).
Итак, дело сделано. Все методы, кроме простого пера (особенно гусиного), имеют свои изъяны, и здесь также не удалось избежать некоторой расстыковки и образования стилистических заусенцов и шероховатостей. В интересах опыта, однако, можно ими временно пренебречь. Вот эти рыдающие строки зачина пушкинского «Станционного смотрителя»:
«Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался…» — вспомнили?
Теперь подсветим их с неожиданной для них стороны, — застанем врасплох.
Кто не разминал транскрипционных разорителей, кто с ними не изранивался, кто в гидромуфту рева не вытребовал от них подстарковатой фиги, дабы живописать в оную свою противо-туберкулезную особу на уяснение, картавость и плачевность?
ВНУТРИ АЛФАВИТА
В городе Л. художникам жилось плохо. Поэтому они стремились уехать из Л. в города М. или N. У города N. было то преимущество, что в нем не нужна была прописка, но мало сказать, что он находился дальше, на другой, изнаночной стороне планеты, он также принадлежал другому алфавиту. Поэтому при первой же оказии город Л., поколебавшись недолго, вернул себе имя П., или точнее — С-П. В стране, ставшей, соответственно, из С (официально: С3Р) страной Р (официально: Р+Ф). Надо сказать, что при крушении этой территориальной аббревиатуры, вывалилось из нее и всплыло пол-алфавита, буями отметив на карте место гибели великой лингвистической утопии: почему-то по два (а то и по три) А, К, Л, Т, У, менее употребительные буквы, вроде Э, какие-то странные полубуквы наподобие «еров», и совсем уж некстати посреди алфавита — знаки препинания, следы транслитерации, значки $ и &, транскрипционные закорючки и символы.
Вся эта история может быть увидена и как некоторая, на первый взгляд не очень значительная подвижка внутри алфавита: перемещение из области сонорных звуков — сквозь фрикативные щели — в направлении конца алфавита, или же перегруппировка внутри него, ведущая к активизации и последовательному исчерпанию буквенного запаса кириллицы, — пока трудно сказать, что именно.
В ЖАНРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПАСЬЯНСА
Константин сменил имя и принес с собой в торбочке семена греческих букв.
Переписчики заскрипели перьями в кельях.
Красное Солнышко загнал всех в реку на рассвете. Игорь вышел в поле, но попал в плен — и Боян запел.
Поп, у которого на руке было три пальца, одолел того, у которого было только два, и упрятал супостата, будто мину, в земляную яму — откуда в веках зазвучала дивной красоты русская брань протопопа.
Петр[3], как и велело ему имя, из дерева строил только корабли — и утвердил каменный град на болоте.
Ломоносов дрался с немцем за науку.
Мурза Державин и Жуковский-ага передвигались, скользя, по дворцовым паркетам — в изумрудных камзолах, в лощеных черных фраках с алмазными звездами.
Пушкин[4] зарядил и выпалил в воздух, будто Петропавловская крепость в полдень. Всех разбудил, кто днем отсыпался и бодрствовал ночью.
Выстрел его загнал Лермонтова в горы и спугнул Гоголя.
Гоголь покружил над родными насиженными местами — и отправился в отчаянный перелет.
(Ван?) Даль, напротив, приходил издалека. Казака Луганского, по счастью, из него не вышло. Свое имя он дал словарю.
Толмачи Белинский и Чернышевский, Добролюбов и Писарев[5] делали то, что каждому на роду фамилией написано было.
Редактор Некрасов[6] не был красив.
Каторжанин Достоевский[7] всех достал и продолжает все еще доставать.
Граф Толстой[8] замесил в тесте фразы войну, мір, изобрел религию для «тонких», но от толщины своей, невзирая на вегетарианскую диету, так и не сумел избавиться. Черен он был с исподу, как всякое зеркало.
Чехов[9] расчихался и раскашлялся, особенно после Сахалина, и зачах.
Блок попытался оторвать от земли русский бунт — и оказался раздавлен страшным грузом сорвавшейся буквы «ять» и еще нескольких.
Пешков был смолоду отменным пешеходом, но огорчил, пройдя по ковру в мурзы.
Маяковский[10] прикинулся маяком, а Пастернак дачным корнеплодом.
Есенин заблудился в алкогольной роще — и разбил зеркало, чтоб выйти вон.
Цветаева перецвела и выцвела.
Булгаков набулгачил; и Бабель.
Еще один граф Толстой, учитывая опыт своего предшественника, худеть даже не пытался.
Платонов записался по переписи государственным жителем.
Набоков[11] ушел на сторону.
Хармс[12] взял неправильный псевдоним, впал в детство и очутился в дурдоме.
Заболоцкого услали, куда Макар телят не гонял.
Мандельштама отправили в переплавку.
Пересекая как-то бульвар в автомобиле, Сталину подумалось, что двух мизантропов сразу России не потянуть. Он велел убрать сидящего на бульваре Гоголя, а на его место поставить своего человека.[13]
Солженицын[14] сцепился и сплелся со лжой.
Пока Пикуль (тайный «корнишон») и другие квасили кадушками свои романы, Бродский забрел за океан, Ерофеев[15] спился. Вот и Битова за Не-Битова дают.
Но, чу, — совсем новый русский грядет!
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА: ПОПЫТКА РАССЛЕДОВАНИЯ
Хорошо рождаться зимой, когда не так воняет. Санитария, гигиена — это первое усилие цивилизации. Пусть не пахнет, лишь бы не воняло. И все же американцы и прочие шведы уверяют (конфиденциально), что в России очень сильно пахнет. То есть не неприятно даже, а именно — резко, непривычно. Ну Америка — продувная страна, такой ее Бог создал. Она, без сомнения, стоит в авангарде уничтожения запахов. Еще когда Европа попахивала, американцы уже приступили к глобальному вытеснению естественных запахов искусственными. Кока-кола тому свидетель. Это их дезодоранты начали проедать дырку в озоне.
Западные коты тоже не дураки. Если ты что-то готовишь на плите не из полуфабриката, а из натурального продукта, то он просто не отходит от тебя. Чихать он хотел на все эти «Вискас», когда тут жарится настоящее мясо и рыба. Люди западного города, когда дело пахнет деньгами, — которые сами, как известно, не пахнут, — тоже меняются. На улицах в обеденное время они разводят такие съедобные ароматы, что надо быть мутантом или киборгом, чтобы не наброситься тут же, жадно урча, на их еду. Этот запах берет мертвым захватом тебя за голову, бьет под дых и властно разворачивает в свою сторону. Хотя дома у всех все пристойно. В холодильнике все десять раз завернуто и перезавернуто в полиэтилен и фольгу. Потому что запах — это агрессия.
Любой повар знает, что, потеряв обоняние, он обречен. Он будет играть по памяти, как глухой тапер. Любой гурман знает, что самый тонкий запах находится на грани вони, классический пример — рокфор. В некоторых языках «вонь» — это и есть «запах». Древние отдавали себе в этом отчет и часто радовали ноздри своих богов воскурениями от жертвоприношений. Запах горелого мяса и паленой кости, переходя границу этого мира, становился, вероятно, чем-то совсем другим. Неслучайно по нашим представлениям, кроме ангельского пения, на небе должен быть сад — райские кущи, где, надо полагать, еще и очень хорошо пахнет.
Гоголь был первым, кто потерял в России свой Нос. Даже простой насморк делает нас беззащитными — а тут такое!.. Оттого и умер. Есть даже отказывался под конец. А ведь такой великий был писатель. Примерно тогда же в мире перестали нюхать табак.
Обонятельное одичание или полное извращение обонятельного инстинкта русским, конечно, не грозит. Их убережет от этого их тотемический зверь — медведь. Он известный сластолюб, живет в лесу. У русских просто сейчас нет времени. Ни на что. Раньше было много времени. Империя — это такие залежи, Сахара пустого времени. Но нюхать тогда тоже почему-то не хотелось. И потом, чтобы начать вновь разбираться в запахах, надо знать, от чего плясать. Худший запах на свете, как абсолютный ноль температуры, — все в этом сошлись, — запах скунса. А где его возьмешь в России? Говорят, в обморок можно упасть или «улететь», как от нашатыря. Хоть разок бы нюхнуть!
Как редко удается высушить на ветру белье, и когда это все же удается, как хочется зарыться в него лицом, упиться трезвящим летучим запахом. Или жадно ловишь во все ноздри запахи осени — скоро, скоро начнут жечь листья! Или ниоткуда нахлынут вдруг запахи детства: душистый табак, матиола, запах разогретых солнцем шпал или рулона толя. Или какие-то совсем уж анонимные, ускользающие ароматы, бесконечно волнующие. Что ни говори, а есть у запахов секретная жизнь. Может, на языке пахучих смыслов с нами заговаривает природа, и пока длится эта речь, в нас благодарно оживает все, с чем мы успели, сами того не заметив, распрощаться?..
ЕМКОСТИ I, II, III
На темы лексикона Яна Амоса Коменского
Гончарство — древнейшее из технических ремесел, с изобретением гончарного круга обретшее признаки демиургии. С одной стороны — кукольный театр творения, с другой — работа с абсолютом, с двумя пустотами, одна из которых оказывается внутри горшка, а другая остается вовне. В древности категорией пустоты оперировали священные книги, в наше время на бесспорную ценность пустоты указывает в свое оправдание разве что набитый опилками медведь из сказки Милна!
Гончар, облачившись в фартук, запускает ножной педалью круг творения, погружает руки в глину и затем, смачивая их время от времени в воде, поднимает стены полезной пустоты. Он — создатель формы, стремящейся из глины к совершенству и никогда его не достигающей. Скудельник, молчаливый трикстер вышних. Его акт — героическая метафора самого человеческого усилия. Созданные им женственные звонкие сосуды — исчерпывающая аллегория бренности, тщеты, преходящести, — от избирательного сродства с которыми щемит человечье сердце. Человек недостаточно глуп для того, чтобы не испытывать чувства солидарности с этими творениями горшечника, такими же, по сути, как мы, только очень примитивно устроенными. Вывернутыми наружу скелетом, словно черепаха. Или наш череп, вероятно, навеявший первые мысли о посуде. Даль свидетельствует:
«Горшок… — не родился, а взять от земли, как Адамъ; принял крещеніе огненное, на одоленіе водъ; питал голодныхъ, надселся трудяся, под руками баушки повитухи снова свет увидел; жил на покое, до другой смерти, и кости его выкинули на распутье».
Не случайно часть скудельничьих земель исстари отводилась под место погребения для странных и самоубийц, где раз в году, в Дмитриеву субботу, можно было молиться за них в часовне.
Пушкин дважды писал о горшке. Холостым — попрекая им толпу:
«Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь».
Женатым — помещая его в самый центр своего семейного устройства: «да щей горшок, да сам-большой».
В сегодняшнем мире гончара можно повстречать только в скансенах да в покуда все еще многочисленных неразвитых странах. В обоих случаях они призваны обслуживать то состояние человека праздного, которое именуется туризмом.
Бондарь — мастер вязаной или обручной сборной деревянной посуды, емкостей, как то: лохань, ушат, кадка, чан, но главное — бочка, получившая свое название по причине выпирающих боков.
Во времена Коменского бочка была удобной мерой сыпучих и жидких тел — корабли грузились преимущественно бочками. В виноделии и поныне бочка является родительским домом вина, расселяемого затем по квартирам бутылок. Как всякий дом, она не может при этом не свидетельствовать о строении универсума, не быть то ли хранителем, то ли моделью мироздания. Не случаен выбор Диогеном одной из ее родственниц в качестве жилья. Бочка без дна Данаид — мужеубийц, низвергнутых в Тартар, — докатившаяся сквозь века до лошади Мюнхгаузена, лишившейся крупа в сражении, и до арифметических задач о бассейнах с двумя кранами, а также аттракциона в парке — «бочки смеха» — вращающейся трубы, которую следует пройти насквозь.
Бочка несчастного царевича Гвидона — прообраз корабля и материнской утробы одновременно, и спасительный бочонок Эдгара По, выносящий его героя из циклопического водоворота вагины Геи.
Но самое загадочное — гоголевский хромой бочар, наладивший в Гамбурге производство лун, — прескверного, впрочем, качества. Есть остроумное допущение литературоведа Бочарова (sic!), что в бедной голове Поприщина составился коллаж из сведений, почерпнутых им из газет: о хромом лорде Байроне, чье тело было доставлено на родину не в гробу, а в бочке — впоследствии распиленной кем-то предприимчивым и распроданной по частям почитательницам поэзии Байрона в качестве талисманов и сувениров.
Поприщин — сумасшедший; не перестает, однако, потрясать Гоголь. Ибо чем другим являются наши космические станции и корабли, как не запущенными на орбиту обитаемыми бочками??
Лучшими из бочек являются, несомненно, дубовые. При их изготовлении используется закругленная двуручная цикля золингеновской стали, зовущаяся по-немецки также «колыбельным ножом». Мне доводилось в свое время видеть такие в бочарном цеху Львовского пивзавода. Но куда большее впечатление произвел тогда древнеавстрийский механический автомат для насаживания на бочки обручей. Вместо тривиальных клепок и колотушек — химерическая плечистая конструкция на чугунной станине высотой метров в пять, с неистовством Кинг-Конга хватающая железными лапами подставленную бочку и начинающая с уханьем и пыхтеньем набивать на нее едва насаженные обручи, заглушая постанывания, покряхтывания и писки несчастной. Отваливая ее набок, считанные секунды спустя, и принимаясь за следующую. Раз увидев такое, Тэнгли бы удавился, а с ним и большая часть авторов кинетических скульптур.
По чьей-то жалобе нашли все же способ возбудить против агрегата уголовное дело, и к середине 80-х его разобрали на части. То был предагональный период, когда пиво ненадолго оказалось объявлено врагом народа.
Вскоре послетали обручи, удерживавшие части страны в подчинении, и та страна распалась, как отслужившая свое бочка.
Грузовой корабль — следующая за бочкой стадия в искусстве изготовления емкостей, включающая в себя элементы анатомии и зодчества и вызвавшая к жизни искусство навигации.
Более всего поражает то, что со времен аргонавтов корабль обязан был иметь имя. И самый далекий от моря и мира чтения человек непроизвольно реагирует на приманку обманчиво звучащих, летучих названий: «Катти Сарк», «Мэйфлауэр», «Нинья» и «Пинта», «Эндевер», «Бигль», «Мария Челеста», «Летучий Голландец», «Лузитания», «Титаник»…
Пакетбот читается как «покет-бук» и, в свою очередь, приводит на ум магический корабль скандинавских богов «Скидбладнир», в свернутом состоянии умещавшийся в кармане, словно носовой платок. Картина и книга «Корабль дураков» — Иеронима Босха и Себастьяна Бранта. «Пьяный корабль» гениального французского юноши девятнадцати лет — и «мудрецы» английского детского поэта, пустившиеся по морю то ли в тазу, то ли в решете.
Что мог думать и знать об этом бесконечно далекий от морских путей и стихий — транзита над пучиной — происходящий из безнадежно сухопутной страны Коменский, называвший ванты «канатами» и деливший мачты на «главную, переднюю и заднюю»? Понятно, как позднее Петр мог упиваться сорокапушечной бранью и охотой за ветром — музыкой всех этих кливеров, ютов, деков, а также грот-бом-брам-стакселей! (То были «файлы принтерного драйвера» его века.)
Ныне моря бороздят восьмисоттысячетонные нефтеналивные бочки, отколовшиеся от суши гигантские паромы, плавучие аэродромы и прячущиеся в толще океана, больные атомным флюсом, ракетоносцы.
Однако самым волнующим — самого глубокого залегания — сюжетом, рожденным Новым временем, остается сюжет гибели «Титаника», состоящий и составленный из обломков древних мифов. Мера искусства в нем при этом столь абсолютна, что вряд ли сценаристом и постановщиком его мог быть кто-то из людей или даже человечество в целом. Все волнует в нем. Встреча двух первообразов — ковчега и вавилонской башни. Гремучая смесь, образованная вступлением в связь технического гения человека с праздной и презрительной гордыней испепеленных небом библейских городов. Наличие беспроволочного телеграфа — и готовность сети масс-медиа к немедленной ретрансляции трагедии одновременно на весь мир. Шедевр организации, гоночный темп, ни малейшей пробуксовки в сюжете, — нечеловеческая власть и воля корпораций, сметающая и исключающая всякое ей сопротивление. Придрейфовавшая в ночном тумане ледяная гора, видимая лишь в 1/9 части. Отнявший считаные минуты переход от суперкомфорта к пребыванию в ледяной воде, к километровой глубине под ногами и водяной пустыне на сотни миль кругом. «Есть еще океан!» — отозвался Блок. Приветствуя гибель той рукотворной, угольно-черной модели планеты, каковой являлся «Титаник».
И самое впечатляющее то, что треть пассажиров по лотерейному небесному принципу была зачем-то сохранена и жила затем долго, обращая внимание на мировые войны не больше, чем на подцепленный насморк. Словно законсерованная агентурная сеть. Или буквы шифрограммы, так и не сложившиеся никогда во внятное донесение о случившемся.
Не говоря о красоте знамения, вскоре подтвержденного — и смытого валом мировой бойни. Окончательно похоронившим, кстати, земледельческий образ войны — шнековая мясорубка вместо косы и серпа, вместо шелеста сечи и звона — воющее «пушечное мясо».
Емкость т. о. — одно из имен пустоты, имеющей тенденцию и аппетит емить и собственных создателей.
СКАЖИ «СТУЛ»
К такому привычному и неприметному предмету нашего обихода как стул человечество шло очень долго. Четвероногие существа, квадропеды, в стульях не нуждаются и сидят где и на чем попало. Появление стула — один из результатов нашего прямохождения. Но назначение его — не только дать отдых позвоночнику и позволить выполнять какую-то работу сидя. Все куда сложнее и интереснее. История возникновения мебели (как и человеческого жилья) — вообще, захватывающий сюжет. В основе всего ее многообразия лежало использование плоской поверхности: для сидения — скамья; для совместного питания — стол; для спанья — лежанка; выдолбленное бревно — первый ларь; сбитый из досок ларь с крышкой — уже сундук; он же поставленный «на попа» и с полками — шкаф.
Поначалу любое возвышенное место для сидения мыслилось как трон и означало господство. То есть изначально речь шла не об удобстве, а о почете и демонстрации превосходства. Человек — прирожденный «символист», и после сотен тысяч лет эволюции его мышление и сегодня сохраняет эту способность перерабатывать любую реальность в символ — престижа, власти, преуспеяния. И в Древнем мире любое специально предназначенное для сидения место являлось прежде всего атрибутом власти. В нашем слове «председатель» или английском «chairman» навсегда закрепилось это представление.
Создателями стула считают древних египтян, и первым стулом, явившимся прообразом всех последующих, был трон фараона — со спинкой и придуманными египтянами подлокотниками. До того, полагают историки, все искусственные сидения были разновидностью скамьи или табуретки. Иерархия и направление эволюции в «табуреточном мире» выглядят приблизительно так: от общей намертво закрепленной лавки — к скамье на ножках и, далее, к персональному табурету, стулу, креслу, трону (кому что положено). И многие тысячелетия прошли, прежде чем граждане получили каждый хотя бы по одному стулу.
Древние греки предпочитали беседовать, выпивать и есть лежа. Поэтому изящные стулья с неблагозвучным названием «клисмос» или не менее изысканные X-образные табуреты служили исключительно греческим женам, старцам и детям. Римляне также на скамьях сидели только в цирке или сенате. Но у них уже за всяким важным чиновником раб таскал полагающийся тому в силу занимаемого положения складной табурет, отделанный слоновой костью. Сидя на нем, чиновник выслушивал и вершил дела собравшихся граждан (только самым почетным из них позволялось присаживаться на двухместную богато украшенную скамеечку перед ним). Впрочем, дома у каждого патриция имелся для особо торжественных случаев небольшой мраморный трон наподобие императорского.
В Средневековье сидели в основном на лавках, если вообще не на чурбаках или бочках, и очень редко на табуретках. Правда, у знати появились знаменитые готические стулья с высоченными спинками, иногда в виде лестницы, ведущей чуть ли не на небо.
Рассаживаться поудобней и попривольней народ стал где-то со времен Ренессанса. Интеллектуалы для чтения и работы перебрались в кресла. Купцы и менялы разместились на своих сундуках с приделанными спинками. А мебельные мастера вовсю занялись украшением мебели. (Но это в Европе, Азия же — практически вся, за исключением Старого Китая, — и не думала подниматься с уровня пола, продолжая сидеть на корточках, коврах, подушках и циновках. И самым распространенным сиденьем оставалось, конечно же, седло, с недавно изобретенными стременами.)
Резную сидячую мебель и кровати делали столяры, а корпусную — чернодеревцы, фанеровавшие ее эбеновым деревом (несколько веков спустя в России первых называли «стульными мастерами», производство же корпусной мебели звалось, на французский манер, «кабинетным делом»). Но людей, по-прежнему, было больше, чем стульев. Характерна история с Французской Академией сорока «бессмертных», где правом сидеть в кресле обладал один ее глава. Не отличавшийся здоровьем престарелый кардинал д’Эстри (d’Estrees) обратился с просьбой к «Королю-Солнце», Людовику XIV, позволить принести ему в зал заседаний собственное кресло. Король принял «соломоново» решение и подарил Академии 40 кресел с королевского склада. Вообще, короли в те отдаленные времена мелочно регламентировали своими указами не только ношение одежды различными сословиями, прически подданных, но не ленились предписывать, сколько полок в креденце должно быть у барона, сколько у графа и сколько у герцога! Во время приемов члены королевской фамилии сидели на мягких стульях, родовитая знать на табуретах, а для менее родовитой расставлялись складные стулья. В качестве особого расположения король мог пожаловать даме или старцу «право табурета» — право сидеть в его присутствии. У упомянутого Людовика XIV в зените его могущества имелась в Версальском дворце даже… серебряная мебель (правда, позднее, в трудную минуту, он приказал из нее начеканить монет для нужд войны — что сразу приводит на ум нашего Петра I, переплавлявшего колокола в пушки). Но даже в середине XVIII века французская королева иногда вынуждена была одалживать мебель у своих придворных, а российская императрица Елизавета Петровна возить за собой всю обстановку, переселяясь из Зимнего дворца в Летний и обратно.
И все же XVIII век, начиная с его второй трети, — несомненно, один из пиков в развитии мебельного искусства. Помимо ошеломительных достижений французских мебельных мастеров периода рококо, возникновения новых видов и форм мебели, в это время открывают свое дело англичане: Чиппендейл, затем Адам с Хэпплуайтом и Шератоном. Именно ими были созданы шедевры и эталонные образцы мебельного искусства. При том что постелено английская школа вытеснила французскую; параллельно этому шло опрощение, приспособление и использование высших достижений для нужд массового производства — от классицизма через ампир к бидермайеру.
Пока, наконец, в середине XIX века столяр Михаил Тонет не объявился в Вене и не открыл там с благословения Меттерниха производство стульев из гнутого букового дерева по изобретенной им технологии. До конца века его фирма произвела их 50 млн. штук! Это он усадил большую часть Европы на стулья. Потому что какой возможен индивидуализм и какое самоуважение у человека без стула, сидящего на чем предложат и на чем попало?!
И в России, кстати, индивидуальные стулья появились только в эпоху Петра (вместо жесткого выбора: или трон — или лавка). Троны-то в былые времена были загляденье: у Грозного — сохранившийся в Оружейной палате Кремля «костяной стул» итальянской работы; у Годунова — подаренный персидским шахом трон, обитый тисненым золотом и отделанный бирюзой; у «Тишайшего» Алексея Михайловича — ваще, из серебра и злата с восемью сотнями рубинов и алмазов! Роскошь страшная, а сидеть на них неудобно. А если ты не царь, то и вообще не на чем, кроме лавок под стеной. Но и на пороге XX века импорт мебели в Россию в четыре раза превышал экспорт из нее. На полутора сотнях предприятий работало около 4,5 тыс. столяров и краснодеревщиков. Делалась, впрочем, весьма неплохая плетеная мебель из черемуховых веток. Но в крестьянском обиходе «стуло» появляется только в самом конце XIX века, да и то преимущественно кустарной работы. Хотя для людей посостоятельнее еще с конца XVIII века производила мягкие стулья обосновавшаяся в России фирма Гамбса.
Того самого, за чьими стульями уже после революции 17-го года охотились два, или даже три, небезызвестных литературных героя. Но приключения стула в XX веке — это тема, заслуживающая отдельного разговора.
ДЕНЬ ЕЛКИ
Обычай ставить и наряжать елку на Новый год — один из самых красивых, волнующих и запоминающихся на всю жизнь.
В северном полушарии зима, природа спит, ночь длинна, наступает Карачун, как звали его славяне, зимний солнцеворот — и, о чудо! — день вновь начинает отвоевывать время у ночи. И на сердце легчает, люди готовятся к встрече Нового года и Рождества Христова, — так получилось, что эти два праздника сплелись и срослись в один неразрывный цикл — от Рождественского сочельника до Крещенского. С той только особенностью в России, что из-за приверженности православных юлианскому календарю здесь образовалось сразу два новогодних праздника: дополнительный и целиком светский Новый год «заскочил» на место перед Рождеством, что внесло замешательство в умы и многих сбило с толку, но в результате лишь удлинило срок зимних празднеств. Праздничная рождественская елка, пришедшая к нам при Петре I (до того установленная на крыше елка обозначала… кабак; жена кричала мужу: «Опять под елку собрался!» — а соседи неодобрительно качали головами: «Елка избу выметает почище всякой метлы!»), рождественская елка, отмененная поначалу большевиками (заодно с детскими игрушками!), очень скоро вернулась в нашу жизнь и сделалась главным украшением новогоднего праздника, равно любимого детьми и взрослыми, которым тоже ведь когда-то было мало лет.
Традицию рождественско-новогодней елки культивировали более всего в Европе немцы. А непререкаемой общеевропейской модой это сделалось с середины XIX века, после династического брака английской королевы Виктории с ее немецким кузеном Альбертом Кобургским. Немцы и сегодня с огромным посвящением и самоотдачей поддерживают эту традицию. К Рождеству в Германии начинают готовиться за три недели до его наступления. Однажды утром вы обнаруживаете на обеденном столе россыпь рождественских звездочек, по числу дней оставшихся до праздника, — каждый день хозяйка дома, отходя ко сну, будет убирать по одной из них, покуда не придет долгожданный праздник. Каждый добропорядочный немец задолго до Рождества выставит на своем балконе украшенную небольшую елку с перемигивающимися электрическими гирляндами, чтобы радовался глаз всех прохожих и всех соседей, которые все сделают то же самое. Счастливые обитатели особняков обязательно нарядят игрушками и украсят растущую во дворе ель, чтоб количество радости на свете прибывало и накапливалось. В царящей атмосфере благодушия вас удивит, если вы не немец, однажды обнаруженный на том же столе подарок от Святого Николая: шоколадка и пучок сувенирных игрушечных розог — как своего рода наставление.
Во всем мире люди будут покупать заранее билеты, чтобы родители могли навестить выросших детей, дети — родителей. Будут подыскивать подарки: любимым, детям, друзьям, сослуживцам. Выстроятся очереди, чтобы послать близким почтовые отправления — посылки, открытки, — если нет возможности встретить с ними вместе Рождество и Новый год. В Праге и Варшаве на тротуарах появятся приземистые чаны с живыми карпами, чья участь — стать фаршированным украшением праздничного стола. Американцы предпочтут традиционную индейку. Хозяйки в передниках займутся выпечкой печенья в специальных формах. Родители с детьми будут украшать елку, наполнившую квартиру густым еловым духом — свежести, зимы и уюта, — без которого нет праздника. Пока, наконец, вечером в сочельник детям во всем мире не будет позволено извлечь из-под сияющей елки подарки в перевязанных яркими лентами коробочках, полосатых чулках Санта-Клауса, скособоченных мешках Деда Мороза.
Взрослые же выпьют ровно в полночь пенистого шампанского и пожелают друг другу счастья, удовлетворенные тем, что если сами они уже не очень-то верят в чудеса, то все же могут создать для своих близких — особенно же детей — атмосферу ожидания чуда. В новогоднем веселье обязательно присутствует доля грусти и разочарования, закрепляющая его неповторимый вкус и понуждающая людей из года в год повторять все сначала — в погоне за ускользающим призраком счастья.
В России этот праздник — День Елки, приходящийся на Новый год, — любим не менее, а может даже более, чем где бы то ни было. Еще и потому, что нигде так не нужно вечнозеленое дерево, обещающее чудеса и изобилие, как в бескрайней и морозной стране, заметенной снегами. В советское время, да и позже, Новый год в силу своей неидеологичности, внепартийности, надконфессиональности перетянул на себя большую часть нашей потребности в универсальном празднике как таковом — сулящем «мир на земле» и «благоволение в человецех». И это единственный праздник, в который люди празднуют то единственно, что мы — люди.
Любопытно, что даже мрачноватый и эклектичный ансамбль московского Кремля в январе становится похож на выстроившийся по стойке «смирно» парад новогодних елок — та же гамма: зелено-красно-золочено-белоснежная. Зажигаются над ними звезды. Раздается бой часов на Спасской башне, с которым вся страна привыкла в истекшем столетии встречать наступление нового года.
С Новым годом! Тик-так! Гири на цепи подтянуты под самое горло ходиков, начинающих отсчет нового века и тысячелетия.
О МЕСТАХ
ВВЕДЕНИЕ В ГАЛИЦИЙСКИЙ КОНТЕКСТ
Географический центр Европы — место, где сходятся синусы и косинусы сил, где дремлют таблицы корней и бдят пограничники пяти государств, где границы отвердевают, а люди размягчаются и отрываются от собственных судеб, где все контуры двоятся и накладываются один на другой, как пакет слайдов, где сквозят и просвечивают друг через друга, друг друга засвечивают эпохи и этносы, — дряблая сердцевина европейского дерева, как всякая сердцевина, годящаяся только на карандаши и спички.
То край, над которым завис отточенным бритвенным полумесяцем, — анемичным светом заливая народы (от Мюнхена и до Диканьки), — зловещий знак Захер-Мазоха. То край, чья судьба кажется мельче его собственной тоски.
Отсюда лежит путь в «регионы великой ереси», где размещаются события, не уместившиеся во времени, — в слепые закоулки времени, тупики его и отростки, путь в «Другую осень», проложенный некогда учителем рисования Дрогобычской польской гимназии Бруно Шульцем.
Где-то здесь застрял он в годовых кольцах Европы, в тех отвердевших, продолжающих движение кругах, где, как игла с межвоенной пластинки, съезжал он вместе со всеми — человек с лицом, похожим на туфельку, — странный писатель Бруно Шульц.
Можно было бы сразу сказать, что как писатель он — третье недостающее звено, связующее Кафку с Бабелем, — но больше всего в этом было бы неправды для всех троих. Гораздо уместнее было бы поставить его в ряд двух других приоритетных писателей его времени, его близких друзей и таких же, как он, неудачников (один повесился, другой — эмигрант) — Виткацы и Гомбровича, — но беда в том, что их имена почти ничего не говорят читателям в СССР (и почти исключительно в СССР).
Специфическим для всех троих было запоздалое сецессионерство, парадоксальным образом давшее неожиданные плоды, насытившее творчество каждого из них — хоть в разной мере — духом метафизической пародии и сделавшее их всех художественными радикалами.
Все они, смутно и беспокойно, чувствовали то, чего не чувствовал никто кругом, — банкротство реальности, тот иррациональный фатум, что увлекал все более недееспособную Европу от мировой войны к чему-то уже просто нечеловеческому, притягивающему настоящее, как магнит, — и они пытались исследовать, каждый по-своему, этот оползень, этот паралич воли, — войти в самое сердце мазохизма.
Единственное, что они знали: что уже поздно. Но до какого-то предела человек живет в любых условиях. Пределом этим является, вообще-то, вполне конкретный минимум свободы. Это к слову.
По ряду внешних капитулянских примет жизненная ситуация Шульца во многом схожа с ситуацией Кафки (вплоть до повторяющейся раз за разом патовой ситуации в матримониальной области, задокументированной в длительной и мучительной переписке). Шульц, кстати, первый переводчик «Процесса» в Польше (как выяснилось позднее — литературный редактор). После разорения и смерти отца и ряда внутрисемейных драм фактически на содержании Шульца остались мать, двое сестер, племянник, — что намертво привязывало его к работе в школе, все более ненавистной в силу шаткости его положения (из-за недополученного во Львове и Вене профессионального образования) и прогрессирующего заболевания литературой.
Усугублялось все это вынужденностью жизни в провинции, в низкотемпературной среде, в культурной изоляции. Провинциальный город, собственно, — редукция города как такового. Такие города — прекрасный объект для описания, но не для жизни. В них можно только рождаться и умирать.
Начинал он как рисовальщик и даже добился некоторой известности (знаменитая впоследствии фототипированная «Ксенга балвохвальча» — «Идолопоклонская книга»), известности, которая через несколько десятилетий все же не стала бы европейской, если бы не его занятия литературой.
Что-то самое важное не помещалось у него в эти графические картинки. Ведя обширную и напряженную переписку, он в начале 30-х годов, наконец, нащупывает тот особый поворот письма, который позволит ему извлечь свою тему из нищеты окружающей материи, из дешевизны ее переразвитых, пышных, но онтологически необеспеченных форм, из неартикулированной каши во рту, разрастающейся стилистическими папилломами, — извлечь и стянуть подобием дамского корсета, — не столько что-то построить, сколько пошить, перелицевать из обветшавшего «гардероба» сецессии, круга идей fin de siecle. В середине 30-х две книжечки прозы, выпущенные им, «Лавки пряностей» («Sklepy cynamonowe») и «Санатория для усопших» («Sanatorium pod klepsidra»), стали художественным скандалом, т. е. успехом, и принесли ему массу действительных друзей (как он замечал в письмах, «несправедливо»).
Вначале никто ничего не понял. Без сомнения, это была магическая литература, осмысленно магическая, принесшая в польскую литературу метафору нового времени — метафору, неслыханно ее раскрепостившую, но и повязавшую новой конвенцией, потому что магия — это плен.
Сам Шульц, как кажется, не вполне понимал значение им сделанного, страшно скрупулезно и… близоруко оценивая новизну своего письма. Без сомнения, культурная изоляция, психология задворок определили некоторую диффузность его художественного самосознания.
Так он преклонялся перед Т. Манном (как другие, впрочем, перед Горьким и Ролланом), дорожил перепиской с ним. Томасом Манном, при мысли о котором почему-то приходит на ум поздний, очень поздний Гете в «Разговорах…» Эккермана — Гете, мечтавший дожить до завершения строительства Суэцкого и Панамского каналов. Ему почему-то казалось, что мир сильно переменится в результате этих земляных работ.
Шульцу писалось трудно. Он получил литературную премию за первую книгу, взял длительный отпуск, поехал в Париж, попал на мертвый сезон летних каникул. Европе он был не очень нужен. Он, впрочем, был уверен, что так и будет.
Незадолго до войны он приступает к третьей, давно вынашиваемой, не дающей ему покоя и не дающейся ему книге — «Мессия», в пределе тяготеющей стать романом. В войну рукопись пропала, как почти все его рукописи, большая часть рисунков, писем (уцелевшие читать… как-то не по себе — большая часть корреспондентов и упоминаемых в письмах лиц погибла также). Похоже, что вектор — конца времен — он угадал, но не угадал качества грядущего апокалипсиса, — с маленькой буквы, потому что лишенного своего главного действующего лица, на которого давно (переведя его имя на пряжки ремней) перестали уповать люди его времени, — Бога.
В 39-м наступает раздел Польши по пакту Молотов-Риббентроп. В первые дни войны Виткацы надевает рюкзак и начинает двигаться на восток с волной беженцев. 18-го сентября он сойдет с идущего в никуда поезда и вскроет вены в волынском лесу. Он не захочет пережить все это, чтобы потом опять жить после войны.
За несколько недель до того Гомбрович садится туристом на трансатлантический лайнер и посреди океана узнает, что возвращаться ему, собственно, некуда.
Шульц честно пытался стать советским писателем.
Но львовские «Нове виднокренги» под редакцией Ванды Василевской возвращают ему рукопись рассказа под предлогом его низкого идейно-художественного уровня. В немецкую редакцию Иноиздата в Москве он посылает свой единственный немецкоязычный рассказ. К счастью, тот пропадает без вести где-то в недрах редакции, иначе не исключено, что бедному Бруно довелось бы еще отведать наших лагерей.
Он рисует новые языческие заставки в местную газету и, по заданию городских властей, самого большого «отца народов» в Дрогобыче — для демонстраций.
В 40-м году он переносит две операции на почках — чистейший психосоматоз. К оккупации Дрогобыча немцами он — совершенная руина, тень самого себя. Его берет под покровительство австрийский офицер, служащий в гестапо, — бывший столяр, выдающий себя за архитектора, — для которого он, за хлеб и объедки, расписывает виллу в сецессионном духе.
Застрелен он был на тротуаре в ходе увлекательнейшей из охот — охоты на людей — другим гестаповцем[16], отомстившим его покровителю по принципу: «ты убил моего еврея, я убью твоего еврея». Есть свидетельства, что искал он его специально. На улицу Шульц вышел сам.
Случилось это 19 ноября 1942 года. Шульцу в этом году исполнилось 50 лет. Несколько блицев не дают покоя, несколько воображаемых фотографий из его жизни, которыми хочется закончить…
Вот он стоит в Дрогобыче в своей комнате перед зеркалом платяного шкафа, пошедшим золотистыми кавернами, — в дамской одежде, в шелковых чулках, одной рукой приподняв подол, с женской туфелькой, прижатой к груди, — раня нечистым каблучком кожу, с восторженно кричащим пахом, готовый властвовать в своем призрачном мире.
1940-й год, вот он на каменном полу гимназии рисует Большого Сталина, такого, чтоб закрыл окна двух этажей жилого дома на площади; переползает муравей человечества, катается по полу — пигмей со связанными за спиной локтями, мыслящим планктоном колышется на волнах отливов и приливов империй, — углем мажет китовые усы Отца Народов. Уборщица, отставив ведра со щелочью, опершись на швабру, глядит, будто кусок сырого мяса, на вершащийся на ее глазах творческий акт.
Вот с большими чемоданами он садится на пароход, который отвезет его в Париж, — целый месяц в Париже! Скрипит трап. Запах моря, гальюнов, дезинфекции. Низко несутся облака. Начинает накрапывать дождь. Господи, как непредсказуема жизнь! Какие дивные повороты припасены у нее для тебя — Бруно Шульцу! Лично в руки. Распишитесь. Мекка и Бабилон: волшебная заоблачная башня возгонки всех провинций, всех искусств! — неужели не найдется в ней места для тебя, неужели за месяц, за целый месяц не разоблачит она перед тобой свои тайны? Не пробьет всего тебя своим нервом, словно электрическую косточку в локте, — крутанет, крикнет: «На! Води!»
1938-й год. Ледяной ветер сгоняет пассажиров с палубы. В каютах качает. Принц Гамлет едет морем в Англию, чтоб ему там отрубили голову.
…В Париж он поехал поездом, — чтоб не ехать через Германию, — через Италию, задержавшись на два дня в Венеции.
Вот в оккупированном Дрогобыче евреи торгуют белыми повязками с шестиконечным тавром. Обшитые целлулоидом стоят дороже — в них больше амулетной силы, они отводят пули и защищают от газовых камер, — в которые и так никто не верит. Так садовник метит известкой стволы деревьев в обреченном на порубку саду.
Бруно Шульц, привитый на меже культур, в области пограничья, где развиваются трансмутации исходного вещества, нигде более не встречающиеся, — звено между Кафкой и Бабелем, между Бабкой и Кафелем, Шуно Брульц вообще отныне перестает что бы то ни было понимать. Но уже скоро ему все объяснят.
Улицы наполнились агатовыми насекомыми, с навощенными отставленными задами — яйцекладами неиссякающих, острых, как укус, смертей в кобурах. Вот забегали они по дворам и парадным, выволакивая на тротуары добычу, слабо сопротивляющуюся только в силу собственного веса, жаля и парализуя ее своей слюной — слепоглухонемая и деятельная сила, собирающая корм для своих куколок и маток, для родильных заводов рейха, — набивая податливыми на ощупь, как гусеницы, и хрупкими, как тли, организмами железнодорожные составы, чтобы отправить их в глубь муравейника свастик.
Сделав дело, они курили, удовлетворенно ощупывая усиками твердые головы друг друга. Хитиновые козырьки. Солдаты — в касках.
ПРЕВРАЩЕНИЕ состоялось. Но не совсем так, не совсем в том направлении, как мнилось и предчувствовалось его угадавшим. Грубо говоря, превратился на этот раз не Шульц, а мир.
Но им обоим пришлось заплатить за это сполна.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЛЬВОВСКОГО ВИТРАЖА
У Фукидида где-то сказано: «Город — это не его корабли и стены, а люди, в нем живущие». Но и полвека спустя после изменения статуса Львова архитектура его остается самым гениальным, что в нем есть, остается задачей, стоящей перед его обитателями. В связи с этим небезынтересно было бы рассмотреть развитие одного из побочных, вегетирующих в нем сюжетов: зарождение и экспансию витражного ремесла в последние два десятка лет. Характерно, что подлинным эпицентром формирования этой заразы стала не какая-то художественная институция: институт декоративно-прикладного искусства, худфонд или даже скульптурно-керамическая фабрика с ее мощным стекольным производством, — а скромная реставрационная мастерская, состоящая из двух-трех человек, безо всякой производственной базы и обеспечения, разместившаяся в начале 70-х годов в Глинянской веже, а затем вытолкнутая администрацией реставрационных мастерских в крохотное помещение при Городском арсенале — бывшее жилище средневековых палачей, откуда и пошло ее громкое некогда прозвище «Кативня».
Самым естественным в те годы было бы ничего не делать. Но поколения подрастают и приходят независимо от того, зовет их время или не зовет. С самого начала энтузиазма в этом предприятии было столько же, сколько авантюризма. Примерно та же пропорция сохраняется и по сей день. Разве что, энтузиазм давно вылинял и принял более отвечающую месту и времени форму стоицизма: т. е. чтобы хоть что-то в этой химерной стране на этом не принимающемся в расчет участке делалось хорошо, т. е. высокопрофессионально. Такая степень абсурдности притязаний, безусловно нуждается в оправдании и, чтобы не потерять кредита доверия у читателя, следует попытаться его представить.
Любое движение для того, чтобы приобрести полноту и законченность, требует, в виде последней санкции, наличия хотя бы одного сумасшедшего. Толя Чобитько, пришедший в витраж в начале 70-х гг., — это образец самого прагматического сумасшедшего из всех, которых я знал. С ним, в первую очередь, связан героический период львовского витража, период «бури и натиска» — стремительного овладения самоучками профессией. Самоучками, потому что специалистов по реставрации витража ни в одном учебном заведении СССР в то время не готовили. Более того, серьезную квалификацию витражиста можно было приобрести только поневоле — в реставрации, сталкиваясь с работами старых мастеров, с теми каждодневными трудностями, которые ставила перед адептами практически полная утрата классической технологии. Помочь справиться с этими трудностями мог только конкретный опыт: бесчисленные эксперименты, работа мысли, поиск забытых письменных источников, умение начать все сначала, найти выход в ситуации без выхода. Только там, находясь по колено в дерьме, можно было начать делать невозможное — витражи, а не то, чему учат в художественных вузах: «делать красиво» из того, что есть, — из брянского необожженного сигнального стекла, — т. е. из дерьма.
Здесь следует упомянуть еще об одном процессе, наложившемся на феномен львовского витражного брожения. Процесс этот общесоюзный и связан с массовым исходом интеллигенции в ремесла, в котельные, в андерграунд и аутсайдерство. По времени, и не только по времени, он совпал с вступлением общества в фазу объявленного «развитого социализма». Витражные мастерские закишели переквалифицировавшимися архитекторами, филологами и прочим посторонним людом.
Но почему витраж? И почему реставрация? Вопросы эти требуют особого рассмотрения. Если со вторым все более-менее ясно, достаточно начать в уме писать реставрацию с большой буквы — т. е. попытаться поднять культуру с четверенек, то ответ на первый вопрос потребует углубления в метафизику этого города, и шире — края.
Не хотелось бы упрощать проблему, но я полагаю, что Львов всегда склонялся к некой младшей ветви культуры, отчетливо отдававшей предпочтение материальному перед спиритуальным. Виною ли тому со средневековья въевшийся в гены торговый характер или давление разливанного окрестного крестьянского моря, с его верой в осязание и главной заповедью: «Возьмешь в руку — маешь вещь», — или благоприобретенная уже в новое время провинциальность, чьи привязанности и предпочтения всегда носят орнаментальный характер, — но фактом остается требующий истолкования перекос в художественной ситуации региона в сторону повышенной утилитарности, материалоемкости, технологичности, — короче, в сторону декоративно-прикладных жанров, — некое упование на самоценность технологии даже в «чистых жанрах», т. е. своего рода художественная близорукость, перенос акцента в искусствах на «посюстороннее». Здесь сложилась — во всяком случае, в послевоенный период — занятная иерархия жанров и видов искусства. В наиболее общей форме это можно было бы ухватить в такой формуле: «Львов сегодня — это город графики и керамики, а не живописи и скульптуры». Понятно, что не в смысле наличия того и другого, а в смысле продвинутости одного относительно другого. Не цвет, а линия, не выход художественной идеи на агору, а сворачивание в клубок, уход в сферу приватного, редукция до утвари — осмысленой и даже интеллектуализированной, как в случае графики, — но самой своей нацеленностью на восстановление человеческого, «слишком человеческого» пространства, свидетельствующей о распаде пространства общественного, об улетучившейся из него свободе, о забвении восстановленной к небу мысли.
Сказанное в полной мере относится и к витражу. Официально и номинально относимый к роду монументального искусства, современный витраж таковым не является — то, что есть в нем «витражного», никакого отношения к монументальности не имеет. Последними великими монументалистами в витраже были Выспяньский и Мегоффер — ими же представлен последний «великий стиль» витража. Современный витраж в СССР возрождался как искусство сугубо прикладное и по своей природе оксюморонное, тяготеющее к миниатюре, к тому, чтобы быть жанром ювелирного искусства, — но при этом пораженное элефантиазом. Безусловно, свою роль сыграло в этом размежевание с тем дискредитировавшим себя, особого рода «монументализмом», господствовавшим у нас более полувека. А также наш стихийный экуменизм, художественное униатство, когда-то в детстве обольщенное калейдоскопом и сейчас, без труда и задней мысли, принимающее этот привой католической, витражной, органной «ясности» в свой глухо гудящий восточно-славянский ствол.
В последние годы пандемия витражного ремесла охватила всю Галицию, свирепствуя во всех областных городах, разрастаясь буйно и ядовито, будто хвощи и лопухи в огородах Бруно Шульца, достигая уже самых райцентров, где так лезет в глаза нищета материи, и где город предстает, будто призывник в военкомате, во всей своей оголенной сущности.
Уже сейчас несомненны заслуги витража в восстановлении достойного человека enviroment’a и habitat’a. Но все же, отвлекаясь от достижений и от пены (когда вдруг самым популярным «художником сезона» начала 80-х может оказаться… Альфонс Муха), от взлетов и падений, от вопиющих экономических условий, все же главной проблемой витража — его внутренней проблемой остается вызывание, вызволение той чистопородной силы цвета, что наполнив паруса витражей, выгнет «линию», превозможет косность материала и, пусть на сантиметр, стронет корпуса городов с той мели, на которой они сидят, — потому что… город — это и его корабли и стены тоже.
И потому еще, что, как сказал маркиз де Сад, правда по другому поводу: «Все же — все это только приближение к тому, что хотелось бы делать на самом деле».
КАРМАННЫЙ ЗАПАД
Будучи киевлянином, Степаненко закончил два художественных вуза: во Львове и в Москве. Зачем он это сделал?
Львов — без сомнения, дань иллюзиям, которую отдало первое вполне мирное поколение, неожиданно выросшее в стране, целиком построенной на принципах войны. У которого так и не обсохло на губах молоко мирного сосуществования. Оно на самом деле как бы не видело окопов, которыми по всем направлениям была разрыта страна.
Оно было легко на подъем в этой стране паспортов.
У большой страны был карманный Запад — Прибалтика.
В малой стране была своя Прибалтика — и это у Киева — Львов, у Львова — Ужгород.
Было малое «передвижничество» в неверном направлении.
В начале 70-х целый выводок молодых киевских художников, обольстившись декорациями, приехал учиться во Львов. Впрочем, это мог быть любой другой город, потому что жизнь в этой полузадушенной стране все равно мало походила на акварельную практику.
Очень скоро они это поняли.
Степаненко из тех художников, которые рано сделали свой выбор, и выбор, в отличие от многих, был сделан им сознательно. Этот путь я назвал бы художественным неповиновением.
Избегая лобовых столкновений, он ограничился рисованием на полях жизни. Собственным, киевским, южного происхождения артистизмом пытаясь хоть чуть разогреть прилегающее к нему пространство.
Сюда входило: рисование цветными мелками в кафе и на улицах; стояние на одной ноге под стенкой, упершись в нее второй ногой и выставив вперед колено, — с цветком в зубах (он был тогда, кстати, вегетарианцем); поход в Стрийский парк, чтобы, обведя мелом на дорожке тень, падающую от кроны дерева, прийти назавтра на то же место и, дождавшись совмещения тени со своим вчерашним контуром, пойти отметить с коллегами стаканом сухого вина рождение концепции. (Сколько тогда было мест в городе, где это можно было сделать!)
Или просто приехать в весеннюю распутицу в одних белых штанах с худенькой сумкой — будто ты не сын своих родителей, а внучка Херста.
Свои ранние рисунки, в которых уже все было, он «продавал» однокурсникам за бутылку кефира или молока. Великий Копыстянский не брезговал приобретать его работы.
Портреты стоили дороже — стоимость обеда. Тогда он уже ел мясо. Предложения периферийного меценатства льстили ему, но принять он их не хотел.
Кто бросит камень в его эстетизм? Без сомнения, яд сецессии тек в его жилах (ведь опять был конец империи, как в дурном сне), цвет и линия жили у него как бы отдельно в разных жанрах, куда десятки влияний лили свою воду на его мельницу: от имперских ацтеков и майя — до поп-графики и французоватого чувственного Параджанова.
На одном из «ацтекских» рисунков середины 70-х, — тех, что за бутылку молока, — можно разобрать прихотливую надпись: «війна буде неминуче: 1983».
Тогда он уже сидел в промерзлой андроповской Москве, во вгиковском запущенном общежитии, менее всего надеясь выйти оттуда режиссером.
И это в тот период, будто о чем-то окончательно догадавшись, получая отказ от очередной претендентки в Музы, он сказал: «Жаль! А из тебя могла б выйти непогана путана».
P. S. Годы спустя я повстречал его случайно в Базеле.
Жить в Киеве, несмотря на все свои старания, он так и не научился. На этот раз это опять была какая-то стипендия.
АКСИНИН[17] КАК «КУЛЬТУРНЫЙ ВРАГ»
Несомненный и окончательный способ похоронить художника — это говорить о нем только хорошее.
Нет жанра подлее предисловия. Хуже только каталоги, задуманные как маленькие типовые мавзолеи.
«Если хотите жить — давайте враждовать» — так следует поставить проблему, отдавая себе отчет в исключительной мере ответственности за сказанное.
Когда читаешь Платонова, Набокова нет и не может быть — он не существует, для него просто нет места, иначе Платонов лжет, — и наоборот.
Но, к счастью, вражда в культуре и вражда в жизни — абсолютно разные вещи, субстанционально разные.
Мир культуры состоит как бы из более тонких атомов, в нем нет абсолютных смертей и окончательных потерь — но, напротив, какое-то смутное приближение к жизни вечной, к замыслу природы, — вечный уход и вечное возвращение, выход на стремнину, уход под воду и опять выныривание в труднопредсказуемом месте в труднопредсказуемый момент. И самое потрясающее, что происходит это не с биомассой по законам среднеарифметическим, а в формах персональных и по законам загадочным, которые не укладываются в наши однокомнатные души и умы. Законы — нет, а люди — да. И я сам знаю нескольких читателей-многоборцев, которые любят Набокова и Платонова одновременно, равносильно и верно. Любить всех — есть блуд, подсказка отъявленного рационалиста Сатаны, любить каждого… своими силами для человека непосильно. Действие культуры, живой ее части, разворачивается где-то посредине, но всегда чуть вверху и впереди, в некоторой области парадоксальной во всех отношениях. И довольно об этом.
Провинция в силу бедности привыкла смазывать разнокачественность величин. Люди в ней живут как бы не всерьез, не принципиально.
Поэтому и занимает меня Аксинин как Культурный Враг.
В том, что это достаточно крупный и последовательный художник, не сомневается никто, но речь пойдет о соблазне его творчества, о некоторых его духовно опасных чертах. И, к сожалению, возможность такого подхода санкционировал он сам, поверив в явленность смыслов, возжаждав быть не столько художником, сколько послушником и учителем, аналитиком и прорицателем, возжаждав точно знать и владеть такими вещами, которых точно знать и овладеть которыми нельзя, и не обращение, а общение с которыми требует исключительной искренности, чуткости и такта.
Надо сказать, что это была общая болезнь 70-х, высшая нота, взятая и «официальной» и «неофициальной» культурой тех лет. То были поиски смысла преисподней, онтологической обеспеченности пребывания в историческом обвале. Ключевое слово той эпохи — «вечность».
Или так еще: Человек в поясках смысла.
В Москве стали догадываться, что это не «высокая» болезнь, еще в конце 70-х, но, боже, каким позорным финалом, какой дешевой распродажей Логоса разрешилось это заболевание еще через 10 лет, т. е. уже в следующую эпоху.
Гессе, Булгаков, Тарковские — какой великолепный шифр, пароль, — и какой эзотерический разврат развился на этой почве, какое рукоделие и эклектика, какие гляделки до обморока — как субститут созерцания; какое невиданное словоблудие. Вот один из истоков немоты, поразившей вскоре — на фоне разнообразнейшего треска пустоты — русскую культуру.
Аксинин, в чьей фамилии щиплет язык отдаленный аскорбиновый привкус безотцовщины, поднял имя Александр (а все, кто читал Павла Флоренского, знают, к чему оно обязывает) и, соорудив из двух А песочные часы отмеренного себе времени, поехал в Москву, чтобы видеть Шварцмана, и в тогдашнюю графическую столицу — Таллин, чтобы разговаривать с Тынисом Винтом. Винт прохаживался по своей черно-белой квартире под взошедшим на стене знаком для медитаций — как семиотический повар из чаньской легенды — и ребром ладони намечал: низ-верх, инь-ян, жена-муж, симметрия-асимметрия, — после чего с криком «Х-хак!» наносил один удар, и анализируемый объект распадался на части, готовые к употреблению.
В каждой эпохе есть своя красота.
От Свифта, Кафки, Кэролла к расшифровке книги № 1 той эпохи — «И Цзин» — такова логика анализа Аксинина. Линия аналитична. Тот же проводник: есть ток, нету тока. Аксинин как художник замкнутых фигур все прогрессировал, работы его становились все лаконичнее, точнее, стильнее; штриховка все гуще.
Мир расползался, он же скреплял его своими офортами.
Так, сидя в закутке, в бабушкиной кофте, штопают чулок на лампочке.
Он много работал.
А если вам снится сон о работе — надо продолжать это дело. Это значит, что пробуждение близко.
Пока не был послан ему будильник такой страшной силы, что проспать он уже не мог.
ЖИТИЕ И СМЕРТЬ ЛЕНИ ШВЕЦА, ПОЭТА
Начали, наконец, умирать мы сами.
В один из последних дней этой осени вышел из окна львовский поэт Леня Швец. Многие знали его.
Да если бы он просто был городским чудаком, уличным клоуном, колоритным маргиналом, он уже был бы культурным явлением, — пусть локального масштаба. Сколько людей во Львове благодарно помнят уличного трубача начала 70-х, — у людей светлели лица. Того извела брежневская милия. Этого извел сам город. Слишком долго простоял он, упираясь лбом в стенку, обступавшую уже со всех сторон, растущую ввысь и вширь, — пока не пробил ее однажды собственной головой, с криком «Боже, бери меня!» выйдя в окно от санитаров.
Подобная степень откровенности в разговоре о непростых вещах не в ходу в нашем культурном обиходе. И все же, иногда, чтобы все не исчезало бесследно, следует идти на такой риск. Тем более, что сам Леня был публичным человеком, жизнь его протекала на виду у всех, и не думаю, что он осудил бы меня за это. Это не разборки с людьми, — виноватыми, невиноватыми, — это разборки с жизнью.
Во Львов он приехал почти четверть века назад. Города терпят людей, в т. ч. приезжих, но их не любят, — это их право. Он этого не знал. Ему казалось, что в его родном Крюково под Кременчугом все было иначе. Уже совсем недавно ему объяснили, что «людина без нации — то раб». У него была нация. Он был из нации поэтов. Он так долго вел образ жизни поэта, что оказалось, что это серьезно, что это не «для девушек», что за это надо платить. Редчайший случай, когда человек выписывается, дописывается до стихов, — поэтому он и жил так долго, целых 44 года, — чтобы дописаться до них. За это, действительно, надо платить.
Вначале он вышел из клетки заурядности и вторичности в более просторный вольер душевной болезни. Не сразу, конечно. В те годы он еще работал: когда-то был неплохим футболистом, забивающим голы, затем самым начитанным грузчиком «Облкниготорга», был многообещающим униформистом — партнером клоунов — в цирке и непременным статистом на всех киносъемках, в те времена еще, когда весь Запад снимался во Львове и Прибалтике, освоил самоуком по хрестоматии все 4 тома истории философии, жалел и собирал книги, отправляемые на переплавку, на львовской картонажной фабрике. Дальше была нищенская пенсия, выделяемая государством инвалидам умственного труда. Все это время он писал стихи. Он был законченным «семидесятником» и жил при этом слишком наивно, открыто. Разговаривал громко, не умел себя вести. Немец думает, русский — славянин, т. е. — делает.
Или гений, или говно, — в такие вот игры играли здесь в 70-е. И «крыши» ехали. Говорят, в общежитии литинститута в Москве ректор распорядился натянуть в лестничных пролетах между этажами металлические сетки, — проучившись год-два, не один непризнанный гений пытался свести счеты с жизнью, выбросившись в пролет: «Кругом такие кабаны!..»
Леня смерть не одобрял, любил жизнь, любил вкусное (презирая по большому счету материю, как и всякий восточный славянин, особенно, в последние полвека: «И так сойдет!..»), любил мягкое-женское, — и не расчетливо-заядло, как Дон Жуан, а как всеядный простак Казанова, комично-патетичный и беззащитный, вообще-то, скиталец своего века. Бывал на самом дне в поисках корма, но, как утка, покрыт был неким водоотталкивающим составом, позволяющим грязи налипать на перья, но не проникать внутрь естества, до души. Начало его было светлое, неумело радующееся всегда, — а это значит, почти всегда, некстати.
Был еще один сюжет 70-х — синдром Кандинского-Клерамбо: а) мания величия; б) бред преследования; в) псевдогаллюцинации. Собственно болезнь началась с бреда преследования. До того психика его была внешне устойчива. Толчком послужил вызов в КГБ. ГБ умело выбирать слабых или находящихся в слабой позиции и давить на них. От ГБ он увернулся. Заклевали «свои», те, кого он считал своими, те, кому (всему городу!) простодушно рассказал о вызове и беседе. То была главная мания 70-х — «шпиономания», единицы не поддавались ей, — и то, если везло. И десять лет спустя, въезжая в очередной «криз», он оправдывался в том вызове: почему его? не выдал ли кого (кого? в чем? кто эти легионы смелых бойцов Сопротивления??), что все это значит, наконец?!
Грустного во всем этом едва ли не больше, чем неприятного, смешного, страшного. Был у этой мании провиденциальный смысл. Армии неудачников — нереализовавшихся, невостребованных — мнимая часто, опека комитета заменяла опеку высших сил: архивы его служили залогом вечной жизни или даже материалом для воскрешения.
…Он пытался уехать в Среднюю Азию, жениться — еще раз — на ленинградке, написать книгу стихов. На первом месте, конечно, написать книгу — семидесятнический позыв.
Вернулся с психической травмой и мудростью битых — не делать резких движений. И здесь уже «въехал» окончательно, в полный рост. Получил на Кульпарковской инвалидность, и десять лет еще жил и писал стихи, — во все сужающемся, десять раз обойденном по кругу мире, — откуда кто-то каждый год выпадал, уезжал, умирал.
В промежутке был Крым, Ялта. Один раз он был в Раю. Когда выдавая и собирая дощатые лежаки, с карманами полными серебра, — до сорока рублей в день, — сам черт был ему не брат! — с обрывком каната на шее, в обнимку с лучшими, нигде еще не напечатанными, нищими московскими и крымскими поэтами, он шел на летнюю площадку ресторана угощать друзей, — все женщины пляжа были его! — или когда, завернувшись в парус, читал в мегафон на всю прибрежную полосу стихи Алексея Парщикова и свои, Лени Швеца. Основное свойство рая на земле — в его неповторимости. Спустя несколько лет, после нескольких предпринятых им неудачных попыток, у него хватило ума расстаться с мечтой вернуть свой утраченный рай.
Выхода не предвиделось. В филармонии, где в «перестройку» читали стихи уже все кому не лень, ему прочитать свои почему-то не дали. Их можно понять. Он, действительно, не умел себя вести. Одет был как черт знает кто. Был у него, впрочем, один костюм, при его росте чуть коротковатый. Знакомство с ним могло компрометировать.
Спасибо газете «Ратуша», которая, впервые в его жизни, в 92-м году напечатала несколько Лениных стихов, — еще и на русском.
Ему немного было нужно, 100 экземпляров своей книжки «Взгляд Горгоны», которую он составил в том же году, ее набрали на компьютере, оформили, подготовили к печати, но деньги на бумагу и что-то еще все не находились, не находились и так и не нашлись.
Под конец он раздаривал то немногое, что у него было — книги, картины друзей. Он сам еще не знал, к чему готовится. Хотя в болезненном состоянии эта тема всплывала не раз, — он сам себя пугал, «пугал» друзей и со специфической хитростью «сумасшедшего» присматривался к произведенному эффекту, — надо сказать, он был невелик. Как у всякого поэта, слова у него забегали «поперед батьки в пекло». Поначалу спасти его от приступа болезни могла и чекушка водки, выпитая с другом. Но вскоре уже весь алкоголь мира был не в силах вывести его из этого сооруженного — кем? им самим? жизнью? общим замыслом? — плена.
Поэты, вообще люди, никогда не умирают случайно, с бухты-барахты. Что-то неладно, значит, в датском королевстве. Или заканчивается (закончилась?) эпоха, и кровь по капле выцеживается, выдавливается, переливается в носителей новой эпохи, предавая прежних. И с этими в свое время произойдет то же (они будут думать, что случится).
Той давней осенью 93-го умерли Лотман, Феллини и затерявшийся в дальнем глухом углу Европы Леня Швец, поэт.
Ирония здесь неуместна.
Опять биография в этой проклятой стране торчит из текстов, бесцеремонно раздвигает их локтями, сквозит в зазорах между буквами, пальцами цепляется за строчки стихов.
А стихи были и есть, он-таки дописался до них.
…Но я вот думаю: а если бы он не писал стихов?!
ДВЕ ТОЧКИ НАД «i»
Всем известно выражение «расставить точки над „i“. В сегодняшней Галиции издается культурологический независимый журнал, называющийся одной буквой, передающей звук „йи“ (как в словах „Кыйив“, Украйина»), — вертикальная палочка с двумя точками. Литера, отсутствующая в других алфавитах, надо полагать, призвана графически символизировать своеобразие украинской культуры, акцентировать некие ее особые аспекты.
Отрицать наличие самобытной украинской культуры и ее особого характера — неблагодарный труд. Однако, как правило, вслед за подобным признанием собственно и начинаются разногласия: высокомерное, имперское по своей природе невежество с одной стороны, и специфическая украинская «заядлость» с другой, — манипулирование суммами родственных черт и отличий, подтасовки истории и политическая нечистоплотность и т. д. и т. п., — что называется, поехало. Честно говоря, не хочется даже задевать весь этот спутанный клубок проблем, поскольку любое упрощение, неизбежное в газете, только увеличивает непонимание и разброд. Как выходцу из тех краев и, следовательно, «галичанину» отчасти, мне приходится иногда слышать бесконечно наивный вопрос: не вернется ли Украина к России сама? Чаще — оправданное до определенной меры злорадство: ну что, получили свою «самостийность» — право торговать чем ни попадя у Киевского вокзала и ездить в Россию на заработки?! Хотя подавляющее большинство россиян очень мало занимает все, что связано с Украиной, — своих забот достает. Что, кстати, страшно оскорбляет все естество украинского националиста (а равно и любого другого из бывших республик СССР). Как бы там ни было, следует привыкать к тому, что под одной государственной крышей нам больше не жить, — из этого и исходить. А дальше — время лечит, самых задиристых прибирая понемногу с доски. Это задача не для одного поколения.
Имелся какой-то шанс начала диалога и совместной систематической работы в связи с открытием Культурного центра Украины в Москве, однако в ходе его строительства начались финансовые и клановые махинации, последовала смена руководства, затем остаток средств оказался погребен в «Тверьуниверсалбанке», и ныне пять тысяч квадратных метров в начале Старого Арбата пребывают в глубоком анабиозе, дожидаясь, кто подберет их, — скорей всего, не имеющий никакого отношения ни к русско-украинским связям, ни к культуре подавно. Ситуация в большинстве посткоммунистических стран отличается только градусом социальной напряженности и степенью хозяйственного кризиса. Тема неподъемная, и мне хотелось бы говорить не в общем и не понаслышке, а лишь о лично хорошо знакомом.
В конце минувшего 96 года мне довелось участвовать в качестве единственного гостя из России в работе проводившегося во Львове международного семинара «Новая Украина и новая Европа: пора сближения». Семинар проводился в роскошном Зеркальном зале Львовского университета — в здании бывшего Галицийского сейма времен австро-венгерской империи. Участники зябли, наступление отопительного сезона откладывалось. От перемены власти и остановки заводов воды в городе не прибавилось — в дневное время ее попросту не бывает, — отчего в коридорах ощутимо пованивало. Галичане не суеверны и новым мэром избрали человека по фамилии Куйбида, пишущего стихи. При этом они упрямы, как всякие хохлы (справка: слово «хохол», как пишет правительственный «Урядовый вестник» и перепечатывает дайджест «Наша республика» № 25/1996, слово татарское и означает… «сын неба», — таким образом «Хохлы… Сыны небы… Дети Космоса… высокое и гордое имя!»). Так городские чиновники, обвиненные, один — в капитулянтстве перед ГКЧП, другой — в покровительстве торговли новорожденными, всякий раз обижаются и в отставку подавать отказываются. В их правление старинный Львов окончательно превратился в самое большое из западноукраинских сел, а Галиция — в расходившееся крестьянское искусственное море. Дележ остатков общественного «пирога», коммунального хозяйства ведется уже до состояния пыли. Рельсы для железной дороги, топливо, выделяемые Киевом — последним оставшимся на Украине городом, — немедленно перепродаются дальше на Запад. И главное — отсутствует коллективная воля людей остановить этот оползень.
Вернемся, однако, к семинару, ключевым словом которого оказалось склоняемое местными кадрами на все лады и с чувством слово «Европа». Но сколько его ни повторяй, во рту все равно остается кисло. Невозможно повернуться к ней лицом, оставляя за плечами неурегулированным вопрос отношений с Россией, — не получается. Отчего досада растет — обида, какая бывает только у нелюбимого и с легкостью ОТПУЩЕННОГО одного из супругов. Так и хочется залить ОТПУСТИВШЕМУ «смальца за шкирку» — растопленного сала за воротник. Подходили странные люди, называвшие себя политологами, и уверяли, что вся политическая жизнь, а также вся историография — домена мифологий, что задача только в том и состоит, чтобы слепить миф поубедительнее и заразить им максимум людей. Чему дивиться, если сразу после войны был осуществлен десант сюда, помимо особистов, самой завалящей идеологической камарильи со всей страны, правившей бал в области гуманитарной культуры все советские годы и, как оказалось позднее, начисто лишенной всяких принципов. (При том, что советская власть дала возможность социальным низам получить образование, медицинское обслуживание и многое другое, впервые за сотни лет избавив от угрозы голода этот глухой, бедный и по сей день невыслушанный регион Европы.) Следует учесть также, что квота для выходцев из села на гуманитарных факультетах поддерживалась на уровне 90 процентов. Всякая революция, в том числе мирная, связана с катастрофическим упадком культуры городов, — если верить описаниям, то же происходило в Москве 20-х годов. Так же как зарождение всякой новой государственности неизбежно проходит через авторитарный период. Надо полагать, для Украины он еще впереди. Мне очень хотелось бы быть посрамленным в своих умозаключениях — но не в словесной игре, а на деле.
Отрезвляюще звучали на семинаре доклады приглашенных западных участников. Немка, директор киевского Гете-института, пригласила собравшихся снизить тон и не без дальнего прицела поведала о внутренних проблемах современной Германии, с которыми ей предстоит еще жить и жить как минимум два-три поколения. Швед из Гетеборга с обезоруживающим простодушием похоронил украинское сельское хозяйство, поделившись теми умеренными опасениями, которые тревожили членов европейского сообщества в связи с ожидавшейся экспансией дешевой украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Если я правильно понял его доклад, получалось, что Западную Европу Украина интересует только с точки зрения сохранения ею относительной относительной стабильности и невмешательства в европейские дела. Таким образом, в экономическом плане ей отводится роль неограниченного ресурса дешевой рабочей силы, а также рынка сбыта промышленных и пищевых отходов. Полька, дочь многоопытной и усталой католической культуры, предостерегла украинцев от слишком решительного расшатывания собственных национальных стереотипов, что чревато их подрывом, и от чрезмерного пафоса в этом, увы, неизбежном деле. О трудностях самоидентификации говорил и другой поляк, отметивший, что «центральноевропейская дискуссия, отшумевшая в среднеевропейских странах — от Загреба по Персмышль, — переместилась ныне далее на восток». О чем, в свою очередь, заговорил по-белорусски без переводчика белорус, предлагавший центральноевропейской осью полагать ось Вильно-Минск-Львов, что закрепить соответствующей конвенцией. К числу небезынтересных и взвешенных можно отнести выступление киевского литературного критика, преподававшего несколько лет в американских университетах, и эссе, прочитанное ивано-франковским писателем и редактором журнала литературного андерграунда «Четвер» (русский выпуск которого звался, как легко догадаться, «Четвер(г)»). Этот последний напомнил, что на один из языков имя Львова переводится как «Сингапур», — что прозвучало с лирической теплотой и в меру оптимистично.
Таков фон. И тем удивительнее, что при злосчастном, не поддающемся реформированию в принципе, дремуче провинциальном Львовском университете возникает четко прозападно ориентированный Центр гуманитарных исследований, неожиданно издающий тысячестраничную антологию… мировой литературоведческой мысли. Что, когда приостановлены и практически свернуты все реставрационные работы, в другом университете — политехническом — открывается фанатиками кафедра, занятая перепроизводством специалистов по архитектурной консервации и реставрации. Что во Львове издается полный украинский перевод прозы Бруно Шульца, когда в Дрогобыче земляки последнего собираются выносить из пединститута подаренный Израилем бюст прославившего город писателя. Что продолжают выходить один за другим эстетские тематические номера журнала «ï», посвященные попыткам культурной идентификации Галиции, проблематике отношений с Россией и российской цивилизацией, Польшей, германским миром, вышел очередной объемный номер, посвященный гебраистике и всему комплексу украинско-еврейских отношений во взаимном и перекрестном освещении сторон, готовится ретроспективный австро-венгерский номер. Десятки молодых переводчиков изучают языки и трудятся над манерными и пестрящими «галицизмами» переводами не самых простых текстов.
На самом деле ведется беспощадная, и не исключено, что априорно проигранная, битва за образованную молодежь, но только, когда она окажется проиграна окончательно, на судьбе этого края можно будет надолго поставить крест. Жизнь распадается, разлагается, зарождается и цветет одновременно в этом самом декадентском закоулке сегодняшней Европы.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ КАРТА ГАЛИЦИИ
Кажется, у позднего Набокова встречаются «нетки» — внешне бесформенные пещеристые вещички, которые приобретают вид правильных фигур только в специальных зеркалах. Напротив, как всем уже известно из фильмов, упыри в зеркалах не отражаются. Желающий писать о Галиции столкнется с обеими указанными трудностями. У не то, чтоб так уж сложно все было устроено в этой Галиции, сколько двусмысленно, обманчиво, антиномично. Последнее определение взято не звучности ради, а по той простой причине, что через Галицию проходит цивилизационный разлом, напоминающий t° график как минимум полутысечелетнего заболевания, развившегося от сцепления и трения в этом месте цивилизационных жерновов и этнических шестеренок, — нечто вроде воспаления суставов или ревмокардита.
Все кого-то там с кем-то «связывают», через всех что-то «проходит» — но здесь этот разлом выходит наружу. Чтоб сразу стало ясно, о чем речь, процитируем Милана Кундеру, пассаж из его эссе, до сих пор отсутствующего в русском переводе, «Трагедия Центральной Европы» — об экспансии восточного соседа: «Это тот мир, что, при условии пашей от него отдельности, завораживает и привлекает нас, но в тот момент, когда он на нас замыкается, нам открывается его ужасающая чужеродность. Не знаю, хуже ли, лучше нашего, но это другой мир: России известно иное, большее измерение опасности, у нее другие представления о пространстве (настолько огромном, что способном поглотить целые народы), другие представления о времени (замедленном, требующем терпения), иной, отличающийся от нашего способ смеха, жизни и смерти. Вот почему страны Центральной Европы ощущают, что перемены, которые произошли в их судьбе после 1945 года, были катастрофой не столько политического характера, скорее речь можно было бы вести о нападении на их цивилизацию». Разница в том, что в Галиции это не в 45-м началось, а на шесть веков раньше, и прессингу она подверглась первоначально с запада и лишь много позднее с востока. Поверх политики и этнической истории здесь прошлись еще и цивилизационные жернова. Это то место, где заканчиваются восточные славяне, или точнее, где с ними начинает что-то происходить.
Не верьте этническим идиллиям, они обманчивы и недолговечны. И это всегда области трения, притирания, борьбы тележных колес между собой за право быть ведущим колесом — чтоб «рулить». Но с закатом Галицко-Волынского княжества «рулили» всегда другие — паны из Кракова, Вильна и Варшавы, Вены, Берлина и Москвы, Киева и Ватикана, — боюсь кого-нибудь пропустить. Семь веков назад в зените своего могущества князь Данило Галицкий перешел в католичество, чтоб получить от папы титул короля и тем повысить статус свой и своих земель (по разоренный Киев включительно). Тем не менее княжество не устояло, а выбор князя подал подданным пример прагматизма в конфессиональных вопросах, что три столетия спустя привело их к принятию Брестской Унии и в сумме на шесть веков оторвало от восточнославянского мира, но одновременно способствовало созданию неповторимого, весьма устойчивого и крайне любопытного культурного мира — с химерически причудливой исторической судьбой и в очень специфическом жанре. Сегодня это 4–5 областей с населением в 8–10 млн. человек и размытыми границами — по центральноевропейским меркам целая небольшая страна.
Но не хочется превращать газетные заметки в монографию, слишком мало для этого места, да и сам предмет требует изъяснения в другом жанре — тех же заметок, включающих полевые наблюдения, исторические анекдоты и некоторые рассуждения. Пусть выйдет что-то вроде лоскутного одеяла, больше толку будет.
Хохла не лях придумал, чтоб досадить москалю, как кое-кто думает, а, если на то пошло, иезуиты — и не придумали, а, в своей манере, наломали дров и ускорили процесс. В контрреформаторском запале они «наехали» на православных схизматиков веротерпимой до того Речи Посполитой. Результат известен: Хмельниччина и последовавшая ликвидация Речи Посполитой, ослабленной потерей украинских земель (т. е. Малороссия в составе России, разделы Польши и пр., и пр.). То есть импульс, подтолкнувший украинский этнос к консолидации, шел от перипетий западноевропейской истории, а не с северо-востока.
Поляки, кстати, еще в 1345 году занявшие Львов, любопытным образом прорепетировали решение Петра I: оставив деревянный княжеский город в стороне, свой «Львув» они соорудили в речной низине на болотах. Последствия те же, что позднее в Питере, разве что без наводнений. Тем более, что речку с притоками в начале XX века упрятали под землю. А притоков, источников, подземных озер и плывунов хватает — город без видимой речки, с пустыми большую часть суток водопроводными трубами, сочится влагой и пропитан сыростью, как губка, — по его водоносным холмам пролегает водораздел балтийского и черноморского бассейнов.
Знакомый швейцарец оказался в полном восторге от водопроводного крана в своем гостиничном номере, из которого за целый день ему не удалось извлечь ничего, кроме сипения и сдержанного интеллигентного порыгивания. «Сюрреализм какой-то!» — рассказывал он всем взахлеб.
Слыша от иностранцев в «застойные» годы и позднее восклицания вроде: «Боже, какой красивый город!» — я подозревал их не то чтобы в неискренности, но в чрезмерной экзальтации, что ли. Что-то они пытались объяснить, но только позднее я понял, что то был стон настигавшей их любви. Львов похож на многие центральноевропейские города. Из тех, что видел я, очень похож — иногда до полной иллюзии — на Прагу, Дрезден и Краков (за вычетом имперского измерения, совершенно отсутствующего в его постройках). Но дело совсем не в сходстве. Зачастившие во Львов швейцарцы, и другие, «тащатся», что все это, так напоминающее их городскую среду, — живое, не зализано до полусмерти, как у них. Для них это как путешествие во времени. Конечно, Львов строили итальянцы, не сумевшие пробиться на родине (где уровень задавали Брунеллески, Микелоцци, Браманте, Микельанджело), и местные знаменитости. И что-то похожее — чуть лучше или чуть хуже — есть во многих городах. Но за полтысечелетия, начиная с ренессансной площади Рынок (средневековый Львов выгорел практически весь в 1527 году) трудами многих народов на рельеф посажен был совершенно гениальный городской организм. Этот организм, этот сгусток культуры и истории, этот ноумен, а не феномен, задача, стоящая перед его обитателями, — это и есть город. И когда в ходе пертурбаций двадцатого века его историческая часть все более стала походить на опустившегося аристократа, это только добавляло ему шарма — в духе беспризорной фразы из какого-то бульварного чтива: «По нему было видно, что он знал лучшие времена». (Может оттого, что это был город, в котором был создан весь польский городской фольклор, песенки, анекдоты, персонажи?)
Несмотря на то, что Львов утратил торговое, а соответственно и экономическое значение еще в Польше Пилсудского, уперевшись в непроходимый кордон по Збручу на востоке, поляки сильно горевали, потеряв город в самом начале II мировой войны. Показательна история с крейсером, который англичане намеревались им подарить в конце войны. Польское лондонское правительство очень обрадовалось подарку и заявило, что намерено дать кораблю имя «Львов». Черчиллю дурно сделалось от одной мысли о выражении лица Сталина, когда тот узнает об этом. Поляки же решительно отказались называть его как-либо иначе: или «Львов» — или мы отказываемся от подарка! В результате остались без нового боевого корабля, а после войны и без Львова.
Переселившиеся из Львова поляки осели преимущественно во Вроцлаве (Бреслау), Лодзи и некоторых других городах. В польской традиции давно существовало название территорий, по результатам II мировой войны отошедших восточному соседу — это «кресы» (т. е. «украины», крайние, отдельные, приграничные земли). Стараниями вынужденных переселенцев сложилась богатая и очень продуктивная в культурном — а еще более, художественном — отношении мифология оставленного ими края: «золотого века» местного значения, межвоенной Атлантиды, утраченной молодости etc. Какое досадное разочарование ждало тех из них, кто отваживался десятилетия, а то и полвека спустя проведать места детства или юности. Тяжело было видеть их лица — так опростоволоситься! Огромный процент из них преуспел в символических видах деятельности, вроде искусства, встречались и по-настоящему крупные люди (Лем, например).
Примирение происходит только сейчас, когда переселенцы поумирали или состарились. И когда появился, наконец, третий полноправный участник спора славян между собой на этой территории, разомкнувший и переключивший на себя многовековое и безысходное противостояние Польши и России, а шире и по существу: российского (восточнославянского) и западноевропейского типов цивилизации. Кажется, еще никогда, за исключением незапамятной древности, отношения поляка и украинца не были столь приязненными и уважительными, как сейчас. Причем, это не «дружба против москаля», а некое новое состояние, может, временное, как у спасшихся после бури.
Зато, несомненно, расстроились украинско-русские отношения, и, увы, надежды на скорое их улучшение немного. История обратного хода не имеет. Нужно время.
Преуспели здесь галичане, причем не все, а так называемый «образованный класс» (в массе своей, если быть точным, образованный очень поверхностно). Наибольшей идеологической активностью отличаются профашистски настроенные круги (все же, что показательно, даже в Галиции потерпевшие на недавних выборах сокрушительное поражение, — мелочь, но приятно). Хуже то, что их карикатурной, дремучей и маргинальной идеологии противостоит только врожденный прагматизм и здравый смысл украинцев, которые в ситуации затяжного кризиса не могут являться достаточно действенной вакциной от социального бешенства. (Мечтательность — оборотная сторона прагматизма; и Украина уже много веков сочетает обе эти наклонности в страсти кладоискательства, которое, не исключено, что является базовым украинским мифом, — степняцкая грусть-тоска украинских песен и об этом тоже).
Одна сцена произвела на меня сильное впечатление году в 94. Во Львов приехали израильтяне награждать какими-то знаками отличий («героев вселенной» или что-то в этом роде) и оказать материальную помощь украинцам, укрывавшим евреев в годы войны. Церемония происходила в здании бывшего обкома. Секьюрити ощупывала и прозванивала всех приглашенных, опасаясь возможного теракта. Так вот, из почти сотни прошедших перед глазами лиц награжденных, мне не запомнилось ни одной хотя бы относительно интеллигентной физиономии. Все эти люди, подводившие под расстрел собственные семьи, были людьми самыми простыми — либо от земли, либо жителями бедных фабричных окраин, с руками и фигурами, деформированными нелегким физическим трудом. Непохоже, чтоб они являлись юдофилами, скорее просто соседями. Удивительное существо человек. Вообще, по моему устоявшемуся убеждению, старики, помнящие, как было «за Польши» (а то и при Франце-Иосифе) относятся к числу самых замечательных собеседников в Галиции. И напротив, их дети и внуки поражают одномерностью и грубой примитивностью своего мышления. Но даже развитый интеллект мало способен привести мысли в согласие при относительной скудости жизненного опыта. Кажется, сомнительное родство и паронимический блат чаще позволяют эмпирике проникать в эмпирей и выносить оттуда знание той субстанции, на которой как-то еще держится мир.
Один любопытный момент, отмеченный многими интеллектуалами Средней Европы, вместо переднего края оказавшихся в одночасье в глубоком тылу. С самоликвидацией СССР в их странах спало напряжение и культурная жизнь стремительно маргинализовалась. Т. е. с исчезновением могущественного антипода исчезла и некая санкция духовного свойства, — проявлявшаяся в служении или противостоянии, неважно, — пропали следом зрители, актеры вместе с ощущением морального комфорта утратили также ренту. Многие из них разъехались по свету и пытаются абсорбироваться в другие, более масштабные культуры — кое-кто успешно.
Задним числом некоторые вещи все же поражают: в подвергшейся оккупации социалистической Чехословакии все 70-е и 80-е годы плодотворно работает гений сюрреалистической мультипликации Шванкмайер. В 1982 году на средства венгерского государства Марта Месарош снимает антисталинистский, безысходно мрачный фильм. Примеров подобного рода не счесть в Польше, случались они и в СССР. Ситуация отчасти напоминала проживание на содержании у неприятного тебе человека, вмешивающегося в твои дела и не позволяющего заработать где-то на стороне. Такое положение не могло сохраняться слишком долго. Хотя, как теперь видно, просто настало время других неприятных людей.
Оказавшись мало способными к самодеятельной жизни, сегодня ответственность за это в Галиции тщатся переложить, не брезгуя средствами, на Россию, — что низко, но психологически легкообъяснимо и отчасти исторически мотивировано — кто-то же должен за все заплатить?
Т.е. громогласно отрицаются какие бы то ни было достижения прежней власти в социальной сфере — в бедном регионе, откуда целые села отправлялись за океан, спасаясь от нищеты и обездоленности. Клеймится пакт Риббентропа-Молотова — но при этом на голубом глазу приемлются блага, проистекающие из него для Украины. Русские неизменно представляются патологическими шовинистами и империалистами — но в дни ГКЧП все, включая самых непримиримых, сидят по домам, пока на головы, втянутые в плечи, не сваливается нежданная свобода. Только тогда вымершее было место сходок и митингов в центре Львова заполняется толпой ничуть не смущенных борцов за независимость. Вообще, на какое наследство вправе рассчитывать люди, отказывающиеся платить по нему долги, и какое наследство они сами смогут оставить своим детям?
Психологически это легко объяснимо, поскольку на протяжении семи веков коренное местное население находилось здесь в положении людей более или менее второго сорта, — а это то, чего люди не выносят более всего на свете, за что мстят без разбору, просыпаясь к исторической жизни. Ведь кто-то же запрещал здесь проведение шевченковских вечеров (даже новогоднюю елку в центре города, чтоб не пели колядок!), кто-то загонял униатов в подполье и пр., и пр. — самое обидное, когда к социальному гнету присоединяется еще и этнический. Поэтому, в частности Галиция столь «пассионарный» ныне регион (не считая т. н. «партизанки» военных времен; до того — национально-культурного возрождения конца прошлого — первой трети этого века; а еще ранее — зарождения и оформления в этих землях новой идентичности, выводящейся из полемики с несравненно более образованными иезуитами и затем оплавленной в огне козацких войн). И то, что поляки делали без малого тысячу дет назад, возводя свою родословную к мифологическим предкам, галичане, и шире — украинцы, делают сейчас. Т. е. это диктуется непобедимым желанием становления, и на этом пути их поджидает еще дележ общего исторического наследия с давно оформившейся и могучей российской культурой и цивилизацией, исчерпавшей тем не менее ресурс своей привлекательности для значительной части украинского населения. Россия и социализм как бы высосали соки друг из друга и, наконец, расстались, что явилось залогом общего освобождения от тех невыполнимых обязательств, которые накладывал на всех инфицированных им пресловутый социализм. Как это ни странно, у современного бывшего гедээровца, чеха, словака, украинца и русского присутствует гораздо больше черт сходства друг с другом, чем у того же гедэеровца, скажем, с западным немцем. Режим уравнял между собой несколько поколений, пройдясь поверх этнических различий. Может, это равенство перед ним и сделало распад империи и восточного блока сравнительно безболезненными (ведь, положа руку на сердце, все могло быть гораздо хуже, о чем не хочется даже думать).
Во Львове пятую часть населения составляют русские, большей частью здесь и родившиеся. Вслед за польским консульством во Львове открылось также российское консульство, становящееся по мере ухудшения экономической ситуации все более оживленным местом. Промышленность Галиции, как и везде, который год стоит, мощный научно-производственный потенциал, работавший преимущественно на «оборонку» и космос, растерян. Деятельная политика постепенно перекочевала в Киев. На месте остались и безобразно разрослись малоквалифицированная бюрократия и оголтелая идеология. Какой-то уровень жизни поддерживается (и даже ведется строительство в частном секторе) только благодаря усилиям населения по самоспасению — т. е. промыслу челноков, гастарбайтеров и притесняемых отовсюду мелочных торговцев. Транспортный паралич в миллионном городе временно преодолен при помощи закупки по лизингу турецких «пежо» — юрких желтых микроавтобусиков, на которых население плюется, клянет дороговизну, однако ездит. На узких улицах города можно встретить также несколько совершенно фантастического вида, трясущихся и дымящих, мусоросжигательных машин (на излете советской эпохи мусорные карсты с двумя мусорщиками на облучках сзывали население с ведрами дребезжащими мелодиями популярных песенок — в районе моей мастерской это была «В траве сидел кузнечик…»). Остальной транспортный парк либо находится в последней стадии изношенности, либо уже пребывает в руине.
О характере новоукраинской бюрократии даст представление следующая сценка, повергшая меня весной в изумление. По частоте вывесок на втором месте после «канторов» — пунктов обмена валюты — офисы частных нотариусов. Однако заверенные ими бумаги государственными учреждениями не принимаются, и даже простую выписку из трудовой книжки необходимо заверять в государственных нотариальных конторах, которых по одной на район с двухсоттысячным населением. Ломовые очереди в ободранных, требующих ремонта коридорах, отсутствие информации, стульев и пр., но вот, если повезет, несколько часов спустя ты у заветного стола. — А как же я это сошью?? — озадаченно спрашивает нотариус, вертя в руках листы ксерокопий. И после уговоров, повозмущавшись и посетовав, снисходя, достает из ящика стола ЦЫГАНСКУЮ ИГЛУ И НИТКИ и принимается ШИТЬ, вырезать, клеить, прятать концы ниток, ставить печати. У нее волнуется полный коридор людей, близится конец приема, заразительная людская нервозность наталкивается на профессиональную стервозность, образуя гремучую смесь, — а нотариус доблестно сидит шьет! Сникни, Бисмарк.
Вообще — дивное сочетание пассионарности и пластичности, уже превратившее сегодняшний Львов в самое большое из западноукраинских сел. Гипертрофия чиновничества — лишь свидетельство беспомощности властей и несамодеятельности населения, элементарной неспособности людей договариваться друг с другом. Недавно налоговой инспекции было передано циклопическое недостроенное и законсервированное (а фактически выпотрошенное и разграбленное) здание обкома КПУ. В нем можно будет расставить столько столов и посадить за них инспекторов, что они могли бы собирать налоги еще и с нескольких соседних областей.
Но хотя бы заселяют, хотя бы разрушаться не будет, как то принято среди оставленных людьми зданий.
Наконец снесены два выгоревших классицистских дома на центральной площади города, своим видом все 90-е годы отпугивавшие даже самых рискованных иностранных инвесторов. Место продано под застройку банкам. Львовские реставраторы бились за их восстановление, как львы, с городскими властями, банками и даже сумели выиграть дело в Киевском суде, но сами вряд ли верят, что кто-то бросится исполнять решение суда.
И пусть это прозвучит цинично: снесенные дома все же лучше выгоревших — сделано хоть что-то, пусть начнется, в конце концов, хоть какая-то жизнь. Городские власти много лет уверяли, что никто не желает покупать выгоревшие здания. Нетрудно предположить почему: вчерашний «совок», прослышав, что где-то давали полцарства за коня, норовит и за своего одра на любом базаре выручить не меньше…
Из того, что строится, на первом месте — церкви. В недавнее время в одной только Львовской области находилась десятая часть всех действующих церквей христианского вероисповедания в Советском Союзе. То, что Московская патриархия присовокупила в 1946, то же приблизительно, вынужденно и со скрипом, возвратила в начале 90-х. Здешняя религиозная жизнь имеет сильный крен в обрядовость (что учтено было Ватиканом четыре столетия назад при заключении церковной Унии), и потому легче, чем следовало бы, способна сочетаться с политической и хозяйственной деятельностью. В советское время большинство местных священников — православных, да и католических, — производило впечатление завхозов при храмах. Чаще других вспоминаю одного из них, самборского священника по фамилии Голод, весом центнера в полтора, — славный был человек! Я нелегально изготавливал витражи для его церкви: витражи — жанр католический, церковь православная, до 46-го и теперь снова — греко-католическая, прихожане практически те же — такая вот уния. Совершенно аналогичное впечатление производит нынешний молодняк, набранный отовсюду и спешно рукоположенный в греко-католические священники, чтобы восстановить клир, подвергшийся преследованию и гонениям.
Сегодня никого не удивишь тем, что строится много церквей, но вызывает уважение, когда это делается в разоренных, полунищих регионах. Вспоминаются американки, рыдавшие уже даже в костелах Польши, когда они видели, как переполнены храмы, и КАК люди здесь молятся. Первое время в окраинных микрорайонах сооружались какие-то немыслимые жестяные гаражи и ангары с крестами на них, но, слава богу, время их закончилось. Одумались или усовестились и принялись строить из камня, часто подолгу, не предвидя скорого завершения, проводя богослужения в недостроенных стенах под открытым небом, и это, несомненно, лучше, чем вырастить поколение, привыкшее отправлять культ в уродливых времянках.
Неожиданным следствием экономической разрухи явилось появление огромного количества пишущего люда. Кажется, сегодня стихи с таким серьезным видом пишутся только на Урале и в Прикарпатье — на двух оконечностях Восточно-Европейской равнины (виной ли тому близость гор и геомагнитная активность? В третьих горах — на юге равнины скоро уже лет десять как не пишут, а стреляют — что-то со словами у них, видать, не то). В Ивано-Франковске, например, нередко можно увидеть, как за столиками уличных и дворовых кафе разные люди читают друг другу свои и чужие стихи. В этом Ивано-Франковске, бывшем Станиславе, издается самый радикальный из украинских литературно-художественных журналов «Четвер(г)», отдаленно напоминающий рижский «Родник» конца 80-х (редакторы: Издрик и Андрухович, последний — едва ли не самый перспективный в Украине поэт и прозаик). Был также осуществлен его русский выпуск (от него это «г» в скобках). И это не единственный, выходящий здесь журнал. Похоже, мечта идиотов сбылась. Пооткрывались новые издательства. Во Львове выходит больше изданий, чем при Польше в межвоенные годы. Почивший в этой земле Иван Федоров был бы доволен. Этой осенью пятый раз проводится во Львове крупнейшая украинская международная книжная ярмарка «Форум издателей».
Душа украинского националиста (самими галичанами иронично зовущегося «нацыком») невыносимо скорбит от того, что львиная доля печатной продукции в Украине выходит на русском языке. Даже во Львове издаются русские книги и литературные альманахи (например, роскошно оформленный альманах «Тор» или роман Виктора Сосноры «День зверя», так и не дождавшийся своего издателя в России). Для «новых украинцев» приглашаются выступать бывшие советские знаменитости, никакой попсы — Плисецкая, Гидон Кремер, Константин Райкин с «Превращением» и т. п. Стоимость билетов может доходить до ста американских долларов.
Но на всякого героя, как писал Платонов, есть своя курва, и здесь же, несмотря на прокламируемую открытость и «поведенность» на Европе, лупят с иностранцев те же сто долларов за украинскую визу, несколько больше за номер без горячей воды и существенно больше — за попытку вывезти картинку, купленную у местных живописцев за несколько десятков, в лучшем случае, сотен долларов, в результате чего картинка чаще всего возвращается обескураженным покупателем огорченному живописцу. От чего общее число художников уменьшаться не думает. Существует около десятка «раскрученных», дорогих художников, и много десятков других — живописцев, графиков, керамистов и пр. — как минимум, абсолютно конкурентоспособных на европейском художественном рынке, — но большинство из них так никогда и не дождется «раскрутки», и обречено быть обираемо недальновидными местными и европейскими «жучками».
Помнится, в начале 90-х галицийские прожектеры рассчитывали зажить на доходы от туризма: понастроить в соседних областях 18 четырех- и пятизвездочных отелей — и жить-не тужить. Сегодня об этом стараются не вспоминать, как и о многих других обещаниях. Недавно ICOMOS (Международный совет по охране исторических памятников при ЮНЕСКО) собрался включить Львов в список из 550 городов, являющихся культурно-историческими памятниками. Напрямую денег это не сулит, но повышает статус города, тешит самолюбие и дает иллюзию обрести когда-нибудь, когда рак на горе свистнет, новую судьбу.
Гостей, между тем во Львове не так уж мало, как это ни парадоксально. Кто-то закрепляется на рынке, кто-то ищет способ спрятать здесь от глаз вредное производство, кто-то (и эти всего успешнее) налаживает контрабанду, хотя большинство визитеров находится здесь по другим причинам. Значительную их часть составляют люди так или иначе связанные с Украиной как «страной происхождения»: этнически, исторически, родственными узами. Другая часть — это беспокойные представители европейской интеллигенции, испытывающие трудности с идентификацией у себя на родине, — т. е. люди, чье сознание расколото, представители андерграунда, много космополитической молодежи. Для кого-то из них Львов представляет собой неотработанный покуда материал, для других — анклав близкой и дешевой экзотики, всем остальным сулит приключение: никто ж не работает, все тусуются, двери кафе распахнуты чуть не через каждые десять метров, южное изобилие плодов и плоти, иллюзорная весомость и плотность жизненной ткани, воспринимаемые сквозь призму распада «зловеще красивого» (как выразился один из них), крупного австро-венгерского города, где, чтобы жить, нужно совсем немного денег, настолько немного, что их можно даже не считать.
На таком, приблизительно, фоне забрезжила новая возможная для Львова роль — региональной культурной столицы, вроде Лейпцига…
ПИСЬМО В УКРАИНУ
Нелепо давать какие-либо рекомендации целым культурам, а тем более странам (жизнь которых — наполовину органика). Тем не менее я готов подставиться и пойти на такой риск, потому что те вещи, о которых пойдет речь, представляются мне важными.
Главнейшая из них — «идея Украины» (как и «русская идея», она, несомненно, существует, иначе само существование Украины — ненужный мираж). Газетный формат вынуждает сокращать мысли. Та «русская идея», которую поручено было найти кремлевским умникам, как иголку в стоге сена, условно говоря, есть запах сена. То есть, русским (не этническим «руссакам», а русским) удалось создать отовсюду хулимый и, тем не менее, чрезвычайно привлекательный для самых разных людей образ жизни, стереотип поведения, систему ценностей. Иначе России не было бы уже на карте мира. Украина, то растворявшаяся в России, то максимально с ней расподоблявшаяся (что поочередно воодушевляет и удручает националистов по обе стороны), походит на нее более, чем на какую-либо другую страну. Речь не идет о навязывании пресловутого «братства» (оно — неоспоримый исторический факт, предполагающий даже при самом тесном родстве соперничество, а временами и недоброжелательство в отношениях). За тысячу без малого лет накопились и различия, в том числе этнические (упрощенно говоря, русские заключали браки с чудью и татарскими племенами, а украинцы женились на половчанках, черкешенках и турчанках). Тем не менее, у них имеются общие этнические, исторические и религиозные корни. Украина сегодня почти столь же многонациональная и поликонфессиональная страна, что и Российская Федерация. С той только разницей, что Россия обустраивалась расширением, инкорпорированием земель, цивилизационной экспансией, и в большей степени тяготела к универсализму. Поглотившая печенегов и половцев Украина — более «оседлая» страна (что отмечено было названием Малороссия, то есть — малая родина, место, откуда все произошло, пошло и разошлось), и расстраивалась она, насколько позволяли обстоятельства и соседи, внутрь себя самой. Отсюда эстетизм крестьянских подворий и хат, непередаваемая меланхолия песен и многие другие характерно украинские черты. Возьмем только положительные аспекты различий: вкусу к приволью (волновавшему Гоголя, см. его поэму и исторические лекции) и великодушию россиян отвечает более приватный (обросший положительными коннотациями) и восприимчивый к влиянию западных соседей образ жизни украинцев (при всем их отличии уже от поляков).
Моя простая мысль заключается в том, что Украина сможет осуществиться вполне в мире только как отличный от русского вариант восточнославянской цивилизации, как еще одна попытка и ответ на вызов цивилизаций западноевропейского и магометанского типов. Я прошу читателя поверить, что не преследую политических или геополитических целей, ничего не желаю навязывать украинцам, но я просто не вижу другого смысла существования Украины (на протяжении, скажем, следующей тысячи лет) вне попытки создания образа жизни в Украине не только удовлетворительного для этнических украинцев, но и привлекательного для представителей других народов. Малочисленные народы нередко чересчур озабочены проблемами собственного выживания, что до определенной степени обуживает их существование, делает его эгоистичным. Грандиозные цели преследовал третий рейх, но содержанием их было, увы, гиперболизированное малодушие. Народы, не умеющие отдавать и стремиться к осуществлению универсальных целей, не имеющие сверхзадачи, проходят, процитируем древнерусскую летопись, «аки обры», т. е. не оставив следа.
На этом закончим раздел «литературных мечтаний» и перейдем к практическим рекомендациям. Будем смиренны — их всего две. Первая: найти деньги или грант (объявить подписку среди «новых украинцев») и издать полностью приостановленный в конце 80-х на третьем томе семитомный «Этимологический словарь украинского языка» («Етимологічний словник украінськоі мови», — Киев, «Наукова думка», 1982–89 гг.) — абсолютно гениальное издание, которое не только с энтузиазмом было бы встречено славистами во всем мире, но и являющее собой потрясающее чтение (чтобы читатель почувствовал вкус, пример из редакционного предисловия к первому тому: один из авторов откомментировал следующие слова: «акуш, бавда, баймуд, балбута, балуша, берівний, бига, бирфи, бичованець, бокорван, брандзя, бугер, бугера, вгаладити, вигардить, видзигапка, вицяпкати, вну, вручість, вточи, вшпатити, гавза, гайно, геба, гергавка, голико, гонда, горондейка, грецило». И это никакая не заумь! Со смотра языковых ресурсов можно начинать осмысление, а затем и вдумчивое отстраивание национальной культуры, а не с квазиисторических выдумок и «пропозиций» новоявленных академиков заменить русоязычный (?!) «корень» слова на его «пень» (что само по себе уже достаточно символично).
И второе — учредить украиноязычную литературную неправительственную премию по нескольким номинациям с существенным денежным вознаграждением и начать ее вручать. Кажется что-то в этом направлении уже начинает делаться. Есть, конечно, риск, что и ее попытаются «приватизировать», но игра стоит свеч: рост престижа украинского слова и формирование словесной элиты Украины, которая уже лет через пять будет худо бедно задавать уровень. Из лауреатов последних пяти лет, скажем, может составляться ее жюри (а до и после каждый из них может являться номинатором). Значение ее было бы не больше, но и не меньше, чем всякой премии, — она привлечет внимание читателей к авторам, установит планку не ниже допустимого уровня и станет способствовать вырабатыванию культурного чернозема, миллиметр за миллиметром. Вместо разжигания розни и спекуляций по поводу засилья (т. е. привлекательности для читателя) русского слова. Проблема только в составе первого жюри и номинаторов — и это должен быть волевой акт выбора учредителей. Авторитет премии (чтоб она не стала дурными деньгами) будет зависеть от удачи выбора (отсутствия явных проколов, во всяком случае).
И может еще полпункта. Об относительной демократии в Украине можно будет говорить только, когда на одном из национальных телеканалов появится и станет регулярно выходить передача типа «Куклы». Это не так опасно, как мнится чиновникам, но, покуда такая передача не станет возможной, Украина не сможет почувствовать себя страной вполне свободной в политическом отношении, избавиться от сервилизма в душе перед панами, — какая разница, что на этот раз уже своими собственными. Но, кажется, сегодня Украина дальше от этого, чем когда бы то ни было прежде в недолгой истории своей «незалежности»…
ГАЛИЦИЯ КАК ДЫРКА ОТ БУБЛИКА
Дырка не одной из тех баранок, вязанкой которых был СССР, но дырка более глубокая и непроглядная, уже много веков существующая на теле Европы. И, пожалуй, точнее было бы сравнить ее с оком водоворота. Его блуждающая воронка образуется из завихрений — от трения в этом месте гигантских поворотных кругов цивилизаций, империй и культур. И судьба этого региона — это судьба Унии в самом широком и отчасти символическом смысле: как компромисса и союза разнокачественных величин. Поэтому она не может не быть химеричной — и это основная характеристика любой творческой жизнедеятельности в этом регионе.
Заглянем сначала в «око водоворота», которым являлась Галиция в прошлом, а затем рассмотрим «дырку от бублика», которой представляется она сейчас в связи со стремительной деурбанизацией и прогрессирующей рустикализацией, превращением полиэтничного и поликультурного региона в моноэтничный и монокультурный (процессы эти не сегодня начались — не касаясь средневековой и более поздней пестроты, уже в XX веке отсюда последовательно вымывались в результате исторических катаклизмов австро-венгерская, еврейская, польская, теперь русская и русскоязычная составляющие, и постепенно укреплялась, начиная с середины XIX века, украинская составляющая, — фактически со времени пакта Риббентроп-Молотов ставшая доминантной и уже в постсоветское время окончательно овладевшая галицийскими городами, — но об этом позже).
Сосредоточимся на культурном, неполитическом аспекте. Хотя даже такое сужение темы способно вызвать у любопытствующего исследователя рябь в глазах и головную боль. В любой момент времени Галиция оказывается в зоне интерференции расходящихся из разных мест так называемой Mittel-Europe концентрических кругов — т. е. в равной степени принадлежа восточнославянскому миру и находясь внутри большого круга проблем специфических для народов Средней (по-нашему, Центральной) Европы. Поскольку я не теоретик, вместо аргументов мне хотелось бы прибегнуть к иллюстрациям — и они достаточно красноречивы.
Меттерних утверждал (и не без оснований), что Азия начинается сразу же за оградой его сада в Вене.
Музиль в «Человеке без свойств» писал, что идеи — это такие маленькие, зловредные и очень заразные существа: примерно, «как ехать третьим классом в Галиции и набраться вшей». Галиция привлечена писателем в этом тропе по той же причине третьесортности, по которой эрцгерцогом Фердинандом в качестве козла отпущения выбирался полковник Редль русинского происхождения — как представитель самого бессловесного и маловлиятельного в империи «королевства Галиции и Лодомерии» (то есть Волыни; искаженное «Владимирщины» — от Владимира-Волынского).
Столь запущенный, нищий и пассивный регион, напротив, вдохновлял отца мазохизма, уроженца Львова (и сына Львовского — затем венского — обер-полицмейстера, одного из душителей «весны народов» 1848 года), писателя Захер-Мазоха всячески выпячивать свое галицийское — русинское по матери — происхождение. Не только оттого, что был мазохистом, но и потому что со времен романтизма греки, итальянцы, цыгане, евреи, славяне служили для Западной Европы близлежащей и недорогой экзотикой, с легкостью позволяющей себя мифологизировать. Впрочем, даже такой беспощадный и не приемлющий экзотику писатель как Кафка[18] до самой своей кончины был безоговорочно влюблен в «восточных евреев» — неряшливых галицких и подольских хасидов — и безнадежно искал разгадку их фонтанирующей витальности, противопоставляя ее чопорной выхолощенности «западных евреев», к которым причислял и себя.
Но дело не только во вхождении в контекст и перекличках. Галицийские города — как фабрики цивилизации — сооружены из тех же камней и по тому же плану, что и центрально- и западноевропейские города (не случайно даже украинский классик Иван Франко получает здесь прозвище — по одному из своих стихотворений — Каменяр, то есть «каменотес»). И поэтому в так организованной городской среде (с улочками, парадными, внутренними дворами, скверами, кофейнями, кафельными печами в квартерах и пр.) самозарождаются и самовоспроизводятся те же реакции, эмоции, конфликты, что и в Кракове, Праге, Дрездене и каком-нибудь Оломоуце (по Швейцарию и Северную Италию включительно). Пластически эта среда — со всеми обязательствами, которые она накладывает на человека (вплоть до полного поражения воли), — гениально уловлена и передана рано умершим венгерским кинорежиссером Золтаном Хусариком в фильме «Синдбад» (1971). Я намеренно прибегаю сперва не к словесному, а к пластическому ряду — более наглядному, ощутимому и параллельному ментальному (в котором коренятся глубинные представления и образы, определяющие характер наружной жизни, но которые труднее всего выделить в «чистом» виде).
Когда я смотрю театральную постановку покойного Тадеуша Кантора «Велополе, Велополе…», то, несмотря на то, что пьеса представляет собой смесь сновидения, сеанса гипноза и рассказа о малопольских событиях почти вековой давности, я ощущаю всем естеством, что этот спектакль театра «Крико-2» что-то самое важное говорит и о Галиции и ее судьбе — о формах жизни, чувстве смешного и характере смерти в ней на протяжении последних нескольких столетий, как минимум. То же происходит и с мультфильмами пражанина Яна Шванкмайера. И даже когда смотришь вполглаза этнографический и декоративный фильм Параджанова «Тени забытых предков», невозможно не почувствовать, как со всеми «прибамбасами» реквизита фильм, словно губка, втянул в себя экстракт неподвижной тоски и ущербной красоты этого края, от которых хочется бежать на край света. И бежали — за океан целыми селами. Бегут и сейчас кто может.
Вероятно, речь следовало бы повести о метафизике континентальной провинции и характерной вязкости среды, о физической ощутимости исторического времени, поступающего сюда откуда-то извне и откладывающегося слоями на фасадах зданий, в топонимике, на рельефе местности. Вполне возможно, что-то здесь с гравитацией, что и позволяет говорить о Галиции как об особом мире. Перейдем, однако, к конкретике.
Для Вены и Петербурга-Москвы этот край был далекими окраинами — фактически пограницей. Но и поляки склонны называть его, вкупе с другими утраченными на востоке территориями, «крэсами» — теми же окраинными, крайними землями. С польского взноса в культуру этого региона — в частности, в словесность — и начнем, поскольку он максимален.
Хочу оговориться: я не пишу статью для энциклопедии или обзор — скорее набрасываю эскиз своего понимания культуры Галиции и, в первую очередь, тех ее сторон, которые кажутся мне наиболее ценными или специфическими. И делаю это, основываясь только на собственном опыте и весьма отрывочных познаниях (для меня, тем не менее, необходимых и достаточных). Я не ученый исследователь — я лишь писатель.
Так вот, в польской галицийской словесности, несомненно, самый радикальный художественный проект осуществил писатель и художник Бруно Шульц, которого за последнее десятилетие достаточно хорошо смог узнать русский читатель. Свое происхождение этот доморощенный маг из Дрогобыча вел от запоздалых (в силу провинциальности) постсимволистских декадентов и младопольских маньеристов начала истекшего века (соратниками его являлись такие же «монстры», как он, и мощные обновители польской литературы — Виткацы и Гомбрович). Ныне слава его интернациональна. (Что, кстати, в самой Польше привело к реакции отката, самозащиты культуры перед угрозой очередной диктатуры: все громче звучат голоса, подвергающие сомнению его достижения, а мифотворчество вокруг его имени оценивающие как кич.)
Многие западные и польские ценители всячески превозносят современника Шульца Станислава Винценса, писавшего пантеистическую ритмизованную экзотику в декорациях гуцульских Карпат. На любителя и под настроение — но, по большому счету, место его главного труда — «квартета» «На высокой полонине» — там, где место всякой экзотики, пантеизма и ритмизованной прозы (где место не менее манерных «ужастиков» преподавателя львовской гимназии Стефана Грабиньского, — невзирая на разницу посыла и дарований).
Гораздо интереснее другой экзотический «продукт» — проза умершего десятилетие назад Юлиана Стрыйковского (псевдоним по топониму — от г. Стрый): это его изумительно читающиеся, прошитые хасидскими притчами и байками романы «Остерия» (Кавалерович снял по нему фильм — ничего общего), «Голоса во тьме» и «Черная роза».
И, конечно же, рожденный во Львове Станислав Лем. У него есть книга воспоминаний детства «Высокий замок» — в этом парке на горе Стась систематически прогуливал уроки в математической гимназии. В которой, кстати, преподавал Роман Ингарден — заметный персонаж представленной во всех энциклопедиях неопозитивистской Львовско-Варшавской логической школы, — и это еще один поворот львовской, галицийской темы в польской и мировой культуре (излюбленным местом собраний ее членов была кофейня «Шкоцка» — т. е. «Шотландская» — на ул. Академической, впоследствии многократно переименованная, как и улица, впрочем).
Вообще, тема Львова обкатана представителями утратившего его поколения польской творческой интеллигенции до состояния голыша речной гальки. Дело доходило до казуса — один сравнительно молодой польский эмигрант, в глаза никогда не видевший этого города, вооружившись картами и путеводителями, написал топографически максимально достоверный роман, действие которого разворачивается во Львове, — постмодернистский жест, свидетельствующий о силе и живучести традиции и снижающий ее накал.
Потому, что эта тема и традиция не только имеют травматический генезис (посвященные «любимому городу» стихи в предсмертной книге «Эпилог бури» умершего в 1998 году культового поэта Збигнева Херберта; знаменитое «мотто», которым заканчивается стихотворение Адама Загаевского «Ехать во Львов»: «Львов — везде»; и т. д.), но сделались коллективным «ковчегом», перевозящим утраченную молодость всех поляков, их мечту о рае и опыт апокалипсиса, и все, что только получится на него нагрузить. Но, как ни странно для кого-то это прозвучит, это и есть польский мэйнстрим (от «Пана Тадеуша» Мицкевича — по «Долину Иссы» Милоша): тема отринутого строителями камня, кладущегося во главу угла.
И, наконец, совершенно особое место в польской (а теперь и украинской) культуре занимает львовский городской фольклор, жизнелюбивые песни улиц и кабаре («Только во Львове…» и т. д.). Ему было из чего расти. Не зря здесь прожил всю свою жизнь лучший польский комедиограф Фредро, чьи комедии вот уже полтораста лет не сходят со сцены. В конце Академической на месте «депортированного» памятника ему в советское время высился многометровый щит — образец флористического искусства — выложенная цветочной рассадой физиономия Кобзаря. Ныне это место занято сидящей в кресле фигурой Грушевского, то ли отлитой, то ли вылепленной из какого-то бурого материала, похожего на пластилин. Между тем «старый Фредро» имел, что называется, класс. Существует литературный анекдот — какой эпиграммой ответил он молодым шалунам на сочиненную ими дразнилку (жена Фредро была много моложе него):
Ответ, думаю, также не нуждается в переводе:
Из писателей немецкого языка, вероятно, первым следует упомянуть Захер-Мазоха, как уже говорилось, всячески педалировавшего свое галицийское происхождение (показательно название одной из его книг: «Дон-Жуан из Коломыи»). Литератор, вообще-то, средней руки, он открыл тему и дал свое имя фундаментальнейшей из человеческих перверсий (с легкой руки Крафт-Эбинга) — и потому, несомненно, заслуживает почтительного отношения. (Сад, кстати, немногим более интересный писатель — да и перверсия его попримитивнее).
Затем идут два солдата, воевавших здесь, — один в Первую мировую, другой во Вторую. Это австрийский экспрессионист и визионер Тракль, раненный в бою под Городком (одно из его стихотворений адресовано этому гибельному месту) и покончивший с собой в краковском военном госпитале. Многие считают его великим поэтом. А тридцать лет спустя здесь воевал немец Бёлль — и остался цел. Действие его первой повести «Поезд придет вовремя» разворачивается между пунктами А и С — львовским борделем и линией фронта под Черновцами. Герой повести дезертирует и погибает вместе с прихваченной проституткой в точке В — в автомобиле по дороге на Станислав, забросанном гранатами то ли бандеровцами, то ли советскими партизанами.
В Черновцах, куда так и не попал герой Бёлля, жил в это время молодой Анчел — известный впоследствии как Целан, которого также многие станут считать великим немецкоязычным поэтом (он покончит с собой в Париже в 1970 году, бросившись с моста в Сену). И хотя это уже Буковина, но это все тот же австро-венгерский космос, чей яд, раз попав в организм, уже не выводится из крови (не случайно венгры, бывшие титульной нацией в этой империи, вот уже столетие как чемпионы в области самоубийств, и никакие психиатры или социологи не в состоянии никак объяснить загадку их лидерства).
Воевал также Йозеф Рот, родом из старинного еврейского местечка Броды Львовской области, покуда не был взят в плен Красной Армией. В австрийской литературе он более всех потрудился над тем, чтобы не дать бесследно исчезнуть обширной польско-украинской местечковой еврейской Атлантиде, окончательно поглощенной Второй мировой войной (в год начала которой он поспешил умереть). Трогательный факт — в Бродской средней школе существует музей этого писателя, в который осуществляют паломничество самые горячие из его почитателей (как «шульцоиды» со всего света — в Дрогобыч, к Бруно).
Здесь уместно будет перейти на другую воюющую сторону и вспомнить несомненный шедевр, генетически и враждебно связанный с той же Атлантидой и тем же космосом, — «Конармию» русского еврея Исаака Бабеля. Сама «описанность» полей и городков Волыни и Галиции пером такого класса дорогого стоит. Потому что только любопытствующий зануда станет разыскивать в собраниях сочинений А. Н. Толстого написанную здесь в 1915 году серию его фронтовых очерков и рассказов. Или всплескивать руками, вычитав из мемуаров основоположника «формального метода» в литературоведении и офицера автороты Виктора Шкловского, как холодной зимой того же года в городе Станиславе он порубил и сжег в печке фортепьяно. Как и выискивать следы пребывания на околицах Львова будущих Джозефа Конрада и Мартина Бубера, родителей Аполлинера-Костровицкого в Сокале и Фрейда в Бучаче, фиксировать приезды знаменитостей — от Честертона по Сарояна (очень ядовито, кстати, описавшего щегольски козыряющих на улицах Львова польских подхорунжих и вонь, доносящуюся из зарешеченных стоков канализации).
Русское присутствие в этом регионе не следует ни преувеличивать (влиятельная москвофильская «партия» была выкорчевана здесь под корень австрийцами в самом начале Первой мировой и частью казнена, частью уморена в концлагере Талергоф, — это десятки тысяч человек), ни преуменьшать (первопечатник Федоров тому порукой; Курбский умер и похоронен поблизости, в одном из волынских местечек; Петр любил здесь дебоширить проездом, но финансировал при этом Ставропигийское братство, — много чего было, разного).
Самым загадочным и мистическим произведением на русском языке, как-то связанным с этим регионом, несомненно, является «Страшная месть» Гоголя. Своей неантропоцентричностью она напоминает самые жестокие скандинавские саги и германские мифы: такое впечатление, что Гоголь вслепую и голыми руками шарил в «проводке» коллективного бессознательного своего народа. Ее фабула — это вольтова дуга между помещенным писателем в Карпатских горах царством мертвых (где мертвецы грызут мертвеца и ворочается их общий предок — великий грешник, вызывая землетрясения) и рекой жизни — Днепром («Чуден Днепр…» и т. д.). А сюжет — это спор надчеловеческих сил, играющих на клавишах преступных наклонностей человека, — состязание между олицетворениями природных начал и стихией рода, в котором иноприродная им обоим человеческая душа служит ставкой. Гоголь в глаза не видел Карпат, оттого снабдил их романтическими кручами и пропастями (учась в Нежинском лицее, «Никоша» разве что книжку как-то раз выписал дорогущую из «многолюдного города Лемберга», Львова то есть), но не подлежит сомнению, что все же был отчасти «духовидцем», — не случайно другой одержимый гением художник и его соотечественник, Довженко, начинал путь в искусстве с аналогичных мифологем и видений в кинофильме «Звенигора». Вообще, воображение украинского человека всегда интриговал образ захоронений — будь то клады, кости предков или прорастание зерна в земле.
Было бы также несправедливым не упомянуть Хлебникова, написавшего драматическую сцену «Ночь в Галиции» и завороженного «праязыком» песен и заговоров Червонной Руси.
Больше ни о каких других достижениях в лоне русского языка говорить здесь, увы, не приходится. Может, когда-нибудь еще Виктор Соснора разродится воспоминаниями о своем львовском детстве (его отец был в конце войны комендантом Варшавы, а в послевоенные годы Львова), но пока ничто на это не указывает.
По результатам Второй мировой войны приезжее русское (советское) население унаследовало от поляков городскую среду и поколение спустя научилось худо-бедно поддерживать функционирование этой среды, не доводя ее до окончательного распада. В общекультурном отношении (не считая словесности и гуманитарной области, пребывавших в плачевном состоянии[19]) это были все еще города надежного второго и третьего сорта: немного поискав, можно было найти весьма приличного врача или даже светило в своей области, пиво на львовском пивзаводе варил все тот же технолог (воду из водопровода стали брать только после его смерти в конце 70-х), в ресторанах работали «те еще» официанты, шили «те еще» портные (см. Арсения Тарковского «Портной из Львова»), — в кинотеатре мог играть оркестр Эдди Рознера, шли представления во львовской оперетте (переехавшей к середине 50-х в Одессу) и опере, улицы уже не мылись швабрами, но еще при Брежневе исправно поливались машинами и дворниками, и пр.
По злой иронии материал сам так скомпоновался, что в этом месте изложения приходится переходить к украинской составляющей галицийской культуры и современному состоянию ее словесности.
Именно с украинской Галицией, преданной некогда своим патрициатом, связан второй украинский ренессанс (если первым считать события, пиком которых явилась Хмельниччина — от зарождения полемики с иезуитами до последовавшего отделения большей части Украины от Речи Посполитой). В первую очередь это деятельность чрезвычайно — «по-немецки» — образованного Ивана Франко и ряда связанных с ним литераторов, а также ученых — историков, филологов, этнографов, — объединившихся в конце XIX века в Научное Товарищество им. Шевченко во главе с Грушевским. Они и стали культурными поводырями своего весьма затурканного веками дискриминации и нищего народа.
Нас, впрочем, интересуют в первую очередь литературные достижения, и здесь — культурной пахоты невпроворот, эпигонов тьма, таких же текстов, что захотелось бы и сотню лет спустя читать, — особенно, не-украинцу, — пригоршня. Покойный Андрей Сергеев рассказывал, как сразил его наповал придорожный щит в Черновицкой области, гласивший: «Марко Черемшина — найкращий стилист Буковины!»
Другим стилистом и мастером короткой формы считается Стефаник, — это так и есть, — но читать его социальную селянскую «чернуху» без крайней на то нужды почему-то не хочется. Реализм-с.
Есть удачные тексты о гуцулах Кобылянской (напоминающие брутальный романтизм раннего Горького) и уже упоминавшиеся «Тени забытых предков» Коцюбинского, совсем не галичанина, — мастерски написанная повесть. У Леси Украинки заслуживает внимания фиксация языческого пласта фольклора в «Песне Леса», но, к сожалению, больше в интеллектуальном плане.
И совершенно особняком стоит — по классу дарования, современности звучания и формальному совершенству стихотворений — Богдан-Игорь Антонич, выходец из подкарпатского села, живший и умерший в межвоенном Львове в возрасте 27 лет. Несколько условно-романтический, пантеист по натуре, но при этом также урбанист и поэт высшей пробы.
Он являлся безусловным авторитетом для литераторов задавленного и рассеянного поэтического «поколения 68-го года». Во Львове они группировались вокруг Григория Чубая, умершего в возрасте 33 лет. Из этой компании вышли самый образованный критик современной украинской литературы Микола Рябчук и лучший украинский поэт последних двух десятилетий Олег Лышега (в 2000 году он получил премию американского ПЕН-клуба за лучшую переводную книгу года).
С той поры Львов в литературе «отдыхает». Единственное, пожалуй, что здесь заслуживает внимания без скидок, это проект Тараса Возняка — культурологический, интернациональный и прочее, журнал «I» (с двумя точками — по-русски было бы «Ё» — то есть буква, отсутствующая в других алфавитах). Типографским способом он выходит с середины 90-х (см. www: ji-magazine.lviv.ua).
Конкуренцию ему в отношении долгожительства и уровня может составить только ивано-франковский журнал «Четверг» — этот ориентирован на актуальную литературу. Около «Четверга» оформился так называемый Станиславский феномен (Станислав подвергся переименованию в Ивано-Франковск в 1962 году), все 90-е будировавший литературную и культурную ситуацию в Украине. Это инициатор и главный редактор «Четверга» Юрий Издрик, Юрий Андрухович; Владимир Ешкилев (выпустивший «Малую Украинскую Энциклопедию Актуальной Литературы») и др. Однако, цыплят по осени считают (как и пробуют плоды на вкус)…
Киевляне возмущены деятельностью этой сплоченной группы и из всего «феномена» признают, скрепя сердце, одного Андруховича, еще в конце 80-х составившего себе всеукраинское имя скандальными публичными выступлениями в составе поэтического объединения «Бу-ба-бу» (сокр. от «бурлеск-балаган-буффонада»), а в последнее десятилетие написавшего романы, почитающиеся образцами украинского литературного постмодернизма. Интересующиеся могут обратиться за дополнительной информацией к web-странице «Станиславский феномен» университета штата Индиана: http://php.indiana.edu/~erakhimk/poctry/poetry.html.
Еще об одном факте и имени хочется упомянуть — это очень мало кому известный закарпатский филолог и пародист Павло Чучка, писавший в 70-е годы стихи и басни на умопомрачительном закарпатском диалекте (на который он переложил, в частности, лермонтовское «Бородино») и в начале 90-х издавший книжечку, что называется, «иждивением автора», тут же растерзанную патриотами-земляками в клочья. Войти в литературный контекст шансов у него не было в силу стечения неблагоприятных обстоятельств. (Нечто подобное делалось в те же приблизительно годы только в Киеве — Максимом Добровольским, Лесем Подервянским и др. — на киевском «суржике», в духе живучей травестийно-бурлескной традиции, выводящейся из средневековых студенческих вербальных кощунств и фольклора бурсы, — традиции, преломленной и легализованной в творчестве основоположника современной украинской литературы Ивана Котляревского.)
И все же даже лучшее из того, что пишется сегодняшними галицийскими авторами, это на 99 % культурная, а не творческая работа, поэтому ситуация представляется мне небезнадежной, но обреченной — дыркой от бублика, покуда, на пиру мировой культуры.
Еще и потому, что за рамками этой статьи (как и современной украиноязычной словесности) осталось тектоническое шевеление обнищавшей и одичавшей (или одичавшей и обнищавшей?) страны Украина. Все 90-е она простояла на четвереньках, но ныне ноги ее разъезжаются и вот-вот она окажется лежащей на брюхе. Здравый смысл и терпение иссякают, отказывают цивилизационные табу, происходит неудержимая атомизация общества. Галицийские села залегли, по ночам в них даже собаки не брешут. Единственный город, строго говоря, остался в Украине — это Киев. Но он не сможет всю ее прокормить культурой. Более того, сам он выглядит в ее глазах паразитом.
Где окажутся эти журналы и эти литераторы в ближайшие несколько лет? Даст Бог, поживем — увидим.
ЗАПАДНАЯ УКРАИНА: ИТОГИ 90-Х
Кто я такой, чтобы подводить итоги жизни целого края с населением 8–10 млн. (не считая Закарпатья и Буковины) на протяжении почти десятилетия украинской независимости? Я — русский человек, имеющий также украинские, польские и литовские корни, шесть лет назад оставивший Львов в пользу Москвы. Но это совсем не значит, что я не желаю процветания и свободного культурного развития этому региону, как кто-то может заподозрить. Беда только, что я еще и писатель — то есть свидетель и «градусник», у которого может быть та или иная шкала делений, ртуть или подкрашенный спирт внутри, но который обязан показывать перепады температуры, и если он этого не делает, это негодный градусник — его следует выбросить… и не читать. Как минимум, месяц в году я и сегодня провожу под мышкой Галиции — сказать по совести, не лучшее место на свете. В последний приезд меня здесь едва не «повредили» (на Днестре собирались убить, на Львовском автовокзале обокрали, я забрался в родные горы, но наверху оказалось то же, что внизу, разве что с некоторым отставанием, — и это та «погрешность», которой можно пренебречь). Причем, не как писателя, даже не как русского, а как своего же брата-галичанина, потому что в Галиции (как и большинстве других регионов Украины) дела сегодня обстоят скверно для людей вообще — как таковых.
Этот регион в массе своей всегда был бедным (может, за исключением советского периода) — сегодня он одной ногой переступил уже порог нищеты. Что происходит? Обнищание привело к одичанию? Или одичание к обнищанию? В обществе всегда борются и сосуществуют противоположные тенденции, и все же, несмотря на ряд положительных фактов и изменений, я настаиваю на своем диагнозе. Причем политику я склонен оставить побоку, поскольку в жизни народов и стран имеются вещи более фундаментальные и бесспорные — это уровень гуманитарной и материальной культуры.
Главный сегодняшний недуг — это атомизация общества, ведущая к одичанию людей. Почти поголовное участие в мелочной торговле при отсутствии производства и гастарбайтерство (и его плоды — в виде «капсул» индивидуальной застройки, автономных жилищ, ничем не связанных друг с другом и ничуть не способствующих оживлению местной жизни) — лишь следствия. Причина: нежелание и неспособность хотя бы двух соседей договориться между собой с тем, чтобы начать нечто производить и продавать (не собственную рабочую силу — а какой-то продукт, и не друг другу — а экспортировать хотя бы за пределы региона).
Далее — города с агонизирующей промышленностью и научными учреждениями, оттоком, благодаря прозрачности границ, наиболее энергичных и умелых, интеллектуально и творчески состоятельных людей в более динамичные центры (Киев, Москву) и страны (Канаду и Штаты, Израиль, Германию), такие города не могут не подвергаться деурбанизации. Из-за хронического недостатка энергоресурсов украинские города все более погружаются в темноту (повсюду, кроме столицы, нормой сделалась практика принудительного отключения электричества в целях экономии); городская среда неудержимо дегенерирует — коммунальное и зеленое хозяйство, транспортный парк; параллельно происходит паразитарное разрастание неквалифицированного чиновничества всех уровней и пр. и пр. В условиях Галичины в силу социальных и политических причин этот процесс неизбежно приобретает рустикальный характер: ныне здесь завершается многовековая тяжба села с городом в пользу села — города перестают быть фабриками цивилизации и форсированно превращаются в безобразно расползшиеся села. (Таким образом, отчасти сбывается прогноз Маркса о стирании в будущем граней между городом и селом и умственным и физическим трудом… Еще в середине 90-х годов утверждение, что Львов превратился в самое большое из западноукраинских сел, воспринималось как злой парадокс — сегодня это беззубый трюизм, находящий бесславную кончину на последних полосах местных газет. Произошло это в условиях, когда в силу возраста сошли со сцены остатки старогалицкой городской интеллигенции — очень малочисленной прослойки, но имевшей опыт еще досоветской жизни, нередко дипломы западноевропейских учебных заведений, и служившей недосягаемым образцом и примером для «нового призыва» местной интеллигенции. Сегодня либеральная ее часть и многие чиновники со специфическим извращенным удовольствием повторяют остроту, озвученную с трибуны главой Львовской администрации: «Все мы вышли из села — но село не вышло из нас». Но фокус-то состоит в том, что большинство удовлетворяет именно такое положение дел! И беда не «село», беда — пассивность перед лицом дремучих представлений об устройстве окружающего большого мира, от которой полшага до низости, — когда, например, русского преподавателя оставляют на вузовской кафедре с условием, что даже в личном общении с коллегами он не смеет переходить на родной язык. Недавно введенный львовскими народными депутатами сегрегационный запрет распевать на улицах так называемые «вульгарные иноязычные песни» — лишь логическое следствие прогрессирующего одичания общества.)
С другой стороны, в связи с обнищанием сел, надвигается новая и гораздо более массовая волна криминализации. Любого приезжего поначалу приятно поразит дешевизна городских рынков, но не стоит этому радоваться. В последний приезд я понял, почему маньяк-убийца Оноприенко мог безнаказанно вырезать целые семьи в подольских и галицийских селах: с наступлением ночи никто не выйдет из дому не только помочь — даже посмотреть. Я впервые в жизни встречал села, где собак не слышно. Их население с наступлением темноты залегает до рассвета, как в Темные века. Многие автострады в запустении даже днем — не достает денег на бензин. Спрашивается: что делать более-менее энергичной и безработной молодежи, когда реклама, сменившая на посту идеологию, транслирует по всем каналам теле- и радиовещания три главнейших новых заповеди: «Бери от жизни все» — «Ты достойна лучшего» — и — «Подари себе наслаждение»?
А тем временем власть озабочена только упрочением собственного положения в ситуации, когда у людей начинают отказывать последние табу и цивилизационные запреты. Много ли наберется любителей «экстремального туризма», готовых платить деньги за весьма сомнительное удовольствие посетить глухую (в этом и состоит экзотика) среднеевропейскую провинцию, на что так уповали мечтательные политиканы местных администраций в начале 90-х?
Понятно, что все вышеперечисленное не может не вести ко все большей окраинизации положения Украины в мире (прошу прощения за каламбур) и прискорбному сползанию гигантского, по европейским меркам, народонаселения в направлении исторического ничтожества.
Тем не менее, терпение населения не представляется мне безграничным. Я склонен усматривать в этом действие некого исторически и ментально обусловленного фактора торможения. Грубо говоря, развитие событий в Украине, подталкиваемое исторически активной частью населения, лет на пять отстает от аналогичных событий в России (формирование слоя компрадорской буржуазии, заказные убийства, финансовые «пирамиды», неизбежность конфликта законодательной и президентской власти etc.), на столько же, или более, опережая развитие событий в Беларуси, переживающей ныне в крупных городах стадию «митинговой стихии» в условиях «партократии». Но дело не в аналогиях.
Есть непреложный закон: общество должно функционировать. И если лицемерная и коррумпированная «демократическая» элита, имея в своем распоряжении государственный аппарат, не в состоянии этого обеспечить, значит она будет заменена. Не мытьем, так катаньем — через криминальный беспредел, общественные потрясения и утверждение авторитаризма — в обществе начнет устанавливаться то, что люди называют во все времена «порядком». Вряд ли он будет «просвещенным» (ничто на это не указывает, скорее, наоборот), уж точно не будет коммунистическим (большинство еще слишком хорошо помнит его распределительные прелести и бесславный конец — от Чернобыля до ГКЧП), вот как бы не был он коричневой масти (и позорные проигрыши на выборах 90-х даже в Галиции наиболее одиозных правых кандидатов никого не должны вводить в заблуждение: все перемены в истории, как и в жизни, долго вызревают, но происходят очень быстро — либо не происходят вообще). Или же сама правящая верхушка, спасая себя, мутирует в род хунты. Ну не существует другого способа запустить здесь экономику, как показал опыт! Никакая страна не может не работать слишком долго — иначе ее поделят соседи или гости, и население вздохнет наконец с облегчением. Другой вопрос, достойно ли будет уважения население, не ставшее людьми, и будет ли себя уважать оно само? (Едва сводящие концы с концами рабочие львовской овощной фабрики, после того, как у них побывал украинский президент, рассуждали между собой так: «Ну а что ты ему скажешь?! С работы сразу вылетишь»).
Так гонишь политику в дверь, она возвращается через окно в виде политэкономии. Поэтому обратимся к культуре и попробуем посмотреть на ситуацию с другого ракурса.
Со знанием дела я могу говорить о книгах — этим и займусь.
Область книгоиздания и печати — самая выигрышная для всех постсоветских режимов и стран: что-что, а доступ ко всем видам информации все мы получили в таком объеме, о котором прежде не могли и мечтать. Одно это для людей вроде меня перевешивает покуда все изъяны жизни в новых условиях. Хотя, конечно, это только следствие высвобождения из-под власти «геронтов», возвращения узурпированной дееспособности и поруганного достоинства — большие «мальчики» и «девочки» сами теперь решают, какие книжки им читать и писать.
Из городов нынешней Украины Львов некогда первым освоил гутенбергов станок — не случайно поэтому в нем проводится крупнейшая в стране книготорговая ярмарка «Форум издателей» с международным участием (в сентябре 2000 года состоялась уже 7-я по счету). Парадоксальным является тот факт, что, несмотря на все протекционистские меры, за годы независимости доля украинского печатного слова уменьшилась и как в книжном так и газетно-журнальном бизнесе Украины составляет менее 10 %. Только в Галиции пропорция обратная.
Из львовских издательств следует отметить «Классику», издающую художественную литературу (и единственную самоокупаемую, т. е. существующую не за счет спонсоров и грантов); «Літопис»; религиозно-философское издательство «Свічадо» и краеведческое «Центр Европы» (выпускающее ежемесячный альманах «Галицкая брама» и к прошлогодней ярмарке издавшее самый полный и, возможно, лучший путеводитель по Львову за всю историю города). А вот издательские дома «Просвіта» и «Галицкие контракты» перебрались в Киев.
Вообще, миграция в столицу — серьезный фактор истощения местного культурного слоя (несмотря на историческую нелюбовь этих двух городов друг к другу по причине их разноприродности и соперничества в культуре). Неохотно, скрепя сердце, но переезжают. Бывшие редакторы самой острой и амбициозной львовской газеты 90-х «Post-поступ» издают сегодня в Киеве самый читаемый украинский иллюстрированный журнал «ПіК»(«Политика и культура»). Художник-график Игорь Подольчак, до середины 90-х безуспешно пытавшийся сделать что-то для превращения Львова в одну из европейских графических и артистических столиц, — международные выставки «Інтердрук»; основанный им фонд им. Захер-Мазоха (в городской администрации на его обращения реагировали так: «Они добиваются, чтоб украинцы не только мучились, но еще и кайф от этого ловили!»), — сегодня также в Киеве. А вот его старший коллега, известный график Юрий Чарышников, еще на пороге 90-х, не мешкая, отправился в другое полушарие, чтоб заняться собственной карьерой. Город за последнее десятилетие покинули так многие, что даже верится с трудом. Еще столько же поумирало от перемены жизненных обстоятельств. В какой-то из приездов я был ошарашен, сколько «охромело» в одночасье в городе мужчин среднего и чуть старше возраста, — передвигаются с палочкой, что читается: «Я увечный, больной, не обижайте меня, уступите место…» В поисках заработка сегодня лучшие львовские художники во главе с Любомиром Медвидем вот уже год по демпинговым расценкам расписывают церковь в канадской Оттаве, лучшие реставраторы заняты возведением дворцов для новых русских в Подмосковье, «патриарх» львовского витража Анатолий Чобитько оформляет резиденции татарских нефтебаронов в Киеве и Крыму. На месте работы недостает даже для контролирующих Львов бандитов. (Характерная деталь: во всех обменных пунктах миллионного почти города выдерживается единый — с точностью до копейки! — и заниженный по сравнению с другими регионами курс доллара. Причем валюту в них давно уже только покупают, но не продают.)
Сюда же чаще всего наезжают в последние годы либо зарубежные интеллектуальные и художественные маргиналы для осуществления совместных проектов на западные гранты, либо какая-нибудь очередная телегруппа, намеревающаяся поразвлечь-попугать свою публику съемками выразительных персонажей местного андерграунда. (И в этом есть резон: чем поразил так воображение западных арткритиков и галеристов Илья Кабаков, чуть не все 90-е лидирующий в мировых художнических рейтингах? Эстетикой советской коммунальной квартиры и быта.)
Есть, тем не менее, один осуществленный во Львове культурный проект, который развивается вопреки и назло обстоятельствам. Это выросший из самиздата культурологический и социально-политический журнал «ï», несомненно, самое просвещенное, острое и любопытное из львовских изданий, не имеющее аналогов не только в Украине, но и в России. Посвящен он центрально-европейской и новоевропейской проблематике (его главный редактор — переводчик, философ и политолог Тарас Возняк — по совместительству выполняет в городской администрации функции своего рода «министра иностранных дел Галиции»), журнал интернационален и многоязычен, дискуссионен, не избегает самых болезненных тем и весьма оригинален в полиграфическом отношении (прикладные искусства — «конек» Галиции, художественные вузы издавна имеют здесь утилитарный крен). Что еще немаловажно, журнал сделал модной в среде учащейся молодежи профессию переводчика с европейских языков философской и художественной литературы.
Общество, создавшееся вокруг этого журнала, проводит ежегодно одну-две международные конференции, а каждые две недели — семинары, собирающие молодую гуманитарную элиту города (чаще всего либо уже «присосавшуюся» к зарубежным фондам и грантам, либо стремящуюся к этому. Журнал, кстати, ныне также выходит благодаря финансовой поддержке немецкого фонда Г. Бёлля — такова проза жизни).
Вообще, семинары — популярная сегодня в городе форма интеллектуальной жизни, накладывающая до определенной степени отпечаток и на общественную жизнь. Экуменические семинары проводят во Львовской Богословской Академии — дрогобычский правозащитник Мирослав Маринович, прошедший богословское обучение в США, и в Католическом университете — американец Борис Гудзяк. Политологический «Демократический семинар» ведет во Львовском государственном университете профессор Ярослав Грицак.
Кстати, в этом последнем учебном заведении, оплоте советского и постсоветского мракобесия, казавшемся нереформируемым в принципе, в связи со сменой поколений происходят все же некоторые позитивные перемены. Немалая в том заслуга занявшей должность проректора Марии Зубрицкой — сильно «вестернизованного» филолога, перед тем поработавшего в Краковском и Пенсильванском университетах.
Но довольно Львова, пора садиться в поезд и отправляться в Ивано-Франковск — по аварийной железной дороге, в разбитых, немытых вагонах, глазея по пути на «пряничные домики» свежеотремонтированных станций, приятных глазу начальства (да и на строительстве руки всегда можно нагреть; а поезда — мне уже встречались плацкартные вагоны ночного поезда «Львов-Черновцы» со снятыми боковыми полками и сорванными дверями туалетов — ни с чем не сравнимое чувство).
Ивано-Франковский вокзал был аврально подновлен и вылизан к предвыборному визиту президента Кучмы год назад (при том, что все 90-е годы большую часть составов львовского направления пускают кружным путем через Стрый в связи с катастрофическим состоянием железнодорожного полотна). Президент, естественно, прилетел самолетом.
Все же в первую очередь нас интересует гуманитарная культура — и, надо сказать, в Ивано-Франковске, сравнительно с прежними временами, она завелась. Небольшая, но своя. В литературе же оставившая далеко в арьергарде не только Львов, но, в некотором отношении, и Киев. Несколько обитающих здесь и пишущих людей объединились, начертали на своем знамени слова «Постмодернизм» и «Центральная Европа», построились «свиньей», как тевтоны, и проложили себе в рыхлом корпусе украинской словесности путь к широким слоям читающей публики. Так возник эксцентричный (в силу окраинного положения) и преимущественно литературный «Станиславский феномен» (г. Станислав был «переукраинен» в Ивано-Франковск к своему 300-летию в 1962 году), существенно ожививший ситуацию в украинской культуре и привлекший к себе внимание также в Польше, отчасти в России, но более всего в среде западных славистов. Из деятелей этой группы более других известен писатель Юрий Андрухович, начавший печататься еще в советское время, а затем снискавший себе громкую популярность скандализирующими публику выступлениями в составе им же сколоченной станиславско-львовско-киевской поэтической группы «Бу-ба-бу». В 90-е годы им было написано три романа (конструктивным принципом которых является закольцованная, как у Бродского, мысль и фраза, бесконечно вегетирующая, но возвращающаяся к собственному началу и упокаивающаяся в тавтологии), признанные критикой и читающей публикой образцами украинского постмодернизма. Но инициатором и мотором «Станиславского феномена» явился бывший инженер из Калуша Юрий Издрик, затеявший в начале 90-х и ставший издавать в Ивано-Франковске журнал-альманах «Четверг» — «феномен», собственно, и смог оформиться только с возникновением этого печатного органа. За прошедшие годы сам Издрик выписался в очень интересного прозаика, растеряв по пути значительную часть маргинальных привычек и оперения и войдя в самый нерв собственных галицийских страхов, что и делает его самым, на мой взгляд, глубоким из авторов этого объединения или школы (он единственный не орнаментирует, не риторствует, не идеологизирует, но посредством письма ищет смысл и «не боится бояться», — хотя в длинном перечне разнообразных страхов из его последнего романа я не обнаружил главного галицийского ужаса — боязни сквозняков).
Никакая школа, конечно, не полна без теоретического обеспечения. Эту задачу взял на себя примкнувший к двум первым Владимир Ешкилев — автор и редактор неудобочитаемого альманаха «Плерома» и, напротив, составитель и редактор очень удачной, ценной, полезной и роскошно изданной местным издательством «Лилея-НВ» «Малой Украинской Энциклопедии Актуальной Литературы».
Вообще, в этом городе (возможно, в силу скудости внешней жизни — так иногда бывает) отчетливо ощущается артистическое брожение. Еще в 1989 году здесь состоялась первая весьма представительная международная художественная выставка «Імпреза» («Представление»), с некоторыми перебоями проводящаяся поныне. Ее организаторы собираются открыть в городе музей современного искусства — в здании бывшего кинотеатра, звавшегося в 30-е годы «Тон», а в советское время им. Ивана Франко (…как нетрудно догадаться; хотя писатель-патрон, давший по воле советских властей свое имя городу, если и бывал в нем, то только проездом в Карпаты на лечение).
Как повсюду в Галиции, упор в искусстве здесь делается на техничность, технологичность, материалоемкость произведения, на более или менее прикладные жанры — офорты и литографию, гобелены, керамику. В живописи тоже, и это неплохо (хоть может и не хорошо). Чрезвычайным перфекционизмом, в частности, отличается живопись художников, примыкающих к группе литераторов «Станиславской школы», Владимира Гуменного (Гран-при в Сеуле, персональные выставки в Канаде, Германии, Испании) и Владимира Чернявского. Оба, кстати, отмечены в 2000 году главными призами Римской Академии современного искусства за графические работы и приняты в ее члены.
Можно сказать, что как город Ивано-Франковск впервые вышел из тени Львова и выглядит даже выигрышно на его фоне (может, потому что ему особенно неоткуда было падать).
И должен признать, что (не взирая на все умолчанное и выведенное за скобки) в таком ракурсе ситуация не выглядит столь безотрадной.
Вопрос только в том, что «первичнее» — сознание или материя? И СЕЛО, приходящее ныне в этнических одеждах, поглотит и рассосет ГОРОД, или ГОРОД переработает понемногу СЕЛО? Можно не сомневаться, что произойдет и то и другое, — но не сразу. Не все смогут увидеть результат.
СЕСТРА УКРАИНА. ПАМЯТКА ИЛИ ВОКАБУЛЯРИЙ
А — скульптора Архипенко изваяния (до Арпа, Брынкуша и др., см. «Г»).
Б — борщ — самое знойное блюдо и гордость украинского обеда, чьему месту на славянском столе соответствуют только русские «полные» щи и польский бигос; композитор Бортнянский, западноевропейские жанры и церковное хоровое пение a capella (см. «П»); Булгаков Михаил, воспевший Киев как универсальный Город, но описавший Украину как страну без искупления (см. «В», «К» и «У»).
В — Владимир, великий князь, креститель Киевской Руси (см. «К», также в предпоследнем абзаце «Белой гвардии» Булгакова: «Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла — слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч». Похожий памятник, превзошедший своими размерами все окрест, действительно был поставлен на том же речном берегу шестьдесят лет спустя); Веревка — хор, имени.
Г — Гоголь (чей день рождения по новому стилю совпал с днем дурака, 1 апреля); «гаканье» — характерная черта произношения некоторых генеральных секретарей в советское время (звонкое «г», наряду с глухим, смогло вернуться в украинскую речь только после роспуска СССР); Галиция (миф не одной империи; горы Карпаты — противоположный Уралу борт Великой Восточно-Европейской равнины, соединенный, как уверяют геологи, сейсмоканалом с разломом, на краю которого выросла Москва); Голота, козак (жанр — «дума», правда переживания свидетельствует о реальном существовании); гончарство (горшок как разделительная черта двух пустот — внешней и внутренней, см. «А»); гопак — национальный танец, отражающий представление о силовом характере устройства универсума; гуцулы и верховинцы — горцы (так же как бойки и лэмки на северо-западе), но пришлые, возможно, готского происхождения, исповедуют православие.
Д — Сашко Довженко (см. «К»), Дзига (юла, волчок, — укр.) Вертов (сюда же отнести образцовые кинообразы — эйзенштейнову Потемкинскую лестницу и Гуцульщину Параджанова, см. «О» и «Г»); реки Днестр, Днепр, Десна, Донец, Дон, Дунай, Двина — реакция языка племен, говоривших при виде большой проточной воды: «— Д-нн!» (приблизительно: «Как бы на дно не пойти!..» Кстати, ж/д станция Дно — место отречения от престола последнего российского императора, каламбур истории); футбольная команда «Динамо» (Киев) как символ, миф и точка приложения страстей.
Ж — Жванецкий (предки из местечка Жванец Хмельницкой обл.), без комментариев (см. «О»).
З — замки Украины (ср. европейские «шато», наподобие Хотина и др., с русскими «кремлями»); запорожцы — «лыцари» (по Гоголю), центр — Сечь (на о. Хортица в нижнем течении Днепра), не путать с советскими социалистическими «фольксвагенами», т. н. «запорожцами», производившимися позднее неподалеку малолитражными автомобилями, в дополнение к популярным в народе «москвичам», позднее «жигулям», и горьковской «Волге» — этому «мерседесу Востока» (представительским автомобилем для самых важных официальных лиц служила «Чайка», сменившая в свою очередь «ЗиМ»).
К — Киев, главная улица — Крещатик (в романе «Белая гвардия»: «Как многоярусные соты, дымился и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома» и т. д.; см. «Б»); исторически — самая южная из русских, в широком смысле (сегодня корректнее — восточнославянских), столиц, с которой и пошло пресловутое «осеверянивание византинизма» (ср. о конфигурации столиц в весьма спорном тексте «Школе Юга»: «И между ними полоумная — но и полумирная — Москва, как вершина поставленного на попа равнобедренного треугольника, один угол в основании которого греется, а другой стынет»); здесь киевский студент-китаец неожиданно хватает вас за шиворот, прижимает лицом к вагонному окну и, кося по-китайски, говорит застенчиво: «Глядите какой красивый город!» — пока поезд медленно и долго, будто гусеница-плодожерка, переползает по мосту через Днепр; также кладоискательство как базовый украинский миф (захоронения в курганах, к/ф «Звенигора» Довженко — аналог вагнеровского «Кольца Нибелунгов», см. «Д» и «Ш»); Канада — весьма обширное и благополучное место в западном полушарии, благодаря которому украинство имеет теоретическую возможность отстраненного взгляда на самое себя; Кацапия — Россия (Гоголь, в письмах), в восточном полушарии; кобзари (бандуристы) и лирники — слепые, как правило, рапсоды.
Л — Львов — целиком каменный город западноевропейского типа (просачивание вместе с обработанным камнем и некоторых нетипичных представлений в менталитет восточного славянства); лис — тотемический зверь западных областей Украины («Лис-Микита» Ивана Франко, ср. Рейнеке-лис, братец Лис).
М — Мамай (однофамилец), козак («пьет горилку, играет на кобзе, подвесил за ноги жида, на что копь его поглядывает с удивлением» — надпись на народной картинке, см. «Н»); Захер-Мазох (наполовину русин, сын обер-полицмейстера г. Львова, душителя революции 1848 г.), чье имя с легкой руки Крафт-Эбинга синонимизировалось с фундаментальнейшей из перверсий; батько Махно — практик анархизма и военный тактик (ему приписывается идея применения в бою тачанок с пулеметами); москаль («спи, дитятко, не то москаль прийдет»).
Н — украинская ночь (ее отражение в русском искусстве: Пушкин, Гоголь, Куинджи); народное творчество (от промыслов и живописи — по мелос и сказания в таком приблизительно духе; «Каменни баби — то люды колысь булы. Ихъ звалы велыкдонами, а инчи веленями. Це, кажуть, бувъ превелыкый народ и жыв винъ до создания сонця. Якъ пославъ Господь сонце, сталы велыкдоны выходыть на могылы, сталы плювать на его. Господь розгнивався и прокляв ихъ. Съ того часу воны зменьшалысь и покамьянилы. У насъ цихъ бабъ не дуже богато, а найбильше ихъ въ Таврии: в Васылевци, Янчекраци и инчихъ слободахъ. Тамъ нымы пидпырають тыны, та ставлять на воротяхъ (т. е. заборы-плетни подпирают в селах Мелитопольского уезда, прим. И.К.)». Записано Я. Новицким 113 лет назад.
О — портовый город Одесса (см. «Ж» и «Д»); одесская литературная школа; Пушкин А.С. (по-украински О.С.) как одессит.
П — украинское пение и певчие (в т. ч. их роль в российской истории, благодаря прохождению через постели императриц), тенор Соловьяненко; Полтавщина (Гоголь), также Полтавская битва (Петр, Карл, Мазепа; А. С. Пушкин); Поле (половцы и печенеги, растворившиеся в украинстве, как и всевозможные «черкесы» — откуда происходит название г. Черкассы; кн. Игоря, кстати, пленили и содержали в половецкой шатровой столице на месте теперешнего г. Славянск Донецкой обл.).
С — сало как один из важнейших из атрибутов «украинскости» (как блин — «русскости», а колбаса — «советскости»); Симиренко — плодовод, селекционировавший морозоустойчивый и поддающийся длительному хранению сорт яблок (по одному из преданий, повешен махновцами как раз за недовольство плодами Божьего творения, см. «М»); «скифские бабы» — легли в основу пластических представлений украинцев и отчасти определили их осязательный характер (см. «А» и «Г»); Сковорода Григорий — философ-ходок, пытавшийся на ходу совокупить пантеизм (ср. — «X», хасидизм) с христианским морализмом, также автор музыки и текстов; степи Украины (нарицательн.); сыноубийство (вероотступников, Бульба, Гонта; ср. — Грозный и Петр в России).
Т — Таврида, Таврия, Крым — повисший на ниточке перешейка и круто обрывающийся над морем полуостров со следами греческой античности, мусульманской цивилизации (ср. исп. Кордова), российской воинской славы, некоторых выдумок Серебряного века (Киммерия, т. н. амбивалент.; Новый Свет — производство «шампанского», удач.), — обильно уснащен реликтами советской курортной Ривьеры; тро(й)исти музЫки — классическое трио народной музыки, как правило: скрыпка или сопилка, цимбалы (струнно-молоточковые) и бубен или тулумбас (см. «Н»).
У — «страна с названьем У» (А. Парщиков), Украина, часть (так земли будущей Московии звались Залесской Украиной; гг. Галич, Перемышль и пр. во владимирских и костромских землях).
Ф — Иван Федоров, книгоиздатель, создатель первых кириллических типографий в Москве, Львове и Остроге, антагонист обскурантов и переписчиков-протолуддитов. На востоке Украины нередко «ф»=«хв» («фост, фатит = хвост, хватит», и наоборот: «хвакт, микрохвои»).
X — хасидизм — мистическое и поначалу весьма жизнерадостное ответвление иудаизма, пантеистически окрашенное (основатель — Баал-Шем-тов, иначе Бешт, XVIII век, Подолия); Хмельницкий — гетман, сумевший на непродолжительное время превратить булаву в скипетр и взявший ответственность на себя за выбор союзника и исторического пути (политологи жарко спорят: к кому хвостом повернута его конная статуя на Софийской площади в Киеве, и на какую часть света указывает гетманская булава?); христианство, крещение (см. «В» и «К»); хутор, хуторянство.
Ч — Чернобыль — по распространенному убеждению, предсказанная в библии за две тысячи лет «звезда Полынь»; г. Чернов(и)цы (Буковина — перемешивание на околицах славянского и романского миров), поэт Пауль Целан (Анчел), покончивший с собой в Париже в 1970 году; украинские черноземы (к/ф «Земля» и «Звенигора» Довженко, см. «Д» и «К», кладоискательство); чумаки — возницы, отправлявшиеся на волах в Крым и на Дон, чтоб обменять зерно на соль и соленую рыбу (перед дорогой смолили одежду или пропитывали ее дегтем, чтоб не подцепить в пути чуму или другую какую холеру, страшно ведь: вот родная земля опустилась уже и скрылась за чертой горизонта!.. Отсюда — Чумацкий шлях, Млечный Путь).
Ш — Шевченко, гений украинского народа, замечательный художник, сентиментальный и жестокий поэт — певец мести и народного бунта, «бессмысленного и беспощадного», и одновременно автор пасторалей и задушевных песен (см. «Н»); был выкуплен товарищами из одной неволи, чтоб быть вскоре сосланным в другую, на берега внутренних морей империи с запретом писать и рисовать; как и Бальзак, умер престарелым молодоженом (практически в день своего 47-летия, не прожив и лишнего дня); удачно выбранное место захоронения на высоком берегу Днепра, в некотором отдалении от Киева, окончательно закрепилоло за ним статус учредителя Украины, ее хранителя и заступника (см. «К», кладоискательство); Шульц Брунон — отчасти также украинский писатель, писавший по-польски, жертва Холокоста (г. Дрогобыч в Галиции); мировоззренчески и стилистически — средостение между Кафкой и Бабелем («Конармия» — Галиция и Волынь, «Одесские рассказы», см. «О»; очень близок также — Юлиан Стрыйковский, «Остерия» и др.).
Я — янычары, то же что запорожцы-сечевики, только с Аллахом, обрезанием и султанатом вместо гетмана, горилки и Святой Троицы.
ЗАМЕТКИ О НЕМЕЦКОМ БЕРЛИНЕ
Желание сравнивать — одно из самых сильных искушений. И частично оно оправдано. Есть динамика мировых культурных столиц — городов, где интересно, куда все стремятся, где смешивается все со всем, и где зарождаются, высказываются и проходят обкатку некие новые творческие идеи — как правило, художественные, — распространяющиеся затем отсюда по всему миру. Такими были Париж — артистическая столица (и все это запомнили), и интеллектуальная, куда более «нелегальная» столица — Вена. После первой мировой войны самые радикальные идеи, в том числе, художественные, стали исходить из Москвы и Берлина. Тоталитарные режимы — там и там — положили этому конец, принеся культуру своих стран в жертву имперской политике. Со второй мировой войны и поныне, полстолетия, диктовал вкусы, стереотипы поведения и порождал все новые художественные направления и моды Нью-Йорк — в чем-то также очень имперский город. В результате перемен произошедших в Европе вновь воспрянули и оживились Москва и Берлин. В них происходит ныне специфическое культурное брожение, которое может иметь последствия. Так мерещилось… Сейчас, при всем желании, я не смог бы сравнить Берлин с Москвой. Возможно, это вопрос будущего. Уместно сравнивать с тем, что знаешь, и все тот же бес подмывает меня теперь сравнить Берлин с… Киевом.
В первую очередь — масштаб: по три с половиной миллиона жителей, шестиэтажная застройка центра, темп жизни, характер городской среды и метро, акватория и обилие парков (район Ванзее и Павлиньего острова порой неотличим от киевского Гидропарка), умеренность климата. Разве что придется исключить наличие рельефа, потому что в Берлине горбик высотой в десять-пятнадцать метров уже считается возвышенностью и располагает смотровой площадкой. Это два «недобольших» амбициозных города, разбежавшихся быть совсем большими, но пока ими не ставшие. К тому ж они стали столицами НОВЫХ, в определенном смысле, государств (говоря точнее, призваны играть новую — хорошо забытую старую — роль в своих странах, травмированных по-разному Историей). В них нет того запредельного лихорадочного темпа, что свойствен Москве, — темпа мегаполиса, метрополии, — имперского, по существу. Хотя кое-что в них уже начинает происходить. В них начинают стекаться ДЕНЬГИ. Однако размеренная степенность жизни, по-прежнему, придает особый окрас культуре, развивающейся в этих городах. Зоны сумасшествия наличествуют и в том и в другом городе, но если в Киеве художественное и артистическое безумие южного происхождения широкой волной растекается непредсказуемо по всему городу, то в упорядоченном Берлине его «сумасшествие» четко локализовано географически — на его востоке. Восточным берлинцам, после эйфории братания и недолговечной иллюзии немедленно их «цивилизовать», кто-то сумел внушить, что они все же не люди второго сорта, а артисты — художники, поэты, панки, наркоманы. И восточный Берлин, — во всяком случае, его центральная часть, Пренцлауэрберг, — сделался неожиданно самой большой артзоной Европы. Как когда-то Монмартр, как нью-йоркский Сохо. Это оказалась лежащая под самым боком самая дешевая, сердитая и запущенная зона экзотики, куда вскоре принялась перебираться в отремонтированное жилье наиболее экстравагантная и состоятельная часть западноберлинской богемы — из своего регламентированного пластикового капиталистического рая. Ремонт растянется не на одно десятилетие. Разбитые тротуары, выселенные кварталы, а в Потсдаме под Берлином — целые улицы и районы. Котлованы, — как на Потсдамер-плац, на бывшей границе двух Берлинов, где расположилась крупнейшая в Европе стройка. Территория куплена на корню «Даймлер-Бенцом». Вырыта яма до горизонта, по дну ее ходят поезда, и перейти на другой ее берег можно, только нарушив все правила уличного движения, спустя полчаса-час, — это как повезет. А под остатками СТЕНЫ по соседству заблокированная в годы холодной войны станция подземки — облупленный бетонно-дощатый бункер, сочится вода, длиннющие коридоры, — лучше на этой станции не делать пересадку.
(Месту этому на карте Киева зеркально соответствует мистическая и магическая Поскотина над Подолом: выемке — горб, размаху строительства — загадочная и фатальная невозможность вообще что-либо построить на этом месте, его утилизовать.)
Бродя по Пренцлауэрбергу (берлинцы и живут не в Берлине, а в Пренцлауэрберге, Шарлоттенбурге, Цилендорфе и т. д.), вы обязательно наткнетесь вблизи уцелевшей охраняемой синагоги на кафе «Пастернак», где русская только вывеска. Или на заселенную водонапорную башню в сквере напротив, где комнаты в квартирах треуглы, как при нарезке круглого торта. Или на приземлившуюся посреди закрывшегося пивзавода художественную галерею, что, словно инопланетный корабль, где все выполнено по западным стандартам, — светится в сумерках. Внутри выставка художницы, придумавшей меховый чайный прибор. На этот раз это была полная пивная кружка с пенопластовой пеной и беличьим хвостом вместо ручки, — сама художница давно уже умерла. И другие выставки — в каких-то гаражах, поставленных на капремонт домах, квартирах. Театральные труппы в подвалах. Ночные пивные и кафе с раздвижными стенками, выплескивающие на тротуар не уместившихся в них «пиворезов» с хмельными кружками и притягивающие в ночи на огонек свирепо-добродушный, в меру интеллигентный сброд.
Один писатель, приехавший в Берлин из русской провинции, в один из первых дней поинтересовался, можно ли здесь получить «по мусалам», и очень воодушевился и ожил, когда узнал, что нельзя. И, действительно, за три месяца проживания в Западном Берлине ни разу не получил. Правда, другая писательница все же получила. Правда, от своих. За то, что назвала их чужими.
Здесь действует некий запрет западногерманского происхождения — запрет на спонтанность (понятно, почему), допускающий только «комнатные» ее формы и делающий уныло неинтересным немецкое ТВ. За исключением канала, передающего часами, скажем, океанский прибой на пустынном пляже. Это может быть также поездка на автомобиле из города в город — фильм для обездвиженных. Крайне редко можно увидеть на экране проявление агрессии — например, палящего из пулемета в никуда писателя Лимонова, которому разрешил пострелять поэт Караджич. Немцы показывали эту сцену так долго, покуда у Лимонова не кончились патроны. Между тем западная гуманитарная культура все чаще склонна переходить на птичий язык: «да и нет не говорить, черное и белое не называть…». Так еще один писатель, никогда прежде с этим не сталкивавшийся, именно в Западном Берлине впервые в своей жизни подвергся политической цензуре. Редактор потребовала от него убрать из текста или заменить выражение «перуанские карлики, поющие на улицах». Имелись в виду живописные, азартные и чуточку потешные хороводы музыкантов в пончо, забавляющие народ на центральных площадях всех крупных европейских городов (говорят их видели уже и в Москве на Тверской). Никакие ссылки на слэнг, авторское право и прочие доводы не действовали. Призрак расизма витал над текстом. Писателю объясняли, что обидятся не перуанцы — на то, что они маленькие, в чем они не виноваты, — обидятся белые рослые немцы и немки, за перуанцев, что значительно хуже. Пока писатель не взорвался:
— А чем провинились карлики?! — вскричал он. — Что ж с ними и сравнить уже никого нельзя?? Я за «меньшинство» карликов!
И неожиданно… это подействовало. Фразу оставили.
Но то немцы западные. Восточные немцы, в отличие от них, не обременены «комплексом исторической вины», поскольку волею судеб оказались в стане победителей. И большей их части ныне кажется, что им недостает только близости к источникам капитала. А пока что утверждают, здесь даже профессура моется в тазиках, используя затем воду для слива.
Западные (тепличные, отчасти) берлинцы сами, строго говоря, не являются вполне западными немцами. Их как бы держали для представительства, и значительную часть средств они получали благодаря федеральным вливаниям. Два разделенных стеной фасада, два фронтона с подпорками — вот что в значительной степени представлял из себя Берлин всю вторую половину века. И что поражает на самом деле — это проникающая сила режима, стирающая этнические границы. Открытие это примитивно, но оно ошеломляет. У всех обитателей стран восточного блока гораздо больше между собою общего (не считая некоторых различий в уровне телесной и социальной гигиены), чем у восточного берлинца с западным. Отличие не в формах жизни даже, а глубже — в жизненной ориентации, психологическом возрасте.
В конце концов, детство подавляющего числа людей протекает в таких условиях, которые идеологически могут быть представлены как… коммунизм. И, вероятно, в этом его глубокая «правда» и секрет его привлекательности. И так же совсем не секрет, что характер работы госслужб, бюрократический стиль — что западного, что восточного мира — по существу мало чем отличаются друг от друга. И чиновник в Германии оказывается тем, что не так давно звалось у нас номенклатурой: его можно перевести на другую должность, но нельзя уволить. Узнаешь с удивлением, что плата за восьмикомнатную квартиру в Берлине зачастую значительно ниже, чем за трехкомнатную, — просто потому, что домовладелец имеет право повышать квартплату на шесть процентов в год, а если ты вздумаешь переехать в квартиру поменьше, то столкнешься с ценами выросшими за десять лет в пять-шесть раз. Так и живет одинокий человек в восьми комнатах (по которым ползают почему-то всю зиму… божьи коровки).
Просто работают совсем другие деньги, сами — результат труда. И западный мир легко представить себе чем-то вроде священного скарабея, катящего перед собой огромный навозный ком времени и денег. Исчезла только магия. Достоевский оказался временно посрамлен: Чудо и Авторитет исчезли, а Великий Инквизитор остается. Никогда, впрочем, не исчезают бесследно проблемы, беспокоившие из ряда вон выходящих художников и мыслителей.
Любопытно, что сегодня самыми интересными — беспокойными — поэтами, художниками, фотографами, людьми театра и пр. признаются в Германии восточные берлинцы.
Немец бывает щедр, когда у него есть лишние деньги. Безделье и бездельников не одобряет. К музыке чувствителен всегда. Музыка, соединенная с трудом, работой повергает его в род экстатического транса. На подступах к Кудаму я видел как-то церебрального паралитика в коляске, почти ребенка. Каким-то непостижимым образом он умудрялся азартно крутить свою поставленную рядом шарманку, также на колесиках. Улица была безлюдной. Он трудился. На лбу его выступила испарина. Видно было, что эта работа доставляет ему удовольствие.
Я видел также, как туманились глаза немцев и неотмирная улыбка блуждала на их лицах, когда в вагоне надземки, конкурируя с продавцом газет, какая-то группка русских, по виду советских инженеров, сбившись в кружок, с чувством исполнила «Смертию смерть поправый», разложив песнопение на несколько голосов. Затем один из них прошелся по вагону с пластмассовым стаканчиком, вероятно, зарабатывая таким образом на пиво для всех. Притихший было продавец газет вновь заголосил.
Вообще, следует признаться, что встречи с соотечественниками за рубежом трудно отнести к разряду приятных. Как правило, заслышав родную речь, они делаются настороженными, недоброжелательными, — проходи, мол, скорее, — это в том случае, если тут же не прикидывают, как, не сходя с места, тебя использовать.
Славянская, не только русская, речь звучит повсюду либо приглушенно, либо нарочито. Музыканты в метро и подземных переходах остались одни русские — ни поляков, ни румынов больше нет. Работают по часам и сменам. И все, включая и самых непримиримых с виду художников, озабочены исключительно выживанием. Русский Берлин представляет из себя интеллектуальную пустыню, к сожалению. Немцы относятся к нему, большей частью, достаточно ровно — скептически. Еще кто-то, сильно нас перебоявшись, теперь желает, чтобы его забавляли. Что исправно и делается — на то и существует «выездной вариант» русской культуры, за места в составе гастролеров ведется борьба. Хотя многие немцы испытывают искреннюю симпатию и интерес к русским, а тем, что повоевали, кажется даже, что они любят Смоленск или Витебск (т. е. места сражений молодости), — последние помогают, скажем, белорусским врачам попасть на работу в Африку, приглашают с чтениями молодых поэтов, устраивают квартирные выставки. Есть целые корпорации на общественных началах, избравшие своей целью заботу о каких-то совсем далеких странах, людях и — почему нет? — животных. Сравнительно многие — и не только восточные — немцы знают вполне прилично русский язык, т. е. это не редкость.
Никто не знает, сколько проживает в Берлине русских. Полиция говорит, что по документам — двенадцать тысяч. Хотя число их, как минимум, на порядок больше. По устойчивым слухам, русская мафия контролирует до десяти процентов берлинской проституции. Это много, поскольку Берлин постепенно превращается в европейский центр этого бизнеса. И на улицах встречается теперь гораздо больше красивых женщин, чем еще год-два назад. По всему видать, Берлину быть столицей. В таких вопросах красавицы редко ошибаются.
При этом в немецком обществе царят достаточно пуританские нравы, возможность флирта сведена к минимуму, что несколько дезориентирует прибывающих русских — равно мужчин и женщин. Первые страдают и вынуждены обращаться к услугам проституток — да еще и платить за это. А вторых самих принимают нередко за таковых. По той простой причине, что наши девчонки и матери семейств не в состоянии оценить скромное обаяние и естественность западной буржуазной, не накрашенной и не вызывающе одетой, женщины и ищут образцы для подражания у дам полусвета и тех других, которым отведено место для прогулок каждой — десять метров тротуара на Курфюрстендамм, ежедневно, начиная с девяти вечера. Хотя следует сказать, что и без того современный русский тип женской красоты отличается повышенной степенью «блядовитости», как говаривал, правда, по другому поводу, Вен. Ерофеев. Итак, мужчины оказываются разочарованы тем, что проститутки их не любят на самом деле, а только так прикидываются за деньги. А женщины возмущены тем, за кого их принимают эти турки и подвыпившие немцы! Даже институт бойфрендов и герлфрендов — «друзей» и «подруг» — в Германии оказывается системой отношений куда более прочных, надежных и, если угодно, патриархальных, нежели в браке советского образца.
Интересно, что немецкая молодежь (исключая панков, а также количество серег в бровях, носу и прочих местах у всех остальных) очень мало значения придает своему внешнему виду. Если вы в городе увидите по-настоящему стильно одетую женщину, естественно движущуюся и с хорошей фигурой — не торопитесь обгонять ее. Вас ждет горечь разочарования. В подавляющем большинстве случаев она окажется особой предпенсионного возраста с лицом, которого не пощадило время, — а то и просто крокодилом. Я догадался почему. В этом примерно возрасте немцы перестают выплачивать взятые в молодости кредиты, страховки и принимаются усиленно следить за собой, позволять себе то, в чем отказывали прежде. Грустное открытие.
Конечно, у немцев всего много. А «совок» голоден и хочет всего побольше, сразу, и чтоб ничего не платить. Это такое ребячество. Спорт. Чтобы само. Это же такое естественное желание, когда результат так отчужден от труда, — так, кажется, учил Маркс.
У каждого немца есть свой «русский», а у каждого русского свой «немец».
Я своему сказал: «Слушай, во многом дело еще и в климате. Так уж исторически впечаталось в психофизиологию русских, когда летом приходилось надрываться, а зимой вылеживаться на печи, — отсюда, может, этот рваный ритм труда». — «Да, — ответил он мне, — конечно. Итальянцы тоже не хотят летом работать, говорят — очень жарко». Он знал, что говорит.
Темп работы западной цивилизации, — который некий остроумец сравнил, по степени ненужности, с четырехметровым хвостом фазана-аргуса, служащим ему один раз в году для привлечения самок к спариванию, — такой темп, конечно же, где-то существует. Однако наши представления о потогонной системе сильно преувеличены. Скорее, можно говорить о методичности в труде, — так взрослый знает, что какую-то работу за него никто не сделает. И потому моются в городе окна и вытирается пыль не в конце недели-месяца-года и для кого-то, а регулярно и для себя, чтоб не оставалось места для трудовых подвигов. Потому что в конце недели всем следует отдыхать — это свято. И строители торчат на стройплощадках статично, на первый взгляд, но каждые несколько минут каждый из них переносит какой-то пруток с места на место, или нагибается и что-то к чему-то приваривает. (Кстати, и канавы в Восточном Берлине роют как и у нас — по многу раз за сезон разрывают, закапывают, затем опять разрывают и опять закапывают, — создают рабочие места.)
Конечно, от такого труда, от постоянно действующего ровного напряжения в организме развиваются застойные явления, которые надо как-то гасить, рассеивать. Для начала — пивом в конце дня. В конце года этому служит празднование Рождества. Затем, карнавал, знаменитый «розенмонтаг», когда все или почти все дозволено, и можно оттянуться за целый год, если получится.
Что касается Рождества, то это целая культура. Празднование его начинается за три недели до собственно «святой ночи». Человек, который не усердствует в украшении своего окна, балкона, грядки, выглядит, по меньшей мере, странно и сильно теряет в глазах окружающих. Без сомнения, это центральный праздник западного христианства. Смысл его сегодня примерно таков: Спаситель рождается; все будет хорошо; человеку остается только добросовестно работать.
В отличие от восточного христианства, преклонившегося в сторону куда более страшного и драматического праздника, говорящего о мучениях и смерти, а также — о воскресении Бога, а с Ним и человека. Русские — большие любители невозможного. (А Россия — это такая страна с механизмом ходиков, сами они не ходят — надо все время подтягивать гирьку.)
Занятная подробность, о которой свидетельствуют сами немцы: в рождественские дни в немецких семьях часто начинают вспыхивать ссоры по пустякам. Просто все ждут чуда, как ждали его в детстве, как ждут вместе с ними их дети, — а оно не приходит. Приходится ожидание отложить до следующего года. Взрослые — смешные люди, иногда.
Все взрослые — в большей или меньшей степени, «немцы». И всем им хочется хоть чуточку побыть иногда «русскими».
А «русские» (в том числе, и мой) все ломают себе голову: как же так сделать, чтобы, взрослея, человек человеку не становился «немцем»?
1995
ПОЕЗД № 2
Имя собственное поезда № 2 — «Россия». И это справедливо: он связывает не старую и новую столицы, подобно «Красной стреле», и не регионы между собой и с центром, но опоясывает и стягивает воедино все безмерное географическое тело России. Говоря фигурально, великий рельсовый путь от Москвы до Владивостока — это тот железный пояс, на котором держатся штаны страны. Не будь его — и Россия давно заканчивалась бы не на берегах Тихого океана, а на берегах «славного моря» Байкал.
Транссибирская железнодорожная магистраль существует уже без малого сотню лет, и если только представить себе тысячи и тысячи километров по бездорожью, через тайгу, болота, скалистые горы и сотни рек, пройденные нашими прадедами за считанные годы в конце минувшего века с киркой, топором и лопатой, огнем и взрывчаткой, то масштаб их подвига поражает.
Собственно Великий Сибирский путь, как его называли, насчитывает свыше 6 тыс. километров от Челябинска до Владивостока, и сооружался он сращиванием отдельных участков магистрали, когда отряды строителей двигались навстречу друг другу. Так на фотографии в проявителе появляются сначала более темные пятна и возникают контуры, они растут, соединяются на глазах, пока не образуют собой готовое изображение.
Подобно Николаевской (впоследствии Октябрьской) железной дороге, за полвека до того связавшей поездом № 1 Петербург с Москвой, строительство Сибирской магистрали также осуществлялось под личным патронажем царствующей особы — цесаревича, вскоре ставшего императором Николаем II. В 1891 году, возвратившись из дальнего плавания, цесаревич заложил во Владивостоке первый камень этого беспрецедентного трансконтинентального сооружения. У наследника имелся и личный мотив: подобно ньютонову яблоку, удар плашмя самурайским мечом по затылку, полученный им при посещении Японии от полицейского, внушил будущему самодержцу, что ввиду стремительно растущего и агрессивного дальневосточного соседа Российской Империи не удержать за собой Дальний Восток без железнодорожного сообщения.
К строительству дороги причастен и царский министр Витте, укрепивший рубль и возглавлявший одно время министерство путей сообщения. Тех полновесных рублей потребовалось для строительства магистрали свыше полумиллиарда. К началу нового века европейская часть страны уже связана была непрерывным «паровым сообщением» с Дальним Востоком. Отсутствовало 290 верст Круго-Байкальской железной дороги, проложенных и пробитых в скальной породе к 1905 году. До того Восточно-Сибирскую железную дорогу с Забайкальской связывало пароходно-ледокольное сообщение через озеро Байкал. В ходе строительства железной дороги интенсивнее стали заселяться переселенцами из центрально-черноземных и западных губерний Сибирь и Дальний Восток, их поток перевалил за 200 тыс. в год, и семь из восьми переселенцев оставались здесь жить и плодиться. Сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали, полностью завершенное к 1916 году, послужило могучим экономическим импульсом для освоения колоссальных территорий и их промышленного и земледельческого развития. За время строительства также сформировался корпус отечественных инженеров-путейцев, в которых Россия остро нуждалась на рубеже веков. Время для проезда от Москвы до Владивостока было установлено для пассажирского и почтового сообщения — в 10 суток (35 верст в час, 800 — в сутки), для грузового — вдвое дольше. Грузы с Дальнего Востока в Лондон, например, могли быть доставлены теперь за 30 суток, в полтора раза скорее, нежели по морю.
Подъезжая к Ярославскому вокзалу столицы, я старался не думать о 9300 километрах и почти 155 часах предстоящего пути — шесть с половиной суток в купе, пусть и спального вагона.
Поезд оказался красно-синим, на Руси уж как покрасят так покрасят! Зной и духота стояли жуткие, плюс 30 градусов в мегаполисе — это, как выразилась пассажирка, садящаяся в один со мной вагон: «Свариться можно в этой вашей столице!»
В пустом купе, показавшимся невероятно тесным, я моментально облился потом и выскочил на перрон выкурить на прощанье сигарету. Проводница Марья Михайловна, как написано было на бадже, прикрепленном к парадного вида железнодорожной форме, успокоила:
— Как только отправимся, включатся кондиционеры — будет как в раю!
И, действительно, уже через несколько минут по отправлении я убедился, как немного надо для рая на земле.
Вагон был практически пуст. Все четверо пассажиров, севших в Москве, включая и меня, ехали до Владивостока. Моими попутчиками была супружеская пара из Петербурга, в преддверии пенсии подарившая себе путешествие по стране (назовем их условно «питерцами»), и не менее пожилая жена тихоокеанского морского офицера, возвращающаяся из санатория Минобороны в Архангельском под Москвой, благодаря мужу имеющая раз в году право на бесплатный проезд в купе в оба конца, либо в одну сторону в СВ (столь же условно обозначим ее как «жену военмора»). Вагон оказался на удивление чист, как, впрочем, и весь фирменный поезд, видимых поломок не обнаруживалось. Постелены были в коридорах и в купе персидского вида ковровые дорожки, их ежедневно (в нашем вагоне, во всяком случае) пылесосили.
Воодушивившись чистотой, сухостью в туалетах, работающим кондиционером, я принялся вскоре глядеть в окно, обложившись подушками, наподобие героев русских повестей, путешествовавших в тарантасах, кибитках и прочем. Ведь помимо дорожных знакомств и разговоров, до которых я не такой уж большой охотник, чистое вагонное окно способно доставить нам особое развлечение и ни с чем не сравнимое удовольствие от пути. Каково же было мое удивление, когда за окном промелькнуло Хотьково, значит, следом Сергиев Посад. Обратившись к расписанию, я выяснил вдруг, что поезд идет не через Рязань (как обещал мне не столь давнего года выпуска советский географический словарь), а стремительно взбирается на север, едва не под географическую широту Петербурга — через Ярославль и Киров-Вятку, далее на Пермь, и уже в Сверддовске-Екатеринбурге совпадает, наконец, с проложенным мною в воображении маршрутом. Как потом мне объяснят железнодорожники, вообще-то, самый короткий путь пролегает через Нижний Новгород, он на 80 км короче. Но государственные виды и уже сложившаяся традиция требуют отклонения на четыре градуса на север от 55-й параллели, а затем на столько же к югу от нее, чтоб поезд смог связать между собой дополнительно несколько крупных городов, и так, снуя около указанной параллели, добраться до Хабаровска, откуда провалиться еще на семь сотен верст на юг до Владивостока, что почти соответствует протяженности Франции или Германии.
За окном тем временем потянулись знакомые пейзажи — редколесье, строения из потемневшей древесины, с белыми и зелеными наличниками, изредка со спутниковыми антеннами, вокзалы, пристроенные к остаткам монастырских построек, посеребренные Ленины, то ли призывно, то ли прощально машущие из кустов рукой, вездесущие (до Владивостока) решетки типа «солнце», выцветшие плакаты-страшилки по технике безопасности, вроде «Не спрыгивай на ходу!», метровые надписи «Не курить!» на складах, да водонапорные башни, похожие на грибы и терема одновременно — с кирпичными ножками и древесными шляпками. Только за Красноярском они почему-то окаменевают целиком, их верхушки становятся шлемовидными и в разрушенном отчасти виде напоминают псевдоготические руины в усадебных парках.
Уже перед Ярославлем я сходил познакомиться с начальником поезда, прихватив письма от командировавшего меня журнала «GEO» и от МПС. Я нашел его в радиорубке так называемого «штабного вагона». Он оказался моим одногодкой и звали его Христофор — отчего я испытал немедленную симпатию к его свирепой наружности морского волка. Перейдя в вагон-ресторан, я столь же легко завязал знакомство с директором ресторана, также почти ровесником, Виктором из Балашихи, работавшим когда-то официантом в «Континентале» в Хаммеровском центре, что на берегу Москва-реки. Поужинав, чем бог послал, и бросив взгляд в окно на первую из встреченных на своем пути поездом № 2 великих русских рек — Волгу, еще не начинающую в этом месте набирать свою ширину, я вернулся в спальный вагон и завалился в постель с книжкой.
Имея опыт путешествий по гениально устроенным железным дорогам Германии и некоторых других стран, я все же всегда одобрял убаюкивающее покачивание на рессорах отечественных вагонов, что отчасти способно примирить путешественника с их бортовой качкой и даже предосудительными содроганиями на рельсовых стыках или по вине неопытных машинистов.
Поезд подобно акуле должен все время двигаться, чтобы системы его жизнеобеспечения исправно работали — чтобы вырабатывался электроток и подзаряжались аккумуляторы, без чего наступит тьма и температура как за окном. Виктор, директор ресторана, рассказал мне исполненную живописного драматизма историю о перекрытии магистрали в прошлом году бастующими шахтерами Анжеро-Судженска. Фирменный поезд № 2, любимец трассы, успел проскочить в сторону Владивостока, однако назад вынужден был пробираться через Абакан. Во Владивостоке сцепили три пассажирских поезда (в том числе один украинский — «Харьков-Владивосток»), состав вышел длиной чуть не с километр. Опоздание достигло в пути полутора суток, из-за простоев разморозились холодильники. Виктор умудрился тем не менее организовать питание для детей. Взрослых же подкормили местные жители, вышедшие к полотну торговать горячей картошкой, домашним хлебом, молоком — тем, что сами едят обычно. Виктор, смеясь, рассказывал, что в украинском поезде у его коллег прохудившийся потолок в вагоне-ресторане подперт был на всякий случай березовым стволом, и тем не менее салон разукрашен вышитыми рушниками и прочим рукоделием. Шахтеры с тех пор, кажется, образумились и ловят теперь расхитителей своих денег на местах, ко благу путешественников и получателей хозяйственных грузов.
Но вернемся к анатомии. Вся двухпутная транссибирская рельсовая магистраль (за исключением отрезка Бикин-Уссурийск в Приморье) электрифицирована. В дороге бригады машинистов и локомотивы меняются многократно. Машинисты подчиняются только диспетчерам своего депо и железнодорожных станций, с которыми у них поддерживается постоянная радиосвязь. Они как лоцманы, проводят составы по трассе и знают наизусть все ее особенности. Начальник поезда также связан с машинистами радиосвязью, но обращается к ней только в экстренных случаях. Его работа — это руководство поездной бригадой и решение всех вопросов, связанных с обслуживанием пассажиров, обеспечение технической исправности оборудования, поездное радиовещание. В его подчинении также поездной электротехник. Почтовые и багажные вагоны, если они есть, обслуживаются собственными службами. Почтовики арендуют свои вагоны у железнодорожников. Люди не все везут в руках или передают с проводниками, багаж и сегодня отправляется по железной дороге, причем обходится это отправителю совсем недорого: за десятикилограммовый багаж от Москвы до Владивостока, как мне сказали, он заплатит сумму порядка полутора американских долларов. Такие вагоны представляют собой просторное помещение без всяких переборок, в котором выгорожено лишь одно двухместное купе для сопровождающих отправления.
В поезде № 2 отсутствуют общие вагоны. Стоимость проезда от Москвы до Владивостока по текущему курсу составляет: в спальном вагоне — приблизительно, 120 долларов США (на 20 долларов дороже, чем самолетом), в купейном — 60, в плацкартном — 40. Некоторые вагоны зарезервированы специально для пассажиров из крупных уральских и сибирских городов. Будто насосом поезд накачивается пассажирами где-нибудь в Екатеринбурге и Новосибирске и затем почти подчистую опорожняется в Красноярске или Иркутске. Логику приливов и отливов пассажиропотока умом не понять.
Новшество в фирменном поезде — телефонная связь от «Дженерал телеком». Аппарат установлен в радиорубке начальника поезда. Но в России часто делается полдела: карточка стоит 225 рублей, т. е. приблизительно 10 долларов, и обеспечивает пятиминутный разговор с абонентом независимо от расстояния, т. е. хочешь — звони на ближайшую станцию, хочешь — в другое полушарие. Но большинству-то хочется скороговоркой сообщить родным, что все в порядке, или попросить знакомых встретить, что сильно ограничивает интерес к нововведению. В первый день новой услугой приходило поинтересоваться шесть человек, во второй — четверо, на третий день, наконец, один похожий комплекцией на Паваротти нефтеторговец воспользовался аппаратом — позвонил жене и детям в Германию, но было плохо слышно, и невидимый оператор пообещал ему повторить сеанс связи вечером.
Кстати, скверно слышно и радио в пути, удовлетворительный прием осуществляется только на расстоянии 30–40 км от крупной станции, где есть мощный передатчик. Поэтому поездное вещание состоит в основном из трансляции записей, но об этом позднее. Не оправдали себя видеосалоны в поездах, как, впрочем, и по всей стране, — народ быстро пресытился видеопродукцией. В вагоне-ресторане, впрочем, установлен большой телевизор с видеомагнитофоном, но вагон-ресторан как предмет пристального интереса и разнообразных вожделений также заслуживает отдельного рассказа.
И последнее: окна всех купе глядят на северную сторону, откуда — к солнцу и проходящему поезду — обращены фасады подавляющего большинства железнодорожных станций.
Ночь была полубелой — подсвеченный со всех сторон горизонт так и не потемнел. Проснулся я на станции Киров города Вятки (до 1781 г. — Хлынова), тут же заснул опять, и вышел на перрон проветриться уже в Балезино, где торговали знатной сметаной, по уверенью Зинаиды Андреевны, подменившей Марью Михайловну и заодно сменившей белую парадную блузку на голубую походную. На перроне предлагали и местного производства сорокаградусный бальзам в фигурной фляге. Но предлагали без азарта, торговали как-то вяло. Вообще, в России на станциях принято торговать словно нехотя, вынужденно, без страсти и аппетита, не то что на юге — скажем, уже на Украине. Нет, наверное, русского торговца, который втайне не мечтал бы поменяться местами с покупателем. Для поддержания местного мелкотоварного предпринимательства я купил большую бутылку минеральной воды и вернулся в вагон. Заварив чай в термосе, я позавтракал прихваченными в дорогу сырокопченой колбасой с сыром. Вскоре небо затянула сплошная облачность, пошли пригорки, лес, болотца. Растительные «куртины», призванные защищать насыпь от снежных заносов, отгораживают нас заодно от видов. Только теперь я присмотрелся, что целыми километрами белеют вдоль насыпи поверженные юные березы — передние шеренги подроста, будто скошенные вражьей силой. Позднее мне Христофор объяснит, что ведется расчистка полосы отчуждения, чтоб кроны не путались в проводах и корни не подрывали насыпь. Ширина ее по букве инструкций должна составлять пятьдесят метров в обе стороны от полотна. Пятидесяти, конечно, нет, но какое-то расстояние выдерживается почти на всем протяжении магистрали.
До самого океана тысячи рабочих в апельсиновых безрукавках обихаживают полотно и насыпь — магистраль кормит их и сама требует постоянной заботы: рельсы, шпалы, откосы, насыпь, столбы, провода, мосты — оставь их без присмотра и уже через несколько лет по дороге нельзя будет не только проехать, но даже проползти на брюхе. Мне вспомнился один приятель, технарь-интеллигент, в начале девяностых, в момент резкого ухудшения экономической ситуации, вдруг расчувствовавшийся в собственной ванной: «Вот я стою такой маленький, никчемный, а под потолком горит лампочка, из крана течет теплая вода, чтоб я смог умыться, побриться, спустить воду, кто-то далекий делает же так, чтоб все это у меня было!»
Сидя у окна и ловя оконца в куртинах, я постигал смысл однообразия. Пошли огороженные хутора и безлюдные просторы — терапия для души закоренелого урбаниста. Какой-то человек, подходя к порогу своего дома, обернулся, и я сообразил, что для него проходящие поезда — бесплатные часы. Неподалеку, на середине пруда, дети барахтались вокруг огромной автомобильной камеры, как и сорок лет назад.
В Перми, где время отличалось от московского уже на два часа, разразилась летняя гроза. Я выиграл нечаянное пари у попутчиков, предположив, что побуревшая река под нами — не Обь и не что-то еще, а Кама (хотя особой уверенности в этом у меня не было), оставив затем беседовать проигравших о диоксиновых курах, Фурцевой и на прочие темы, почерпнутые из телепередач. После вчерашней жары дождливая погода на скорости в 80 км/час казалась даром небес. Что я и поспешил отметить походом в ресторан, где съел отменный борщ с курятиной всего за подоллара и выпил стопку водки. Поезд шел по высокому берегу над изумительно безлюдной и дикарски красивой рекой — мне сказали, что это Чусовая, но я запомнил ориентир, 1573-й километр и город Кунгур, — это была Сылва. К счастью, я прозевал новорусский замок с башенками на противоположном лесистом берегу, но запомнил навсегда одинокого рыбака в дождевике, тянувшего с середины реки бьющуюся розовую рыбину. Леска не касалась воды и пела, как тетива, — боже, как захотелось мне поменяться с ним местами! Но, впрочем, не участью. Ведь я собирался доехать до Владивостока — многое увидеть, и рассказать об этом, как сумею. Один вид был просто непристойной красоты: река ушла вниз, поезд взобрался на кручу, — разросшиеся сосны, скалы, — речка вильнула вбок и разлилась вдруг, и пошла петлять по долине до самого горизонта, под небом, на котором уже появились голубые проплешины. Я же знал всегда, что на свете бывает хорошо.
Говорят, что Урал, в который втягивался поезд, это место шва, где сошлись и срослись материки. Под непредставимым давлением от их столкновения образовались горы, в средиземье остались лужицы морей, а по разломам потекли реки. Теперь наметился откат. Байкал расширяется с каждым годом на несколько миллиметров. Через несколько миллионов лет суперконтинент будет разорван и между разошедшимися частями опять заплещется море. Так говорят.
— Смешные какие названия, — сказала жена питерца, указывая в окно на станцию Шаля, с милым вокзальчиком в стиле модерн и явно дореволюционной чугунной оградой. А Зюкай? А Сюзьва? А Ибрюль — между Грибной, Козловкой и почерневшей деревенькой Юбилейная? А совершенно непредставимая Итака в Забайкалье или бухта Улисса во Владивостоке? Как и откуда все это попало в русский суп?
Но не любит российская провинция саму себя и клянет скудость выбора. В Забайкалье я еще услышу поговорку: «Бог создал Сочи, а черт — Сковородино и Могочу». Крупные города и промышленные зоны выкачивают из промежутков и зазоров между собой молодежь. Хуже всего дело обстоит не там, где вообще отсутствуют деньги, а там, где их мало, то есть не хватает. Неряшливые лесопильные и прочие заводики, выглядят будто после бомбардировки. Деньги — великий чистильщик. Задолго до крупных городов придорожный ландшафт начинает подбираться и охорашиваться. Появляются пассажирские платформы, как где-то в Подмосковье, и перекинутые над путями мостики переходов. И когда дымят индустриальные трубы, это значит, что не только загрязняется окружающая среда, но также, что у людей есть работа. Запомнился рекламный щит в Красноярске: «Без трубы труба дело!» — надо полагать, перед проходной соответствующего завода. Все это города с населением от полумиллиона до полутора миллионов — целое ожерелье развитых промышленных городов, нанизываемых на своем пути поездом № 2. Почти все они являются еще и крупными речными портами. Конечно, благоустройство в них оставляет желать лучшего, но если в суровом и слабонаселенном краю из острогов, факторий и поселков они сумели вырасти до таких размеров, это свидетельствует об их могучем потенциале. Начиная с Урала — это Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск на Иртыше, Новосибирск на Оби, Красноярск на Енисее, Иркутск на Ангаре, Чита, Хабаровск на Амуре, наконец, семисоттысячный Владивосток, которого попросту не существовало до 1860 года. Отплывшая Аляска, кажется, кое-чему научила русских. При том, что территориальное соотношение Европейской части и Сибири, цивилизации и природы, прямо противоположно аналогичному соотношению Соединенных Штатов и их «Сибири» — Аляски.
Возможно, это прозвучит странно, но из-за хозяйственного по преимуществу уклона уральских и сибирских городов каждый из них остро нуждается в культурно-исторической и художественной санкции для своего полноценного осуществления как города. Писатели, художники, художественные коллективы (иногда первоклассные) наличествуют в них, но всем им недостает убедительности. Некой патины, которую накладывает только время. И потому так гордятся здесь любым кривым словом, сказанным в адрес этих городов ссыльным Герценом или Достоевским, а история сибирской аристократии очерчена и исчерпывается декабристским кругом. Имеются, однако, своеобразные «гении места» (если одолжить у Петра Вайля предложенную им методику ориентации на местности), передающие и выражающие его дух, ощущение формы, характер освещения. Для Перми таким «домовым» может оказаться Шишкин, выросший на камских берегах; для Красноярска — могучий Суриков; для Екатеринбурга — вероятно, Бажов, с его камнерезами; для Вятки же — либо дымковская игрушка и Васнецовы, либо Грин с Циолковским (первый здесь жил, второй — учился, но оба запойно мечтали уплыть или улететь отсюда куда подальше).
И еще, что касается названий, я тоже придумал одно и могу недорого уступить его какой-нибудь из краевых администраций, оно очень «в духе» — Правдосибирск.
Накануне в Екатеринбурге, где я вышел на перрон, — ну и морды слонялись по нему без дела! — в мое купе подселили бизнесмена Диму. Он ехал до Новосибирска, и в пути мы с ним разговорились. Это был весьма ухоженный молодой человек, несколько даже чересчур спортивного вида. И действительно, оказалось, что он футбольный полузащитник и хоккейный вратарь в прошлом. Теперь это уже его хобби. Раз в неделю он обязательно встречается с другими ребятами, также оставившими спорт, и с удовольствием играет с ними в одну из двух командных игр, в зависимости от сезона. Что крайне необходимо ему для разгрузки: «Набегаешься, накричишься, и запаса хватает на неделю!» Поэтому он не очень понимает альпинистов, байдарочников, рыбаков, которые в изобилии работают с ним в фирме. Есть у него также жена и стафордшир, с которым он любит гулять, но опасается лесных клещей. В свои 28 лет он менеджер крупной фирмы, основанной екатеринбуржцами в начале девяностых и являющейся официальным сибирским дилером известных мировых компаний, в том числе парфюмерных и косметических, — именно это направление Дима и возглавляет в фирме. В последние два года ему приходится много ездить по сибирским городам, находить партнеров, заключать сделки. Богатая Тюмень загадочно равнодушна к предлагаемой им продукции. Помимо родного Екатеринбурга, ему особенно нравится старый Омск, а в Новосибирске — вокзал сталинской поры, недавно отделанный внутри китайцами. Из городов европейской части, кроме Москвы (где у фирмы имелся до последнего времени филиал), он бывал в Санкт-Петербурге и Харькове, а на Западе — в немецком Фрайбурге по приглашению деловых партнеров, с отлучкой в Париж, где им с женой особенно запомнились рестораны с морепродуктами. На алкоголь Дима глядит с отвращением, но при этом курит. В поезде он явно томится. После Новосибирска ему предстоит еще поездка в Новокузнецк.
К тому же типу попутчиков-коммивояжеров я бы отнес и преуспевающего служащего американской фирмы, торгующей чипсами, подселенного в купе к жене военмора. Наутро она пожаловалась мне, что он очень самодоволен, весь вечер хвастался. Наверное, он оказался не очень готов к размеру своей зарплаты. Этот вышел в Красноярске. Как и два других коммерсанта — сильно-пьющие казахстанские армяне, один — торгующий лесом и рыбой, другой — нефтью. Первый ехал в Бородино под Красноярском, второй — собственно в Красноярск. Первый из них садился ночью в Тюмени и сильно озлился на мое неосмотрительное замечание, что Бородино — под Москвой, и ему следует ехать в обратную сторону. Утром оказалось, что их уже двое в одном купе, дверь которого они держали весь день открытой и зазывали всех в свою «палату № 7 — попить кефиру». Увы, весь неблизкий путь до Красноярска двум словоохотливым острякам пришлось коротать в обществе друг друга.
На третьи сутки я осознал свою промашку: деморализованный московской жарой, не взял в дорогу по крайней мере теплых носков. Моросил мелкий дождичек. Выходя на станциях, я спешил поскорее вернуться в купе уже по совершенно противоположной причине — за окном было +10°, и кондиционер работал как обогреватель. И в ресторан увлекал теперь меня не голод, не поиск развлечений, а желание согреться.
О, Омск с Иртышом! О, Обь с Новосибирском (развившемся из Гусевки в Новониколаевск и далее оттого только, что некогда путеец и писатель Гарин-Михайловский настоял на сооружении железнодорожного моста именно в этом месте, — проклятие города Томска на его голову)! Вас скрыла от меня непогода, заложившая небо насморком. Меня передернуло, когда я увидел из ресторанного окна сидящего на пригорке на берегу Оби удрученного голого мужика в мокрых черных трусах, — брр!
Местное время к исходу третьих суток опережало московское уже на четыре часа — и это отдельная тема. Дело в том, что расписание движения поезда составлено по московскому времени, и если бы по пути до Владивостока я семь раз переводил часовую стрелку, чтобы привести свои биологические часы в соответствие с местным временем, то запутался бы в расписании еще на полпути. Но, сохраняя верность московскому времени, мои биоритмы входили во все больший клинч с местным временем, и всю серьезность ситуации я осознал слишком поздно — когда на границе Амурской области увидел восход солнца в одиннадцать часов вечера по моим часам. Это был классический «джэт-лег» — расстройство сна и дезориентация, связанные с резкой сменой часовых поясов. Но я решил идти до конца. Самолет из Владивостока должен был мне единым махом, за восемь с половиной часов полета, вернуть до минуты то, что отбирал теперь поезд.
Но именно этому легкому расстройству, которое сродни безалкогольному опьянению, я обязан прекрасными минутами и рассветными часами, которые, как злостная «сова», я неминуемо проспал бы.
Первым таким утром, которое я начал праздновать в два часа ночи по Москве, явилось для меня утро на подъезде к Красноярску. Мне все нравилось в нем. Непогода оставалась позади. Деревья стали рослее и росли привольнее, без подроста, словно на газонах с горчичной присыпкой цветочков. Стало больше сосен и появились лиственницы. Дачи пошли дощатые, но ладные, крепко поставленные, все двухэтажные и с теплицами. Дорога в России предполагает некоторое количество алкоголя. Я открыл рижские шпроты (все оказались брюхатенькими, с икрой), достал банку консервированных огурчиков и дорожную фляжку. Дело в том, что поезд приближался к местам моего раннего детства. Открыв коридорное окно, я просто ошалел и сразу узнал этот целебный запах тайги, которого не вдыхал уже сорок лет. Надышаться им было невозможно. Оставалось вернуться в купе и выпить рюмку-другую. Окно в купе не открывалось, и потому фотографировать приходилось либо сквозь стекло, либо против солнца из открытого коридорного окна, — к которому я вышел вскоре посмотреть на дикий и могучий Енисей. Солнце уже начинало стряпать на облаках со шкворчанием свою небесную яичницу. То же, что я принял поначалу за пух или непонятный пепел, летящий навстречу нашему составу, оказалось бабочками. После Красноярска еще целый час у того же окна я караулил с фотоаппаратом красавицу-речку Бирюсу. Это было уже перед Тайшетом, откуда шло ответвление на БАМ. Здесь на душу населения, как сообщило радио, приходилось по 35 гектаров леса — дыши не хочу! Невозможно было поверить, что где-то во влажных джунглях Амазонки, а не здесь, на просторах Сибири, трудятся легкие планеты.
Вокзал в Красноярске оказался несуразной формы и выкрашен под цвет железного сурика, каким обычно кроют дощатые полы, но рассмотреть его как следует я не успел. Нас отгородил от него подошедший поезд «Улан-Батор — Москва». Через считанные секунды все его окна были распахнуты, из них, будто на пружинках, выпрыгнули по пояс монголки и монголы, вывесили одежду на плечиках и пластиковый полуманекен в дамском белье, сбросили какие-то тюки на перрон, который уже мели юбками стайки цыганок, потянулись вверх руки с российскими купюрами, вниз полетели колготки в упаковках — торг закипел. Это был транзит китайских товаров, и продавцам необходима была какая-то российская наличность для начала.
Вообще, торговля идет вдоль всей железной дороги. Иерархия, примерно, такова: в поездах едут те, у кого есть деньги (они смогли купить билеты); у дороги живут и лепятся к ней те, кто в деньгах нуждается; им завидуют остальные, живущие в отдалении от железной дороги. Торгуют повсюду. Еще на Ярославском вокзале в Москве проводнице Зинаиде Андреевне «впарили» не очень нужную ей термостойкую стеклопосуду прямо у дверей вагона. Меня, в частности, давно интриговало, почему по всему бывшему СССР печатной продукцией в поездах дальнего следования торгуют исключительно немые разносчики. Христофор, у которого я попытался узнать, отчего так, заметил: «Так же как все носильщики на московских вокзалах — татары». Ему виднее. Сам он — армянин из Геленджика, закончил МИИТ, живет в Москве и работает на железной дороге с начала семидесятых.
Горячей или теплой картошкой, варениками и пирожками с капустой, разноцветной водой торгуют повсюду, но есть еще и специализация у отдельных станций. Знающие люди говорят: «В Барабинске будет свежая жареная рыба», — и действительно, половина торговок стоит там с весьма аппетитного вида жареной рыбкой. В Слюдянке, первой остановке на берегу Байкала, будет продаваться омуль горячего и холодного копчения (которым я легкомысленно, хоть и не сильно отравился — к вопросу о необходимости небольших доз алкоголя в рационе путешественника, — иркутское пиво, с которым я употребил омульков, алкоголем считать нельзя). «На что омуля ловите?» — спросил я у парня. «А мы не ловим, мы покупаем у рыбаков», — был ответ. В нескольких сотнях метров от берега, покачивалось на воде с полдюжины рыбачьих баркасов. Еще знайте, что в Петровском Заводе (Петровске-Забайкальском) вам предложат кедровые орешки, кедры не везде растут, а больше здесь и продать-то нечего. Если что и продается, то существенно дороже, чем в Москве. Зато от Архары и до Владивостока продаются всего за несколько рублей мясистые стебли папоротника-орляка, помнящего челюсти бронтозавров, а также салат из него, приготовленный на корейский манер, — потрясающе вкусен и отдает слизистыми китайскими грибами. Там же вам предложат березовый деготь, годный как для язвенников, так и для ухода за ботинками, и скрученные кольцом целебные мохнатые корни лимонника, похожие на хвосты тех чертей, что придумали Сковородино и Могочу. Но главное, в Вяземской за Хабаровском торгуют черной и красной икрой по цене в пять раз ниже столичной, копченой осетриной и жареной корюшкой, которую все здесь очень любят. Я тоже позарился на осетровую икру (бывает и калужья, но предупреждают, что надо пробовать, — попадается с привкусом фенола, мне незнакомым). В Москве распробовал. Главное теперь, не дать развиться в себе порочной склонности к черной икре, иначе никаких не только командировочных, но и гонораров не хватит. За восемь тысяч верст не поездишь особенно.
Это Иркутск, и это Байкал.
Размах, с которым поставлен Иркутск, каменные набережные Ангары (в детстве я купался в ней летом в месте слияния ее с Енисеем), очень стильный вокзал дореволюционной постройки, недавно отреставрированный и остекленный тонированным стеклом (нельзя исключить, что к приезду важного лица), — произвели на меня неожиданно сильное впечатление. Поэтому, часа два спустя, самый момент, когда поезд вырывается из тоннеля и на секунду застывает перед спуском над каменной чашей, на дне которой Байкал, я проспал. Зато весь день было потрясающее небо, облака, поблескивающие снегом сопки Хамар-Дабана, петляющая Селенга, напомнившая мне знакомый по плаваньям на каяках Днестровский каньон, летучие дожди, радуги над поселками, то дугой, то столбом, — наконец, вечер, и зловещий закат в голой степи, где-то уже перед Читой.
Улан-Удэ мне не хочется вспоминать. Когда мы с родителями переехали с берегов Енисея в Забайкалье, здесь был ближайший от нас, всего в сотне с небольшим километров, кинотеатр. Я вглядываюсь в лица бурятов, терзаемых ныне злой безработицей, в их ветхие халупы, лепящиеся друг к другу, будто кругом мало места, в обработанные клочки земли и сараи, сложенные из замасленных, отслуживших свое шпал. Едва дымящиеся заводские трубы, разбитые стекла, «Бурят-книга», «Удэгеснаб», длиннющая очередь к пункту приема лома цветных металлов. Люди, купившие билеты в СВ, в хороших костюмах, пролезают с чемоданами под вагонами, поскольку поезд № 2 принимают теперь через раз на какие придется пути. Собака с впалыми боками, щелкнувшая зубами на мой окурок. Мальчишки — три стадии вхождения в нищенство. Новичок, тихим голосом, тебе одному: «Дядя, купите у меня, пожалуйста, газету (какая-то никому не нужная местная многотиражка), я только третий день торгую». — Расплакался. Другой пободрее, оттачивает прием: «Купите у меня что-то, а то я сегодня еще ничего не заработал!» Третий уже профессионал, — наметив жертву, преследует ее по перрону: «Умоляю! Умоляю, дайте на хлеб!» На нем отцовский пиджак с длинными рукавами. Получив свое, ищет глазами следующего. Люди отводят глаза. Чувствительные вообще не выходят из вагонов. Готовы мы платить такую плату за свою свободу?
Он временно растерялся, силы его рассеяны, но он вездесущ, и я пребываю в недоумении: как это нам удалось в начале 90-х отстранить от власти коммунистов, когда так повально в стране огромное нежелание населения становиться взрослыми людьми? Бог помог, и москвичи не сплоховали.
Я включаю радио в купе, запись сделана редакцией поездных программ (фактически вычищены лишь славословия коммунистической партии). Образец стиля: «В зеркале Камы отражаются острый шпиль древнего Петропавловского собора, первого каменного здания города, ажурные стрелы портальных кранов, белокаменные современные кварталы, мощные заводские корпуса». Никаких блатных песен, хорошо подобрана музыка, голоса доверительны и не чрезмерно бодры — и я не могу не признать, что все это вместе действует убаюкивающе, внушает мне ложное чувство безопасности, заботы. МПС, как всякий естественный монополист и технократ, в принципе расположено к авторитарности. Сегодня, впрочем, оно защищается — и его надо благодарить, что не позволило пока растащить и распродать по частям свое рельсовое хозяйство. Как есть уже бывшие республики, где повыкапывали все телефонные кабели и вообще все, что блестит, если плюнуть и потереть.
Любопытно, какой поддержкой в провинциальных городах пользуется клоун в Москве — Жириновский. Не зря активисты ЛДПР отправляют в регионы с поездами пухлые кипы своей прессы и партийной литературы. Если и встречаются по пути на стенах граффити политического толка, то почти исключительно принадлежащие сторонникам этой партии: «ЛДПР — партия народа», «Жириновского президентом!» — и кто-то пониже приписал: «Верни часы Брынцалову». Рядом же можно увидеть: «Привет участникам Олимпиады-80!». И еще повсюду изваяния и мемориальные доски: Ленина (по пути в Шушенское и обратно), Калинина (сказал речь в 1925 году), Бабушкина (что он-то сделал, Бабушкин? — шрифт мелковат). Особенно же поразил меня монумент в Петровском Заводе. Перед сооруженным китайцами пряничным вокзалом — монументальная усыпальница минувшей эпохи. С ее крыши глядит поверх проходящих поездов серебряный Ленин в пальто, одну руку держа в кармане штанов, вторую заложив за спину, а в нишах гробницы выставлены аляповато позолоченные головы декабристов — восемь голов. Не приведи господь приснится!..
Я упоминал уже о питерской чете, решившейся проехать на поезде до Владивостока. С собой они взяли видеокамеру, привезенную кем-то из друзей из-за рубежа. Дело в том, что питерец служил в армии в Уссурийске с 54-го по 57-й год. Везли туда призывников тридцать суток. Высказанного мной сочувствия он не понял: «А чего, молодой, есть да пить дают, спи сколько влезет, служба идет!» Но даже у него, «рабочей косточки» с одного из питерских заводов и явного жениного подкаблучника, даже у него наличествовали какие-то иррациональные запросы и стремление соединить концы своей жизни тетивой транссибирского экспресса.
Эта пара подружилась, насколько это возможно в поезде, с женой тихоокеанского военмора, жгучей брюнеткой, загадка остро характерной внешности которой разъяснилась как-то в разговоре: она оказалась дочерью румынского коммуниста из Ясс, погибшего на фронте. После войны они с сестрой и матерью жили в Черновцах. Сестра занялась хореографией в Кишиневе и вместе с ансамблем «Жок» попала в Москву, где и живет. Она же вышла замуж за морского офицера, теперь уже отставного. Сын их — штурман (славный мальчишка, он подвез меня во Владивостоке на машине с правым рулем к гостинице на берегу Амурского Залива, где для меня был заказан номер). Эта компания шестидесятилетних пополнилась в Чите бодрым генералом из Владивостока, который все понял о жизни и теперь охотно делился гениралячьей мудростью. В былые времена он наезжал в Забайкалье охотиться на изюбря и кабана. У знакомого егеря в тайге росло семеро сыновей — «питались черт-те чем, овес заливали молоком, а выросли все крепкие, ладные, румяные» — и генеральская рука, плотоядно вильнув, изобразила в воздухе нечто вроде лесенки призывников, расставленных по росту и рассчитавшихся на «первый-второй». Шуток про «лучше переесть, чем недоспать» я, признаться, не слыхал уже несколько десятилетий. Но когда, выйдя в Хабаровске на плавящийся от зноя перрон, я застукал его с женой питерца, в присутствии ее мужа и проводницы Марьи Михайловны ведущих диспут на тему «Так что же такое счастье?» — то пулей вернулся в душный вагон и, высунувшись из коридорного окна на другую сторону, глотнул кислорода.
Незадолго перед тем поезд бесконечно долго шел по новому мосту над Амуром, с открывающимися с него роскошными планами и видами. Христофор сказал, что старый продали китайцам. И еще, что под Амуром есть тоннель — и полтоннеля под проливом до Сахалина, выкопанные при Сталине.
В пути без особых проблем я дважды вымыл голову и побрился, принося в термосе горячую воду и разводя ее в чашке. Увидев меня выходящим из туалета после «купания» Зинаида Андреевна озадачилась: «Вы что же, голову помыли?!» Отпираться не приходилось — мокрое полотенце висело на шее уликой. Она покачала головой, будто что-то прикидывая про себя: «У вас волос немного, у меня побольше будет».
Марье Михайловне и Зинаиде Андреевне лет по пятьдесят с небольшим. Марья Михайловна на этом маршруте с 1968 года, Зинаида Андреевна поменьше. Обе они, как и большинство проводников их депо, из Подмосковья — москвичей среди людей этой профессии встретить трудно. Во Владивостоке поезд № 2 стоит 12 часов, за которые надо успеть прибрать вагон, исполнить все бумажные формальности, самим помыться, выскочить в город за покупками, перекусить, встретить пассажиров — и назад в Москву. Итого две недели в пути, после чего ровно столько же они будут отдыхать. И опять в путь. За рейс каждая из них получает от 50 до 60 долларов (естественно, в рублях). Но у них есть работа, которую они знают и к которой привыкли. Пребывание в движении создает иллюзию приключения. У обеих сохранились отчасти девчоночьи повадки, за эти годы они научились сами себя веселить в дороге, кому как не им знать, что такое рутина? И в конце концов дорога всегда дает возможность человеку подзаработать. Надеюсь что она бывает благосклонна и к этим двум немолодым женщинам, которых иностранцы опознают иногда по фотографиям в своих географических журналах.
Субботы я ждал давно. Христофор пообещал мне, что на одном из перегонов между Могочей и Ерофеем Павловичем (по имени первопроходца Е. П. Хабарова) я смогу проехаться с машинистами в электровозе. В Могоче меняли локомотив. Прибыл встречный поезд «Владивосток-Москва», но состоящий весь только из почтовых и багажных вагонов. От некоторых из них нестерпимо пахло клубникой — можно было задохнуться от этого запаха! Пассажиры разволновались.
Двери нашего вагона-ресторана обступила толпа местных женщин, волнуемая другим. Женщины запасались водкой для своих непутевых мужей (или на продажу) по цене меньше доллара бутылка — в полтора раза дешевле, чем в поселке, да и ту всю выпивают. Разбирают с зарплаты ящиками, чтоб не бегать.
Навстречу мне шел Христофор с известием, что машинисты будут ждать меня в Амазаре, откуда я смогу проехать с ними двухчасовый перегон до Ерофея Павловича.
Поскольку уже дали зеленый свет, я сел с Христофором в первый попавшийся вагон и задержался в ближайшем курительном тамбуре, чтоб поглазеть в окно и выкурить сигарету. Здесь я и познакомился с демобилизованным офицером из Мурманска, который сопровождал мать в поездке к родственникам в Благовещенск. Они собирались сойти в Белогорске. Поезд шел по берегу речки, на которой неожиданно я впервые увидел плавучую драгу, моющую золото. Она черпала породу с дна, и все течение вниз по реке было сплошная муть. Тридцатилетний Борис уже бывал здесь и рассказал мне, что местные жители очень не любят золотарей, как их здесь зовут. Рыба исчезает в тех реках, где они моют золото. По инструкции они обязаны огораживать участок реки и делать отстойники для осаждения мути, но поди заставь их.
Он рассказал мне удивительную историю в связи с этим — как намывают золото его родственники, благовещенские врачи, поправляя таким образом свое финансовое состояние (положение бюджетников в регионах всем известно). Они местные жители не в первом поколении и воспользовались дедовским способом. Большинство притоков Амура в этом районе несут золото, и девять его десятых находится в столь мелкой взвеси, что никакими драгами и лотками его не уловить (вот откуда этот едва уловимый отблеск прозрачной речной воды!). Так вот, зная места и ручьи, его родственники берут овечьи шкуры (козьи не годятся, золото не будет задерживаться в них — нужны завитки) и осенью укладывают их на дно ручьев, пригрузив камнями. Надо еще знать, куда класть. Стремнина не годится, надо понимать ручей: положишь ты шкуру перед излучиной или за ней? на каком расстоянии? — от этого будет зависеть «улов». Зиму шкуры лежат подо льдом и напитываются золотом. Остается весной, как только сойдет лед, вытащить отяжелевшие шкуры и, просушив, сжечь на листе жести. Так работает «золотое руно» на притоках Амура в наши дни. Мне очень хочется верить этой истории, услышанной в курительном тамбуре в одном из вагонов поезда № 2.
Я пригласил бывшего офицера к себе в купе и угостил кофе с коньяком. В советское время их семья жила в Алма-Ате. С распадом империи родительская семья развалилась. Отец, который занимал крупную воинскую должность, категорически отказался служить новому государству и, выйдя в отставку, переехал жить в один из волжских городов. Еще в Алма-Ате мать рассталась с ним, уйдя из дому «в одной песцовой шубке», и перебралась к сыну в Мурманск. Там же после института оказалась и его сестра, ихтиолог, превосходно владеющая английским и нашедшая работу в фирме. Не прошло и полугода, как сестра получила шведский грант и отправилась в кругосветное плавание со шведскими океанологами. В данный момент она изучает экологию на Большом Барьерном рифе и ожидает получения вида на жительство в Австралии. Тогда они с матерью поедут к ней в гости. Из армии Борис демобилизовался через два года после окончания военного училища. Занимался коммерцией. Сейчас временно не работает.
Пролетело незаметно два часа, и мне пришлось распрощаться с Борисом, поскольку поезд уже втягивался на станцию Амазар.
Мне всегда казалось, что машинисты сидят очень высоко, и их кабина буквально нависает над дорогой. Но это иллюзия, проистекающая от того, что к ним в кабину приходится вскарабкиваться.
Их было двое, машинист Вилисов и его помощник Шульгин — один постарше, второй помоложе. Оба живут в Ерофее Павловиче и работают в местном локомотивном депо, обслуживающем пассажирские поезда (вождение товарных составов требует более низкой квалификации — от того они и дергаются так, что и на ногах не устоишь). Вилисов — коренной житель, степенный, ответственный и приветливый человек. Шульгин переехал с «запада», как он говорит, с Алтая, где захирел леспромхоз, в котором они с женой работали, — она у него медик. Жена же Вилисова, как и он, работает на железной дороге, и их сын также работает машинистом где-то в угольном разрезе под Благовещенском, и отец Вилисова был железнодорожником, хоть и не машинистом.
У машиниста зарплата — 5 тыс. рублей (после «дефолта» — немногим более 200 долларов), у помощника вдвое меньше. Но это со всеми «накрутками», северными и прочими надбавками — да еще на какой трассе! — в Москве же без всяких надбавок у машиниста такая же зарплата, а дороги не сравнить.
Я понял, что имеется в виду, когда мы стали выбираться со станции то ли ползком, то ли на цыпочках. Состояние этого слабонаселенного участка Забайкальской дороги, как они меня уверили, худшее на всей трассе. Мало того, что участок сложный, близкая к критической кривизна поворотов — поезд пробирается между сопками, соединяющимися в сплошные «увалы», где путь часто приходилось прорубать в скальной породе, — в низинах тоже не лучше — «мари», болота, под которыми вечная мерзлота.
За «гольцами», сопками, на которых не тает снег — уже Якутия. Здесь и названий много от якутов, вот, например, река Чичатка. А столбы, видите, покосились?
Их поставили на вечную мерзлоту — она уже на на метровой глубине. По-хорошему, им бы дать постоять год, просесть, а на них сразу провода повесили — вот они и «поплыли». Потому и нормальных автомобильных дорог между Читинской и Амурской областью практически нет, проехать только зимой можно, по «зимнику», да и то следи в оба, чтоб не сбиться и не заехать по следу куда-нибудь в тупик к золотарям. (Мне вспомнился киевский приятель, попытавшийся автостопом проехать до Владивостока, — его изумление, когда за Читой он узнал, что дальше дороги нет.)
Машинисты разъяснили мне назначение тех шпаргалок, что зовутся «предупреждениями» и прикреплены магнитами перед каждым из них. Суть их такова: по дорогам страны постоянно колесят, прицепляемые к поездам измерительные вагоны-лаборатории, которые ведут диагностику состояния рельсовых путей и полотна; есть еще в каждом депо дефектоскопы, установленные на дрезинах. На основании собранных сведений производится анализ состояния дороги, и диспетчер движения, который осуществляет контроль за прохождением составов и поддерживает радиосвязь с машинистами, каждый раз выдает им перед рейсом «предупреждение», ограничивающее скорость движения на определенных участках дороги. «Предупреждения», выданные моим машинистам были предлинными и испещренными пометками: от Могочи до Ерофея Павловича в течение четырех часов скорость менялась десятки раз в диапазоне от 15 километров в час до 75. От машинистов два часа спустя я ушел взмокший, будто это я вел состав и должен был выполнять то, что диктовало «предупреждение»: вползать на пригорки, притормаживать перед мостами, следить за светофорами, переговариваться с диспетчером и станцией, а еще вместе с Шульгиным отлучаться в машинное отделение электровоза щупать и снимать показания с замасленных электродвигателей, от которых шли такие жар и духота, что у меня и мысли не было последовать за помощником машиниста. Мне нравилась лишь одна из его функций — фистулой или басом приветствовать гудком все встречные поезда, точнее, их машинистов, а также всех станционных смотрительниц и стрелочников на разъездах и полустанках, а то и просто добрых знакомых.
На самом видном месте выведена была надпись: «Машинист, помни, что пропущенный знак — это преступление». Без восклицательного знака.
Каждый их них, чтоб заработать зарплату, должен ежемесячно проводить в дороге в среднем около 160 часов (столько же, приблизительно, времени занимает мой путь от Москвы до Владивостока). Вилисов водит поезда уже 30 лет, Шульгин у него в помощниках пятый год. В советское время Вилисов получал 500–600 рублей и жил, по его выражению, припеваючи, — мать могла еще и откладывать на черный день. Родителей уже нет на свете, и лето он проводит в их домике. Если уродятся грибы и ягоды, припасов можно наделать на целый год. Потому что вырасти успевают в этом краю только капуста и картошка. К тому же снабжение не ахти, да и работа далеко от себя не отпускает. В советское время они с женой съездили раз в Сочи, а больше не ездили — одна дорога туда-обратно занимает две недели. Еще посетовали оба, что рыба ушла из их речек — недалеко от Ерофея Павловича золотари золото моют который год, а на Чичатке, когда старую плотину унесла большая вода, новую — хоть это давно уж было — сделали без шлюзов для рыбы. Таймень с хариусом побились об нее пару лет, повыпрыгивали — и ушли в Амур, теперь одна мелочь осталась. Ну зверь еще иногда выходит, а кедра нет — он не везде растет. (Наш поезд большую часть пути на этом перегоне сопровождали ястребы.)
О красотах говорить не буду — дорога в меру живописна, к тому ж увидена была мной в непривычном ракурсе. На мой вкус было бы лучше, если б машинисты сидели повыше.
Улучив минуту, я воспользовался расположением ко мне Володи Шульгина, чтоб задать ему дурацкий вопрос, который с детских лет занимал меня (а кому его задавать? Не Христофору же — представляю, какое у него составилось бы мнение обо мне!). Я спросил его, не знает ли он, куда деваются экскременты из поездных туалетов — ведь не на атомы же они разбиваются под проходящими поездами? И не железнодорожники же прибирают его с полотна? Володя разрешил мое недоумение длиной почти в жизнь. Оказывается, что не разлетается вдребезги, то подъедают вороны, эти чайки железных дорог, — такая экология по-русски. Да, о воронах я лучше думал.
Еще Володя мне сообщил, что порубка, которая ведется вдоль пути — это расчистка места для ВОЛС, подвесной волоконно-оптической линии связи в пять тысяч жил между Владивостоком и Москвой, — связисты теперь, мол, вздохнут, что не надо больше землю копать при каждой поломке.
В Ерофее Павловиче я попрощался с ними и поплелся вдоль состава в свой вагон. Виктор Николаевич с Володей остались дожидаться бригады сменщиков. А в вагоне уже прикидывали: не отстал ли я от поезда в Амазаре? Не знаю, утешил я или разочаровал своих попутчиков. Потому что все они едва не поперхнулись от зависти, когда узнали, что я прокатился с машинистами. Да еще подселять ко мне попутчиков перестали, еду в купе один, прохлаждаюсь, а они все по двое, даже генералы. Конечно, мне хорошо — а им обидно.
Вагон-ресторан — брюхо поезда, аналогичное по своему центральному местоположению и роли рыночной площади в средневековых городах.
Виктор, пожалуй, самый занятный персонаж нашего железнодорожного передвижного театра. Все остальные работают или служат — он здесь живет, т. е. осуществляется вполне, как осуществляются люди в спорте или чем-то еще. Этот мир — его мир. Он арендует вагон-ресторан и вносит за него в кассу железной дороги ежемесячно 20 тыс. руб. (сейчас это чуть более 800 долларов), он же набирает обслуживающую бригаду. С ним уже лет пять работает повар Андрей (в тельняшке, как и подобает коку), мастерски готовящий борщ и, в общем, вполне сносно все остальное. А также официантка Светлана, бухгалтер, ведущая всю отчетность, буфетчик, торгующий вразнос, и судомойка. На одних обедах необходимую прибыль не сделаешь, так чтоб и аренду заплатить и все остались довольны. Очередей нынче в ресторан, как в былые времена, нет, хоть Виктор и старается держать низкие цены, чтоб за доллар-полтора человек мог съесть полный обед. Поэтому у ресторана есть еще лицензия на торговлю, что является благом для самых позабытых богом участков магистрали, куда по ценам существенно ниже, чем у местных торговцев, попадают тушенка, сгущенка, молоко, йогурты, конфеты и проч. Он выполняет заказы, имеет оптовых поставщиков в Москве и поддерживает рано-образнейшие хозяйственные и личные связи на трассе, рассылает по пути следования телеграммы — когда того требует дело. Его знают все, и он всех знает. На всех станциях он дважды обегает перрон, кося на ходу и постоянно отвлекаясь, — флиртует со знакомыми торговками, что-то пробует, делает стойку на все женские попки, переговаривается с проводниками и транспортными милиционерами, перелазит на соседний путь, где остановился поезд, в котором также у него есть знакомые. Что называется, человек ловит кайф.
Его хлеб дается ему нелегко. Из шести тонн груза, которые дозволено перевозить по инструкции, надо вычесть тонну воды и полтонны солярки для кухни, вес припасов, которые будут съедены и выпиты в пути, а оставшийся резерв загрузить тем, в чем действительно нуждаются люди на трассе и что способно приносить оптимальный доход, — он знает, что брать следует не дороговизной, а оборотом. Мы не очень отдаем себе отчет, до какой степени товары имеют еще и символическое значение, — ведь человеку всегда хочется чего-то такого, чего здесь на месте недостает или что является редкостью и связывает нас с большим миром и другой жизнью.
Мы сидим с ним за столиком. От роскошных иконостасов из коробок столичных шоколадных конфет осталось одно воспоминание. Салат из свежих овощей, от которого я так неразумно отказывался в первые дни, закончился. Я съедаю горячий рассольник, и мы выпиваем с Виктором по нескольку рюмок. Как я и предполагал, он женат уже без малого двадцать лет. Любит разведенную дочку, а еще больше внучку. Сын ткачихи и грузчика, он ездит на черной «Волге». В 1968 году был призван в армию и участвовал в оказании «интернациональной помощи» Чехословакии. Вступление в партию не уберегло его от тюрьмы. Ему очень нравится жить в большой стране, где все есть — и осетр ловится, и персики растут. Надо только порядок навести, и он знает как.
Сначала опустить «железный занавес» и на два года ввести карточки. Первым делом запустить заводы — пусть производят, что умеют, сами же будем это потреблять. Что делать, если мы оказались, по его словам, рабами и не умеем иначе? А сделает все это армия, доведенная до крайности. Через два года карточки отменяются — и тогда заживем. А чего нам надо? Мы ж обыватели.
Эта, с позволения сказать, «теория» находится в таком контрасте с его собственной жизненной практикой, что это меня даже развеселило. Я выпиваю с ним на посошок и отправляюсь спать.
За соседним столиком какой-то неприкаянного вида парнишка ни свет ни заря накачивается шампанским.
О многом можно было бы еще рассказать. О том, что проносящийся встречный поезд бывает похож на слайдовую фотопленку, на которой отснято — в зазорах между вагонами — 36 смазанных кадров заката. О том, как ночью в незашторенном окне протягивается над головой звездное небо, напоминающее светящийся планктон. Как в гулкой тишине поскрипывает, похрустывает суставами и вздыхает спящий поезд на стоянках. Как ночью в вагонном коридоре «браток» стрельнул сигарету, всучив взамен карамельку, — совсем не исключено, что это он прихватил, сходя, электрические часы, висевшие над расписанием. Утром их не оказалось, что очень огорчило Марью Михайловну с Зинаидой Андреевной. И как тот паренек, что дорвался до шампанского, пытался всем подарить купленный им букетик ландышей: «Сто рублей отдал за букетик — и никто не хочет. Вот я какой прокаженный!» А еще о лугах, поросших знакомыми мне с детства оранжевыми лилиями и кобальтово-синим дроком, — составленные из них букетики продавались на всех станциях, начиная с Еврейской АО, похожей на сад, где, заинтригованный, как ни старался, я не смог наблюсти из окна никого похожего на еврея. И как меня уже едва не рвало от тысяч километров пегих берез. И как на вокзале в Уссурийске из нашего поезда вынесли на носилках старуху. Все боялись, что она умерла, но старуха была скорее жива, чем мертва, ее сопровождала многочисленная родня с кучей нагруженных сумок и не очень уместными букетами цветов. Кто-то встречал их. Все они погрузились вместе со старухой на носилках в подогнанный микроавтобус и укатили.
Но вот нечто, о чем рассказать стоит.
В поезде из любопытства я свел знакомство с двумя путешествующими иностранцами. Говорят, в начале 90-х в поезд почти обязательно садилась группа иностранных туристов. К концу 90-х остались — от случая к случаю — съемочные группы и разрозненные чудаки.
Дело в том, что Транссибирская магистраль — это также миф, имеющий свою историю не только в России (от Хабарова и Чехова до, прости господи, Твардовского). За ее постройкой следили во всем мире, как до того за строительством Суэцкого и Панамского каналов, а позднее — «Титаника». Есть в Транссибе нечто поражающее воображение и волнующее, затрагивающее какие-то иррациональные центры в нашем сознании, возможно, эротического свойства. Не случайно Лев Толстой не дал своей Анне Карениной яду, как Флобер Эмме, а уложил ее под поезд. Будущий великий кинорежиссер Бунюэль семи лет от роду сочинил сказку о путешествии по Транссибу. Друг Аполлинера и Модильяни Блэз Сандрар в 1913 году написал поэму о Транссибирском экспрессе, впечатавшуюся в сознание многих поколений авангардистов. Вот как он описывает свое путешествие по Сибири в разгар русско-японской войны: «Их поезд отправлялся каждую пятницу утром.// Говорили, что много убитых.// У одного из купцов сто ящиков было// с будильниками и со стенными часами.// Другой вез шляпы в коробках, цилиндры,// английские штопоры разных размеров,// Вез третий из Мальмё гробы, в которых// консервы хранились,// И ехали женщины, было их много// Женщин, чье лоно сдавалось внаем и могло бы// стать гробом,// У каждой был желтый билет.// Говорили, что много убитых.// Эти женщины ездили по железной дороге// со скидкой,// Хотя имелся счет в банке у каждой из них». Сам юный Сандрар был нанят русским купцом доставить в Харбин тридцать четыре ларца с немецкими ювелирными изделиями, на которых он спал в пути с никелированным браунингом в руке. По его следам многие западные поэты и художники ездили уже в 70-е годы. Так американский поэт из поколения «битников» Ферлингетти взялся пить в дороге с русскими и был вынесен где-то на полпути из поезда с сердечным приступом. Тогда же один честолюбивый немецкий художник проехал до Владивостока в купе с заклеенным черным бумагой окном, пищу ему подавали в дверь, не знаю, выносили ли горшок. Изолированный от внешнего мира, он вел всю дорогу дневник. Выйдя во Владивостоке, он сжег его, сам себя сфотографировал за этим занятием и фотографии выставил на престижной выставке «Документа» в Касселе в качестве своего отчета о путешествии в Транссибирском экспрессе. Вероятно, он отталкивался от строчки Сандрара о том, что путешествовать следует с закрытыми глазами. Транссиб притягивает к себе слегка чокнутых. Хотя, правду говоря, и я готов был на шестой день заклеить окно черной бумагой и проспать, если бы сумел, до Владивостока.
Мои иностранцы оказались на удивление смирными. В ресторан они не ходили и вообще опасались есть в дороге, тем более, пить. Ни тот, ни другой совершенно не говорили по-русски. С первым я познакомился сам на одной из станций, он оказался архитектором-реставратором из Амстердама, женатым, но подарившим себе к 50-летию пятинедельную «кругосветку»: после трех дней в Москве, проезд во Владивосток с остановками в Тюмени, Иркутске и Хабаровске (мудрое решение для путешественников, не мыслящих себе жизни без ежедневного душа, — но за один этот проезд по России с остановками голландская туристическая фирма слупила с него 2,5 тыс. долларов, отправив его при этом даже не в СВ, а в купейном вагоне!). Из Владивостока ему предстояло перелететь в Анкоридж и далее по Канадской железке (которая вдвое короче маршрута поезда № 2) добраться до Торонто, откуда на теплоходе вернуться в Амстердам. В Тюмени он чем-то отравился и стал вдвойне осторожен. Там же он распрощался с двумя соотечественниками, направившимися в Пекин. С собой у него имелась баклага с купленным еще на родине сухим вином, а также кофе и вода — этим ограничивался его поездной рацион. Он делал какие-то записи в дорожной записной книжке большого формата, тасовал географические карты, показал мне толстенный голландский путеводитель по Аляске и Канаде со сделанными им закладками. Затем отвлекшись, восхищенно указал рукой рукой на закат за окном. Ему не с кем было в поезде перемолвиться словом, и все же он не вполне доверял мне, не понимая, чего мне от него надо? Да ничего не надо — просто, может, для полноты картины мне недоставало какой-то краски или цветной тени.
Второго, английского строителя из Дорчестера, привел ко мне проводник его вагона, прослышав о моих способностях к языкам. Он не мог втолковать своему пассажиру, что ему необходимо будет обратиться к британскому консулу во Владивостоке, поскольку истекает срок его визы. Англичанин отказался от мысли о поездке в Японию, куда его звали с собой приятели, и собирался возвращаться назад этим же поездом. С него турфирма за проезд в один конец, также в купейном вагоне, содрала 420 фунтов стерлингов. На него произвело впечатление мое купе, он спросил: «Это вагон 1-го класса?» Как и голландец он избегал ресторана. Где-то в Забайкалье я видел, как он покупал пучок зеленого лука, объясняясь с продавцом на пальцах. Он осторожно поинтересовался, что я думаю о состоянии поездных туалетов? Ему было на вид лет 45–50, он никогда не был женат и был совершенно равнодушен к футболу. Он показался мне симпатичным, хоть я не очень понимал его слитное произношение — с носителями языка всегда труднее общаться. Мы попили с ним пакетикового чая (бедный англичанин!), и он вернулся в свой вагон. Во Владивостоке он вышел с рюкзаком и спальником на плечах.
Как это правильно, когда железная дорога обрывается у моря. Вокзал и порт во Владивостоке соединены коротким пешеходным мостиком. Вокзал — близнец Ярославского в Москве, постройки 1910 года, недавно отреставрирован (уж не китайцами ли?). Город поставлен привольно и грамотно, замечательно вписан в рельеф. Вообще, сочетание моря и сопок само по себе вдохновляет. Еще меня поразили целые улицы, застроенные в начале века зданиями в стиле очень качественного модерна. По замыслу это город открытый, город большого стиля, переживающий нелегкие времена, но не павший духом (я сужу по горожанам). То есть симптомы упадка, деструкции, и подъема, процветания (машины с правым рулем сегодня здесь чуть не у каждого второго), образуют в нем химерически пряный букет. В нем отсутствует континентальная злость.
Я объедался здесь на набережной медведками — похожими на личинок морскими раками, запивал бочковым пивом копченых кальмаров, пересекал на пароме бухту Золотой Рог, карабкался по крутым улочкам, мочил ночью ноги в прибое бухты Амурский Залив, утром меня разбудили чайки. Меня отвезли в аэропорт в 60 километрах от города, где ИЛ-62 возвратил мне потерянные мной семь часов — вернул, как стол находок. Я чувствовал себя пружинной рулеткой, ленту которой вытянули сперва на всю длину, до упора, и затем отпустили. Не вполне по своей воле, но я совершил географическое паломничество, о котором, наверное, не может не мечтать всякий житель России.
МЕЖДУ ЭДЕМОМ И ЗВЕРИНЦЕМ
Идея зоологического сада заключает в себе, как это ни странно, фиктивную память о земном рае. По нашим представлениям в Эдеме, огороженном оазисе на востоке, отсутствовали страх и вражда. Всякая животная тварь была травоядной, а люди — вегетарианцами. Есть также красивое мусульманское предание, что люди в раю питались запахами, подобно ангелам. Позволение употреблять в пищу обескровленную плоть животных получили только Ной и его потомство. Современная наука представляет нам картину происхождения жизни на Земле, разительно отличающуюся от той, что содержится в Книге Бытия. Но фактом остается подспудное и абсурдное желание людей достичь состояния рая — будто можно так настойчиво стремиться к чему-то, о чем у тебя не может быть ни памяти, ни представления. Наши зоосады — одно из проявлений этого глубинного стремления. Утопическая и приносящая доход попытка приблизиться к никогда не существовавшему состоянию до охоты на зверей и их приручения.
Зоосад — совсем не зверинец, или не вполне зверинец. Зоосады, в современном их понимании, возникли лишь в XIX веке. Зверинцы же существовали задолго до Рождества Христова, от которого принято сегодня во всем мире вести летоисчисление. Как правило, это были просто клетки с дикими зверями либо специально огороженные и охраняемые угодья для охоты в них царей и знати. Но известно, что еще в 1150 г. до Р.Х. в Древнем Китае при императорском дворце был заложен один из первых зоопарков — с млекопитающими, птицами, черепахами и рыбами — т. н. «сад знаний», занимавший площадь до 500 гектаров и просуществовавший восемь веков. Коллекции диких зверей, рыб и птиц держали в своих дворцах многие великие цари древнего мира: Соломон, Семирамида, Ашшурбанипал, Дарий. Цирки античности были немыслимы без зверинцев, в которых томились свирепые хищники, предназначенные для гладиаторских боев. В Средневековье же, напротив, зверинцы нередко содержались при монастырях (излюбленная картинка житий христианских святых — отшельник, соседствующий с кротким львом или проповедующий птицам). При дворах королей и крупных феодалов как правило существовали охотничьи зверинцы. Уважающие себя русские князья и княжата, кроме соколиной охоты, держали также «пардусов», то есть барсов, пантер или леопардов. Кстати, жирафы в книгах той поры звались «камелопардами», пятнистыми верблюдами. Побочным и неожиданным следствием рыцарских крестовых походов, помимо импорта чумы, стало появление в Европе невиданных прежде зверей. Еще больше новинок любителям животных принесла эпоха великих географических открытий. Гонимые алчностью испанские завоеватели все же не могли не изумиться, неожиданно напав на ацтекский зоопарк, затмивший своим богатством и великолепием все, что можно было увидеть в таком роде в Европе: огромная коллекция четвероногих — только за хищниками ходило 300 слуг, еще столько же — за водоплавающими птицами на 10 прудах; одним хищным птицам скармливалось ежедневно 500 индюков; помимо клеток для зверей — искусственные бассейны, дома для птиц! То было дивное творение поразительной, жестокой и обреченной цивилизации. Справедливости ради все же следует отметить, что в свою очередь лошади завоевателей ошеломили обитателей Нового Света ничуть не меньше, чем их корабли и огнестрельное оружие.
Жители Старого Света к этому времени научились как никто перенимать новое и лучшее. Зверинцы при дворах европейских монархов начинают стремительно множиться и разрастаться, а император Священной Римской Империи Максимилиан II в 1552 году устраивает в замке в окрестностях своей столицы один из первых европейских зоопарков, позднее переведенный в Шенбруннский дворец в Вене. В XVIII веке зоопарки и зверинцы, открытые для посетителей, существуют уже, кроме Вены, в Лондоне, Версале, Турине, Мадриде, Гааге, Дрездене, Потсдаме, Штутгарте, Касселе, чуть позднее возникают в Антверпене, Амстердаме, в берлинском Тиргартене. Первый в России зверинец был основан в 1766 году Григорием Орловым в Гатчине на территории площадью приблизительно 400 гектаров. С 1794 года зверинцы используются также в научных целях. Начало этой практике положили Кювье с Ламарком, когда в Париж перемещен был зверинец из Версальского дворца. А уже в 1828 году в Лондоне открывается в Регентском Парке первый зоопарк нового типа, где для тысячи видов зверей и птиц были созданы более привольные условия существования, приближающиеся к современным стандартам. Вскоре в нем появляются также павильоны для пресмыкающихся, насекомых и беспозвоночных и акватории с морской и пресной водой. В 1864 и 1865 годах по инициативе Русского Императорского общества акклиматизации животных и растений на средства от добровольных пожертвований открываются зоологические парки в обеих российских столицах. («Зверинцами» же сто лет назад словарь Брокгауза называл Беловежскую Пущу, Гатчинский и Боржомский заповедники). Не так давно Московский зоопарк подвергся существенной реконструкции. Сегодня в нем на площади в 20 гектаров обитают около семи с половиной тысяч животных 750 видов, на которых ежегодно приходят посмотреть свыше полутора миллионов людей.
Зоопарки разных стран в двадцатом веке не только поддерживают деловые и научные связи, но и образуют международные ассоциации. Для их нужд издается на английском языке «Международный ZOO-ежегодник». Всего на сегодняшний день в мире профессионально демонстрируется около тысячи больших коллекций животных, из них 80 % в городских зоопарках. Отдельной статьей следует отметить так называемые авиарии, или птичники, — просторные сетчатые вольеры для птиц, самые большие из которых находятся в Сан-Диего (штат Калифорния) и в Лондоне. Но особую привлекательность зоопаркам придает наличие в них аквариумов. Еще в XVIII веке британцы стали использовать для содержания рыб стеклянные сосуды. Ими же был построен и открыт в 1853 году для обозрения первый аквариум при Лондонском зоопарке, в упоминавшемся Регентском Парке. Оценив выгоду, которую приносит такой аттракцион, антрепренер одного из североамериканских цирков открыл в 1856 году аналогичный аквариум в Нью-Йорке. С тех пор количество ориентированных на коммерцию предприятий подобного рода непрерывно увеличивалось. В конце 1930-х в США приступили к сооружению океанариумов (что само по себе является непростой технической задачей и требует привлечения колоссальных средств). Самые большие в мире океанариумы, вмещающие около 4 млн. литров воды, были построены американцами во второй половине XX века — два из них находятся во Флориде и один в Калифорнии.
Однако еще в конце XIX века был сделан следующий после зверинца и зоосада шаг к воссозданию Эдема на земле. В 1872 году все теми же американцами был основан первый в мире Йеллоустоунский Национальный Парк, площадью около миллиона гектаров. Сегодня национальных парков в разных странах, если еще прибавить к ним близкие по своему назначению природоохранные заповедники, насчитывается свыше двух с половиной тысяч. Главное их достоинство, что звери не изымаются из естественной среды обитания и ведут привычный для своего вида образ жизни. То, что порознь представлено в наших зоологических и ботанических садах, в ландшафтных парках, здесь оставлено на своих местах, в первозданном виде, и люди — только прилично ведущие себя гости в этих удивительных мирах.
На протяжении почти всей своей истории человек неизменно предстает в окружении животных. Практические мотивы и выгоды от их использования — начиная с охоты, скотоводства и применения труда прирученных животных, — совершенно очевидны. Но очень интересно также проследить, какие последствия такое близкое соседство имело для нашего сознания?
Человек — самое странное из порождений Природы, единственное из всех живых существ, не принадлежащее ей целиком и занимающее совершенно особое место в ней. О загадке его эволюции, скорее похожей на цепь революций, существует много версий: первопричиной тому радиация, Бог, инопланетяне, прямохождение, труд или еще что — бог весть. Как бы там ни было, и сегодня всякая человеческая особь на какой-то почти космической скорости, но скрупулезно, воспроизводит весь процесс собственного происхождения. Вначале биологического — от слияния двух клеток, через беспозвоночного головастика, до подобия космонавта в материнской утробе. А уже после рождения — воспроизводит историю становления человека (всем известные случаи со всяческими «маугли» подтверждают, что человеком новорожденному еще только предстоит стать). Младенец повторяет все основные моменты в истории своего вида: разделение функций передних и задних конечностей, нелегкий переход к прямохождению, освоение орудий, словесной речи и т. д. В детстве он окружен так называемыми игрушками: погремушки, куклы людей, фигурки животных, юла, уменьшенные предметы человеческого обихода, машинки. Сравнительно с прежними временами, сегодня в непосредственном окружении человека животных практически не осталось. Однако весь человеческий космос по всем направлениям пронизан их символическим присутствием: на ночном небе и в календарях знаки «небесного зверинца» — Зодиака. Не сомневаясь, что нас поймут, мы говорим «осоветь» или «он набычился», «он голубит ее» или «какая скотина!». Мы сходу понимаем, что рюмка, обвитая змеей, указывает на аптеку; что ягненок на плечах, или Агнец, означает самопожертвование Бога; каждому евангелисту у нас придан свой зверь — и свой имеется в Апокалипсисе; чертей и прочих демонов мы наделяем рогами, копытами, хвостами и резким зловонием; своим детям даем читать сказки о животных, чтоб Маши знали, как им уйти от Медведя, а Красные Шапочки — о чем не следует разговаривать с повстречавшимся Серым Волком; увидев изображение белоголового орлана, ждем немедленно американского гимна, а панды — китайского ресторана. Не говоря уж о драконах, единорогах и двуглавых орлах.
Первобытные людские племена чаще всего считали себя произошедшими от конкретного животного и почитали его как своего прародителя. В XIX веке такого символического предка ученые-антропологи назвали «тотемом», позаимствовав слово у североамериканских индейцев. Бывают также индивидуальные тотемы, называемые «нагуалями». И действительно, нам нечто важное способно сообщить о человеке его прозвище, такое как Великий Змей, Быстрый Олень или Соколиный Глаз, но еще больше способно поведать о внешности и предполагаемом поведении человека чье-то замечание, что он походит, скажем, на медведя, грызуна или верблюда. Искомую точность, грациозность и экономность движений перенимают у животных некоторые школы танца и восточных единоборств. Богатейший и разнообразный мир животных, как мир неких качеств, проявленных в высшей, превосходной степени, изначально служил людям для целей познания и овладения миром. Об этом же свидетельствуют дошедшие до нас наскальные рисунки, 80 % которых составляют изображения животных. Мы пришли, или, точнее, возникли в мире, уже заселенном животными, и нам не так трудно было их понять, так как аналогичный зверь сидел и продолжает и сегодня оставаться в каждом из нас. По мере успехов человека в расподоблении себя с животными и создании невиданной на земле цивилизации знание об этом он старался в себе подавить. Поэтому такими оглушительными скандалами явились столетие назад теории Дарвина и Фрейда. Они пробили брешь в возгордившемся и коснеющем сознании человека. Отдельным уроком послужили самоуничтожительные войны XX столетия. Сегодня то, что говорит наука о человеке и животных, уже не воспринимается нами столь болезненно.
А она говорит нечто такое, что опрокидывает сложившиеся стереотипы: что невозможно четко и однозначно отделить живую природу от неживой, живую от одушевленной, а одушевленную от собственно человека. Иначе говоря, что существуют переходные состояния вещества и промежуточные формы жизни. Что растения, например, обладают в самом элементарном виде зачатками психики, и комнатные цветы, скажем, способны отвечать моментальной негативной реакцией на внезапную гибель креветок в отгороженной стеклом кастрюле с кипящей водой — как бы из «солидарности» со всем живым (есть эксперименты, неоднократно фиксировавшие при помощи приборов и датчиков наличие такой реакции). Что так называемый триумфальный крик серых гусей совершенно аналогичен по значению проявлениям персональной любви, дружбы и патриотических чувств среди людей. Что шимпанзе способны освоить язык жестов на уровне трех-четырехлетних детей и общаться на нем с экспериментаторами. Что подрезание ушей и хвостов у породистых собак настолько же ограничивает их способность к общению, что и вырезание языка у людей. Что некоторые виды высших животных способны не только распознавать и соответствующим образом реагировать на знакомые слова, но также различать геометрические фигуры, осваивать элементарные понятия и решать простейшие логические задачи; интуитивные же способности отдельных особей граничат с телепатией, если таковая только существует в природе. Все это совершенно меняет всю оптику человеческого пребывания на Земле.
Благодаря успехам этологии, науки о поведении животных, приходится признать, что животные не только способны сбиваться в стада и объединяться в стаи, но и применять орудия и образовывать некие подобия устойчивого социального устройства (в особенности приматы), воевать, жить моногамно либо однополо, демонстрировать признание своей вины, горевать от смерти близких, в некоторых случаях жертвовать собой и даже сохнуть и чахнуть от любви к единственному и никем не заменимому партнеру (например, серые гуси). Как выразился один выдающийся зоолог, в психическом отношении высшие животные похожи на чрезвычайно эмоциональных людей с крайне ослабленным интеллектом. Подобное сужение сознания, потеря памяти, утрата идентичности случаются у людей при контузиях. То есть солнце светит как бешенное, а ты не знаешь, кто ты такой, как здесь очутился и всему должен учиться заново. С той только существенной разницей, что животные не теряют при этом физической ловкости. Могучие инстинкты понуждают их быть целеустремленными, а жестокий естественный отбор превращает каждую взрослую особь в чемпиона по выживанию. Вкупе с целесообразностью телосложения все это делает их фантастически красивыми внешне. Однако, кроме половых партнеров и смертельных врагов, эту красоту, кажется, способен оценить на земле только человек — приподнявшийся над собственными инстинктами единственный из участников, кто способен стать зрителем и потрястись ужасающей красотой мироздания.
В отношении могущества люди давно уже бесконечно превзошли животных — благодаря прямохождению, разделению функций полушарий головного мозга, способностям к образному и отвлеченному мышлению, воображению, памяти, владению словом и, как следствие, фантастически далеко зашедшему производству искусственных орудий.
Но, по существу, сумма наших сходств с животными едва ли не перевешивает сумму отличий от них. И только считанные признаки нашей жизнедеятельности и душевной жизни незнакомы животным в принципе. Признание в этом не унижает человека, но лишь возвращает царству животных попранное достоинство.
Одно из самых поразительных стихотворений в мировой поэзии написано Велимиром Хлебниковым в начале XX века. Оно называется «Зверинец» и представляет собой попытку расшифровать интригующую загадку существования животного мира и истолковать уроки, преподанные им человечеству. Приведем несколько «звериных строф»:
Конечно, в любом зоосаду звери — узники. У них отобрано или ограничено до предела то первейшее, что отличает их от растений — свобода передвижения. Но определенная жестокость, увы, является одним из условий мироздания. Непрекращающийся хруст костей стоит в природе, за каждым из людей также высятся горы костей, шкур, перьев. Причем жестокость зверей преувеличивается нами. Этологи очень ценят уровень понимания, достигнутый Джеком Лондоном: в его рассказах герой с удивлением обнаруживает в глазах волков не свирепство и злобу, а лишь безжалостный, разогретый голодом и азартом погони, почти что дружелюбный аппетит! И самый злостный враг животных, как и вообще живой природы, демографический взрыв, переживаемый человечеством. Тошно становится, стоит представить, как обесцветится палитра жизни на Земле с исчезновением животных видов, каждый из которых вносит определенную краску или оттенок в общую картину, — а это уже происходит повсеместно, и все большее их число все еще существует только благодаря содержанию и размножению в неволе! Потому невероятно важно, чтоб человеческие дети могли видеть их вживе, чтобы взрослые не забывали об их существовании и оживили в себе способность удивиться, восхититься и устыдиться. Только тогда у животных, да и у людей, появится хоть какой-то шанс. Ради этого пленники могут и потерпеть. Потому что, если и когда люди позволят животным исчезнуть с лица планеты, это будет уже не та планета и не совсем люди. А будет безрадостное зрелище самопожирания жизни и болезнетворного саморазрушения Природы.
Сегодня все большую часть населения зоопарков составляют животные в них же и родившиеся, и часто уже не в первом поколении. Зоосады договариваются между собой и вяжут зверей, как хозяева — породистых собак. Инстинкты таких животных дезориентированы. У части животных развиваются актерские наклонности. При скудости внешних впечатлений они нуждаются в приходе посетителей не меньше, чем профессиональный актер в зрителях. Особенно преуспевают на этом поприще, несомненно, человекообразные обезьяны. Но основная масса животных, оказавшись в условиях, не требующих интенсивной работы инстинктов, в той или иной степени дегенерирует. Подобно слабоумным в богадельне, некоторые животные целыми днями снуют из угла в угол по своей «камере» (причем совсем не обязательно из тех, что привыкли пробегать на воле большие расстояния) или, стоя, часами раскачивают головой из стороны в сторону, — похоже, подобные механические и однообразные движения приносят им успокоение. То есть они живут вдвое дольше, чем на воле, лучше питаются, охотнее и эффективнее размножаются, но… изнемогают от скуки и специфического стресса, развивающегося у зверей в зоопарках. И раз в году в каком-то из зоопарков обязательно бесится слон, любимец детей, и принимается ни с того ни с сего топтать людей. Иногда, чтобы снять этот стресс, достаточно отправить животное отдохнуть от посетителей в так называемый запасник при зоопарке или в загородную резиденцию. Начиная с 1930 года все большее число крупных зоопарков обзаводится своими заповедниками с просторными вольерами в сельской местности, где животные восстанавливают силы в более привольных условиях. К примеру, такой закрытый филиал, принадлежащий Московскому зоопарку (он называется «Питомник по разведению редких животных» и находится в Московской области, под Волоколамском), в десять раз превосходит его по площади. Специалисты считают, что экспонировать следует не более четверти обитающих в зоопарке животных, проводя их планомерную ротацию. Вообще зоопарк — это чрезвычайно сложное хозяйство. Погубить зверей проще простого, а обеспечить им оптимальные для данного вида условия обитания — на весьма ограниченной территории содержать бегающих, ползающих, летающих, плавающих, дневных и ночных, полярных и тропических, болеющих и здоровых, — задача не из простых.
Заметное число людей в наших зоопарках распоясывается — похоже, ими движет ложное чувство превосходства и собственной безнаказанности. Не весьма приятное зрелище, если представить себя на минуту по ту сторону ограды. Но один только детский восторг уже перевешивает весь негатив, связанный с посещением зоопарка. Самые разные взрослые люди также испытывают здесь сложный букет переживаний, доминируют в котором все же беспримесное чувство радости и изумление: кто тот дивный Выдумщик и совершенный Мастер, что все эти существа задумал и создал, не имея аналогий, с листа? Неужели Природа совершила все это вслепую и самотужки?!
Чтобы избавить животных по меньшей мере от физических страданий, зоопарк должен либо быть богатым, либо его не должно быть вовсе.
Помню как поразил меня впервые увиденный западный зоосад — один из лучших, берлинский «Zoo». Для него отбираются и в нем содержатся только великолепные представители своего вида, здоровые и ухоженные особи. Носорог со свисающими бронированными доспехами походил как две капли воды на выгравированного пятьсот лет назад великим Дюрером. В тот день припустил сильный затяжной дождь, пешеходные дорожки «Zoo» обезлюдели. Группа жирафов прятала головы под козырьком своего павильона, пережидая ненастье. Тут побежали на меня по траве слоны, расправив, как боевые знамена, уши и трубя так, что у меня застыла кровь в жилах. Кругом ни души, ни единого человека в униформе, слоны на воле — да что они все обалдели?! Быть затоптанным слонами на второй день пребывания в Западном Берлине! Только когда исполины остановились, я смог рассмотреть бетонную дорожку в траве с торчащими железными шипами, непереходимую для их уязвимых подошв, а перед ней ров для страховки. Было еще много впечатлений, но главное из них — знаменитый четырехэтажный аквариум, куда я скрылся от дождя и откуда уже не вышел до самого закрытия. Я даже не предполагал, что такое возможно. В лабиринте коридоров я находил аквариумы гигантские, в которых стремительно двигались акулы, и поменьше, в которых плавали десятки разновидностей кисельных медуз, шевелились актинии — для них, растущих посреди кораллов, сымитирован был океанский прибой за стеклом и полуденное солнце, струилась мурена, планировали скаты, поднимая при посадке песок со дна, перемигивались какие-то стручки с присосками и красными отметинами, как на термометрах. Бесполезно — это надо видеть. Я вышел шатаясь, как пьяный, в берлинские сумерки, затопленные неоновым светом.
Собираясь написать о зверинцах, я наведался посреди зимы в Московский зоопарк, в котором не бывал еще после реконструкции. И в целом одобрил условия содержания зверей. Большинство животных имело даже какой-то холеный вид, отчего я преисполнился гордости за отечество, переживающее нелегкие времена, и за его столицу. Как говаривал в советское время один аспирант, живший в общежитии и соорудивший кукольный домик для прирученной им мыши: «Пусть хоть она поживет по-человечески!»
Звери находились в зимних «квартирах», отделенных от посетителей только толстым стеклом. Движущийся на тебя леопард или пантера, отворачивающие в сторону всего в дециметре от твоего лица, — запоминающееся впечатление. А какая умница и красавец желтоклювый носатый тукан с идеально белым воротничком! Или шаровидный казуар, с нелепыми и ядовито расцвеченными индюшачьими наростами на физиономии, в какой-то меховой, по виду пастушьей, бурке вместо положенных ему перьев. Африканский страус просто сразил меня своим ростом — никогда не думал, что они способны вырастать до таких размеров. Его высушенная старческая головка на змеиной шее взметывалась на высоту не менее двух с половиной метров. Глядя на его мозолистые лапы, тянущие на 45-й размер обуви, и устрашающей толщины ляжки, я поверил немедленно и сразу, что одного несильного удара такой лапы достаточно, чтобы проломить грудную клетку человека. Мне подмигнул нечаянно крокодил в террариуме, но немедленно захлопнул глаза, потому что любимое их занятие — ничего не делать и притворяться бревном. В Берлине такие же!
Только для них там сымитирован тропический климат, высятся бамбуковые заросли, идет теплый искусственный дождь, поднимаются испарения, капает с листьев, можно пройтись по пешеходному мостику с перилами, под которым далеко внизу мокнет в водоемах несколько десятков таких бездельников, похожих на муляжи, а их распахнутые пасти — на желтое либо белое нутро дорогих чемоданов. (Речь идет в данном случае о западноберлинском «Zoo», потому что существует еще восточно-берлинский, «социалистический», также «Zoo», занимающий в четыре раза большую территорию, — у немцев вообще получилось всего по два, исключая только аквариум). Вернемся, однако, в зимнюю Москву.
Наконец я вышел к напоминавшему великанский термитник «Экзотарию». Эту заманчивую новинку я приберег «на закуску» и ждал от нее чудес, способных воскресить то первое впечатление от аквариума в «Zoo», — однако выяснилось, что билеты в него перестают продавать за два с лишним часа до закрытия. Вероятно, подразумевается, что ни один нормальный человек скорее чем через два-три часа из него ни за что не выйдет. Информации, кстати, об этом на входе в зоопарк не было. Что ж, будет повод наведаться сюда еще раз весной, когда звери воспрянут телом и духом и будет не так холодно.
Правда, уже не будет и так малолюдно. Но худа без добра не бывает, как и наоборот. Зоопарки — еще одно тому свидетельство.
ЯСЕНЕВО И ОКРЕСТНОСТИ
Ясенево известно как «спальный» микрорайон размером с небольшой областной город. Район удаленный — десять станций метро от кольцевой, — прижатый к другому кольцу, МКАД, как засунутый под ремень учебник.
Дышится в нем, тем не менее, легко, поскольку от поглотившего его обходным маневром мегаполиса он отгорожен Битцевским лесопарком и зеленой зоной в районе Узкого. Приезжие из центральной части города удивленно вертят головами и дышат полной грудью. Стометровая ширина его улиц и однообразие жилых коробок сводили меня с ума. Прогуляться в гастроном или на ближайший рынок — занятие, минимум, часа на полтора. Почва злая, глинистая, неплодородная. Поэтому в первый год жизни здесь мне нравилось только небо иногда — благодаря дальним видам оно бывает изумительно, неправдоподобно красивым. Силы небесные будто позаботились о компенсации местным жителям за визуальную скудость того, что расположено ниже. Хороши в Ясеневе закаты, летние грозы и обильные снегом зимы.
Неплохо также звучало название, тянущееся через «ясень» к «осени» и располагавшее к пешим прогулкам. И со временем именно это присутствие и даже вторжение природной среды стало примирять меня с участью ясеневского жителя. Замусоренный и перенаселенный лесок с законсервированными послевоенными голубятнями и строениями ясеневской усадьбы, тесная площадка для выездки, облепленная по периметру зеваками, — все это не вызывало особенного энтузиазма. Кони, грациозно роняющие лепешки на асфальтные тротуары, на мой взгляд, выглядят несравненно лучше. Собственно в Ясеневе из чего-то нестандартного и примечательного имеются лишь церковь Петра и Павла XVIII века, закрытое сельское кладбище по соседству, да пару тенистых, насмерть затоптанных аллей, заросших прудов и выродившихся садов с низкорослыми фруктовыми деревьями. Но с самого начала, и даже ранее, я попался в узы Узкого — усадьбы Трубецких, превращенной в советское время в ведомственный санаторий, а в постсоветское переживающей распад и запустение, что равно приличествует как гнездам родовитого дворянства, так и советским символам, упрятанным за многокилометровыми имперскими оградами.
Во-первых, здесь просматривался рельеф, членящий ландшафт, делающий его любопытным и живописным. Во-вторых, имелся каскад прудов с белыми амурами, покачивающимися у поверхности воды в водорослях, как отрубленые руки. В-третьих, встречались задающие лесу масштаб старые деревья, и еще — загибающаяся липовая аллея на дамбе, темные великовозрастные ели и высаженные полукругом дубы у головного здания усадьбы. Наконец — собственно усадьба, прекратившая сопротивление и сдавшаяся на милость окрестных жителей. Какие-то санаторные работники в белых халатах еще отсиживались в огромном дощатом флигеле, уставшем за двести лет прикидываться каменным. Здание само нуждалось в лечении, если не погребении. Краска лущилась на его рассохшихся стенах и задиралась чешуйками, будто от какой-то неизлечимой и прогрессирующей кожной болезни. Особенно впечатляли оштукатуренные слоноподобные колонны центрального портика — у их основания штукатурка пооблетала, обнаружив обшитую прогнившими досками гулкую пустоту. Несмотря на наплыв людей в выходные дни, кажется, это одно из самых располагающих к философствованию мест в Москве. Не случайно в одном из покоев этой усадьбы, превращенном позднее в биллиардную, скоропостижно умер Владимир Соловьев. В номенклатурные и плотоядные времена, как уверяют краеведы, в нем отдыхали от забот Мандельштамы и Пастернак. Но куда более воображение поразила — вероятно, в силу своего драматизма — другая деталь. На колокольне церкви в Узком (будто вылепленной пальцами из теста и присыпанной мукой, — что-то с камнем здесь нелады) холодным осенним днем 1812 года сидел Бонапарт, глядя на начало отступления своей армии по лесистой Калужской дороге. В складках местности и на высотах окрестностей встречаются также сваренные из рельсов противотанковые «ежи» (в виде памятников) и вывороченные бетонные останки вполне реальных ДЗОТов времен последней обороны Москвы. Есть во всем этом нечто гипнотическое.
И вот только года два спустя из муниципальной газеты «За Калужской заставой», которую я уже собирался было отправить на дно мусорного ведра, я вдруг с изумлением узнал, что живу на самой высокой географической отметке в Москве. О, слепота! Клянусь, это не входило ни в мои намерения, ни в тайные помыслы. Какая ирония и злая пародия на мегаломанию литературного «лимитчика» и всемирного Растиньяка — удалиться и спрятаться в Ясеневе от всего, чтоб нечаянно выяснить, что подвешен чуть не в сотне метров над высотой Воробьевых гор! Я вышел на один балкон, на второй — местность во все стороны заваливалась к горизонту. Наверху сочащейся родниками Ясной горы (еще и глухота: улица сюда ведет — Ясногорская!) расставлено было подковой пять раскладных двадцатичетырехэтажных «книжек». Неожиданно я обнаружил себя на самой ее маковке — во втором «томе» где-то посередке. Так вот почему отсюда так хорошо смотрится салют над городом в отдалении, и всегда гуляют ветры. Я поблагодарил в душе того, кто научил меня читать буквы, того, кто их придумал, и еще тех, что распорядились засовывать в почтовые ящики жильцов всякую бесплатную печатную продукцию. Ясенево — это получается такая типа вахта на смотровой площадке где-то на бизань-мачте Москвы: спите спокойно жители Ясенева и юга столицы!
За кормой — за МКАД — перемигиваются каждый вечер в лесу огоньками высотные корпуса с антеннами одной из самых могучих разведок мира. Оттого так спокойно спится в Ясеневе. И на палубе чисто: поливочные и уборочные машины, милиция, солнцевская «крыша» — под ней то ли трудолюбивые, то ли ленивые азербайджанцы (я так и не понял), которые только зря не допускают сюда ничего из того, что у них самих растет. За все годы всего один раз сожгли в едва открывшемся «ирландском пабе», не представившись, нескольких человек со всей обстановкой. Вообще, здесь много просторных, полупустых и весьма дорогих магазинов, в которых постоянно, тем не менее, ведутся перестановки, реконструкции, затеваются ремонты, — не поверю, что в них, тихо и культурно, не «отмываются» чьи-то безличные деньги.
В дни дефолта только, год назад, вдруг все как провалилось: вымершие ряды ларьков, оголившиеся и плохоосвещенные торговые площади, ставшие полем брани, где визгливые наскоки покупателей встречали лающую отповедь продавщиц, давно истосковавшихся по чему-то такому, — изобилие оказалось иллюзией, жизнь есть сон, и пришла пора перетянуть за это оглоблей кого-нибудь поперек хребта.
Но и это, поколебавшись, отошло куда-то. Стабильный, чистый, довольно ухоженный район, расположенный в отдалении от трасс, вокзалов и заводов. Потому и неблизко до него — за все надо платить.
Почва только сотрясается местами от проносящихся подземных поездов, и шахты с козырьками выведены на газоны, чтоб не задохнулись под землей стекающиеся из различных мест к себе домой обитатели.
Да лежащий ничком потемневший мужик из цветного металла парит на пятиметровой высоте напротив одного из выходов метро. Над его плечами барахтается также в воздухе человеческое дитя из того же материала. Никто не в состоянии точно сказать, что все это должно было означать или символизировать. Да и не видит никто давно за рекламными щитами да троллейбусными проводами этих медных летунов, кроме приезжающих сюда в первый раз.
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
Та военная тайна, которую Мальчиш Кибальчиш так и не выдал врагу, и которую Мальчиш Плохиш знал для себя, состоит в том, что Москва представляет собой, по существу, гигантский тисненый тульский пряник.
Теперь уже можно признаться, что звезды на башнях Кремля никакие не рубиновые, а карамельные, с начинкой из повидла, и затоптанная интуристами Красная площадь вымощена колотым сахаром, что между Южным и Северным речными вокзалами в гранитных берегах Москвы-реки плещется кисель, что все москвичи курят «Яву» не простую, а «Золотую», и свои загородные дома возводят не из кирпичей, а из цукатов, кроют их мармеладными лимонными дольками и посыпают дачные дорожки какао. Не имеет больше смысла это отрицать.
О БЛЮДАХ
М. Эпштейну: украинскость, русскость, советскость.
САЛО
1. Имеет ли кухня отношение к судьбе народа, к его ментальности и философии?
Только безнадежно узкий ум может ответить на этот вопрос отрицательно. И все же такая связь обычно нами подразумевается, но не осознается. В чем тут дело? В близорукости ли чувств осязания, обоняния, вкуса, побежденных более дальнобойными зрением и слухом? И в этом без сомнения также. Человеческая личинка тянет все в рот, и эта стадия глубоко оседает где-то в фундаменте взрослого человека, чьи чувства определяются приматом зрения и слуха и репрессией каннибализма.
Много ли слов имеется в нашей культуре для обозначения вкуса? Кислый, сладкий, соленый, горький, терпкий, «вкусный», — пожалуй, все. Воистину, словарь примата. И все же одно из самых диких таинств утонченной интуитивной культуры зовется пресуществлением и причастием. Есть, видать, что-то фундаментальное в репрессированном рационалистической культурой чувстве вкуса, что прошивает насквозь все уровни человеческого в человеке и торчит куда-то… в никуда. Можно наесться и рыгать, можно «напертися горнятком каин», можно предаться пиршеству или гурманству, но — элиминируем жадность — нас будет интересовать только утоление голода, подкрепление сил. Почему такой квинтэссенцией в украинской этно-культуре предстает анекдотическое ныне (что также заслуживает особого интереса) мифическое САЛО? Что это за продукт такой, и что в нем?
2. Сало для украинцев, что для евреев Манна (и для греков яблоки Гесперид), — т. е. блюдо трансцендентное и судьбоносное, и для расподобления (что называется, «в пику») со своими соседями южных рас, иудомусульманами, для них, без сомнения, трефное. Блюдо одновременно цивильное и сакральное, полемически заостренное. Поедание его подобно скольжению на лыжах.
В мире скоропортящихся на юге продуктов — оно нетленно и в чем-то эквивалентно золоту. В нем идущий от языческих толстых богов счастья культ изобилия — библейский тук — и сухой казацкий паек, бедняцкий н.з., посыпанный крутой солью чумацкого шляха. В его вкусе отчетливы отголоски дороги, — то ли его берут с собой в дорогу, то ли оно зовет в долгий путь по битым, утопающим в мягкой белой пыли, разъезженным шляхам Украины.
От тех еще телег, осей, кожанных сальниц тянется далеко идущая мудрость первых социальных механиков — «не подмажешь, не поедешь». И оттуда же тот специфический украинский «сум», печаль сидящего при дороге путника (ибо «садло» — праформа «сала» — это то, что осело, насело на мясе, — а отсюда и «сессия», и «заседание»…), да, путника, затерявшегося в степи, сидящего под бескрайним небом, под облаками — этим салом небес. К нему, как правило, достается цыбульша и режется на четыре части, что облегчает навертывание слез печальному жрецу, оказавшемуся вдали от родного дома.
Продукт универсальный, — дающий свет, будучи вытоплен в каганце, или в виде сальной свечи. Дико калорийный, будучи срезан ножом тонкой «скибочкой». Усвояемость его прослеживается даже в фонетической форме имени — скользящее «С» и влажное глотательное «Л», — ао. Соленое сало, горько-сладкий лук, горилка, пресный, чуть окисленный слюной хлеб — в чистом поле — вот фундаментальная трапеза степняка-славянина. При виде подобной сцены гордость нарастает на сердце, как сало на свинье.
3. (Резюме) Важко втриматись, аби не сказати: «сало — наше усе».
БЛИН
Блин брюху не порча.
В. Даль
Если срез мирового дерева спроецировать на русскую кухню… то выйдет блин.
Один из самых уникальных космогонических мифов заключен в русской байке о бабке, стряпающей блины на плеши своего старика. С использованием энергии Солнца, разумеется. Вообще, отголоски солярного происхождения блинов отчетливы и для нас, уже не верящих ни во что. Ведь форма круга отнюдь не проще, скажем, треугольника, и дело здесь не в одной экономии.
Кухня — один из самых древних театров представлений, особенно в случае с блюдами основополагающими, приготовленными с минимумом средств: мука, вода, огонь. Немного масла.
Самое русское в печении блинов то, что это деятельность азартная, когда работа спорится в руках, и можно смело пренебречь законом «первого блина». Так возникают созвездия оладий, хтонические деруны, блины ячневые, пшеничные, овсяные и гречишные, из пресного и кислого теста, со всевозможными начинками и без, масляные блиночки, блинки и блинцы. Вообще, чаепитие с блинами и самоваром — ничто иное как модель вселенной, как русский национальный планетарий, где чашки с блюдцами суть ходящие по орбитам Сатурны и Плутоны, а обжигающий чай аналогичен жизненосному солнечному свету, который, кстати, хитроумные русские научились улавливать и осаждать в желтизне масла и меда.
Так заселяются русскими, включаются в человеческий космос и поедаются планеты блинов, с поверхностью до того безжизненной и ноздреватой, — как мокрые фотографии Луны.
Но самый напряженный вид блины приобретают на поминках, где подаются воперво: блины с икрой. Горячие блины с охлажденной икрой — это перевертень и саван, скрывающий гиперболу плодородия. Чреватая жизнью смерть. В свете сказанного, монополия номенклатуры и госторговли на икру предстает ничем иным, как символической узурпацией права сильных на продолжение рода.
Не проникая в сознание, в самоотчет народа, мысль эта на излете застоя вылилась в соборное безумие НЛО, — когда изможденные, недоедающие и дурно питающиеся люди, подняв голову, увидели вдруг над собой пролетающие, горячие еще, блины. Возмутительное их свойство заключалось в том, что очень трудно было вступить с ними в контакт. Но это же внушало и веру, что народ, рано или поздно, до них доберется.
Так возникали предпосылки перестройки. Характерно, что почти одновременно с информацией об НЛО возникло новое русское ругательство: «Блинн!», — как гулкая пощечина, сродни американской драке тортами.
Вот тогда партия поняла, что дальше перестройку откладывать нельзя.
КОЛБАСА КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
В мире материальном также, как выяснилось, существуют величины отрицательные и даже мнимые. Одной из таких величин является колбаса.
Ошибаются те, кто думают, что величина эта довлеет и служит пищеварению, — отнюдь. Не голод она призвана удовлетворить (потому, что голода в СССР давно нет), а либидо. Свидетельством тому является тот факт — и такое ее основное свойство, — что ее всегда либо нет, либо не хватает. Сквозь физическую ее природу и окутывающий ее психический облак просвечивает и искрит метафизика. Как следует полагать, колбаса и являет собою тот фосфоресцирующий, субстанционально обманчивый фаллос, посредством которого партия осуществляет свое прокламированное единство с народом.
Эту скрытую природу колбасы с особой наглядностью выявила «перестройка». Когда в партии отмерло несколько ее видных членов, и она временно прекратила пользовать народ во все его девять отверстий, и занявшись интенсивным массированием головки собственного клитора, оставила за собою только пять из них, народ вдруг распрямился, и увидев, что партия его больше не любит как прежде, — очнулся вдруг и потребовал гневно колбасы, угрожая, в противном случае, разводом. Но как ни напрягала партия все свои фаллопиевы трубы последующие пять лет, из них ничего не исходило, кроме гласности.
Скептикам мы лишь укажем, что народ требует именно колбасы, — не мяса, не содержания! — но формы. Об этом же свидетельствуют успешные опыты с заменой в колбасном фарше мяса целлюлозой, отчего очереди за колбасой — этим политическим залогом любви — только растут. Недолюбленный народ ведет себя, как ребенок, ищущий наказания, — впадающий во вседозволенность в поисках кары, — и, несмотря на все слезы, испытывающий облегчение от символического шлепка материнской и от ремня в отцовской руке, спасающих его, наконец, от самого себя. Онтологические корни колбасы уходят глубоко в строение человека, в оба его кишечника: головной и расположенный в животе, идеально приспособленные, один — для восприятия идеи колбасы, другой — для поглощения ее тела. Следует ли уточнять, что само такое поглощение являет собою акт сексуально-политического каннибализма?
Вообще, следует отметить, что эротическая природа колбасы носит характер тотальный и комплексный. Можно выделить такие ее аспекты, как: вуайеристский, мануально-оральный, вплоть до фекального — поедания содержимого кишок (что этимологически, кстати, давно осмыслено народом сближением звучания слов «кал-колбаса»). Понятно, что богатство и разнообразие переживаний расширяет и углубляет до беспредельности ментальность любого народа, периодически имеющего дело с колбасой, ставят такой народ на пороге шестого чувства, открытого социализмом — чувства глубокого удовлетворения, — где народ и социализм, раз встретившись, не разлучатся уже никогда. Знаменательным кажется также тот факт, что еще на заре нашего века — века победоносного шествия идей Великой Октябрьской социалистической революции — колбаса именно в русском ее произношении, как «кол-ба-са», вошла в международный язык эсперанто.
И уже недалеко то будущее, тот час, — то осуществление светлых галлюцинаций человечества, когда упорядоченная, избавленная от наименований и пересортицы, КОЛБАСА как таковая будет наматываться на катушки телефонных кабелей и доставляться в гастрономы машинами, сродни пожарным, чтоб подаваться как шланг, как бьющаяся и пульсирующая пожарная кишка, — на всю очередь разом, вплоть до полного и окончательного ее насыщения.
ВОДКА КАК ЧИСТЫЙ АЛКОГОЛЬ
Есть люди, которые говорят, что пить не надо. Они под градусом от рождения и всю жизнь. Из крови любого абстинента вы всегда сможете нацедить стакан сухого вина. Открыватель пещер с Идеями говорил, что до какого-то возраста не надо пить вообще, затем умеренно, после сорока — обязательно. И танцы. Так должно было быть заведено в его Идеальном Государстве.
О пьянстве писали многие. Опьянение воспето. О водке, как продукте, молчат даже поваренные книги. Последствия ее всегда налицо, суть же неуследима, как…, — не помню, как это называется. Для удовольствия существуют другие напитки. Вкус есть у вина, он бывает лучше или хуже. У водки нет вкуса — одна только крепость. В русской водке она утверждена в точке оптимума — на перевале, на сороковом градусе широты лежит столица государства по имени Алкоголь. Студенческая работа Менделеева о водных растворах спиртов лишь подтвердила безошибочность интуиции народа, навсегда связавшего свою судьбу с огнем, водой и медными трубами.
Аппарат для возгонки спиртов изобрели тысячу лет назад арабские алхимики; чтоб обойти религиозный запрет, они создали то, чего не было, — но кто об этом сейчас вспомнит?!
Пить в России — дело чести, совести и ума.
Водка — это настоящий и единственный собутыльник человека здесь. В ней осуществляется союз его со стихиями: водой, огнем, исшедшим из земли зерном, и… spirit’oм, извлекаемым из пор этого мира. Водка — она же горелка, горькая, паленка… — по виду неотличима от сырой воды (а, ведь, и надо пить чистую, как слеза, воду… но только крепостью 40°!). Но в мире напитков она — как на пиру холодного оружия — обоюдоострый меч, не имеющий имени. Питая, она возжигает кровь, и встает в человеке категорическим императивом, — и мало кто из смертных может соответствовать тяжести предъявляемых ею требований. Грубо говоря, мало кто умеет пить. Она выворачивает нутро человека, делая — на один вечер — скрытое явным, — оттого ее не любят так ханжи, и некоторые прочие люди, похожие… на плоскодонки.
Сестра философа, — это греки могли позволить себе две тысячи с лишком лет назад разбавлять вино водой, — на самом деле ей нечего сказать людям: она пуста, как вакуум космоса, она лишь зеркальце, поднесенное к губам, ужас зомби, — а уверен ли ты, что оно и на этот раз у тебя запотеет??
МЕТАФИЗИКА ПОХМЕЛЬЯ
Ослабление гравитации в пьянстве усиливает гравитацию в похмелье. Языки алкоголя, лижущие жилы, оборачиваются холодным адским пламенем похмелья под черепной коробкой, — когда все тело трудится, словно чадящая, перегруженная сырыми дровами печь, и стучит — как предатель — твое собственное омерзительно здоровое сердце.
Пьянство выжгло кислород под удушливым колпаком неба — его недостаточно ныне даже на то, чтоб истлели и скукожились, если не сгорели, обложившие с ночи голову, как компрессы, нераспечатанные письма Гипноса, — без адреса, без марок…
О, собачий мир из папье-маше! — нищета самотождественности, давно догадавшейся о тщете соитий, но все ж продолжающей проситься наружу, как детский сад пи-пи. И изо рта смердит, будто ты уже похоронил кого-то в себе.
И это грубость земного алкоголя, который spirit только по имени — то языковая ошибка!
Все вещи на свете вдруг утратили смысл, будто сфотографированные. Какой не выпадающий ни в какой осадок остаток искал ты на дне своего воображения?! Почему и как, пройдя по тонкой и напряженной тропе тревоги, совершив бегство из мира костенящих забот, ты очнулся вдруг — весь в скользкой глине — в азиатской яме для пленников?
Ведь было так не всегда — были времена расфокусированности зрения, когда на следующий день пилось больше, чем накануне, и обычный столик, накрытый для завтрака, вдруг преображался — и пар подымался от кофейной чашки, как замшевая пыль, в протянутом с неба солнечном бревне, — где самые простые предметы были разбросаны в беспорядке, но руки твои не блудили тогда, выстраивая в перпендикулярно-параллельные ряды спички относительно кромки стола и узора на скатерти, вилку — относительно еды, где пел еще чижик, когда хотел, — быть может, отдаленный потомок того, о котором предпоследний стих Пушкина.
А под окном могла идти девочка по пустырю, — шла! — помнишь?…вороны ее не боялись, хотя в руках у нее была палка, ею она разбивала подмерзшие лужи, чуть позади и сбоку от нее прыгал по кочкам пустой полиэтиленовый кулек похожий на собачку, девочка поминутно над чем-то склонялась долбила и ковыряла что-то палкой пока та у нее не сломалась и тогда она побежала в сторону дороги где уже разворачивался автобус ранец и сумка с формой болтались в разные стороны делая ее бег дерганым лишенным равновесия в себе…
«Развей свою мысль, развей!» — кричали собутыльники накануне. Всю жизнь ты прождал знаков, мотая время на себя лебедкой, чтоб подтянуть свою люльку к смерти.
Все вкусное уже съедено.
Хлеб твой отныне, как сухой кал, и питье, как запечатанная желчь. Бессильны «колеса».
Нет тропы, выводящей из этого горячечного девонского леса, невидимого для обитающего в ультрафиолете… Кого? Молчит.
Ад! Я — твоя победа.
Но час твой еще не сегодня. Еще не пробил.
Вот снова оно подступает, и я не знаю, что с ним делать.
Каретка скорой помощи спешит, спасая жизнь, к началу нового абзаца.
РЕЦЕПТЫ
ФОРМУЛА БОРЩА
Как есть люди дождя, так есть люди борща. Один мой добрый приятель, прирожденный русак, на любое поползновение приготовить на первое что-то отличное от борща всегда насупливался и спустя какое-то время спрашивал: «А чего у нас недостает, чтобы приготовить борщ?»
Что-то есть в этом блюде… панславянское. Борщ — это метафора лета и подаваться он должен не просто горячим, а пышущим жаром, раскаленным летним полуденным зноем. Да и имя славное — борщ — за слух цепляется как репей или пароль. Существуют разные его варианты: польский, московский — однако полного накала, полной проявленности качеств, своего рода квинтэссенции оно достигает южнее — на Украине, с ее барочным вкусом и телесным переизбытком.
В Москве его нынче готовят в качестве пищевого хита знаменитый француз и знаменитый сербский повар — имеют полное право, — и все же соберемся с духом, чтоб представить его украинскую (также южно-русскую) версию в том виде, в каком она сложилась на сегодняшний день. Кухня такое же поле битв, со своими школами, ересями, уклонами и экспансиями, как и все поле культуры. Вполне может быть написана «кухонная история цивилизаций». Но все же кровь здесь, по счастью, да и то не людская, встречается только в колбасе-кровянке и английском ростбифе. Однако, довольно интродукций — ближе к делу!
Кулинария — одна из разновидностей прикладного искусства, и повар всегда отчасти художник, потому что загодя располагает чувственным образом готовящегося блюда, неким замыслом о нем. Когда берешься готовить, следует представлять, как выявить вкус исходного продукта или компонентов будущего блюда, что в нем усилить, а что погасить, нейтрализовать, в какой последовательности действовать, чтобы результат получился органичным, — а он всегда неповторим, поскольку в деле участвуют не простые химические элементы, а живые донедавна организмы. Приготовить, сварить — значит оживить, увы, уже неживое, вырастить вкус, исполненный жизненной силы.
Итак, борщ, который автор исповедует, — концепции которого придерживается, — должен с необходимостью быть:
1) горячим, даже раскаленным, как уже говорилось выше. Хотя в одно их следующих утр славно похлебать и его охлажденной юшки — она, без сомнения, самое вкусное, что есть в удачно сваренном борще, — в ней, в вытяжке, в растворенном виде, как в лупе, собраны в фокус все вкусовые компоненты борща. Таков замечательный постный борщок с ушками и начинкой из мелко посеченных грибов — одно из 12-ти обязательных блюд рождественской ночи, — из которого предварительно выбрасывается вся гуща, а затем отвариваются в нем ушки. Кому-то может показаться варварским, что предлагается оставлять борщ на следующий день или даже дни, все запомнили присказку про суточные щи. Однако, правильно сваренный борщ не подвержен старению, я бы даже сказал, он нетленен и в холодильнике настаивается так же, как и на плите. Тем более, что приготовление его трудозатратно, по времени также (1,5–2 часа чистого времени), и если уж варить, так сразу от 3 до 5 литров. Впрочем, автор оговаривается, что вкусы его в этом вопросе самые плебейские и демократические.
2) Конечно, он должен быть наваристым. Что под этим разумеется?
Для начала бульон: т. е. хорошая кость с мясом (еще лучше, т. н. мозговая), отстоянной воды побольше, с запасом (треть ее выкипит), готовить при открытой крышке на самом малом огне 3–4 часа. Делается это без вашего участия — ваше дело только закинуть мясо; когда станет закипать, снять раз-другой пену, положить коренья — луковицу (можно ее предварительно испечь), морковку, обязательно корень петрушки или пастернака, дольку сельдерея, позднее добавить лаврушку, перец горошком — об остальных компонентах, придающих жидкости специфическую плотность и густоту, ниже.
В результате у нас должен остаться собственно мясной бульон (пока не соленый) и отварное, снятое с кости мясо отдельно на тарелке. Все остальное удаляется.
3) Вкус готового борща должен быть:
а) кисло-
б) сладко-
в) пекучим.
Кислоту вкусу придадут томат и сметана (последняя — уже в тарелке). Если томата окажется мало или его кислота покажется вам в борще слабо проявленной, на финальной стадии смело добавьте в него столовую ложку уксуса, — в кулинарии для достижения цели годятся все средства! (Использование помидоров вместо или наряду с томатной пастой делает вкус борща более легкомысленным, летним, менее концентрированным. Этой же цели послужит нарезанный колечками сладкий перец.)
Сладость даст, в основном, морковь, — если не даст, столь же смело, но очень осторожно, всыпьте в борщ сахар, но не более чайной ложки.
И, наконец, жгучесть — ее составляющие: красный острый перец (лучше стручковый, хуже — молотый); 1–2 шт. душистого горошка и гвоздики — за 5 мин. до выключения плиты, и уже после них — чеснок, растертый с солью и вымороженным в морозилке соленым салом (это если вы желаете получить настоящий украинский борщ, без дураков).
4) И последнее: он должен быть радикально красного цвета (побольше свеклы — и томат), с перебегающей искрой и желтыми чешуйками жиринок, — который мы уже в тарелке забелим сметаной и оживим мелконарезанной зеленью (укропом и петрушкой).
Такова основа.
Осталось не упустить только еще несколько немаловажных частностей..
За час, примерно, до готовности бульона порежьте мелкой соломкой свеклу и слегка обжарьте в растительном масле в глубокой сковороде или сотейнике, здесь же обжарьте чуть более одной столовой ложки муки, так что при перемешивании свекла обваляется в ней (мука и придаст впоследствии желанную «густоту» и едва уловимую «мучнистость» вкусу борщевой юшки). После чего залейте свеклу с верхом бульоном и тушите до утраты ею твердости. Сюда же, ближе к концу тушения, запустите не менее полустакана томатной пасты (а также уксус и сахар, при необходимости).
Первой в уже готовый бульон отправляется свекла. На той же сковороде пассеруются затем в растительном масле коренья: опять лук, морковь, петрушка, — а также нарезанные стебельки зелени укропа и петрушки, можно хмели-сунели или аналогичные сухие смеси, где уместна будет кинза, чуточку шафрана для желтизны и пр.
Тем временем в борщ нарезается картофель (современная картошка варится не полчаса, а 15–20 минут), пять минут спустя — капуста. Очень важно не переваривать овощи, как то любят делать в России, — от этого будет зависеть ощущение свежести борща. Следом отправляются в кастрюлю пассерованные и слегка подгущенные в получерпаке бульона коренья, стручковый либо молотый острый перец, специи, борщ умеренно солится. Последним, непосредственно перед выключением плиты, в борщ кладется уже упоминавшийся чеснок, растертый с солью и салом до пастозного состояния (если вам это не претит — но в противном случае, повторяю, вы потеряете очень важную компоненту украинского борща).
Далее следует снятие пробы, устраняются перекосы вкуса, вносятся последние поправки. На этой стадии борщ должен оставаться чуть-чуть недосоленым и чуть-чуть недоперченым. Потому что затем плита выключается, кастрюля накрывается крышкой, сверху накидывается полотенце. Борщ должен потомиться еще от четверти часа до получаса, в течении которых, предоставленный себе, он натянет из продуктов то, что не сумели они отдать при нагревании, умиротворит кастрюльные страсти и гармонизирует взаимные претензии своих составляющих.
Не забудьте про зелень и, главное, — свежую густую сметану, какую днем с огнем не сыщешь заграницей. В мире молокопродуктов она занимает такое же промежуточное положение, как в мире географии Россия — между Западной Европой и Азией. Она — не кислые сливки, не протестанская простокваша, она — масло ленивых и обладает столь любезной славянскому брюху нежной консистенцией с характерной кислинкой.
Если вы не противник алкоголя, очень уместно будет предварить трапезу рюмкой сильно охлажденной водки. Стоит ли говорить, что борщ в одиночку не естся? — Смачного!
Конечно, вышеизложенное — лишь канва, партитура, обобщенный образ. Потому что нет одного борща, есть борщи — целый класс первых блюд, расползающихся будто раки, вываленные на дорогу. Если ограничиться только «украинским борщом», то даже здесь оторопь берет. Каждая губерния желает иметь свой борщ: киевский, черниговский, волынский, несть им числа. И если полтавчане вместо красной свеклы используют… сахарную, а напоследок секут в него еще свежий огурец, то уже под Кременчугом вам запросто могут предложить борщ… без свеклы:
«Бурака мы никогда не кладем!» — с достоинством отвечают они ошарашенному путешественнику. Хотя «борщ» — это и есть «свекла», «бурак». И Даль записал полтораста лет назад про него: «Борщ — квашеная свекла; род щей, похлебка из свекольной кваши, на говядине и свинине…» и т. д. Существовала в советское время даже железнодорожная столица борща — станция Ромодан на восточной Украине, где поезда дальнего следования останавливались не менее, чем на 20 минут, чтоб пассажиры смогли поесть горячего борща прямо на платформе под навесами и, подкрепившись, продолжать свой путь. Соответствующим образом подгонялось расписание. Где-то вам предложат борщ на курином бульоне — явный след близкого соседства в былые времена с еврейскими местечками, а на Западной Украине — борщ с ветчиной и сосисками (который в поваренных книгах зовется то «львовским», то «флотским»), блюдо отмеченное кулинарным униатством и возникшее, вероятно, под давлением со стороны польского бигоса и немецких вкусов. Есть и попытки придать борщу характер универсальный, вводя в рецептуру чернослив и другие сухофрукты или квас-сыровец, делая его как бы первым, вторым и третьим блюдом одновременно, сразу комплексным обедом: съел — и порядок! Борщ невозможно испортить белыми грибами и галушками, квашеной капустой с яблоками, фасолью или другими бобовыми, бараниной (только рыбу не стоит запускать в него никакую) — все ненасытный борщ готов всосать в себя (по-украински: «засмоктать») и переварить, будто живое существо или плавильный тигель. И все виды и версии борща и борщовых родственников могут оказаться вкусными — или скажем так: аппетитными, — если вы сумеете ощутить мировоззренческую установку и основной органолептический мотив этого блюда, которые автор и попытался здесь разъять и вновь сложить в виде ортодоксальной, базовой формулы борща.
Борщ учит также людей одному крайне важному умению, далеко выходящему за пределы кулинарии, — как подсказывает сам язык, не перебарщивать.
ПРАЗДНИК ИЗ НИЧЕГО ИЛИ ПОЛЬСКИЙ «БИГОС»
ВКУСЫ славян живущих на одной географической широте отличаются не больше, чем соответствующие славянские языки. В основе этой общности вкусов лежит повышенная специфическая кислотность, которую придает продукту его заквашивание. (О принципиальной важности заквашивания в славянских кухнях и поистине убийственных результатах вульгарного маринования исчерпывающим образом писал В. Похлебкин.)
Ту живую кислинку, которую русский так ценит в горячих щах, украинец в борще (особенно, когда он готовится на свекольном квасе), поляк находит в своем бигосе. Без сомнения польский вкус и дух обретает свое наиболее полное выражение в этом интегральном блюде, являющимся первым и вторым горячим блюдом одновременно. Как небо от земли отстоит он от той бледной немочи, которую под названием «тушеной капусты» любят иногда приготовить восточнее Западного Буга. Правильный бигос готовится не менее шести часов, зато и есть его можно потом неделю — сам по себе, когда наскучит — с гарниром из картофельного пюре или поджаренной с луком (и чесноком) картошки, а не то задвинуть на неопределенное время поглубже в холодильник, чтоб вдруг неожиданно вспомнить о нем, — ничего с ним не случится, и вкуса своего он не потеряет вопреки тому что пишут о нежелательности хранения готовых блюд кухонные авторитеты. Замысел первейших блюд трех славянских кухонь: щей, борща и бигоса, — в данном случае посрамляет робкое знание мудрых.
Итак, бигос (не «бигус»; также как «полька» — а не «полячка»).
Главные компоненты: свежая и квашенная капуста. А уж их соотношение зависит от вашего вкуса. Для начала попробуйте 1:1 (по весу). Возьмите казанок и начните обжаривать в небольшом количестве разогретого растительного масла нашинкованную свежую капусту. Первые полчаса-час вам придется каждые 5–10 минут помешивать ее, подбавляя каждый раз очень понемногу растительное масло. Казан должен быть плотно накрыт крышкой. Когда капуста осядет примерно на треть и слегка обжарится, продолжайте делать то же самое, подмешивая каждый раз пригоршню отжатой кислой капусты. Капуста не должна пригорать при обжаривании, но если вы не станете вообще ее жарить, то впоследствии, что бы потом ни делали, получите именно что «тушеную капусту».
Кухня вырабатывает у человека замечательное чувство времени.
И потому, тем временем: поскребите по сусекам холодильника и насобирайте максимальное количество разновидностей мясопродуктов, — всех понемногу: сырого мяса, желательно нескольких видов копченостей — колбасы, ветчины, вареных сосисок, вдруг найдете почку — берите все (печень только не надо и птичье мясо)! Бигос — это смерч, выметающий из холодильника все не утилизованные отходы, все остатки пиршественного стола (он и готовился нередко или на следующий день после обильного застолья — всегда от гостей что-то да остается, — или когда в череде затянувшихся будней без просвета хотелось устроить праздник почти из ничего, на пустом месте, — чтоб жизнь опять началась сначала). Мясо следует нарезать кубиками, либо (если оно жесткое) как для бефстроганова и отбить тяпкой. Затем обжарить с большим количеством специй и лука (в конце). Ни в коем случае не солите мясо (иначе оно пустит сок) и не жарьте, а только обжаривайте на сильном огне до образования подрумяненной хрусткой корочки. Опрокиньте содержимое сковородки в казанок. Туда же порежьте кубиками, соломкой или как вам еще взбредет в голову, копчености, сосиски и пр. За ними последуют 2–3 столовых ложки томата, черпак мясного бульона (на худой конец, разведенный в кипятке бульонный кубик годится и куриный, и, особенно, грибной). Теперь очень важный и обязательный компонент: пригоршня размоченного чернослива: либо 2–3 столовых ложки сливового повидла (если и его не окажется, то столовую ложку сахара, — хотя лучше и честнее в таком случае было бы вообще воздержаться от приготовления бигоса, отложив это дело до лучших времен). Будет замечательно, если в вашем хозяйстве обнаружится еще несколько сушеных грибов (любых) для бигоса — в таком случае, вы просто счастливчик. Остальное — терпение. Уменьшите огонь до минимума под казанком. Бигос больше вас не требует. Он сам будет тушиться, капуста будет выпускать сок. Раз в час можете наведываться на кухню, чтобы перемешать ложкой содержимое казанка (это может быть и гусятница, сотейник или кастрюля, но они потребуют от вас большего внимания, сноровки, затрат труда и времени, поскольку увеличат опасность пригорания бигоса, которое может испортить его богатый оттенками вкус). Когда густо-коричневый цвет бигоса и ароматное облако, вырывающееся каждый раз из-под приподнятой крышки, внушат вам желание поскорее свернуть многочасовый процесс — сделайте последнее: добавьте в бигос не меньше 5–6 лаврушек, два десятка раздавленных горошин черного перца, а также пару гвоздичек и пяток зерен душистого горошка (поляки зовут его «зелье анельске»), влейте сок, отжатый вами вначале из квашеной капусты (солить бигос не надо, кислая капуста это сделает за вас), — и оставьте его потомиться еще на полчаса на самом малом огне. Бигос будет плавать у вас в собственном соку, но значительное его количество он втянет в себя, когда вы окончательно снимете казанок с огня. Некоторые любители в начале тушения добавляют в бигос большее количество бульона, тогда его едят наподобие густого «первого» блюда. Но интуиция подсказывает, что все же вкуснее он будет в качестве «второго» блюда с большим количеством собственной подливы.
Еще раз:
— килограмм квашеной капусты и столько же (или больше) свежей;
— с полкилограмма мяса, копченостей и колбас (разных видов и сортов);
— томатной пасты 2–3 ст. ложки (если томатный соус, то только отечественный, без эмульгаторов, ½ стакана);
— сливового повидла 2–3 ст. ложки или пригоршню чернослива;
— лук, специи;
— мясного бульона не менее черпака;
— парочку грибов — очень хорошо!
В Галиции старухи помнят, как в первую мировую из австро-венгерских окопов тянуло по утрам запахом свеже смолотого черного кофе и бигоса (австрийская армия взяла его «на вооружение»). Надо полагать, из русских окопов тянуло из-за колючей проволоки дымком каши.
Славно-то как утро начиналось! Нет же: подкрепились — и давай из пушек охаживать друг друга. Но здесь муза кулинарного искусства смолкает. Вместе со всеми остальными музами. Еще и потому, что совместная трапеза за общим столом во все времена и у всех народов и цивилизаций остается синонимом мира.
БЕЛОЕ ЗОЛОТО УКРАИНЫ
Бытует много анекдотов о неземной любви украинцев к салу. Тому есть все основания: сало, действительно, занимает совершенно исключительное место и в кухне, и в народном сознании украинцев. На протяжении сотен лет оно было синонимом изобилия, тучности, привара, даром небес — белым золотом Украины. «Золотом», поскольку нетленно: в жарком климате все продукты скоро портятся — с посоленным же салом ничего не происходит.
Солить его, кстати, проще некуда и пересолить невозможно. Вывалянное в соли, оно само натягивает в себя ее ровно столько, сколько необходимо, чтоб удержаться от порчи, — для этого достаточно всего 2–3 дней, излишки соли затем счищаются с его поверхности ножом. Если же к соли добавить красный жгучий перец, то получится т. н. «венгерское сало», а если молотый черный — «украинское домашнее».
До сих пор, отправляясь в дальний путь, многие полагают его незаменимым в дороге. К нему обязательно берется луковица, краюха ржаного хлеба, немного «горилки»: нежнейшие на вкус калории, горько-сладкие хрустящие антисептики и витамины, подкисленный слюной хлебный мякиш, в сопровождении ста граммов водки — конечно, это на любителя, и надо иметь для этого здоровье. Безобидная попытка где-нибудь в Германии приготовить на завтрак яичницу с салом или ветчиной и гренками вызовет немедленную реакцию благовоспитанных берлинцев или гамбуржцев, с трудом подыскивающих корректную формулировку: «О, у вас, оказывается, баварский вкус!» Сами они давно предпочитают на завтрак перетертые злаки и фруктовые салаты. При том, что запахи их все же волнуют, — словно с трудом излечившихся токсикоманов. Не раз мне доводилось заставать свою квартирную хозяйку в Западном Берлине, ушедшей с головой под крышку кастрюли, где доваривался украинский красный борщ. Но довольно о стыдном, тем более, что и сам я не шибко люблю делить железнодорожное купе с украинцами, отправляющимися на заработки.
Интереснее другое: почему все же сало? В. Похлебкин верно указал в свое время на явно полемическую заостренность этого продукта — таким образом украинцы расподобляли себя с южными и восточными соседями. Свинья не любит ЮГА (где ее не без оснований почитают «нечистой»), СЕВЕРА, поскольку не любит холодов, и КОЧЕВИЙ, поскольку домосед по природе. Эта ее оседлость, дающая возможность завязаться салу, и есть тот фактор, который до определенной степени «вестернизирует» украинскую кухню, приближает ее через Польшу, Чехию, к культуре немецких колбас и ветчин, итальянскому салу (лучшему из всех, говорят) и «мраморным» беконам, требующим наличия многовековой утонченной традиции. И это не геополитика — таково мясо, сало и костяк цивилизаций. На Западной Украине — например, во Львове, где я прожил добрую четверть века, — жильцы и сейчас часто держат в подвале каждого подъезда железную бочку. Дважды в год, перед Рождеством и Пасхой, бочка выкатывается из подвала во двор, под ней сооружается очаг, и все по очереди коптят в ней колбасы, сало, «шинку», «шпондер», — дни и ночи напролет дымят дворы новостроек. Запах дыма плодовых веток и свежих копченостей сводит с ума униатов и православных, постящихся и не постящихся, католиков, с их сдвинутым календарем, и пристрастившихся к салу евреев (только эти еще, кажется, и остались на Украине), всех до атеистов, кришнаитов и командировочных включительно.
Вот рецепт приготовления в домашних условиях галицийского «шпондера» (не берусь подыскать его названию русский эквивалент, в других областях Украины его называют еще «подчеревиной»). Покупается продолговатый вертикальный срез сала с прожилками мяса и рубленными ребрышками в верхней части. Главнейший закон покупки мясопродуктов предельно прост: красивый кусок, как правило, оказывается и самым вкусным. Весит такой кусок обычно килограмма полтора. Хорошо обмойте его холодной водой. Затем очистите пару головок чеснока, при помощи узкого острого ножа нашпигуйте «шпондер» зубчиками чеснока со всех сторон и во всех направлениях. Натрите весь кусок солью, поперчите или слегка обмажьте аджикой, обильно присыпьте сухими специями (петрушка, кинза или кориандр, укроп, базилик, хмели-сунели, истолченная лаврушка — все, что окажется под рукой). В сильно прогретой гусятнице (или любой другой, но непременно чугунной посудине с плоским дном) раскалите совсем немного растительного масла (чтоб избежать первоначального пригорания), и затем обжаривайте весь кусок последовательно со всех сторон до образования поджаристой аппетитной корочки (не менее 10–15 минут каждую сторону). Весь процесс должен происходить при плотно закрытой крышке. Тем временем вы чистите пяток луковиц, нарезаете их (лучше полукольцами), и когда «шпондер» будет уже обжарен со всех сторон и будет наполовину утопать в вытопленном жире, вы отправите в этот жир нарезанный лук и вновь накроете гусятницу крышкой. Лук втянет в себя практически весь жир и станет при этом коричневым, пастозным. «Шпондер» — деликатес, холодная закуска, и естся остывшим, с хлебом. Пряная хорошо прожаренная корочка, нежная мякоть, растворившая в своем теле чеснок, вобравшая в себя все соки и ароматы луковая паста, жареная и тушеная одновременно, — никакая горчица, соус или хрен тут могут и не понадобиться!
Еще совет, касающийся собственно сала: непременно держите его в морозилке. И нарезайте тонко, как только сможете, непосредственно перед употреблением. Тогда у него возникает совершенно непередаваемый «расслаивающийся» вкус. Сам я это понял однажды во время длительной прогулки на лыжах в очень морозный день. Затем проверил — так и оказалось. В отличие от свиньи сало мороз любит.
«СИНЕНЬКИЕ» ЛИ БАКЛАЖАНЫ?
(Аджика, аджаб-сандал, баклажан… имам-баялды — или кулинарная азбука Востока)
Тот Восток, о котором пойдет речь, относительно России расположен на юге. Это тот географический пояс, где достаточно солнца, чтоб охотно росли синенькие, как зовут их наши домохозяйки. Этого, однако, мало, — есть еще трудноуловимая «мусульманская» вкусовая доминанта продуктов, культивируемых на юге, и блюд из них. Скажем, баклажан растет и на юге России и Украины, и травки разные пряные, но по какому-то молчаливому сговору они «откочевывают» в зону влияния тюркских кухонь. Русский, также как и украинец, съест баклажан — но как-то без души, без толку, измурыжит, не дав раскрыться его вкусу, просто поджарит, обваляв в муке, и слопает, или «накрутит» из него того, что зовет «баклажанной икрой». Так не должно быть, и не все так делают. Россия в некотором смысле субконтинент, безмерностью своей не уступающий Азии, и в состоянии абсорбировать и освоить продукты и блюда самого непривычного, казалось бы, вкуса, чтоб не ходить за примером далеко — картошку и помидоры. Восприимчивость к чужому свойственна всем развитым кулинарным культурам и, подавно уж, является отличительной чертой своего рода кулинарных империй, таких как Великая Французская; условно — «средиземноморская»; китайская; непосредственно за ними следующая русско-российская (да простится этот бездоказательный рейтинг больших кухонь, поскольку каждая кухня по-своему гениальна, — речь идет, однако, только о жесткости-гибкости принципов, о резкой очерченности границ или их проницаемости). Но довольно оговорок, и начнем по порядку.
Минувшим летом в Москве имел шанс стать напитком сезона Айран. Потому что никакой зеленый чай и мате, никакая родниковая вода, ничто пузырьковое из холодильника, не сравнятся с ним в способности утолять жажду и в самый знойный день возвращать бодрость. (См. о нем в статье «Кухня жаркого летнего дня».)
Теперь о продукте, который жажду разжигает, — об аджике. Они бывают разными. Советская, в «майонезных» банках, состоящая на 90 % из соли, по-своему была неплоха, но годилась только как полуфабрикат. Всем известная кавказская аджика, привозившаяся всегда отдыхающими из Сухуми и Батуми, ориентирована преимущественно на блюда кавказских же кухонь, и потому за российским столом, несмотря на свои достоинства, не нашла все же сколь-нибудь широкого применения. Еще одна аджика — это та, которую так любят заготавливать в изобилии иные русские домохозяйки. То, что ее можно есть столовой ложкой, можно расценивать как достоинство и недостаток одновременно — в зависимости от позиции и намерений наблюдателя. В качестве борщевой заправки она весьма неплоха, но в качестве самостоятельного остро-пряного соуса к приготовленному либо холодному мясу? Очень, очень сомнительно. Все дело в помидорах, которыми женщины упорно начиняют с чьей-то легкой руки этот сорт аджики. Цвет яркий, красивый — но кислота, и эти семечки! Нет, воля ваша, я — приверженец навсегда крымско-татарской аджики, где вместо сомнительных во всех отношениях помидоров используется красный сладкий перец (витаминный чемпион к тому ж). Рецепт ее таков:
на килограмм мясистого красного перца — от 4 до 6 стручков острого перца (тот и другой следует тщательно очистить от семечек, — не забывая, что жгучесть острого перца перейдет при этом на ваши пальцы, как их оттирай и не мой после, и потому не вздумайте еще часа два по завершении всех операций почесать глаз или коснуться ненароком нежного, а тем более труднодоступного участка кожи, — когда вы успеете понять, что с вами происходит, будет уже поздно);
не менее 250 г очищенного чеснока;
и зелень, — большой пучок укропа, такой же — петрушки, вдвое меньший — кинзы. веточку сельдерея, веточку поменьше — базилика (запах и вкус этих последних очень активны, и введение их в букет требует такта и чувства меры).
Все вышеперечисленное следует перемолоть. Как вы это сделаете — ваша проблема, но учтите, что обычная железная мясорубка угробит на выходе изрядную долю витамина С, что нежелательно. Полученную красно-зеленую смесь умеренно посолите (1–2 стол. ложки) и переложите в стеклянные плотно закрывающиеся банки. Найдите для них место в холодильнике. При пониженной температуре аджика не забродит и ничего с ней не случится. Для повседневного использования заведите отдельную маленькую баночку с крышкой. Каждый раз откупоривая ее, вы поймете, что правильно поступили, отказавшись от пастеризации и консервирования «заготовки», сохранив зато все витамины и такой аромат пряной свежести, моментально распространяющийся по всей комнате, что способен даже у покойника вызвать обильное слюноотделение, желание немедленно воскреснуть и потребовать отбивную, а расплодившихся проповедников «единственно правильного питания» и сторонников оздоровительных клизм повергнуть в паническое бегство врассыпную и наперегонки.
Кто попробует хоть раз приготовить аджику описанным способом, навсегда откажется класть в нее впредь помидоры.
Замечателен также соус ткемали, который хорош к мясному жаркому, рыбе, овощным блюдам. В российских условиях сливы-ткемали нет, зато много алычи. Вот ее освободите от косточек и уваривайте без всяких добавок в медном тазу или в широкой кастрюле. В начале на дно плеснете чуток воды, а дальше — только помешиваете, сок она пустит сама (так же варится — только очень долго — и самое вкусное повидло из чернослива, то, которое режется потом ножом). Когда вы увидите, что она уварилась в однородную массу, остудите и протрите сквозь сито. Добавьте толченый чеснок, сахар, соль, перец по вкусу, и некоторое количество мелконарубленной зелени (существенно меньшее, чем в аджику).
Еще один короткий рецепт: лобио, блюдо, которое русские очень любят, но почему-то не готовят. Отвариваете с луковицей, лавровым листом, черным перцем-горошком и солью — красную фасоль (коричневую, пегую, любую, кроме белой). Юшку слейте, но не выливайте в раковину — ее можно будет похлебать как суп, охладив, выпить как сок, либо использовать для подлив. Мелко сечете лук (можно зеленый), еще мельче — чеснок, зелень (петрушка, укроп, кинза), перчите, солите, сбрызгиваете уксусом или лимонным соком, поливаете растительным маслом, все перемешиваете. Блюдо готово. Его можно есть как самостоятельный салат, в качестве гарнира к мясным блюдам, с макаронами, рисом. С отварным рассыпчатым рисом (только не смешивать: горка — того, горка того) такое блюдо армяне зовут лоби-чилав — т. е. уже как бы плов.
Но пора, пора приступить к баклажану, который, конечно же, только с виду «синенький». Не говоря о том, что спелый баклажан должен быть иссиня-черного цвета, его мясистый бок должен лосниться, словно масть гнедой лошади. Он хорош во всех видах, при всех способах приготовления, и все же пика формы, сокровенных возможностей своего вкуса, — и я буду настаивать на этом, — он достигает в печеном виде. Подумаешь, открыл Америку, — скажут любители и любительницы «синеньких». Не открыл, а только подтвердил и засвидетельствовал. Роковой ошибкой, однако, и надругательством над вкусом была бы попытка испечь баклажаны в духовке, где они поначалу надуваются как дирижабли, а вскоре начинают лопаться, если не взрываться. Баклажаны пекутся только на угольях. И это дико красиво: перед выносом на заклание бастурмы-хороваца (по-русски, шашлыка) на пышущих жаром угольях лежат шпаги с наколотыми алыми сердцами помидоров, с зелеными, насажеными боком, болгарскими перцами, и грузными, прогнувшимися в пояснице, с выступившей испариной, атласными туловищами баклажанов. Нам же придется делать это на домашнем эквиваленте угольев — раскаленном металлическом листе (круге, большой чугунной сковородке, тщательно очищенной и отмытой перед тем). Баклажан со всех сторон должен обуглиться дочерна. Поварачивая его по мере обугливания кожицы с боку на бок, вы получите в результате граненый баклажан, который останется поставить на попа и испечь с торца. Перенеся его на доску, вы сможете теперь, поддев ножом, расстегнуть и снять с него жесткую обугленную кожуру разом, наподобие пальто. Дымящаяся нежная плоть обнаженного баклажана вынудит ваши ноздри непроизвольно взволноваться, — ударом ножа отсеките ломтик нижней семенной части и, обжигая пальцы, обмакните его краешек в соль, положите на язык. Глаза можете не прикрывать, все равно этот момент вам забыть уже не удастся. Никогда больше вы не спутаете вкус печеного баклажана с чем-то, что им не является. Этот гениальный вкус однако не потолок, и можно попытаться его превзойти.
Испеките штук 6 крупных баклажанов, 3–4 болгарских перца, один помидор. Очистите их все от кожицы (у перца также удалите хвостики с семенами), затем измельчите ножом. На сковороде в растительном масле спассеруйте мелко порезанную луковицу, туда же переложите печеные овощи, перемешайте и потушите под крышкой минут десять. Затем добавьте 5–6 мелко посеченных зубчиков чеснока, зелень, черный перец, совсем немного соли, не помешает сбрызнуть все это уксусом и добавить чуточку растительного масла. Тщательно все перемешайте и тушите еще минут пять. Когда сковорода остынет, переложите то, что получилось, в банку, охладите в холодильнике. То, что получилось, — это великолепная баклажанная икра, которую сделать можете только вы сами. Режьте свежий хлеб, мажьте сливочным маслом, сверху — икры побольше. А хотите — используйте как гарнир к другим блюдам. Из овощных закусок эта, кажется, будет самая вкусная.
Привычнее для нас вкус обжаренного баклажана, — в чисто овощном или мясном рагу. Это он придает характерный окрас, определяет вкусовую гамму таких знаменитых в Закавказье блюд, как аджаб-сандал или имам-баялды (буквально, «имам забалдел» — попробовал и упал в обморок, гласит легенда. Святой был человек, хотя такое измерение святости оценить для нас несколько затруднительно). Похвальным было бы предварительно обжаривать все компоненты будущего рагу (кроме фасоли): баклажаны и картофель — кубиками, бараньи или другие ребрышки, лук, сладкий и острый перец, морковь, маленькие помидорчики целиком. И, конечно, лучше тушить рагу в глиняном горшке в духовке. На худой конец — в гусятнице. Всегда можно найти какой-то выход из положения.
Лето вынуждает нас реже пользоваться плитой и чаще холодильником. Горе человеку, застигнутому наступлением летнего зноя в городской квартире, тем более, если город — мегаполис, а дом панельный, даже после перемены погоды продолжающий остывать еще три-четыре дня.
Бессонной ночью под воинственное пение комаров, когда температура в квартире вот уже неделю не опускалась ниже тридцати градусов и не предвидится этому конца-края, мне непременно вспоминается лапидарное суждение старого приятеля, в бесконечной правоте которого я не перестаю убеждаться каждым летом в Москве. Так случилось, что мы с ним, в силу разных причин, прожили почти год на подмосковной даче одного знакомого. Зима выдалась суровая, а в конце декабря ударили тридцатиградусные морозы. Работающая система АГВ согревала разве что воду в трубах, не давая ей замерзнуть. Пустотелые стены дачи дрогнули и сдались на волю сковавшего местность холода. Затихли в них мыши, пропали тараканы. Несколько дней мы с приятелем пролежали в своих постелях, натянув на себя всю имеющуюся верхнюю и зимнюю одежду и накидав сверху одеял, какие смогли найти в нижних комнатах. Мысли поехать в город, появиться на работе, чего-то поделать даже не возникало. Меня тревожило только немного, что мой товарищ не поднимался несколько суток, даже чтоб проведать дворовой сортир. Не говоря уж о том, чтоб встать чего-то приготовить и поесть. Несмотря на детскую память немилосердных енисейских морозов, очень многое именно в эти дни понял я в российской истории до костей, шкурой ощутил, — и про Наполеона с его армией, и про Гитлера. И вот, когда в очередной раз, не в состоянии победить естества, я намеревался выскочить на двор, из-под кучи одеял неожиданно отозвался мой товарищ. С трудом справляясь с лязгом зубов, но с огромной силой убежденности, он выговорил — и я разобрал:
— И все равно это лучше, чем плюс тридцать градусов в тени!..
Он вырос в Саратове и знал, что говорит, — к вступительным экзаменам там ему приходилось готовиться лежа по горло в ванне с холодной водой. Холод — он ведь снаружи, можно, на худой конец, сжечь дачу и согреться. Жара для существа теплокровного непереносимее, поскольку остудить себя изнутри, когда она уже угнездилась в перегретом теле, не представляется возможным.
Самое же неприятное в знойную погоду — это еще и простудиться от искусственных сквозняков и переохлажденного неумеренного питья. Тем более, что, как известно более искушенным в претерпевании жары народам, далеко не всякое питье помогает ее сносить. Жара (как и алкоголь) вымывает из организма питательные вещества и минеральные соединения, и питье, не подпитывающее ими организм, лишь усугубляет положение. Замечательно иллюстрирует это положение похлебкинская этимология: «напитки» призваны не напоить, а «напитать» организм.
Всякий россиянин знает о существовании калмыцкого чая, отменно утоляющего жажду, но далеко не всякий станет его пить. Употребление зеленых чаев — это целое искусство с элементами церемонии, не подкрепленное к тому же у нас рыночным предложением. Жестоко было бы, однако, заморочив голову читателю, оставить его погибать от жажды в жаркий день. Средство, помогающее утолить жажду в зной и возвращающее бодрость, давно изобретено. Оно зовется айран. Купить его негде — придется готовить самим. Простейший айран — это катык или сквашенное молоко, разведенное холодной водой или водой со льдом. Сделать его нетрудно, но в таком «бедном» айране нет изюминки — разница приблизительно такая, как между никаким и хорошим пивом. Его действенность может быть многократно усилена. Я намерен поделиться с читателем рецептом состава, вывезенным из Египта советскими строителями Асуанской плотины. Нелегко поверить, что утолению жажды наилучшим образом способствует… чеснок в сочетании с укропом. Нежирную простоквашу лучше сделать самому, сквасив молоко, продающееся в полиэтиленовых пакетах, — оно, в отличие от полюбившихся народу «тетрапаков», без консервантов (от накопления которых в организме, кстати, совершенно не желают разлагаться небогатые немецкие покойники — и хоть они живут дольше, есть что-то в этом, отвращающее от мавзолейных посягательств на человеческую еду. Надеюсь, читатель простит мне этот неаппетитный пассаж, продиктованный стремлением отличать живое от мертвого). Молоко скорее сквасится, если вы бросите в него корку бородинского хлеба. В полученную простоквашу вы добавляете тщательно измельченный толченый чеснок и мелко посеченную зелень укропа (любители бросают еще немного подавленных семян тмина или растертый листик мяты и щепотку соли). Перемешав все это, вспениваете простоквашу тугой струей газированной минеральной воды, желательно охлажденной. Сифоны давно вышли из употребления, но каждый знает, какого давления можно достичь в обычной бутылке «Нарзана», если, откупорив и прикрыв горлышко большим пальцем, держа обеими руками, энергично ее потрясти. Останется только направить струю, осторожно отпуская большой палец, — что достигается тренировкой. Случайные брызги при этом также подействуют освежающе. Поллитра так приготовленного айрана приведут в чувство самого изможденного зноем человека. Состав можно приготовить загодя в большом количестве и держать в холодильнике. Отдельно, как «запалы» к нему, держать там же батарею газированной минеральной воды — лучше отечественной, в стеклянных поллитровых бутылках.
Уместным будет также сказать несколько слов о родимой окрошке.
Квас. Мало какой из продающихся — тем более в пластиковых бутылках — пригоден в качестве такового. Придется и квас сделать самим. Для этой цели вполне годится продающийся повсеместно экстракт в банках (причем, чем он гуще, тем лучше и тем дешевле обойдется вам выход готового кваса), для более активного брожения и вкуса можно закинуть в сусло пригоршню изюма. Окрошка может быть разведена и на сыворотке, сцеженной из простокваши и охлажденной. Есть любители такой «диетической» окрошки. Но в ней не будет этого кишения пузырьков, лопающихся в сметане от движения ложки, когда поверхность окрошки вся шевелится, как живая, от борта до борта тарелки.
Картофель. Этим летом нас цинично обманывали на всех рынках Москвы, предлагая под видом «молодого» всепогодный и всесезонный западноевропейский белый картофель, отмытый чуть ли не шампунями. По вкусу он, может, и неплох — но к тому, что мы привычно называем «молодым картофелем», к тем корнеплодам, что сами шелушатся и очищаются от нежной кожуры под струей проточной воды, эта картошка не имеет никакого отношения. Неприятно, когда тебя преднамеренно вводят в заблуждение. Будьте бдительны: кожура молодого картофеля обязана шелушиться — здесь ничего не изменилось!
Еще такая деталь, как редиска. Уже упоминавшийся Похлебкин В. В. дает недвусмысленно понять, что презирает тех, кто кладет в окрошку редиску, — дескать, ее плотность «из другой оперы», а аналогичного вкуса можно добиться добавлением в окрошку небольшого количества тертого хрена и горчички на кончике ножа. Кто спорит, вкуса-то можно, но как быть с цветом? Разве можно спорить, что вид окрошки очень оживляют белые колечки и дольки с красным ободком? Ее резковатый вкус из той что нужно «оперы», а плотность «присядется», если нарезать ее потоньше, — тогда и веселящее душу похрустывание останется.
Все остальное — по поваренной книге и собственному вкусу.
А вот после окрошки можно съесть уже чего-то горяченького. «Переложившись» же горяченьким, можно подать себе и детям на десерт малину с молоком.
Не растертую, а только слегка подавленную малину с сахаром залить хорошо охлажденным голубоватым молоком, перемешать, следите за цветом — вы получите вкус полной тарелки возвращенного детства. Естся ложкой.
И так завершив — можно и на боковую (если дела терпят). А если отпуск или выходные, так и сам бог велел — дома ли, на даче.
Прискорбное состояние похмелья являет собой аргумент весомый, но низшего порядка в пользу отказа от злоупотребления алкоголем. Один психиатр, приятель моей юности, советовал всем отказаться от окказионального постыдного пьянства, но при этом дважды в месяц грузиться алкоголем до упора, чтоб сохранить здоровой психику. Собственный абстинентный синдром он изгонял с последователями своего учения ежесубботним футболом и баней с пивом после этого. Какая-то часть его совета запала мне в душу, как то бывает в молодости, что позволило со временем накопить собственный практический опыт.
Метафизические, психологические, социальные основания злоупотребления алкоголем оставим побоку (а это, несомненно, нерешительная и полубессознательная форма суицидальности), сосредоточившись исключительно на телесном аспекте и том, что можно предпринять, чтоб выйти из острого состояния, дающего представление о самочувствии в аду (куда церковь не без основания помещает пьяниц).
Конечно, всегда предпочтительнее «активная жизненная позиция» — т. е. футбол (или лыжи) и баня, — но, если это по какой-то причине невозможно или чересчур отвращает (ресурсы самопринуждения не безграничны), можно попробовать более мягкий вариант и попытаться вернуться к нормальной жизнедеятельности через кухню. Не требующая приложения сверхусилий трудотерапия не только неизбежна, но и желанна. Осуществление кухонной повинности имеет своей ближайшей целью восполнить недостаток в организме тех питательных и минеральных веществ и витаминов, которые выжег и вымыл алкоголь. Организм следует не напоить, а напитать (наиболее распространенной ошибкой поэтому является неумеренное потребление влаги на следующий день; алкоголик — это ведь и есть человек, перешедший на жидкие продукты питания, калории в чистом виде, которые поставляет алкоголь, они легче усваиваются, и организм, всегда склонный к лености, незаметно попадает т. о. в биохимическую зависимость).
Начать можно с приготовления безалкогольного коктейля, с незапамятных времен зовущегося «Утро нашей Родины»:
в острый томатный соус (или томатную пасту с аджикой либо перцем и солью) выдавливается чесноко-давкой зубчик чеснока, добавляется — обязательно, и в этом главная тонкость! — измельченная зелень укропа либо несколько капель укропной эссенции, запускается целый яичный желток, и вся эта смесь вспенивается взболтанной в бутылке (желательно, в стеклянной) минеральной водой. Лопающиеся пузырьки, всплывающее над кроваво-красным горизонтом желтое светило, заглатываемое и скользящее затем по вашему пищеводу, и прочие дразнящие и освежающие ингредиенты и будут тем, что приведет вас первоначально в чувство.
Только такой коктейль по рецептуре, бережно передаваемой поколениями из рук в руки, имеет право называться «Утром нашей Родины», а не гнусные выдумки алкашей, абстрационистов «по жизни».
Жажда — не выдумка, но следует помнить, что никакими количествами никакой воды ее не утолить. Хорош катык или кислое молоко. Из рассолов наилучшим считается капустный, по той простой причине, что это собственно капустный сок, а не вода, добавляемая при заквашивании в огурцы-помидоры. Не следует пытаться заменить отсутствующие рассолы маринадами — это гибельный путь уподобления младшим братьям по разуму, пробующим без разбора все подряд в тщетной надежде, что полегчает. Неплох в качестве первого шага крепкий свежезаваренный чай с лимоном и сахаром, стакана три, с которым в организм попадает ударная доза таинственно животворящего витамина С и танина.
Чтобы расположить организм к выходу из похмелья (и уж, во всяком случае, не дать себе шанса соскользнуть по неосторожности в запой), необходимо плотно и разнообразно его напитать. Можно выйти на ближайший рынок и прикупить продуктов, проветрившись при этом, но можно и сразу предаться приготовлению пищи. Что бы вы ни приготовили, от отварной картошки по яичницу с салом или беконом, все будет хорошо. Еще лучше — горячий супчик, вытянувший из овощей, куриного мяса (да чего угодно!) те питательные вещества, что так необходимы вам для жизни. Чем он концентрированнее (не гуще!), тем лучше. После первых же обжигающих ложек вас непременно пробьет пот. Теперь, под горячее, можно выпить, наконец, рюмку водки (речь идет о традиционной, свойственной данному климату разновидности похмелья; от винного похмелья хорошо помогают охлажденные устрицы с шампанским, но даже упоминать в массовой печати о подобных видах опохмелки — это цинизм).
Все перечисленное не имеет, однако, отношения к собственно похмельной кулинарии. Горячие первые блюда последней четко делятся на два следующих основных направления. Первое — это классическая линия русских кислых супов: щи, рассольники и солянки всех видов (их отличительной особенностью является то, что, когда они имеются в наличии в холодильнике, припасть можно к ним еще в холодном виде, не откладывая дела в долгий ящик; а уже оправившись и приведя себя в порядок, можно умять также тарелочку в разогретом виде). Противоположное направление это густые, коллоидные, желеобразные в холодном виде супы и блюда южного и, отчасти, центрально-европейского происхождения (кавказский хаш или хаши, западнославянские «флячки», т. е. рубцы специального приготовления). Едятся они только сильно разогретыми.
Из первого направления предпочтительнее всего т. н. богатые, или полные щи из квашенной капусты, а также рыбная солянка (наилучшая — из осетровой рыбы с хрящами, что, кстати, уже имеет отношение к достоинствам блюд второй группы, — но годятся и ординарные кета, горбуша, голец).
Не говоря о традиционности щей на русском столе, сейчас не счесть издаваемых и переиздаваемых кулинарных книг и почти в каждой из них читатель легко обнаружит описание и рецепт приготовления вышеупомянутых полных щей. В их составе:
мясо с косточкой (бульон варить не менее 3-х часов на самом малом огне в открытой кастрюле);
квашенная, отжатая и промытая капуста, которая тушится отдельно и затем добавляется в готовый процеженный бульон;
картофель во избежание затвердевания в кислотной среде также варится отдельно в небольшом количестве воды и вносится вместе с отваром в готовый мясной бульон;
лук и коренья (которые, если вы не выносите вкуса вареного лука, лучше все же спассеровать на сковороде в растительном масле);
грибы, можно сушеные, но куда лучше соленые, а еще лучше — и те и другие, маслом кашу не испортишь, тем более, что консистенция, вкус, аромат у них разные;
не пожалейте отборного лаврового листа (из расчета лист на тарелку), перца (раздавленный черный горошек или полстручка паприки), а в самом конце добавьте еще несколько зубчиков толченого чеснока.
Если вы не ленивы, то доводить щи до бесподобного томленого вкуса лучше всего в духовке — в горшке толстостенном казанке, кастрюле, на худой конец, или даже эмалированной гусятнице. Пусть потомятся хотя бы час при умеренном нагреве сведенные воедино ингредиенты. Разложив в меру густые щи по тарелкам, горшок или кастрюлю с их остатком верните в духовку медленно остывать в ней. Разболтайте в тарелках по ложке сметаны и присыпьте сверху нарезанной зеленью, что смягчит вкус и придаст дуновение свежести готовому блюду. Это, что касается щей.
Солянка, особенно рыбная, ассоциируется у большинства с составом ресторанного меню, хотя готовить ее очень несложно и любому семейному обеду она придает праздничную тональность. Рыба берется для нее либо малосольная, нежного засола, либо свежая красная рыба (если позволяют средства — осетровая), либо та и другая вместе. Чтобы рыбный бульон получился концентрированным, — а от этого решающим образом зависит вкус будущей солянки, — я бы рекомендовал с полуотваренной рыбы снять на доске, но не очень тщательно, наиболее мясистые части и затем хребет, голову (жабры из которой должны быть удалены еще при разделке!), хвост и плавники вернуть в открытую кастрюлю вывариваться с кореньями и специями (крайне желателен сельдерей — корешок либо веточка). Час или более спустя уваренный на небольшом огне приблизительно вдвое бульон останется только процедить через марлю или сито.
Тем временем в сотейнике или глубокой сковороде поставьте тушиться в собственном рассоле в смеси с половником рыбного бульона соленые огурцы, нарезанные мелкими кубиками, и постные оливки или твердые маслины (жирные и мягкие не требуют дополнительной тепловой обработки, но, к сожалению, далеко не всегда удается на них напасть). Туда же можно отправить помидоры со снятой кожицей (чтобы она легко снималась, опустите помидоры на несколько секунд в кипящий по соседству рыбный бульон). При отсутствии помидоров для придания специфического привкуса кислой среде, а также для колера, вам придется добавить в солянку пару ложек томатной пасты, иначе цвет готового блюда выйдет грязно-бурым, что будет не весьма аппетитно на вид, а вкусу будет явно чего-то недоставать. Отдельно следует спассеровать коренья на растительном масле.
После чего процеженный концентрированный бульон соединяется с тушеными солеными овощами, пассеровкой и полуотваренной и разделенной на кусочки рыбой. Некоторые любят в солянке также квашенную капусту, но в таком случае стоило бы дополнительно посечь ее ножом поперек, чтоб не свисала с ложки. Попадаются эклектики, которые не видят также ничего дурного в нарезанной мелкой соломкой, как для жюльена, картошке в солянке — но подобное решение оставим целиком на их совести. Но вот что в высшей степени уместно и желанно в солянках всех видов — это соленые грибы (особенно их хлипкие шляпки!). Только тогда может получиться у вас солянка высшего пилотажа — даже без осетрины, раковых шеек и каперсов. Если нет соленых грибов — спускайтесь ниже по лестнице возможностей — от свежих до сушеных, от белых до опят, вплоть до маринованных, но какие-то грибы обязательно постарайтесь обнаружить, добыть и запустить в солянку, иначе какая же это рыбная солянка?! (А ближайшей же осенью засолите хотя бы трехлитровую банку опят. В искони грибных регионах это делается так: очищенные грибы трижды заливают крутым кипятком, остывшую воду сливают, затем грибы крупно и щедро солят и ставят под гнет — через несколько суток можно пробовать. В закатке соленые грибы не нуждаются, но хранить их следует в холодном месте, а перед употреблением промыть от слизи. Вы будете потрясены новым вкусовым оттенком солянок, щей и других привычных блюд).
Не забудьте положить в кастрюлю (лучше в горшок) лавровый лист, раздавленные горошины черного перца (меж двух ложек, одна в другой, или широким ножом, плашмя, на доске), пару зерен душистого горошка, а затем, накрыв кастрюлю крышкой, задвиньте ее на полчаса в нагретую духовку или поставьте на плиту на самый слабый огонь.
Разложив солянку по тарелкам (густота ее должна располагаться на шкале где-то между очень густыми, наваристыми щами и обычным супом), по желанию введите в каждую по ложке сметаны, присыпьте измельченной зеленью и — это важно! — положите по треугольному сегментику лимона, освобожденному от кожуры и косточек. Дело сделано. Беритесь за ложки, как за весла, и гребите дружно, будто на королевской регате.
Хаш — совершенно особая статья. Здесь несколькими часами или даже одним днем не обойдешься. Но существуют такие заранее расчисленные даты в календаре, о которых каждому известно, какими последствиями для организма они чреваты. Хаш — древнее блюдо, созданное тысячи лет назад с совершенно иной целью, не приходится сомневаться, что оно старше алкоголя. Но что нам до того, когда оно идеально подходит для нашей цели в данном случае. Хаш — это такая как бы липучка для летучих этиловых формул, выдворяющая, будто милицейский наряд под микитки, их бесшабашную и желающую продолжать гулянку компанию из организма. Поэтому телячьи или говяжьи ноги покупаются мастерами похмелий заранее, не позднее чем за двое суток до ожидающегося застолья.
Говоря грубо, на выходе у нас должен получиться раскаленный жидкий студень из одних парнокопытных ног, который уже в готовом виде заправляется особым образом. Но все по порядку.
Ноги при необходимости опаливаются, затем тщательно скоблятся ножом, моются, опять скоблятся, разрубаются, не повреждая костей, и надрезаются в местах сочленений и на сгибах (копыта парнокопытных сравнительно легко раздваиваются по всей длине стопы при помощи большого острого ножа). В таком отчасти расчлененном виде они кладутся в таз на сутки промываться под проточной водой (совесть у вас будет чиста, если толщина вашей струйки не превысит толщины спички, что составит расход не более 40 ведер в сутки; в крайнем же случае следует просто менять холодную воду каждые два-три часа). Промытые ноги еще раз выскабливаются, трутся, моются, — устраняются всякие намеки на тяготы земной жизни крупного рогатого скота, покуда ноги не размягчатся, не отбелятся и не приобретут вид холеных конечностей существ, никогда не топтавших грешную землю.
Затем они варятся всю ночь на самом слабом огне в широкой открытой кастрюле. Объем воды должен уменьшиться в несколько раз (с 5–6 литров до полутора — из расчета на две ноги). Только вода и ноги — больше ничего, никакой соли, никаких специй! Это блюдо требующее времени, однако непритязательное в приготовлении. Необходимо только в начале закипания снять небольшое количество пены и жира. Когда ноги уже развариваются и начинают распадаться на части, я, грешный человек, прекрасно понимая «неканоничность» подобного решения, все же забрасываю в хаш несколько лавровых листиков и горошин перца. И настаиваю, что это не портит вкуса блюда. Следует сказать, что большинство рецептов хаша требуют присутствия в его составе также отваренного рубца, однако предварительная обработка рубца весьма трудоемка, и если уж заводиться с ним, то лучше нацеливаясь на приготовление польских «флячек», а хаш — он и без рубца хаш. Итак, совершенно разварившиеся ноги вы извлекаете шумовкой (вместе с упомянутыми «контрабандными» пряностями) и выкладываете на блюдо. Дав им слегка остыть, тщательно удаляете все легко отделяющиеся косточки. Должна остаться разобранная вами на мелкие части колышущаяся разварная мякоть — по консистенции нечто среднее между медузой и суфле. Косточки, кстати, можно обсасывать — в каждой из них имеются в различных местах крошечные отверстия — сок их весьма вкусен. Если вы призовете на помощь в этом занятии супругу (супруга) или детей — это, несомненно, послужит укреплению вашей семьи. Однако, к делу.
Вся мякоть возвращается в бульон, и хаш вновь доводится до кипения. Тем временем вы очищаете и пропускаете через чеснокодавку на отдельное блюдце не менее головки чеснока. Остальное делается уже каждым в своей тарелке. В хаш добавляются только: соль, толченый чеснок и уксус (от половины до столовой ложки того и другого — вкус их должен ощущаться), а также, при желании, черный молотый перец. Некоторые предлагают вместо уксуса тертую редьку, а также зелень и лаваш. В конце концов, попробуйте и так и так — и тогда судите сами. Вкус хаша — раскаленный, от него склеиваются губы и теплая тяжесть откладывается на дне желудка, покуда не займет весь его объем. Это единственное из похмельных блюд, которое, в силу своей специфики и сытного характера, с необходимостью требует водки, желательно охлажденной, можно — настоянной на хрене (корень поскоблить, нарезать мелкими кубиками и, засыпав в бутылку на один-два пальца в высоту, выдержать несколько часов). Выпейте одну или три рюмки (две не следует, чет в пределах, поддающихся счету, предосудителен). Учтите, что лучше всего есть хаш в первой половине дня. И душ — до или после хаша. (Возможно, это прозвучит дико, но имеется ничем кроме интуиции не подтверждаемое подозрение, что алкоголь имеет тенденцию накапливаться в ороговевших слоях эпителия, в корнях волос и под ногтями — этими бедными родственниками копыт.)
Чем вы займетесь после душа, будет зависеть от меры вашей готовности начать новую (лучшую) жизнь. Но для начала я бы порекомендовал сон, насколько достанет ваших сил.
О СЕБЕ[21]
Я бы предпочел участвовать в римейке собрания писательских автохарактеристик, буквально повторяющем замысел издания 1928 года и называвшемся «Как мы пишем?».
Однако, и в подобном настоящему несколько расплывчатом справочном издании ничто не мешает высказаться по поводу вещей важных для автора. Людей, получивших право на высказывание в конце горбачевской «перестройки», принято относить к т. н. задержанному поколению. Точнее — в психологическом плане — было бы говорить о перевернутом поколении, поскольку имеет место фатальное для многих его представителей несовпадение биологических ритмов с социальными. Говоря проще, львиная доля молодой творческой энергии поколения оказалась растрачена в условиях беспрецедентной социальной стагнации, эпоха же невиданных перемен пришлась и совпала по фазе с началом его физиологического старения. То, что для подопытных особей тяжело, для культуры может оказаться если не плодотворным, то интересным. Чудовищная энергетическая растрата молодости, ресурсы позднего повзросления, проверка перегрузками, — но стоит ли драматизировать? Просто — резче слом. При том, что все люди, даже англичане, даже Черчилль — эта большая сигара, курящая меньшую, — обречены умирать не в той стране, в которой родились. Миграция во времени оказывается суровее миграций в пространстве, — обиднее, во всяком случае.
Самым важным из жизненных искусств мне представляется искусство оставлять, расставаться, — то же, что мы зовем собственно искусством, является компенсацией понесенных утрат, их эквивалентом (отнюдь не общего пользования). Кто не терял по-настоящему, не сознавал утрат, тот не нуждается в подобной компенсации — он живет жизнью под расчет, заподлицо, в глубоком жизненном обмороке. Художник имеет право на тревогу, общество же стремится подавить либо выкупить у него это право, — обезопасить для себя его занятие, заменить творчество производством («созиданием», «конструктивной критикой», «познавательной и воспитательной функцией искусства» etc.), и его можно в этом понять.
Есть жанр — инструмент традиции. И есть жанр — инструмент цензуры, отфильтровывающий поступление небезопасной новизны (а новизна — та форма, в которой только и живут смыслы). Это один и тот же жанр. И важно суметь обыграть его, обвести внутри самого себя. Все делают то, чему научены и умеют делать. Художник, мыслитель, изобретатель обязаны находить способ сделать то, чего они делать не умеют. Самое интересное, на мой взгляд, сейчас и происходит в области жанровых мутаций. Потому что человеческую жизнь, ее смыслы, изменившееся представление о целостности человека ветхие мехи расхожего сознания и традициональной словесности больше не удерживают. Прохудились мехи, и человек наполовину вытек. Можно подлатать, но тогда есть риск, что в следующий раз вытечет весь. Это и будет конец искусства.
Поэтому мое кредо в области письма — это:
право на беспокойство (при этом — контроль над собственным страхом, поводырем вранья);
жанровый поиск и эксперимент (ну нет, к сожалению, другого слова для этого);
осведомленность и терпение, проведение при необходимости дополнительного исследования (того что англичане зовут «research»), а также постановка опытов на себе и окружающих (а кто сомневается, что писатель — монстр?);
чрезвычайная важность разрушительного момента искусства, каждый раз уловляемого силками формы, — что требует технической изобретательности (еще точнее — технического изобретения, годного только для данного текста, поскольку каждый текст выполняет отличную от других задачу);
приоритет рассказывания над показыванием (а тем более, высказыванием);
живая интонация (темпоритм), сшивающая просторечие с книжной речью, выдавливание по капле метафоричности из своего письма;
создание красоты с запасными выходами для читателя (и самого писателя) — т. е. приоритет свободы (признание, могущее стоить писателю репутации); налаживание диалога с паралитературой;
и разумеется — искусство слова.
Зачем? Затем же, что и всегда: чтобы очнуться и, очнувшись, вернуть себе способность смеяться, плакать, думать… после жизни.
Проза, в плохом случае, — это мысли перед сном о том, как прошел день. В счастливом случае — это молния соображения при пробуждении: «Ага, так вот что это было, — промелькнувшее вчера, случившееся сколько-то лет назад, сегодня ночью приснившееся, страшно важное, — без чего можно и прожить, да только умрешь дурак дураком!..»
Получился наглядный пример того, как пишешь не то, что хотел, а то, что хотело само написаться. Оказывается, именно это мне и хотелось довести до сведения читателей «о себе».
Игорь КЛЕХ