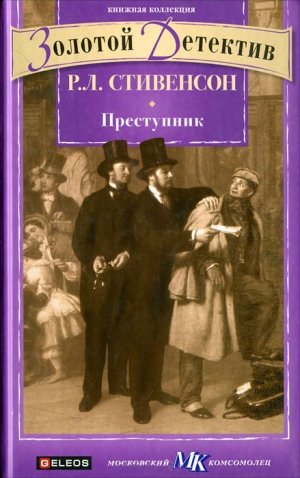
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
История двери
Мистер Аттерсон, нотариус, был человеком с суровым выражением лица, которое почти никогда не смягчалось и не оживлялось улыбкой; в разговоре он казался холоден и скуп на слова; не менее сдержан в своих чувствах; к тому же он был тощим, длинным, пыльным и каким-то скучным, но все же, по каким-то неизвестным причинам, люди его любили. В дружеской компании, когда вино особенно приходилось ему по вкусу, что-то в высшей степени человечное загоралось и светилось в его глазах. Что-то такое, чего он никогда не выражал словами, но что нередко проявлялось в выражении его лица и еще чаще и ярче — во всех его жизненных поступках и делах. К себе он относился чрезвычайно строго: когда бывал один, пил только джин[1], чтобы подавить в себе пристрастие к хорошим винам; и хотя любил театр, но вот уже двадцать лет не переступал его порога. Он отличался определенной снисходительной терпимостью по отношению к другим, причем мистер Аттерсон иногда удивлялся, почти с завистью, той энергии, с которой люди совершали дурные поступки, и был готов в минуту крайней нужды скорее помочь оступившемуся, чем осудить.
— Я склоняюсь к ереси Каина, — со странной усмешкой говорил он, — я не стану мешать брату своему отправиться к черту по тому пути, который ему больше нравится.
Вот почему на его долю нередко выпадало счастье быть последним знакомым из приличного общества и последним источником положительного влияния в жизни людей, опускавшихся на социальное дно. И к таким субъектам, если они впоследствии навещали его, нотариус продолжал неизменно относиться так же, как и до их падения.
Несомненно, для мистера Аттерсона это было нетрудно и совершенно естественно, поскольку от природы он отличался терпимостью, и даже его дружеское расположение, казалось, всегда основывалось на каком-то безразличном добродушии. Непритязательный человек отличается тем, что принимает в кружок своих друзей людей, с которыми сблизился по воле случая; этого же правила придерживался и наш нотариус. Друзьями его были либо родственники, либо те, кого он знал уже длительное время; его привязанности, подобно плющу, возрастали с течением времени, и ничего более не требовалось для их упрочения. Именно этим, без сомнения, можно объяснить узы дружбы, которые связывали его с мистером Ричардом Энфилдом, его дальним родственником, человеком, известным всему городу. Для многих было загадкой, что могло притягивать этих двух людей друг к другу и что у них могло быть общего. Лица, встречавшиеся с этой парочкой во время их воскресных прогулок, рассказывали, что приятели всегда при этом молчали, имели вид необычайно скучающий и с заметным облегчением всегда были готовы приветствовать появление знакомого. Но, несмотря на это, оба чрезвычайно дорожили своими прогулками, считали их главным и самым ценным событием недели, и ради того чтобы беспрепятственно наслаждаться ими, жертвовали не только прочими удовольствиями, но и делами.
Как-то случилось, что во время такого воскресного гуляния друзья завернули в переулочек одного из самых оживленных кварталов Лондона. Переулок был маленький, из тех, которые называют тихими, но по будням в нем шла бойкая торговля. Казалось, обитатели его не знали нужды и надеялись еще больше преуспеть в делах, растрачивая весь излишек доходов на бесконечное приукрашивание своих заведений. Нарядные витрины магазинов, словно ряды радушно улыбающихся лавочников, тянулись по обеим сторонам этого переулка, будто приглашая зайти. И даже по воскресеньям, когда переулок прятал свои наиболее яркие прелести и становился пустынным, он тем не менее резко выделялся среди всех соседних, как костер в лесу. Своими свежевыкрашенными ставнями, хорошо отполированными медными украшениями и общей чистотой и нарядностью мгновенно останавливал на себе взор прохожего.
За два дома до одного из перекрестков, на левой стороне, по направлению к востоку, череда лавок прерывалась воротами, ведущими во двор, и как раз в этом самом месте какое-то мрачное здание высовывалось своим фасадом в переулок.
Сооружение это было двухэтажное и весьма странное: в его обшарпанной, выцветшей передней стене, выходившей в переулок, не было ни единого отверстия, кроме дверного проема. Отсутствовало даже маленькое слуховое окошко из тех, которые обыкновенно устраиваются на чердаках. Да и весь дом, до малейших деталей, носил на себе следы многолетней заброшенности. Дверь, на которой не было ни молотка, ни звонка, давно выцвела и местами облупилась. В ее нише укрывались бродяги и чиркали об нее спичками; дети играли в «лавочку» на ступеньках разбитого крыльца; школьники испытывали свои перочинные ножички на ее еще местами сохранившихся резных украшениях. И вот уже многие годы, почти на протяжении жизни целого поколения, никто не появлялся в этом заброшенном доме, чтобы разогнать всех непрошенных гостей или произвести необходимый ремонт.
Мистер Энфилд и нотариус проходили по другой стороне переулка, но, поравнявшись со старой дверью, первый поднял трость и указал на нее.
— Вы обращали когда-нибудь внимание на эту дверь? — спросил он и, когда его спутник ответил утвердительно, прибавил: — Всякий раз, когда она попадается мне на глаза, у меня в памяти всплывает одна очень странная история.
— В самом деле? — произнес мистер Аттерсон слегка изменившимся голосом. — И что же это за история?
— Вот как все было, — начал мистер Энфилд, — однажды я возвращался домой откуда-то с края света темной зимней ночью, часа в три, и путь мой проходил по той части города, где ничего и никого не было видно, кроме фонарей. Улица за улицей, переулок за переулком — кругом не было ни души: видимо, все жители спали по своим домам; улица за улицей, переулок за переулком — все были освещены, словно в ожидании процессии, и пусты, как церковь. И эта поистине кладбищенская пустынность так давила на меня, что, наконец, меня охватило такое состояние, когда человек начинает вслушиваться в тишину и радоваться первому встреченному полицейскому, как самому задушевному другу. Вдруг я заметил две фигуры: человека невысокого роста, быстро шагавшего по направлению к западу, и девочку лет так восьми-девяти, бежавшую что есть мочи по поперечному переулку. И вот, сэр, вполне естественно, эти двое столкнулись друг с другом на углу. Тут-то и произошло самое ужасное: человек этот спокойно занес ногу над упавшей девочкой и перешагнул через нее, оставив бедняжку плакать на земле. На словах это, конечно, кажется ерундой, но зрелище, поверьте, было адское. Это был не человек, а дьявол какой-то. Я вскрикнул, побежал за ним, схватил его за шиворот и притащил назад к тому месту, где вокруг кричащего ребенка уже собрались зеваки. Этот джентльмен был совершенно спокоен и не оказал ни малейшего сопротивления, только бросил на меня такой жуткий, зловещий взгляд, что у меня пот холодный выступил. Люди, которые сбежались на крик, оказались родственниками девочки, и очень скоро появился доктор, за которым, оказывается, ее и посылали в такое позднее время. При осмотре никаких повреждений у малышки не нашлось, она только испугалась. Тут, казалось бы, всей истории конец. Но имело место одно странное обстоятельство. Я с первого же взгляда почувствовал отвращение к этому джентльмену. И то же чувство, вполне естественно, возникло и у семьи пострадавшей. Но что поразило меня больше всего, так это отношение доктора к происшествию. Это был самый обыкновенный, внешне суровый, суховатый в обращении врач из предместий, неопределенного возраста, с сильным шотландским акцентом, впечатлительный и мягкосердечный, точно волынка. Так вот, сэр, и он пришел в такое же взволнованное состояние, как и все присутствовавшие: каждый раз, когда наш эскулап посматривал на пойманного мною незнакомца, он бледнел и зеленел от сдерживаемого желания убить его. Я знал, что происходило у него в мыслях, но и он, в свою очередь, знал, что творилось со мной. Но поскольку нельзя было и помышлять об убийстве обидчика, то мы решили наказать его как можно строже. Мы заявили незнакомцу, что постараемся предать этот случай максимальной огласке, что неизбежно повлечет за собой скандал, после которого имя его будет опозорено на весь Лондон, и что если у него есть какие-либо друзья или кредит, то мы ручаемся, что злодей лишится и того и другого. И все то время, пока мы его всячески отчитывали и поносили, мы старались удержать в стороне женщин, которые буквально обезумели от ярости и были готовы растерзать этого джентльмена. Мне никогда прежде не доводилось видеть такого скопления озлобленных людей. Незнакомец стоял, окруженный со всех сторон врагами, с мрачным, презрительным спокойствием; он был испуган, как я заметил, но сохранял прямо-таки сатанинское хладнокровие. «Если вы решили заработать на этом несчастном случае, — проговорил он, — то я, естественно, беспомощен и в вашей власти. Всякий джентльмен старается избегать скандалов. А потому назначайте свою сумму». Тогда мы потребовали от него сто фунтов отступных для семьи пострадавшего ребенка. Незнакомец, по-видимому, собирался поторговаться, но было что-то угрожающе-решительное в наших лицах, и он, наконец, согласился. Дальше оставалось только получить деньги; и куда, вы думаете, он повел нас? Вот к этой самой двери. Достав из кармана ключ, он отпер ее, вошел и вскоре вернулся с десятью фунтами золотом и чеком на остальную сумму, выписанным на банк Куттса на предъявителя. Внизу стояло имя, которое я не могу назвать, хотя оно играет ведущую роль в моей истории; но имя это было очень известное и часто встречающееся в печати. Сумма была крупная, но упомянутая подпись могла бы гарантировать и значительно бо́льшие цифры, если только она являлась подлинной. Я взял на себя смелость указать нашему джентльмену, что все это кажется мне довольно сомнительным, что в обыденной жизни не бывает такого, чтобы в четыре часа утра человек вошел в первый попавшийся полуразрушенный дом и вышел оттуда с чеком почти на сто фунтов, подписанным другим человеком. Но он оставался совершенно невозмутим и по-прежнему держал себя презрительно-насмешливо. «Успокойтесь, — проговорил он, — я вместе с вами дождусь, пока откроются банки, и сам получу для вас деньги по этому чеку». Таким образом, все мы — доктор, отец пострадавшей девочки, наш незнакомец и я — пошли и провели остаток ночи в моей квартире. Утром, позавтракав, мы все вместе отправились в банк. Я сам подал чек и заявил кассиру, что имею все основания предполагать наличие подделки. Ничуть не бывало. Чек оказался подлинным.
— Н-да, — сказал мистер Аттерсон, выслушав своего приятеля.
— Я вижу, вы испытываете то же чувство, что и я, — обратился к нему мистер Энфилд. — Да, в общем, история грязная. Поскольку мой незнакомец был человеком, с которым никто не стал бы иметь дела, действительно отъявленным негодяем, а господин, подписавший чек, считается образцом порядочности, кроме того, знаменитостью и что хуже всего, одним из тех людей, которые совершают так называемые добрые дела. Очевидно, тут был замешан какой-то шантаж; очевидно, честного человека теперь принудили расплачиваться за грехи юности. Вот поэтому-то с тех самых пор я и прозвал эту лачугу с такой примечательной дверью «Домом шантажа». Хотя, знаете, даже это, собственно, далеко не все объясняет, — прибавил он и с этими словами погрузился в молчаливое раздумье.
Из этого состояния рассказчика вскоре вывел довольно неожиданный вопрос его приятеля.
— А не знаете ли вы, мой друг, не проживает ли в этом доме лицо, подписавшее чек?
— Очень подходящее для него место, не правда ли? — возразил с легкой иронией мистер Энфилд. — Но мне случайно удалось подсмотреть адрес, который был указан на чеке; он живет в каком-то сквере.
— И вы никогда не наводили справок… об этом доме с дверью? — продолжал мистер Аттерсон.
— Нет, сэр! Мне было как-то неловко, — последовал ответ. — Я очень не люблю задавать вопросы, это пробуждает слишком живые ассоциации со страшным судом. Вы задаете первый вопрос, и по своему действию это похоже на то, как если бы кто-нибудь сдвинул с места камень. Вы сидите спокойно на вершине холма, а камень летит вниз, задевая и увлекая за собой другие камни. И под конец какой-нибудь несчастный старичок, о котором вы меньше всего думали, сидя у себя в саду за домом, получит одним из этих камней по голове и умрет по вашей милости. Нет, сэр, я поставил себе за правило: чем загадочнее какое-нибудь дело, тем меньше о нем нужно расспрашивать.
— И прекрасное правило! — заметил нотариус.
— Но я сам обследовал это место, — продолжал мистер Энфилд. — Это вряд ли жилой дом. Второй двери не существует, и никто никогда не входил и не выходил через эту, кроме — и то в очень редких случаях — героя моего приключения. Три окна на втором этаже смотрят во двор, а на первом совсем нет окон; окна всегда закрыты, но стекла чистые. Существует еще печная труба, из которой почти всегда идет дым, следовательно, кто-нибудь, наверно, там живет. И все же я в этом не уверен, поскольку дома в этом переулке так жмутся друг к другу, что трудно сказать, где кончается один и начинается другой.
Друзья молча прошли некоторое расстояние.
— Энфилд, — возобновил беседу мистер Аттерсон, — очень хорошее у вас правило!
— Да, и мне так кажется, — согласился тот.
— Но все же, — продолжал нотариус, — я хочу задать вам один вопрос: я хочу спросить, как звали человека, который наступил на ребенка.
— Что ж, — ответил мистер Энфилд, — ничего дурного я в этом не нахожу. Его фамилия Хайд.
— Гм! — хмыкнул мистер Аттерсон. — Какой он с виду?
— Его нелегко описать. Есть что-то странное и ненормальное в его внешности; что-то неприятное, даже просто отталкивающее. Я никогда не встречал человека, который был бы мне настолько противен, и я даже, собственно, не могу объяснить, почему. У него должен быть какой-то физический недостаток или уродство; по крайней мере он производит впечатление урода, но я не могу определить, в чем дело. На вид он самый обыкновенный человек, и я не могу указать, что именно вызывает такое отвращение. Нет, сэр, я затрудняюсь, не могу вам его описать. И не потому, что забыл, как он выглядит — нет, я помню его очень хорошо, будто он стоит перед моими глазами.
Мистер Аттерсон сделал еще несколько шагов молча, словно погруженный в глубокие размышления.
— Вы уверены, что он пользовался ключом? — спросил он наконец приятеля.
— Но… — начал было Энфилд, крайне удивленный.
— Да, знаю, — сказал Аттерсон, — знаю, что это может показаться странным. Дело в том, что если я не спрашиваю у вас имя человека, подписавшего чек, то единственно потому, что я его знаю. Видите ли, Ричард, ваш рассказ в некоторой степени касается и меня. И если вы были не точны в каких-либо деталях, то лучше поправьтесь немедленно.
— Вы могли бы по меньшей мере предупредить меня, — ответил рассказчик, несколько задетый, — но я был педантично точен. У названного господина был ключ; и, мало того, он у него имеется до сих пор — я сам видел, как он не далее как неделю назад опять отпирал эту дверь своим ключом.
Мистер Аттерсон глубоко вздохнул, но не произнес ни слова, и его приятель вскоре прибавил:
— Вот еще один урок: надо держать язык за зубами! Мне стыдно за свою болтливость. Давайте условимся, что мы больше не будем касаться этого вопроса.
— С огромной радостью, — согласился нотариус. — Вот вам моя рука, Ричард.
Поиски мистера Хайда
В тот вечер мистер Аттерсон вернулся к себе, в свою холостяцкую квартиру, в весьма мрачном настроении и сел обедать без всякого аппетита. По воскресеньям он имел обыкновение после обеда усаживаться у камина, положив какую-нибудь серьезную религиозную книгу на пюпитр перед собой, и сидеть так до тех пор, пока часы на соседней церкви не пробьют полночь, — тогда он, благочестиво и благодарно настроенный, отправлялся в постель. Но в этот вечер, против обыкновения, как только убрали со стола скатерть, нотариус взял свечу и отправился в кабинет. Там он отпер свой несгораемый шкаф, достал из его самого потайного ящика документ, вложенный в конверт, надпись на котором гласила, что это духовное завещание доктора Джекила, и, насупившись, принялся за чтение. Документ этот был составлен и написан самим завещателем, поскольку мистер Аттерсон, хотя и взял его на хранение для последующего выполнения, но в свое время отказался принять даже малейшее участие в его составлении. Завещание это гласило, что не только в случае смерти Генри Джекила, М. Д., Д. С. Л., Л. Л. Д., Ф. Р. С. и проч.[2], все состояние его должно было перейти к его «другу и благодетелю Эдварду Хайду», но что «в случае исчезновения или безвестного отсутствия доктора Джекила в течение периода, превосходящего три календарных месяца», вышеозначенный Эдвард Хайд вступит во владение всем имуществом вышеозначенного доктора Джекила без малейшего промедления и без каких-либо обязательств, кроме уплаты нескольких небольших сумм прислуге доктора.
Вот этот-то документ давно был бельмом на глазу нотариуса. Он оскорблял его и как нотариуса, и как приверженца установленных традиций и правил, которому претит все фантастическое. До сих пор негодование Аттерсона основывалось на совершенном незнании, кто такой Хайд, теперь же, случайно узнав, что это за человек, он негодовал еще больше. Нотариусу было не по себе и тогда, когда имя оставалось всего лишь именем, о котором он ничего не мог выяснить. Но стало еще хуже, когда вокруг этого имени начали возникать всякого рода отвратительные подробности. И из туманной колеблющейся мглы, которая до сих пор застилала его взор, внезапно возник более-менее сложившийся образ злого гения.
— Я предполагал, что он не совсем в здравом уме, — пробормотал нотариус, снова пряча ненавистную бумагу в несгораемый шкаф, — но теперь я начинаю бояться, что тут имеет место какое-то темное событие в прошлом доктора Джекила.
С этими словами он потушил свечу, надел теплое пальто, вышел и зашагал по направленно к Кавендиш-скверу, этой цитадели медицины, где жил его друг, знаменитый доктор Лэньон, и где он принимал своих многочисленных пациентов. «Если кто-нибудь что-нибудь и знает, так это Лэньон», — думал нотариус.
Величественный дворецкий узнал и приветствовал Аттерсона; ждать его не заставили и прямо провели из приемной в столовую, где доктор Лэньон сидел в одиночестве над своим бокалом вина. Это был добродушный, плотный и краснощекий джентльмен с преждевременно поседевшей гривой волос, с живым и решительным характером. При виде мистера Аттерсона он вскочил со стула и схватил гостя за обе руки. Радушие этого человека казалось немного театральным с виду, но, в сущности, оно основывалось на искреннем чувстве. Поскольку они были давними друзьями, товарищами и по колледжу, и по университету, оба питали глубокое взаимное уважение и, что всегда из этого следует, находили большое удовольствие в обществе друг друга.
Поболтав несколько минут о разных пустяках, нотариус понемногу свел разговор к неприятной теме, которая занимала его мысли.
— Я полагаю, Лэньон, — проговорил он, — что вы и я — два самых старых друга Генри Джекила.
— Желал бы я, чтобы эти друзья были моложе, — пошутил доктор Лэньон, — но, что делать, это действительно так. Кстати, теперь я с ним очень редко вижусь.
— В самом деле? — сказал Аттерсон. — А я думал, что вы тесно связаны какими-то общими медицинскими интересами.
— Когда-то все так и было, — последовал ответ, — но вот уже более десяти лет, как Генри Джекил увлекся непонятными фантазиями. У него что-то неладное происходит с головой, и хотя я, конечно, продолжаю интересоваться им в память о прошлом, как принято говорить, но в последние годы я встречался и встречаюсь с ним чертовски редко. Такой ненаучный кавардак, который царит у него в голове, — добавил доктор, вдруг побагровев, — заставил бы охладеть друг к другу даже Дамона и Финтия!..[3]
Эта маленькая вспышка негодования немного успокоила Аттерсона.
«Они разошлись из-за разногласий в каком-нибудь научном вопросе», — подумал он, и, будучи человеком, далеким от всяких научных предрассудков (за исключением вопросов, касающихся составления передаточных надписей), нотариус даже добавил про себя: «Значит, за этим не стоит ничего более скверного».
Он дал своему другу несколько секунд, чтобы тот успокоился, а потом задал вопрос, ради которого, собственно, и пришел.
— Вы никогда не встречали одного его протеже, некоего господина по имени Хайд? — будто невзначай поинтересовался Аттерсон.
— Хайд? — повторил Лэньон. — Нет! Никогда о нем не слышал. В моем присутствии он не появлялся.
И это был весь запас сведений, который нотариус забрал с собой, в свой холостяцкий дом, в большую постель, окутанную ночным сумраком, на которой он метался и ворочался, пока совсем не рассвело. Эта ночь так и не принесла покоя его измучившемуся в напряженной работе уму, осаждаемому бесконечными вопросами, так и оставшимися без ответа.
Уже пробило шесть часов на колокольне церкви, которая была весьма удобно расположена поблизости от жилища мистера Аттерсона, а он все еще мучился над загадкой. До сих пор эта необъяснимая тайна раздражала только его разум, но теперь ею занялось и, даже можно сказать, было порабощено его воображение. И, ворочаясь в своей ставшей вдруг неудобной постели в непроницаемой тьме ночи в комнате с окнами, завешанными портьерами, нотариус не мог избавиться от ярких картин, вызванных впечатлениями от рассказа мистера Энфилда. То он видел бесконечные длинные ряды фонарей в окутанном ночью городе, то фигуру быстро идущего человека, затем ребенка, бегущего назад от дома доктора; потом эти двое встречаются и сталкиваются, и этот дьявол в образе человека наступает на ребенка и проходит дальше, не обращая внимания на его крики. Потом он видел комнату в богатом доме, где лежит и спит его друг и улыбается чему-то во сне; вдруг дверь этой комнаты раскрывается, полог постели отдергивается, спящий пробуждается и… о ужас! У его ложа стоит некто, облеченный таинственной властью, и даже в этот неурочный час доктор Джекил должен подняться и исполнить его волю. Загадочный незнакомец всю ночь преследовал нотариуса, и если мистер Аттерсон и забывался хотя бы на минуту, то только для того, чтобы увидеть, как этот человек бесшумно скользил вдоль спящих домов или мчался все быстрее и быстрее, так что кружилась голова, по еще более широким лабиринтам освещенных фонарями улиц, сбивал с ног и перешагивал через какую-то девочку, которая лежала на земле и кричала. Но даже во сне он не имел лица, а если и имел, то такое, которое не удавалось разглядеть, — оно таяло, как только нотариус присматривался к нему. И вот, вследствие переживаний этой мучительной ночи, у мистера Аттерсона родилось и окрепло сильное, почти бессознательное желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Если бы ему хоть раз удалось увидеть его собственными глазами, то тогда, он думал, тайна немного рассеется и, может быть, совсем исчезнет, как часто бывало с таинственными явлениями после того, как их подвергали тщательному изучению. Тогда, быть может, он найдет объяснение странной привязанности доктора Джекила к этому мистеру Хайду или зависимости (называйте как хотите) от него и даже поймет причины столь необычного условия в завещании. По крайней мере на это лицо стоило посмотреть — лицо человека, совершенно лишенного жалости и милосердия, лицо, которое пробудило в душе невпечатлительного Энфилда чувство отвращения и непреходящей ненависти.
С того самого дня мистер Аттерсон начал наблюдать за странным домом с облезлой дверью в торговом переулке и ожидать появления какого-нибудь посетителя. Утром перед открытием контор, около полудня, в разгар делового дня, когда времени так не хватает, ночью, когда спящий пустынный город заливал призрачный свет подернутой туманом луны, — при всяком освещении и в любое время нотариуса можно было обнаружить на избранном им посту.
«Если он мистер Хайд, — подумал он, — то я стану мистером Сиком!»[4]
Наконец, настал день, когда терпение его было вознаграждено. Стояла ясная сухая ночь, воздух был свеж из-за легкого морозца; улицы города радовали сухостью и чистотой, как паркет бального зала; пламя фонарей, неподвижное благодаря отсутствию ветра, отбрасывало на мостовую правильные ровные полосы света, что, в сочетании с тенью, создавало разнообразные узоры. К десяти часам, когда все торговые заведения закрылись, переулок совсем опустел и, несмотря на доносившийся со всех сторон глухой рокот большого Лондона, стал пустынен и тих. Даже слабый шум отдавался в нем гулким эхом, а звуки, доносившиеся из домов, были ясно слышны на другой стороне мостовой. Шум шагов пешехода предшествовал его появлению. Мистер Аттерсон уже некоторое время простоял на своем посту, когда услышал приближающиеся странные легкие шаги. За время своих долгих ночных дежурств он давно уже привык к необычному эффекту, который производят шаги одинокого путника, ясно выделяясь из глухого гула и грохота города, когда пешеход находится еще очень далеко. Но никогда прежде внимание его не было так определенно и резко привлечено чьей-то одинокой прогулкой. И с сильной, почти суеверной уверенностью в успехе своего предприятия он спрятался в подворотне.
Шаги быстро приближались и внезапно стали особенно отчетливы — очевидно, пешеход повернул из-за угла в переулок. Нотариус, выглядывая из своего укрытия, вскоре увидел, с каким человеком ему придется иметь дело. Это был мужчина небольшого роста, очень непритязательно одетый, и облик его, даже на таком расстоянии, как-то сразу не располагал наблюдателя в его пользу. Пешеход прямо направился к странному заброшенному дому, пересекая улицу, чтобы выгадать время, и — как любой человек, приближающийся к своему жилищу, — еще на ходу стал доставать ключ.
Мистер Аттерсон вышел из подворотни и тронул путника за плечо, когда тот проходил мимо.
— Мистер Хайд, если не ошибаюсь?
Пешеход невольно отскочил назад, одновременно издав легкий шипящий звук. Но его замешательство длилось только секунду, и он, хотя и не глядел в лицо обратившемуся к нему незнакомцу, довольно спокойно ответил:
— Да, меня так зовут! Что вам угодно, мистер?
— Я вижу, что вы собираетесь войти в этот дом, — ответил нотариус, — я старый друг доктора Джекила, мистер Аттерсон, с Гонт-стрит; вы, наверно, слышали мое имя; я случайно увидел вас и решил воспользоваться случаем и войти в дом вместе с вами.
— Вы не сможете увидеться с доктором Джекилом, его нет дома, — ответил мистер Хайд, дуя в ключ.
И внезапно, все еще не поднимая лица, он спросил:
— Каким образом вы меня узнали?
— Позвольте прежде попросить вас об одном одолжении, — произнес мистер Аттерсон.
— С удовольствием, — ответил тот, — о каком именно?
— Позвольте мне посмотреть на ваше лицо, — попросил нотариус.
Мистера Хайда, казалось, охватило минутное замешательство, но потом, словно внезапно на что-то решившись, он с вызывающим видом повернулся лицом к своему собеседнику. Мужчины пристально смотрели друг на друга в течение нескольких секунд.
— Теперь я смогу в дальнейшем узнать вас при встрече, — проговорил мистер Аттерсон, — это может оказаться весьма полезным.
— Да, — согласился мистер Хайд, — действительно, очень хорошо, что мы встретились и познакомились; кстати, запомните мой адрес.
И он назвал улицу и номер дома в Сохо.
«Господи, — подумал нотариус, — неужели и он сейчас думал о завещании?»
Но мистер Аттерсон оставил эту мысль при себе и только одобрительно хмыкнул, как бы поблагодарив собеседника за то, что тот сообщил ему свой адрес.
— А теперь, — обратился к нему мистер Хайд, — скажите, каким же образом вы меня узнали?
— По описанию, — последовал ответ.
— По чьему описанию?
— У нас имеются общие знакомые, — проговорил мистер Аттерсон.
— Общие знакомые? — удивился мистер Хайд. — Кто же это?
— Хотя бы Джекил, например, — сказал нотариус.
— Он никогда не говорил вам обо мне, — воскликнул мистер Хайд, внезапно вспыхнув, — я не ожидал, что вы станете лгать!
— Послушайте, — предостерегающе произнес умудренный жизнью мистер Аттерсон, — будьте немного сдержаннее в своих высказываниях.
Его собеседник, разразившись диким хохотом, необычайно быстро отпер дверь и стремительно скрылся за ней.
Нотариус, озадаченный, постоял немного на том месте, где его оставил мистер Хайд. Потом он медленно пошел назад по переулку, останавливаясь через каждые два-три шага, прикасаясь рукой ко лбу, точно человек, оказавшийся в большом затруднении. Он не знал, как ему поступить в сложившейся ситуации. Мистер Хайд был небольшого роста, очень бледен; он оставлял о себе впечатление как об уроде, хотя не выделялся никакими видимыми признаками уродства. У него была неприятная улыбка, он держался по отношению к нотариусу с какой-то зловещей смесью робости и смелости, разговаривал глухим, сиплым, немного прерывистым голосом, — все это говорило против него, но все это вместе взятое не могло объяснить отвращения, озлобления и страха, которые этот человек пробудил в мистере Аттерсоне.
«Тут что-то другое, — рассуждал про себя озадаченный джентльмен. — Тут есть нечто такое, чему я пока не могу найти названия. Клянусь Господом, в этом человеке что-то маловато человеческого. В нем будто есть что-то от троглодита… Или это просто отражение порочной души, которая, проступая сквозь свою земную оболочку, так видоизменяет и обезображивает ее? Вероятнее всего — последнее. О, мой бедный старый Генри Джекил, если я когда-либо и видел печать сатаны на человеческом лице, то это было лицо вашего нового друга».
Переулок выходил одним концом в сквер, окруженный со всех сторон прекрасными старинными домами, большая часть которых теперь уже не сдавалась как особняки, а была переделана под небольшие квартиры, где жили всякого рода и состояния жильцы: граверы, архитекторы, подозрительные нотариусы и представители различных темных компаний. Но один из домов, второй от угла, все еще был целиком занят одним лицом, и у дверей этого-то особняка, который носил на себе отпечаток богатства и комфорта, хотя теперь он был погружен во тьму, если не считать света в передней, остановился мистер Аттерсон и постучал. Прилично одетый пожилой слуга отпер дверь.
— Пул, доктор Джекил дома? — спросил нотариус.
— Сейчас посмотрю, мистер Аттерсон, — ответил Пул, вводя гостя в большую уютную приемную с низким потолком, выложенную плитами, отапливаемую, как в больших сельских домах, большим камином и обставленную дорогими дубовыми шкафами. — Вы подождете здесь, у камина, сэр? Или зажечь для вас огонь в столовой?
— Я подожду здесь, благодарю вас, — ответил нотариус, подошел к камину и облокотился о высокую решетку, загораживавшую его.
Эта приемная, в которой он теперь оказался один, была любимой комнатой его друга доктора. И Аттерсон всегда сам упоминал о ней, как о самой удобной и приятной комнате во всем Лондоне. Но сегодня ему было как-то не по себе даже здесь. В его памяти то и дело всплывало лицо Хайда; он чувствовал — что с ним бывало редко — какое-то отвращение и утрату интереса к жизни, и в таком подавленном состоянии словно улавливал какую-то скрытую угрозу в мерцающем отблеске огня на полированных шкафах и в беспокойных колебаниях теней на потолке. Ему, здравомыслящему человеку, стало стыдно оттого, что он испытал облегчение, когда вернулся Пул. Слуга сказал, что доктора нет дома.
— Я только что видел, как мистер Хайд вошел в дверь старой лаборатории, Пул, — заметил мистер Аттерсон. — Но ведь доктора нет…
— Это ничего, сэр, — ответил слуга, — у мистера Хайда имеется свой ключ.
— Ваш хозяин, кажется, питает большое доверие к этому молодому человеку, Пул, — прибавил нотариус задумчиво.
— Да, сэр, он ему очень доверяет, — ответил Пул, — мы, слуги, получили распоряжение слушаться его.
— Мне кажется, или я действительно никогда не встречался здесь с мистером Хайдом? — добавил Аттерсон.
— О нет, сэр! Он и впрямь никогда здесь не обедает, — ответил дворецкий. — Да и мы сами редко видим его на этой половине дома; он большей частью приходит и уходит через лабораторию.
— Ну, спокойной ночи, Пул.
— Спокойной ночи, мистер Аттерсон.
Нотариус направился домой в тяжелом раздумье. «Бедный Генри Джекил, — думал он, — если я не ошибаюсь, он угодил в серьезные неприятности. Он бурно провел свою молодость; правда, это было очень давно, но ведь для Божьего суда не существует срока давности. Да, должно быть, все так: призрак какого-нибудь старого греха, следы скрытого позора, возмездие, нашедшее его спустя много лет, когда преступление уже изгладилось из памяти, а любовь к себе нашла оправдание».
И мистер Аттерсон, испугавшись этой мысли, задумался на некоторое время о собственном прошлом, стал шарить во всех уголках своей памяти, не затаилась ли случайно в каком-нибудь из них тень забытого греха, которая когда-нибудь может внезапно выйти на свет. Его прошлое было в целом безупречно, немногие могли бы прочесть свиток своих дней с таким спокойствием, как он. И все же он совершил в жизни немало дурных поступков, отчего теперь мучился угрызениями совести. Но, с другой стороны, сознавая, скольких дурных вещей он избежал практически на пути к их свершению, нотариус испытывал чувство трезвой и робкой удовлетворенности. Потом мысли нотариуса снова вернулись в прежнее русло, и у него зародилась искорка надежды.
«Если пристально всмотреться и тщательно изучить этого мистера Хайда, — думал он, — то, наверно, окажется, что и он имеет свои тайны, и, судя по его внешности, скорее всего страшные тайны — такие, в сравнении с которыми наихудшие секреты бедного Джекила покажутся детскими шалостями. Так не может больше продолжаться! Меня охватывает дрожь, как только я подумаю, что эта тварь, словно вор, подкрадывается к постели Генри… Бедный Генри, какое его ждет пробуждение! И как оно опасно! Ведь если этот Хайд подозревает о существовании завещания, то, весьма возможно, он будет с нетерпением ждать получения наследства. Да, я непременно должен вмешаться в это дело, — если, конечно, Джекил мне позволит».
И еще раз перед мысленным взором мистера Аттерсона встали ясно, как божий день, странные пункты необычного завещания.
Доктор Джекил был совершенно спокоен
Две недели спустя, по счастливой случайности, доктор давал один из своих дружеских обедов пяти-шести старым приятелям, которые все были умными, известными людьми и знатоками хорошего вина.
Мистер Аттерсон так устроил, что, когда все остальные гости разъехались, он остался с хозяином наедине. В этом не было ничего необычного, так бывало уже десятки раз до этого. В тех домах, где Аттерсона любили, его действительно любили искренне и глубоко. Хозяева старались задержать у себя на некоторое время этого сухого в обхождении нотариуса, когда все легкомысленные и болтливые гости уже переступали за порог. Они любили посидеть немного в его приятном обществе, словно приучая себя к одиночеству, отрезвляя свои мысли после безумной расточительности веселья, в щедром, располагающем к себе молчании юриста. Доктор Джекил не составлял исключения, и по тому, как он теперь сидел напротив своего друга по другую сторону камина — крупный, статный, круглолицый мужчина пятидесяти лет, быть может, немного лукавый, но добродушный и благоразумный, — можно было заключить, что он питал к мистеру Аттерсону искреннюю и горячую привязанность.
— Мне давно хотелось поговорить с вами, Джекил, — начал последний. — Вы помните содержание своего завещания?
Внимательный наблюдатель заметил бы, что эта тема не особенно приятна доктору, но тем не менее он не преминул пошутить:
— Бедный Аттерсон, судьба послала вам в моем лице очень неудачного клиента. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так расстраивался, как расстроились вы по поводу моего завещания; вот разве что этот отчаянный педант Лэньон, которого не меньше огорчают мои так называемые научные ереси. О да, я знаю, он славный малый — не хмурьтесь — прекрасный малый, и я намерен с ним как можно чаще видеться, но все же он — отъявленный педант, невежественный, тупой педант. Я никогда ни в одном человеке не разочаровывался так, как в Лэньоне.
— Вы знаете, я никогда не одобрял этот документ, — продолжал Аттерсон, упорно не обращая внимания на новую тему разговора.
— Вы про мое завещание? Да, конечно, я это знаю, — проговорил доктор несколько резко. — Вы мне уже говорили.
— Да, и теперь повторяю, — продолжал нотариус. — За это время я кое-что узнал о мистере Хайде.
Краска сошла с красивого лица доктора Джекила, даже губы побелели, а глаза как будто ввалились.
— Я не желаю вас слушать, — решительно произнес он, — кажется, мы условились, что больше никогда не будем говорить об этом.
— То, что я сейчас слышу, возмутительно, — ответил Аттерсон.
— Вы не понимаете моего положения, — возразил доктор, явно что-то недоговаривая. — Я оказался в очень щекотливой и сложной ситуации; да, мое положение весьма странное… весьма странное. Никакие разговоры не могут изменить его или исправить.
— Джекил, — сказал нотариус, — вы меня знаете: я человек, которому можно довериться. Так вот, положитесь на меня и откровенно расскажите, в чем состоит дело, и я не сомневаюсь, что сумею вывести вас из этого тяжелого положения.
— Дорогой Аттерсон, — проговорил доктор, — это очень мило с вашей стороны, очень-очень мило, и я не могу найти слов, чтобы выразить свою признательность. Я полностью вам доверяю, и вам я доверился бы скорее, чем кому-либо, даже скорее, чем самому себе, если бы мне только было предоставлено право выбора. Но дело обстоит вовсе не так, как вы себе воображаете. Дело вовсе не настолько ужасно. И, чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу одно: я смогу отделаться от мистера Хайда, когда только захочу. Даю вам в этом слово, вот моя рука. И еще раз от всей души благодарю вас. Только позвольте прибавить к этому одну маленькую просьбу, Аттерсон, на которую, я уверен, вы не обидитесь: это дело личное, почти интимное, и прошу вас больше о нем не заговаривать.
Нотариус некоторое время в раздумье смотрел на огонь в камине.
— Без всякого сомнения, вы совершенно правы, — наконец сказал он, вставая.
— Ну вот, а теперь, когда вы коснулись этого вопроса — надеюсь, в последний раз, — продолжал доктор, — я хотел бы, чтобы вы поняли одно: я действительно питаю искреннее сочувствие к бедному Хайду. Я знаю, что вы видели его, он мне рассказал об этом, и я опасаюсь, что он был с вами невежлив. Но я искренне симпатизирую этому молодому человеку, и на случай, если я внезапно умру, Аттерсон, мне хочется, чтобы вы обещали мне взять под свою защиту и его самого, и его права. Я убежден, что вы бы это непременно сделали, если бы знали обо всем, а если вы дадите мне такое обещание, то этим снимете с моей души огромную тяжесть.
— Я не могу сделать вид, будто он когда-нибудь может мне понравиться, — проговорил нотариус.
— Я и не прошу от вас этого, — ответил Джекил, положив свою руку на руку друга, — я прошу только о справедливости, я прошу только, чтобы вы, ради меня, помогли ему, когда меня уже не будет в живых.
Аттерсон с усилием подавил вздох.
— Хорошо! — сказал он. — Я обещаю!
Дело об убийстве Кэрью
Почти год спустя, в октябре 18.. года, весь Лондон взволновало чрезвычайно жестокое убийство, которое получило особенно громкую огласку благодаря высокому положению погибшего. Подробности этого преступления были крайне скудны, но весьма необычны.
Однажды вечером девушка, работавшая служанкой и проживавшая в одном из домов недалеко от реки, отправилась спать. Было часов одиннадцать вечера. Хотя к утру город окутал туман, в первой половине ночи небо было безоблачным, и переулок, в который выходило окно ее спальни, был залит лунным светом. Девушка, очевидно, была настроена романтически, поскольку, войдя в спальню, она уселась на сундук, стоявший у самого окна, и, созерцая идиллическую картину, предалась мечтам. Никогда (как уверяла служанка, рассказывая о своих переживаниях) она не чувствовала себя более примиренной с людьми и никогда не думала обо всем человечестве настолько хорошо, как в тот вечер. Посидев так некоторое время, она вдруг заметила, что по переулку к ней приближается пожилой красивый господин с седыми волосами; навстречу ему шел другой, низенький человек, на которого она сначала почти не обратила внимания. Когда пешеходы поравнялись друг с другом (как раз под самым окном служанки), старший из двух поклонился и вежливо заговорил с другим. Очевидно, вопрос, с которым старик обратился к встречному, был не очень важным — судя по жестам, можно было предположить, что он просто справлялся о том, как ему пройти куда-то. Луна освещала его лицо, пока он говорил, и девушке было приятно смотреть на него, так дышало оно невинным старосветским добродушием, к которому было примешано нечто возвышенное. Но вскоре ее взор упал на другого господина, и девушка с удивлением узнала в нем некоего мистера Хайда, который однажды посетил ее хозяина и к которому у нее уже тогда зародилось неприязненное чувство. В руке у него была тяжелая трость, которой он играл; он ни слова не ответил старику и как будто слушал его с плохо скрываемым нетерпением. Вдруг, совершенно внезапно, этот господин пришел в неописуемую ярость, затопал ногами, начал размахивать палкой и повел себя, по словам служанки, как помешанный. Пожилой господин отступил назад с видом человека недоумевающего и немного обиженного; тут мистер Хайд словно потерял над собой контроль: он внезапно набросился на старика, тростью сшиб его с ног и повалил на землю. Через мгновение он уже с яростью топтал свою жертву ногами и осыпал ее градом ударов такой силы, что слышно было, как трещали кости, и вскоре уже бездыханное тело подпрыгивало на мостовой. Девушка от ужаса лишилась сознания.
Когда она пришла в себя, было уже два часа ночи. Бедняжка тотчас бросилась за полицией. Убийцы давно и след простыл, но посреди переулка все еще лежал до неузнаваемости изуродованный труп его жертвы. Трость, с помощью которой было совершено преступление, хотя и была из какого-то редкого, очень твердого и тяжелого дерева, сломалась пополам — с таким ожесточением ею наносили удары; одна ее часть откатилась в соседнюю канаву, а другую, очевидно, унес с собой убийца. В карманах жертвы были обнаружены кошелек и золотые часы, но не нашлось никаких карточек или бумаг, кроме запечатанного конверта, оклеенного марками, который убитый, очевидно, нес на почту. На конверте стоял адрес мистера Аттерсона.
Это письмо на следующее утро доставили нотариусу. Было довольно рано, и тот еще лежал в постели. Но, когда он увидел это послание и услышал рассказ об обстоятельствах, при которых письмо было найдено, лицо юриста вытянулось, и на нем появилось выражение крайней сосредоточенности.
— Я ничего не скажу до тех пор, пока не увижу тела, — сказал он посыльному, доставившему конверт, — это, быть может, весьма серьезное дело. Будьте добры подождать, пока я оденусь.
И с тем же выражением сосредоточенности на лице он наспех позавтракал и отправился в участок, куда уже отнесли тело. Взглянув на убитого, мистер Аттерсон кивнул и проговорил:
— Да, я узнаю его. К величайшему сожалению, я вынужден подтвердить, что это сэр Данверс Кэрью.
— Боже мой, сэр! — воскликнул констебль. — Возможно ли это?
И в его глазах тотчас загорелся профессиональный интерес.
— Это преступление наделает много шума, — заметил он. — Может быть, вы поможете нам в поисках убийцы?
И констебль вкратце пересказал все, что сообщила ему горничная, и показал сломанную трость.
Мистер Аттерсон вздрогнул при упоминании имени Хайда, но, когда ему показали трость, у него улетучились всякие сомнения: хотя она была сломана и исковеркана, все же нотариус узнал в ней ту самую трость, которую сам подарил много лет назад Генри Джекилу.
— Что, этот мистер Хайд — человек небольшого роста? — поинтересовался он у констебля.
— Необычайно мал ростом и необычайно уродлив, судя по описанию горничной, — сообщил тот.
Мистер Аттерсон на мгновение задумался, потом, приподняв голову, сказал:
— Если вам будет угодно сесть в мой кеб, то, мне кажется, я сумею указать вам, где он проживает.
Было уже около девяти часов утра, и впервые за эту осень густой туман окутывал город. Огромный шоколадного цвета покров опускался с неба, но ветер все время боролся с ним, пытаясь прорвать густую пелену мглы; и, по мере того как кеб переползал из одной улицы в другую, мистеру Аттерсону открывалось нескончаемое разнообразие сумеречных оттенков. То становилось совершенно темно, как поздним вечером, то вдруг появлялся густой коричневато-красный отсвет, словно зарево далекого страшного пожара; то потом вдруг на мгновение туман как бы расползался, и сквозь его клубящиеся клочья пробивался сноп бледного дневного света. При этом постоянно меняющемся освещении мрачный квартал Сохо — с его грязными улочками, потрепанными прохожими и фонарями, которые так и не погасили или вновь зажгли для борьбы со спустившимся мраком, — казался нотариусу частью некоего города из кошмарного видения. К тому же в уме его роились самые мрачные мысли, а когда нотариус взглянул на своего спутника, то почувствовал вдруг легкий приступ того безотчетного страха перед законом и его блюстителями, который иногда охватывает и самых честных людей.
Когда кеб остановился возле указанного дома, туман уже было рассеялся, и взору Аттерсона представились грязная улица, кабак, дешевая французская харчевня и убогая лавочка. Кучки оборванных ребятишек ютились на ступенях у подъездов, а женщины самых разных национальностей выходили из дверей с ключом в руках, чтобы пропустить стаканчик. Минуту спустя бурый точно глина туман опять сгустился над этим кварталом, скрыв от Аттерсона окружавшую его грязь и нищету. Вот где обитал любимец Генри Джекила, человек, которому предстояло унаследовать четверть миллиона фунтов стерлингов.
Очень бледная седая старушка открыла дверь. У нее было злое, несколько смягченное лицемерной доброжелательностью лицо, но держалась она превосходно. «Да, — сказала она, — здесь живет мистер Хайд, но его сейчас нет дома; он вернулся очень поздно ночью, пробыл у себя меньше часа и опять ушел». Старуха заметила, что в этом нет ничего странного, поскольку он вообще ведет беспорядочную жизнь и часто отлучается; так, например, до вчерашнего дня она не видела его почти два месяца.
— В таком случае мы хотим осмотреть его квартиру, — проговорил нотариус и, когда женщина попыталась было заявить, что это невозможно, прибавил: — Пожалуй, будет лучше, если я познакомлю вас со своим спутником. Это полицейский инспектор Ньюкомен из Скотленд-Ярда.
Вспышка злорадства вдруг осветила лицо старухи.
— А! — воскликнула она. — Так он попал в беду! Что же он натворил?
Мистер Аттерсон и инспектор переглянулись.
— Очевидно, мистера Хайда не особенно любят, — заметил последний. — Ну, а теперь, — обратился он к старой женщине, — позвольте нам осмотреть его квартиру.
В доме, в котором, кроме старухи, никого не оказалось, мистер Хайд занимал только две комнаты; но зато они были обставлены с удивительной роскошью и хорошим вкусом. Имелся чулан, заполненный бутылками с винами; посуда была серебряной, столовое белье — изящным. На стене висела красивая картина, подарок (как предполагал Аттерсон) Генри Джекила, знавшего толк в живописи; ковры были с высоким плотным ворсом и приятной расцветки. Однако в данную минуту комнаты носили на себе явные следы того, что в них недавно и впопыхах что-то искали, — все было перевернуто вверх дном. Повсюду на полу валялась одежда с вывернутыми карманами, ящики комодов были выдвинуты, а в камине высилась куча серого пепла, словно тут было сожжено множество бумаг. Из этого пепла инспектор извлек обуглившийся корешок чековой книжки; за дверью он отыскал вторую половину трости, которой было совершено убийство, и, поскольку это подтверждало его подозрения, заявил, что весьма доволен результатами осмотра. Визит же в банк, где оказалось, что на текущем счету убийцы лежало несколько тысяч фунтов, еще более упрочил его уверенность.
— Уж будьте уверены, сэр, — сказал он мистеру Аттерсону, — он уже у меня в руках. Мистер Хайд, должно быть, потерял голову, иначе не сохранил бы обломка трости и, во всяком случае, не сжег бы чековую книжку. Ведь без денег ему крышка. Теперь нам остается только подстеречь его в банке да выпустить объявление с описанием его примет.
Но это-то последнее сделать было как раз не так легко, поскольку мало кто знал и помнил мистера Хайда, даже хозяин той служанки видел его всего дважды; семью Хайда невозможно было отыскать; он ни разу не делал фотоснимков; а те немногие люди, которые могли описать его внешность, описывали ее по-разному, как всегда бывает в подобных случаях. Только в одном все сходились: в том навязчивом впечатлении неуловимого уродства, которое производил убийца на всех, кто смотрел на него.
Случай с письмом
День уже клонился к вечеру, когда мистер Аттерсон направился к дому доктора Джекила. Дверь ему отворил Пул, который сразу впустил гостя и провел мимо кухни, служб и двора, который когда-то был садом, к постройке, называвшейся иногда лабораторией, иногда секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, а поскольку его лично больше влекло к химии, чем к анатомии, то он изменил назначение строения в глубине сада. В первый раз нотариуса приглашали в эту часть жилища его друга; он с любопытством принялся разглядывать мрачное строение без окон и с ощущением какого-то необъяснимого ужаса осматривался, когда проходил через анатомический театр, который когда-то бывал битком набит внимательными студентами, а теперь был пуст и безмолвен, со столами, загроможденными химическими аппаратами, и полом, уставленным запыленными корзинами и заваленным упаковочной соломой; освещался он тусклым светом, проникавшим сквозь запыленные стекла купола. В дальнем его конце лестница поднималась к двери, обитой красным сукном, и через эту дверь мистера Аттерсона наконец ввели в кабинет доктора.
Это была большая комната, вдоль стен которой стояло множество застекленных шкафов; кроме того, в ней находилось большое трюмо с зеркалом и письменный стол; три запыленных, забранных железными решетками окна выходили во двор. В камине пылал огонь, на каминной полке стояла зажженная лампа, поскольку густой туман проникал даже в дом; и там, у этого источника тепла, сидел доктор Джекил, выглядевший необыкновенно больным. Он не встал навстречу своему гостю, но протянул ему холодную руку и приветствовал изменившимся голосом.
— А теперь, — сказал мистер Аттерсон, как только Пул их оставил, — скажите, слышали ли вы новость?
Доктор вздрогнул.
— Газетчики кричат о ней повсюду на улицах, — произнес он, — я слышал их из своей столовой.
— Позвольте сказать вам пару слов, — сказал нотариус. — Кэрью был моим клиентом, как и вы. И я хочу знать, что мне делать. Вы, надеюсь, не совершили безумного поступка и не спрятали у себя этого молодца?
— Аттерсон, клянусь богом! — воскликнул доктор. — Клянусь богом, что я его никогда больше не увижу! Честью своей клянусь, я порвал с ним в этом мире навсегда. Все кончено. Да он и не нуждается больше в моей помощи. Вы его не знаете так, как знаю я. Он в безопасности, в совершенной безопасности и помяните мои слова — никто и никогда о нем больше не услышит.
Нотариус слушал эту тираду с мрачным видом. Ему не нравилось лихорадочное возбуждение доктора.
— Вы, кажется, очень в нем уверены, — сказал мистер Аттерсон, — и ради вас самих мне хочется надеяться, что вы правы. Если бы дело дошло до суда, то в нем непременно было бы замешано и ваше имя.
— Я совершенно уверен в нем, — продолжал Джекил, — у меня есть достаточные основания для этой уверенности, которые, к сожалению, я не могу сообщить никому. Но есть одно, в чем вы можете помочь мне советом. Я… я получил письмо и не знаю, следует ли передать его в распоряжение полиции. Я хотел бы узнать ваше мнение, Аттерсон, поскольку уверен, что ваше решение будет наилучшим. Я ведь абсолютно вам доверяю.
— Вы, очевидно, боитесь, что это письмо может привести к обнаружению местонахождения убийцы? — поинтересовался нотариус.
— Нет, — ответил тот, — не могу сказать, что меня теперь беспокоит судьба Хайда, — я совершенно с ним покончил. Я думал лишь о своей собственной репутации, которая может быть запятнана этим отвратительным преступлением.
Аттерсон ненадолго задумался. Его удивила эгоистичность друга, но все же это его и утешило.
— Ну, — сказал он наконец, — а теперь позвольте мне посмотреть письмо.
Послание было написано странным прямым почерком и подписано «Эдвард Хайд». В нем сообщалось, в довольно кратких выражениях, что покровитель пишущего, доктор Джекил, которого Хайд так недостойно отблагодарил за тысячу благодеяний, не должен беспокоиться за его судьбу, поскольку он имеет возможность найти безопасное убежище. Письмо это произвело весьма благоприятное впечатление на нотариуса: оно уже по-иному освещало отношения между доктором и Хайдом, и он начал укорять себя за некоторые свои подозрения.
— А конверт у вас сохранился? — поинтересовался мистер Аттерсон.
— Я его сжег, — ответил Джекил, — прежде чем успел подумать, что делаю. Но на нем не было почтового штемпеля, поскольку его принес посыльный.
— Могу ли я забрать письмо с собой и на досуге подумать, что предпринять? — спросил Аттерсон.
— Делайте с ним что хотите, — последовал ответ, — я потерял уверенность в себе.
— Хорошо, я подумаю, — ответил нотариус. — А теперь еще одно слово: скажите, это Хайд продиктовал вам те пункты вашего завещания, в которых говорится об исчезновении?
Казалось, что доктор близок к обмороку; он крепко стиснул зубы и утвердительно кивнул.
— Я это знал, — ответил Аттерсон. — Он собирался убить вас. Вы счастливо отделались.
— Я не только отделался, но и, что гораздо важнее, — произнес доктор торжественно, — получил хороший урок! О боже, Аттерсон, какой я получил урок!
И на мгновение Джекил закрыл лицо руками. Уходя, нотариус замешкался на минуту в передней, чтобы поговорить с Пулом.
— Кстати, — сказал он, — сегодня сюда принесли письмо… Как выглядел посыльный?
Но Пул решительно заверил Аттерсона, что в этот день никакой корреспонденции не приносили, кроме как с почты. «Да и то были одни лишь печатные объявления», — добавил он.
Это известие вновь пробудило опасения посетителя. Ему стало ясно, что письмо было подано через дверь лаборатории; также было возможно, что его написали в самом кабинете доктора; а если дело обстояло так, то следовало отнестись к письму иначе и действовать очень осторожно.
Когда мистер Аттерсон шел по улицам, газетчики до хрипоты выкрикивали: «Специальное издание! Ужасное убийство члена парламента!»
Это было своего рода надгробное слово над могилой одного из его друзей и клиентов. В то же время нотариус не мог подавить некоторого опасения. Как бы доброе имя другого не было потоплено в разразившемся ливне скандала. Да, щепетильному юристу предстояла весьма щекотливая задача; и хотя он, по привычке, всегда полагался на собственное суждение, тут у него начало пробуждаться смутное желание посоветоваться с кем-нибудь. Но Аттерсон не знал никого, с кем можно было бы посоветоваться; следовало поискать такого человека.
Вскоре после этого мистер Аттерсон уже сидел у камина в своем доме, а напротив него, по другую сторону камина, расположился его старший клерк мистер Гест, между ними же, на точно рассчитанном расстоянии от огня, стояла бутылка особого старого вина, которая долго пролежала в темном подвале дома. Туман все еще сонно парил над окутанным мглой городом, на улицах которого мерцали фонари, словно красные рубины, а сквозь мягкую, все приглушающую пелену этих нависших туч смутно доносился шум городской жизни, напоминая гул сильного, но далекого ветра. Но в доме было уютно, газовые рожки ярким и веселым светом озаряли комнату. Вино в бутылке давно перебродило, его алый цвет смягчился со временем, как сгущается с годами раскраска витражей; и пламя горячих осенних закатов на холмистых виноградниках готово было вырваться и рассеять лондонские туманы. Сам того не замечая, нотариус расслабился и размяк. Гест был единственным человеком, от которого мистер Аттерсон почти ничего не скрывал. К тому же клерк часто бывал по делам у доктора Джекила, он знал Пула, он не мог не слышать о близости Хайда к дому. Если Гест увидит письмо, он, вероятно, выскажет какие-то умозаключения и отчасти прольет свет на эту тайну… А поскольку клерк считался большим знатоком и экспертом в почерках, то он сочтет этот шаг весьма естественным и даже лестным. Кроме того, Гест был весьма смышленым человеком; он вряд ли прочтет такой документ, не сделав по этому поводу какого-нибудь замечания, и Аттерсон сможет воспользоваться его советом, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями.
— Весьма печальное дело, это убийство сэра Данверса, — проговорил он.
— Да, сэр, очень печальное. Оно вызвало взрыв общественного негодования, — подхватил Гест. — Убийца, без сомнения, был сумасшедшим.
— Мне очень хотелось бы выслушать ваше мнение по этому вопросу, — ответил Аттерсон. — Вот тут у меня документ, написанный собственной рукой убийцы; конечно, все это строго между нами… Я обращаюсь к вам, поскольку не знаю, как мне поступить. Грязное, в общем, это дело. Но вот оно: как раз в вашем вкусе — автограф убийцы.
Глаза Геста загорелись, он сразу же принялся внимательно рассматривать документ.
— Нет, сэр, — наконец, проговорил он, — это писал не сумасшедший, но почерк действительно странный.
— Да и сам писавший тоже был человек странный, — прибавил нотариус.
В эту минуту в комнату вошел слуга с письмом.
— Это не от доктора ли Джекила, сэр? — спросил клерк. — Мне показалось, что я узнал почерк. Что-нибудь секретное, сэр?
— Просто приглашение на обед. А что? Хотите посмотреть его?
— Да, позвольте, на одну минуточку.
Клерк положил оба листа бумаги рядом и стал тщательно сличать оба почерка.
— Благодарю вас, сэр, — сказал он наконец, возвращая оба письма, — это весьма интересно…
Наступила пауза, в течение которой мистер Аттерсон боролся с самим собой.
— Зачем вы сличали почерки, Гест? — спросил он внезапно.
— Надо признаться, сэр, — с некоторой заминкой проговорил клерк, — между этими почерками имеется довольно любопытное сходство, только наклон букв разный.
— Странно, — заметил нотариус.
— Да, действительно, как вы изволили выразиться, странно, — согласился Гест.
— Знаете, я бы пока ничего никому не говорил об этой записке, — сказал патрон.
— Хорошо, сэр, — ответил клерк, — я понимаю.
Как только поздно вечером мистер Аттерсон остался один, он запер записку в свой несгораемый шкаф, где она и хранилась с тех пор.
«Ну и дела! — подумал он. — Генри Джекил подделывает почерк и подпись убийцы!»
И от этой мысли кровь похолодела в его жилах.
Замечательный случай с доктором Лэньоном
Время шло; была обещана награда в несколько тысяч фунтов за поимку убийцы, поскольку смерть сэра Данверса вызвала бурное негодование в обществе. Но мистер Хайд исчез с лица земли, словно в воду канул. Многое в его прошлом было раскрыто, и все, что стало известным, вызывало ужас; всплыли рассказы о его жестокости, грубости и бессердечии, о его беспорядочной жизни, о его странных товарищах, о ненависти, которой он был окружен. Но о его теперешнем местопребывании — ни слуха ни духа. С тех пор как наутро после убийства он вышел из своего дома в Сохо, он канул в неизвестность, и по мере того, как проходили дни, мистер Аттерсон начал понемногу забывать свои опасения и приходить в себя. Он сделал заключение, что смерть сэра Данверса была более чем искуплена исчезновением мистера Хайда. Теперь, когда исчезло дурное влияние, для доктора Джекила началась новая жизнь. Он выбрался из своего одиночного добровольного заточения, возобновил отношения со старыми друзьями, снова стал их постоянным гостем и гостеприимным хозяином. До этого доктор был известен своей благотворительностью, теперь же не меньше выделялся своей религиозностью. Он много работал, много бывал на свежем воздухе и прекрасно себя чувствовал. Лицо его стало как будто более открытым и ясным, словно от внутреннего осознания своей полезности человечеству; и в течение более чем двух месяцев доктор жил в мире с окружающими и с самим собой.
Восьмого января Аттерсон обедал у доктора в небольшом кругу общих друзей, среди которых был и Лэньон, и хозяин с улыбкой смотрел то на одного, то на другого своего приятеля, как в добрые старые времена, когда они были неразлучной троицей. Но 12-го, а затем и 14-го числа дверь докторского дома оказалась закрыта для Аттерсона.
«Доктор болен, не выходит из дома, — сообщил Пул, — и никого не принимает».
Пятнадцатого января нотариус снова попытался повидать Джекила, но его опять не приняли. Он привык в течение последних двух месяцев видеть своего друга ежедневно, и это возвращение к одиночеству подействовало на него удручающе. На пятый вечер он позвал к себе обедать Геста, а на шестой отправился к Лэньону.
Тут-то по крайней мере ему не отказали в приеме; но когда Аттерсон вошел, то был поражен переменой, происшедшей во внешности доктора. На лице его ясно читался смертный приговор. Его кожа, прежде имевшая здоровый розовый цвет, стала совершенно бледной; доктор сильно похудел, заметно полысел и состарился; и все же не столько эти внешние признаки быстрого физического угасания обратили на себя внимание нотариуса, сколько странное выражение глаз и едва уловимая перемена в манерах, указывающая на какой-то поселившийся в глубине души страх. Вряд ли можно было предполагать, что доктор боится смерти, однако именно это начал подозревать Аттерсон.
«Да, — подумал нотариус, — ведь он врач, он должен знать о состоянии своего здоровья и о том, что дни его сочтены; и это-то осознание — свыше его сил».
Предположения Аттерсона оправдались, когда он что-то заметил относительно того, как плохо выглядит доктор, и Лэньон с величайшей твердостью и решимостью заявил, что он приговорен к смерти.
— Мне нанесен очень сильный удар, — произнес он, — и я уже не оправлюсь от него. Речь идет всего о нескольких неделях. Ну, что ж, жизнь моя в целом была удачна; я любил ее, да, сэр, я любил ее. Иногда мне кажется, что, если бы мы знали обо всем наперед, мы были бы рады умереть.
— Джекил тоже болен, — заметил Аттерсон. — Вы его видели?
Лэньон сильно изменился в лице и, подняв дрожащую руку, срывающимся голосом произнес:
— Я не желаю больше ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем. Я совершенно порвал с ним. Прошу вас больше никогда не упоминать при мне об этом человеке, который для меня все равно что мертвый.
— Ну, ну, — сказал нотариус и прибавил после долгой паузы: — Не могу ли я чем-нибудь помочь? Мы — трое старых друзей, Лэньон, и теперь у нас остается уже не так много времени, чтобы завязать новую дружбу.
— Ничем тут помочь нельзя, — возразил Лэньон, — спросите его самого.
— Он не желает меня видеть, — ответил Аттерсон.
— Я этому ничуть не удивляюсь, — проговорил доктор. — Когда-нибудь, Аттерсон, после того как я умру, вы, быть может, узнаете все подробности. Сам я не могу вам о них рассказать. А пока, если вы можете посидеть и поговорить со мной о другом, заклинаю вас Богом, оставайтесь и говорите. Но если вы не можете не касаться этой проклятой темы, то тогда, ради бога, уходите, потому что я этого не вынесу.
Как только нотариус вернулся домой, он сел и написал доктору Джекилу, жалуясь на то, что его не принимают, и интересуясь причиной злосчастного разрыва между ним и Лэньоном. На следующий день он получил пространный ответ, в некоторых частях своих очень трогательный и страстный, в других — таинственно-неясный. Ссора с Лэньоном была непоправима.
«Я не виню нашего старого друга, — писал Джекил, — но вполне разделяю его мнение: что мы больше не должны с ним видеться. Я намерен отныне вести крайне уединенную жизнь, поэтому вы не должны удивляться или сомневаться в моей дружбе к вам, если мои двери будут часто для вас закрыты. Вы должны позволить мне идти моей собственной, темной дорогой. Я навлек на себя кару и опасность, суть которых не могу вам раскрыть. Если я величайший грешник, то одновременно я и величайший страдалец. Я и не предполагал, что этот мир может быть местом для таких нечеловеческих страданий и ужасов. И вы, Аттерсон, лишь одним можете облегчить мою участь — уважением к моему молчанию».
Нотариус был поражен. Ведь пагубное влияние Хайда было устранено, доктор вернулся к своей прежней работе и прежним друзьям; всего лишь неделю тому назад ему улыбалась, казалось, почтенная и радостная старость. А теперь, так внезапно, и дружба, и душевный покой, и весь уклад его жизни были погублены. Столь великая и неожиданная перемена явно указывала на сумасшествие. Но, принимая во внимание слова и поведение Лэньона, Аттерсон заподозрил, что за этим скрывалась более глубокая причина.
Через несколько дней доктор Лэньон слег в постель, и не прошло и двух недель, как он скончался. В ночь после похорон, которые произвели на Аттерсона очень тягостное впечатление, нотариус запер на ключ дверь своего кабинета и, сидя за столом, при свете одинокой свечи, достал и положил перед собой конверт, надписанный рукой и запечатанный печатью его покойного друга.
«Секретно. Передать только в собственные руки Дж. Г. Аттерсону, а в случае его преждевременной смерти прошу уничтожить, не читая». Так гласила надпись на конверте. Нотариус со страхом размышлял о содержании этого послания. «Сегодня я похоронил одного друга, — подумал он, — что если это лишит меня другого?» Но он тут же отогнал этот страх, как оскорбительный для памяти покойного, и сломал печать. В пакете лежал другой конверт, тоже запечатанный и с надписью: «Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила». Аттерсон не поверил своим глазам. Да, несомненно, там стояло слово «исчезновение». И здесь опять, как и в том безумном завещании, которое он давным-давно вернул его автору, — здесь опять слово «исчезновение» и имя доктора Генри Джекила были тесно связаны. Но там, в завещании, это слово появилось под злодейским влиянием Хайда; оно было вставлено со слишком ясной и ужасной целью. Написанное же рукою Лэньона, что оно могло значить? Нотариусом овладело необоримое любопытство, желание пренебречь запретом и сразу узнать тайну. Но профессиональная этика и верность покойному другу удержали его; и пакет был спрятан в самый дальний угол несгораемого шкафа.
Одно дело подавить любопытство, другое — побороть его. С этого дня Аттерсон уже не искал с той же настойчивостью и рвением общества своего оставшегося в живых друга. Он по-прежнему относился к нему в душе хорошо, но страх и беспокойство мучили его. Правда, он несколько раз подходил к подъезду докторского дома, звонил, но, быть может, с чувством облегчения выслушивал отказ в приеме. Возможно, в глубине души нотариус предпочитал перекинуться на крыльце двумя-тремя словами с Пулом, окруженный атмосферой и шумом свободного города, чем получить доступ в дом добровольного заключения и сидеть и разговаривать с таинственным заключенным. Но и Пул не мог сообщить ничего утешительного. По его словам, доктор теперь чаще чем когда-либо запирался в кабинете над лабораторией, а иногда даже там ночевал. Он был все время очень не в духе, стал чрезвычайно молчалив, ничего не читал. Аттерсон настолько привык к этим однообразным ответам Пула, что постепенно стал заходить к уединившемуся другу все реже и реже.
Случай у окна
Как-то в воскресенье, когда мистер Аттерсон совершал свою обычную прогулку с мистером Энфилдом, случилось так, что дорога их снова пролегала через известный переулок. И когда они приблизились к знакомой двери, оба остановились и поглядели на нее.
— Да, — сказал Энфилд, — по крайней мере эта история теперь закончилась. Мы никогда больше не увидим мистера Хайда.
— Надеюсь, что не увидим, — подхватил Аттерсон. — Я ведь говорил вам, что однажды видел его и испытал такое же чувство отвращения, как и вы?
— Иначе и быть не могло, — заметил Энфилд. — Кстати, за какого дурака, должно быть, вы меня держали, когда я не сообразил, что это — черный ход дома доктора Джекила! Впрочем, отчасти благодаря вам я это и обнаружил.
— Так вы догадались об этом? — проговорил нотариус. — Мы сейчас можем зайти во двор и взглянуть на окна. Сказать по правде, я немного беспокоюсь за доктора Джекила. И мне кажется, что присутствие друга, пусть даже рядом с домом, а не внутри, может ему немного помочь.
Во дворе было очень прохладно, немного сыровато и темно, несмотря на то что небо все еще ярко горело от отблесков заката. Среднее из трех окон было наполовину приподнято; и у него Аттерсон увидел доктора Джекила с бесконечно печальным лицом безутешного узника.
— Как! Джекил! — воскликнул он. — Я надеюсь, что вам получше?
— Я очень слаб, Аттерсон, — ответил доктор потухшим голосом, — очень слаб! Но, слава богу, скоро всему придет конец!
— Вы слишком много сидите дома, взаперти, — сказал нотариус. — Вы должны больше бывать на воздухе, гулять для усиления кровообращения, вот так, как я и мистер Энфилд. Позвольте вам представить моего двоюродного брата — мистера Энфилда. Присоединяйтесь к нам, наденьте свою шляпу и пройдемся немного!
— Вы слишком добры, — вздохнул доктор. — Мне и самому хотелось бы этого, но нет, нет, это совершенно невозможно, я не смею. Все же я очень, очень рад повидать вас, это доставляет мне большое удовольствие. Я пригласил бы вас и мистера Энфилда зайти, но здесь сейчас такой беспорядок…
— В таком случае, — добродушно ответил Аттерсон, — мы лучше останемся здесь, внизу, и будем отсюда беседовать с вами.
— Я как раз собирался предложить вам это, — проговорил доктор со слабой улыбкой.
Но едва он произнес эти слова, как улыбка исчезла с его лица и сменилась выражением такого безнадежного ужаса и отчаяния, что у стоявших внизу двух джентльменов кровь застыла в жилах. Все это продолжалось не больше мгновения, поскольку тотчас после этого окно опустилось.
Аттерсон и Энфилд повернули и вышли со двора, не произнеся ни слова. Молча спутники прошли весь переулок, и только дойдя до ближайшей большой улицы, где, несмотря на воскресный день, еще наблюдались признаки жизни, мистер Аттерсон, наконец, обернулся и взглянул на своего партнера. Оба они были смертельно бледны, и ужас сквозил в их взглядах.
— Господи, помилуй нас! Господи, помилуй! — с чувством произнес мистер Аттерсон.
Мистер Энфилд в ответ только задумчиво кивнул и молча продолжил свой путь.
Последняя ночь
Однажды вечером, после обеда, мистер Аттерсон сидел у камина, когда вдруг ему доложили, что пришел Пул.
— А! Пул! Что вас привело сюда? — воскликнул он, потом, взглянув на дворецкого пристальнее, прибавил: — Что с вами? Что случилось? Не болен ли доктор?
— Мистер Аттерсон, — проговорил Пул, — у нас что-то неладное творится…
— Сядьте и сперва выпейте стакан вина, — предложил нотариус. — А теперь спокойно и ясно расскажите мне, в чем дело.
— Вы ведь знаете, сэр, привычки доктора, — ответил гость, — и как он всегда запирается в одиночестве. Ну вот, он опять заперся в своем кабинете, и мне это очень не нравится, сэр, — провалиться на этом месте, но мне это очень не нравится, мистер Аттерсон, — сэр… я чего-то боюсь.
— Послушайте, милейший, — оборвал его хозяин, — изъясняйтесь вразумительнее: чего именно вы боитесь?
— Я уже целую неделю боюсь, — продолжил в свою очередь Пул, упорно не обращая внимания на заданный ему вопрос, — и больше не могу этого вынести!
Душевное состояние и внешний вид слуги красноречиво подтверждали его слова: он словно забыл о своих манерах и, за исключением того мгновения, когда он впервые объявил об охватившем его ужасе, ни разу не взглянул нотариусу прямо в глаза. И теперь, сидя с нетронутым стаканом вина, который он поставил на колено, Пул уставился застывшим взглядом в пол.
— Я не могу больше это выносить, — снова повторил он.
— Да, — проговорил озадаченно нотариус, — я полагаю, что у вас для этого есть серьезные основания, Пул. Я верю, что, видимо, случилось нечто неладное. Попробуйте все-таки рассказать мне, в чем же, собственно, дело?
— Мне кажется, произошло какое-то преступление, — через силу выговорил несчастный дворецкий.
— Преступление! — воскликнул Аттерсон испуганно и вследствие этого как будто немного раздраженно. — Какое преступление? Что вы этим хотите сказать?
— Я не смею произнести это вслух, сэр, — последовал ответ, — но, быть может, вы пойдете со мной и сами посмотрите, что произошло?
Не говоря ни слова, хозяин дома встал, достал свои шляпу и теплое пальто. Он с удивлением заметил, что на лице бедного малого отразилось великое облегчение и что вино так и осталось нетронутым, когда Пул поставил свой стакан на стол и последовал за Аттерсоном.
Была холодная ветреная мартовская ночь с бледной луной, призрачным светом заливавшей округу, и быстро бегущими по черному небу прозрачными волокнистыми облаками. Ветер дул с такой силой, что разговаривать было почти невозможно, и кровь стыла в жилах. Порывы пронизывающего ледяного воздуха, казалось, смели с улиц всех прохожих, поскольку мистеру Аттерсону показалось, что он никогда прежде не видел эту часть Лондона столь пустынной. А между тем ему хотелось, чтобы вокруг все было совсем иначе; никогда в жизни не испытывал он такого острого желания видеть и чувствовать людей, поскольку, невзирая на все усилия, нотариус в глубине души не мог отделаться от мучительного предчувствия какой-то беды. Сквер — когда спутники до него добрались — оказался весь продуваем ветром, насыщенным пылью, а худосочные деревца в садике отчаянно бились о решетку. Пул, шествовавший все время шага на два впереди, вдруг резко остановился посреди тротуара и, несмотря на ужасную погоду, снял шляпу и отер красным платком вспотевший лоб. Хотя он шел очень быстро, тем не менее испарина, которую он вытирал, была вызвана не усиленной нагрузкой от ходьбы, а охватившим его необъяснимым глубоким ужасом, поскольку лицо дворецкого было бледно. Когда он заговорил, голос его звучал глухо и отрывисто:
— Вот, сэр… Вот мы и пришли, и дай бог, чтобы не случилось какой-нибудь беды!
— Аминь, Пул, — произнес нотариус.
После этого Пул осторожно постучался. Дверь отворили, не снимая цепочки, и кто-то изнутри спросил:
— Это вы, Пул?
— Да, я, — ответил он, — отворите дверь.
Когда они вошли, передняя оказалась ярко освещенной; в камине пылал огонь, а вокруг него, как стадо испуганных баранов, толпилась вся прислуга доктора. При виде мистера Аттерсона горничная разразилась истерическими всхлипываниями, а кухарка, вскрикнув: «Слава богу! Это мистер Аттерсон», — побежала ему навстречу, словно намереваясь обнять.
— Что все это значит? Зачем вы все тут собрались? — спросил мистер Аттерсон, как будто рассердившись. — Это крайне неприлично. Почему вы устроили такой беспорядок? Ваш хозяин был бы весьма недоволен, если бы увидел это.
— Они все боятся, — пояснил за собравшихся Пул.
Последовало глубокое молчание, никто не запротестовал, только горничная теперь заплакала уже в голос.
— Да замолчите же! — приказал ей дворецкий резким тоном, который свидетельствовал о том, что и его нервы были натянуты как струна.
В самом деле, все находились в возбужденном состоянии, так что когда девушка так внезапно вскрикнула, все вздрогнули и повернулись к двери, которая вела во внутренние комнаты, с лицами, на которых было написано тревожное ожидание.
— А теперь, — продолжал Пул, обращаясь к мальчику с кухни, — принеси мне свечу, и мы разом покончим с этим.
Потом он попросил мистера Аттерсона следовать за ним и направился к садику во дворе.
— Теперь, сэр, — предупредил он, — старайтесь идти как можно тише. Я хочу, чтобы вы слышали все, но чтобы вас никто не заметил. Только прошу вас, сэр, если он пригласит вас войти, ни за что не входите.
Нервы Аттерсона после этой неожиданной просьбы испытали такой удар, который чуть не вывел его из равновесия; но нотариус быстро оправился и последовал за дворецким в здание лаборатории и дальше, через анатомический театр, с его склянками и бутылями в плетеных корзинах, к подножию лестницы, ведущей в кабинет доктора. Здесь Пул знаком велел ему встать несколько в стороне и прислушаться. Сам же он, поставив свечу на пол и собрав всю свою храбрость и решительность, поднялся по лестнице и немного неуверенно постучал в обитую красным сукном дверь кабинета.
— Мистер Аттерсон желает вас видеть, сэр! — крикнул дворецкий и одновременно сделал нотариусу знак прислушаться внимательнее.
Тихий жалобный голос изнутри ответил:
— Передай ему, что я никого не могу принять!
— Слушаю, сэр, — ответил Пул с оттенком какого-то торжества в голосе, и, взяв свечу, повел мистера Аттерсона назад через двор в большую кухню, где огонь уже давно потух, и по полу ползали тараканы.
— Сэр, — сказал он, глядя нотариусу прямо в глаза, — скажите по чести, разве это был голос хозяина?
— Он показался мне очень изменившимся, — ответил тот, побледнев, но тоже глядя прямо в глаза Пулу.
— Изменившимся? Да, еще бы! — воскликнул дворецкий. — Я двадцать лет прожил в этом доме, разве я могу не узнать голоса своего хозяина? Нет, сэр! Доктора убили! Да, его прикончили восемь дней тому назад, когда мы слышали, как он крикнул, призывая Господа Бога! И кто или что там теперь вместо него, и почему оно там сидит, это великая тайна, мистер Аттерсон.
— Ваш рассказ весьма необычен, Пул, вы рассказываете просто какие-то дикие вещи, — заметил поверенный, прикусив палец. — Предположим, дело обстоит так, как вы думаете; предположим, что доктора Джекила… убили; так зачем же убийце оставаться там? Ведь это же нелепо! Нет, ваше предположение не выдерживает ни малейшей критики.
— Хорошо, мистер Аттерсон, вы, я знаю, человек, которого трудно чем-нибудь удовлетворить или убедить, но я все-таки это сделаю, — заявил Пул. — Всю последнюю неделю, как вам известно, он или оно, или что там еще живет в этом кабинете, день и ночь просит о каком-то снадобье, которого нет никакой возможности достать. У него была иногда привычка — у хозяина, то есть, — писать свои распоряжения или рецепты на клочках бумаги и оставлять их на лестнице. Так всю последнюю неделю ничего другого мы и не видели, ничего, кроме клочков бумаги с рецептами и запертой двери, даже еду мы оставляли на лестнице, и он, или оно, забирал ее, когда никто этого не видел. Так вот, сэр, ежедневно, а иногда два и три раза за день, мы получали написанные на клочках заказы и жалобы, и меня гоняли по всем оптовым аптекарским складам в городе. Всякий раз, когда я приносил заказанное лекарство, я получал другую записку с приказанием вернуть его, поскольку оно оказывалось недостаточно чистым, и новый заказ в другую фирму. Это снадобье ему, сэр, зачем-то очень нужно, а зачем — не знаю.
— Осталась ли у вас какая-нибудь из этих записок? — поинтересовался мистер Аттерсон.
Пул пошарил в кармане и достал оттуда измятую бумажку, которую нотариус, наклонившись к свече, стал внимательно рассматривать. На ней было написано следующее:
«Доктор Джекил свидетельствует свое почтение г. Моу. Он уверяет их, что последний присланный ими образчик требуемого препарата не чист и потому совершенно непригоден для требуемых целей. В 18.. г. доктор Джекил приобрел у г. Моу довольно большую партию этого же препарата. Теперь он убедительно просит их тщательно поискать, не найдется ли у них какой-нибудь остаток именно той партии, и в случае, если он найдется, прислать ему немедленно. Цена значения не имеет. Важность всего вышеизложенного для доктора Джекила едва ли может быть преувеличена!»
До сих пор письмо было довольно последовательно, но тут, вместе с неожиданным чернильным пятном, прорывалось и волнение писавшего: «Ради бога, — прибавлял он, — найдите мне хоть немного прежнего препарата».
— Странная записка, — заметил мистер Аттерсон и прибавил резко: — Почему она у вас?
— Приказчик Моу очень рассердился, сэр, и швырнул ее назад, мне в лицо, — ответил Пул.
— Ведь это же, несомненно, почерк доктора, как вы думаете? — прибавил нотариус.
— Мне показалось, что, действительно, похоже на его почерк, — ответил слуга как-то нерешительно, а потом добавил уже другим тоном: — Но что значит почерк, когда я видел его самого!
— Вы видели его?! — переспросил поверенный.
— Да! — воскликнул Пул. — Дело было так. Я неожиданно вошел через сад в анатомический театр. Очевидно, он потихоньку вышел, вероятно, чтобы поискать это лекарство или препарат, поскольку дверь кабинета была отворена, и он находился в дальнем углу комнаты и рылся среди корзин. Он поднял голову, когда я вошел, издал что-то вроде крика и прошмыгнул по лестнице в кабинет. Я видел его только одно мгновение, сэр, но волосы у меня на голове встали дыбом, словно щетина. Я позволю себе спросить вас, сэр, если это был хозяин, так зачем он надел маску на лицо? Если это был хозяин, так почему он пискнул, словно крыса, и убежал? Я, слава богу, достаточно-таки долго у него прослужил. А потом… — дворецкий замолчал и провел рукой по лицу.
— Все это очень странно, — заметил мистер Аттерсон, — но мне кажется, что я начинаю кое-что понимать. Ваш хозяин, Пул, очевидно, страдает одним из тех недугов, которые одинаково и мучают, и обезображивают человека. Этим, насколько я могу вообразить, объясняется и изменение его голоса, и маска, и его стремление избегать своих знакомых; и этим же объясняется, почему он старается найти это лекарство, с помощью которого он в глубине своей бедной души надеется в конце концов вылечиться! Дай бог, чтобы эта надежда его не обманула! Вот мое объяснение; оно довольно безотрадно, Пул. Да, быть может, оно даже ужасно, но естественно и вполне логично и избавляет нас от всяких нелепых опасений и страхов.
— Сэр, — воскликнул дворецкий, смертельно побледнев, — то существо не было моим хозяином, вот в чем дело! Хозяин, — при этих словах он осторожно огляделся по сторонам и продолжал уже шепотом, — высокий, прекрасно сложенный мужчина, а тот был скорее карлик.
Аттерсон попробовал было протестовать.
— О, сэр! — воскликнул Пул. — Неужели вы думаете, что, прослужив у него двадцать лет, я не узнаю его? Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места в дверях кабинета достает его голова, когда я каждое утро на протяжении последних двадцати лет своей жизни вижу эту голову в проеме этой двери? Нет, сэр, то существо в маске никогда не было доктором Джекилом — один Господь знает, что и кто это был, но это был не доктор Джекил. И я убежден в глубине души, что тут произошло убийство.
— Пул, — ответил нотариус, — поскольку вы говорите такие вещи, то я сочту своим долгом это проверить и убедиться в истинном положении дел. Как бы мне ни хотелось быть деликатным по отношению к вашему хозяину, как бы ни озадачивала меня эта записка, как будто доказывающая, что он все еще жив, — тем не менее, я считаю, что нужно взломать эту дверь.
— Вот это дело, мистер Аттерсон! — обрадованно воскликнул дворецкий.
— А теперь возникает второй вопрос, — продолжал Аттерсон. — Кто же это сделает?
— Как кто? Вы и я, сэр! — последовал решительный ответ.
— Прекрасно сказано! — заметил нотариус. — Помните, что бы из этого ни вышло, я ручаюсь, что вы ничуть не пострадаете!
— В анатомическом театре лежит топор, — продолжал Пул, — а вы можете взять кухонную кочергу.
Поверенный взял это грубое, но увесистое орудие и взвесил его в руке.
— Знаете ли, Пул, — сказал он, поднимая голову, — что мы с вами сейчас ставим себя в довольно опасное положение?
— Да, сэр, это, пожалуй, верно, — отозвался дворецкий.
— Поэтому нам не мешало бы быть полностью откровенными друг с другом, — сказал Аттерсон. — Мы оба в мыслях своих таим больше, чем высказали. Так давайте говорить открыто, ничего не скрывая. Вы узнали того замаскированного субъекта, которого видели?
— Дело в том, сэр, что он убежал так быстро и так скорчился при этом, что я не могу точно сказать, кто именно это был, — последовал несколько неуверенный ответ. — Но если вы хотите спросить меня, был ли это мистер Хайд, то я отвечу — да, кажется, он. Рост приблизительно такой же, та же юркость в движениях… Кроме того, кто еще мог войти через дверь лаборатории? Вы ведь не забыли, сэр, что во время известного убийства ключ-то у него еще оставался. Но и это еще не все. Я не знаю, встречали ли вы когда-нибудь этого мистера Хайда, мистер Аттерсон?
— Да, — ответил нотариус, — я однажды имел удовольствие разговаривать с ним.
— Тогда вы, как и все мы, должны знать, что в этом джентльмене есть что-то странное — что-то, оставляющее неприятное впечатление. Не знаю, как точнее выразиться, что-то, от чего кровь в жилах застывала, и озноб пронизывал до мозга костей.
— Сознаюсь, и я испытывал нечто в этом роде, — вздохнул мистер Аттерсон.
— Совершенно верно, сэр, — подтвердил Пул. — Так вот, когда это замаскированное существо выскочило, словно обезьяна, из-за химических приборов и шмыгнуло в кабинет, по спине моей точно льдом провели. О, я знаю, это вовсе не доказательство, сэр, я достаточно грамотен, чтобы знать, что такое показание не будет принято на суде, но у каждого человека есть свои ощущения, свои чувства, и тогда я был готов поклясться Библией, что это мистер Хайд.
— Да, да, — согласился нотариус. — Я в своих опасениях тоже склоняюсь к этому. На недобром, боюсь, была основана эта дружба, и ничего, кроме недоброго, из нее не могло выйти. Право, я верю вам. Верю, что бедный Генри убит. И верю, что его убийца (бог знает зачем!) все еще прячется в комнате своей жертвы. Хорошо, да будет месть нашим знаменем. Позовите Брэдшоу!
На зов явился лакей, очень бледный и взволнованный.
— Возьмите себя в руки, Брэдшоу, — обратился к нему мистер Аттерсон. — Эта гнетущая неизвестность удручающе действует на всех нас, но теперь мы решились положить конец этой истории. Пул и я — мы намерены, пусть даже и силой, войти в кабинет. Если все обстоит благополучно, то я беру на себя полную ответственность за всех. А пока, на случай, если там действительно что-нибудь неладно или же если какой-нибудь злоумышленник попытается выскочить через ту, другую дверь, — вы и мальчик должны вооружиться хорошими палками, пойти за угол и караулить у дверей лаборатории. Даем вам десять минут на то, чтобы вы успели занять свои места.
Когда Брэдшоу ушел, нотариус посмотрел на часы.
— А теперь, Пул, пора и нам, — сказал он.
И, взяв в руку кочергу, он направился во двор. Тучи полностью закрыли луну, и теперь стояла кромешная тьма. Ветер, только порывами и сквозняками попадавший в глубокий колодец, образованный высокими строениями, окружавшими двор со всех сторон, заставлял пламя свечи колебаться из стороны в сторону, пока оба не вошли в анатомический театр, где и уселись, молча, в ожидании. Издали глухо доносился величественный гул Лондона, но вблизи тишина нарушалась лишь звуком шагов человека, ходившего взад и вперед по кабинету.
— Вот так оно ходит целый день, сэр, — шепнул Пул, — да и большую часть ночи, надо заметить. Только когда приходит новый образчик лекарства из аптеки, оно утихает на короткое время. Да, только нечистая совесть — враг покоя! Да, сэр, в каждом шаге отзывается преступно пролитая кровь! Но прислушайтесь внимательнее, мистер Аттерсон, и скажите мне: разве это похоже на звук шагов и походку доктора?
Шаги, судя по звукам, были легкие и неуверенные, какие-то раскачивающиеся, и к тому же очень медленные; они были совершенно не похожи на тяжелую, скрипучую поступь Генри Джекила. Аттерсон вздохнул.
— А еще что вы слышали? — спросил нотариус.
— Однажды, — проговорил Пул, — я слышал, как оно рыдало.
— Рыдало? Как? — спросил нотариус, почувствовав, что похолодел от ужаса.
— Оно рыдало как женщина или как погибшая душа, — произнес дворецкий, — и я ушел, сам с трудом сдерживая слезы.
Десять минут подошли к концу. Пул достал топор из-под кучи упаковочной соломы; свечу они поставили на ближайший стол, чтобы она освещала дверь, а затем, затаив дыхание, приблизились к двери, за которой кто-то шагал взад-вперед, взад-вперед среди ночной тишины.
— Джекил, — громко крикнул Аттерсон, — я требую, чтобы вы меня впустили!
Шаги на мгновение замерли, но ответа не последовало.
— Я вас предупреждаю — у нас возникли некоторые подозрения, и я должен увидеть вас и увижу, — продолжал он, — если вы сами меня не впустите, я войду силой.
— Аттерсон! — послышался голос. — Заклинаю вас, ради бога, будьте милосердны!
— А, это не голос Джекила, это голос Хайда! — воскликнул нотариус. — Взламывайте дверь, Пул!
Дворецкий размахнулся сплеча топором. От удара задрожало все здание, и дверь, обитая красным сукном, качнулась, удерживаемая на замке и петлях. Зловещий крик, словно испуганного зверя, раздался в кабинете. Снова поднялся топор, и снова затрещали доски и рама. Четыре раза ударил топор, но дерево оказалось крепко, и столярная работа прекрасна, и только после пятого удара замок сломался, отскочили петли, и дверь, превращенная в щепки, рухнула на ковер.
Осаждающие, испуганные произведенным шумом и сменившей его тишиной, на мгновение отскочили, потом заглянули в комнату. Их взорам представился кабинет в мягком свете лампы. В камине пылал и потрескивал огонь, на углях тихо шипел чайник, письменный стол был завален бумагами и заставлен раскрытыми ящиками, а поближе к камину стоял другой столик, с приготовленным чайным прибором. На первый взгляд это была, казалось, самая спокойная, и, — если бы не стеклянные шкафы с химическими приборами, — самая обыкновенная комната во всем Лондоне.
Как раз посередине комнаты лежал ничком человек, сильно скорчившийся и слегка еще подергивавшийся. Осаждавшие приблизились к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдварда Хайда. Он был одет в платье слишком для него большое, в платье, по размерам соответствовавшее фигуре доктора. Его лицо все еще подрагивало, но жизнь в нем уже погасла. А по разбитой склянке, которую он сжимал в руке, и по сильному горьковатому запаху миндаля, насыщавшему воздух, Аттерсон понял, что перед ними лежит труп самоубийцы.
— Мы пришли слишком поздно, — проговорил он сурово, — чтобы спасти или наказать. Хайд сам свел счеты с жизнью. И теперь нам остается только отыскать тело вашего хозяина.
Большая часть здания была занята анатомическим театром, который заполнял собой почти весь нижний этаж и освещался верхним светом; кабинет располагался на верхнем этаже в одном конце здания и окнами выходил во двор. Театр соединялся коридором с дверью, которая вела в переулочек и с которой кабинет, в свою очередь, соединялся отдельно второй лестницей. Кроме того, в доме было еще несколько темных чуланчиков и обширный погреб. Все это нотариус с дворецким тщательно осмотрели. На изучение каждого чуланчика достаточно было одной минуты, поскольку все они оказались пусты и, судя по пыли, посыпавшейся с их дверей, давно не открывались. Погреб же был заполнен всякой странной дребеденью, большей частью ведущей свою историю от времен предшественника Джекила — хирурга. И тут, едва открыли дверь, упавшая густая сеть паутины, много лет затягивавшая вход, убедила партнеров в бесполезности дальнейших поисков. Нигде не было ни малейшего следа ни живого, ни мертвого Генри Джекила.
Пул потопал ногой по плитам коридора.
— Он, наверное, похоронен здесь, — проговорил он, прислушиваясь к звуку.
— Или же убежал! — возразил Аттерсон и повернулся, чтобы осмотреть дверь, выходившую в переулочек. Она была заперта, а около нее на каменном полу они нашли ключ, весь покрытый ржавчиной.
— Похоже, им давно не пользовались! — заметил нотариус.
— Не пользовались? — повторил дворецкий. — Разве вы не видите, сэр, что он сломан? Словно кто-то раздавил его ногой.
— А! — продолжал осмотр Аттерсон. — И на изломе тоже ржавчина.
Оба испуганно взглянули друг на друга.
— Это выше моего понимания! — воскликнул поверенный. — Вернемся в кабинет!
Они молча поднялись по лестнице и, все еще с некоторым испугом поглядывая на труп, стали тщательно осматривать кабинет. На одном столе оставались следы каких-то химических опытов: на стеклянном блюдечке лежали разные по размерам отвешенные кучки какого-то белого вещества, словно приготовленные для работы, которую несчастному человеку так и не удалось окончить.
— То самое снадобье, которое я ему все время приносил, — заметил Пул. — И не успел он сказать этих слов, как чайник со страшным шумом закипел.
Это заставило Аттерсона подойти к камину, у которого уютно расположилось большое кресло, а рядом с ним стоял приготовленный чайный прибор, даже с сахаром в чашке. На полке камина лежало несколько книг; одна, раскрытая, пристроилась на столике у чайного прибора. К своему удивлению Аттерсон увидел, что это было религиозное сочинение, о котором Джекил не раз отзывался с глубоким уважением, но теперь на полях его, приписанные рукой доктора, стояли возмутительные по кощунству замечания.
Дальше в своих поисках нотариус и дворецкий наткнулись на большое зеркальное трюмо, в глубину которого заглянули с невольным ужасом. Но оно было повернуто таким образом, что в нем отражался только розовый отсвет на крыше за окном, прыгающие искорки, сотнями повторенные в стеклянных дверцах шкафов, и их собственные бледные и испуганные лица, нагнувшиеся над ним.
— Много странных вещей видело это зеркало, сэр, — шепнул Пул.
— И само оно странно, — так же тихо ответил нотариус, — поскольку зачем Джекилу… — он вздрогнул, произнося это имя, потом, овладев собой, докончил: — Зачем оно могло понадобиться Джекилу?
— Да, зачем? — повторил дворецкий.
Потом они перешли к письменному столу. На нем, среди аккуратно разложенных бумаг, на самом верху лежал большой конверт, адресованный рукою доктора мистеру Аттерсону. Нотариус распечатал конверт, и из него выпали несколько пакетов. Первый из них заключал в себе завещание, составленное в таких же эксцентричных выражениях, как и то, которое он вернул полгода тому назад. Этот документ должен был служить завещанием в случае смерти и дарственной — в случае исчезновения составителя. Но, к своему неописуемому удивлению, нотариус увидел, что вместо имени Эдварда Хайда в нем теперь значилось имя Габриэля Джона Аттерсона. Он взглянул на Пула, потом снова на документы и, наконец, на мертвого преступника, лежавшего на полу.
— Голова идет кругом, — сказал он. — Все эти дни документ был в его распоряжении; у него не было оснований относиться ко мне доброжелательно; он, наверно, был вне себя, что его лишают наследства в мою пользу; и все же он не уничтожил этот документ?
Поверенный взял следующую бумагу. Это было короткое письмецо, написанное рукой доктора. В верхнем углу страницы стояла дата.
— О, Пул! — воскликнул нотариус. — Еще сегодня он был жив и находился здесь! В такой короткий промежуток времени нельзя было убить человека и уничтожить его труп. Он, безусловно, еще жив, но, наверно, бежал! Но зачем ему было бежать? И каким образом он сделал это? И нужно ли тогда заявлять полиции об этом самоубийстве? Мы должны быть очень осторожны. Я предвижу, что мы еще можем впутать вашего хозяина в какую-то большую неприятность.
— Но почему вы не прочтете письмо, сэр? — простодушно спросил Пул.
— Потому что боюсь, — ответил серьезно Аттерсон. — Дай бог, чтобы это опасение было безосновательно.
Он поднес лист бумаги к глазам и прочел следующее:
«Дорогой Аттерсон!
Когда это письмо попадет в ваши руки, меня уже не будет: я исчезну. При каких условиях — у меня не хватает проницательности предвидеть. Но мои ощущения и все обстоятельства моего невозможного положения говорят мне, что конец неизбежен и уже близок. Тогда идите домой и сперва прочтите повесть, которую, как меня предупредил Лэньон, он вам передал. А если после этого вы захотите узнать больше, то обратитесь к признанию вашего недостойного и несчастного друга, Генри Джекила».
— Тут, кажется, был еще третий пакет? — поинтересовался Аттерсон.
— Вот он, сэр, — сказал дворецкий и подал ему большой пакет, запечатанный в нескольких местах.
Нотариус положил его в карман.
— Я бы на вашем месте ничего никому не говорил об этом документе. Если ваш хозяин умер или убежал, то мы по крайней мере можем хотя бы спасти его репутацию. Теперь десять часов. Я должен пойти домой и наедине прочесть эти документы. Но я вернусь сюда до двенадцати, и тогда мы пошлем за полицией.
Они вышли, заперев за собой дверь анатомического театра.
Аттерсон, оставив слуг, вновь собравшихся у камина в передней, направился назад, в свою контору, читать письма, которые должны были разъяснить эту тайну.
Повесть доктора Лэньона
Четыре дня тому назад, 9-го января, вечером, я получил по почте заказное послание, адресованное мне моим коллегой и старым школьным товарищем, Генри Джекилом. Меня это очень удивило, поскольку обычно мы не переписывались; кроме того, я видел его и даже обедал с ним накануне вечером; наконец, в наших отношениях не было ничего такого, чем можно было бы объяснить формальность заказного письма. Содержание письма только увеличило мое удивление; вот что в нем содержалось:
«Дорогой Лэньон!
Вы один из самых старых моих друзей, и хотя мы иногда расходились с вами во взглядах на различные научные вопросы, все же я не помню, со своей стороны, никакого охлаждения в наших отношениях. Если бы вы сказали мне: „Джекил, моя жизнь, моя честь, мой разум всецело зависят от вас!“ — я не пожертвовал бы всем своим достоянием или левой рукой, чтобы помочь вам. Лэньон, теперь моя жизнь, моя честь, мой рассудок всецело в вашей власти. Если вы мне откажете сегодня ночью в своей помощи — я погиб. По этому предисловию вы можете подумать, что я собираюсь просить вас совершить что-нибудь бесчестное. Судите сами.
Я хочу, чтобы вы сегодня вечером отложили все свои дела — даже если бы вас позвали к постели больного короля, — взяли немедленно по получении сего письма кеб, в случае, если ваш собственный экипаж не стоит у дверей, и с этим письмом в руках для руководства сейчас же поехали ко мне домой. Пулу, моему дворецкому, уже отданы соответствующие распоряжения, он будет ждать вас вместе со слесарем. Тогда вы взломаете дверь моего кабинета и войдете в него один. Вы откроете стоящий по левую руку стеклянный шкаф (литера Е), взломав замок, если он заперт; вытащите из него со всем содержимым, как он есть, четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий снизу. Я в таком отчаянии и волнении, что боюсь, как бы не сбиться в своих указаниях, но, даже если я ошибусь, вы узнаете нужный ящик по его содержимому: несколько порошков, склянка и книжка в бумажной обложке. Ящик этот, в таком виде, в каком вы его найдете, я прошу вас отвезти назад, к себе на Кавендиш-сквер.
Это первая услуга, теперь — вторая. Если вы отправитесь тотчас по получении настоящего письма, то должны вернуться домой задолго до полуночи. Но я дам вам срок до этого часа, не только на случай, если возникнет какое-нибудь препятствие, которое нельзя ни предвидеть, ни устранить, но и потому, что час, когда ваша прислуга уже находится в постели, будет более удобен для того, что еще предстоит сделать. Итак, я попрошу вас: будьте в полночь совершенно один в вашей приемной, лично впустите в дом человека, который явится к вам от моего имени, и передайте ему ящик, привезенный вами перед этим к себе из моего кабинета. Тогда ваша роль будет сыграна, и вы заслужите мою бесконечную благодарность. Позже вы поймете, что все эти мероприятия чрезвычайно важны. Не исполнив одного из них, каким бы оно ни казалось фантастичным, вы можете взять на свою совесть или мою смерть, или гибель моего рассудка.
Как я ни уверен в том, что вы отнесетесь серьезно к этой моей мольбе, тем не менее сердце мое перестает биться и рука моя дрожит при одной мысли об отказе. Подумайте сейчас обо мне, я нахожусь в ужасном положении, под гнетом тягчайшего отчаяния, которое никакая фантазия не может преувеличить, и все же я ясно сознаю, что если только вы точно исполните мои просьбы, то все мои затруднения канут в вечность, как рассказанная сказка. Окажите мне эту услугу, дорогой Лэньон, и спасите вашего друга Г. Дж.
Р. S. Я уже запечатал было это письмо, когда мою душу охватило новое опасение. Возможно, что на почте произойдет задержка, и это письмо не дойдет до вас раньше завтрашнего утра. В таком случае, дорогой Лэньон, исполните мое поручение, когда вам будет удобнее среди дня, и опять ждите моего посланного в полночь. Возможно, что тогда будет уж слишком поздно, и если эта ночь пройдет, а он не явится к вам с визитом, то вы будете знать, что больше никогда не увидите Генри Джекила».
Прочитав это письмо, я убедился, что мой коллега лишился рассудка. Но до тех пор, пока это не было проверено и подтверждено, я считал себя обязанным исполнить его просьбы. Чем меньше я понимал эту чепуху, тем меньше я мог судить о ее важности. А призыв, составленный в таких выражениях, нельзя было оставить без внимания, не взяв на себя огромную ответственность. Итак, я встал из-за стола, взял кеб и поехал прямо к дому Джекила. Дворецкий ожидал моего прибытия; с той же почтой, что и я, он получил заказное письмо с инструкциями. Я незамедлительно послал за столяром и слесарем. Они оба пришли, пока мы еще разговаривали с дворецким; и мы, все вместе, отправились в анатомический театр старого доктора Денмана, откуда (как вам, без сомнения, известно) есть удобный ход прямо в рабочий кабинет Джекила… Дверь была очень крепка, а замок прекрасен; столяр заявил, что ему будет очень трудно взломать дверь, а если пустить в ход силу, то многое придется попортить; слесарь был тоже почти в отчаянии. Но он оказался ловким малым и, провозившись два часа, наконец открыл дверь. Шкаф, отмеченный литерой Е, был отперт; я вынул ящик, заполнил его соломой, завернул в простыню и вернулся с ним на Кавендиш-сквер.
Здесь я начал осматривать его содержимое. Порошки были довольно аккуратно завернуты, но не носили на себе того особого отпечатка, который оставляет профессиональный аптекарь; таким образом, становилось понятно, что они были приготовлены лично Джекилом. Когда я раскрыл одну из оберток, я нашел в ней какое-то белое кристаллическое вещество. Стеклянный пузырек, на который я затем обратил внимание, был наполовину заполнен кроваво-красной жидкостью, издававшей сильный запах и, по-моему, содержавшей фосфор и летучий эфир. Других составных частей я не мог различить. Книжка была обыкновенной записной тетрадкой, и в ней почти ничего не обнаружилось, кроме ряда дат за несколько лет. Но я заметил, что записи прекратились, и довольно неожиданно, с год тому назад. То тут, то там к дате было прибавлено короткое примечание, большей частью состоявшее из одного слова: «вдвое», попадавшееся, быть может, раз шесть на несколько сот, в общем, записей. А однажды, в самом начале, в сопровождении ряда восклицательных знаков встретилось примечание: «полная неудача!» Все это хотя и возбуждало мое любопытство, но не говорило мне ничего определенного. Передо мной стоял пузырек с какой-то тинктурой, бумажки с некоей солью и дневник ряда опытов, которые в общем (как и большинство исследований Джекила) не привели ни к каким практическим результатам. Каким же образом присутствие этих предметов в моем доме способно было оказать влияние на честь, рассудок или жизнь моего ветреного коллеги? Если его посланец мог прийти в одно место, так почему же он не мог отправиться в другое? И, даже принимая во внимание, что случилось что-то неладное, почему этого джентльмена следовало принять тайно? Чем больше я размышлял, тем более убеждался, что имею дело с каким-то психическим недугом. И, хотя я отправил слуг спать, я все же зарядил старый револьвер на случай самозащиты.
Едва пробило полночь, как у моей двери тихо звякнул молоточек. Я сам пошел на стук и увидел человека небольшого роста, притаившегося у колонны парадного подъезда.
— Вы от доктора Джекила? — спросил я.
Он ответил мне «да» каким-то пугливым жестом, и когда я его пригласил войти, он исполнил это, оглянувшись пытливо назад, в темноту сквера. Там неподалеку находился полицейский, приближавшийся с включенным ручным фонарем; и при виде его, как мне показалось, таинственный посетитель вздрогнул и заспешил.
Признаюсь, эти подробности произвели на меня неприятное впечатление. И когда я проследовал за ним в ярко освещенную приемную, я все время держал наготове руку на револьвере. Здесь, наконец, я смог его как следует разглядеть. В одном я несомненно убедился: прежде я его никогда и в глаза не видел. Как я уже сказал, он был очень мал ростом; кроме того, на меня произвело большое впечатление отвратительное выражение его лица, с примечательным сочетанием большой мускульной подвижности и явной слабости здоровья. Но больше всего я был поражен тем влиянием, которое на меня оказывало присутствие этого человека. Я чувствовал нечто похожее на начинающийся озноб, сопровождавшийся резким падением Пулса. В то время я приписал эти явления какой-то идиосинкразии[5] и просто удивлялся остроте симптомов. Но с тех пор я имел основания поверить, что причина такого отвращения лежала гораздо глубже в природе этого человека и что моя реакция на него опиралась на нечто более значительное, чем простая ненависть.
Незнакомец (с первого же момента возбудивший во мне какое-то отвратительное любопытство) был одет в такой наряд, в котором обыкновенный человек был бы просто смешон. Его костюм, хотя и был сшит из хорошего дорогого материала, был ему во всех отношениях несоразмерно велик — брюки висели на его ногах и были подвернуты, чтобы не волочились по полу, талия пиджака спускалась ниже бедер, а воротник свисал с плеч. Как это ни странно, но этот смешной костюм совсем не возбуждал во мне смеха. Скорее было что-то ненормальное и уродливое в самой сущности этого создания, которое теперь стояло лицом к лицу со мной, — что-то захватывающее, удивляющее и отталкивающее, лишь усиленное и подчеркнутое этой новой нелепостью. И таким образом к интересу, вызванному во мне видом и особенностями этого человека, теперь прибавилось любопытство относительно его происхождения, жизни, состояния и общественного положения.
Эти наблюдения, хотя они заняли так много места при записи, были, в сущности, делом всего нескольких секунд. Мой посетитель горел каким-то зловещим волнением.
— Он у вас? — воскликнул он. — Он у вас?
И так сильно было его нетерпение, что он даже положил свою руку на мою и пытался потрясти ее…
Я отстранил визитера — при его прикосновении какой-то ледяной холод разлился по моим жилам.
— Послушайте, сэр, — заметил я, — вы забыли, что я еще не имел удовольствия познакомиться с вами. Садитесь, прошу вас!
И, чтобы показать ему пример, я сам поспешил устроиться на своем обычном месте, стараясь по возможности держаться внешне спокойно, как с обычным пациентом, — насколько мне позволяли поздний час, мое естественное волнение и ужас, внушаемый мне посетителем.
— Извините, доктор Лэньон, — сказал он довольно вежливо. — То, что вы говорите, вполне резонно, и только мое нетерпение заставило меня забыть об элементарных правилах вежливости. Я пришел сюда по поручению вашего коллеги, доктора Джекила, по делу, которое займет немного времени, и, насколько я его понял… — здесь он остановился и поднял руку к горлу; как мне показалось, несмотря на попытки сохранить внешнее спокойствие, он боролся с подступающим истерическим припадком… — Насколько я его понял, тут есть какой-то ящик…
Тут я сжалился над ним и отчасти над своим все возраставшим любопытством.
— Вот он, сэр, — сказал я, указывая на ящик, стоявший на полу позади стола и все еще накрытый простыней.
Он подскочил было к нему, но как будто опомнился, сдержался и схватился рукой за сердце. Я слышал, как заскрежетали его зубы из-за судорожно сжавшихся челюстей. Выражение его лица было настолько ужасно, что я испугался как за его жизнь, так и за рассудок.
— Успокойтесь, — сказал я.
Он повернулся ко мне со зловещей улыбкой и, словно движимый отчаянием, сорвал простыню. При виде содержимого ящика он издал громкий вздох такого безграничного облегчения, что я почти окаменел. В следующее мгновение уже почти совсем спокойным голосом он спросил:
— Найдется у вас мензурка?
Сделав над собой усилие, я встал и принес ему желаемое. Он поблагодарил меня улыбкой и кивком, отмерил некоторую долю красной жидкости и прибавил к ней один из порошков. Микстура, в начале бывшая красноватого оттенка, по мере того как растворялись кристаллы, становилась все ярче и светлее, начала громко шипеть и выделять какие-то пары. Вдруг шипение прекратилось, и одновременно с этим жидкость стала темно-пурпурной, а затем снова побледнела и приняла светло-зеленый цвет. Мой посетитель, следивший внимательным взором за этими превращениями, улыбнулся, поставил стаканчик на стол, обернулся и посмотрел на меня пытливым взором.
— А теперь, — проговорил он, — чтобы покончить со всем, скажите мне: будете ли вы мудрым? Будете ли осторожным? Вы позволите мне взять этот стаканчик и покинуть ваш дом без дальнейших объяснений? Или вас одолевает любопытство? Подумайте, прежде чем ответить, так как я поступлю согласно вашему решению. Как вы решите: или вы останетесь таким, каким были до сего мгновения, не богаче и не мудрее, если только не считать осознание услуги, оказанной человеку в минуту нужды, одним из сокровищ души. Или же, если вы захотите, здесь, в этой комнате, вам откроется новая область знания, новые пути к славе и власти, и ваш взор будет поражен чудом, способным уничтожить даже неверие сатаны.
— Сэр, — сказал я, стараясь проявить хладнокровие, которого у меня, в действительности, не было, — вы говорите загадками и поэтому наверняка не удивитесь, если я скажу, что слушаю вас без особой веры. Но я зашел слишком далеко на этом пути, чтобы остановиться, не дождавшись конца.
— Хорошо, — ответил мой посетитель. — Лэньон, вы помните данное вами обещание: все, что произойдет сейчас, должно остаться профессиональной тайной. А теперь, вы, столько лет строго придерживавшийся узких материалистических взглядов в науке, вы, отрицавший заслуги трансцендентальной медицины, вы, всегда смеявшийся над теми, кто выше вас, — смотрите!
Он поднес стаканчик к губам и выпил содержимое одним глотком. Раздался крик; он покачнулся, зашатался, схватился за стол, крепко держась за него с открытым ртом, задыхаясь, уставившись в одну точку воспаленными выпученными глазами. И, по мере того как я на него глядел, мне казалось, происходила какая-то перемена: он начал как бы пухнуть, расти, лицо его сразу сделалось черным, черты его начали как будто таять и изменяться, — и спустя мгновение я уже вскочил на ноги и отпрыгнул к стене, подняв руку, чтобы закрыться от этого чуда, с душой, охваченной ужасом.
— О, боже мой! — выкрикнул я. — О боже!..
Перед моими глазами бледный, дрожащий, в полуобмороке, разводя перед собой руками, словно человек, воскресший от смерти… стоял Генри Джекил!
Я не могу решиться передать на бумаге то, что он мне рассказал в течение следующего часа. Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и душа моя изнемогла. И теперь я спрашиваю себя: верю ли я в то, что видел все это своими собственными глазами? И не могу ответить. Моя жизнь перевернулась, я лишился сна; и во все часы дня и ночи меня неотступно сопровождает неописуемый ужас. Я чувствую, что дни мои сочтены и что я должен скоро умереть. И все же я умру неверующим. Что же касается нравственной мерзости, которую раскрыл мне этот человек, то, даже со слезами раскаяния на глазах, я не могу вспомнить о ней без содрогания. Я скажу вам только одно, Аттерсон (если вы сможете поверить мне), и этого будет более чем достаточно. Существо, которое прокралось ко мне в дом в эту ночь, по собственному признанию Джекила, носило имя Хайда, того самого убийцы Кэрью, которого искали во всех уголках Англии.
Хэсти Лэньон.
Полное признание Генри Джекила
Я родился в 18.. г., получил в наследство большое состояние, был наделен блестящими способностями, хорошими наклонностями и трудолюбием, ценил уважение умных и достойных людей, и, таким образом, как можно было предположить, передо мной открывалось славное и почетное будущее. И в самом деле, худший из моих недостатков заключался в моей любви к развлечениям, которая была бы счастьем для другого, но мне с трудом удавалось примирить эту склонность с моим непреодолимым желанием держать высоко голову и иметь более чем серьезное лицо перед публикой. Как следствие, я начал скрывать свои развлечения и приключения, а когда достиг зрелого возраста, то стал осматриваться вокруг себя, оценивая занимаемое мною положение, и обнаружил, что принужден вести двойную жизнь. Многие, пожалуй, еще и хвастались бы такими грешками, в которых я был повинен, но, учитывая те высокие цели, которые я себе ставил, я почти с болезненным чувством стыда скрывал эти мелкие пороки и стеснялся их.
Таким образом, скорее мои высокие притязания, чем какая-нибудь особенная низменность моих недостатков сделали меня тем, кем я стал, и разделила во мне — более глубокой чертой, чем у большинства людей, — области добра и зла, составляющие и определяющие двойственность человеческой натуры. Благодаря этому я вынужден был долго и много рассуждать о том суровом законе жизни, который лежит в основе религии и является одним из самых щедрых источников горя. Будучи глубоко двойственным, я тем не менее не лицемерил; обе мои стороны были вполне искренни; я был не более самим собой, когда отстранял от себя сдержанность и погружался в позор, чем когда я при свете дня трудился на благо познания и во имя утоления горя и нужды. Так случилось, что научные мои занятия, направленные целиком в сторону мистического и трансцендентального, возымели свое действие и подвигли меня на осознание этой предвечной внутренней борьбы, происходившей во мне.
С каждым днем обе стороны моего духа, нравственная и интеллектуальная, стали увлекать меня все ближе к той истине, частичное открытие которой и является источником моей ужасной гибели: что в человеке, в сущности, живут не одно, а два начала. Я говорю лишь о двух, потому что мое собственное знание дальше не пошло. Но за мной придут другие, другие пойдут по тому же пути и обгонят меня, и я беру на себя смелость предполагать, что в конце концов человек будет признан агрегатом множества разноликих, непохожих друг на друга и независимых друг от друга существ. Что касается меня, то я благодаря своему образу жизни разрабатывал этот вопрос лишь в одном направлении — а именно с нравственной точки зрения — и на своем собственном примере начал убеждаться в несомненной двойственности человеческой натуры. Я пришел к выводу, что если я и имею право считать себя любой из двух личностей, находящихся в поле моего сознания, так это потому, что я, в сущности, состою из них обеих. Очень рано, даже прежде, чем мои научные открытия дали мне понять, что такое чудо возможно, я уже приучил себя лелеять, словно любимую мечту, мысль об отделении друг от друга этих двух элементов. Если бы, говорил я себе, каждый из них мог бы перейти в различные отдельные индивидуумы, жизнь освободилась бы от всего, что в ней есть невыносимого. Грешник мог бы пойти своей дорогой, освобожденный от стремлений и раскаяний своего более праведного близнеца, а праведник мог бы уверенно и спокойно подниматься по своему пути ввысь, делая добро, доставляющее ему наслаждение, и не подвергался бы грешной своей половиной позору и посрамлению. Проклятие человечества состоит в том, что эти два несовместимых начала связаны вместе; в измученном чреве сознания эти полярные близнецы находятся в вечной борьбе. Каким же образом их разделить?
Я уже дошел в своих размышлениях до этого места, когда, как я уже упомянул, мой лабораторный стол неожиданно пролил свет на этот вопрос. Я начал все яснее и яснее, чем когда-либо, это отмечать, убеждаться в некоей нематериальности, туманной невесомости того кажущегося солидным тела, в которое мы облечены. Я открыл некоторые элементы, обладающие даром колебать и сбрасывать с нас эту плотскую одежду, как ветер колеблет занавеси на окнах. По двум вполне основательным причинам я не буду глубоко вдаваться в научную сторону своего открытия. Во-первых, потому как я на собственном опыте убедился, что бремя и проклятие нашей жизни навсегда возложено на плечи человека, и когда совершаются попытки сбросить его, то оно все равно наваливается на нас снова с еще более непривычной и ужасающей тяжестью. Во-вторых, потому как (что, увы, сделает очевидным мой рассказ) мои открытия не были доведены до конца. Впрочем, достаточно будет и того, что я не только сумел отличить свое материальное тело от некоторых сил, составляющих мой дух, но мне к тому же удалось составить снадобье, с помощью которого эти силы отступали на второй план, а на смену им приходили другие силы и другой облик, не менее для меня естественные, поскольку они являлись выражением и носили печать более низменных инстинктов моей души.
Я долго колебался, прежде чем решиться проверить эту теорию на практике. Я прекрасно сознавал, что рискую жизнью, поскольку столь сильное снадобье, способное встряхнуть основы моей индивидуальности, легко могло — если дозировка окажется неправильной или если принять его не вовремя, — навсегда стереть ту имматериальную оболочку, которую я хотел с его помощью изменить. Но под конец соблазн, вызванный столь исключительным и необыкновенным открытием, взял верх над соображениями здравомыслия. Задолго до этого я приготовил свою микстуру; тотчас я купил у известной оптовой аптекарской фирмы большое количество известной соли, которая, как я знал по опытам, была последней необходимой составной частью для открытого мною снадобья. И вот в одну проклятую ночь, в поздний час, я смешал все необходимые элементы, проследил, как они кипели и дымились в склянке, и, когда процесс кипения окончился, набравшись смелости, выпил эту жидкость.
Последовали страшная ломота в костях, тошнота и душевный ужас, сильнее которого человек не может испытать даже в час рождения или смерти. Потом эти муки начали быстро утихать, я пришел в себя, словно очнулся от страшного болезненного припадка. Было что-то странное в моих ощущениях, что-то неописуемо новое, и в самой своей новизне — невероятно сладостное. Я почувствовал себя более молодым, легким и счастливым физически; внутренне я испытывал какую-то беспечную беззаботность; в воображении моем быстрым роем носились какие-то беспорядочные чувственные образы, с меня как будто упали оковы долга, я почуял незнакомую, новую, но далеко не невинную свободу души. При первом дыхании этой новой жизни я ощутил, что сделался гораздо порочнее, в десять раз грешнее, стал рабом собственного греха. И в то мгновение мысль эта радовала и опьяняла меня, как вино. В порыве, вызванном новизной этих ощущений, я протянул вперед руки и тут же убедился, что стал гораздо меньше ростом.
В то время в моем кабинете еще не было зеркала; трюмо, стоящее теперь рядом со мной, когда я пишу эти строки, было перенесено сюда позже специально для того, чтобы я мог наблюдать свои превращения.
Ночь была уже на исходе, наступало утро — мои домочадцы все еще были погружены в глубокий сон. Опьяненный надеждой и торжеством, я решил проникнуть в своем новом виде в спальню. Я пересек двор, где с неба, как мне казалось, на меня смотрели в немом удивлении звезды, видя впервые за все тысячелетия своей бдительной жизни такое существо; я прокрался дальше по коридорам — чужой в своем собственном доме — и, войдя в свою комнату, впервые узрел черты и внешний облик Эдварда Хайда.
Здесь я должен рассуждать уже только теоретически, говоря не то, что знаю, но то, что мне кажется наиболее вероятным. Порочная часть моей натуры, теперь отдельно мною воплощенная, была менее крепка и хуже развита, чем добрая, которую я только что покинул. С другой стороны, в течение моей жизни, на девять десятых представлявшей собой жизнь добродетельную и сдержанную, эта порочная часть меньше пускалась в ход и поэтому была не так истощена. И именно поэтому, как мне кажется, Эдвард Хайд был гораздо стройнее и моложе, чем Генри Джекил. Как на лице одного явно лежал отпечаток доброты, так ясно и крупно было начертано зло на челе другого. Зло, кроме того (являющееся, как мне все еще кажется, смертной стороной человека), оставляло на этом теле печать уродства и разложения. И все же, когда я глядел на это уродливое отражение в зеркале, я испытывал не отвращение, а скорее какую-то приветливую радость. Ведь в зеркале был я. И эта моя ипостась казалась мне естественной и человечной. В моих глазах она выглядела более выразительной и яркой, чем та несовершенная и двойственная личина, которую до сего времени я привык называть своей. И я, несомненно, в некоторой степени был совершенно прав. Я заметил, что когда я облачался в личину Эдварда Хайда, то никто поначалу не мог подойти ко мне без видимого физического отвращения. Это, как мне думается, объясняется тем, что все человеческие существа, какими мы их видим, состоят из смеси добра и зла, а Эдвард Хайд, единственный среди человечества, состоял из абсолютного зла.
Я замешкался перед зеркалом лишь на мгновение: надо было еще проделать второй и последний опыт. Мне оставалось убедиться, не утратил ли я свою индивидуальность навсегда и безвозвратно и не придется ли мне еще до света дня бежать из дома, который уже перестал быть моим. И, поспешив назад в кабинет, я еще раз приготовил и выпил питье, еще раз перенес муки расщепления и снова пришел в себя уже с натурой, лицом и фигурой Генри Джекила.
В ту ночь я достиг гибельного распутья. Если бы я подошел к своему открытию в более благородном настроении духа, если бы я произвел опыт, находясь под влиянием чистых и богобоязненных побуждений — все было бы иначе, и из этих мук смерти и рождения я восстал бы ангелом, а не бесом. Снадобье само по себе не имело силы выбора; оно не было ни дьявольским, ни божеским; оно только сотрясало врата тюрьмы моей души; и, подобно узнику, который был заперт в этой тюрьме, вырывался на свободу. В то время добродетельная сторона моего «я» дремала; дурная же, пробужденная тщеславием, была наготове и быстро воспользовалась открывшейся возможностью. И то, что вырвалось наружу, оказалось Эдвардом Хайдом. Поэтому, хотя у меня теперь было две натуры, как и два внешних облика, одна из них была целиком злой, другая все еще была старым Генри Джекилом, на исправление и обновление двойственности которого я уж больше не надеялся. Таким образом, все случившееся целиком было направлено к худшему.
Даже в то время я еще не поборол своего отвращения к сухости кабинетной жизни ученого. Временами на меня находило легкомысленное настроение. И поскольку мои радости и удовольствия были по меньшей мере не особенно почтенными, — я же был не только хорошо известен и пользовался всеобщим уважением, но становился еще и довольно пожилым, — то с каждым днем эти мои наклонности становились все более и более неудобными и нежелательными. И, с учетом именно этой ситуации, мое новое могущество меня соблазнило и поработило. Мне стоило только выпить стаканчик питья, чтобы сразу сбросить с себя обличье старого почтенного профессора и надеть, как толстую шубу, личину Эдварда Хайда. Я улыбнулся этой мысли; тогда она мне казалась смешной; и я сделал свои приготовления с величайшей осторожностью. Я снял и обставил дом в Сохо, до которого полиция успела проследить Хайда. В качестве экономки я нанял женщину, которая, как я знал, будет молчалива и не очень взыскательна в вопросах нравственных. С другой стороны, я объявил своим слугам, что некий мистер Хайд (которого я описал) может пользоваться полной свободой и правами хозяина в моем доме. Во избежание недоразумений я несколько раз открыто приходил в дом в облике Хайда и приучил их к себе. Потом я составил то завещание, против которого вы так восстали; так что, если бы со мной приключилось что-нибудь в облике доктора Джекила, я мог бы преобразиться в Эдварда Хайда без материального ущерба. И, защищенный, как мне казалось, со всех сторон, я начал пользоваться странными выгодами своего положения.
До этого люди обычно нанимали разных отчаянных проходимцев, чтобы те исполняли их преступные замыслы, а сами тщательно оберегали свою репутацию. Я же оказался первым, служившим таким отчаянным проходимцем для самого себя. Я стал первым человеком, который мог появляться в обществе в ореоле добродетельной порядочности или в одно мгновение, как школьник, сбросить с себя эту личину и с головой окунуться в море порока. Благодаря моей непроницаемой мантии я был неуязвим и находился в полной безопасности. Только подумайте об этом — ведь я даже не существовал! Стоило мне только добраться до двери своей лаборатории, войти в нее, успеть в одну-две секунды смешать и проглотить питье, которое всегда стояло наготове, и, что бы перед этим ни совершил Эдвард Хайд, он исчез бы с лица земли, как пятнышко пара от дыхания, оставленное на поверхности зеркала. А на его месте, в тишине своего дома, спокойно занимаясь в кабинете при свете лампы, сидел бы человек, который мог посмеяться над любыми подозрениями: Генри Джекил.
Удовольствия, которые я желал вкушать в своем новом тайном облике, были, как я сказал, не особенно почтенны, но едва ли можно высказаться про них резче. Воплощаемые же Эдвардом Хайдом, они очень быстро начали склоняться к чудовищным. Когда я возвращался после подобных похождений, то часто погружался в глубокое смятение перед своей распущенностью. Это незнакомое мне существо, которое я вызвал из своей собственной души и посылал в мир наслаждаться, было существом злым и порочным; каждый его поступок и каждая его мысль были крайне эгоистичны; оно с животной жадностью наслаждалось чужими муками и страданиями и было бесчувственно, словно каменное. Временами Генри Джекил приходил в неописуемый ужас от поступков Эдварда Хайда. Но создавшееся положение было совершенно исключительным, стояло вне законов общества и не поддавалось контролю совести. В конце концов Хайд, и один только Хайд, был виновен во всем. Джекил от этого не становился ничуть хуже. Он снова возникал с его неприкосновенными положительными качествами и добродетелями; он даже спешил, если только это было возможно, исправить зло, совершенное Хайдом. И, таким образом, совесть его оставалась спокойна.
Я не имею намерения вдаваться в подробности устроенных мною (поскольку до сих пор не могу верить, что их совершал я) безобразий. Я хочу лишь указать на предостережения и на последующие события, которые лишь приближали мою кару. У меня лишь однажды случилась неудача, о которой — поскольку она не имела последствий — я упомяну вскользь. Жестокий поступок, однажды совершенный мною по отношению к ребенку, настроил против меня одного прохожего, в котором я лишь недавно узнал вашего родственника; какой-то врач и семья ребенка присоединились к нему; я даже начал опасаться за свою жизнь; но, наконец, чтобы удовлетворить их более чем справедливое негодование, Эдвард Хайд вынужден был привести их к двери моего дома и выдать им чек, подписанный Генри Джекилом. Но в будущем мне с легкостью удалось оградить себя от подобных случайностей, открыв в другом банке текущий счет на имя самого Эдварда Хайда. А когда, изменив немного наклон своего почерка, я снабдил своего двойника подписью, то решил, что нахожусь вне досягаемости судьбы.
Месяца за два до убийства сэра Кэрью, возвратившись очень поздно после одного из своих приключений, я наутро проснулся с немного странным ощущением. Напрасно я стал оглядываться вокруг; я узнал дорогую обстановку и высокие потолки моей комнаты в докторском доме, узнал рисунок полога на своей кровати и узор на раме из красного дерева. Но что-то внутри меня, в глубине души, продолжало настаивать на том, что я нахожусь не в том месте, обстановку которого вижу, а в маленькой комнате в Сохо, в которой я привык спать в облике Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли и, по обыкновению, начал лениво исследовать психологические причины этой иллюзии, изредка впадая снова на мгновение-другое в дремоту. Я все еще находился в таком состоянии, как вдруг, в один из моментов, когда я бодрствовал, мой взгляд упал на мою руку. Как вы, наверное, часто замечали, руки доктора Джекила по форме и размерам носили вполне определенный профессиональный отпечаток: они были очень крупны, тверды, уверенны, белы и красивы. Но рука, которую я теперь увидел столь ясно в желтом свете позднего лондонского утра и которая, полуобнаженная, лежала поверх одеяла, была худой, узловатой, с выступающими жилами, покрытой густой растительностью. Одним словом, это была рука Эдварда Хайда.
Я, наверное, глядел на нее с полминуты, погруженный в тупое удивление, как вдруг ужас проснулся у меня в груди внезапно и неожиданно, как звук цимбал. Вскочив с постели, я подбежал к зеркалу. Увидев свое отражение, я остолбенел; кровь застыла в моих жилах. Да! Накануне вечером я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом. Чем это перевоплощение можно было объяснить? Вот вопрос, который я задал себе в первую очередь. И потом, с новым приливом ужаса, возник второй — как это исправить? Было уже позднее утро, слуги давно проснулись, а все мои снадобья находились наверху, в кабинете, добраться до которого оказалось не так-то легко — следовало спуститься по длинной лестнице, пройти через коридор и затем пересечь весь открытый двор и анатомический театр. Правда, я мог бы закрыть лицо, но к чему, если невозможно было утаить перемену в моем росте? И тогда, со вздохом огромного облегчения, я вспомнил, что прислуга уже привыкла ко второму моему «я», которое она видела довольно часто. Я наскоро, кое-как, оделся в платье доктора и вскоре прошел через дом, где Брэдшоу отступил и застыл в удивлении, увидав мистера Хайда в такой час и в таком костюме. Десять минут спустя доктор Джекил вернулся к своему прежнему облику и уже сидел за столом с озабоченным лицом, делая вид, что завтракает.
Аппетита, естественно, у меня быть не могло. Этот необъяснимый случай, это непредвиденное нарушение моего открытия показалось мне своего рода таинственным вавилонским перстом, выводящим на стене роковые слова предупреждения. И я начал обдумывать, серьезнее чем когда-либо, результаты и возможные последствия моего двойного существования. Та часть моего «я», которая обладала способностью воплощаться отдельно, за последнее время усиленно питалась и много работала; мне в последнее время даже стало казаться, что тело Эдварда Хайда несколько увеличилось в размерах и как будто (когда я принимал этот облик) кровь в нем бежала быстрее. И тут я начал опасаться, что, если так будет продолжаться длительное время, как бы навсегда не было уничтожено равновесие моей натуры, не исчезла бы сила добровольного превращения, и не сделались бы безвозвратно моими облик и натура Эдварда Хайда. Сила питья далеко не всегда проявлялась одинаково. Однажды, в самом начале моих опытов, оно мне изменило, и превращение вовсе не состоялось. После этого не единожды мне приходилось удваивать дозу, а однажды, с риском для жизни, даже утроить ее. Эти редкие исключения из правила были до сих пор единственным темным пятнышком, омрачавшим мое теперешнее существование. Но, принимая во внимание случившееся утром, я вынужден был признать, что если вначале трудно было освобождаться от облика Джекила, то в последнее время постепенно, но упорно это затруднение обретало обратное действие. Все это вместе взятое как будто указывало на одно: что я постепенно терял власть над своим первоначальным «я» и понемногу отождествлялся со второй и наихудшей частью своего существа.
И теперь, очевидно, мне предстояло выбрать между этими двумя. У обеих моих натур была общая память, но остальные свойства были разделены между ними крайне неровно. Джекил (существо сложное) то с боязливым отвращением, то с жадным упоением участвовал в наслаждениях и приключениях Хайда, но Хайд был совершенно равнодушен к Джекилу или вспоминал о нем так, как вспоминает горец-разбойник пещеру, в которой он прячется от преследования. Джекил опекал с более чем отеческой заботливостью Хайда; Хайд проявлял более чем сыновнее равнодушие. Остаться Джекилом значило убить в себе стремление и вкус к тем наслаждениям, которым я давно тайно предавался и которыми в последнее время начал злоупотреблять. Слиться же с Хайдом значило бы убить тысячи интересов и стремлений, и сразу и навсегда стать презираемым и одиноким, растеряв всех своих друзей. На первый взгляд, казалось бы, выбор был неравен, но оставалось еще одно соображение, которое должно было бы также лечь на чашу весов: в то время как Джекил должен был мучиться и страдать на костре воздержания, Хайд даже не сознавал бы, чего он лишился. Какими бы странными ни выглядели обстоятельства моего положения, тем не менее условия, в которые я оказался поставлен, были также в порядке вещей и стары, как сам человек. Почти те же соблазны и опасения предстают перед каждым соблазняемым и дрожащим грешником. И со мной случилось то, что случалось с большинством моих ближних: я выбрал лучшую участь, но оказался слишком слабым, чтобы отстоять ее.
Да, я предпочел пожилого неудовлетворенного доктора, окруженного друзьями и питающего благородные надежды. Я решительно простился со свободой, сравнительной юностью, легкой походкой, сильно бьющимся Пулсом и тайными удовольствиями, которыми я наслаждался в облике Хайда. Но, сделав этот выбор, я все-таки не полностью уничтожил все следы: я не отказался от квартиры в Сохо и не выбросил платье Эдварда Хайда, всегда лежавшего на всякий случай наготове у меня в кабинете. Но все же в течение целых двух месяцев я твердо придерживался своего решения; в течение двух месяцев я вел такую строгую жизнь, как никогда прежде, и наслаждался радостями спокойной совести… Но время начало постепенно притуплять остроту моего страха, а спокойствие совести сделалось состоянием обычным и потеряло прелесть новизны. Я снова начал мучиться тоской и желанием, словно Хайд во мне рвался на свободу. И наконец, в минуту нравственной слабости, я снова составил и выпил чудодейственный напиток.
Я не думаю, что пьяница, рассуждая с самим собой о своем пороке, хоть раз из пятисот осознает опасность, которой подвергается благодаря своей животной физической бесчувственности. Точно так же и я, оценивая со всех сторон свое положение, никогда в полной мере не учитывал возможную полную нравственную бесчувственность и бессознательную готовность ко злу, которые были главными отличительными свойствами Эдварда Хайда. Но именно эти качества и стали для меня наказанием. Бес во мне слишком долго находился взаперти, и вот он вырвался оттуда с ревом. Еще когда я только пил снадобье, я сознавал уже более чем когда-либо необузданное, даже ожесточенное желание совершить зло. И это, очевидно, пробудило в моей душе ту бурю нетерпения, которую я не смог сдержать, когда выслушивал любезные расспросы моей злосчастной жертвы. Я теперь заявляю перед лицом всевидящего Господа, что ни один нравственно здоровый человек не мог бы совершить такое преступление, ничем не обоснованное, и что я ударил старика не более сознательно, чем больной ребенок ломает игрушку. Но я добровольно сбросил с себя все те сдерживающие инстинкты, с помощью которых даже наихудшим среди нас удается иногда сохранить нравственное равновесие среди соблазнов; а для меня быть соблазненным, хоть и чуть-чуть, значило пасть.
Мгновенно проснулся и забушевал во мне дух адской злобы. Вне себя от дикого восторга я мял уже не сопротивлявшееся тело, наслаждаясь каждым ударом. И только когда на смену злобе пришла усталость, внезапно среди моего припадка бешенства холодная дрожь ужаса пронзила мое сердце. Словно рассеялся какой-то туман. Я понял, что жизнь моя в опасности, и убежал от кровавого результата моего неистовства, одновременно и торжествуя, и содрогаясь, с удовлетворенной и насыщенной жаждой зла и с обостренной до крайней степени любовью к жизни. Я добежал до дома в Сохо и на всякий случай сжег все свои бумаги. Оттуда я направился по освещенным фонарями улицам, пребывая в двойственном умственном экстазе, смакуя свое преступление и легкомысленно строя планы будущих злодеяний и все же спеша и прислушиваясь, не раздастся ли позади меня шум погони. Хайд составлял питье с песней на устах и, выпивая его, провозгласил здравицу за убитого. Муки превращения еще не успели утихнуть, как Генри Джекил, заливаясь слезами от жгучего раскаяния и с выражением благодарности на лице, упал на колени и с воздетыми в молитвенном экстазе руками вознес хвалу Господу. Завеса снисходительности к самому себе была разодрана сверху донизу, и я увидел всю свою жизнь: я проследил ее от самого детства, когда я гулял, держась за руку отца, через весь путь самоотречения моей профессиональной деятельности до все снова и снова кажущихся ненормальными проклятых ужасов того вечера. Я готов был громко закричать. Слезами и молитвами пытался я рассеять толпу отвратительных образов и звуков, встававших в моей памяти. И все же, сквозь эти жалобы, уродливый лик моего преступления нагло глядел мне в душу. По мере того как стала сглаживаться острота моего раскаяния, она стала сменяться чувством радости. Задача моей жизни была разрешена. Отныне существование Хайда стало невозможным. Волей-неволей, но теперь я должен был ограничиться лучшей частью своего существа. Как же я радовался при этой мысли! С какой добровольной покорностью принимал я снова все ограничения естественной жизни! С каким искренним самоотречением запер я дверь, через которую столько раз входил и выходил, и раздавил ключ каблуком.
На следующий день пришло известие, что нашелся свидетель убийства, что виновность Хайда стала известна всему миру и что убитый оказался персоной высокого положения и пользовался всеобщим уважением. Это было не только преступлением, это было трагическим безумием. Мне кажется, я был рад слышать все это, был рад узнать, что мои лучшие порывы теперь будут подкреплены и поддержаны ужасом перед виселицей. Джекил был теперь моим единственным спасением. Если из него лишь на мгновение выглянет Хайд, то руки всего человечества поднимутся, чтобы схватить и казнить его.
Я решился своим будущим поведением искупить прошлое. Я могу честно сознаться, что это мое решение было не бесплодным. Вы сами знаете, как в последние месяцы прошлого года я серьезно работал для облегчения людских страданий; вы знаете, что я многое делал для своих ближних, что дни проходили для меня спокойно, почти счастливо. И не могу сказать, что мне надоела эта благодетельная чистая жизнь. Наоборот, мне кажется, что с каждым днем я все больше наслаждался ею. Но надо мной все еще тяготела двойственность стремлений. И, по мере того как начинало притупляться чувство раскаяния, низшая, подлая сторона моего «я», которая так давно пользовалась волей и так недавно была посажена на цепь, начала рычать и рваться на свободу. Это отнюдь не значит, что я мечтал о воскрешении Хайда; одна мысль об этом пугала меня до безумия. Нет, в душе я испытывал соблазн поиграть со своей совестью. И, как обычный грешник, я, наконец, пал, сраженный соблазном.
Всему когда-нибудь приходит конец. Даже самая объемистая мера когда-нибудь наполняется. Эта маленькая уступка сидевшему во мне греху и нарушила окончательно мое душевное равновесие. А между тем я ничуть не испугался. Падение казалось естественным, как будто это было лишь простое возвращение к прежним дням, предшествовавшим моему открытию. Был ясный, солнечный январский день; под ногами, там где растаял снег, было мокро, но над головой небо было чисто и безоблачно… И Риджент-парк был наполнен чириканьем зимних птиц и вместе с тем сладкими весенними ароматами.
Я сидел на скамейке на солнце. Зверь внутри меня грыз и облизывал кость воспоминаний. Духовная моя сторона дремала, обещая взамен раскаяние в будущем, но еще не собираясь его начать. «В конце концов, — рассуждал я, — я такой же, как и мои ближние». Потом я усмехнулся, сравнив себя с другими людьми, сравнив мою активную деятельность на поприще благотворительности с ленивой жестокостью их равнодушия. И в это самое мгновение, когда эта тщеславная мысль зарождалась в моей голове, меня охватила дрожь, ужасная тошнота, убийственная лихорадка. Эти явления, впрочем, скоро прошли, но меня охватила общая слабость. Прошла в свою очередь и слабость, и тогда я начал ощущать значительную перемену в настрое моих мыслей, безудержную смелость, презрение к опасности, освобождение от пут долга. Я взглянул вниз: платье мое свободно висело на похудевших и сморщившихся ногах; рука, лежавшая на колене, была жилистая и волосатая. Я снова стал Эдвардом Хайдом. За мгновение до этого у меня еще было всеобщее уважение, я был богат, любим, дома меня ждал накрытый к обеду стол, а теперь я стал изгоем, отвергнутым родом человеческим, бездомным преследуемым бродягой, известным убийцей, законной добычей виселицы.
Мой разум помутился, но еще не окончательно изменил мне. Я не раз наблюдал, что во втором моем облике мои умственные способности необычайно обострялись, а состояние духа становилось необыкновенно гибким. Таким образом, получалось, что там, где Джекил растерялся бы, Хайд всегда находил выход из затруднительного положения. Мои снадобья находились в одном из шкафов в кабинете моего дома: как же мне было достать их оттуда? Вот задача, которую я должен был срочно решить. Дверь, ведущую из лаборатории в переднюю, я запер, а ключ сломал. Если бы я попытался войти к себе в дом через парадную дверь, мои собственные слуги предали бы меня в руки правосудия. После непродолжительного размышления я заключил, что мне придется действовать через какого-нибудь посредника, и тут вспомнил о Лэньоне. Но как же мне до него добраться? Как его уговорить? Предположим, мне удастся благополучно преодолеть весь путь и не оказаться пойманным, но как же пробраться к нему в дом и увидеться с ним? И каким образом могу я, незнакомый и неприятный посетитель, убедить знаменитого врача взломать дверь и ограбить своего коллегу доктора Джекила? Тогда я вспомнил, что от первоначального моего существа у меня сохранилась одна особенность — почерк. И как только у меня мелькнула эта благодетельная мысль, мне сразу стала ясна открывавшаяся передо мной возможность.
Поэтому, оправив на себе кое-как платье, я кликнул проезжавший мимо кеб, сел в него и велел вознице ехать в гостиницу на Портленд-стрит, название которой по счастливой случайности всплыло в моей памяти. Увидев меня (я действительно смешно выглядел, какую бы трагическую судьбу мой костюм ни скрывал), извозчик не мог сдержать смех. Но я заскрежетал зубами в таком неистовом припадке дьявольской ярости, что улыбка растаяла на его лице — к счастью для него, да и для меня тоже, — так как еще мгновение, и я бы стащил его с козел. Войдя в гостиницу, я так мрачно на всех взглянул, что слуги задрожали. Они даже не посмели в моем присутствии обменяться взглядами, но почтительно выслушали мои распоряжения, провели меня в комнату и принесли бумаги и чернил. Хайд, опасавшийся за свою жизнь, был существом для меня совершенно новым, незнакомым: он дрожал от плохо сдерживаемого гнева, был настолько взбудоражен, что мог совершить убийство, изнывал от жажды причинить боль. Но все же это было существо крайне хитрое, огромной силой воли умевшее совладать со своей яростью; сдерживая себя, он сочинил два важных письма — одно Лэньону, другое Пулу, — и, чтобы быть уверенным, что они действительно отправлены, велел прислуге послать их как заказные.
После этого Хайд уселся в комнате у камина и остаток дня провел, грызя свои ногти; у себя же в номере он и пообедал, наедине со своим страхом, в то время как лакей явно дрожал под его взглядом. Когда наступил вечер и стемнело, он забился в угол закрытого кеба и велел вознице беспрестанно разъезжать по улицам города. Я говорю — «он», поскольку не могу сказать «я». В этом исчадии ада не осталось ничего человеческого. В нем не существовало ничего, кроме ненависти и страха. Когда под конец он отпустил кеб, предполагая, что извозчик начал что-то подозревать, и дальше уже отправился пешком, одетый в свое платье не по мерке, привлекая всеобщее внимание ночных прохожих, эти две низкие страсти все еще бушевали в нем, словно буря. Он передвигался очень быстро, преследуемый своими страхами, разговаривая сам с собой, слоняясь по менее людным улицам и считая минуты, остававшиеся до полночи. Однажды с ним заговорила какая-то женщина, предлагая, кажется, коробку спичек. Он ударил ее по лицу, и пострадавшая убежала.
Когда я пришел в себя у Лэньона, то, быть может, ужас моего старого друга немного на меня подействовал — я точно не помню. Это было лишь каплей в море тех ужасов, которые я пережил за предыдущие часы. Во мне произошла глубокая перемена. Теперь меня преследовал не ужас перед виселицей, а страх остаться Хайдом. Словно во сне я выслушал укоры и проклятия Лэньона. Словно во сне я вернулся к себе и улегся в постель. После пережитых днем мук и от неимоверной усталости я погрузился в такой глубокий и крепкий сон, которого не могли нарушить даже преследовавшие меня кошмары. Утром я проснулся разбитым и ослабевшим, но несколько успокоенным. Я все еще ненавидел то дикое существо и боялся мысли о звере, спавшем внутри меня, и, конечно, я не забыл об опасностях, окружавших меня минувшим днем. Но теперь я снова находился у себя, вблизи от своих снадобий. И признательность за спасение, которую я чувствовал, была настолько сильна, что почти сравнялась с возникшей в моей душе надеждой.
После завтрака я беззаботно гулял по двору, наслаждаясь свежим воздухом, как вдруг опять почувствовал неописуемые ощущения, являвшиеся предвестниками перевоплощения. И я едва успел укрыться в своем кабинете, как уже снова неистовствовал и бушевал страстями Хайда. На этот раз понадобилась двойная доза, чтобы вернуть меня к моему прежнему облику. Но, увы! Спустя шесть часов, когда я сидел в своем кресле и печально глядел на пламя, пылавшее в камине, судороги вернулись, и мне снова пришлось прибегнуть к действию питья. Одним словом, с того дня, казалось, только усилием воли, похожим на своего рода гимнастику, и под непосредственным влиянием питья, я мог сохранять облик Джекила. В любое время дня и ночи со мной мог сделаться озноб, и стоило мне заснуть или даже на мгновение задремать в кресле, как я непременно просыпался Хайдом. Под гнетом этого вечно тяготеющего надо мной проклятия и из-за бессонницы, на которую теперь, не в меру сил человеческих, я обрек себя — я превратился в существо, поедаемое и опустошаемое лихорадкой, расслабленное телесно и духовно и всецело поглощенное одной мыслью: ужасом перед своим другим «я». Но, когда я спал или когда заканчивалось действие лекарства, в моем сознании почти незаметно (судороги перевоплощения с каждым днем становились все менее болезненными и ощутимыми), воскрешались ужасные видения, душа моя кипела беспричинным гневом, а тело оставалось как будто слишком слабым, чтобы заключать в себе будущую энергию жизни. Силы Хайда, казалось, возрастали одновременно с болезненной слабостью Джекила. И, без сомнения, сила ненависти, разделявшей их, была равна с обеих сторон. У Джекила она была природно-инстинктивна. Он теперь явственно увидел нравственное уродство существа, которое разделяло какие-то свойства его личности и должно было разделить с ним смерть. Из-за этих же общих для них свойств, повергавших Джекила в отчаяние, он думал о Хайде, несмотря на всю его жизненную энергию, как о чем-то не только адском, но и неорганическом. И это было самое ужасное: что зловоние ада как будто кричит и подает голос, что аморфное нечто — жестикулирует и грешит; то, что мертво и не имеет образа, — узурпирует права и обязанности жизни. И это воплощение ужаса было связано с ним теснее, чем что-либо и кто-либо; оно заключалось в его собственной плоти, и он слышал, как это нечто трепетало и билось, чтобы вырваться на свет. В каждую минуту слабости и в спокойствии сна оно боролось с ним и одерживало верх.
Ненависть же Хайда к Джекилу была другого порядка. Страх перед виселицей заставлял его постоянно совершать временное самоубийство и возвращаться к положению подчиненной части вместо целой личности. Но он ненавидел эту необходимость, ненавидел зависимость от Джекила и злился за ту неприязнь, с которой относились к нему самому. Отсюда происходили те злые обезьяньи шутки, которые он надо мной постоянно проделывал — то моим почерком вписывая кощунства в мои книги, то сжигая письма и даже портрет моего отца. И если бы не его собственный страх перед смертью, он давно бы погубил себя, чтобы этим и меня уничтожить. Но его любовь к жизни поразительна. Я скажу больше: когда я, Джекил, который слабеет и заболевает при одной мысли о Хайде, вспоминаю беззаветность и страсть этой его привязанности к жизни, вспоминаю, как он боится, что я уничтожу его посредством самоубийства, — я нахожу в своем сердце жалость к нему.
Бесполезно, да и времени у меня осталось мало, продолжать это описание. Никто не переживал подобных мук. Того, что уже рассказано, будет достаточно. И все же даже при этих муках привычка приносила — не облегчение, нет, — но некоторое душевное отупение, некоторую покорность отчаяния. И мое наказание могло продолжаться много лет, если бы не это последнее, свалившееся на меня несчастье, окончательно отрезавшее меня от моего собственного лика и собственной натуры. Мой запас соли, который не возобновлялся с момента проведения первого опыта, начал понемногу истощаться. Я послал за новым запасом и приготовил из вновь приобретенного вещества напиток; произошло обычное шипение и первая перемена окраски, но второй не было. Я выпил его, но никакого результата не последовало. Вы, наверно, узнаете от Пула, как я велел обыскать весь Лондон, но все оказалось напрасно; и теперь я убежден, что первая партия была недостаточно чиста, содержала какую-то примесь, и именно благодаря этому неизвестному дополнению питье и производило свое чудотворное воздействие.
С тех пор прошло около недели, и теперь я заканчиваю свое признание под влиянием последнего из старых порошков. И это последний день, если только не свершится чудо, когда Генри Джекил может думать свои собственные думы или видеть в зеркале свое собственное лицо (теперь, увы, ужасно изменившееся). Поэтому я не должен откладывать надолго завершение этого письма. Поскольку если до сих пор мое признание и не было уничтожено, то только благодаря сочетанию крайней осторожности и большой удачливости. Если судороги перевоплощения захватят меня в то время, когда я еще продолжаю писать, Хайд разорвет письмо на клочки. Но если пройдет некоторое время после того, как я отложу его в сторону, то его поразительное себялюбие и минутные заботы, по всей вероятности, снова спасут написанное от ярости его обезьяноподобной злобы. Впрочем, тяготеющее над нами обоими проклятие и неизбежная для нас обоих участь изменили и его. Спустя полчаса, когда я снова и теперь уже навсегда превращусь в это ненавистное существо, знаю, я буду сидеть, дрожа и рыдая, в своем кресле или продолжать со страхом прислушиваться ко всякому звуку, шагать взад-вперед по этой комнате (последнее мое земное пристанище). Умрет ли Хайд на виселице? Или он все-таки найдет силы освободить себя в последнюю минуту? Бог знает. Мне же все равно. Час моей настоящей смерти уже наступил, а что будет потом, касается уже не меня, а другого. Итак, откладывая в сторону перо и запечатывая это свое признание, я вместе с тем привожу к концу и жизнь несчастного Генри Джекила.
Преступник
— Да, — сказал торговец, — разные бывают случаи и ситуации, из которых мы извлекаем выгоду. Одни покупатели невежественны, и тогда мои знания приносят мне дивиденды. Другие — мошенники, — и тут он поднял свечу так, что свет от нее падал прямо на лицо посетителя, — и тогда, — продолжал он, — я зарабатываю на своей добродетели.
Маркхейм только что вошел в помещение с яркого дневного света улицы, и глаза его еще не привыкли к той смеси блеска и тьмы, которая царила в лавке. При многозначительных словах, произнесенных хозяином заведения, и из-за чрезмерной близости поднесенной к нему свечи он как-то болезненно замигал и отвернул лицо в сторону.
Торговец самодовольно захихикал.
— Вы приходите ко мне в первый день Рождества, — продолжал он, — когда, знаете ли, я один в доме, ставни в заведении закрыты, и я не собираюсь торговать. Ну что ж, вам придется заплатить за причиняемое беспокойство, вам придется заплатить за время, которое сейчас теряю с вами, вместо того чтобы заниматься подведением итогов в своей бухгалтерии. Вам придется, кроме того, заплатить за некую странность ваших манер, которую я сейчас наблюдаю. Я — олицетворение деликатности и никогда не задаю лишних и неудобных вопросов. Но, когда покупатель избегает смотреть мне прямо в глаза, ему приходится за это платить!
Торговец снова захихикал, а потом, заговорив своим обычным деловым тоном, хотя и с заметной ноткой иронии, продолжал:
— Конечно, вы, как обычно, можете дать определенный и ясный отчет, каким образом попала к вам в собственность вещь, которую вы сейчас желаете мне предложить. Опять из коллекции вашего дядюшки? Он выдающийся коллекционер, я должен заметить, сэр!
Маленький, бледнолицый, с покатыми плечами, владелец лавки стоял почти на цыпочках, глядя поверх своих очков в золотой оправе и покачивая головой, всем своим видом выказывая недоверие к гостю. Маркхейм, в свою очередь, бросил на него бесконечно жалостливый взгляд с легкой примесью ужаса.
— На этот раз, — проговорил он, — вы ошибаетесь. Я пришел не продавать, а покупать. У меня нет больше редкостных вещиц для продажи. Коллекция моего дяди иссякла. Но даже если бы она была еще цела, то, скорее, сегодня я что-нибудь к ней добавил бы, чем убавил, поскольку хорошо заработал на бирже. Пришел же я к вам по очень простому делу. Мне нужен рождественский подарок для дамы… — продолжал нежданный посетитель, становясь все более развязным и спокойным по мере того, как переходил к заранее подготовленной речи, — и я очень извиняюсь за то, что беспокою вас из-за такого пустяка. Но вчера я совсем забыл об этом, а сегодня за обедом я непременно должен поднести свой подарок. Как вы и сами прекрасно знаете, богатой невестой пренебрегать нельзя.
Последовала пауза, в течение которой торговец как будто с недоверием обдумывал слова молодого человека. Тиканье бесконечного множества часов, находившихся в набитой всякой любопытной всячиной лавке, и глухой шум экипажей, проезжавших по соседней людной улице, заполняли возникшую паузу.
— Что ж, сэр, — наконец проговорил торговец, — предположим, это так. В конце концов, вы мой постоянный клиент, и если, как вы говорите, вы можете надеяться на выгодную партию, я далек от того, чтобы мешать вам в этом. Вот, например, прехорошенький подарочек для дамы, — продолжал он, — ручное зеркальце… работа пятнадцатого века… Происходит из очень известной коллекции, но я не могу назвать имени его бывшего владельца в интересах клиента, уступившего мне его, который так же, как и вы, дорогой сэр, был племянником и единственным наследником выдающегося коллекционера.
Хозяин лавки, произнося эти слова своим сухим, язвительным голосом, нагнулся, чтобы достать зеркало со своего места. И, пока он нагибался, по Маркхейму словно пробежал разряд электрического тока — у него задергались руки и ноги, а на лице его отразилось множество бурных переживаний. Но это продолжалось считаные мгновения и почти тотчас прошло, не оставив после себя никаких следов, кроме едва заметного дрожания руки, в которой он теперь держал зеркало.
— Зеркало! — произнес он хрипло, потом немного помолчал и повторил уже отчетливее: — Зеркало? На Рождество? Что вы!
— А почему нет? — воскликнул коммерсант. — Почему зеркало не годится?
Маркхейм глядел на него с каким-то неопределенным выражением лица.
— Вы меня спрашиваете почему? Да сами посмотрите!.. Взгляните на него… сами взгляните на него. Вам приятно видеть, что в нем отражается? Нет? Ну вот, и мне… да и никому другому не понравится!
Маленький человечек отскочил было в сторону, когда Маркхейм так неожиданно поднес к его лицу зеркало, но теперь, убедившись, что ничего более страшного ему не угрожает, захихикал.
— Ваша будущая супруга, сэр, должно быть, немного обижена судьбой? — сказал он.
— Я спрашиваю у вас, — произнес Маркхейм, — рождественский подарок, а вы предлагаете мне это… это проклятое напоминание о годах, грехах и ошибках… эту ручную совесть. Что вы имели в виду? У вас была какая-нибудь задняя мысль? Объяснитесь же! Для вас будет лучше, если вы прямо мне скажете! Ну, расскажите мне о себе. Мне почему-то кажется, что вы, в сущности, очень добрый и щедрый человек.
Торговец внимательно посмотрел на своего собеседника. Странно, но Маркхейм как будто не смеялся: лицо его озарялось неким чувством, вроде жаждущей надежды, но иронии или насмешки в нем не было.
— Куда это вы гнете? — настороженно поинтересовался владелец лавки.
— Как, вы не добры, не милосердны? — вопросом на вопрос ответил посетитель. — Не добры, не милосердны, не благочестивы? У вас нет совести? Вы никого не любите? Вас никто не любит? Вы только загребаете деньги и прячете их в несгораемый шкаф? И это все? Господи боже мой, скажите, неужели дело обстоит именно так?
— Знаете что, я скажу вам, в чем дело… — начал было несколько резким тоном хозяин лавки, но потом снова захихикал. — Но, я вижу, вы женитесь по любви и недавно пили за здоровье своей невесты!
— А! — воскликнул Маркхейм со странным любопытством. — Вы сами тоже когда-то были влюблены, любили? Расскажите мне, как это было!
— Я? — воскликнул торговец. — Я был влюблен, любил? Да у меня никогда на это времени не было, точно так же, как и сегодня у меня нет времени выслушивать всю эту чепуху!.. Так вы берете зеркало?
— А куда нам спешить? — оживился Маркхейм. — Так приятно стоять здесь и беседовать с вами. Жизнь ведь коротка и ненадежна, потому я не стал бы отказываться ни от одного удовольствия… пусть даже такого скромного и незначительного, как это. Наоборот, скорее мы должны хвататься, хвататься за то малое, что выпадает нам на долю, хвататься, как человек за край утеса над пропастью. Когда вы об этом подумаете, то каждая секунда жизни начинает казаться утесом… утесом высотой в целую милю, достаточно высоким для того, чтобы мы, если с него сорвемся, превратились в бесформенную массу. Поэтому лучше побеседуем! Давайте поговорим друг о друге: зачем нам прятаться за этими масками? Будем откровенны друг с другом. Кто знает, быть может, мы станем друзьями?
— Я могу сказать вам только одно, — ответил торговец, — или покупайте скорее, что вам нужно, или убирайтесь вон из лавки.
— Верно, верно! — воскликнул гость. — Довольно глупостей! Ближе к делу. Покажите мне еще что-нибудь.
Хозяин лавки снова нагнулся, на этот раз — чтобы поставить зеркало на его место, на полку; когда он нагибался, жидкие, светлые волосы упали ему на лоб и закрыли глаза. Маркхейм приблизился, одну руку он держал в кармане пальто. Он вытянулся, глубоко вздохнул, набирая побольше воздуха в легкие. На лице его в это время отразились противоречивые переживания и чувства: ужас, страх и решимость, какое-то непреодолимое очарование и физическое отвращение; верхняя губа как-то жутко приподнялась, и из-под нее показались зубы.
— Вот, посмотрите, может быть, это подойдет? — проговорил коммерсант.
И тогда, как только лавочник начал распрямляться, Маркхейм набросился на него сзади. Длинный кинжал с узким, похожим на шило клинком сверкнул и упал. Торговец забился как курица, ударился виском о полку и рухнул на пол.
У часов в лавке было десятка два голосов — одни из них были величественные и медлительные, как подобало в их почтенном возрасте, другие — сварливые и торопливые. И все они смешанным хором тиканья отсчитывали секунды. Затем шаги быстро бегущего по мостовой мальчика на минуту заглушили эти более тихие голоса и вернули Маркхейма к действительности. Он в ужасе оглянулся. Свеча стояла на прилавке, и пламя ее зловеще колебалось на сквозняке; от этого ничтожного движения вся комната была наполнена бесшумной суматохой и колыхалась, словно море: качались высокие тени, вздымались и таяли, словно от чьего-то дыхания, густые пятна тьмы, лица на портретах и фарфоровые фигурки меняли свои очертания и переливались, как отражения на воде. Дверь в соседнюю комнату была раскрыта, и сквозь нее, словно указующий перст, врывался в наполненную тенями лавку луч дневного света.
Окинув все это блуждающим взором, охваченный ужасом Маркхейм перевел глаза на труп своей жертвы, туда, где на полу лежал хозяин лавки, съежившись и в то же время вытянув свои члены, невероятно маленький и куда ничтожнее, чем в жизни. В этом убогом, нищенском одеянии, в этой невзрачной позе торговец напоминал кучу опилок. Маркхейм сначала боялся взглянуть на него, а когда взглянул — перед его глазами предстало ничто. И все же, пока он глядел, эта куча старого платья и эта лужа крови словно заговорили с ним красноречивым языком. И он должен лежать на том месте, некому привести в действие волшебные пружины, некому управлять чудом передвижения — он должен лежать там, пока не будет обнаружен. Обнаружен! О! А тогда? Тогда это мертвое тело поднимет крик, который пронесется по всей Англии и наполнит мир эхом преследования. Да, мертвый или живой, но враг все еще был здесь.
«Время бежит… бежит», — подумал убийца. И первое слово застряло у него в сознании. Теперь, когда дело было сделано, время, завершившее свой бег для жертвы, становилось для преступника неизбежностью…
Эта мысль еще не успела покинуть его, как вдруг вначале одни, затем другие — одни гулкими голосами, словно колокола на соборной башне, другие тоненьким перезвоном, будто наигрывая прелюдию к вальсу, — начали бить часы… Было три часа пополудни.
Этот неожиданный взрыв стольких голосов в немой комнате ошеломил преступника. Он начал ходить взад-вперед по лавке, со свечой в руках, преследуемый движущимися тенями и напуганный до глубины души случайными отражениями. В многочисленных дорогих зеркалах — одни местных мастеров, другие родом из Венеции и Амстердама — он видел свое лицо, многократно повторенное, словно легион шпионов; он встречался взором с собственными глазами, и они как будто выдавали его, а звуки собственных шагов, как бы они ни были легки, нарушали и оскорбляли окружающую тишину. По мере того как он наполнял свои карманы, его мысли с мучительной настойчивостью обвиняли его в тысяче недоработок его плана. Он должен был выбрать более тихий час, должен был придумать и приготовить себе алиби, он должен был вести себя осторожнее: ему следовало только связать торговца и заткнуть ему рот, а не убивать его, следовало быть смелее и убить также служанку. Да и вообще все надо было сделать совсем иначе.
И Маркхейма охватило острое раскаяние, навязчивые мысли, беспрерывно работающие в стремлении изменить то, что уже неизменимо, придумать другой план, который теперь бесполезен, перестроить прошлое, в которое уже нельзя вернуться. В то же время прятавшиеся за этой активной мыслительной деятельностью жестокие страхи, словно шмыганье крыс по пустому чердаку, наполняли ужасом и беспокойством самые удаленные уголки его ума. Вот будто опускалась на его плечо тяжелая рука констебля — и, словно рыба на крючке, вздрагивали его натянутые нервы. Или вдруг перед ним быстрой чередой проносились видения скамьи подсудимых, тюрьмы, виселицы, черного гроба…
Страх перед людьми на улице предстал перед ним, словно осаждающая вражеская армия. «Не может быть, — подумал он, — чтобы какой-нибудь отзвук борьбы не донесся до их слуха и не возбудил любопытства». И теперь убийце мерещилось, что во всех окрестных домах неподвижно сидят, напряженно прислушиваясь, их обитатели — одинокие люди, вынужденные провести Рождество в одиночестве, лишь в обществе воспоминаний о славном прошлом, и теперь внезапно оторванные от этих размышлений. Счастливая семья, вдруг замолчавшая за столом, почтенная мать семейства со все еще приподнятым пальцем, горожане всех состояний, возрастов и настроений, но все у собственных очагов, прислушивающиеся, присматривающиеся, вьющие веревку, на которой его повесят.
Временами Маркхейму казалось, что он не может передвигаться достаточно тихо; случайно задетые высокие богемские бокалы издавали звон, который, казалось, исходил от большого колокола, и, устрашенный громкостью тиканья, он испытал огромное желание остановить все часы в комнате. А потом страхи снова изменили свое направление: молчание и тишина комнаты начали казаться ему источником опасности — вдруг это-то и привлечет и остановит прохожего. И тогда он начинал ходить более смело и громко возиться среди содержимого лавки, с нарочито вызывающим видом подражать движениям занятого человека, свободно занимающегося чем-то у себя дома.
Он теперь был настолько издерган всяческими страхами и опасениями, что в то время, когда часть его разума бодрствовала и была все еще начеку, другая трепетала на пороге сумасшествия. Особенно его тревожили образы, порожденные галлюцинациями: сосед, с бледным от ужаса лицом подслушивающий у окна; прохожий, остановленный страшным подозрением на тротуаре… Но эти в худшем случае могли только подозревать, знать же они не могли, ведь сквозь кирпичные стены и закрытые ставнями окна могут проникать только звуки. Но здесь, в самом доме, один ли он? Он знал, что один. Убийца ведь выследил, как служанка отправилась куда-то на свидание в своем жалком праздничном наряде; на каждой ленточке, в каждой улыбочке на ее лице было написано: «Свободна на целый день». Да, конечно, он один, и все же над головой, в гулкой пустоте верхней половины дома, Маркхейм как будто ясно различал чьи-то тихие шаги, он бесспорно ощущал, необъяснимо ощущал чье-то присутствие. Из комнаты в комнату, из угла в угол следовало его воображение за невидимым обитателем дома. То это было нечто безликое, но с глазами, способными видеть, то его собственная тень, то образ убитого им торговца, одушевленный ненавистью.
Временами, сделав над собой огромное усилие, он бросал взгляд на раскрытую дверь, которая до сих пор все еще притягивала его взор. Дом был высокий, слуховое окно под потолком — маленькое и пыльное, день — пасмурный и туманный. Свет едва проникал вниз, с трудом достигая нижнего этажа, и еле освещал порог лавки. А там, в этой зыбкой полоске призрачного света, даже скорее полумрака, не шевелится ли чья-то тень?
Вдруг на улице какой-то господин, должно быть навеселе, начал стучать тростью в дверь лавки, сопровождая свои удары криками и шутками, в которых часто упоминалось имя хозяина. Маркхейм, похолодевший от ужаса, взглянул на мертвеца. Но нет — тот лежал совершенно неподвижно. Он унесся далеко, туда, куда не могли уже долететь никакие стуки или крики; он погрузился на дно моря безмолвия, и имя его, которое прежде он сумел бы расслышать даже среди рева бури, теперь стало пустым звуком. Веселому джентльмену вскоре надоело колотить в дверь, и он ушел.
Этот случай словно послужил намеком поскорее покончить с тем, что Маркхейму еще оставалось сделать: поскорее удалиться из этого небезопасного места, погрузиться в бесконечную лондонскую толпу и добраться к вечеру в гавань безопасную и заведомо мирную — в постель. Вот уже объявился один посетитель, в любую минуту легко мог последовать и другой, более настойчивый. Совершив преступление, не собрать всех его плодов было бы глупо. Деньги — вот чем преступнику следовало немедленно заняться, а для этого он должен был отыскать ключи.
Маркхейм взглянул через плечо на раскрытую дверь, в проеме которой все еще таилась и дрожала тень, и без малейшего душевного содрогания, но с некоторым животным страхом приблизился к трупу своей жертвы. Он уже совсем утратил человеческий облик. Убитый лежал на полу, словно мешок, наполовину заполненный опилками, с разметавшимися руками и ногами, с согнутым вдвое туловищем. И все же сей бездушный предмет вызывал в преступнике отвращение и ужас. Маркхейм опасался, что эта ноша окажется для него весьма тяжелой.
Он взял лавочника за плечи и перевернул его на спину. Тот оказался удивительно легок и гибок, и конечности, словно сломанные, принимали самые смешные и неожиданные положения. Лицо, лишенное какого бы то ни было выражения, залила бледность, как во время глубокого сна или при обмороке, а один из висков был вымазан кровью — единственное неприятное для Маркхейма обстоятельство, которое тотчас заставило его унестись воспоминаниями к одному происшествию на ярмарке. Это случилось много лет назад в рыбачьей деревушке: пасмурный серый день, пронизывающий ветер, запруженная толпой улица, выкрики медных труб, буханье барабанов, гнусавый исполнитель баллад; мальчик, шныряющий взад-вперед в толпе, раздираемый страхом и любопытством. Это длилось до тех пор, пока, наконец, он не вынырнул из людского водоворота на главной площади, где стоял балаган с огромным щитом, облепленным со всех сторон плакатами, отвратительно нарисованными кричащими яркими красками, с изображениями знаменитых преступников Англии: Браунриг с ее сообщником, оба Маннинга с умерщвленным ими гостем, Уэр в мертвой хватке пятерни Тертелля и десятка два других известных злоумышленников. Мальчишке все было понятно и без слов.
Маркхейм снова ощутил себя тем маленьким мальчиком, оказавшимся в разгар ярмарки перед памятным щитом, и снова он глядел, с тем же самым чувством физического отвращения, на ужасные изображения, все еще оглушенный буханьем барабанов. В памяти воскресли несколько тактов мотива, услышанного в тот день, и впервые его охватила дрожь, у него закружилась голова, появилась слабость в ногах. Он сделал усилие над собой, чтобы немедленно побороть эти ощущения.
Он решил, что будет благоразумнее мужественно встретиться лицом к лицу со всеми этими призраками воображения, чем бежать от них. Для этого он смело и даже с неким вызовом посмотрел в лицо своей жертве, напрягая разум, чтобы как можно полнее осознать характер и значение своего преступления. Еще совсем недавно это лицо изменяло свое выражение вместе с каждым малейшим изменением настроения его владельца, эти бледные губы изрекали слова, это тело действовало, свободно управляемое жизненной энергией. И вот теперь его собственной рукой этот кусочек жизни был остановлен, как часовщик останавливает пальцем ход часов. Так рассуждал Маркхейм, но понапрасну. Он не мог вызвать в себе, даже принудительно, никаких угрызений совести. То самое сердце, трепетавшее и замиравшее перед изображениями жестоких преступлений, теперь оставалось холодным и безучастным перед злодеянием, совершенным в действительности. В лучшем случае убийца испытывал лишь слабое подобие жалости к человеку, у которого были все данные для того, чтобы превратить свою жизнь в сад наслаждений, но который никогда не жил, а теперь погиб. Но раскаяния в нем не было ни тени, ни проблеска…
Тогда, стряхнув с себя эти мысли, Маркхейм разыскал ключи и направился к открытой двери лавки. На дворе уже лил дождь, и звуки водяных потоков, хлещущих по крыше, изгнали тишину. Словно в пещере, сквозь стены которой просачивается струями сырость, во всех закоулках дома раздавалось бесконечное эхо, заполнявшее пространство и смешивавшееся с тиканьем многочисленных часов… А когда Маркхейм приблизился к двери, ему показалось, что он услышал, словно в ответ на свои осторожные шаги, шаги других ног, крадучись удалявшиеся от него вверх по лестнице. А в дверном проеме все еще покачивалась и трепетала тень. Маркхейм собрался с духом, напряг мышцы рук и закрыл-таки дверь.
Бледный, призрачный дневной свет слабо струился на голый пол и ступени лестницы, на отполированные рыцарские доспехи, стоявшие с алебардой в железной перчатке на площадке, на резьбу темного дерева, на картины в рамах, висевшие на желтых деревянных панелях обшивки стен. Так громко раздавался во всем доме шум дождя, что в ушах Маркхейма он начал распадаться на множество разных отдельных звуков. Шаги и вздохи, топот марширующих вдали полков, звон отсчитываемых монет, скрип осторожно раскрываемых дверей как будто смешивались со стуком капель о крышу и шумом воды, вырывающейся из водосточных труб.
Ощущение того, что он не один, начало охватывать убийцу и почти сводило его с ума. Со всех сторон его кто-то или что-то преследовало и окружало. Он слышал, как невидимые существа двигались по комнатам над его головой; ему чудилось, что убитый пытается подняться на ноги в лавке, а когда он начал с большим усилием подниматься по лестнице, шаги быстро удалялись от него впереди и медленно крались за его спиной. «Если бы я только был глух, — думал он, — как спокойна была бы моя душа!» А потом, снова прислушиваясь со все обостряющимся вниманием, он благословлял себя за то недремлющее чувство, которое охраняло передовую линию его обороны и было верным часовым его жизни. Голова преступника не переставая поворачивалась из стороны в сторону; его глаза, едва ли не выскакивая из орбит, всматривались во все мельчайшие детали и бывали вознаграждены, когда им как будто удавалось заметить исчезающий хвост чего-то безымянного. Двадцать четыре ступени, которые вели на второй этаж, были двадцатью четырьмя муками ада.
На втором этаже двери были отворены; их было три — три, казалось, засады, истязающие его нервы, словно жерла наведенных пушек. Маркхейм чувствовал, что никогда больше не будет достаточно укрыт и защищен от наблюдательных человеческих глаз, и ему страшно захотелось сейчас оказаться дома, окруженным со всех сторон стенами, спрятаться под одеяло и стать невидимым для всех, кроме Бога. При мысли о Боге он призадумался, вспоминая рассказы о других убийцах и о страхе, который они будто бы испытывали перед небесным возмездием. Он по крайней мере этого страха не ощущал. Он боялся законов природы — как бы они в своем бесчувственном и безжалостном течении не сохранили какого-нибудь пагубного доказательства или следа его преступления. И в десятки раз больше, с каким-то робким суеверным страхом боялся он какого-нибудь перерыва в обычной последовательности событий, какой-нибудь капризной бестактности природы. Он вел свою игру, полагаясь на определенные законы, выводя, при этом тщательно все взвесив, последствия из причин. А что, если природа, как тот побежденный тиран, опрокинет шахматную доску, разобьет законы последовательности? Выпала же такая участь на долю Наполеона (так уверяют писатели), когда зима изменила время своего наступления. То же самое могло бы приключиться и с Маркхеймом: толстые, солидные стены могли бы вдруг сделаться прозрачными и обнаружить все его движения и действия, как открыты движения и действия пчел в стеклянном улье; крепкие доски могли бы податься под его ногами, словно зыбучие пески, и удержать его в своих тисках.
Да и много других, гораздо более вероятных случайностей могли бы погубить его. Если бы, например, сейчас обвалился дом и похоронил его рядом с трупом его жертвы? Или вдруг в соседнем доме вспыхнул бы пожар и к нему со всех сторон бросились бы пожарные? Этого он боялся: в некоторой степени это можно было бы назвать перстом Божьим, протянутым, чтобы покарать грешника. Но относительно самого Бога Маркхейм был спокоен. Он знал, что его поступок исключителен, не менее исключительны и побуждения, толкнувшие его на это, о чем Богу было известно. И в его, в отличие от человеческой, справедливости Маркхейм был уверен.
Когда он благополучно добрался до гостиной и закрыл за собой дверь, то сразу как будто освободился от всех своих страхов. В комнате почти не было ни какого-либо убранства, ни даже ковров, она была завалена огромными ящиками. Тут также стояло несколько больших трюмо, в которых Маркхейм видел себя в различных ракурсах, словно актер на сцене; много картин, в рамах и без рам, повернутых лицом к стенам; старинный дубовый буфет; шкафчик с инкрустациями и огромная старинная постель с балдахином и пологом. Окна раскрывались до самого пола, но, к счастью, нижние половинки ставен были закрыты, и это скрывало преступника от соседей. Маркхейм придвинул один из больших ящиков к шкафчику и начал подбирать ключи. Это была сложная и утомительная работа, кроме того, все его старания могли оказаться напрасными — в шкафчике, возможно, ничего и не было, — а время летело. Но напряжение и сосредоточенность, которых требовало его занятие, отрезвили его.
Краем глаза Маркхейм следил за дверью, временами даже прямо поглядывал на нее, словно комендант осажденной крепости, в очередной раз желающий удостовериться в несокрушимости и надежности своих укреплений. Он действительно был спокоен. Звук дождя на дворе казался ему естественным и приятным. Вскоре из дома напротив раздались звуки пианино, на котором играли псалом, и голоса многих детей подхватили слова и мотив. Как торжественна, как хороша была эта мелодия! Как свежи юные голоса! Маркхейм улыбался, прислушивался к ним, перебирая в то же время ключи, и мысли его заполнились соответствующими образами и картинами. Ему мерещились дети, идущие в церковь, торжественные звуки органа; дети в поле, купающиеся в ручье, бегающие по лугу, пускающие змеев по ветреному, покрытому тучами небу; а потом, на новой строфе псалма, мысли его снова вернулись к церкви, к сонливости летних воскресений, к высокому сладкому голосу пастора (преступник с улыбкой вспомнил о нем), к раскрашенным могильным памятникам времен короля Якова, к еле видным буквам десяти заповедей, вырезанных на алтаре.
Так он сидел, поглощенный своим делом, но с разбредшимися в то же время мыслями, пока вдруг не вскочил на ноги. Он ощутил сначала холод, затем жар, почувствовал неудержимый приток крови, и встал как вкопанный, весь дрожа. Медленно, степенно чьи-то шаги поднимались по лестнице, и вскоре на ручку двери легла чья-то рука, щелкнул замок, и дверь открылась.
От ужаса Маркхейм оцепенел. Кого и чего ожидать — он не знал: мертвец ли это, воскресший к жизни, или же официальные представители человеческого правосудия, или же какой-нибудь случайный свидетель, слепо ворвавшийся для того, чтобы отправить его на виселицу. Но, когда в щель чуть приоткрытой двери просунулась чья-то голова, окинула взглядом комнату, кивнула и улыбнулась ему, словно в дружеском приветствии, затем снова удалилась, и дверь закрылась — страх Маркхейма вырвался наружу в диком хриплом крике. При этом звуке посетитель снова показался на пороге.
— Вы меня звали? — спросил он приветливо, и с этими словами вошел в комнату и прикрыл за собой дверь.
Маркхейм стоял и глядел на него во все глаза. Возможно, его взор заволокла какая-то пелена, но очертания новоприбывшего будто бы менялись и колебались, как и у тех идолов в покачивающемся свете свечи в лавке. Временами убийце казалось, что он узнает незнакомца, временами ему мерещилось, что тот даже похож на него самого. И каждый раз, словно клочок живого ужаса, в глубине его души просыпалось осознание, что это существо — не от земли и не от Бога.
И все же у незнакомца, когда он стоял и глядел с улыбкой на Маркхейма, вид был совершенно обычный. А когда он прибавил: «Вы, кажется, ищете деньги?» — в голосе его звучала самая обыкновенная будничная вежливость.
Маркхейм ничего не ответил.
— Я должен предупредить вас, — продолжал посетитель, — что служанка простилась со своим возлюбленным раньше обыкновенного и скоро уже будет тут. Если она застанет мистера Маркхейма в этом доме, то о последствиях, думаю, мне нет нужды распространяться.
— Вы меня знаете? — воскликнул убийца.
Пришелец улыбнулся.
— Вы давно пользуетесь моим особым расположением, — проговорил он. — Я за вами наблюдаю и часто пытался вам помочь.
— Кто вы? — воскликнул Маркхейм. — Черт?
— Кто и что я, — ответил незнакомец, — не может иметь влияния на услугу, которую я собираюсь вам оказать.
— Нет может! — возразил решительно Маркхейм. — И даже очень. Воспользоваться вашей помощью?! Нет! Никогда! Ни в коем случае! Вы меня еще не знаете. Слава богу, вы меня не знаете!
— Я вас знаю! — проговорил посетитель с какой-то добродушной строгостью или, скорее, твердостью. — Я вас знаю до самых потаенных глубин вашей души.
— Вы меня знаете?! — повторил Маркхейм. — Кто же может меня знать? Моя жизнь — пародия и клевета на меня самого. Я жил лишь для того, чтобы опровергнуть и оклеветать свое я. Все люди так делают. Все люди в действительности гораздо лучше, чем эта личина, которая душит их. Вы видите, как жизнь уводит, тащит каждого из них куда-то в сторону — словно ночные разбойники, схватившие свою жертву и закутавшие ее в плащ, чтобы скрыть от всех. Но если бы эти люди могли распоряжаться собой, если бы вы могли видеть их настоящие лица — они показались бы вам совершенно иными, они показались бы вам героями, святыми! Я хуже многих, мое «я» сильнее замаскировано и спрятано. То, что может меня оправдать, известно лишь мне и Богу. Но, будь у меня время, я мог бы открыть себя.
— Мне? — полюбопытствовал посетитель.
— Вам прежде всего! — воскликнул убийца. — Я предполагал, что вы умнее. Я думал, раз вы существуете, что вы окажетесь сердцеведом. А вы… вы намерены судить меня по моим поступкам. Только подумайте: по моим поступкам! Я родился и прожил свою жизнь в стране исполинов. Исполины таскали меня за руки с того самого мгновения, когда мать родила меня… исполины случайных обстоятельств. А вы хотите судить обо мне по моим поступкам. Но разве вы не можете заглянуть внутрь меня? Разве вы не понимаете, что зло, преступление мне противны, мерзки? Разве вы не можете прочесть внутри меня понятные письмена совести, не затуманенные никакой искусственной софистикой, но слишком часто остававшиеся без внимания? Разве вы не можете прочесть меня и понять, что я существо столь же обычное и заурядное, как и все человечество, — невольный грешник, невольный преступник?!
— Вы объяснили все с большим чувством, — последовал ответ, — но это меня совершенно не касается. Эти вопросы вне сферы моей компетенции, и мне решительно нет никакого дела, по каким побуждениям и по чьей воле вы свернули со своего пути, — лишь бы вы были вновь направлены на путь истинный. Но время бежит; служанка замешкалась, вглядываясь в лица окружающих, рассматривая плакаты на заборах, и все же понемногу приближается к дому. И помните, это почти то же самое, как если бы виселица сама шагала к вам по людным рождественским улицам. Хотите, чтобы я вам помог? Я, знающий все? Сказать вам, где лежат деньги?
— А какова будет ваша цена за эту услугу? — спросил Маркхейм.
— Я предлагаю вам эту услугу в виде рождественского подарка, — заявил незнакомец.
Маркхейм не мог удержаться от какой-то горько-торжествующей улыбки.
— Нет! — ответил он. — Я от вас ничего не возьму. Даже если бы я умирал от жажды и ваша рука протянула бы чашку с водой к моим губам, я нашел бы в себе силы отказаться. Возможно, это покажется вам странным и маловероятным, но я не сделаю ничего, что могло бы неразрывно связать меня со злом.
— Я не буду возражать, если вы покаетесь на смертном одре, — заметил посетитель.
— Потому что вы убеждены в бесполезности этого! — воскликнул Маркхейм.
— Я этого не говорил, — возразил пришелец. — Но я смотрю на вещи с другой точки зрения, и когда жизнь обрывается, мой интерес исчезает. Данный человек жил, чтобы служить мне, чтобы распространять ложные учения под видом религии или сеять плевелы на плодородной ниве, как это делаете вы, покорно подчиняясь минутной слабости. Когда же он приближается к моменту своего освобождения, он может оказать мне лишь единственную услугу — покаяться, умереть с улыбкой на устах и этим придать бодрость и надежду наиболее робким из оставшихся в живых моих последователей. Я не такой уж жестокий властелин. Испытайте меня. Примите мою помощь. Пользуйтесь всеми благами жизни, делайте что угодно, как вы до сих пор и делали. Пользуйтесь всем, не стесняясь, насыщайтесь, а когда начнет смеркаться и будет приближаться ночь, когда будет задернут занавес — я говорю вам ради вашего собственного утешения, — вы легко примиритесь со своей совестью и с Богом. Я сейчас только от такого смертного одра: комната была полна людей, которые искренне оплакивали умиравшего и прислушивались к его последним словам; и, взглянув на его лицо, которое до того было глухо к милосердию, я заметил на нем улыбку надежды.
— Неужели вы считаете меня подобной тварью? — спросил Маркхейм. — Неужели вы думаете, что у меня нет более высоких стремлений, более благородных желаний, чем грешить, грешить без конца и потом постараться украдкой проскользнуть в рай? Сердце мое исполняется негодования при одной мысли об этом. Так вот каково ваше, якобы основанное на опыте, мнение о человечестве? Или вы решаетесь предлагать мне такие низости лишь потому, что застали меня с руками, обагренными кровью? И неужели совершенное мною убийство настолько нечестиво, что оно может уничтожить последние оставшиеся во мне корни добра?
— Для меня убийство не представляется какой-нибудь исключительной категорией преступления, — ответил незнакомец. — Все преступления — убийства, точно так же, как и всякая жизнь — борьба. Я представляю себе человечество в виде кучи голодающих моряков на плоту, вырывающих сухие корки из рук голода и поедающих жизнь друг у друга. Я слежу за преступлениями и во всех них обнаруживаю, что конечным результатом бывает смерть; в моих глазах молоденькая хорошенькая девушка, перечащая матери с таким милым жеманством по такому пустому вопросу, как бал, точно так же запятнана человеческой кровью, как и убийца вроде вас. Я сказал, что слежу за преступлениями? Но я слежу и за добродетелями. Одни от других ни на волос не отличаются: и те и другие — лишь орудия для ангела смерти. Зло, ради которого я живу, заключается не в действиях, а в самом характере. Мне дорог дурной человек, а не дурной поступок, плоды которого, если бы мы сумели проследить их достаточно глубоко в пенящемся водовороте веков, могли бы оказаться куда более благословенными, чем плоды самых редчайших добродетелей. И я предлагаю помочь вам убежать отсюда и спастись не потому, что вы убили какого-то лавочника, а потому что вы — Маркхейм.
— Я раскрою перед вами свое сердце, — ответил Маркхейм. — Это преступление, на котором вы меня поймали, — мое последнее. Направляясь сюда, чтобы его совершить, я многому научился, да и само оно — урок, хороший урок. До сих пор я с отвращением, из-под палки должен был делать то, чего мне не хотелось. Я был рабом бедности, рабом подневольным, замученным. Бывают крепкие, здоровые добродетельные натуры, которые могут противостоять подобным искушениям. Моя натура не из таких: я вечно жаждал наслаждения. Но сегодня в результате этого моего поступка я приобретаю и предупреждение, и богатства, и власть, и новое желание быть самим собой. Во всех отношениях я становлюсь свободным действующим лицом в мире. Я начинаю видеть себя совершенно другим, изменившимся, эти руки становятся созидателями добра, это сердце успокаивается. Что-то из прошлого обволакивает меня: что-то из того, что мне снилось по воскресным вечерам под звуки церковного органа, из того, что я чувствовал и предвосхищал, когда проливал слезы над благородными книгами или беседовал, еще невинным ребенком, со своей матерью. Вот моя жизнь: я плутал и заблуждался в течение нескольких лет, но теперь я снова ясно вижу пристань, к которой должен плыть.
— Если не ошибаюсь, вы предполагали использовать эти деньги для игры на бирже? — заметил посетитель. — Насколько мне помнится, вы там уже проиграли несколько тысяч фунтов?
— О! На этот раз у меня дело верное.
— И на этот раз вы тоже все проиграете, — тихо сказал посетитель.
— Но половину я спрячу! — воскликнул Маркхейм.
— И эту половину вы проиграете! — возразил незнакомец.
Холодный пот выступил у Маркхейма на лбу.
— Ну и что же? — воскликнул он. — Допустим, я все проиграю, допустим, я снова стану нищим. Неужели одна половина моего «я», худшая, до конца дней моих будет господствовать над другой, лучшей? Добро и зло во мне одинаково сильны, они с одинаковым упорством тянут меня каждое в свою сторону. Я люблю не какое-нибудь одно из них, а оба в равной степени. Я способен на великие подвиги самопожертвования, мученичества, и, хотя я пал до такого преступления, как убийство, жалость вовсе не чужда моей душе. Я жалею бедных — кто лучше меня знает преследующие их испытания?
Я жалею их и помогаю им, я ценю любовь, я люблю искренний смех; не существует ни одного положительного или праведного явления на земле, которое я не приветствовал бы от всего сердца. Так неужели управлять моей жизнью будут одни лишь пороки, а добро окажется безучастным, бездеятельным, словно какой-то ненужный балласт? О нет! Добро также может побуждать меня к совершению поступков…
Но посетитель поднял предостерегающе палец.
— Все эти тридцать шесть лет, которые вы прожили на земле, — проговорил он, — я следил, как шаг за шагом, через многие перемены своего духовного состояния и смены настроений вы медленно, но упорно опускались все ниже. Пятнадцать лет тому назад вы содрогнулись бы при одной мысли о краже. Три года тому назад вы побледнели бы при упоминании слова «убийство». А существует ли теперь в мире какое-нибудь преступление, какая-нибудь жестокость или подлость, от которой вы отшатнулись бы с отвращением? Пройдет еще пять лет, и я вас обличу в совершенном злодеянии. Вниз, вниз — вот куда лежит ваш путь. И ничто, кроме смерти, не в силах вас остановить.
— Это верно, — ответил глухо Маркхейм. — Я в некоторой степени поддался влиянию зла. Но так бывало и бывает со всеми: даже святые и те в процессе жизни становятся все менее разборчивыми и подпадают под неумолимое воздействие окружающей их среды.
— Я задам вам один простой вопрос, — продолжал незнакомец, — и по вашему ответу составлю ваш нравственный гороскоп. Во многих отношениях и во многих вопросах вы стали куда податливее, куда менее строги. Возможно, что так, собственно, и должно быть, и в этом вы правы; во всяком случае так бывает со всеми. Но, допустив это, скажите, хотя бы в самой пустячной мелочи, стали ли вы строже относиться к своему собственному поведению или вы пускаетесь во все тяжкие, не задумываясь о последствиях, отпустив поводья?
— В пустячной мелочи? — переспросил Маркхейм озадаченно. — Нет, — прибавил он в отчаянии. — Ни в чем! Я всегда и во все бросался с головой.
— В таком случае, — ответил незваный гость, — довольствуйтесь тем, каков вы есть, так как вы никогда не изменитесь к лучшему. И текст вашей роли на этой сцене под названием «жизнь» написан и запечатлен бесповоротно, раз и навсегда.
Маркхейм долго простоял, храня безмолвие, пока, наконец, посетитель не прервал молчание.
— Раз дело обстоит таким образом, — произнес он, — надеюсь, теперь вы позволите указать вам, где следует искать деньги?
— И спасение? — воскликнул преступник.
— А разве вы не искали его? — возразил собеседник. — Два-три года тому назад разве не вас я видел на кафедрах рядом с проповедниками и разве не ваш голос раздавался громче всех при пении молитв и псалмов?
— Это правда, — признал Маркхейм. — И теперь я отчетливо представляю себе, как долг велит мне поступить. Я от души благодарю вас за преподанный урок. Глаза мои раскрылись, и я, наконец, вижу себя таким, каков есть на самом деле.
В этот момент по дому разнесся резкий дребезжащий звон, и незнакомец, будто ожидавший условного сигнала, сразу заговорил другим тоном:
— Это служанка! Она вернулась, как я вас уже предупреждал, и перед вами стоит еще одна трудная задача. Вы должны сказать ей, что ее хозяин заболел, должны впустить ее в дом, но при этом держать себя уверенно. Сохраняйте серьезное выражение лица — никаких улыбок, никаких переигрываний — и я обещаю вам успех. Как только девушка войдет и дверь за ней будет затворена, те же ловкость и быстрота, которые уже помогли вам избавиться от лавочника, устранят с вашего пути и эту последнюю опасность. А дальше в вашем распоряжении будет целый вечер, а если понадобится, и целая ночь, чтобы перерыть весь дом, найти все скрытые в нем сокровища и организовать свое бегство и спасение. Под маской опасности к вам идет помощь… Встаньте! Встряхнитесь, друг: ваша жизнь висит на волоске. Взбодритесь, поднимитесь и действуйте!
Маркхейм спокойно и пристально посмотрел на своего советчика.
— Если я осужден совершать одни лишь дурные поступки, — проговорил он, — то все же у меня имеется еще один выход — я могу перестать действовать. Если моя жизнь — сплошное зло, я могу отказаться от нее. Хотя я, как вы справедливо заметили, слепо повинуюсь всякому малейшему искушению, но тем не менее я все еще могу одним решительным движением поставить себя вне досягаемости всех и вся. Моя любовь к добру осуждена на бесплодие, может быть; и пусть это так и будет. Но во мне все еще живет ненависть ко злу, и в ней, к вашему горестному разочарованию, вы увидите, я почерпну и энергию, и решительность.
Черты лица незнакомца начали меняться, будто подверглись чудесному и прекрасному превращению: они словно смягчились и озарились ликованием, и, по мере того как они светлели, они все более блекли и истончались, пока совсем не растаяли. Но Маркхейм не остановился, чтобы проследить или объяснить себе эту метаморфозу. Он открыл дверь и очень тихо стал спускаться вниз, погрузившись в непростые размышления. Его прошлое пронеслось перед ним во всей своей неприглядности; он видел его таким, каким оно и было: безобразное и сумбурное, как сон, пестрое, как случайная смесь, — ярчайшая картина полного поражения. Жизнь — такая, какой он видел ее теперь, — уже его не привлекала, а на противоположном далеком берегу он видел тихую пристань для своей ладьи. Он остановился в коридоре и заглянул в лавку, где у трупа все еще горела свеча. Там царило жуткое безмолвие. И пока Маркхейм смотрел на открывшуюся его взору картину, в уме его роились мысли об убитом лавочнике. Но их бесцеремонно разогнал звонок у входной двери: он снова разразился нетерпеливым дребезжанием.
Убийца встретил служанку на пороге с неким подобием улыбки на застывшем лице.
— Сходите за полицией, — спокойно сказал он. — Я убил вашего хозяина.
Джанет продала душу дьяволу
Достопочтенный Мордух Соулис долгие годы был пастором в больвирийском приходе, расположенном на болотах низменной долины реки Дьюль. Это был строгий, суровый, мрачного вида смуглолицый старик, наводивший страх и трепет на всех своих прихожан. Последние годы жизни он провел в абсолютном одиночестве, не имея подле себя ни родных, ни близких, ни прислуги, ни какого бы то ни было человеческого общества — словом, ни единой живой души! Так и жил он один-одинешенек в своем маленьком пасторском домике, уединенно стоявшем в стороне, приютившись под нависшей над ним скалой, прозванной «Висячий Шоу». Несмотря на странную, почти полную неподвижность его словно застывшего лица, напоминавшего маску, глаза старого пастора постоянно тревожно блуждали по сторонам, как будто он чего-то опасался, и дико сверкали из-под нависших бровей. Когда во время исповеди взгляд его останавливался на кающемся, которого достопочтенный Соулис по долгу своего служения обыкновенно строго увещевал, внушительно говоря о будущей жизни и о том, что ждет там, за гробом, нераскаявшихся грешников, то исповедующемуся начинало казаться, что взгляд священника проникает в даль будущего и видит там все ужасы вечных мук, уготованных грешникам. Многие молодые люди, приходившие к пастору готовиться к первому приобщению Святых Тайн, оставались глубоко потрясенными его речами и наставлениями на долгое время.
Каждый год, в первое воскресенье после 17-го августа, настоятель больвирийского прихода имел обыкновение произносить проповедь на тему «Дьявол — как лев рыкающий», и всегда в этот день он старался превзойти себя как в силе развития этой и без того уже устрашающей темы, приводившей в ужас и трепет его паству, так и по неистовству своего поведения на кафедре в этот день. С детьми от страха приключались припадки, многие падали без чувств, взрослые и старики буквально цепенели от ужаса и смотрели мрачно и таинственно, а после того весь день говорили теми странными намеками, какими любил выражаться Гамлет.
Люди осторожные, гордившиеся своим благоразумием, еще с самого момента водворения мистера Соулиса на должности пастора этого прихода стали обходить в сумерки и в поздний вечерний час дом пастора. Даже то место, где стоял дом в тени нескольких старых толстых деревьев над самой рекой Дьюль, с нависшим над ним с одной стороны угрюмым утесом Шоу, а другой стороной обращенный к громоздившимся чуть не к самому небу, поросшим мхом вершинам мрачных холодных гор, — среди местного населения считалось недобрым. Проводники и те, сидя вечерами в маленькой таверне местечка, сокрушенно качали головами при мысли о необходимости пройти поздним вечером или ночью мимо этого нечистого места. С особой опаской поглядывали люди на одно небольшое местечко у самого дома — оно пользовалось чрезвычайно скверной репутацией и внушало обывателям какой-то особенно суеверный страх.
Дом пастора расположился между большой проезжей дорогой и рекой — одной стороной к дороге, а другой к потоку. Задний фасад его был обращен к городку Больвири, лежащему в полумиле от дома, а передний фасад выходил в обнесенный живой изгородью из терновника жалкий, запущенный сад. Сад этот занимал все пространство от дороги до реки, а дом стоял как раз посередине. Дом был двухэтажным, и на каждом этаже находилось по две больших хороших комнаты; здание выходило не прямо в сад, а на узкую насыпную дорожку, упиравшуюся одним концом в большую дорогу, а другим доходившую до старых ив и бузины, что росли на берегу реки. Вот именно эта-то дорожка, этот небольшой кусочек шоссе перед окнами пасторского дома, и пользовался среди юных прихожан больвирийского прихода особенно дурной славой. Но пастор часто по вечерам, когда уже стемнеет, долго прохаживался по ней взад-вперед, иногда громко вздыхая от полноты чувств, вознося к Богу усердную молитву без слов. Когда же его не бывало дома и люди знали, что священник находится в отсутствии, потому что на дверях дома висел замок, самые отчаянные смельчаки из школьников отваживались, крикнув предварительно товарищам: «Ребята, за мной!» — пробежать по этой дорожке, чтобы потом хвастать перед другими, что они побывали в том страшном месте.
Эта атмосфера суеверного ужаса, окружавшая, как это было в данном случае, служителя божьего, человека во всех отношениях безупречного, глубоко религиозного, даже праведного, постоянно возбуждала удивление и недоумение и вызывала бесконечные расспросы со стороны всех тех немногих приезжих посторонних лиц, которые случайно или по делам оказывались в этой захолустной малоизвестной местности. Впрочем, даже многие из прихожан местного прихода не знали ничего о странных событиях, ознаменовавших первый год служения мистера Соулиса в приходе, а среди тех, кто был лучше осведомлен об этом, многие были по природе своей людьми необщительными и воздержанными на язык, другие же просто боялись касаться этого предмета и избегали говорить о нем. Только, бывало, в кои веки кто-нибудь из стариков расхрабрится после третьего стаканчика, и когда винцо развяжет ему язык, возьмет да и расскажет, какая тому причина, что у пастора всегда такой угрюмый, мрачный вид и почему он живет в полном одиночестве, как какой-нибудь отшельник.
Пятьдесят лет тому назад, когда мистер Соулис впервые прибыл в Больвири, он был еще совсем молодой человек, начитанный, ученый, как говорили люди, преисполненный всякого книжного знания и притом еще великий краснослов и усердный толкователь всяких писаний. Но, как того и следовало ожидать от человека в столь молодых летах, он при всем этом был совершенно неопытен в деле религии, а ведь для пастора это самое главное! Молодежь всего прихода была прямо-таки в восторге от него: она превозносила его знания, его образованность, дар слова, его вдохновенные речи и все прочие его таланты и способности, но старики и серьезные, степенные люди, как мужчины, так и женщины, неодобрительно покачивали головами, и вскоре дело дошло до того, что богобоязненные жители стали возносить молитвы богу об этом неразумном молодом человеке, моля Господа вразумить его. Они считали его за человека самообольщенного, заблудшего, лишенного всякого христианского смирения, а также молили Бога и за бедную паству, порученную такому плохому и ненадежному наставнику.
Это было еще до торжества и победы «умеренных», но ведь все дурное никогда не приходит разом, а мало-помалу, капля за каплей, частичка за частичкой. Впрочем, и тогда уже были люди, которые говорили, что Господь отвернулся от профессоров в колледжах и предоставил их своим заблуждениям и их собственному слабому разуму. И потому юноши, отправлявшиеся в колледжи учиться у этих профессоров и набираться от них ума-разума, лучше сделали бы, если бы остались дома и отправились копать торф на болотах, как их предшественники до времен гонений, у которых всегда была Библия под мышкой, а в сердце — доброе молитвенное настроение. Во всяком случае не подлежало сомнению, что мистер Соулис слишком долго пробыл в колледже. Он очень много думал и заботился о таких вещах, которые, в сущности, были вовсе не нужны. Он привез с собой целый ворох книг, гораздо больше, чем их когда-либо видели в этом приходе. О, сколько горя и бед натерпелись с ними возчики, они чуть было совсем не завязли с этим грузом в болоте у Чертова Логовища, на полпути между нашим местечком и Кильмаккерли. Говорят, что все это были божественные книги, или, быть может, их только так называли — кто их знает!.. Но люди серьезные и рассудительные были того мнения, что все это пустое. Какая могла быть надобность и польза в стольких божественных книгах, когда все-то слово Божье можно унести в одном небольшом узелке.
И сидел новоявленный пастор, бывало, над этими книгами целыми днями, а часто даже и ночами, что едва ли приличествовало его званию, и все писал что-то, все писал… Сначала все было переполошились — испугались, что молодой священник станет, пожалуй, проповеди свои по книгам читать, но вскоре успокоились: оказалось, что он сам какую-то книгу пишет, что уж, конечно, было совершенно непристойно и неприлично для пастора, да и что мог он написать путного в своем-то возрасте и со своим малым опытом.
Но вот понадобилась мистеру Соулису какая-нибудь старая приличная женщина, чтобы смотреть за порядком в его доме, вести хозяйство и кормить его обедом. Кто-то из доброхотов порекомендовал ему старую негодницу Джанет Мак-Клоур, так по крайней мере ее звали все в нашем местечке, — порекомендовал, а затем предоставил самому решать, на ком остановить свой выбор. Многие пытались отсоветовать пастору брать к себе в дом эту женщину, потому что Джанет была более чем на подозрении у большинства лучших жителей Больвири. Еще когда-то давно она питала нежные чувства к одному драгуну, а затем чуть не тридцать лет не ходила к исповеди и к причастию; кроме того, некоторые парни видели, как она шатается одна в сумерки и даже поздним вечером по таким местам, куда ни одна порядочная и богобоязненная женщина и заглянуть не решится, и все ходит и бормочет что-то про себя, а что — никто разобрать не может! Ну, как бы то ни было, а указал на нее первым пастору наш местный лорд. В ту пору мистер Соулис так дружил с лордом, что не было на свете такой вещи, которой бы он не сделал ему в угоду. Когда люди говорили ему, что Джанет сродни дьяволу и что она предалась нечистому, то молодой священник отвечал, что все это вздор, глупые суеверия, — вот какого он был тогда мнения о таких вещах. А когда перед ним раскрыли Библию на том месте, где упоминается об эндорской колдунье, он захлопнул книгу и сказал, что те времена давно прошли, что никаких колдуний на свете больше нет и что теперь милостью Божьей дьявол укрощен и побежден.
Когда всему клану стало известно, что Джанет Мак-Клоур поступает в услужение к пастору мистеру Соулису, то народ прямо-таки словно с цепи сорвался: все обозлились на нее, да и на него вместе с нею, и некоторые женщины, преимущественно жены проводников, которым все равно делать нечего, собрались у двери ее дома, обступили его со всех сторон и ну попрекать и корить ее всячески. И срамили они ее как только могли, всем, что только было известно о ней, и даже тем, что никому не было известно и чего, быть может, никогда и не было… И солдатом ее попрекали, и парнями, и двумя ключами Джона Томсона, которых она, быть может, никогда и в глаза не видала, и попрекали, и срамили ее, и орали у нее под окнами что было мочи, так что было слышно даже на другом конце улицы.
Но Джанет, это вам всякий скажет, вообще была баба не говорливая — эта умела держать свой язык на привязи. Бывало, что ты ей ни говори, она словно и не слышит тебя, идет себе и губ не разжимает, как истукан какой, даже головы не поворотит, и вообще она ни в какие ссоры и дрязги с другими женщинами никогда не ввязывалась, никого не задевала и всегда проходила сторонкой мимо всякого шума или неурядицы, а потому люди обыкновенно не мешали ей следовать своей дорогой, и она, со своей стороны, предоставляла им идти их путем, и при встрече всегда проходила мимо, не сказав никому ни «здравствуйте», ни «прощайте», не пожелав никому ни доброго вечера, ни доброго дня. Только когда удавалось кому-нибудь вывести ее из себя, о, тогда у нее неизвестно откуда что и бралось! Язык у Джанет был такой, что мельничному жернову было за ним не угнаться; даже мельника она оглушить могла, а уж тот ли к шуму не привычен!
И вот, как встала она, да вышла тогда к женщинам, да как принялась их всех честить на чем свет стоит — так все-то самые старые, самые гнусные сплетни, какие когда-либо ходили по Больвири, все-то она откуда-то повыкопала да и выложила им все разом. А если кто из женщин скажет слово, она на него тотчас два, и десять, и двадцать, пока, наконец, те не рассвирепели и не накинулись на нее скопом, схватили, сорвали с нее платье, да и поволокли через все местечко к воде, к реке Дьюль, чтобы испытать, ведьма Джанет на самом деле или нет, и посмотреть, потонет она или выплывет. А негодница эта ну давай орать, и вопить, и кричать так, что ее и под Висячим Шоу слышно было, и отбивалась она от своих преследовательниц, как десять женщин, — такая у нее сила была, и царапала, и щипала, и колотила их направо и налево, и не одна из проводниковых жен еще долго после того носила на своем теле и на лице следы ее ногтей и кулаков. И в самый-то разгар побоища, как вы думаете, кто явился к ней на выручку? Не кто иной, как наш новый пастор.
— Женщины! — крикнул он, а голос у него был зычный. — Приказываю вам именем Господа отпустить ее!
Тогда эта бесстыдница Джанет прямо, можно сказать, обезумела от страха, кинулась к нему, повисла на нем и молила ради Христа заступиться за нее и спасти от этих кумушек, а те со своей стороны стали выговаривать молодому священнику все, что о ней было известно, и принялись поносить ее всячески и даже больше того — сказали, что на самом деле было, но и это не помогло.
— Женщина, — обратился пастор к Джанет, — правда ли то, что они говорят? — А сам глядит на нее строго, прямо в упор.
— Вот видит Бог, который знает все мои прегрешения! — воскликнула она. — Он знает, что во всем этом нет ни единого слова правды! Бог свидетель! Кроме одного только случая — был у меня парень, которого я любила, — я всю жизнь свою была честной женщиной!
— Так согласна ты, — спрашивает ее мистер Соулис, — перед Господом Богом и передо мной, его недостойным и смиренным служителем, отречься от дьявола и всех дел его?
Когда он спросил ее так, то она, как говорят люди, точно вся перекосилась, да так, что тем, кто ее тогда видел, даже страшно стало, и все слышали, что у нее даже зубы застучали как в страшной лихорадке. Но делать было нечего, надо было говорить либо «да», либо «нет», и вот Джанет в присутствии всех подняла вверх руку, как для клятвы, и перед всем народом отреклась от дьявола и всех дел его.
— Ну, а теперь, — проговорил мистер Соулис, обращаясь к местным жительницам и женам проводников, — марш немедленно по домам, все до одной, и молите Бога, чтобы он отпустил вам ваши грехи!
А сам предложил Джанет руку, хотя на ней не было ничего, кроме одной сорочки, и повел ее через все наше местечко к ее дому и проводил до самых дверей, словно она была какая-нибудь знатная местная леди. А она и кричала, и хохотала и причитала так, что слушать-то было зазорно; пастор же словно ничего и не слыхал.
Но в ту же ночь многие почтенные и уважаемые люди долго не ложились и всё молились, а когда настало утро, то такой страх овладел всем нашим местечком и всей округой Больвири, что и сказать вам нельзя: ребятишки все куда попало попрятались, молодые парни глаз показать на улицу не смели, да и пожилые и старые люди тоже стояли и боялись от своих дверей отойти, а только с порога глядели. По улице шла Джанет, или ее двойник, кто ее знает, а шея у нее скрючена, и голова свесилась на сторону, точь-в-точь как у мертвеца, которого только что из петли вынули, и лицо все перекошено. Мало-помалу к этому привыкли и стали даже расспрашивать ее, что такое с ней приключилось. Но с того дня она уже не могла говорить, как все крещеные люди, а только, бывало, слюни пускает, да лопочет что-то, словно мычит, да зубами стучит и челюсти сводит и разводит точно ножницы, и вот с этого самого дня имя Божье ни разу не сходило у нее с языка. Даже когда она старалась произнести его, все равно ничего не выходило!
Те, что всех больше знали и понимали, ничего не говорили и молчали об этом деле, да и вообще народ боялся упоминать об этом. Но с того времени уже никто никогда не называл ее прежним именем, Джанет Мак-Клоур, потому что все считали, что старая Джанет в тот день в ад кромешный попала. Но пастора нашего ни унять, ни урезонить нельзя было тогда ничем! Долго он угомониться не мог. Все грозные-прегрозные проповеди говорил о жестокосердии, о человеческой злобе и несправедливости и корил местных прихожанок и грозил им гневом Божьим за то, что через их злобу и жестокость несчастную женщину параличом разбило, и долго он ни о чем другом не говорил. А парней, которые дразнили ее и смеялись над ней, он тоже строго журил и корил и в ту же ночь взял ее к себе в дом и стал жить с ней там один под темным утесом Висячий Шоу.
Между тем время шло своим чередом, и люди более легкомысленные и праздные стали легче смотреть на это темное дело. О пасторе все стали лучшего мнения, чем поначалу, хотя он по-прежнему просиживал до поздней ночи за своим писанием, и люди часто видели, как над рекой Дьюль в его окне далеко за полночь мерцало пламя свечи. Казалось, что мистер Соулис был доволен собой и своей судьбой, но все стали со временем замечать, что он как будто начал чахнуть. Что же касается Джанет, то она молча делала свое дело, уходила и приходила, хлопотала на кухне и по дому, и если раньше она была не ахти как говорлива, то теперь у нее была основательная причина стать еще более молчаливой. Она никого не трогала, но на нее жутко было смотреть, и никто во всей больвирийской округе не решился бы довериться ей.
В конце июля того года наступила невиданная перемена погоды; никогда ничего подобного не бывало в этой местности. Стало до того душно, жарко и томительно, что стада невозможно было загнать на Черный Холм, потому что скотина совсем ослабла и еле шла в гору. Даже молодые парни и ребятишки уставали играть и резвиться — всех одолевала жара. Особенно душно, нестерпимо изнуряюще и даже жутко становилось, когда временами вдруг начинал дуть горячий ветер — он шумел в поникших кронах деревьев, свистел по полям и лугам, по горам и долинам, или вдруг проносился короткий ливень, ничего решительно не освежавший и не оживлявший. Сколько раз все ожидали, что назавтра соберется большущая гроза, но наступало и завтра, и послезавтра, а погода стояла все та же, и никакой грозы и в помине не было. Все страдали от жары и духоты: и люди, и скот, но из всех изнемогавших в это время живых существ никто не страдал и не мучился так сильно, как мистер Соулис. Он не мог ни спать, ни есть, как он сам говорил своему епархиальному начальству, и когда он не сидел над писанием своей книги, то бродил целыми часами по окрестностям, как человек, не находящий себе нигде покоя, тогда как все другие обыватели прятались по домам, укрываясь от зноя.
Над Висячим Шоу перед Черным Холмом, где обыкновенно паслись стада, есть клочок земли, обнесенный каменной оградой с железными решетчатыми воротами. Как видно, в прежние времена это было кладбище больвирийского прихода, освященное еще папистами, задолго до того благословенного времени, когда над нашей страной и над всем нашим королевством занялся свет истинной веры. Как бы там ни было, только это старое кладбище стало излюбленным местом пастора Соулиса. Здесь он часто подолгу сидел и обдумывал свои проповеди, любуясь открывавшимся отсюда видом. Местечко это было живописное, и вид с него был действительно очень красивый — настоящая картина! Однажды взобрался мистер Соулис на Черный Холм и вышел на самое просторное его место и вдруг видит поначалу двух, а там и четырех, а затем и целых семь воронов, летающих и кружащихся над одним местом на старом кладбище. И летают они то легко и весело, то тяжело и грузно, словно им трудно махать крылами и каркать все время без умолку, словно перекликаясь друг с другом. Молодому священнику сразу стало ясно, что воронов встревожило что-то необычайное, однако его нелегко было напугать, нетрусливого он был десятка, наш пастор Соулис, а потому и пошел прямо к ограде, чтобы посмотреть, в чем дело. И как вы думаете, что он там увидел? Видит — человек сидит, или, быть может, то был только с виду человек; сидит в ограде, на одной из могил, рослый, плечистый и черный, что сажа[6], словно он из чертова пекла вылез, и глаза у него такие странные, страшные. Мистер Соулис не раз слыхал рассказы о черных людях и много читал о них, но было что-то недоброе в этом черном человеке, которого он теперь ясно видел перед собой, и как ни было ему жарко, а все же пробрала его дрожь до самого мозга костей. Но наш священник был человек смелый и заговорил с черным: «Вы, вероятно, чужой здесь, мой друг?» — спросил он того. Но черный ничего не ответил, а только вскочил на ноги и побежал к противоположной стене ограды и все оглядывался на пастора, а тот стоял на прежнем месте и тоже все смотрел на черного до тех пор, пока тот в одну минуту не перескочил через ограду и не стал спускаться бегом вниз с холма, прямо к чаще деревьев, росших неподалеку от Черного Холма. Мистер Соулис, сам не зная зачем, побежал за ним следом, но был слишком утомлен и обессилен и жарой, и своей прогулкой по этой жаре, и истомлен тяжелой душной погодой, и как он ни торопился, а угнаться за незнакомцем не мог. Чернокожий только мелькнул между березами и спустился вниз по склону холма, и затем пастор опять увидел, как тот большими прыжками перебирался через реку Дьюль вброд, прямо по направлению к пасторскому дому.
Мистер Соулис, конечно, не был доволен тем, что эта отвратительная черная образина так бесцеремонно направляется в его дом, и пустился бежать пуще прежнего. Минуту спустя и он перебрался через речку вброд, пробежал по дорожке, но никакого черного человека нигде не было видно. Тогда священник вышел на большую дорогу, посмотрел и в одну, и в другую сторону — нигде никого! Он обошел весь сад, но и в саду не было чернокожего; тогда, в конце концов, несколько встревоженный и напуганный, что было вполне естественно, он взялся за щеколду двери и вошел в дом. Здесь на самом пороге его глазам предстала Джанет Мак-Клоур со скрюченной шеей и как будто не особенно довольная тем, что видит хозяина. А после пастор вспомнил, что когда он в тот раз взглянул на нее, то почувствовал ту же холодную смертельную дрожь, какую испытал только что там, наверху, у кладбищенской ограды при виде чернокожего незнакомца.
— Джанет, — спросил он, — не видали ли вы здесь черного человека?
— Черного человека? — переспросила она. — Что вы, бог с вами! Ну, разумный ли вы человек после этого, а еще пастор! Да во всем Больвири не сыскать ни одного черного.
Ну, конечно, она говорила не так ясно и чисто, как все люди, а шамкала и слюнявила как деревенская лошаденка, когда жует овес.
— Ну, Джанет, — произнес мистер Соулис, — если здесь не было черного человека, то, значит, я говорил с самим чертом!
И с этими словами пастор опустился на стул как подкошенный, и трясло его как в лихорадке, так что зубы стучали.
— Стыдно вам говорить такой вздор! А еще настоятель прихода! — пробормотала или прошамкала прислуга и принесла ему глоток водки, которую всегда имела у себя в запасе.
Мистер Соулис выпил водку и отправился в свою комнату, где и засел за свои книги. То была длинная, довольно темная комната, страшно холодная зимой и даже в самый разгар лета довольно сырая и промозглая вследствие того, что дом стоял над самой водой, да и вся местность здесь в округе была сырая и болотистая. Сел пастор к своему столу и стал размышлять обо всем, что с ним случилось с тех самых пор, как он поселился здесь, в Больвири, а также и в то время, когда он еще жил дома, когда еще был мальчиком и бегал по горам и купался в ручьях, а черный человек нет-нет да и предстанет вдруг перед ним среди этих приятных воспоминаний, врывается ни с того ни с сего в его мысли. И чем больше старался он думать о другом, тем чаще возвращался к мыслям о черномазом. Он пытался молиться, но слова молитвы вылетали у него из головы, и бедняга никак не мог их припомнить; тогда он принимался писать свою книгу, но и из этого тоже ничего не выходило. Бывали минуты, когда ему начинало казаться, что черный человек сидит где-то в нем самом, но в другие минуты священник приходил в себя и рассуждал как добрый христианин, и тогда ему казалось, что нигде ничего нет, и даже не помнил ничего из того, что происходило с ним всего за одну минуту до этого.
Наконец, пастор Соулис встал, подошел к окну и стал смотреть на воду реки Дьюль. Деревья у берега растут густо, а река бежит глубоко внизу, под горкой, и кажется в этом месте, перед домом, совсем черной; а на ее берегу стояла Джанет и полоскала свое тряпье, высоко подоткнув подол юбки, чтобы не замочить. Она стояла спиной к дому и к пастору, а тот едва осознавал, на что он смотрит. Но вот она обернулась, и он увидел лицо женщины. И при этом у него опять дрожь пробежала по всему телу, как уже дважды случилось перед этим в тот самый день. И вдруг священнику пришло в голову, что люди поговаривают о том, будто Джанет давно умерла, а это существо, живущее у него в доме, просто оборотень, принявший ее облик и вселившийся в ее тело. Тут молодой пастор отступил немножко от окна и стал пристально ее разглядывать. Смотрит он и видит, что женщина топчется там, у воды, полощет, нагнувшись, свое белье и что-то каркает про себя… И, прости Господи, какое у нее было страшное лицо! А она пела все громче и громче, но ни один рожденный от женщины человек не мог бы сказать вам слов ее песни. А она нет-нет да и скосит глаза в сторону, книзу, хотя и смотреть-то там ей было не на что. Дрожь опять пробежала по всему телу пастора Соулиса, и он почувствовал, что озноб добрался уже до самых костей. Это, видите ли вы, было божеское предостережение ему, но мистер Соулис принялся даже корить себя за такие мысли. Он упрекал себя в том, что так дурно подумал о бедной женщине, старой и больной, которую и без того постигло тяжелое несчастье и у которой не было в целом мире ни близких, ни родных, ни друзей, кроме его одного. И он стал молиться за нее и за себя, а потом пошел и испил холодной водицы и как будто несколько успокоился; есть он не хотел, потому что при виде мяса его начинало тошнить. Напившись воды, он добрался впотьмах до своей спальни и улегся в свою холодную, неуютную, ничем не завешенную постель.
Наступившую ночь никто в Больвири никогда не забудет! Это была ночь на 17-е августа 1712 года. День перед тем, как я уже говорил раньше, был жаркий, томительный, но ночь была еще жарче, еще мучительнее: было так душно и так тягостно, как еще никогда прежде не бывало. Солнце зашло среди темных, почти черных туч, не предвещавших ничего хорошего, а потому темень стояла такая густая, словно на дне глубокого колодца. На небе не было видно ни единой звездочки, в воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка; невозможно было разглядеть свою собственную ладонь, даже поднеся ее почти к самым глазам! Старые люди и те посбрасывали с себя все одеяла и покрывала и лежали на своих кроватях в полной наготе, задыхаясь от жары и духоты, потому что и в домах, по обыкновению прохладных летом, дышать было нечем. Ну а уж со всеми теми мыслями, какие бродили в эту ночь в голове мистера Соулиса, конечно, едва ли можно было заснуть, хотя бы только на минуту. Он, как говорится, глаз сомкнуть не мог, а лежал и ворочался с боку на бок, и хотя постель у него была хорошая, прохладная, она жгла его как огонь, прожигала до самых костей. И когда он иногда впадал в минутное забытье, а затем снова пробуждался, томясь все время между явью и дремотой, несчастный тоскливо отсчитывал часы бесконечной ночи и слушал однообразный заунывный вой собаки где-то там, на болоте, и думал, что она воет точно по покойнику.
Временами священнику казалось, что он слышит, как какие-то чудища возятся в своем логовище, а временами у него перед глазами возникали бесчисленные гнилушки, светящиеся, как светлячки, словно раскиданные повсюду в его комнате. Принимая все это в соображение, пастор Соулис решил, что он, вероятно, заболел.
И он действительно был болен; как ни мало верил в болезнь, как ни мало желал он ее, все же он был болен. Однако мало-помалу у него как будто стало проясняться в голове; бедняга уселся в своей кровати в одной рубашке, как был, и, спустив ноги на пол, хотел встать, пройтись, но вдруг задумался о чернокожем и о Джанет, и затем, сам не зная как и почему, потому ли, что у него ноги озябли, или по другой какой причине, только ему вдруг пришло в голову, что между этими двумя, то есть между Джанет и черным незнакомцем, есть какая-то связь, что между ними есть что-то общее и что каждый из них или оба они оборотни!
И вот, в тот самый момент, как он подумал об этом, в комнате Джанет, смежной с его собственной комнатой, пастор услышал какой-то странный шум и возню, как будто там двое боролись между собой. Затем вдруг послышались сдавленный крик и громкий удар, как если бы кто-нибудь сильно хлопнул дверью. В это же самое время ветер во дворе вдруг задул разом со всех четырех сторон дома и со свистом пронесся над крышей, а потом все снова стало безмолвно и недвижно, как в могиле.
Надо вам сказать, что мистер Соулис не боялся ни людей, ни чертей, а потому он взял со стола коробок спичек, зажег свечу и сделал три шага по направлению к двери, ведущей в комнату Джанет с лестничной площадки. Дверь оказалась заперта на щеколду. Пастор отодвинул засов, отворил дверь и смело заглянул в комнату. Это была большая просторная комната, такая же, как его собственная; вся она была заставлена старинной прочной, но громоздкой мебелью — другой мебели в доме священника не было. Тут стояли и широкая старинная кровать с балдахином на четырех витых колонках, с пестрым, затканным крупными цветами пологом из старинной полинялой ткани, и громадный, пузатый коричневый комод из старого дуба, битком набитый божественными книгами хозяина дома. Комод этот нарочно был поставлен здесь, чтобы не был на виду у всех приходивших к пастору посетителей.
На полу были разбросаны в большом беспорядке различные вещи Джанет, но ее самой мистер Соулис нигде не видел. К тому же, кроме этого беспорядка, никаких других признаков борьбы в комнате заметно не было. Он переступил порог, несмело вошел в комнату (не всякий пастор на его месте и при таких условиях решился бы последовать его примеру). Оглядевшись, он прислушался, но нигде ничего не было слышно: ни в доме, ни на дворе, ни даже во всем больвирийском приходе, а также ничего не было видно, кроме странных теней, мечущихся вокруг пламени свечи. Но вдруг сердце дрогнуло в груди у пастора и замерло, точно совсем остановилось; холодный пот выступил у него на лбу, на голове волосы встали дыбом. Страшное зрелище предстало глазам бедного священника: между большим платяным шкафом и старым дубовым комодом на гвозде, вбитом в стену, висела Джанет. Голова у нее, как и всегда, свешивалась на плечо, глаза выкатились из орбит и застыли, точно стеклянные, язык высунулся изо рта и висел наружу, как у подохшей собаки, а ноги болтались на воздухе, фута на два от пола.
«Господи, спаси и помилуй нас, грешных! — подумал мистер Соулис. — Бедная Джанет, она уже умерла!»
Он подошел к трупу поближе, и в этот момент сердце чуть не разорвалось у него в груди. Каким колдовством или каким чудом она могла быть удавлена, об этом пусть теперь каждый сам рассудит. Джанет висела на одном маленьком гвоздике, на одной только тоненькой шерстинке, такой, какими обыкновенно штопают носки.
Страшное это дело — оказаться в таком положении ночью одному, среди мрака кромешного в пустом доме, да еще при такой обстановке! Но мистер Соулис был силен духом в Боге. Он спокойно повернулся и пошел вон из комнаты. Закрыв за собой плотно дверь, он замкнул ее на ключ снаружи и стал медленно, шаг за шагом, в глубоком раздумье спускаться с лестницы. Ноги у него были тяжелы, точно свинцом налитые, и когда он наконец сошел вниз, то поставил свечу на стол, стоявший у самой лестницы, а сам остался стоять у этого стола.
Он не был в состоянии ни молиться, ни думать; холодный пот так и катился по его бледному лбу. Он ничего перед собой не видел и не слышал, ничего, кроме страшно громкого биения собственного сердца, стучавшего как-то глухо, но в то же время гулко и как-то неровно, точно судорожно: туки, туки-туки, туки… и опять, и опять, все так же, то торопливо, то с задержкой. Может быть, он простоял здесь час, а может, и два, он этого не помнил, но вот он услыхал там, наверху, словно какой-то легкий шум. Чьи-то осторожные шаги доносились со второго этажа; они двигались взад-вперед, будто там ходил кто-нибудь, в той комнате, где находилось мертвое тело. Немного погодя дверь тихонько отворилась, хотя мистер Соулис отлично помнил, что, выйдя, запер ее снаружи на ключ, затем послышались шаги на площадке лестницы, и ему показалось, что труп перевесился через перила и смотрит вниз — как раз на то место, где он стоял.
Тогда он взял свечу (без свечи пастор уже никак не мог обойтись) и как только мог осторожнее вышел из дома на улицу и направился в самый дальний конец посыпанной гравием дорожки, проходившей по фасаду перед окнами его дома. На дворе было так темно, что просто зги не видать, что называется, хоть глаз выколи, и когда он поставил свечу на землю, то пламя ее даже не колыхнулось, она горела ясно и спокойно, будто в комнате. Нигде в округе ничто не шелохнулось, только вода в реке Дьюль чуть слышно бежала по каменистому дну вниз в долину да там, в доме, слышались тихие жуткие шаги, как будто кто-то с трудом, не спеша спускался с лестницы. Мистер Соулис слишком хорошо знал эту походку: это были шаги Джанет, и с каждым шагом, который приближал ее понемногу к нему, холод и озноб все глубже проникали в его тело. Несчастный мысленно поручил свою душу Создателю и мысленно помолился: «О Господи! Дай мне силы в сию ночь отразить от себя власть нечистого и огради меня от всяческого зла!»
Тем временем некто, или, вернее, нечто уже спустилось с лестницы и направилось через переднюю к выходу из дома; он слышал, как вели рукой по стене, словно нащупывали впотьмах дорогу.
Вдруг ивы над рекой закачались, зашумели своей мелкой листвой, закивали своими тонкими верхушками; над соседними холмами пронесся точно глубокий вздох, пламя свечи заколыхалось и чуть было не погасло, и теперь Джанет со свернутой шеей, в своем темном затасканном платье и черной косынке на плечах, с головой, свесившейся набок, и кривой улыбкой на лице стояла на пороге дома, как живая. Но пастор знал, что она умерла, и знал, что там, на пороге, стоит не она, а ее труп.
Странное это дело, что душа, бессмертная душа человека, может так содрогаться в его бренном, смертном теле, но священник убедился в этом на личном опыте, и при этом сердце его не разорвалось, выдержало.
Джанет недолго стояла на пороге — она стала медленно продвигаться вперед, постепенно приближаясь к мистеру Соулису, к тому месту, где он, ошеломленный, стоял под старыми ивами над рекой. Казалось, будто все силы ее души, вся энергия ее ума светились теперь в ее глазах; казалось, она готова была заговорить, но не находила слов, а потому только сделала знак левой рукой. Вдруг откуда-то налетел страшный порыв ветра и злобно зашипел, точно раздраженная злая кошка, и задул свечу. Ивы застонали точно живые люди. А мистер Соулис почувствовал, что будь как будет, жить так жить, а умирать так умирать, но что происходящему во всяком случае надо положить конец!
— Ведьма, нечисть или дьявол! Кто б ты ни был, — крикнул он, и голос его звучал громко и грозно, — заклинаю тебя властью, данной мне от Бога: сгинь! Пропади! Рассыпься прахом!.. Если ты мертвец — изыди в могилу! Если ты проклятый — изыди в ад!
И в этот самый момент Перст Божий поразил с неба оборотня на том самом месте, где он стоял. Страшное мертвое тело, тело старой колдуньи и нежити, на многие годы вырванное чертями из могилы и столько времени тасканное ими по белу свету на грех и соблазн добрым людям, вспыхнуло, как искра на кремне, и рассыпалось пеплом по земле. Гром загремел удар за ударом, самое небо содрогнулось, и проливной дождь хлынул разом как из ведра. Мистер Соулис перескочил через изгородь сада и как был, в одной ночной сорочке, бросился бежать большущими прыжками прямо по направлению к нашему местечку.
На следующее утро Джон Кристи видел черного человека, когда тот проходил мимо Мекль-Каирн ровно в шесть утра, около восьми он проходил мимо менялы в Нокдоу, а вскоре после того Мак-Леллан видел, как тот бежал под откос от Кильмаккерли. Нет сомнения, что это он так долго пребывал в теле и в образе старой Джанет, но наконец он убрался, и с той поры дьявол не показывал больше своих глаз здесь, в Больвири.
Но нелегко досталась нашему пастору эта победа — долго-долго лежал он после того в бреду, не вставая с постели, и с того часа и по сие время он стал таким, каким вы видите его теперь.
Клад под развалинами Франшарского монастыря
I
Подле умирающего паяца
Еще не было и шести, когда послали в Буррон за доктором; около восьми крестьяне стали сходиться, чтобы посмотреть предполагавшееся представление. Собравшимся сообщили о случившемся, они стали расходиться по домам, весьма недовольные тем, что какой-то паяц позволил себе вольность заболеть как настоящие порядочные люди. В десять часов госпожа Тентальон встревожилась не на шутку и, не дождавшись доктора из Буррона, отправила слугу за доктором Депрэ, проживавшим поблизости.
В то время, когда явился посыльный, доктор сидел над своими рукописями в одном конце небольшой столовой, а его жена мирно дремала в кресле перед камином в другом ее конце.
— О, черт возьми! — воскликнул господин Депрэ. — Вам нужно было послать за мной раньше. В таких случаях нельзя медлить! — И он последовал за посыльным в том, в чем был, то есть в туфлях и домашнем платье.
Гостиница находилась всего в каких-нибудь тридцати шагах от его дома. Но посланец не остановился у парадного ее входа, а, войдя в одну дверь, вышел в другую на задний двор, затем прошел вперед, указывая доктору дорогу, вверх по узкой деревянной лесенке подле конюшен, на чердак, служивший иногда сеновалом, — там лежал больной паяц.
Если бы доктор Депрэ прожил тысячу лет, то и тогда он не забыл бы того момента, когда впервые вошел в это помещение. Представившаяся его глазам картина была настолько живописна и необычайна, что запечатлелась в его памяти, и момент этот, определенно, стал событием в его жизни. Обыкновенно мы вспоминаем свою жизнь — не знаю почему — с первой нашей неудачи в обществе, так сказать, с первого нашего ощущения чувства унижения. Не заглядывая далеко назад, что могли бы воспринять как излишнее любопытство, — хотя в жизни каждого человека бывает немало таких потрясающих и знаменательных случаев, которые могут считаться столь же важными вехами жизни, как и факт самого рождения, — мы только скажем, что доктор Депрэ, которому было уже за сорок лет и который совершил не одну ошибку в своей жизни и даже был женат, отворив дверь этой каморки на чердаке над конюшнями госпожи Тентальон, вступил в новый период своей жизни.
Каморка эта была довольно большая, но почти совершенно пустая, освещенная всего только одной свечкой, стоявшей на полу. Больной паяц лежал на спине на жалкой узкой койке; это был мужчина большого роста, с длинным тонким, покрасневшим от пьянства носом, придававшим его физиономии некоторое сходство с Дон-Кихотом. Госпожа Тентальон, наклонившись над ним, прикладывала ему к ногам бутылки с горячей водой и горчичники, а на стуле возле постели больного сидел мальчуган лет одиннадцати или двенадцати, болтая тихонько ногами в воздухе.
В комнате, кроме этих троих, никого больше не было, если не считать теней. Но тени собрались в свою собственную тесную компанию; благодаря довольно большим размерам помещения тени удлинялись и увеличивались до невероятных, почти гигантских размеров, а благодаря тому, что свеча стояла на полу и свет уходил вверх, получались уродливые ракурсы. Резкий профиль паяца вырисовывался на стене в карикатурно увеличенном виде, и забавно было наблюдать, как нос его тени то укорачивается, то удлиняется, в зависимости от того, как колебалось от ветра пламя свечи. Что же касается госпожи Тентальон, то ее тень представляла собой просто громадное бесформенное пятно с округлостями плеч, над которыми время от времени появлялось полушарие гигантской головы. Ножки стула, на котором сидел мальчуган, вытянулись, точно ходули, и мальчик казался просто туманным облачком в самом дальнем углу под крышей.
Этот ребенок сразу привлек внимание доктора и с первой же минуты захватил его воображение. У него был крупный, хорошо развитой череп, а лоб и руки как у музыкантов, и при этом такие глаза, которые преследуют вас еще долго после того, как вы их увидели, — глаза, которые долго не забываются. И не потому, что они были как-то особенно красивы, не потому, что они были большие, пристально смотрящие в упор, чудного золотисто-карего цвета, нет, но у них был такой взгляд, который словно пронизывает вас, и доктор испытывал под ним какую-то неловкость, чувствовал себя словно не в своей тарелке. Он был уверен, что когда-то однажды уже видел именно такой взгляд, но никак не мог вспомнить, где и когда это было. Как будто у этого мальчика, который был ему совершенно чужой, которого он видел впервые в жизни, — как будто у него были глаза его давнишнего друга или старого недруга. И этот ребенок не давал ему покоя; он казался глубоко равнодушным ко всему, что происходило здесь вокруг него, или же поглощенным какими-то более серьезными размышлениями. Спокойно сложив руки на коленях, он слегка постукивал медленно покачивающимися ногами о перекладину стула, на котором сидел. Но при этом глаза его неотступно следили за доктором, следуя за ним по комнате, провожая каждое его движение пытливым настойчивым взглядом. Депрэ не мог решить, он ли гипнотизировал мальчугана или же мальчуган гипнотизировал его. Он склонялся над больным, щупал его Пулс, расспрашивал о симптомах, о ходе болезни, шутил, слегка горячился, даже выругался раза два, но, что бы он ни делал, когда бы он ни обернулся, всякий раз он встречал вопрошающий взгляд печальных карих глаз мальчика.
Наконец доктор как-то разом напал на разгадку мучившего его вопроса: он вдруг вспомнил, отчего ему были так странно знакомы глаза этого необычного ребенка. Хоть мальчуган был прям как струна и во всей его фигуре не было ни малейшего признака какой-либо уродливости, но глаза у него были такие, какие обыкновенно бывают у горбатых. Это был вполне нормально сложенный мальчик, но когда он смотрел на вас, то вам казалось, что на вас смотрит горбун. Господин Депрэ облегченно вздохнул. Он испытал необычайное удовлетворение при мысли, что нашел подтверждение своей теории (а к теориям он, положительно, имел пристрастие) и теперь мог объяснить себе причину, почему этот мальчуган так его заинтриговал.
Однако, несмотря на это, он с необычайной поспешностью постарался поскорее отделаться от больного и, все еще стоя одним коленом на полу у постели паяца, обернулся вполоборота и стал смотреть, не стесняясь, на мальчика.
Это нимало не сконфузило мальчугана, который в свою очередь совершенно спокойно взирал на доктора.
— Это твой отец? — опросил Депрэ, наконец.
— Ах, нет! — отозвался мальчик. — Это мой хозяин.
— Любишь ли ты его? — продолжал Депрэ.
— Нет, сударь, — ответил ребенок.
Госпожа Тентальон и доктор при этих словах переглянулись, затем последний продолжал, обращаясь опять же к мальчику:
— И тебе его не жаль?
— Нет, — последовал ответ.
— Это дурно, мой милый, — сказал доктор несколько суровым и наставительным тоном, — дурно, потому что всякий человек должен жалеть умирающего или же скрывать свои чувства, а твой хозяин теперь умирает. Если я иной раз всего несколько минут наблюдал, как какая-нибудь маленькая птичка клевала вишни в моем саду, я уже жалел ее, ведь она вспорхнет, и улетит за ограду моего сада, и полетит в лес, и скроется там; жалел, потому что больше ее не увижу. А здесь от нас уходит человек, существо сильное, осмысленное, проницательное, так богато одаренное всякими чувствами и способностями! Когда я только подумаю, что через несколько часов его уста умолкнут навсегда, что дыхание его прекратится и замрет и что даже тень его с этой стены безвозвратно исчезнет, я, никогда не видавший его до этого часа, и вот эта женщина, знавшая его только как своего постояльца, мы оба печалимся и жалеем его…
Мальчик некоторое время молчал и как будто размышлял про себя.
— Вы его не знали, — сказал он, наконец, — он был нехороший человек.
— Экий маленький безбожник! — промолвила хозяйка. — Впрочем, все они такие, — добавила она, — все эти паяцы, акробаты, канатные плясуны и всякие такие артисты. Нет у них души!.. Бесчувственные какие-то!
А доктор, сдвинув брови, продолжал внимательно вглядываться в этого маленького безжалостного человечка.
— А как тебя зовут? — продолжил он свои расспросы.
— Жан-Мари, — сказал мальчуган.
Депрэ подскочил к ребенку со свойственной ему порывистой живостью и возбужденностью и принялся ощупывать его череп со всех сторон, как это сделал бы френолог или этнолог.
— Кельт! Кельт! Несомненный кельт! — пробормотал он.
— Кельт! — повторила за ним госпожа Тентальон, вероятно, принявшая это слово за синоним «гидроцефала», и, полагая, что речь идет о водянке мозга, добавила: — Бедный ребенок! А что, это опасно?
— Это зависит от обстоятельств. Как когда! — почти угрюмо ответил доктор и затем снова обратился к мальчику: — А как ты жил до сих пор? Что ты делал, чтобы прокормиться, Жан-Мари?
— Я кувыркался, — просто ответил он.
— Кувыркался? — повторил за ним Депрэ. — Вероятно, это здорово. Я предполагаю, госпожа Тентальон, что кувыркаться — это весьма полезный для здоровья образ жизни. И что же, ты никогда ничего другого в своей жизни не делал и лишь кувыркался?
— Прежде чем я научился этому, я воровал, — заявил Жан-Мари совершенно серьезно, даже с некоторой важностью.
— Даю слово, что для своих лет ты удивительный человечек! — воскликнул Депрэ и затем обратился к хозяйке гостиницы: — Сударыня, когда приедет мой коллега из Буррона, потрудитесь передать ему мое мнение относительно больного. Я считаю его положение безнадежным, но в любом случае предоставляю все полностью на усмотрение коллеги. Конечно, если появятся какие-нибудь угрожающие симптомы до прибытия врача, ради бога, не стесняйтесь разбудить меня, я сейчас же явлюсь. Хотя я, слава богу, теперь уже не доктор, то есть не практикующий врач, но я был им когда-то… Спокойной ночи, госпожа Тентальон, спокойной ночи! Спи спокойно, Жан-Мари.
II
Утренняя беседа
Доктор Депрэ всегда вставал рано. Раньше, чем покажется первый во всем местечке дымок из трубы, раньше, чем прогремит на мосту первая телега, возвещая о начале трудового дня на полях, уже можно было наблюдать, как он бродит по саду около своего дома. То срывает гроздь винограда, то, остановившись под деревом, с аппетитом уплетает огромную сочную грушу, только что сорванную с ветки, а то сидит себе на скамеечке и рисует на песке дорожки самые причудливые фантастические линии и разводы концом тросточки. Или спустится к реке и примется наблюдать, как она безостановочно бежит мимо того места, где складывают в штабеля доски с лесопильного завода. Здесь доктор обыкновенно привязывал свою лодку.
— Нет лучшего времени, — говаривал он, — чем раннее утро, для создания теории и всякого иного умственного занятия. Я, — хвастал господин Депрэ, — встаю раньше всех в деревне и вследствие этого знаю больше других, но меньше других злоупотребляю тем, что знаю.
Благодаря этой своей привычке подниматься рано доктор стал настоящим знатоком восходов и любил, чтобы его день начинался этим красивым театральным эффектом. Он создал свою теорию о росах, по которой мог предсказывать погоду. В сущности, почти все служило ему для этой цели: и колокольный звон, доносящийся из церквей всех соседних деревень, и благоухание леса, и прилет и отлет птиц, и само поведение этих пернатых и даже рыб, и вид растений у него в саду, и состояние облаков у него над головой, и цвет восхода и заката, и, наконец, не в меньшей мере тому же служил целый арсенал метеорологических инструментов, хранившихся в ларе под навесом на лужайке в саду.
С тех самых пор, как господин Депрэ поселился и обосновался в Гретце, он все более и более превращался в местного метеоролога и бескорыстного и безвозмездного поборника местного климата, который восхвалял и превозносил при всяком удобном случае. Вначале он считал, что нет места более здорового во всей округе, но к концу второго года своего пребывания в этом местечке он уже стал утверждать, что не существует более здорового места во всем департаменте, то есть во всей провинции, а за некоторое время до того, как доктору пришлось встретиться с маленьким Жаном-Мари, он уже готов был бросить вызов не только всей Франции, но и большей части Европы в том, что нигде не найдется местечка по своим климатическим условиям лучшего, чем любимая его деревенька Гретц.
— «Доктор…» — говаривал он. — Скверное слово! Его не следовало бы произносить при дамах: оно вызывает ассоциации с болезнями. Но я замечал, и это настоящий бич нашей цивилизации, что мы недостаточно ненавидим болезни, не питаем к ним надлежащего отвращения. Что касается меня, то я умыл руки и отказался от почетного звания и обязанностей врача. Я уже, слава богу, больше не доктор, я просто ревностный поклонник и почитатель единой истинной богини — Гигиеи. И верьте мне, это она владеет венериным поясом! И здесь, в этой маленькой деревушке, она воздвигла свой храм, здесь она пребывает неизменно и щедрой рукой расточает людям свои дары. Здесь я каждое утро, рано на заре, гуляю в ее обществе, и она указывает мне на крестьян, которых сделала такими крепкими и здоровыми, на поля, которые она сделала такими плодородными, на деревья, которым дала такую пышность и красоту, на рыбок, таких веселых, проворных и опрятных, резвящихся в реке. Ревматизм! — восклицал он, когда какой-нибудь невежа позволял себе прервать его дифирамбы неуместным замечанием по поводу некоторых погрешностей в его словах. — О да, не спорю, у нас встречаются люди, жалующиеся на ревматизм, но ведь это же совершенно неизбежно, как вы сами понимаете, когда живешь над самой рекой. Ну а кроме того, место здесь низменное, луга болотистые, в этом нет никакого сомнения, но вы взгляните, милый мой, на Буррон! Буррон лежит высоко, Буррон окружен лесами и, следовательно, получает со всех сторон приток кислорода, скажете вы! Ну а сравните его с Гретцем! Буррон против нашего местечка — что мясные ряды против благоуханного сада, вот что я вам доложу! Да, сударь мой!
Наутро после того дня, когда его призывали к постели умирающего паяца, доктор Депрэ отправился к своей пристани в конце сада и долго смотрел на стремительную воду реки. Эту традицию он называл своей утренней молитвой. Но возносились ли его мысли в это время к возлюбленной им богине Гигиее или совсем к другому божеству, оставалось невыясненным. Сам же он на этот счет выражался довольно загадочно.
Иногда доктор, например, говорил, что река является прообразом телесного здравия, а в другой раз он воодушевленно распространялся о том, что река — это величайший учитель и наставник, непрестанно проповедующий людям высокую мораль, непрестанно приучающий их к мирному усердному труду, душевному спокойствию и безропотной целеустремленности, умиротворяющий метущийся ум и дух человеческий. Пройдя около мили вдоль реки и насладившись светлой, прозрачной водой, весело убегающей вперед, полюбовавшись игрой пары-тройки рыбешек, сверкнувших на мгновение своей серебристой чешуей над поверхностью воды, и вдосталь наглядевшись на длинные, точно кружевные тени от деревьев, растущих на противоположном берегу, — тени, протянувшиеся далеко вперед, чуть ли не до самой середины реки, и насмотревшись на яркие солнечные блики в просветах этих теней, двигавшиеся и дрожавшие на воде, — доктор пошел, наконец, обратно через весь сад к дому, а пройдя через дом, вышел на улицу. Он чувствовал себя освеженным, бодрым и обновленным, будто помолодевшим.
Звук его шагов, разносившийся по мощеной улице деревни, обыкновенно начинал трудовой день в Гретце. Сейчас же все его население еще спало, вокруг было как-то по-особенному тихо. Освещенная первыми лучами солнца церковная колокольня казалась удивительно стройной и воздушной; несколько птиц, круживших вокруг нее, словно парили в голубом эфире, более чистом и прозрачном, чем обыкновенно. Медленно шествуя по улице, доктор с особым наслаждением вдыхал чистый воздух и чувствовал себя благодушно настроенным и довольным этим прекрасным ясным утром, которое будто улыбалось ему.
На одной из тумб, стоящих по обе стороны ворот гостиницы госпожи Тентальон, доктор заметил маленькую темную фигурку, сидевшую неподвижно, в созерцательной позе, и сразу узнал в этом одиноком человечке своего вчерашнего приятеля, Жана-Мари.
— А-а! — воскликнул господин Депрэ, подходя к мальчугану; остановившись против него, доктор уперся обеими руками в свои колени и с добродушным любопытством заглянул ему в лицо. — Вы только посмотрите, как мы рано встаем! Прекрасно! Как видно, мы страдаем всеми недостатками настоящего философа.
Мальчик соскочил с тумбы и чересчур серьезно и вежливо раскланялся.
— Ну, как наш больной себя чувствует сегодня? — спросил Депрэ.
Оказалось, что его пациент находится все в том же положении, что и вчера.
— Так, — проговорил доктор, — а теперь скажи мне, для чего ты так рано встаешь?
После довольно продолжительного молчания Жан-Мари ответил, что он сам этого как следует не знает и потому не может сказать, зачем встает рано.
— Так-так, — подтвердил доктор, — ты и сам не знаешь зачем, да и все мы едва ли что-нибудь знаем толком, прежде чем постараемся это выяснить, а чтобы узнать, почему и зачем мы что-нибудь делаем, надо себя спросить об этом. Ну-ка, попробуй задать себе вопрос, подумай и скажи мне, как тебе кажется… Может быть, тебе нравится рано вставать?
— Да, нравится! — не спеша произнес мальчик. — Да, мне нравится, — повторил он еще раз, уже совершенно уверенно.
— Ну-ну, — ободрял его доктор, — а теперь расскажи, почему тебе это нравится? Заметь, что мы с тобой теперь следуем методу Сократа, — вставил он. — Итак, спроси себя, почему тебе нравится вставать рано?
— Кругом так тихо, так спокойно, — ответил Жан-Мари, — у меня в это время нет никакого дела. И еще, когда так тихо и никого нет вокруг, чувствуешь, как будто ты хороший.
Депрэ усмехнулся и сел на соседнюю тумбу, по другую сторону ворот. Его начинал интересовать разговор с этим мальчуганом. Жан-Мари отвечал и говорил не наобум, а подумав, и старался на каждый вопрос ответить по совести.
— Ты, как я вижу, испытываешь удовольствие от того, что чувствуешь себя хорошим, — заметил доктор, — и, признаюсь, меня это крайне удивляет. Ведь ты же сам говорил мне вчера, что раньше ты воровал, а эти две вещи не совместимы — быть хорошим и воровать.
— А разве воровать так уж дурно? — спросил мальчик.
— Да, таково по крайней мере общее мнение, мой милый друг, — ответил наставительно и слегка насмешливо Депрэ.
— Нет, вы меня не совсем поняли, — заметил мальчуган, — я хотел спросить, неужели дурно воровать так, как воровал я, — пояснил он. — У меня не было выбора, я был вынужден делать это. Я полагаю, что не может быть дурно то, что человек хочет иметь кусок хлеба, ведь каждому надо есть! Это такая сильная потребность, что с ней невозможно спорить! Да еще, кроме того, меня жестоко избивали, когда я возвращался домой с пустыми руками! — добавил Жан-Мари. — Я тогда уже знал, что хорошо и что дурно, потому что раньше того меня многому обучал один добрый священник, который относился ко мне очень хорошо и которого все люди уважали. (При слове «священник» доктор скорчил отвратительную гримасу). Но я думал, что когда человеку нечего есть, когда у него нет даже куска черствого хлеба, чтобы утолить свой голод, да когда еще вдобавок его бьют нещадно, то при таких условиях воровать, пожалуй, даже позволительно. Я не стал бы красть сласти или что другое ради лакомства, по крайней мере я думаю, что не стал бы, но мне кажется, что ради куска насущного хлеба каждый совершил бы кражу!
— И я так полагаю, — согласился Дюпрэ. — Ну, а после каждой кражи ты, конечно, становился на колени и просил у Господа Бога прощения и объяснял ему весьма подробно все свои обстоятельства? — слегка насмешливо добавил он.
— Нет, к чему? — удивился Жан-Мари. — Я не видел в этом никакой надобности.
— Вот как! Ну, а твой священник, наверное, увидел бы в этом надобность! — все в том же тоне продолжал доктор.
— Вы думаете? Неужели?! — воскликнул мальчик и впервые смутился. — А я думал, что Господу Богу и без того все известно… что он и так все знает…
— Эге, — усмехнулся доктор над наивным ребенком, — так вот ты какой вольнодумец!
— Я думал, что Бог сам меня поймет, — продолжал мальчик очень серьезно, не обратив внимания на последнее замечание своего собеседника, — а вы, я вижу, так не думаете… Но ведь и сами эти мысли мне Бог вложил в голову! Разве нет?
— Ах ты, малыш, малыш! — почти сокрушенно промолвил Депрэ. — Я уже говорил, что в тебе гнездятся все пороки философии, но если ты еще совмещаешь в себе и все ее добродетели, то мне, старому грешнику, остается только поскорее бежать от тебя без оглядки. Я, видишь ли, служитель и сторонник благословенных законов здоровой нормальной природы в ее простых и обычных проявлениях и потому не могу равнодушно смотреть на такое чудовище, на такого нравственного уродца! Понял ты меня?
— Нет, сударь, — ответил, не задумываясь, Жан-Мари.
— Ну, погоди, я постараюсь разъяснить тебе то, что хотел сказать. Вот посмотри сперва сюда, — продолжал доктор, — видишь ты там, за колокольней, это небо, видишь, какое оно там светлое, бледно-бледно-голубое? А теперь посмотри выше и еще выше, до самой верхушки небесного свода у тебя над головой, где небо густо-голубое, почти синее, как в полдень… Так! А теперь скажи мне, разве это не прекрасный цвет? Разве он не ласкает глаз? Не радует сердце? Мы видим это голубое небо изо дня в день в течение всей нашей жизни, мы до того свыклись, сроднились с ним, что даже наша мысль видит его таким. Но предположим, — продолжал Депрэ, переходя от любовного умиления, с каким он говорил о голубом небе, к совершенно иному тону, — предположим, что это небо вдруг бы сделалось ярко-янтарно-огненного цвета, подобно цвету раскаленных углей, а в самом зените небесного свода — огненно-красным. Я не скажу, что это было бы менее красиво, нет! Но нравилось бы оно тебе так же, как это наше голубое небо?
— Я думаю, что нет, — проговорил Жан-Мари.
— И я также не мог бы его полюбить, — продолжал доктор несколько резко, — я ненавижу все странное, и странных людей в особенности, а ты — самый странный, самый своеобразный мальчуган, какого я когда-либо встречал в своей жизни!
Жан-Мари некоторое время молчал и как будто что-то обдумывал, а затем поднял голову и взглянул на доктора с добродушно-вопрошающим видом.
— А вы сами, разве вы не чрезвычайно странный господин? — спросил он.
Тогда доктор бросил на землю свою трость, кинулся к мальчугану, прижал его к груди и звонко расцеловал в обе щеки.
— Превосходно! Бесподобно, малыш! — воскликнул он. — Нет, какое прекрасное утро! Какой счастливый, какой удачный день для старого сорокадвухлетнего теоретика! А? Нет, — продолжал он, как бы обращаясь к небесам, — ведь я даже не знал, что такие мальчуганы существуют на свете! Я сомневался, что род человеческий в состоянии производить подобных индивидов! Вот теперь, — добавил он, подымая с земли свою палку, — эта встреча для меня точно первое любовное свидание. Я сломал свою любимую трость в момент душевного восторга, но это не беда! Можно будет поправить.
И, взглянув на мальчика, он уловил на себе его взгляд, полный удивления, недоумения, смущения и даже неосознанной тревоги.
— Эй! — воскликнул он, обращаясь к своему маленькому собеседнику. — Отчего ты так смотришь на меня? Право, кажется, этот малыш презирает меня, — пробормотал он, слегка отвернувшись в сторону. — Ты презираешь меня, что ли, мальчуган? — снова обратился к нему доктор.
— О нет, — отозвался Жан-Мари совершенно серьезно, — я только не понимаю вас.
— Вы должны извинить меня, сударь, — продолжал доктор с некоторой напыщенностью, — я еще слишком молод.
«Черт бы его побрал!» — мысленно добавил он про себя и опять уселся на свое прежнее место и стал наблюдать за мальчиком с некоторой насмешкой.
«Мальчишка испортил мне это прекрасное спокойное утро, — думал он, — теперь я буду нервничать весь день, и пищеварение будет неправильное — лихорадочное. Следует непременно успокоиться».
И, сделав над собой усилие, Депрэ отогнал от себя все тревожившие и волновавшие или просто хоть сколько-нибудь смущавшие его мысли тем усилием воли, к которому он давно уже приучил себя. Теперь помыслы его стали блуждать среди окружавших его знакомых и любимых предметов: он любовался и наслаждался прекрасным утром, вдыхал в себя свежий утренний воздух и с видом знатока смаковал его, как смакуют любители хорошее вино, и затем медленно выдыхал, как то рекомендуется предписаниями гигиены. Он считал маленькие облачка на небе, следил за полетом птиц вокруг церковной колокольни, мысленно описывая вместе с ними длинные плавные взлеты и спуски, или паря в воздухе, или же проделывая удивительные воздушные сальто-мортале и рассекая воздух воображаемыми крыльями. Таким способом доктор в короткое время вернул себе прежнее спокойствие духа, и животное благодушие, и полное осознание своих движений, своих чувств и ощущений, сознание, что воздух имел прохладный и освежающий вкус, напоминающий вкус сочного спелого плода. И, совершенно поглощенный этими ощущениями и их мысленным анализом, от избытка благодушного настроения он запел. Он знал всего только один мотив, «Мальбрук в поход собрался», да и тот знал не совсем твердо и обращался с ним довольно бесцеремонно. Впрочем, свои музыкальные таланты доктор проявлял обыкновенно только в те минуты, когда бывал один и чувствовал себя особенно благодушно настроенным, когда он чувствовал себя, так сказать, вполне счастливым.
Но на этот раз господин Депрэ был довольно грубо возвращен к действительности почти болезненно огорченным выражением на лице мальчика. Он оборвал свое пение на полуноте и обратился к своему случайному слушателю с вопросом:
— Что ты думаешь о моем пении, мальчуган? Нравится оно тебе?
Мальчик молчал. Не дождавшись ответа, доктор повторил довольно повелительно:
— Что ты думаешь о моем пении?
— Оно мне не нравится, — пробормотал Жан-Мари.
— Вот как! — воскликнул доктор. — Может быть, ты и сам певец?
— Я пою лучше, — спокойно ответил мальчик.
Депрэ смотрел на него некоторое время в недоумении. Внутренне он сознавал, что сердится, и по этому случаю краснел за себя, и это заставляло его сердиться еще больше.
— Если ты так же разговариваешь и со своим хозяином, — произнес он, наконец, пожав плечами и подняв руки кверху, — то могу тебя только похвалить.
— Я с ним вовсе не разговариваю, — отозвался Жан-Мари, — я его не люблю.
— Значит, меня ты любишь? — попробовал поймать его на слове доктор, и при этом в голосе его послышались необычайная живость и воодушевление.
— Не знаю, — честно ответил мальчуган.
Доктор встал — не такого он ждал ответа, и хотя он даже себе в том не сознавался, но чувствовал себя как будто обиженным.
— Я желаю вам доброго утра, — проговорил господин Депрэ, церемонно раскланиваясь со своим собеседником, — я вижу, что вы слишком мудры для меня. Возможно, что у вас в жилах течет кровь, а может быть, и небесный флюид, а быть может, в них не что иное, как воздух, которым мы дышим. Но в одном я безусловно уверен — это в том, что вы, сударь, не человеческое существо, говорю я вам, — добавил он, потрясая своей палкою перед носом мальчика. — Так и запишите себе на память: «Я не человеческое существо и не имею претензии быть человеческим существом; я обман, сон, ангел, загадка, иллюзия — все что угодно, но только не человеческое существо!» Итак, примите мой почтительнейший поклон — и прощайте!
С этими словами доктор удалился и, слегка взволнованный, зашагал вдоль улицы, а мальчик остался стоять в недоумении, глядя на пустое место, где только что стоял доктор.
III
Усыновление
Мадам Депрэ, носившая христианское имя Анастази, представляла собой весьма приятный и симпатичный тип особы женского пола. Необычайно цветущая и здоровая с виду, полная красивая брюнетка с упругими мягкими щеками, румяными губами, приветливым, спокойным взглядом темных глаз и ручками несравненной красоты, она была такого рода женщина, над которыми горе и невзгоды проносятся как утренние летние облачка по небу. В худшем случае она могла сдвинуть свои темные брови так, чтобы они образовали одну горизонтальную линию, но всего на одну минуту, а затем и эта мимолетная морщинка на ее лбу тотчас же разглаживалась.
В ней было очень много от бесстрастного спокойствия монахинь, при почти полном отсутствии их благочестия; и даже напротив, Анастази была женщина, весьма склонная ко всякого рода благам земного мира. Она страстно любила устрицы и доброе старое вино, любила несколько смелые шутки и рассказы и была очень предана своему мужу, но скорее с учетом своего собственного благополучия, чем ради него. Она была невозмутимо добродушна по природе, но не имела ни малейшей склонности к самоотвержению или самопожертвованию.
Жить в этом уютном старом доме, с большим тенистым зеленым садом позади и ярким, пестрым цветником перед окнами, есть и пить сладко и вволю, поболтать четверть часика с кем-нибудь из соседей, никогда не носить корсета и не наряжаться, исключая те случаи, когда она отправлялась в Фонтенбло за покупками, иметь постоянный богатый запас новостей и немудреных романов, быть к тому же женой доктора Депрэ и не иметь никаких оснований ревновать его — этим исчерпывались все ее притязания на счастье, и чаша благ земных, по ее мнению, наполнялась этим до краев.
Люди, знавшие доктора Депрэ еще холостым, когда у него было ровно столько же самых разнообразных теорий, но теорий другого рода, утверждали, что его теперешняя философия сложилась под влиянием изучения Анастази. Он рационализировал ее животное довольство и чувство полной удовлетворенности и бессознательно, но тщетно старался по-своему подражать супруге.
В кулинарном деле госпожа Депрэ была настоящей артисткой, а кофе она готовила божественно. Кроме того, она была помешана на чистоте и опрятности, за чем тщательно следила в доме, и этим заразила также мужа. Всякая вещь в доме супругов находилась на своем месте, все сияло и блестело, начиная с медных ручек и задвижек, а пыль была окончательно изгнана из ее царства. Это было нечто такое, что совершенно не допускалось в доме доктора Депрэ. Алина, их единственная служанка, не знала другого дела, как целыми днями вытирать пыль, чистить, скрести и подметать с раннего утра и до позднего вечера. Таким образом, доктор Депрэ в своем доме жил как теленок, которого откармливают к празднику в тепле, холе, чистоте и полном довольстве.
В полдень подавался прекраснейший обед, и в этот день, как всегда, обед был вкусный и обильный. Стол украшали и спелая ароматная дыня, и только что пойманная в реке рыба под достопамятным беарнским соусом, и откормленная Пуларка в виде фрикасе, и превосходная спаржа, а затем целое блюдо самых отборных фруктов. В дополнение к этому доктор Депрэ выпил полбутылки с добавкой еще одного стаканчика прекрасного семилетнего Cаte-Rotie, а госпожа Депрэ — полбутылки, без стаканчика, того же самого вина — один стаканчик из ее полубутылки переходил в качестве прибавки к порции ее мужа в ознаменование признания за ним мужских привилегий. В заключение подали превосходнейший кофе и графинчик шартреза для мадам. Доктор не доверял всем этим декоктам и пренебрегал ими, считая вредными для здоровья. Поставив поднос на стол, Алина удалилась, предоставив супругам Депрэ без помехи наслаждаться послеобеденной беседой, приятными воспоминаниями и процессом правильного пищеварения.
— Право, душа моя, говорю тебе, что для нас с тобой большое счастье… — начал было доктор. — Да, должен сказать, что твой кофе превосходен! — перебил он себя, отхлебнув немного из чашки. — Так вот, я говорю, — продолжал супруг, — что для нас с тобой большое счастье… Ах, Анастази, умоляю тебя, не пей ты этой гадости! Не пей этой отравы, ну хотя бы сегодня, ну всего лишь один день, и ты сама увидишь, какую это принесет тебе пользу. Ты будешь чувствовать себя гораздо лучше, ручаюсь тебе в этом своей репутацией!
— Но ты не сказал мне еще, в чем же заключается для нас с тобой большое счастье, — заметила Анастази, не обратив внимания на обычную мольбу и уговоры мужа не пить ликера с кофе, — мольбу, повторявшуюся регулярно каждый день.
— В том, душа моя, что у нас с тобой нет детей! — ответил нежный супруг. — Я все чаще и чаще об этом задумываюсь по мере того, как идут годы, и все больше и больше благословляю Всевышнего, избавившего нас от этой страшной обузы, от стольких забот, хлопот и огорчений. Подумать только, как твое цветущее здоровье, ненаглядная моя, могло бы пострадать от этого, а мои спокойные ученые занятия, а наши вкусные обеды и всякие гастрономические деликатесы и лакомства… Все, все решительно должно было бы пострадать, будь у нас дети: от всего этого пришлось бы если и не полностью, то до известной степени отказаться, пожертвовать, хотя бы отчасти, всеми этими радостями жизни, и, спрашивается, ради чего? Ведь дети — это последний остаток человеческого несовершенства! Перед их лицом бежит цветущее здоровье женщины, они являются причиной хворостей и преждевременной старости наших жен, они кричат, шумят, раздражают наши нервы, нарушают мир и спокойствие в доме. Мало того, они вечно задают неуместные, глупые и ненужные вопросы, надоедают своими постоянными расспросами, требуют, чтобы их кормили, поили, умывали, одевали, заботились об их воспитании, обучении, чтобы носы им сморкали! Да, моя милая, вот что значат дети! А когда они подрастут, то настанет такое время, когда они с легкой душой разобьют родительское сердце, так, как я разбиваю скорлупу этого ореха!.. Да, дорогая моя, двое таких конченых эгоистов, как мы с тобой, должны всегда избегать произведения на свет всяких отпрысков как явной измены себе и друг другу! Не правда ли?
— Да, друг мой, в этом ты действительно прав, — согласилась жена, и при этом она тихо засмеялась. — В сущности, это так на тебя похоже — хвалиться тем, что, собственно, произошло помимо твоей воли и вовсе от тебя не зависело.
— Дорогая моя, — возразил доктор как бы наставительно и почти торжественно, — ты забываешь, что мы могли усыновить ребенка!
— Ну уж нет! Этого я не допустила бы никогда… ни за что на свете! Слышишь ли ты, ни за что на свете! — воскликнула почтительная супруга. — Что ни говори, а с моего согласия во всяком случае никогда! Еще если бы ребенок был моя собственная плоть и кровь, я бы, конечно, не отказалась от него, но взвалить себе на плечи последствия нескромности другой особы — нет, благодарю покорно! У меня для этого еще слишком много здравого смысла!
— Вот именно! — подтвердил доктор. — У обоих нас было слишком много здравого смысла для этого, и теперь я тем более доволен нашим благоразумием, потому что… потому что… — И он пристально взглянул на свою жену.
— Потому что… что? — спросила она со смутным предчувствием какой-то надвигающейся опасности.
— Потому что я нашел теперь именно того, кого следовало, — сказал доктор твердо и решительно, — и я сегодня же усыновлю его!
Анастази смотрела на мужа, не отводя глаз, но видела его словно в тумане. Она положительно ничего не могла понять.
— Ты с ума сошел! — воскликнула женщина, еще минуту назад кроткая, и в голосе ее послышалась такая нота, которая предвещала семейную бурю.
— Нет-нет, дорогая моя, ты ошибаешься, — возразил муж, — я в здравом уме и в полном сознании, и вот тебе доказательство: вместо того чтобы попытаться как-нибудь замаскировать свою непоследовательность, я напротив, желая тебя подготовить, умышленно подчеркнул ее. Надеюсь, что ты в этом узнаёшь счастливого философа, имеющего радость и блаженство называть тебя своей женой! Видишь ли, дело в том, что я до сих пор никогда не рассчитывал на необычайную случайность, с чем, в сущности, всегда следовало бы считаться. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь отыщу своего настоящего сына, но вот прошедшей ночью я его нашел! Только, прошу тебя, не тревожь себя понапрасну, дорогая моя, в нем, насколько я знаю, нет ни единой капельки моей крови. Он мой сын по духу — по разуму, если хочешь!
— По духу! По разуму! — повторила Анастази с легким смешком, в котором слышались отчасти возмущение и гнев, отчасти желание рассмеяться. — Скажите, пожалуйста, его разум! Да что это такое, наконец, Анри, — идиотская шутка или же ты на самом деле с ума спятил?! Он сын ему по разуму! По духу! Ну, а мне-то он кем тогда приходится? Мне-то он кто по духу и по разуму?
— Ты права, — согласился доктор и пожал плечами, — да, ты как раз указала пальцем на единственную загвоздку во всем этом деле. Да, признаюсь, что об этом я не подумал, но что же делать, дорогая моя! Я боюсь, что он будет тебе поразительно антипатичен, боюсь, что ты, Анастази, никогда не поймешь его, а он тебя. Это потому, что ты взяла себе в мужья животную часть моего существа и моей природы, моя дорогая. И эта физическая сторона моей природы всецело в твоей власти и безраздельно принадлежит тебе, а с Жаном-Мари у меня есть духовное сродство — настолько сильное, что скажу тебе откровенно, я и сам несколько его побаиваюсь. Ты, конечно, прекрасно понимаешь, что я возвещаю тебе о своего рода несчастье для тебя, но только, душа моя, — и голос любящего супруга зазвучал с искренней озабоченностью, — ради бога, не давай воли слезам после еды — это так вредно, Анастази! Я уверен, что ты испортишь себе пищеварение. — И послушная супруга воздержалась.
— Ты знаешь, как охотно и с какой готовностью я всегда подчиняюсь всем твоим желаниям, — сказала она, — когда они благоразумны или резонны, но в данном случае…
— Возлюбленная моя, — перебил доктор, спеша предупредить отказ с ее стороны, — припомни, кто пожелал уехать из Парижа? Кто заставил меня проститься и с моими карточными приятелями, а вместе с тем и с моей маленькой страстишкой к картам, и с оперой, и с бульварами, и с моими связями в обществе? Словом, со всем тем, что составляло мою жизнь до того времени, когда я узнал тебя. Припомни все это и скажи, был ли я тебе верен? Был ли я послушен тебе? Не подчинялся ли не только безропотно, но даже с охотой своей судьбе? И, по всей справедливости, Анастази, не имею ли я тоже права предъявить тебе какое-нибудь требование в свою очередь? Ты знаешь, что я имею на это право, и признаешь его за мной. Ну, так мое требование следующее: чтобы этот сын мой был принят в наш дом, как это и подобает.
Анастази поняла, что она разбита наголову и что протестовать бесполезно, а потому поспешила спустить флаг, как судно в открытом море, которое сдается на милость победителя.
— Ты меня убьешь этим… — вздохнула она.
— Нисколько! — возразил он. — С месяц ты будешь, быть может, чувствовать некоторую горечь или досаду, точно так же, как это испытывал я, когда впервые очутился в этой жалкой деревушке, а затем твой здравый рассудок и милый нрав возьмут верх, и я уже теперь вижу тебя счастливой и довольной, как всегда, и притом еще с внутренним сознанием, что ты сделала своего мужа счастливейшим из людей!
— Ты знаешь, что я не могу отказать тебе ни в чем, — сказала она, делая еще одну, последнюю попытку показного сопротивления, — ни в чем, что может сделать тебя действительно счастливым. Но так ли это в данном случае? Уверен ли ты в этом, друг мой? Ты говоришь, что нашел его прошлой ночью! Да ведь он, быть может, худший из обманщиков!
— Я не думаю, — возразил доктор, — нет, едва ли я мог в нем ошибиться. Впрочем, ты не воображай, что я так неосмотрителен и неразумен, что сейчас же, немедля, вздумаю усыновить его. Нет, я льщу себя мыслью, что я человек, умудренный житейским опытом, и потому мне кажется, что я все предвидел и предусмотрел, что я взвесил все возможные случайности и, имея их в виду, составил план, который, надеюсь, оправдает все мои расчеты. Я пока беру мальчика к нам в дом в качестве конюха, и если он станет таскать что-нибудь или роптать и выказывать недовольство, если он захочет уйти от нас, то я пойму и увижу, что ошибся, и я не признаю его своим сыном, а прогоню его — пускай себе шатается по белу свету!
— Этого ты никогда не сделаешь, — заметила жена, — я знаю твое доброе сердце.
И она протянула ему свою руку, вздохнув при этом, а доктор улыбнулся, поднес эту милую, прекрасную ручку к своим губам и запечатлел на ней нежный поцелуй, полный благодарности.
Он выиграл свое дело гораздо легче, чем ожидал. Уже в двадцатый раз он испытывал магическое действие своего неизменного аргумента — намека на возвращение в Париж. Шесть месяцев пребывания в Париже для человека со склонностями, знакомствами и связями, как у доктора Депрэ, и с его прошлым были равносильны полному разорению. Анастази удалось спасти последние остатки его былого состояния только благодаря тому, что она удерживала его безвыездно в деревне. Само слово «Париж» приводило ее в ужас. Она скорее разрешила бы своему супругу завести целый зверинец в большом саду позади дома и допустила бы даже усыновление маленького конюха — только бы муж не возвращался в столицу.
Часов около четырех после полудня несчастный паяц отдал богу душу; он так и не приходил в сознание с того момента, как впервые впал в забытье. Доктор Депрэ присутствовал при его последних минутах, он же и объявил хозяйке и присутствующим, что комедия сыграна, что песенка паяца спета до конца — словом, что все уже кончено. После этого он взял Жана-Мари за плечо и вывел его в сад при гостинице. Здесь у самой реки стояла удобная скамейка. Доктор сел на эту скамейку и усадил мальчугана по левую руку от себя.
— Жан-Мари, — проговорил он серьезно, — мир божий очень, очень велик, и даже Франция, представляющая собою лишь крошечную его частичку, слишком велика и обширна для такого маленького мальчугана, как ты. И хотя места в мире хватает для всех, и во Франции тоже, но, к несчастью, повсюду так много людей, от которых всем тесно, людей, которые со всеми толкаются и всем загораживают дорогу, и пробиться между ними чрезвычайно трудно. Кроме того, на свете слишком мало пекарен для всех голодных ртов. Хозяин твой умер, а ты в одиночку еще не можешь сам по себе зарабатывать на хлеб, а ведь воровать ты не желаешь? Не правда ли? В таком случае положение твое в настоящий момент, как ты сам, вероятно, понимаешь, незавидное, даже, можно сказать, критическое. С другой стороны, ты видишь перед собой в моем лице человека еще не старого, но уже пожилого, пользующегося всеми благами душевной молодости и здравого разума, человека образованного, развитого, живущего в достатке и довольстве, имеющего приличное положение в жизни и хороший сытный стол, человека, которым нельзя пренебрегать ни в качестве друга, ни в качестве хозяина. И вот я предлагаю тебе стол, и одежду, и обучение разным наукам и познаниям, несравненно более ценным для мальчугана с твоим складом ума и способностями, чем поучения всех священников целой Европы, взятых вместе. Жалования или какого-либо вознаграждения я тебе не предлагаю. Но, если ты когда-нибудь пожелаешь уйти от меня, ты во всякое время найдешь дверь открытой и можешь идти на все четыре стороны, и, кроме того, я еще дам тебе 100 франков, чтобы ты имел возможность начать с ними новую жизнь по своему усмотрению. А взамен того, что я тебе предлагаю, ты должен будешь, в свою очередь, работать на меня. У меня есть старая кобыла и тележечка, на которой я выезжаю; ты очень скоро научишься ходить за кобылой и мыть и держать в порядке экипаж, и это будет твоей обязанностью. Не спеши с ответом, а обдумай хорошенько, принять тебе или не принимать моего предложения, поразмысли, какой вариант из двух для тебя будет лучше. Но помни, что я не сентиментальный человек, не сердобольный благотворитель, а человек, живущий исключительно для себя, и если я делаю тебе подобное предложение, то только потому, что имею при этом в виду свои цели и ясно предвижу для себя известные выгоды. Ну, а теперь подумай хорошенько и тогда скажи, как ты решил поступить.
— Я буду очень рад принять ваше предложение, — проговорил мальчик. — Я совсем не вижу, что бы я еще мог сделать, кроме этого. Благодарю вас очень, господин, и постараюсь, сколько могу, быть вам полезным, обещаю это! — добавил он уверенно и с твердой решимостью в голосе.
— Спасибо, мальчуган! — сказал доктор с теплой ноткой в голосе.
При этом он поднялся со скамейки и отер лоб платком, потому что в эти минуты, пока решался такой серьезный вопрос, он просто умирал от страха. Ведь отказ со стороны мальчика после той сцены, которая произошла у него с женой нынче после обеда, поставил бы его в смешное положение перед Анастази, а этого господин Депрэ ужасно боялся. Потому-то теперь он почувствовал громадное облегчение, словно гора свалилась у него с плеч, и он заговорил совсем другим, веселым голосом:
— Какой жаркий, душный вечер сегодня, не правда ли? У меня летом всегда возникало желание быть рыбой, Жан-Мари. Ты знаешь, что здесь, под Гретцем, протекает Луан, славная река… и лежал бы я где-нибудь под водяной кувшинкой у берега и прислушивался бы к звону колоколов. Мне думается, что там, под водой, этот звон звучит особенно нежно и приятно, особенно хватает за душу. Вот была бы жизнь! Как ты думаешь? Хорошо было бы? А?
— Да, — сказал Жан-Мари задумчиво, — я думаю, что это должно быть хорошо.
— Благодарение богу, у тебя, как я вижу, есть воображение! — воскликнул доктор и со свойственной ему экспансивностью и искренностью заключил мальчика в объятия.
Но этот поступок его, видимо, смутил мальчугана настолько же, насколько он смутил бы в Англии мальчика в школьном возрасте, то есть приблизительно одних с ним лет. Как видно, бедный мальчик совершенно не привык к такого рода проявлениям чувств.
— Ну, а теперь, — проговорил доктор, — я отведу тебя к моей жене.
Госпожа Депрэ сидела в столовой в легком пеньюаре. Все шторы были опущены, а выстланный каменными плитами пол был только что опрыскан водой. Когда они вошли, госпожа Депрэ сделала вид, будто читает роман, лежавший у нее на коленях, хотя еще за секунду до того глаза ее были полузакрыты. Несмотря на то что она была женщина весьма расторопная и большая хлопотунья, Анастази тем не менее любила покой и наслаждалась им с большим удовольствием всякий раз, когда не была занята каким-нибудь безотлагательным делом; притом она имела также большую слабость ко сну.
Войдя, доктор торжественно отрекомендовал жене приведенного им мальчугана и в назидание обоим добавил:
— Вы должны постараться полюбить друг друга в угоду мне.
— Он прехорошенький! — заметила почтительная супруга. — Ну, поцелуй же меня, мой славный малютка! — добавила она ласково, обращаясь к мальчугану.
Господин Депрэ пришел в ярость; он вытащил жену в коридор и обрушился на нее целым градом упреков:
— Да в уме ли ты, Анастази! Где же этот ваш прославленный женский такт, о котором мне постоянно кричат! Видит бог, я еще ни разу в жизни не видал его! Ты, умная женщина, и вдруг обращаешься к моему маленькому философу как к какому-нибудь младенцу. К нему надо относиться с большим уважением, а не надоедать ему бабьими ласками и поцелуями, как малому ребенку.
— Я сделала это только ради того, чтобы угодить тебе, — возразила Анастази, — я постараюсь, чтобы это больше не повторялось.
Доктор извинился перед женой за свою горячность и затем пояснил:
— Я, конечно, желаю, чтобы здесь, среди нас, он чувствовал себя как дома, но твое поведение в этот раз было, право, так глупо, возлюбленная моя, так неуместно и смешно, что могло вывести из себя даже святого, и потому ты теперь должна мне простить, что я так погорячился, выражая тебе мое неодобрение. Постарайся, прошу тебя, если только это возможно для женщины, понять это молодое существо. Но, впрочем, я уверен, что это совершенно невозможно и я только даром трачу слова. Во всяком случае старайся говорить с ним как можно меньше и наблюдай за мной, как я себя держу с ним: это может послужить тебе примером.
И Анастази последовала этому мудрому совету. Она наблюдала за своим супругом и заметила, что он трижды в течение этого вечера кидался обнимать и целовать мальчика и что каждый раз этими своими поступками до того ошеломлял и смущал маленького человечка, что тот совершенно утрачивал на некоторое время и аппетит, и способность говорить. Но Анастази обладала истинно женским героизмом в такого рода вещах и не только воздержалась от глупой мести, указав мужу на его собственную непоследовательность в поступках, но даже еще постаралась загладить, насколько было возможно, их неблагоприятное действие на Жана-Мари. Так, когда доктор вышел из дома, как всегда, подышать свежим воздухом перед отходом ко сну, она подошла к мальчику и, взяв его ласково за руку, сказала:
— Ты не должен ни пугаться, ни смущаться несколько странным обхождением моего мужа. Это добрейший человек, но он так умен и так учен, что иногда его трудно бывает попять. Ты скоро привыкнешь к нему, и тогда, я уверена, полюбишь его, потому что не полюбить его нельзя, это тебе всякий скажет, кто его знает. А что касается меня, то ты можешь быть уверен, что я постараюсь сделать тебя счастливым и вовсе не буду ни мучить тебя, ни надоедать тебе. Мне думается, что нам следовало бы стать с тобой добрыми друзьями. Я не больно ученая, но добродушная и доброжелательная женщина. Поцелуй меня!
Мальчик поднял к ней голову и подставил ей лицо для поцелуя, а она заключила его в свои объятия и заплакала. Она начала говорить с ним несколько снисходительным тоном, но затем сама растрогалась от своих слов, и в ней проснулась материнская нежность. Доктор, вернувшись, застал супругу и вновь обретенного сына в объятиях друг у друга и решил, что в этом опять была виновата его жена. Он уже был готов обрушиться на бедняжку градом упреков, даже начал было грозным, наводящим ужас голосом: «Анастази…» — но та устремила на него полный нежности и умиления взгляд, улыбнулась и подняла кверху палец, призывая его помолчать.
И он замолчал, удивляясь тому, что здесь могло произойти, — а она отвела мальчика в мезонин, где ему было приготовлено помещение.
IV
Воспитание философа
Таким образом, водворение в семью приемного сына-конюха благополучно состоялось, и колесо семейной жизни в доме доктора Депрэ продолжало катиться своим порядком, ровно и гладко, как по скатерти. По утрам Жан-Мари добросовестно исполнял свои обязанности конюха, мыл и чистил лошадь и прибирал экипаж, а затем иногда помогал в домашних работах, а иногда отправлялся гулять с доктором и черпал из его бесед бездну премудрости. По вечерам его знакомили с разными науками и с древними языками. Живя в семье доктора, мальчик сохранял свое странное невозмутимое спокойствие манер и мыслей; он почти ни разу ни в чем не провинился, добросовестно исполнял все, что от него требовали, но в науках он почти не делал успехов, за исключением некоторых предметов, которые были ему по душе, и в общем оставался, несмотря ни на что, как бы чужим в этой семье, быть может вследствие своей природной замкнутости и постоянной задумчивости.
Доктор мог служить образцом дисциплинированности и аккуратности: каждый день до обеда он работал над своей большой книгой «Сравнительная фармакопея, или Исторический словарь всех медикаментов», который до сих пор состоял из разрозненных лоскутков бумаги, соединенных булавками. В законченном виде этот труд должен был представлять собой множество увесистых томов и совмещать в себе любопытный исторический материал и полезные практические профессиональные сведения. Но доктор имел пристрастие к литературным красотам и живописности описаний и время от времени усовершенствовал свою научную книгу то анекдотом, то колоритной бытовой сценкой, то каким-нибудь народным суеверием или моральным наставлением или же звонким эпитетом и даже предпочитал все эти детали сухой научной материи. Словом, еще немножко — и он написал бы свою фармакопею, если бы это только было возможно, в стихах, в виде научной поэмы.
Статья, озаглавленная «Anatomy», была уже давно готова, но самый труд дальше буквы А не продвинулся. Эта статья была чрезвычайно подробная, обширная, интересно и занимательно составленная, написанная сочно и красочно и при этом строго научно и точно, с массой интересных подробностей и указаний, — словом, превосходная литературная статья, но едва ли практикующий врач мог бы почерпнуть в ней что-либо, что могло бы ему пригодиться или чем он мог бы хоть сколько-нибудь руководствоваться в своей повседневной практике. Здравый смысл жены сразу помог ей подметить этот недостаток статьи, и она с полной искренностью указала на него мужу. По мере того как труд доктора чрезвычайно медленно продвигался вперед к своему бесконечно далекому окончанию, господин Депрэ регулярно прочитывал вслух жене написанное. Она слушала его, находясь в полудремотном состоянии, но тем не менее как-то улавливала самый смысл и высказывала время от времени свои иногда весьма дельные замечания. Только доктор был болезненно чувствителен в своем авторском самолюбии, и всякое сколько-нибудь неодобрительное замечание сильно задевало его за живое.
После обеда, подававшегося ровно в полдень, конечно, не тотчас, а выждав надлежащее время, чтобы процесс пищеварения мог спокойно произойти своим порядком, — доктор обыкновенно отправлялся гулять: иногда один, иногда в сопровождении Жана-Мари, потому что мадам предпочитала невесть какую тяжелую работу у себя в доме даже самой маленькой прогулке.
Как уже было сказано раньше, она была женщина работящая, деятельная, постоянно озабоченная мыслью об удобствах и материальных благах своего мужа, но наряду с этим была готова в любое время заснуть над книгой, как только хлопоты ее были окончены и все в доме сделано и пребывало в порядке. Эта ее способность засыпать в любую минуту не имела, однако, ничего неприятного, так как она никогда не храпела, цвет ее лица во время сна не изменялся, как бывает у некоторых людей, лицо не принимало тупого или неприятного выражения, а, напротив, она являлась словно олицетворением сладостного, соблазнительного покоя, и пробуждалась она, не вздрагивая и не вскакивая, как ужаленная, не зевала и не протирала глаз в каком-то бессмысленном недоумении, а спокойно раскрывала их и сразу приходила в полное осознание окружающей действительности, так что казалось, будто она даже вовсе не спала.
В сущности, в ней было очень много животного, но такое красивое и милое животное было приятно иметь подле себя. Благодаря такому своему образу жизни она мало занималась и редко соприкасалась с Жаном-Мари, но тем не менее их добрые отношения, завязавшиеся в первый вечер его водворения в доме супругов, не ослабевали. Они иногда вступали даже в разговоры — обыкновенно на хозяйственные темы — и, к великому огорчению доктора, даже выплывали вместе по воскресеньям в храм невежественного суеверия, то есть в сельскую церковь. Кроме того, дважды в месяц и мальчик, и мадам, вырядившись в праздничное платье, отправлялись вдвоем в Фонтенбло и возвращались оттуда, нагруженные покупками. Короче говоря, невзирая на то что доктор продолжал смотреть на них, как на две непримиримо враждебные или недоброжелательные друг к другу стороны, их отношения в действительности были настолько близкие, дружественные и искренние, насколько это допускала их натура.
Однако можно предположить, что в самом дальнем тайнике своей души Анастази, пожалуй, несколько презирала и жалела бедного мальчика, поселившегося в их доме. Его достоинства и те качества, какими его наделила природа, не возбуждали в ней восхищения; она предпочитала франтоватых, веселых, бойких, открытых, даже несколько грубоватых мальчуганов — с шапкой набекрень, легких на ногу и бойких на язык, смело смотрящих каждому прямо в глаза. Ей нравились болтливость, живость, даже легкая развращенность и красивая развязность манер. Словом, будь он вылитая копия ее любимого супруга в миниатюре — он бы ей нравился больше, а пока она была глубоко убеждена, что Жан-Мари глуп.
— Бедный мальчик, — сказала она однажды мужу, — как это печально и как жаль, что он такой глупый!
Но она никогда больше не осмеливалась повторить эти слова, потому что доктор, услыхав их, пришел в дикое бешенство. Он положительно рассвирепел, как разъяренный буйвол: принялся осыпать жену самыми грубыми упреками, объявил, что она сама глупа, как неразумная скотина, жаловался даже на свою судьбу, сочетавшую его с такой ослицей, и что больше всего огорчило Анастази, так это то, что, стуча кулаками по столу, супруг грозил перебить китайский фарфор, стоявший на столе, или задеть что-нибудь в своей невоздержанной жестикуляции. В результате она все же осталась при своем мнении, хотя и никогда не высказывала его больше вслух. И, когда Жан-Мари, бывало, сидел с растерянным и смущенным видом над своими недовыполненными уроками, недоумевающий, но отнюдь не чувствующий себя несчастным, она, пользуясь отсутствием доктора, прокрадывалась к мальчугану и, обняв его сзади за шею, прижималась щекой к его щеке и ласково и нежно выражала ему свое искреннее сочувствие.
— Ты не горюй, — утешала она мальчика, — посмотри на меня, ведь я тоже вовсе не умна и не учена, но мне совсем не плохо живется на свете. Поверь мне, в жизни это вовсе не так нужно!
Доктор, конечно, на этот счет придерживался совсем другого мнения. Он никогда не уставал слушать самого себя — звук собственного голоса, по-видимому, очень ему нравился, хотя если говорить по справедливости, то голос у него был чрезвычайно приятный, и теперь доктор, можно сказать, преисполнился счастья, потому что у него появился слушатель менее безучастный и не такой цинично равнодушный к его теориям, как прекрасная Анастази.
Слушатель этот внимал своему патрону с неподдельным любопытством и временами задавал интересные, неожиданные вопросы, возбуждал его пыл и воодушевление вполне уместными и дельными возражениями или замечаниями. А кроме всего этого, разве господин Депрэ не взял на себя воспитание этого мальчика? Воспитание маленького философа! А с тем, что воспитание есть самая философская из всех обязанностей человека, согласны все философы. И что может быть более утешительно для бедного смертного, как не возведение его прихоти, каприза или забавы до уровня высокого долга — служения государству и человечеству! При таких условиях наш жизненный путь становится путем блаженства.
Никогда еще доктор не имел столько оснований радоваться своим дарованиям и способностям, о которых он, между нами говоря, был очень высокого мнения. Философские истины и теории положительно лились у него с уст, и он был до такой степени искусный диалектик, что с легкостью всегда мог подвести под какую угодно бессмыслицу, если это требовалось, основы здравого смысла и строгой логики и доказать целесообразность чего угодно и полную совместимость с проповедуемой им теорией. Из всякого рода затруднительных и неловких положений, из всякого рода пререканий он успевал выскользнуть, точно угорь из рук, и в результате всегда оставлял своего ученика удивленным глубиной премудрости и богатством познаний наставника.
Но в то же время в глубине души доктор был несколько разочарован слабыми успехами своего подопечного в преподаваемых ему школьных науках. Мальчик, которого он сам — он, такой опытный и проницательный наблюдатель, — избрал как особенно одаренного и способного, так вот мальчик, руководимый в освоении наук таким выдающимся наставником-философом, был обязан, согласно всем мировым законам, достичь более заметных и более быстрых результатов. Но Жан-Мари был во всем несколько медлителен, и нередко окружающие совершенно не могли его понять. Его способность забывать полностью соответствовала его способности заучивать, а потому занятия с ним, классные или домашние, весьма походили на толчение воды в ступе, но зато частые обстоятельные лекции доставляли доктору истинное наслаждение, потому что им его воспитанник внимал с видимым удовольствием и даже почерпнул из них многое с видимой пользой для развития своего разума, легко усваивая и запоминая все, что его почему-либо интересовало и чему он сочувствовал в той или иной мере.
Много, много о чем беседовали наставник и ученик, но чаще всего доктор возвращался к своей излюбленной теме о здоровье и воздержании как главном фундаменте человеческого счастья и благополучия.
— Я веду тебя по зеленеющим пастбищам, друг мой, — говаривал Депрэ, — моя система, мое лечение, мое учение — все базируется на одном принципе: избегать всякого рода излишеств! Благословенная природа, здоровая, воздержанная, разумная во всем, не выносит и уничтожает всякое недоразумение, любое излишество, но человеческое общество лишь в очень слабой степени подражает ей, регулируя свою жизнь определенными правилами. А потому все мы должны постоянно помнить, что на нас лежит обязанность восполнять эти законы личными стараниями. Да, мой маленький друг, мы сами должны создать законы для себя и для наших ближних и неуклонно следить за исполнением этих разумных установлений. В случае необходимости даже принуждать и себя и других к их соблюдению, вплоть до применения вооруженной силы, если это потребуется! Lex armata, то есть вооруженный, тиранический закон, следует применять к людям, не сознающим своей пользы и причиняемого ими вреда самим себе! Например, если ты увидишь старую человеческую развалину, то есть дряхлого старца, нюхающего табак, — вырви у него из рук табакерку. Судья — это, конечно, тоже явление болезненное, род признания за людьми известного недуга — отсутствия правильного и беспристрастного самосуда, но все же далеко не столь вредное, как доктор или священник, доктор в особенности. Ведь это, в сущности, корыстный отравитель, иногда бессознательный, иногда сознательный, с целым арсеналом всякой гнойной дряни и требухи, входящей в состав его фармакопеи! Чистый, свежий воздух, обеспечиваемый соседством соснового леса, насыщенный смолистым запахом, без примесей, чистое, натуральное вино и размышление не лжемудрствующего здравого ума, не искаженного софизмами, в присутствии прекрасных творений природы — вот что является, сын мой, самыми лучшими лечебными средствами как для восстановления, так и для поддержания здоровья физического, а также и для религиозного утешения и духовного удовлетворения. Посвяти себя распространению этого учения — и ты поступишь благоразумно! Слышишь? Это звонят колокола в Бурроне (ветер с севера, будет хорошая погода). Как чисты и ясны, словно прозрачны эти отдаленные звуки. Они так гармонируют с душевным настроением, так благотворно, успокаивающе действуют на нервы, что ум смолкает и сердце начинает биться легко и ровно! Все эти ваши непросвещенные доктора не уловили бы ничего особенного в этих ощущениях, не придали бы им никакого значения, а между тем ты сам теперь видишь, что они являются частью того, что поддерживает твое здоровье, что они способствуют ему. Помнишь, мы сегодня читали о хине? Так вот, эта хина — тоже продукт природы, как и пропитанный смолой воздух, ведь она, в сущности, не что иное, как кора хинного дерева, кора, которую мы могли бы собирать собственноручно, если бы мы с тобой жили в той местности, где растут эти деревья. Подумай только, как прекрасен, как разумен этот мир! И хотя я отъявленный атеист, но я с восторгом свидетельствую о всех красотах и совершенствах этого мира, о богатстве и премудрости природы, об обилии и разнообразии ее даров! Ты оглянись кругом: сколько повсюду даровых лекарств и лечебных средств, сколько радостей и удовольствий рассыпано кругом на твоем пути! Вон там, в конце сада, протекает река — это наша даровая купальня, наш живорыбный садок, естественное орошение нашей почвы, а там, во дворе, колодец дает нам чистую, светлую студеную воду из самого сердца, из самых недр земли! Эта вода вкусна, живительна, холодна и с небольшой добавкой хорошего вина очень полезна для здоровья. Да и вообще вся наша местность славится своим здоровым климатом. Ревматизм — единственный недуг, на который здесь жалуются люди, но ты видишь, что я лично ни разу не испытал даже малейшего приступа ревматических болей. И я говорю тебе — а мое убеждение основано на самом холодном, на самом здравом и тщательном изучении этого вопроса — мое убеждение таково, что если бы кто-нибудь из нас, ты или я, вздумал вдруг покинуть эту прекрасную здоровую местность, то долг близкого друга, его неоспоримое право удержать несчастного безумца от этого шага, удержать его хотя бы даже угрозой оружия!
И мальчик слушал своего наставника и впитывал его слова.
Однажды прекрасным июньским утром они сидели на небольшом пригорке за деревней и, как всегда, беседовали. Река, такая же голубая, как небо, сверкая на солнце, просвечивала тут и там через листву произраставших по берегу деревьев. Неумолкающие легкокрылые птицы летали и кружились над округой и над колокольней Гретца. Со стороны мыса дул довольно сильный ветер, и в воздухе стоял тихий шум от раскачиваемых ветром верхушек сотен и сотен деревьев и шелест миллионов и миллионов зеленых листочков, наполнявший слух некими звуками, похожими отчасти на тихий ласковый шепот, отчасти на пение. Казалось, будто под каждой былинкой скрывается резвая стрекоза и, сладко заливаясь, трещит, оглашая своим веселым стрекотом окрестные луга. Будто над ними несется, позванивая бубенцами и здесь и там, какая-то маленькая волшебница в своей колеснице, запряженной роем золотистых пчел.
Со склона холма, на котором расположились наши друзья, им открывалась довольно обширная панорама: сколько глаз хватало, с одной стороны раскинулась большая равнина, обсаженная тополями, с другой тянулась волнистая линия холмов, поросших лесом, а прямо напротив, можно сказать — у их ног, приютилась на берегу реки их деревенька Гретц — горсточка черепичных крыш, словно стайка воробьев, пригревшихся на ласковом солнышке. Лежавшая под огромным голубым небесным куполом, уходящим далеко ввысь, деревушка отсюда, со склона холма, выглядела как игрушечная. Казалось невероятным, чтобы обычные люди могли жить, двигаться и дышать в таком крошечном уголке земного шара. Быть может, эта мысль впервые мелькнула в голове мальчика, и он высказал ее.
— Какой маленькой она кажется отсюда! — вздохнул он.
— Да, очень маленькой — теперь, — отозвался доктор, — а было время, когда Гретц был обнесенным стеной укрепленным городом-замком с высокими грозными башнями на стыках зубчатых стен, а башни те венчали красивые тонкие шпили. Это был цветущий, богатый торговый город, по улицам которого расхаживали толпы состоятельных горожан и торговцев в дорогих мехах и вооруженные воины в доспехах, где вершились большие дела и заключались крупные сделки, собирались советы. Трубы в тысячах домов переставали куриться, и в тысячах окон гасли огни, когда раздавался вечерний звон с главной городской башни. За городскими воротами торчали виселицы в таком же количестве, как теперь вороньи пугала на наших огородах. А в военное время осаждавшие по приставным лестницам взбирались на стены, и стрелы сыпались, как листья в листопад; осажденные совершали смелые вылазки, на подъемном мосту происходили отчаянные схватки между нападавшими и защитниками города, и обе воюющие стороны издавали громкие грозные крики, когда скрещивали друг с другом оружие. Знаешь ли ты, что в ту пору городские стены тянулись до самой Коммандри, так по крайней мере гласит предание. Но, увы, все это давно, давно миновало. Все это было и прошло и быльем поросло, и от всего этого былого величия остались теперь только мои тихие рассказы, повествующие тебе о преданиях минувшего. Даже сам город съежился и превратился в эту невзрачную, скромную тихую деревушку, что лежит там внизу, такая маленькая и едва заметная… А случилось это так. С течением времени завязалась у нас война с англичанами. Впоследствии тебе часто придется слышать о них. Это глупый народ, который лишь иногда, неожиданно даже для себя, делает что-нибудь путное по ошибке… Так вот, англичане взяли Гретц, разорили, разграбили его и сожгли. Такова история очень многих наших городов, которые постигала такая же участь, но другие города возрождались из пепла, а Гретц так и не восстал, его так и не отстроили вновь. Его развалинами воспользовались другие города, как каменоломней: из его камней и плит выросли целые улицы в Немуре. Меня радует, однако, сознание, что наш старый дом был первым выстроенным после разгрома и что он, так сказать, положил начало этой деревушке, появившейся на месте безвозвратно погибшего города.
— Я тоже этому рад, — Жан-Мари.
— Наш дом должен был бы служить храмом скромных добродетелей! — торжественно продолжал доктор, с особым удовольствием смакуя собственные слова. — Быть может, одной из причин того, что я так люблю эту деревушку, является то обстоятельство, что ее история схожа с моей. Не знаю, говорил ли я тебе, что раньше я был очень богат?
— Нет, вы мне этого вроде не говорили, — ответил мальчик, — едва ли я мог бы забыть об этом. В любом случае мне очень жаль, что вы потеряли свое состояние.
— Жаль? — воскликнул доктор. — Ну, друг мой, как видно, мое воспитание еще не успело повлиять на тебя. Выслушай меня и ответь мне по совести, как всегда: скажи мне, где бы ты больше желал жить — в старом, многолюдном, укрепленном Гретце или в нашем новом маленьком скромном Гретце, тихом и спокойном, не ведающем ни тревог, ни войны, окруженном со всех сторон зелеными лугами и лесами, где нет ни паспортов, ни воинской дисциплины и где тебя не гонит вечерний колокольный звон, хочешь не хочешь, в постель с закатом солнца?
— Мне думается, что я предпочел бы жить в новом Гретце, — ответил Жан-Мари.
— Ну, без сомнения, — подхватил доктор — и я тоже, конечно! И вот точно так же я предпочитаю мое настоящее положение и мой скромный достаток моему прежнему богатству. «Золотая середина!» — восклицали с восторгом древние мудрецы, и я вторю им от всего сердца, я подписываюсь под их мудрыми словами обеими руками. Разве у меня нет доброго вина, вкусного обеда, лакомых блюд, чистого здорового воздуха, лугов и лесов для прогулок, чистой, светлой реки для купания, уютного славного дома, очаровательной и прелестной жены и маленького мальчугана, которого я люблю как родного сына? Ну, а если бы я был богат, как раньше, я бы, конечно, жил в Париже, а знаешь ли ты, что такое Париж? Могу тебя уверить, что Париж — это не синоним рая! Вместо этого приятного шелеста ветра в листве — шум вавилонского столпотворения и грохот на мостовых, ослепительная белая, желтая и красная штукатурка домов вместо спокойных серых тонов деревенских строений и полей, зелени лугов и лесов, и сверх всего расшатанные нервы и неправильное пищеварение. Представь себе все это! Ты уже заранее можешь предвидеть результаты и последствия: мысль постоянно возбуждена, сердце бьется в неровном ритме, человек становится не похож на себя самого: все в нем суета, огорчение, досада, возбуждение. Я терпеливо и настойчиво изучал себя, потому что это есть истинная задача философа, и я знаю себя и свой характер, как музыкант знает свой инструмент. Стоит мне только вернуться в Париж, и я совсем пропаду: я разорюсь до последней нитки игрой, потому что игра — это моя страсть! Мало того, я разбил бы жизнь и сердце моей милой Анастази тем, что стал бы изменять ей на каждом шагу. Вот что для меня означает Париж!
Этого Жан-Мари никак не мог понять. Он не мог понять, как место может настолько изменить не только всю жизнь и вкусы человека, но и его самого — такого прекраснейшего человека, как доктор. В это положительно невозможно было поверить.
— Париж, — возразил Жан-Мари, — весьма приятное местопребывание, и когда я жил в Париже, я не замечал в себе никаких особенных изменений, — добавил он с уверенностью.
— Как, — воскликнул доктор, — а разве не там ты начал воровать?
— Да, но что же из этого? — в ответ на замечание промолвил мальчуган.
Вообще, его никоим образом нельзя было убедить, что воровать дурно и что он поступал предосудительно, когда воровал, да и сам доктор этого не думал. Но дело в том, что этот господин становился всегда чрезвычайно щепетильным, когда находил нужным возражать, как это было теперь.
— Ну, я вижу, ты начинаешь понимать, что моими истинными, единственными друзьями были те люди, которые меня и разорили. Гретц стал моей академией, моим санаторием, моим раем земным, источником чистых и невинных удовольствий! И если мне предложат миллионы, я откажусь от них, я отрину их от себя и воскликну: отойди от меня, сатана! Прими к сведению мой пример, сынок, пренебрегай богатством и избегай развращенного и опустошающего влияния больших городов, и пусть твоим девизом в течение всей жизни будет «Гигиена и средний достаток», то есть умеренность и аккуратность во всем.
Замечательно, что гигиенический метод доктора Депрэ и вся его система поразительно совпа— дали с его вкусами, а картина описываемой им идеальной образцовой жизни являлась добросовестнейшим повторением той жизни, какую он вел в данное время. Но нетрудно убедить ребенка в том, что вы ему излагаете неопровержимые факты из собственной жизни, чему вы сами служите подтверждением. А кроме того, что было всего более убедительно в философии доктора, так это неподдельный энтузиазм философа, его искренняя убежденность и восторженное преклонение перед своими теориями. Кажется, не было на свете человека, который бы так же страстно желал быть удовлетворенным своей философией, как доктор Депрэ, и если он был не особенно логичен и потому не имел права рассчитывать на возможность воздействовать на разум собеседника посредством убеждений, то, будучи несомненно поэтом в душе, он овладевал его воображением и обольщал его чувства, очаровывая своими вдохновенными речами. А то, чего он иногда не мог достигнуть при обычном своем настроении — блаженного восхищения собой и своими теориями, — то ему часто удавалось в минуту находившей на него временами меланхолии.
— Мальчуган, сегодня держись от меня подальше, — говорил патрон в подобные минуты. — Будь я суеверен, я бы попросил тебя помянуть меня в своих молитвах. Сегодня у меня самое мрачное настроение — мне думается, что злой дух царя Саула, что ведьма, преследовавшая купца Абудала, что тот дьявол, который не давал покоя средневековому монаху, овладели мной, вселились в меня и хозяйничают у меня в душе. Теперь начинают брать во мне верх порочные наклонности моей натуры, и мои невинные удовольствия тщетно манят меня к себе: меня влечет в Париж, тянет окунуться с головой в его грязь, пошлость, разврат и соблазны. Смотри! — При этом господин Депрэ доставал из кармана горсть серебряных монет. — Смотри, я отказываюсь от этих денег, я бросаю их прочь от себя, потому что мне нельзя доверить и пенса! Возьми эти деньги, забери их от меня!.. Сбереги их для меня, либо истрать на зловредные сласти, либо брось их в самую глубь реки — и я одобрю твой поступок. Спаси меня от меня самого, от той негодной, скверной половины моей личности, которую я ненавижу и презираю! И если ты увидишь, что я колеблюсь, — действуй решительно! Останови поезд! Вызови крушение, если это нужно!.. Ну, конечно, в данном случае я говорю иносказательно, но ты ведь меня понимаешь. Любая крайность, какое угодно несчастье было бы для меня лучше, чем добраться живым до Парижа.
Не подлежит сомнению, что доктору немалое удовольствие доставляли подобные маленькие сцены, вносившие разнообразие в его партию: они представляли собой «байронизм» его несколько искусственной поэзии жизни, его блаженного, но немного однообразного существования. Однако для мальчика, хотя тот смутно чувствовал театральность этих проявлений, они все же не проходили без последствий. Они являлись для него чем-то более серьезным, более знаменательным. И если доктор придавал им слишком мало значения, то ребенок, в свою очередь, придавал слишком много веса этим мнимым искушениям, их реальности, серьезности их значения и упадку духа своего наставника.
Но вот однажды у Жана-Мари блеснула мысль: «Разве нельзя употреблять богатство с пользой?» И он высказал эту мысль своему наставнику.
— В теории, конечно, можно! — ответил доктор. — Но опыт доказал, что на практике никто этого не делает. Все охотно воображают, что они станут исключением из общего правила, если им достанется большое состояние, но на деле обладание им действует на людей развращающе: рождаются неизвестно откуда совершенно новые желания и аппетиты, и глупое пристрастие к показному щегольству вытравляет из сердца истинную радость наслаждения.
— Значит, вы были бы и лучше, и счастливее, если бы имели меньше того, что вы имеете сейчас? — спросил мальчик.
— Конечно, нет, — возразил доктор, но при этом голос его слегка дрогнул.
— А почему же нет? — продолжал допрашивать безжалостный мучитель.
— Почему?! — И у доктора зарябило в глазах: он увидел перед собой разом все цвета радуги, и устойчивая вселенная как будто заходила перед ним ходуном и готова была обрушиться вместе с ним. — Потому, — сказал, наконец, Депрэ после весьма продолжительной паузы, как бы наставительно, — потому что я устроил свою жизнь согласно моим доходам, которых мне теперь как раз хватает на все, а в мои годы человеку уже тяжело менять свои привычки и оказаться вынужденным расстаться с ними. Это может нарушить его душевное равновесие и спокойствие.
Это был жестокий удар по теориям, и философ еле увернулся от него. После этого доктор долго пыхтел и потом весь остаток дня был мрачен и молчалив. Что же касается мальчика, то он остался очень доволен разъяснением своих сомнений и даже очень удивлялся, как это он сам не смог предвидеть этого столь очевидного ответа, который теперь казался ему самым естественным. Его вера в своего наставника была тверда и непоколебима, Жан-Мари никогда не позволял себе усомниться в нем. Так, например, Депрэ имел склонность находиться в некотором подпитии после обеда, особенно после того, как ему приходилось отведать своего любимого ронского вина (из виноградников с берегов реки Роны), к которому он питал особую слабость. Тогда он начинал распространяться о своих нелепых чувствах к Анастази и с раскрасневшимися щеками и блуждающей двусмысленной улыбкой разглагольствовал на всевозможные темы, при этом отпуская довольно слабые и нескромные остроты. Но приемный сын, одновременно с этим маленький конюх, никогда не допускал даже мысли об обидном для доктора подозрении, не совместимом с его чувством благодарности к этому человеку. Правда состоит в том, что человек может заменить вам родного отца и все-таки выпивать лишнее за обедом, но положительные по природе натуры обыкновенно не скоро мирятся с такого рода истинами и всеми силами отвергают их и гонят от себя даже самую мысль о них.
Доктор Депрэ всецело завладел сердцем этого мальчика, но вместе с тем он весьма ошибался и сильно преувеличивал свое влияние на ум, характер и взгляды Жана-Мари. Без сомнения, мальчуган усвоил некоторые суждения и мнения своего наставника, но при этом никто не мог бы сказать, чтобы он отказался хотя бы от одного из своих взглядов, своих мнений и своих убеждений. Убеждения у него были собственные, как бы врожденные. Убеждения эти можно было бы назвать девственными, невыработанными, это был сырой материал убежденности и решимости, и к этому наличному запасу убеждений он прибавлял другие, новые убеждения, но менять или отбрасывать прежние он не хотел и не находил нужным. Он даже не заботился о том, согласовались ли все его убеждения между собой. Вообще он не находил удовольствия в мысленном переживании их или в выражении их словами; слова Жан-Мари считал вообще ненужным упражнением, а речь — своего рода искусством или дарованием, чем-то сродни танцам. И когда он бывал один, то его удовольствия носили характер чисто созерцательный, можно даже сказать, растительный. Бывало, заберется он в леса, лежащие в направлении к Ашеру, сядет у входа в какую-нибудь пещеру, под сенью старых берез, и вся душа его словно переселяется в его глаза. Весь он уходит в безмолвное созерцание: не шелохнется, с места не стронется, а сидит без движения и без мысли и пассивно переживает нахлынувшие на него ощущения. Солнечный свет и тонкие кружевные тени берез, едва заметно дрожащие на земле от дуновения ветерка, колышущего ветви, тонкий абрис верхушек сосен на светлом фоне небес — все это поглощало, зачаровывало его, усыпляло все остальные его способности и даже самые мысли. В эти моменты все его существо было преисполнено одним только чувством, в котором сливались все остальные чувства и ощущения, как все цвета спектра сливаются и пропадают в общем белом цвете.
И в то время как доктор упивался и одурманивал себя собственными словами, маленький приемыш конюх убаюкивал себя сладостным для него безмолвием.
V
Обнаружение клада
Экипаж доктора Депрэ представлял собой двухколесную, с одной осью, повозку с верхом. Такого рода экипажи весьма поПуларны у провинциальных и сельских врачей во Франции. Где только ни встретишь такие экипажи, на каких только дорогах, в каких только глухих углах, и всегда его можно сразу заметить и на больших дорогах, обсаженных тополями, и у заборов деревенских гостиниц или крестьянских домов. Экипажи подобной конструкции отличаются тем, что на ходу они постоянно покачиваются, особенно если лошадь идет рысью, покачиваются или как бы кивают то взад, то вперед по ходу своего движения, вследствие чего его в шутку прозвали качалкой, или кивалкой, или же просто трясучкой. Верх экипажей этого рода обыкновенно представляет собой порядочных размеров свод, явственно вырисовывающийся на фоне окрестного пейзажа, и производит на скромного и наблюдательного пешехода впечатление довольно глупое и вместе с тем не лишенное некой чванливости. Разъезды в такой таратайке, или одноколке, конечно, не являются основанием для особого чванства и отнюдь не придают необычайной важности ее владельцу, но можно предположить, что это весьма полезно при болезнях почек, и может быть именно этим объясняется такая распространенность и поПуларность этого рода экипажей у врачей.
Однажды рано утром Жан-Мари запряг докторскую качалку, отпер зеленые ворота, вывел лошадь на улицу, затем запер ворота и взобрался на козлы немудреного экипажа. Почти в ту же минуту на крыльцо дома вышел сам доктор, облаченный с ног до головы во все белое, причем полотняный костюм его блистал ослепительной чистотой и белизной. В руках у него был большой, телесного цвета зонт, а на перевязи висела жестяная ботаническая коробка. Он сел в одноколку, и экипаж весело покатился, подымая пыль на дороге и легкий ветерок, дувший седокам в лицо во время движения. Доктор и его спутник отправились во Франшар собирать растения, чтобы использовать их в качестве пособий и материалов для «Сравнительной фармакопеи».
Прогромыхав некоторое время по большой насыпной проезжей дороге, они свернули в лес и тронулись по полузаросшей лесной дорожке. Одноколка мягко катилась по влажному песку, слегка поскрипывая на хрустевших под колесами сухих ветках и корнях. Над головами седоков раскинулся громадный зеленый шатер, точно зеленое облако, и тихо шелестели переплетенные между собой густые ветви бесконечного числа деревьев. Под сводами леса воздух сохранял еще свежесть ночи, здесь дышалось как-то особенно легко и приятно. Гигантские фигуры и причудливые очертания деревьев с их воздушными зелеными шапками производили впечатление ряда величественных изваяний, а стройные линии стволов невольно манили глаз вверх, все выше и выше, пока восхищенный взгляд не останавливался, наконец, на самых верхних, самых нежных листочках кроны, дрожавших и сверкавших на светлом, почти серебристо-белом фоне далекой небесной лазури. Проворные грациозные белочки весело, живо и игриво качались и перепрыгивали с ветки на ветку, с одного дерева на другое, словно носились по воздуху. Это было самое подходящее место для истинного и убежденного служителя и поклонника богини Гигиеи.
— Бывал ты когда-нибудь во Франшаре, Жан-Мари? — спросил своего спутника доктор.
— Никогда, — ответил мальчик.
— Это развалины среди ущелья, — продолжал патрон, принимая свой поучительный менторский тон. — Развалины отшельнического скита и часовни. В истории говорится довольно много о Франшаре: упоминается о том, как часто здесь разбойники убивали отшельников, как одинокие монахи жили в строжайшем воздержании и как все свои дни проводили в молитвах. Сохранилось и дошло до нас послание, обращенное к одному из этих отшельников настоятелем его ордена. Всякий монах, видишь ли, принадлежал к какому-нибудь ордену, а настоятель являлся главой всего ордена. Послание это замечательно тем, что оно содержит массу самых разумных гигиенических советов: в нем отшельнику рекомендуется оставлять книгу, чтобы стать на молитву, и после молитвы снова приниматься за книгу, чтобы не утомлять себя чрезмерно тем или другим, а кроме того, время от времени, как только тот почувствует усталость, оставлять и книгу, и молитву и отправляться в сад и наблюдать за пчелами, делающими мед, и умиляться красотой природы. Ну разве это не моя нынешняя система? Ты, конечно, не раз замечал, что я отрывался от моей «Фармакопеи», иногда даже бросал ее на полуфразе, чтобы выйти на солнышко, на свежий воздух. Я положительно преклоняюсь перед автором этого послания: по всему видно, что это был человек мыслящий, озабоченный тем, что есть самого существенного и важного. И, право, если бы я жил в Средние века (но я от души рад, что этого не случилось), я, наверное, тоже стал бы отшельником, если бы только не был профессиональным шутом, потому что в те времена только эти две профессии были доступны человеку с философским складом ума. Ему оставалось лишь смеяться или молиться — иначе говоря, смех или слезы. Да, пока не воссияло солнце позитивной философии, мудрецу приходилось выбирать из этих двух занятий одно или другое.
— Я прежде был шутом, — заметил Жан-Мари.
— Не могу себе представить, чтобы ты пользовался успехом, подвизаясь па этом поприще, и едва ли эта профессия была по тебе, — проговорил доктор, любуясь серьезным и важным видом мальчика, когда он делал это заявление. — Да разве ты когда-нибудь смеешься?
— О, еще бы! — ответил он. — Я часто смеюсь. Я очень люблю шутки!
— Странное существо! — пробормотал Депрэ. — Но я уклонился от предмета, — продолжал он, — тысячи признаков и примет дают мне заметить, что я начинаю стареть. Мы говорили о Франшаре. Итак, Франшар был разорен и уничтожен англичанами во время той самой войны, которая стерла с лица земли город Гретц, или, вернее, сровняла его с землей. Но самое важное — это вот что: отшельники, или монахи, — поскольку в ту пору их было уже довольно много, и скит понемногу разросся в монастырь, — предвидели грозящую их монастырю судьбу и заблаговременно зарыли в землю и укрыли драгоценные церковные сосуды, не желая, чтобы те попали в руки нечестивцев и врагов рода человеческого. Говорят, что эти сосуды были неимоверной ценности, Жан-Мари, они были из чистейшего золота и превосходнейшей работы с великолепной чеканкой, и заметь, что с тех пор их так и не отыскали. В царствование короля Людовика Четырнадцатого какие-то люди энергично принялись за раскопки развалин Франшара, и что ты думаешь? Вдруг их заступы ударили обо что-то твердое, не похожее на землю. Теперь представь себе, как эти люди в недоумении и радости переглянулись между собой; представь себе, как сильно забились у них сердца, как кровь прилила к щекам и как снова отхлынула к сердцу и с какой лихорадочной поспешностью они вновь принялись рыть и разгребать землю. Наконец, в яме показался сундук, большой тяжелый сундук, и как раз в том месте, где, по преданию или по слухам, был зарыт клад Франшара! Обрадованные землекопы раскрыли его и, как голодные звери, кинулись на него! Увы! Это действительно были монастырские сокровища, но не драгоценная церковная утварь, а только священнические одеяния, которые при соприкосновении с воздухом моментально обратились в прах, точно по волшебству. Лица этих искателей покрылись холодной испариной. Жан-Мари, я готов поручиться своей честью, что если бы в ту минуту подул хоть сколько-нибудь резкий ветер, то кто-нибудь из них непременно подхватил бы какую-нибудь легочную болезнь за свои труды! — докончил доктор свой рассказ.
— Я хотел бы видеть, как эти одежды обратились в прах, — сказал Жан-Мари, — хотя я не стал бы и гнаться за этими вещами.
— У тебя нет никакого воображения! — воскликнул господин Депрэ. — Ты только представь себе эту сцену: несметные сокровища, лежащие многие века под спудом, глубоко под землей, словно спящие волшебным сном! Эти сокровища — это, так сказать, то, что могло бы подарить беспечную, сытную, роскошную жизнь, — лежащие без прока, без употребления, ведь это то, на что можно было бы купить роскошные одежды, ткани, меха, уборы и дивные художественные произведения! Ведь это быстрые, как ветер, рысаки, которые теперь лежат там под землей, недвижимые, словно над ними нависло заклятие. Эти сокровища могли бы вызвать чарующие улыбки на устах красавиц, которые теперь сомкнуты!.. Эти сокровища могли бы породить живой, одуряющий, ошеломляющий азарт, перед глазами людей запрыгали бы карты и кости! Эти сокровища — ведь это дивное оперное пение! Это стройный оркестр! Это замки, дворцы, роскошные тенистые парки, сады! Это суда под сводами белых парусов, несущих их, как крылья — чайку!.. И все это лежит там, как в гробу, глубоко под землей, и глупые нелепые деревья вырастают над этими богатствами и шелестят своей листвой, греясь на солнце из года в год. А клад все лежит, где лежал, и никому нет пользы от него… Нет! Одна мысль об этом может привести человека в бешенство! — заключил возбужденно доктор.
— Ведь это же только богатство, — сказал Жан-Мари, — только деньги. Они наделали бы много зла, я уверен.
— Глупости! — горячо воскликнул Депрэ. — Пустая философия! Оно, конечно, все это прекрасно, все эти рассуждения о вреде и зле богатства, я не спорю, но в данном случае они совершенно неуместны. В сущности, это вовсе не «только деньги», как ты говоришь, эти сосуды — дивные произведения искусства! Это старинная чеканная работа, художественная работа! Ты рассуждаешь как ребенок! Меня раздражает твоя привычка повторять ни к селу ни к городу мои слова без всякого смысла и толка, точно попугай!
— Ну, да ведь нам нет никакого дела до этого клада, — примирительно сказал мальчик.
В этот момент они выехали на большую дорогу; колеса одноколки застучали по камням шоссе, и этот перестук после мягкой лесной дороги, почти совершенно бесшумной, в связи с раздраженностью доктора заставил его замолчать. Тем временем повозка продолжала катиться вперед, и высокие деревья леса постепенно уходили вдаль, как будто молчаливо смотрели вслед проезжим, точно у них было что-то на уме. Миновав Квадрилатераль, они вскоре въехали во Франшар. Здесь путники оставили свой скромный экипаж и лошадь в одиноко стоящей маленькой гостинице, а сами отправились бродить в окрестностях развалин. Все ущелье густо заросло вереском, каменные глыбы скал и стройные березы особенно резко выделялись на этом фоне, освещенные ярким солнцем. Непрерывное жужжание пчел над цветами вереска располагало ко сну. Жан-Мари опустился на траву и, удобно расположившись под кустом, решил вздремнуть, тогда как доктор оживленно ходил взад-вперед, резко меняя направление, и зорким глазом отыскивал интересные для него экземпляры лекарственных трав. Голова мальчика слегка склонилась на грудь, глаза сомкнулись, руки бессильно упали на колени — он задремал. Вдруг внезапно раздавшийся неподалеку крик заставил его разом вскочить па ноги. Это был странный, пронзительный, но короткий возглас, как будто оборвавшийся на половине. Звук этот мгновенно замер, и кругом снова воцарилась полная тишина, как будто ее никто и не прерывал. Жан-Мари даже не узнал в этом вскрике голоса доктора Депрэ, но поскольку во всей ложбине не было ни единой живой души, кроме них, то было очевидно, что этот возглас издал не кто иной, как господин Депрэ. Мальчик оглянулся вправо и влево и увидел, наконец, своего патрона, стоявшего в нише, образованной на стыке двух каменных глыб; он как будто искал глазами своего спутника, бледный как полотно.
— Змея?! — воскликнул Жан-Мари, кинувшись к нему. — Змея? Она вас укусила?
Но вместо ответа доктор, тяжело ступая, с трудом выбрался из ниши и молча пошел навстречу мальчику, которого, подойдя, грубо схватил за плечо.
— Я его нашел! — громко выкрикнул он прерывающимся голосом.
— Какое-нибудь редкое растение? — спросил Жан-Мари.
На это Депрэ неестественно громко расхохотался; скалы подхватили этот смех, и эхо передразнило доктора.
— Растение! — повторил доктор почти злобно. — Редкое растение! Да, поистине очень редкое! Вот оно, — и при этом он вдруг вытянул вперед свою правую руку, которую до сих пор держал спрятанной за спиной, — это одна из его цветочных чашечек!
Глазам Жана-Мари предстало грязное блюдо, облепленное комками земли и глины.
— Это? — недоуменно воскликнул он. — Да ведь это тарелка!
— Нет, это карета, запряженная рысаками! — вскрикнул доктор. — Слушай, мой мальчик, — продолжал он, все более и более воодушевляясь, — я содрал большой пласт мха в этой трещине между двух утесов. Под этим мхом оказалась большая щель, и, когда я заглянул в нее, я увидел… Как ты думаешь, что я там увидел? Я увидел роскошный дом, дворец в Париже, с прекраснейшим парадным двором и садом, я увидел мою жену, сверкающую бриллиантами, я увидел себя депутатом, я увидел тебя, да-да, я увидел тебя в будущем, — докончил он уже с меньшим воодушевлением. — Короче говоря, я открыл Америку!
— Да что же это такое? — спросил мальчик в растерянности.
— Это франшарский клад! — воскликнул доктор. — Я нашел его!
И он откинул свою соломенную шляпу на траву и издал возглас, напоминающий крик индейцев, вышедших на военную тропу. Затем он бросился к Жану-Мари и стал душить его в своих объятиях, смачивая его лицо и волосы своими слезами, после чего растянулся на траве и захохотал так, что, вторя ему, загоготало эхо и раскатилось по всей лощине.
Но мальчик уже не обращал внимания на патрона — в нем проснулся другой интерес, интерес любопытного мальчугана, и едва он избавился от докторских объятий, как подбежал к двум глыбам скал, вступил в нишу, образовавшуюся между ними, и, запустив свою руку в щель в глубине ниши, стал доставать оттуда один за другим облепленные комьями земли и глины различные предметы: чаши, сосуды, светильники и кадильницы — словом, все имущество, скрытое здесь отшельниками Франшарского монастыря. Последним он достал драгоценный ларец, тщательно запертый и весьма тяжелый.
— Вот так штука! — воскликнул мальчуган.
Но, когда он оглянулся на доктора, который последовал за ним и, стоя за его спиной, молча следил за действиями своего подопечного, слова замерли на устах у мальчика. Опять лицо доктора стало мертвенно-бледным, землисто-серым, губы его подергивались и дрожали — им овладела какая-то животная алчность.
— Это ребячество! — проговорил доктор почти строго. — Мы теряем драгоценное время. Скорее беги в гостиницу, возьми одноколку и пригони ее вон к тому валу. Беги как можно скорее и помни — никому ни гу-гу, ни слова, ни звука, слышишь? Я останусь здесь сторожить.
Жан-Мари исполнил все, как ему было приказано, но не без удивления и некоторого недоумения. Он пригнал одноколку к указанному месту, и затем оба они вместе стали переносить все найденные драгоценности от того места, где их обнаружили, в ящик под кучерским сиденьем. Когда все, наконец, было убрано и уложено в ящик, доктор сразу повеселел, словно гора свалилась у него с плеч.
— Приношу дань признательности доброму гению этой лощины вместо жертвенного костра, жертвенного тельца и жбана вина. Кстати, я весьма расположен сейчас к такого рода жертвоприношению, то есть к возлиянию, и почему бы нам не устроить его в честь этого неизвестного доброго гения? Мы сейчас во Франшаре, и здесь можно получить английский светлый эль, ну, не классический, конечно, но тем не менее замечательный. Мы с тобой выпьем эля, мальчуган!
— Но я полагал, что этот напиток вреден, что пить его едва ли полезно для здоровья, и, кроме того, он дорог! — сказал Жан-Мари.
— Та-та-та! — весело воскликнул доктор. — Едем в гостиницу.
С этими словами он легко и проворно вскочил в свою одноколку, покачивая головой, совершенно повеселевший и помолодевший. Лошадь тронулась, и через несколько минут спутники уже подъехали к изгороди, которой был обнесен прилегавший к гостинице сад.
— Привяжи лошадь здесь, — распорядился доктор, — поближе к столику, чтобы мы могли не спускать глаз с наших вещей.
Привязав лошадь, они вошли в сад и уселись за столик. Господин Депрэ шел, то громко распевая на невероятно высоких нотах, то извлекая глухие раскаты откуда-то из глубины своей гортани. Затем он громко постучал пальцами по столу и потребовал эля, он шутил и острил со слугой, и, когда, наконец, на столе появилась желанная бутылка, несравнимо более насыщенная газом и потому пенившаяся гораздо сильнее, чем самое восхитительное шампанское, он наполнил высокий стаканчик пеной и пододвинул его через весь стол к Жану-Мари.
— Пей, — почти приказал он, — пей все до дна!
— Я бы предпочел не пить, — робко возразил мальчик, помня преподанные ему наставления.
— Что? — прогремел громовым голосом Депрэ.
— Я боюсь эля, у меня желудок… — начал было Жан-Мари, но доктор не дал ему докончить.
— Хочешь — пей, не хочешь — не пей! — почти свирепо накинулся на бедолагу патрон. — Только заметь себе раз и навсегда, что ничего не может быть противнее зануды!
Это было нечто совсем новое для Жана-Мари, и он сидел над своим стаканом, не притрагиваясь к нему, погруженный в размышления, тогда как Депрэ то и дело опорожнял и снова наполнял свой стакан. Сначала хмурясь, с недовольным видом, но постепенно, поддаваясь влиянию солнца, игристого хмельного напитка и собственному природному предрасположению чувствовать себя счастливым и довольным, доктор вскоре повеселел.
— В кои веки раз, при случае, — сказал он, наконец, полунаставительно, делая этим своего рода уступку мальчику, — в кои веки раз, учитывая столь исключительные обстоятельства!.. Этот эль — настоящий нектар, напиток богов!.. Привычка постоянно тянуть эль, действительно, унизительна и позорна. Вино, чистый виноградный сок — это настоящий напиток каждого француза, как я уже не раз имел случай доказывать тебе, и я, конечно, нисколько не осуждаю тебя за то, что ты отказываешься от этого заморского возбуждающего средства. Тебе могут подать вина и сладких пирожков или пирожных. Что, в бутылке уже пусто? Ну что ж, мы не побрезгуем и твоим стаканом! Нечего делать, надо над ним сжалиться!
Когда все пиво было выпито, доктор принялся ворчать и раздражаться на Жана-Мари, пока тот доедал свои сладкие пирожки.
— Я сгораю от нетерпения поскорее убраться отсюда, — сказал он, поглядывая на часы. — Боже правый, как ты долго ешь! Ты жуешь так медленно, точно беззубый старец!
А между тем сам он строжайше предписывал всегда жевать как можно медленнее, потому что в этом и заключается весь секрет долголетней жизни и здорового, исправного желудка.
Наконец, его мучения окончились; оба спутника сели на свои места в одноколку. Доктор Депрэ, удобно развалившись на заднем сиденье, объявил о своем решении ехать отсюда в Фонтенбло.
— В Фонтенбло? — переспросил Жан-Мари, не веря своим ушам.
— Я никогда не трачу слов даром! — грозно оборвал его доктор. — Раз я сказал, то этого должно быть довольно! Ну, пошел!
Депрэ казалось, что он едет по райским долинам; все его восхищало и пленяло, и все сливалось в каком-то блаженном самоощущении, и чудный свежий воздух, и яркое солнце, и зеленая, ласкающая глаз листва на деревьях, и даже само движение одноколки — все это как будто дополняло его золотые мечты. Откинув голову и прищурив глаза, он сладко мечтал; перед ним проносились самые радужные видения, в его мозгу эль и радость творили чудеса. Казалось, душа его пела от ликования. Наконец, доктор заговорил:
— Я хочу телеграфировать Казимиру, — сказал он. — Добрейшей души человек, но самого низкого порядка в отношении умственного развития — ни на грош творческих способностей, ни капли поэзии. А вместе с тем он стоит любого ученого: он сумел составить себе большое состояние и всецело обязан им самому себе и своим стараниям. Он самый подходящий человек для того, чтобы помочь нам реализовать, то есть обратить в деньги, наши драгоценности; он же найдет для нас подходящий дом в Париже и озаботится всем необходимым обзаведением. Чудеснейший человек и к тому же еще один из моих старейших товарищей! По его совету, могу добавить, я поместил свой маленький капитал в турецкие акции, и теперь, когда мы приобщим к ним эту нашу добычу из развалин средневекового монастыря, то вместе с той долей, какую мы уже имеем в фондах мусульманского государства, мы с тобой, милый мальчуган, будем прямо-таки утопать в деньгах, да! Положительно, утопать! Чудесные леса! — воскликнул он. — Прощаюсь с вами! Но, хотя меня и призывают иные картины, я никогда вас не забуду! Память о вас навеки запечатлелась в моем сердце! Ты видишь, Жан-Мари, что под влиянием свалившегося на меня благополучия я начал слагать дифирамбы! Таков естественный импульс души, таково было душевное состояние первобытного человека. А я — не стану отрицать несомненного факта из ложной скромности — да, я сохранил юность души своей во всей ее девственной неприкосновенности. Другой человек, который бы прожил все эти годы такой же сонной деревенской жизнью, без сомнения, заплесневел бы, размяк и стал бы однообразным, односторонним субъектом, а я, я могу считать себя счастливым тем, что судьба наделила меня такой натурой, которая помогла мне сохранить в себе всю эластичность, весь подъем, всю энергию человека, живущего полной жизнью. Новые богатства и новая сфера деятельности! Новый круг обязанностей застает меня полным сил и бодрости, полным энергии и жажды деятельности и лишь еще более созревшим благодаря вновь приобретенным знаниям. И эта предстоящая перемена во мне, Жан-Мари, вероятно, тебя поразила. Ну, скажи мне теперь, разве это не показалось тебе чем-то вроде непоследовательности с моей стороны, чем-то вроде непостоянства? Ведь да? Признайся, напрасно ты стал бы скрывать, ведь это тебя огорчило?
— Да, — тихо произнес мальчик.
— Вот видишь, — воскликнул доктор с неподражаемой хвастливостью, — видишь, я положительно читаю у тебя в мыслях! И я ничуть этим не удивлен. Ведь твое воспитание еще далеко не закончено, и высшие обязанности человека по отношению к себе и к обществу еще не были тебе изложены. Я еще не имел времени ознакомить тебя с ними. Но сейчас достаточно будет пока одного намека на них, мы поговорим с тобой об этом впоследствии, когда будет время. Теперь, когда я снова волей судеб стал самостоятельным человеком, после того как я так долго готовился в безмолвных размышлениях, в глубоком изучении себя и законов природы, теперь мой долг призывает меня в Париж! Мои научные познания, мой несомненный дар слова — все это толкает меня на служение моему народу и родной стране. Ложная скромность в данном случае была бы только простой уловкой; если бы слово «грех» было философским термином, я сказал бы, что это был бы грех! Человек никогда не должен отрицать своих несомненных, очевидных способностей и дарований, потому что это значит уклоняться от своих обязательств, от тех обязательств, которые: в него заложены самой природой, наделившей его этими способностями. Вот почему и я должен воспрянуть, и приняться за дело, и делать свое дело! Я не должен быть трутнем или трусом в жизни, я не имею на это права!
Так он тараторил без умолку, пытаясь замаскировать потоком слов свою непоследовательность, скрыть от чужих глаз трещину в скрижалях его недавних заветов под пестрыми цветами красноречия. А мальчик слушал своего наставника молча, глядя на круп лошади и думая свою думу. Мозг его работал лихорадочно, напряженно, но уста безмолвствовали. Никакие слова не могли поколебать убеждений Жана-Мари, и он въезжал теперь в Фонтенбло, преисполненный горечи, сожаления, негодования, возмущения и отчаяния.
По приезде в город Жан-Мари должен был оставаться пригвожденным к своему месту на козлах ради охраны находившихся в ящике под ними сокровищ, а доктор Депрэ порхал с какой-то странной легкостью, живостью и проворством манер из одного кафе в другое, пожимал дружески руки грациозным офицерам, с видом и искусством опытного знатока пил абсент, порхал из одного магазина в другой и возвращался нагруженный самыми разнообразными покупками: дорогими фруктами, настоящей, только что заколотой черепахой, куском превосходной шелковой материи для жены, какой-то нелепой тросточкой для себя и даже самого новейшего фасона кепи для Жана-Мари. Он, входил и выходил в двери телеграфной станции, откуда отправил депешу и спустя три часа получил ответ от Казимира с обещанием приехать на следующий день, согласно полученному приглашению. Словом, Депрэ осчастливил Фонтенбло своим в высшей мере благодушным настроением, озарил его первыми лучами своего счастья.
Солнце склонилось уже совсем низко, когда они, наконец, тронулись в обратный путь. Тени от деревьев ложились поперек широкой белой дороги, ведущей к дому; вечернее благоухание леса неслось, как облака фимиама, над зелеными вершинами леса, и даже на улицах города, где застоявшийся и нагретый в течение дня воздух, сдавленный между белыми раскаленными стенами целого ряда домов, раньше был душным и неприятным, теперь сменился отрадной прохладой, и даже здесь повеяло ароматами природы, которые заносил сюда попутный поток ветра, точно отдаленные звуки музыки. Они были на полпути к дому, когда последний золотой отблеск заходящего солнца сбежал с большого старого дуба, стоявшего по левую сторону от дороги. Когда путники выехали из леса, долина уже подернулась прозрачной дымкой легкого тумана, и громадная, бледная луна медленно всплывала на небо, ажурно просвечивая сквозь тонкую и нежную листву тополей.
Доктор то пел, то свистал, то без умолку говорил. Он говорил о лесе, о войнах и об осаждении рос или, весь загораясь, начинал рассказывать о Париже; он положительно уносился в облака и в приподнятом, почти высокопарном стиле превозносил стезю и заслуги политической карьеры.
Все должно было измениться отныне, и с угасающим днем уносились последние следы прежней жизни. На следующее утро должна была взойти заря уже новой жизни.
— Довольно! — воскликнул Депрэ. — Пора положить конец этому умерщвлению плоти! Жена моя еще красива и прелестна (или я слишком снисходителен к ней), она не должна долее оставаться погребенной в этой глуши, теперь она будет блистать в обществе. А Жан-Мари увидит весь свет у своих ног, и все дороги к успеху, к богатству, к почестям будут ему открыты, и посмертная слава будет обеспечена ему, да и мне самому также! Ах да, кстати! — добавил он. — Бога ради, прошу тебя, не болтай никому о нашей находке. Ты, я знаю, парень необщительный, даже, пожалуй, чересчур молчаливый — это качество я с радостью признаю за тобой, потому что пословица гласит: «Слово — серебро, а молчание — золото!» Но в данном случае молчание чрезвычайно важно. Никто не должен знать о нашем кладе, ты понимаешь? Только одному добрейшему Казимиру можно доверить эту тайну; нам, вероятно, придется даже переправить эти сосуды в Англию и там их реализовать.
— Но разве они не наши?! — воскликнул мальчик со слезами в голосе, и это были единственные слова, какие он произнес за все это время.
— Наши в том смысле, что они никому другому сейчас не принадлежат, — ответил доктор. — Но правительство может предъявить свои права, если станет известно, что мы нашли клад. И представь себе, каковы наши законы: поскольку мы не заявили о кладе, то в случае, если бы у нас его похитили, мы не имеем права потребовать, чтобы нам его вернули, потому что по закону мы не имеем на него прав. Мы не можем начать дела о розыске, не можем заявить в полицию о пропаже…[7] Все это очевидные примеры тех недочетов и несправедливостей нашего законодательства, которые еще предстоит исправить какому-нибудь деятельному, энергичному и решительному депутату с философским складом ума.
Жан-Мари ничего не ответил на эту тираду — он все свои надежды возлагал теперь на госпожу Депрэ. И когда их одноколка стала спускаться по обсаженной тополями дороге, ведущей из Буррона в Гретц, мальчик усердно шептал про себя молитву и стал погонять лошадь, требуя от нее необычайно быстрой рыси. Без сомнения, как только они вернутся домой, мадам проявит свой характер и положит конец этому дикому бреду.
Неистовый лай всех деревенских псов возвестил о въезде экипажа в Гретц, как будто все они чуяли присутствие клада в одноколке. Но на улице не было никого, кроме трех приезжих художников-пейзажистов, прохаживавшихся перед гостиницей госпожи Тентальон. Жан-Мари распахнул зеленые ворота и ввел во двор лошадь с одноколкой; почти в тот же момент госпожа Депрэ появилась на пороге кухонного крыльца с зажженным фонарем в руках. Поскольку луна поднялась еще недостаточно высоко, чтобы осветить двор и проникнуть за ограду сада, то во дворе было еще темно.
— Запирай ворота и калитку, Жан-Мари! — крикнул доктор, вылезая из экипажа и не совсем твердой поступью обходя его кругом. — А где Алина, Анастази?
— Она отпросилась в Монтеро повидаться с родными, — ответила госпожа Депрэ.
— В таком случае все устраивается как нельзя лучше! — энергично воскликнул доктор. — Иди сюда скорее, Анастази, и подойди ко мне как можно ближе, потому что я не хочу говорить слишком громко. — И затем прибавил: — Мы с тобой теперь богаты, моя дорогая!
— Богаты? — повторила за ним жена.
— Да, мой ангел, очень богаты! Ведь я нашел клад Франшарского монастыря, — воодушевленно продолжал супруг. — Смотри, а вот и первые плоды! Гранаты, ананас! Вот шелковое платье для тебя — оно тебе подойдет наилучшим образом, поверь вкусу мужа, вкусу возлюбленного! Я лучше всех знаю, что тебе к лицу! Ну, поцелуй же меня, моя красавица!.. Скучный период нашей жизни миновал, теперь бабочка расправит свои пестрые крылышки! Завтра приедет Казимир, а через неделю мы уже можем быть в Париже! Наконец-то мы будем счастливы! У тебя будут бриллианты, выезды, слуги. Жан-Мари, вынимай все из ящика, да осторожнее, и неси все, одну вещь за другой, прямо в столовую. Теперь у нас на столе будет серебро, да! Ты только поторопись, моя ненаглядная, приготовить эту черепаху — она будет прекрасным добавлением к нашим повседневным скудным яствам… Я сам схожу в погреб и принесу оттуда к столу бутылочку того прекрасного божоле, которое ты так любишь. Да, кстати, надо кончать и «Эрмитаж»! Его осталось еще три бутылки… Это редкое вино, душа моя, приличествует такому редкому случаю, как сегодняшний!
— Но, милый супруг мой, у меня голова идет кругом от твоих речей, я в толк взять не могу…
— Черепаху-то, черепаху, душа моя, готовь скорее! — И любящий муж ласково втолкнул свою благоверную в кухню с черепахой и фонарем в руках.
Жан-Мари стоял совершенно ошеломленный. Совершенно иначе представлял он себе эту сцену: он ждал более энергичного протеста со стороны жены доктора; он ожидал, что она немедля постарается образумить мужа, укажет ему на его сумасбродство, станет упрекать его в непоследовательности, в неблагоразумии, — но ничего подобного не произошло! И его надежды на хозяйку стали улетучиваться и рассыпаться в прах.
Доктор был воистину вездесущ. Он суетился, хлопотал, торопливо носился туда и сюда, не совсем твердо держась на ногах и то тут, то там задевая плечом об стену. Он уже очень давно не пил абсента и теперь сам убедился в том, что лучше было бы его не пить.
— Абсент — это какое-то недоразумение, а не напиток! — возмущался он.
Не то чтобы Депрэ раскаивался, что позволил себе выпить лишнего в такой знаменательный и счастливый день, нет! Но он мысленно решил впредь быть осторожнее и остерегаться этого коварного напитка и дал себе слово вторично не поддаваться столь предосудительной и пагубной привычке.
В мгновение ока он слетал в погреб и принес оттуда вино, затем расставил драгоценную церковную утварь, канделябры и сосуды, все еще облепленные пылью веков, землей и глиной, — частью на белоснежной скатерти, покрывавшей обеденный стол, частью на буфете.
Он то и дело заходил на кухню, навязчиво потчуя Анастази вермутом и разжигая ее воображение соблазнительными картинами будущего благополучия и роскошной жизни. С каждым разом он все увеличивал сумму их вновь обретенного богатства, так что еще прежде, чем семья села за стол, благоразумная и рассудительная госпожа Депрэ утратила окончательно эти свои замечательные качества и совершенно растаяла на огне бушующего энтузиазма своего восторженного супруга. Ее обычная сдержанность и молчаливость исчезли, она тоже была несколько под хмельком. С горящими глазами и румянцем возбуждения на щеках, она много говорила и теперь уже пренебрежительно отзывалась об их мирной и скромной жизни в Гретце.
Садясь за стол и разливая суп, госпожа Депрэ уже смотрела на все совершенно по-иному. Ее глаза теперь сверкали блеском ожидаемых в будущем бриллиантов. Во все время ужина и она, и доктор продолжали строить фантастические планы, поддразнивали друг друга, подшучивали и подсмеивались, кивали друг другу и готовы были биться об заклад о разных пустяках. При этом лица их расплывались в счастливой улыбке, глаза сыпали искры, особенно в те моменты, когда они предвкушали политический успех, почести и величие доктора и салонные победы, триумф и овации в адрес мадам Депрэ.
— Но ты ведь не станешь красным? — воскликнула Анастази.
— Я принадлежу к левому центру, — заявил доктор.
— Мадам Гастейн введет нас в общество. О нас, верно, успели уже позабыть, — сказала супруга.
— Забыть? Никогда! Красота и изящество всегда оставляют след и память о себе! — запротестовал галантный кавалер.
— Но я положительно разучилась одеваться, — со вздохом кокетливо промолвила Анастази.
— Душа моя, ты заставляешь меня краснеть! — воскликнул муж. — Твой брак со мной оказался, можно сказать, трагедией: я вырвал тебя из общества и заточил в этой глуши, в этой забытой всеми деревеньке!
— Но зато теперь твои успехи, радость видеть тебя оцененным по достоинству, окруженным почетом, видеть имя твое прославленным всеми газетами будет уже более чем радостью, это будет для меня блаженством! — воскликнула она, невольно перенимая восторженный тон супруга.
— А раз в неделю, — сказал доктор, лукаво подчеркивая свои слова, — раз в неделю мы позволим себе поиграть в баккара!
— Только раз в неделю? — поинтересовалась она, усмехнувшись и игриво пригрозив ему пальчиком.
— Клянусь тебе моей честью, честью политического деятеля!
— Право, я балую тебя, — проворковала Анастази и протянула супругу ручку для поцелуя.
Он восторженно прильнул к ней и стал покрывать поцелуями.
Жан-Мари тем временем незаметно выбрался из дома в сад. Луна стояла высоко в небе, заливая своим мягким светом Гретц. Мальчик прошел в самый дальний конец сада и сел на скамеечку у пристани. Мимо тихо струилась река, серебристыми переливами сверкала вода под луной, напевая свою тихую однозвучную песню. Легкая дымка тумана колебалась среди тополей по ту сторону реки, камыши медленно склонялись под слабым дуновением ветерка, как будто кивали кому-то. Все это мальчуган видел уже сотни раз, сотни раз в такие же лунные ночи сидел он здесь, над этой сонной рекой, и с невозмутимым спокойствием следил за ее неторопливым течением. А теперь, быть может, сидел на своем любимом месте в последний раз.
Он должен был покинуть эту мирную деревушку, где все было так знакомо и мило, эту местность, зеленеющие кругом луга, шелестящие своей густой листвой леса и эту светлую величественную речку. Покинуть это все и переселиться в большой город. Его милая госпожа будет разряженная расхаживать по гостиным, вращаться в блестящих салонах, а его добродушный, словоохотливый мягкосердечный наставник станет крикливым и вздорным депутатом, и оба они будут навсегда потеряны для него, для Жана-Мари, и утратят свои лучшие душевные качества.
Мальчик отлично сознавал и свои недостатки, и свое положение. Он понимал, что в водовороте шумной, суетливой столичной жизни с ее ложными амбициями и претензиями изменится и его собственное положение в семье, что там на него станут обращать все меньше и меньше внимания, все меньше и меньше будут считаться с ним, и постепенно из приемного сына он превратится в слугу. И он смутно начинал верить в осуществление зловещих предсказаний доктора. Он уже сейчас мог наблюдать разительную перемену в обоих.
На этот раз даже его обычное великодушное отрицание слабостей его благодетелей изменило мальчику, да и неудивительно, даже малый ребенок заметил бы, что «Эрмитаж» довершил то, чему положил начало абсент. И если это произошло в первый же день после обнаружения столь необычайной находки, то чего же следовало ожидать в дальнейшем?
«Если потребуется, останови поезд!», «Вызови крушение, если это будет нужно!» — припоминал он слова доктора. И, окинув взглядом чарующую картину мирно спящих окрестностей, Жан-Мари с наслаждением потянул в себя воздух, насыщенный ароматами свежескошенного сена, и снова прошептал: «Вызови крушение поезда, если это будет нужно», — глубоко вздохнул и в тяжелом раздумье побрел в дом.
VI
Двойное следствие
На следующее утро все в доме доктора были охвачены необычайным волнением. Перед отходом ко сну хозяин собственноручно запер все свои драгоценности в буфет, стоящий в столовой, и, представьте себе, когда он встал утром, по обыкновению, около четырех часов и вышел в столовую, то увидел, что буфет стоит взломанный и все хранившиеся в нем драгоценности исчезли. Тотчас же были вызваны из своих спален и мадам, и Жан-Мари, которые явились на зов, наскоро накинув на себя кое-что из платья, и застали доктора вне себя от расстройства. Он положительно безумствовал, обращался к Небесам, приглашая всех в свидетели постигшей его несправедливости, призывал громы небесные на голову неизвестного злоумышленника и грозил отмщением, в неизбывном горе мечась по комнате, отчего подол его ночной сорочки развевался как флаг.
— Пропали! — восклицал он. — Все драгоценные предметы пропали, а вместе с ними и наше богатство! И мы опять нищие, беднота, голь! Мальчуган, скажи, может, ты знаешь что-нибудь об этом? Говорите скорее, сударь, говорите все, что вам известно! Знаешь ты, куда они могли деться?! Где они?
И обезумевший доктор ухватил мальчугана за плечо и стал трясти его, как грушу, так что слова, если только это можно было так назвать, посыпались у него с уст неразборчивым лепетом, из которого ничего невозможно было понять.
Придя немного в себя от чрезмерного возбуждения, Депрэ отпустил ребенка и только тут заметил супругу, заливавшуюся слезами.
— Анастази, — сказал он уже совершенно иным тоном, — возьми себя в руки, овладей собой и своими чувствами; я не желал бы видеть тебя ревущей, как простая баба. Это пустячное происшествие должно быть поскорее забыто! Надо уметь с достоинством переносить всякие невзгоды, а не только такие сравнительно маловажные пустяки. Жан-Мари, принеси мне мою маленькую походную аптечку: в подобных случаях рекомендуется какое-нибудь легкое слабительное.
И он выдал всем домочадцам соответствующую дозу лечебного снадобья, начиная с самого себя и приняв ради примера остальным двойную дозу. Несчастная Анастази, никогда ничем не болевшая и питавшая почти суеверный ужас перед всякого рода лекарствами, снова залилась горючими слезами, долгое время отбивалась, протестовала и отнекивалась, но наконец вняла уговорам мужа и хлебнула. Затем снова пришлось прибегать к покрикиванию, понуканию, чуть ли не угрозам, чтобы принудить ее допить остальное. Что же касается Жана-Мари, то он стоически проглотил поднесенную ему порцию слабительного без малейших возражений.
— Я дал ему меньшую дозу, — заметил доктор, — юность ограждает его от слишком сильных потрясений: в его годы волнения не так сильно отражаются на организме… Ну, а теперь, приняв меры против возможных неприятных последствий, мы можем приступить и к обсуждению случившегося.
— Я озябла, мне холодно, — стала жаловаться госпожа Депрэ.
— Холодно! — воскликнул доктор. — Благодарю Бога, что он создал меня из более горячего материала! Ведь подобный удар мог бы вызвать испарину даже у лягушки! Если ты озябла, то можешь идти к себе, в свою спальню, да, кстати, кинь мне сверху брюки, а то у меня ноги зябнут.
— Ах, нет, — возразила Анастази, — я хочу остаться здесь, с тобой!
— В таком случае, сударыня, я не допущу, чтобы вы страдали за свою супружескую преданность. Я сейчас пойду и принесу вам шаль.
И нежный муж побежал наверх и вскоре вернулся более одетый и с целой охапкой шалей, платков и пледов для дрожавшей от холода жены.
— Ну, а теперь, — заявил он, — приступим к расследованию сего преступления. Будем придерживаться индуктивного метода. Анастази, не знаешь ли ты чего-нибудь, что могло бы навести нас на след?
Но госпожа Депрэ не знала ровным счетом ничего.
— А ты, Жан-Мари?
— Я тоже ничего не знаю, — твердым голосом ответил мальчик.
— Прекрасно, — проговорил новоявленный следователь, — теперь мы обратим наше внимание на вещественные доказательства (я, очевидно, рожден быть сыщиком — у меня и глаз верный, и аналитический склад ума). Итак, прежде всего, мы видим, что кража была произведена со взломом: дверцы буфета раскрыты, замок поврежден, и следует мимоходом заметить, что замок был из прочных, судя по тому, сколько я за него заплатил. Затем, мы имеем орудие, которым был произведен взлом! Это один из наших же столовых ножей, да еще, заметь, один из лучших, моя дорогая. Это доказывает, что кража была не предумышленная со стороны шайки грабителей, если только здесь действовала шайка. Наконец, я замечаю, что ничего, кроме драгоценностей франшарского клада, не тронуто. Даже все наше столовое серебро осталось в полной неприкосновенности. Это весьма хитро и предусмотрительно со стороны грабителей. Это доказывает основательное знакомство с уложением о наказаниях и желание избежать всего, что могло бы повлечь за собой малейшую ответственность перед законом. Из этого я вывожу заключение, что данная шайка насчитывает в числе своих членов людей почтенных, то есть, конечно, только внешне почтенных, как то доказывает самый факт хищения. А во-вторых, я утверждаю, что за нами тайно следили в течение всего вчерашнего дня и в самом Франшаре, где за нами подглядывал какой-нибудь очевидец нашей находки, выследивший нас с искусством и ловкостью настоящего сыщика и с терпением, должен сказать, необычайным. Какой-нибудь заурядный преступник или случайный вор не в состоянии был бы проявить столько рассудительности и предусмотрительности. Несомненно, что по соседству с нами поселились или временно приютились какие-нибудь бежавшие из тюрьмы разбойники, выдающиеся по уму и ловкости.
— Боже правый! — воскликнула в ужасе Анастази. — Как ты можешь говорить такие вещи, Анри!..
— Полно, возлюбленная моя, ведь я пришел к этому путем использования индуктивного метода, — сказал доктор, — и если какой-нибудь из моих выводов кажется тебе ошибочным, останови меня, поправь! А, ты молчишь! В таком случае, умоляю тебя, не будь столь возмутительно нелогична, не ропщи на мои выводы! Как видите, мы теперь уже установили некоторые данные относительно состава шайки, потому что я все-таки склоняюсь к предположению, что их было более одного человека, а теперь мы можем покинуть эту комнату, которая не представляет для нас более никакого интереса, и перенесем наше внимание на двор и сад. Жан-Мари, я надеюсь, что ты внимательно следишь за моим образом действий в данном случае. Это может послужить тебе превосходным уроком, имеющим весьма важное значение. Пойдемте со мной к двери; обратите внимание, на дворе не видно никаких следов — это потому, что наш двор, к несчастью, мощеный. Вот от каких пустяков иногда зависит участь расследований. Э! Да что это я вижу! Ну, теперь я уверен, что развязка близится, — я привел вас к самому месту бегства грабителей! — вдруг воскликнул господин Депрэ, величественно отступив назад и указывая торжественным жестом на зеленые ворота и забор. — Вы видите, здесь воры перелезли через ворота!
Действительно, зеленая краска в нескольких местах облупилась и была содрана, и на одной из досок явственно сохранился след подбитого гвоздями сапога; очевидно, нога в этом месте соскользнула, а потому определить размер этой ноги было затруднительно, также совершенно невозможно судить о форме самих гвоздей.
— Вот вам полная картина всего преступления! — торжествующе заключил доктор. — Шаг за шагом я восстановил его от начала до конца! Далее этого индуктивный метод не может идти.
— Удивительно, право! — с восхищением сказала супруга. — Тебе бы в самом деле быть сыщиком, мой друг. Я не имела представления, Анри, что ты обладаешь такими талантами.
— Дорогая моя, — снисходительно пояснил доктор, — человек науки с живым воображением всегда совмещает в себе и остальные, низшего порядка, способности: он одновременно и следователь, и сыщик, и публицист, и главнокомандующий. Потому что все это только, так сказать, различные сферы применения его обширных основных талантов и способностей. Ну, а теперь, — продолжал он, — желаете ли вы, чтобы я пошел еще дальше, чтобы я, так сказать, наложил руку на виновников преступления, или, вернее, поскольку я не могу вам это обещать, желаете ли вы, чтобы я указал тот дом, в котором они сговаривались и совещались перед преступлением и где они, быть может, и теперь еще находятся? Все же это послужит своего рода удовлетворением для нас, так как это в любом случае все, на что можно рассчитывать при данных условиях, когда мы совершенно лишены поддержки закона. Итак, я продолжаю идти далее по тому же пути, чтобы дополнить набросанную мною картину преступления. Необходимо, чтобы человек, решившийся на это дело, имел возможность и привычку бродить без определенной цели по лесу, чтобы это был человек, не лишенный известного образования, чтобы это был человек, стоящий выше всяких моральных устоев. Все эти необходимые качества мы можем найти в квартирующих у госпожи Тентальон постояльцах. Они художники, живописцы и к тому же еще пейзажисты, а следовательно, они только и делают, что слоняются по окрестностям, по полям и лесам. Затем, как художники, это, по всей вероятности, люди не без некоторого образования, нахватавшиеся верхушек там и сям, и, наконец, поскольку они живописцы, то, конечно, это люди без всякой морали. Свой вывод я могу доказать двумя способами: во-первых, тем, что живопись — это искусство такого рода, которое говорит только глазу и отнюдь не влияет на моральные качества человека, а во-вторых, живопись, наравне со всеми остальными искусствами, требует от своих служителей усиленного воображения. А человек с чрезмерно развитым воображением никогда не может быть высоконравственным. Он постоянно залетает за пределы дозволенного и рассматривает жизнь под разными углами зрения, видит ее в необычном, часто колеблющемся свете и не может удовольствоваться и примириться с ненавистными ему требованиями и установлениями закона.
— Но ведь раньше ты всегда говорил — по крайней мере я тебя всегда так понимала, — что у этих молодцов нет решительно никакой фантазии, никакого воображения! — заметила мадам.
— Напротив, душа моя, они проявили свое воображение уже в том, что избрали эту нищенскую профессию художников. Проявили самое фантастическое воображение, говорю я тебе, а кроме того — и это аргумент, вполне соответствующий уровню твоего понимания, моя дорогая, — большая часть из них — англичане или американцы, а где же еще, как не среди представителей этих двух наций, искать воров! Ну, а теперь тебе следовало бы позаботиться о кофе, моя возлюбленная: то, что мы лишились наших сокровищ, еще не является для нас основанием, чтобы умирать с голоду! Что касается меня, то я, прежде всего, разговеюсь белым вином. Я чувствую себя необыкновенно разгоряченным и испытываю сильную жажду, приписывая это исключительно потрясению, испытанному мной в тот момент, когда я обнаружил пропажу. И все же, ты отдашь мне справедливость, я с достоинством и благородством принял и выдержал этот удар.
За истекшее время доктор успел договориться уже до того, что вернул себе свое обычное доброе расположение духа. Он сидел теперь в беседке и медленно, но с видимым наслаждением, тянул из большого стакана белое вино, проглатывая, словно нехотя, в качестве закуски к вину крошечные кусочки хлеба с сыром. И если одна треть его мыслей была еще занята пропавшими драгоценностями, то уж две трети их наверняка были поглощены приятным переживанием столь мастерски проведенного им следствия.
Около одиннадцати часов неожиданно прибыл Казимир — ему удалось попасть на ранний поезд, отправлявшийся в Фонтенбло, и оттуда он приехал на лошади, чтобы не терять времени даром. Доставивший его экипаж стоял теперь во дворе гостиницы госпожи Тентальон, и он, взглянув на свои карманные часы, заявил, что в его распоряжении есть полтора часа времени. Это был весьма характерный образчик делового человека: он говорил уверенным, решительным тоном, имел привычку выразительно и многозначительно хмурить брови. По отношению к Анастази, приходившейся ему родной сестрой, он не проявил никакой особенной нежности, а только наскоро удостоил ее английским родственным поцелуем и тотчас же потребовал, чтобы ему дали поесть.
— Вы можете рассказать мне свою историю, пока мы будем закусывать, — сказал он. — Ты угостишь меня сегодня чем-нибудь вкусным, Стази?
Та обещала побаловать его на славу, и все трое сели за стол в зеленой беседке, а Жан-Мари одновременно и прислуживал, и сам ел тут же за столом. Доктор с необычайными прикрасами, метафорами и всевозможными речевыми ухищрениями рассказал шурину обо всем случившемся. Казимир слушал его, покатываясь со смеху.
— Экая полоса счастья тебе привалила, мой дорогой братец! — воскликнул шурин, когда доктор окончил свой рассказ. — Благодари бога, что все так случилось! Ведь, если бы ты переехал в Париж, ты бы в три месяца спустил все свое благоприобретенное богатство, да еще вдобавок и то, что имеешь сейчас. И тогда вы опять потянулись бы ко мне, как в прошлый раз. Но предупреждаю вас, сколько бы ты ни плакала, Стази, и сколько бы ни мудрствовал и ни рассуждал Анри, все это во второй раз вас не спасет, не вызволит вас из беды, и ваша новая катастрофа неизбежно окажется для вас фатальной. По-моему, я уже говорил тебе это, Стази. Что? Не помнишь? Неразумны вы, словно малые ребята.
При этих словах шурина доктор поморщился и взглянул украдкой на Жана-Мари, но мальчик, казалось, ничего не слышал и оставался совершенно апатичным и безучастным к разговору.
— И потом, — продолжал снова Казимир, — какие же вы дети, глупенькие, балованные дети! Клянусь честью! Как могли вы оценить так высоко всю эту рухлядь? Быть может, она стоила всего грош или немногим больше того!
— Ну, извини, — остановил его доктор, — я вижу, что ты сегодня умен не менее обыкновенного, но зато, несомненно, менее рассудителен. Согласись, что я не совсем невежествен в делах подобного рода, что я в них хоть сколько-нибудь, да понимаю.
— Ты не совсем невежествен в чем бы то ни было, о чем я когда-либо слышал! — засмеялся Казимир с почтительным поклоном в сторону шурина, поднимая свой стакан с несколько преувеличенной галантностью.
— Во всяком случае, — резюмировал свою речь доктор, — я полагаю, ты не сомневаешься, что все это я основательно обдумал и взвесил, и ты можешь мне поверить, что, по моим расчетам, эти вещи должны были по меньшей мере удвоить наш капитал.
И он принялся подробно расписывать саму находку.
— Честное слово, я наполовину тебе верю, Анри! — воскликнул Казимир. — Но пойми, что очень многое зависит от качества самого золота.
— А золото, я тебе доложу, дорогой мой, такое! — И, не найдя соответствующего выражения, доктор, смачно причмокнув, поцеловал кончики своих пальцев.
— Твоего свидетельства, мой милый, еще не вполне достаточно для надлежащей оценки вещей, — заметил деловой человек. — Ты, мой друг, имеешь привычку видеть все в розовом свете, но в любом случае эта кража, это исчезновение — дело весьма загадочное, весьма странное. Конечно, я совершенно не принимаю в расчет твои глупые измышления относительно шайки грабителей и злополучных художников-пейзажистов. Для меня все это полная чепуха! А вот ты лучше скажи мне, кто был у вас вчера в доме после того, как вы привезли сюда все эти драгоценные сосуды?
— Да никого, кроме нас, — сказал доктор.
— И вот этот юный джентльмен? — спросил Казимир, кивнув по направлению Жана-Мари.
— И он тоже, конечно, — утвердительно ответил доктор.
— Прекрасно! А можно поинтересоваться, кто он такой? — продолжал допрашивать гость.
— Жан-Мари, — сказал доктор, — олицетворяет у нас в доме счастливое сочетание приемного сына и конюха. Он начал свою карьеру с первого и вскоре достиг высшего положения и в нашем доме, и в наших сердцах. И я смело могу сказать, что в настоящее время он составляет величайшее утешение в нашей жизни.
— О, вот как! — промолвил несколько насмешливо Казимир. — Ну, а перед тем, как он стал членом вашей семьи, кем он был?
— О, Жан-Мари может похвалиться тем, что его жизнь сложилась самым удивительным образом. Его опыт в высшей степени поучителен, и он пошел мальчику на пользу, — начал рассказывать доктор, постепенно все более и более воодушевляясь. — Если бы мне пришлось избирать систему воспитания для моего родного сына, я остановился бы именно на таком воспитании. Представь себе, Казимир, начав жизнь среди паяцев, акробатов и воров, он поднялся неизмеримо выше и вошел в общество людей порядочных, приобрел дружбу и уважение почтенного философа и таким образом, можно сказать, изведал всю суть человеческой жизни! — ораторствовал почтенный философ.
— Среди воров? — задумчиво протянул Казимир. — Это любопытно!..
Теперь доктор, кажется, был готов откусить себе язык за это необдуманное слово, сорвавшееся у него в порыве красноречия: он явственно предвидел, что из этого должно было выйти, и уже готовил в уме самый энергичный протест, самый горячий отпор.
— А сами вы когда-нибудь воровали? — неожиданно обратился Казимир непосредственно к Жану-Мари, и при этом он впервые вставил в глаз свой монокль, болтавшийся у него на шнурке.
— Да, сударь, — ответил мальчик твердо и спокойно, но при этом густо покраснел.
Казимир обернулся к присутствующим, многозначительно поджал губы и подмигнул.
— Ну что? — спросил он. — Что вы на это скажете, господа?
— Жан-Мари чрезвычайно честен, он всегда говорит правду! — с горделивым видом, выпятив грудь вперед, заявил наставник мальчика.
— Он никогда не сказал ни единого слова лжи! — подтвердила Анастази. — Это лучший ребенок, какого я когда-либо знала в своей жизни, — добавила она убежденно.
— Никогда не сказал ни слова лжи! Неужели? — рассуждал как бы про себя Казимир. — Странно, весьма странно… Прошу тебя удостоить меня на некоторое время своим милостивым вниманием, мой юный друг, — продолжал он, снова обращаясь к Жану-Мари. — Скажи мне, тебе было известно об этих драгоценностях?
— Ну конечно! Ведь он же вместе со мной привез их из Франшара, — ответил за своего подопечного доктор.
— Депрэ, — остановил Казимир хозяина дома, — я ничего не прошу у тебя, лишь только одной милости — подержи ты некоторое время свой язык за зубами! Я намерен расспросить кое о чем вот этого твоего маленького конюха, и если ты так убежден в его невиновности, то смело можешь предоставить ему самому отвечать на мои вопросы. Итак, молодой человек, — продолжал Казимир, наведя свой монокль прямо на лицо Жана-Мари, — вы знали, что эти вещи могли быть безнаказанно украдены? Вы знали, что вас за это нельзя будет преследовать? Ну же, говорите! Знали вы это или нет?
— Знал, — сказал Жан-Мари почти шепотом.
Он сидел как на иголках, поминутно меняясь в лице, становясь поочередно то ярко-красным, то мертвенно-бледным, как меняющий цвета фонарь маяка. Он нервно ломал пальцы и глотал воздух, словно задыхался или был близок к истерике. Словом, в глазах Казимира он представлял собой воплощенную виновность.
— Вы знали, куда были убраны эти вещи? — продолжал свой допрос безжалостный инквизитор.
— Да, — вымолвил Жан-Мари.
— Вы говорите, что раньше вы были вором, — не унимался Казимир. — Но кто же поручится мне за то, что вы теперь перестали быть вором? Я полагаю, что вы могли бы, в случае надобности, перелезть через зеленые ворота, не так ли?
— Да, — тише прежнего ответил допрашиваемый.
— Ну, значит, ты и украл эти драгоценности! Ты сам это отлично знаешь и даже не можешь этого отрицать. Посмотри мне прямо в лицо! Ну же! Подыми на меня свои воровские глаза и отвечай!
Но вместо какого-либо ответа мальчуган разразился страшным ревом и стремглав выбежал из беседки. Анастази кинулась за ним, желая нагнать беглеца, чтобы приласкать и успокоить бедного мальчика, но уже на ходу она все-таки успела крикнуть брату:
— Казимир, ты просто грубое бесчувственное животное!
— Да, братец, — сказал в свою очередь доктор с легким упреком и известным чувством собственного достоинства, сквозившим в голосе, — ты позволяешь себе уж слишком большую вольность в данном случае…
— Что?.. Послушай, Депрэ, будь же ты хоть раз в жизни логичен, прошу тебя! Не ты ли телеграфируешь мне, чтобы я бросил все свои дела и ехал сюда, к тебе, для того, чтобы заняться устройством твоих дел! Я приезжаю, спрашиваю, в чем заключаются эти твои дела, и ты говоришь мне: «Меня обокрали, укажи мне вора!» Я нахожу этого вора, указываю тебе на него, как ты того хотел, и говорю тебе: вот он! Ты, конечно, вправе быть недовольным и раздосадованным тем, что все вышло именно таким образом, но ты не имеешь решительно никакого основания упрекать меня в чем-либо или возмущаться моим поведением.
— Пусть так, я, пожалуй, готов с тобой согласиться, — проговорил доктор, — я даже готов благодарить тебя за твое старание, хотя и напрасное, но в любом случае должен же и ты согласиться, что твое предположение воистину чудовищное и в высшей степени нелепое и неправдоподобное.
— Постой, — снова остановил шурина Казимир, — кто из вас украл эти драгоценности? Ты или Стази?
— Ну конечно, не она и не я! — ответил доктор.
— Так! Ну, значит, это сделал твой мальчишка-конюх! А теперь не будем больше говорить об этом. — И Казимир достал из кармана свой портсигар и стал выбирать сигару.
— Я скажу тебе еще вот что, — не унимался Депрэ. — Если бы ко мне пришел этот мальчик и сам признался мне, что он украл эти вещи, я не поверил бы ему, а если бы поверил, то сказал бы себе в душе, что если он это сделал, то сделал с благой целью! Вот как велика и непоколебима моя вера в него!
— Ну что же, превосходно! — снисходительно промолвил гость. — Дай мне огня, мне уже пора ехать! Да, кстати, я желал бы, чтобы ты меня уполномочил продать твои турецкие акции. Я давно уже говорю тебе, что там дело пахнет крахом, и теперь я опять предупреждаю тебя: акции эти очень ненадежны. Я отчасти именно ради этого и приехал сюда сегодня. Ты никогда не отвечаешь на письма. Сколько раз я писал тебе об этом, и как ты не можешь понять, что не отвечать на письма положительно непростительная привычка!
— Да-да, я знаю, что виноват перед тобой, но, добрейший мой Казимир, — ласково и мягко возразил Депрэ, — хоть я никогда не сомневался в твоей чрезвычайной деловитости, все же твоя проницательность имеет свои пределы.
— Ну, друг мой, я могу ответить тебе тем же! — воскликнул деловой человек. — Твоя уверенность граничит прямо-таки с безрассудством!
— Нет, ты сделай милость, оцени разницу между нами, — возразил доктор, улыбаясь. — Твое правило — безусловно доверять и в малом, и в большом, в серьезном деле и в пустяках суждению одного человека, то есть собственной почтенной особы. Я, в сущности, придерживаюсь, если хочешь, того же правила, но с той только разницей, что я к своим суждениям отношусь критически и смотрю на них широко открытыми глазами. Что из двух более рационально, предоставляю тебе судить самому.
— Ну, любезнейший мой, — воскликнул Казимир, — и я в свою очередь предоставляю тебе держаться твоих турецких акций и твоего честнейшего и благороднейшего конюха. И вообще, провалитесь вы все к черту со всеми вашими делами, управляйтесь с ними как знаете и как умеете, а я умываю руки! А тебя прошу только об одном: не пускайся ты со мной ни в какие рассуждения и умствования, терпеть этого не могу. Философствования твои для меня, честное слово, невыносимы, да мне и слушать-то их некогда! А в результате я мог бы и совсем не приезжать сюда, поскольку прока из этой моей поездки все равно никакого не вышло. Кланяйся от меня Стази, и если ты уж непременно того желаешь, то и мошеннику конюху, а мне пора! Прощай! — И Казимир уехал.
В этот вечер доктор по косточкам разобрал характер своего старого товарища и родственника в беседе с его сестрицей.
— Он научился только одному за все долгие годы его знакомства с твоим мужем, моя красавица, — сказал Депрэ, — он научился словам «философствовать» и «мудрствовать», и эти слова сияют точно алмазы в его речах, точно светлячок в навозной куче. Да и то употребляет он их совершенно некстати и неуместно, как ты сама, вероятно, могла это заметить. Он употребляет эти слова в качестве бранных слов, придавая им смысл совершенно превратный. На его языке «философствовать» означает «лжемудрствовать»! Бедняга, по его мнению, все это пустые софизмы! Ну, а что касается его жестокого и неделикатного отношения к Жану-Мари, то извиним его — это зависит не от его натуры, а от рода его деятельности: человек, постоянно имеющий дело с деньгами и денежными расчетами, — человек пропащий! Тут ничего не поделаешь.
Но с Жаном-Мари не так легко было уладить это дело; процесс примирения подвигался весьма медленно. Первоначально он был положительно безутешен, не хотел слушать никаких увещеваний и настаивал на том, что уйдет из семьи доктора, при этом несколько раз разражался слезами. И только после того, как Анастази просидела с ним наедине, запершись, целых полтора часа, ей удалось добиться от мальчика кое-какого снисхождения. Выйдя от мальчугана, она разыскала мужа и с полными слез глазами сообщила ему о том, что́ между нею и Жаном-Мари произошло.
— Сначала он ничего и слышать не хотел, — рассказывала Анастази. — Вообрази себе, что бы это было, если бы он вдруг ушел от нас! Да что, в сравнении с таким горем, значит этот клад? Проклятый клад, ведь из-за него все это произошло! Бедняга так плакал, что, кажется, все сердце выплакал в слезах, и я плакала с ним, и только после того, после всех моих просьб и увещеваний он наконец согласился остаться с нами только на одном условии, а именно — что никто из нас никогда ни единым словом не упомянет об этом происшествии. Ни об этом возмутительном, постыдном подозрении, ни о самом факте кражи. Только на этом условии бедный мальчик, так жестоко пострадавший, соглашается остаться с нами, с его друзьями…
— Да, но ведь это воспрещение не может относиться ко мне, этот уговор не обязателен для меня, не правда ли? — встревожился доктор.
— Оно относится решительно ко всем нам, — твердо сказала Анастази.
— Но, ненаглядная моя, ты, вероятно, не так его поняла, это не может относиться ко мне! Он, без сомнения, сам придет ко мне с этим своим горем…
— Клянусь тебе, Анри, что это относится в равной мере и к тебе, и ко мне, и ко всем другим! — решительно сказала жена.
— Это весьма, весьма прискорбное обстоятельство, — пробормотал господин Депрэ, и лицо его несколько омрачилось. — Я положительно огорчен, Анастази, уязвлен в моих лучших чувствах, обижен! Да, поверь мне, я глубоко переживаю эту обиду.
— Я знала, что тебе будет тяжело это услышать, — сказала жена, — но если бы ты только видел его горе и отчаяние! Мы должны пойти на эту уступку, раз он на ней так настаивает, мы должны принести ему в жертву наши личные чувства.
— Надеюсь, моя милая, что ты никогда не сомневалась в моей готовности поступиться своими чувствами всегда, когда это бывало необходимо, — заметил доктор несколько сухо.
— Стало быть, я могу пойти к нему и сказать, что ты выразил свое согласие? Это так на тебя похоже, мой славный, мой добрый Анри! В этом сказывается твое благородное сердце! — воскликнула Анастази.
«Да, действительно, — подумал он, — это докажет, какое у меня благородное сердце и славная натура!» И Депрэ разом повеселел и преисполнился чувства гордости от своей добродетели.
— Иди, возлюбленная моя, — проговорил он, проникшись возвышенным чувством сострадания, — иди и успокой мальчика. Скажи, что вся эта история погребена навсегда — нет, мало того, я сделаю над собой усилие, ведь ты знаешь, что я приучил свою волю подчинять себе мои чувства, итак, я сделаю усилие, и все это будет забыто! Совершенно забыто! Так и скажи ему.
Немного погодя, чрезвычайно сконфуженный, пристыженный и с опухшими от слез глазами, в комнате снова появился Жан-Мари и с особенным усердием принялся выполнять свою работу. Из всех собравшихся в этот вечер за столом, чтобы поужинать, только он один чувствовал себя угнетенным и несчастным. Что же касается доктора, то он положительно сиял и пропел отходную своим сокровищам в следующих словах:
— В общей сложности это был весьма забавный эпизод. Мы решительно ничего от этого не потеряли, напротив того, мы даже очень много выиграли. Во-первых, наша философия была испытана и поставлена, так сказать, на апробирование. Во-вторых, у нас осталась еще малая толика этой вкуснейшей черепахи, самого полезного из лакомств и самого питательного. Затем, я приобрел трость, Анастази — новое шелковое платье, а Жан-Мари является теперь счастливым обладателем кепи новейшего фасона. Кроме всего этого, мы еще распили вчера по стаканчику нашего превосходного «Эрмитажа»; воспоминание о нем и теперь еще веселит мою душу. Я положительно скаредничал с этим «Эрмитажем», пусть это послужит мне уроком! Кстати, одну бутылку мы распили, чтобы отпраздновать появление нашего призрачного богатства, так разопьем же теперь другую, чтобы отметить его исчезновение, а третью я предназначаю для свадьбы Жана-Мари!
VII
О том, как обрушился дом Депрэ
До сих пор мы еще не удостоили дом доктора Депрэ подробного описания, и теперь, несомненно, пора исправить эту оплошность с нашей стороны, тем более что сей дом является, так сказать, действующим лицом нашего рассказа, да еще таким, роль которого теперь почти подходит к концу. Дом этот был двухэтажный, окрашенный густо-желтой краской, с коричневой, разных тонов, черепичной крышей, поросшей местами мхом и лишайниками. Он стоял в дальнем углу земельного участка доктора и выходил одним фасадом на улицу. Внутри он был просторный, но неудобный; везде гуляли сквозняки. Балки потолка были узорчатые, изукрашенные причудливыми рисунками, перила лестницы, ведущей наверх, были резные и изображали какие-то арабески в сельском стиле. Огромный деревянный столб, также резной, на манер причудливой колонны поддерживавший потолок столовой, был изукрашен какими-то таинственными письменами, рунами — по мнению доктора, который никогда не забывал, повествуя кому-нибудь легендарную историю этого дома и его владельцев, упомянуть и даже остановить внимание слушателя на неком скандинавском ученом, будто бы оставившем эти письмена. Полы, двери, рамы и потолки — все давно уже перекосилось и разошлось в разные стороны; каждая комната в доме имела свой уклон. Гребень крыши совершенно накренился в сторону сада, на манер падающей башни в Пизе. Один из прежних хозяев жилища, опасаясь обвала дома, приставил с этой стороны надежную подпорку. Короче говоря, множество признаков разрушения можно было обнаружить в этом доме, и, вероятно, крысы бежали бы из него, как бегут с корабля, обреченного на гибель. Но содержался он в самой образцовой чистоте и порядке: оконные стекла всегда блестели, медные детали дверей и оконных рам сияли, как солнце; краска на доме постоянно обновлялась и освежалась, и даже деревянная подпорка была вся покрыта цветущим плющом. Благодаря такому образцовому содержанию, придававшему дому вид добродушного и веселого старика-ветерана, пользующегося хорошим уходом и улыбающегося вам, сидя в своем кресле и греясь на солнышке в углу сада, — только благодаря этому образцовому уходу можно было, глядя на дом, понять, что здесь живут порядочные обеспеченные люди. У других, более бедных и неряшливых хозяев этот старый дом уже давно превратился бы в жалкую развалину, возбуждающую брезгливость, ибо в том виде, в каком он находился, вся семья очень его любила, и доктор никогда не уставал превозносить и восхвалять различные его достоинства. Он даже почему-то особенно воодушевлялся, когда начинал рассказывать воображаемую историю этого дома и расписывать поочередно характеры его многочисленных владельцев, начиная с богатого торгаша еврея, впоследствии крупного капиталиста-коммерсанта, который будто бы вновь отстроил этот дом после разгрома города Гретца. Далее он упоминал непременно и о таинственном авторе мнимых рун, а заканчивал длинный ряд вымышленных биографий историей длинноголового мужчины с вечно грязными ногтями и немытыми руками, у которого он сам и приобрел этот дом с землей, будто бы втридорога!
Никому никогда в голову не приходило высказывать какие-нибудь опасения относительно надежности этого дома — то, что простояло столько веков, могло, конечно, простоять и еще некоторое время!
Но в ту зиму, которая наступила после исчезновения клада, семья Депрэ испытала еще раз тревогу и огорчение, правда несколько иного рода, — тревогу, которую они приняли гораздо ближе к сердцу, чем всю эту историю с франшарским кладом. Жан-Мари стал сам не свой: на него находила временами какая-то лихорадочная активность, и тогда он работал в доме за двоих, проявлял удивительное прилежание даже в своих учебных занятиях, изо всех сил старался угодить хозяевам и даже силился быть словоохотливым, то есть говорить много и быстро. Но за такими днями наступали дни полнейшей апатии и глубокой меланхолии, дни молчаливого глубокомысленного раздумья, и тогда Жан-Мари становился почти невыносимым.
— Теперь ты сама видишь, Анастази, — сетовал доктор, — к чему оно приводит, это молчание! Если бы мальчик вовремя выложил мне все, что у него накопилось на душе, то ничего подобного не происходило бы! И вся эта неприятная история, вызванная возмутительным поступком Казимира, была бы теперь давно забыта, тогда как сейчас мысль об этом угнетает, давит и мучает мальчика, словно какой-нибудь недуг. Он худеет на глазах, аппетит у него неровный, здоровье уходит, уже явственно заметно полное расстройство — и нервное, и физическое! Я держу его на строжайшей диете, даю ему самые сильные укрепляющие и успокаивающие средства, и все напрасно!
— Уж не слишком ли ты его пичкаешь всякими лекарствами? — заметила Анастази и сама невольно вздрогнула при этом вопросе.
— Я? Пичкаю лекарствами? Я?! — воскликнул доктор. — Да ты с ума сошла, Анастази! Как ты можешь говорить такие вещи!
Время шло, а состояние здоровья мальчика заметно ухудшалось. Доктор винил погоду, которая все время стояла холодная и ненастная, но тем не менее пригласил своего коллегу из Буррона. Почему-то он вдруг возлюбил его, стал превозносить и восхвалять его дарования и вскоре сам обратился в его пациента, хотя трудно было бы сказать, от чего он, собственно, лечился. И Депрэ, и Жан-Мари должны были постоянно принимать различные лекарства в разное время дня; доктор завел привычку лежать на диване и ожидать времени приема лекарства с часами в руках. «Ничто не может быть так важно, как точность и аккуратность», — говорил он, отсчитывая капли или отвешивая порошок и при этом распространяясь о великих целебных свойствах данного лекарства. И если мальчик, несмотря ни на что, нисколько не поправлялся, то доктор, в свою очередь чувствовал себя отнюдь не хуже прежнего.
В день порохового заговора Жан-Мари как-то особенно упал духом; погода стояла отвратительная — пасмурная, дождливая, с сильным порывистым ветром. Над головой быстро проносились целые вереницы темных косматых туч; резкие проблески яркого солнца минутами заливали светом всю деревню, и вслед за тем наступали мгла и мрак, и начинался крупный косой и хлесткий дождь. Время от времени ветер, усиливаясь, начинал грозно выть и реветь; деревья вдоль полей и лугов гнулись и корчились, словно в судорогах, и последние осенние листочки неслись по дорогам, как пыль в жаркий летний день.
Доктор, озабоченный в одинаковой мере и состоянием мальчика, и состоянием погоды, был как раз в своей стихии: теперь он мог доказать еще одну новую теорию. Сидя с часами в руках и с барометром перед глазами, он выжидал с напряженным интересом каждого очередного шквала ветра, наблюдая его действие на Пулс человека. «Для истинного философа, — заметил он с восхищением, — каждое явление в природе является одновременно и забавой, и наукой». Ему принесли письмо, но в этот момент доктор ожидал нового порыва ветра и потому торопливо сунул письмо в карман, подал знак Жану-Мари, и в ту же минуту оба они принялись считать свой Пулс, словно взапуски или на пари.
К ночи ветер перешел в настоящую бурю, осаждая бедную деревушку со всех сторон; казалось, будто кругом шла пальба из орудий бесчисленных батарей. Строения дрожали, и скрипели, и стонали, словно умирающие в агонии; из очагов и каминов выбивало в комнату дым и разбрасывало по полу горячие уголья. Шум и вой бури мешал людям спать, и все эти несчастные сидели с бледными испуганными лицами, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг в природе.
Было уже за полночь, когда семейство Депрэ удалилось, наконец, на покой. Около половины второго, когда буря, уже достигнув своего апогея, стала как будто несколько стихать, доктор вдруг пробудился от тревожного сна и сел на своей постели. Какой-то странный шум еще звенел у него в ушах, но он не мог дать себе отчета, слышал он этот шум наяву или во сне. Вскоре последовал новый порыв ветра, и при этом почувствовалось сильное колебание всего дома, вызвавшее у господина Депрэ состояние, сходное с приступом морской болезни, а в следующий момент затишья доктор явственно услышал, как черепицы крыши посыпались с шумом на чердак над его головой. Не теряя ни минуты, он буквально выхватил жену из кровати и крикнул ей:
— Беги! Дом рушится! Беги в сад!
Второпях он еще успел сунуть ей в руки какую-то одежду.
Мадам Депрэ не стала дожидаться повторения этого приглашения; в одну минуту она сбежала с лестницы и оказалась уже внизу. Никогда она не подозревала в себе такой прыткости и такой деятельности. Тем временем доктор с поспешностью и суетливостью марионетки из кукольной комедии, невзирая на риск сломать себе шею, кинулся вызволять Жана-Мари и Алину, которую он вынужден был пробудить от ее девственного сна, схватить за руку и силой тащить за собой по лестнице в сад. Та, спотыкаясь, безвольно бежала за доктором, все еще не вполне очнувшись и не сознавая, что вокруг нее происходит.
Все беглецы, точно условившись заранее, руководствуясь каким-то бессознательным инстинктом, собрались в беседке. Между гонимых ветром, разорванных клочков туч в образовавшийся просвет, словно в слуховое окно, на мгновение проглянула луна и осветила четыре полунагие фигуры, жавшиеся от холода и страха к стенкам зеленой беседки в развевающихся от ветра скудных белых одеяниях, весьма слабо прикрывавших их наготу. При виде этой унизительной картины Анастази с горестным воплем стянула на груди свою ночную сорочку и, забившись в самый темный угол, громко расплакалась. Доктор кинулся к ней, желая утешить бедняжку, совершенно забыв о своем несложном костюме, но жена сердито оттолкнула его от себя, видимо, стыдясь и за него и как будто даже пытаясь избежать его близости. Ей казалось, что все кругом — посторонние зрители и что тьма, царящая вокруг, кишит невидимыми жадными глазами, устремленными на нее.
Новый свирепый порыв ветра с новым проблеском света отвлек внимание всех присутствующих в сторону дома. Все видели, как он зашатался в самом своем основании и, в тот момент как скрылась луна, с оглушительным треском, перекрывшим вой бури и шум деревьев, рухнул. В одно мгновение сад наполнился щепками, осколками летящих черепиц, разбитых оконных стекол и всякого рода обломками. Один из таких оглушительных снарядов ударил доктора по уху, другой попал в обнаженную ногу Алины, и та огласила дикими воплями всю деревню.
Тем временем селяне кругом зашевелились, стали выползать из своих домов, в окнах показались огни, послышались оклики дружеских встревоженных голосов, на которые отзывался доктор, дерзновенно оспаривая первенство у Алины и беснующейся бури. Однако эта возможность получения помощи и содействия со стороны соседей и односельчан только пробудила в Анастази еще большие отчаяние и ужас.
— Анри! Люди сюда придут! — кричала она над самым ухом мужа. — Я не хочу! Я не могу!..
Но последние слова заглушали слезы.
— Да, я надеюсь, что они придут нам на помощь, это вполне естественно, друг мой.
— Нет, нет! Пусть не идут! Я скорее готова умереть! — рыдала в отчаянии добродетельная супруга.
— Дорогая моя, — укоризненно произнес доктор, — ты слишком возбуждена и взволнована. Ведь я же сунул тебе какую-то одежду, куда ты ее дела?
— Ах, я, право, не знаю, вероятно, обронила ее где-нибудь по дороге в саду… Ах, где же, где эта одежда?
Депрэ стал искать наощупь в темноте и вскоре нашел.
— Вот превосходно-то! — воскликнул он. — Это мои серые бархатные брюки! Как раз то, что тебе нужно!
— Давай их сюда! — сердито закричала Анастази, но, как только она взяла их в руки, мысль надеть мужские панталоны показалась ей чудовищной.
С минуту с видом мученицы стояла она молча, держа их в руках, затем сунула их обратно мужу и сказала:
— Отдай их Алине! Бедняжка, ведь она девушка…
— Глупости! — возразил господин Депрэ. — Алина ничего не сознает, она не помнит себя от страха, и, кроме того, она простая крестьянка. Но я серьезно опасаюсь за тебя: ты такая неисправимая домоседка, тебе подвергать себя воздействию этого холодного ночного воздуха положительно опасно. Как видишь, и моя забота о твоем здоровье, и твоя фантастическая стыдливость клонятся к одному и тому же средству спасения — к моим панталонам. — И он снова протянул их жене, держа их наготове.
— Нет, это невозможно, невозможно! — воскликнула она. — Ты этого не можешь понять, — добавила она с достоинством, — и не убеждай меня больше!
Тем временем уже подоспела помощь. Со стороны улицы невозможно было проникнуть в сад, поскольку ворота и калитку завалило кирпичом и обломками балок, и устоявшие остатки дома ежеминутно грозили обрушиться и засыпать неосторожных, которые осмелились бы подойти слишком близко. Но, по счастью, между садом доктора и соседским огородом, лежащим вправо от владений Депрэ, находился живописный и столь полезный во многих случаях деревенской жизни общественный колодец. Оказалось, что калитка в ограде докторского сада была не заложена и не заперта, и в сводчатом проеме этой калитки, слегка приотворившейся, просунулась в щель сперва бородатая физиономия мужчины, а затем волосатая мозолистая натруженная рука с фонарем, осветившим то таинственное царство мрака, где несчастная Анастази скрывала свое отчаяние.
Свет ложился пятнами то тут, то там между корявыми и частыми стволами старых яблонь и груш, скользил по мокрым от росы и дождя лужайкам, но центром всеобщего внимания был не свет фонаря, а самый фонарь и ярко освещенное им лицо человека, явившегося на помощь пострадавшим. Только одна Анастази всячески пыталась укрыться, спрятаться от него, забираясь в самый дальний и самый темный угол беседки, и испытывала болезненно неприятное чувство от этого вторжения постороннего человека в проделы ее владений.
— Сюда, сюда! — крикнул человек с фонарем остававшимся за его спиной людям. — Все ли вы живы? — спросил он находившихся в саду.
Алина, продолжая визжать, кинулась ко вновь пришедшему, и ее тотчас же подхватили сильные руки и протащили головой вперед через образовавшуюся щель на улицу.
— Ну, Анастази, теперь иди ты, — распорядился доктор, — сейчас твоя очередь.
— Я не могу!.. Нет, нет, я не могу!.. Оставь меня, — простонала госпожа Депрэ.
— Неужели нам всем тут из-за тебя погибать! Оставаясь неодетыми здесь, на таком холоде, мы все можем простудиться насмерть! — крикнул муж.
— Нет-нет! Иди ты, иди, пожалуйста! Уходите все, прошу вас, оставьте меня здесь, мне уже совершенно тепло, уверяю тебя, Анри!
Но доктор в ответ на это крепко выругался и схватил жену за плечи.
— Постой, — умоляюще крикнула Анастази, — постой, я их надену!
И она опять взяла в руки одолженную ей деталь туалета, но отвращение к подобного рода одежде снова взяло верх даже над ее стыдливостью.
— Нет! Никогда! — воскликнула она, содрогнувшись, и отбросила панталоны мужа подальше от себя.
Еще минута, и доктор силой поволок супругу к калитке. Тут стоял крестьянин с фонарем. Анастази закрыла глаза, и ей показалось, что она умирает.
Она совершенно не помнила, как ее вынесли сквозь щель калитки и как она очутилась по ту сторону стены. Здесь ее тотчас же обступили соседки и укутали в большое теплое одеяло; таким образом, оно положило конец мучениям и отчаянию настрадавшейся женщины.
Для обеих дам согрели постели, а для доктора и Жана-Мари принесли различное платье и приготовили горячий грог. Остаток ночи, пока Анастази дремала, а по временам, пробуждаясь, плакала и чуть не впадала в истерику, доктор провел в кресле перед камином, услаждая слух внимавших ему с удивлением соседей, которым он подробно разъяснял причины катастрофы.
— Уже многие годы наш дом грозил рухнуть, — уверял он, — и я знал об этом, один признак за другим указывали на неминуемую катастрофу: то ослабевали скобы, то появлялись трещины в штукатурке, то стены подавались внутрь или выпячивались местами наружу, и в конце концов всего каких-нибудь три недели тому назад тяжелая дубовая дверь моего винного погреба вдруг стала плохо, с трудом отворяться вследствие того, что просели и покосились косяки. Да, погреб! — повторил он озабоченно, сокрушенно покачав головой и на минуту призадумавшись над стаканом глинтвейна. — Ведь у меня там были порядочные запасы доброго вина. По счастью, судьба распорядилась так, что «Эрмитажа» там почти не осталось — я потерял в этой катастрофе всего одну бутылку несравненного вина, ту, которую предназначал для свадьбы Жана-Мари. Ну, что делать, придется позаботиться о новых запасах, это даже придаст жизни новый интерес! Но вот что печально: я человек уже не в молодых годах, мне начинать все заново трудно, а мой громадный научный труд лежит теперь погребенным под развалинами моего скромного жилища. Он останется незаконченным, и мое имя никогда не постигнет слава и известность, о которых я робко мечтал в тишине моего уединения! Все это я отлично сознаю и понимаю, и тем не менее вы видите меня совершенно невозмутимым, я хотел бы даже сказать, веселым! Да, друзья мои, даже ваш патер не выказал бы большей покорности своей судьбе и большего стоицизма в подобном случае, не правда ли?
Тем временем стало светать, и с первыми лучами рассвета мужчины, теснившиеся до сих пор у камина, вышли на улицу. Ветер стих, но все еще гнал обрывки темных дождевых туч по мутно-серому небу. Воздух был резкий, пронизывающий, точно морозный, и люди, стоя вокруг развалин обрушившегося дома, дули себе в кулаки, чтобы согреться, и кутались посильнее в одежды, чтобы защитить себя от пронизывающей сырости этого дождливого, ненастного дня. Дом доктора Депрэ рухнул окончательно: стены обвалились наружу, а крыша провалилась внутрь. Теперь он представлял собой просто груду мусора, среди которого там и сям торчали, словно шпили или мачты, обломки бревен и балок. Оставив возле развалин человека для охраны имущества, вся честная компания отправилась в гостиницу госпожи Тентальон разговеться и угоститься за счет пострадавшего. Чарки весело заходили по столу, настроение у всех стало самое добродушное, а к тому времени, когда компания встала, наконец, из-за стола и собралась расходиться по домам, на дворе пошел снег.
В продолжение целых трех суток не переставая падал снег. Развалины накрыли кусками брезента, а безотлучно находившиеся при них караульные никого к ним не допускали.
Семья Депрэ поселилась временно в гостинице госпожи Тентальон. Анастази проводила время на кухне, стряпая какие-то лакомые блюда для мужа при содействии восхищенной ее искусством и кулинарными познаниями хозяйки гостиницы, или же сидела неподвижно перед камином в глубокой задумчивости. Собственно говоря, постигшая их с домом беда весьма мало трогала ее, быть может, потому, что этот удар был парирован другим, более чувствительным для бедной женщины. Сотни раз переживала она трагический в ее глазах инцидент с серыми бархатными панталонами. Хорошо ли, правильно ли она поступила тогда, отказавшись их надеть? Или, быть может, она была не права и сделала дурно, что не воспользовалась ими? Иногда она одобряла свое поведение в ту роковую ночь, иногда же, вся вспыхнув при воспоминании о перенесенном ею позоре, горько раскаивалась и сожалела о том, что все же не надела панталон. Ни одно из приключений за всю жизнь не вызывало у нее стольких размышлений и столь продолжительной умственной работы.
Тем временем доктор казался весьма довольным своим новым положением. Двое из летних жильцов госпожи Тентальон застряли у нее, отстав от остальных своих товарищей, за отсутствием средств для выезда, поскольку им почему-то не высылали денег. Оба они были англичане, но один из них довольно свободно и бегло изъяснялся по-французски и был к тому же человек словоохотливый, большой юморист, живой и веселый малый. С ним доктор мог беседовать часами, заранее уверенный в том, что будет понят и оценен по достоинству. Множество стаканчиков распили они вместе и много различных тем обсудили, к обоюдному удовольствию.
— Анастази, — почти укоризненно сказал жене доктор на третьи сутки после катастрофы, — бери пример со своего мужа и с Жана-Мари! Как ты видишь, возбуждение той ночи принесло ему больше пользы, чем все мои микстуры и всевозможные укрепляющие средства, и я замечаю, что он определенно с охотой отбывает часы своего дежурства в качестве хранителя нашего погибшего имущества. А что касается меня, то посмотри на меня, видишь, я сдружился с этими египтянами, и клянусь Небом, что мой фараон — весьма приятный собеседник. Только ты одна пала духом из-за обрушившегося дома и жалкого тряпья! Что все это в сравнении с моей «Фармакопеей», моим многолетним научным трудом, который лежит теперь, погребенный под мусором и камнями в этой убогой деревушке. Что из того, что падает снег! Я весело стряхиваю его с моей одежды! Подражай мне и ты! Я знаю, что наши доходы теперь несколько уменьшатся, так как нам придется заново отстраивать дом, но с умеренностью, аккуратностью, терпением и философией можно все преодолеть и со всем примириться. А пока Тентальоны внимательны и услужливы, стол с теми приятными добавлениями, которые ты нам устраиваешь, весьма удовлетворительный. Вот только вино нестерпимо скверное, но я сегодня же выпишу хорошего вина, и мой фараон, я уверен, будет весьма рад выпить со мной стаканчик-другой приличного вина! И тут-то мы увидим, одарен ли он от природы высшей утонченностью человеческого организма — чувствительным нёбом, способным уловить тонкий аромат и вкус вина! Если он обладает еще и этим достоинством, то он прямо-таки совершенство!
— Анри, — проговорила жена, печально качая головой, — ты не можешь этого понять, ты мужчина, и мои чувства для тебя недоступны. Ни одна женщина не в состоянии изгнать из своей памяти пережитый ею позор и унижение, публичное унижение!
Доктор не смог удержаться и захихикал:
— Прости меня, возлюбленная моя, но, право, для философски настроенного ума это такие пустяки, что о них даже и упоминать не стоит. И, кроме того, могу тебя уверить, ты была чрезвычайно мила в своем ночном дезабилье.
— Анри! — возмущенно воскликнула она.
— Ну-ну, я ничего больше не скажу, — пошел он на попятную, — хотя, конечно, если бы ты тогда согласилась… ну да… Кстати, — вдруг перебил себя Депрэ, — а где же остались эти мои штаны? Мои любимейшие серые брюки? Верно, лежат там на снегу! — И доктор кинулся разыскивать Жана-Мари.
Спустя два часа мальчик вернулся в гостиницу с лопаткой в одной руке и странного вида комком тряпья в другой.
Доктор сокрушенно принял это бесформенное нечто из рук мальчугана и дрожащим голосом сказал:
— Они были когда-то брюками! Но теперь их время прошло, их песня спета! Прекрасные панталоны, вы уже больше не существуете! Постой, тут что-то есть в кармане. — И господин Депрэ вытащил смятую бумагу. — Письмо! — воскликнул он. — Ну да, теперь припоминаю, я получил его в самый день катастрофы, когда так свирепствовала буря и я был занят своими наблюдениями. Но, к счастью, письмо сохранилось довольно хорошо, так что его можно разобрать. Это от славного бедняги Казимира! Ну, да это неплохо, что я немного поучу его терпению! — продолжал он с ироническим смешком. — Это ему будет весьма полезно. Бедняга Казимир со своей бесконечной, глупой, пустой, ненужной корреспонденцией иногда доходит прямо до идиотизма.
И, говоря это, доктор осторожно развернул отсыревшее письмо, но, когда принялся разбирать написанное, лицо его сразу омрачилось.
— Черт побери! — вдруг воскликнул доктор, вскочив, точно его подкинуло разрядом гальванического тока; письмо полетело в огонь камина, и в тот же момент черная ермолка очутилась на его голове, и он направился к двери. — Еще десять минут осталось! Если я побегу бегом, то еще могу его захватить, он всегда опаздывает, этот поезд, — бормотал Депрэ. — Я еду немедля в Париж, буду телеграфировать оттуда, — добавил он набегу.
— Анри, ради бога, скажи, что случилось! — взмолилась жена.
— Турецкие акции! — крикнул он. — Турецкие… акции… — И исчез за дверью.
Анастази и Жан-Мари остались с мокрыми серыми брюками в руках, пребывая в полном недоумении. Депрэ уехал в Париж! Это было всего второй раз за все семь лет обитания его в Гретце, и уехал в деревянных крестьянских башмаках, в вязаной фуфайке и черной рабочей блузе, в ермолке вместо шляпы и с двадцатью франками в кармане. Теперь даже разрушение дома представлялось событием второстепенной важности. Пусть бы теперь обрушился весь мир — и тогда бы семья доктора не была более удивлена и поражена, чем в настоящий момент.
VIII
Вознаграждение философии
Утром следующего дня доктор, или, вернее, тень прежнего жизнерадостного доктора Депрэ была доставлена обратно в Гретц под охраной Казимира. Анастази и Жан-Мари сидели друг подле друга перед камином, когда Депрэ, заменивший свой фантастический наряд дешевеньким готовым костюмом, сооруженным из грошового материала, переступив порог комнаты, только рукой махнул и, не проронив ни слова, тяжело опустился на ближайший стул. Супруга вскочила со своего места и обратилась прямо к Казимиру:
— Что случилось?
— Да что, — ответил Казимир, — не твердил ли я вам все время, не предупреждал ли я вас! Так нет! Ну вот, а теперь и случилось то, о чем я вам говорил. И на этот раз дело обделано чистенько! Что называется, наголо всех остригли! Что же, придется вам примириться с самым худшим, ничего тут не поделаешь. Да, и дом ваш тоже повалился? Ну, нечего сказать, хороши ваши дела! Не везет вам, я вижу!
— Разве… разве мы все потеряли? Совершенно разорились? — задыхаясь, спросила бедная женщина.
В этот момент доктор вытянул вперед руки, как бы призывая жену в свои объятия, и патетически воскликнул:
— Да, разорились! Да, мой ангел, твой злополучный муж окончательно разорил тебя!
Казимир с иронией взглянул через стеклышко монокля на нежные объятия удрученных супругов и, обращаясь к Жану-Мари, тем же насмешливым тоном сказал:
— Слышишь, молодчик, они вконец разорились, теперь от них ничем больше не поживишься! Ни денег, ни дома, ни жирных кусков! И мне думается, друг мой, что тебе всего лучше, недолго думая, забрать свои пожитки да и убираться отсюда подобру-поздорову. Как видишь, это дело теперь выеденного яйца не стоит — оно, можно сказать, окончательно прогорело!
При этом Казимир лукаво прищурился и многозначительно кивнул мальчику на дверь.
— Ни за что на свете! — воскликнул доктор, вскочив с места. — Жан-Мари, если ты хочешь меня покинуть теперь, когда мы разорились и стали беднее любого крестьянина в этой деревне, я тебе не препятствую, иди с богом! Ты получишь от меня обещанные тебе сто франков, если только они у меня найдутся, но если ты захочешь остаться с нами… — И доктор немного всплакнул. — Казимир предлагает мне место писца, и хотя вознаграждение будет скромное, но на нас троих хватит. Не достаточно ли того, что я потерял дом, имущество и все свое состояние? Неужели я еще должен лишиться и сына?!
Жан-Мари горько заплакал, но не произнес ни слова.
— Терпеть не могу мальчишек, которые плачут, — досадливо заметил Казимир, — а этот постоянно ревет. Эй, ты, слушай, убирайся-ка ты вон отсюда! У меня есть серьезные дела, о которых нужно поговорить с твоими хозяином и хозяйкой, а эти ваши семейные отношения вы успеете выяснить и после моего отъезда. Ну, марш, живо! — И он раскрыл дверь выразительным жестом.
Жан-Мари выбрался из комнаты, точно уличенный вор, не переставая плакать. В двенадцать часов все сели за стол, но мальчик так и не появился.
— Эге, брат, ушел твой мальчик-то? Ну, что, сам теперь видишь? — сказал Казимир. — Небось, с полуслова понял?
— Я, конечно, сознаю, — залепетал несвязно доктор, — сознаю и не ищу оправданий для его отсутствия, хотя это, конечно, доказывает его бессердечность, что меня глубоко огорчает.
— Ты лучше скажи, доказывает отсутствие чувства приличия, — поправил его Казимир, — потому что сердечности в нем никогда и не было и быть не могло — откуда ему было взять подобные качества? Право, Депрэ, для человека умного, каким я тебя считаю, ты удивительно, можно сказать, непростительно наивен! Ты воистину легковернейший из смертных. Твое полнейшее неведение и непонимание ни людей, ни дел совершенно непостижимо! Всё и все тебя обманывают и обводят вокруг пальца. И твои турецкие акции, и бродяга мальчишка, и всякий, кто только вздумает! Тебя обманывают и справа, и слева, и снизу, и сверху, а ты все еще продолжаешь всем верить и всему доверять! Я полагаю, что тому главным образом причиной твое воображение. Благодарю судьбу, что она не наделила меня этим опасным даром!
— Прости, пожалуйста, — возразил Депрэ, хотя все еще смиренным тоном, но уже несколько приободрившись ввиду неожиданно представившегося ему случая указать Казимиру на его несправедливость, — ты очень ошибаешься, Казимир: ты одарен даже в очень сильной степени воображением, но воображением иного рода, так сказать, коммерческим воображением. Отсутствие именно этого воображения у меня и является, по-видимому, источником всех моих настоящих бедствий. Благодаря такому коммерческому воображению вы, деловые, денежные люди, умеете предвидеть и предугадывать судьбы своих вкладов, предвидеть моменты крахов известных предприятий, банков и банкирских домов — словом, всякого рода финансовые катастрофы.
— Как видно, твой конюх тоже одарен таким коммерческим воображением, — прервал доктора Казимир, после чего Депрэ смолк.
Обед продолжался и окончился под аккомпанемент не особенно утешительных и приятных для хозяев речей самоуверенного гостя. Он совершенно игнорировал присутствие двух молодых англичан-художников, не ответил даже на их поклоны, хотя и посмотрел в их сторону сквозь стеклышко своего монокля. Не стесняясь их присутствия, он продолжал делать свои далеко не всегда деликатные замечания, как будто был один или в тесном кругу своей семьи. Через каждые два слова он как будто умышленно наносил все новые и новые уколы самолюбию бедного шурина, всячески стараясь уязвить его, так что под конец обеда, когда подали кофе, доктор совершенно поник и упал духом.
— Пойдем взглянем на развалины! — предложил Казимир, вставая из-за стола.
Депрэ беспрекословно повиновался, и оба вышли на улицу. Обрушившийся дом образовал пустое место между строениями деревни, и как выпавший передний зуб изменяет и обезображивает физиономию, так и этот провал обезобразил деревню. За ним, сколько мог видеть глаз, простерлось покрытое снегом поле, и, по сравнению с этим большим пространством, прогал между постройками на месте рухнувшего дома казался столь незначительным, что производил впечатление открытой в большую комнату двери. У стоявших пока на своем месте зеленых ворот сторожил весь красный от холода и иззябший на ветру очередной караульный. Он встретил доктора и его богатого родственника приветливым словом и добродушной улыбкой.
Казимир деловито окинул взглядом груду развалин, брезгливо, но с видом знатока пощупал брезент, желая определить его качество, и затем сказал:
— Хм!.. Я полагаю, что своды твоего погреба устояли. Если так, то, любезнейший братец, знай, что я дам тебе хорошую цену за твое вино, потому что вино у тебя было действительно знатным.
— Мы завтра же начнем раскопки! — сказал весело караульный. — Теперь уж нечего больше ждать снега, погода стала как будто проясняться.
— А ты бы для начала спросил, любезный, заплатят ли тебе за твои труды! — язвительно заметил Казимир. — Может быть, нечем будет заплатить-то.
Добродушный крестьянин только рот разинул, но ничего не возразил, а доктор болезненно поморщился, нахмурился и поспешил увлечь своего неприятного и во многих отношениях неудобного шурина к гостинице госпожи Тентальон, где все же было меньше посторонних слушателей, а те, что там были, уже знали о постигшем его несчастье.
— Смотри! — вдруг воскликнул Казимир. — Вон твой конюх пробирается со своими пожитками… Ан нет! Он несет их в гостиницу!
Действительно, Жан-Мари едва тащился через покрытую снегом улицу к гостинице, спотыкаясь и чуть не падая под тяжестью огромной корзины. Вдруг доктор остановился как вкопанный, и в душе его зародилась безумная надежда.
— Что это он тащит? — промолвил он. — Надо пойти посмотреть. — И он ускорил шаги.
— Что? Ну, разумеется, свои пожитки! Видно, немало он прикопил и припрятал всякого добра, живя у тебя, — ядовито заметил Казимир, — и благодаря его коммерческому воображению его дела, надо думать, обстоят недурно.
— Я что-то уже очень давно не видел этой большой корзины, — как бы про себя сказал доктор.
— Да и теперь недолго полюбуешься на нее, — засмеялся Казимир, — если только мы не вмешаемся в это дело. Что касается меня, то я положительно настаиваю на обыске! Надо же знать, чего он туда наложил!
— И без обыска узнаешь! — пронзительным голосом воскликнул Депрэ и, кинув на Казимира торжествующий, влажный от слез взгляд, бросился бежать.
— Кой черт! Что с ним такое делается? Понять не могу! — пробормотал Казимир и в следующий момент, подстрекаемый любопытством, по примеру доктора, тоже пустился бежать.
Громадная корзина была так велика и так тяжела, а Жан-Мари такой маленький, слабенький и истощенный, что ему потребовалось очень много времени, чтобы втащить свою ношу наверх, в комнату, занимаемую Депрэ. Едва он только успел опустить ношу на пол и поставить перед Анастази, как прибежал доктор и следом за ним Казимир. И корзина, и мальчик были в самом плачевном виде: первая — потому что пробыла целых четыре месяца зарытая в пещере, что на дороге в Ашер, а последний — потому что пробежал целых пять миль своими слабыми ножонками, не переводя духа, и половину этого расстояния под непосильной ношей.
— Жан-Мари! — воскликнул доктор восторженным голосом, в котором звучали истерические нотки. — Неужели это?.. Неужели это?.. О, сын мой! Сын мой!.. — И, опустившись на корзину, он заплакал, всхлипывая, как ребенок.
— Ведь теперь вы не переедете в Париж? — робко спросил мальчик.
— Казимир! — громко сказал Депрэ, подняв на шурина свое мокрое от слез лицо. — Ты видишь сейчас этого мальчика? Этого ангела? И он — вор?! Да, он отнял сокровища у человека, обезумевшего, потерявшего голову и рассудок и не способного разумно распорядиться ими, но он приносит их обратно и отдает мне, когда я протрезвел от угара и когда я действительно нуждаюсь в них. Вот, Казимир, плоды моего воспитания! Этот момент вознаградил меня за все!
— Да-а! — протянул Казимир.