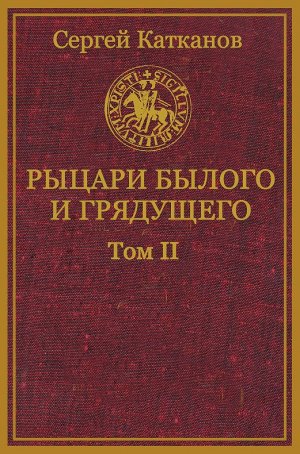
Том II
«Да последуем только путём христианской рыцарственности, без чувства ненависти и мести к кому-либо, всегда склоняясь перед Богом и никогда — перед людьми.
И тогда Он, Господь над всякой вооружённой силой, Вседержитель, Повелитель истории, Бог любви и милосердия, но и Праведный Судия вселенной, будет с нами. А коль Он будет с нами, кого убоимся?»
Господин Павел, патриарх Сербии
«Битва ваша была правой, ибо вы — рыцарь Иисуса Христа, и вам надлежит быть защитником Святой Церкви.»
Томас Мэлори.
Книга первая
Кааба Христа
Почему так грустно читать рассказы, написанные друзьями? Потому что они всегда грустные, эти рассказы. А если тебе довелось стать первым читателем рассказа, который написал друг, тогда тем более можешь быть уверен — не развеселит. И всё-таки такой рассказ предвкушаешь, как долгожданную встречу, словно надеясь на то, что теперь у тебя будет два друга. А, может быть, ни одного? Волнующий вопрос, не правда ли?
Андрей Сиверцев с замирающим сердцем взял в руки рукопись, которую передал ему друг.
Советский солдат перешёл на сторону душманов и принял ислам. Не в плен попал — добровольно переметнулся. Принимать ислам его тоже никто не заставлял. У майора КГБ Дмитрия Князева это не укладывалось в голове. Сей небывалый факт мучил майора, терзал ему душу, мешал работать.
Князев служил в Афгане советником в ХАДа[2] уже третий год, но ни о чём подобном ни разу не слышал. Были, конечно, случаи, когда наши солдаты попадали в плен и принимали ислам под дулом автомата. Этих шельмецов по крайней мере можно понять — шкуру свою спасали. А Сашка? Ну вот что у него в голове? Ходил в такую же советскую школу, как и все пацаны. Пел те же песни под гитару, пил тот же портвейн. И вдруг решил не возвращаться, а это значит — стереть самого себя, как какую-то формулу мокрой тряпкой со школьной доски. Никогда не гулять по лесу, не купаться в речке, не ходить на танцы, не видеть нормальных девчонок, не говоря уже по папу с мамой. И русские лица видеть только на мушке автомата.
Князева почему-то даже не очень удивляло, что Сашка решил убивать своих. Наверное, потому что это укладывалось в обычную схему предательства — если переметнулся к врагам, так что же ещё делать? Но вот то, что он сам себя обрёк на добровольные мучения до самой смерти. Любого европейца от одной только мысли о том, что он навсегда останется в этой стране, поразит отчаянье, парализующее душу. Постоянно видеть вокруг себя только эти дикие рожи со звериным оскалом и чувствовать при этом, что ты среди своих? Ведь надо полностью погрузится во мрак средневековых религиозных предрассудков, из цивилизованного человека превратиться в отсталого и дремучего. Душманы-то ничего другого и не видели в своей несчастной жизни. А русский пацан.
Бегут оттуда, где плохо туда, где хорошо. А в Союзе по сравнению с Афганом — просто замечательно. Конечно, многое на Родине не нравилось и самому Князеву, но, как говорят — своё дерьмо не пахнет. Где родился, там и пригодился. Тьфу. Князеву стало противно оттого, что его мозг фонтанировал одними только прописными истинами, банальными и примитивными.
Самым непонятным было то, как мог русскому парню понравится ислам. Наши ребята, попадая в Афган, вскоре начинают ненавидеть ислам всеми силами души. Для них это религия зверства. Все тут знают, как беспредельно жестоки «войны Аллаха». И вот пацаны, ни в Бога, ни в чёрта никогда не верившие, вдруг начинают называть себя христианами, а про Аллаха говорят исключительно матерно и грязно. Князев всегда одёргивал их: «Афганский народ только начинает строить новую, современную жизнь, афганцы ещё погружены в средневековье. Нельзя оскорблять их религиозные чувства, иначе они за нами не пойдут. Поможем им построить новое общество, научим радоваться жизни, так они и сами от ислама откажутся, религиозные предрассудки постепенно отойдут».
Этот подход казался Князеву гибким, мудрым и гуманным. В глубине души он очень уважал себя за свою терпимость и деликатность. И вот теперь этот засранец, Сашка, добровольно отказался от всех благ современного общества ради мрака средневековья. Этого просто не могло быть. Псевдохристиан, ненавидевших ислам, майор хорошо понимал, хотя и не одобрял, а Сашку он не просто не понимал — этот пацан казался ему несуществующим фантомом. Князев вдруг понял, в чём тут заноза. Сашка лишил его самоуважения. Оказалось, что он — майор КГБ — представитель элиты, такой образованный, культурный, знающий всегда больше всех, на самом деле ничего не понимает в жизни.
Служба Князева была в значительной степени секретной. Всем было положено думать, что он не более чем просто помогает афганцам создать свою службу безопасности, да так оно и было, но основной его работой являлась разведка. Естественно, в каждой банде у майора была своя агентура. Ему не составило большого труда сделать так, чтобы Сашку выследили, повязали и доставили к нему живым и здоровым. Майор не торопился встречаться с предателем, он решил пока узнать про него как можно больше. Листал личное дело, надеясь обнаружить в нём ну хоть какие-нибудь зацепки, которые помогли бы понять его поступок. Тогда-то он и начал про себя называть его Сашкой.
В личном деле не было ни-че-го… Стандартная и весьма короткая биография советского мальчишки. Родился, учился, не привлекался, увлекался. Всё как у всех. Да ерунда эти биографии. Больше надежд Князев возлагал на беседу с ротным командиром.
— Повспоминай, капитан, чем этот гусь отличался от других солдат? — спросил Князев ротного.
— Да вроде бы ничем особенным, товарищ майор. Саша был хороший солдат. Дисциплинированный. Наркотой никогда не увлекался. Отношения с сослуживцами — ровные, никаких конфликтов. Впрочем, было что-то немного не такое, он как-то отстранённо себя держал.
— Примеры?
— Да какие примеры. Если бы он подрался с кем — вот был бы пример. А он — нет. Свободное время старался проводить один. Пацаны в казарме ржут, анекдоты травят, про баб рассказывают — чего было и чего не было. Чтобы он с ними — никогда. Я один раз заглянул к ним, они там как раз расхохатывают, а он идёт на выход, навстречу мне попался. И лицо такое, серьёзное, сосредоточенное.
— Над такими обычно издеваются. Было?
— Ну, я не могу знать всё, но, вряд ли. Саша физически очень хорошо развит. Трёх-четырёх обычных пацанов уложит, не напрягаясь. Его уважали, прощали странности. На переходах он очень выносливый. В бою — совершенно хладнокровный. Не отчаянный, нет, на рожон никогда не лез. Иногда, знаете, от страха такими смелыми становятся, что смотреть противно. Раскисают потом очень быстро, рыдают после боя, как младенцы. Саша — нет. Он, кажется, действительно ничего не боялся, — капитан замолчал несколько растерянно, как будто вдруг сделал для себя весьма неожиданное открытие.
Князев начинал понемногу закипать:
— Так. Понятно. Смелый парень. А странности-то его в чём всё-таки проявлялись?
— Да вроде и ни в чём. — выдохнул капитан ещё более растеряно. — А как-то было — стоит в стороне от всех и смотрит, в пустыню. И лицо у него какое-то, как будто он в церкви молится.
— Да откуда ты знаешь, как в церкви молятся?
— Не знаю. Правда, не бывал. Но, наверное, так и молятся.
— Капитан, я начинаю уставать. Ты по делу что-нибудь вспомнишь? Выражал ли он, например, как-нибудь своё отношение к исламу?
— Никак не выражал, — капитан стал заметно потеть. Заметив это, Князев как-то сразу успокоился, раздражение схлынуло. Ротный — не офицер разведки, не психолог. Зачем ему замечать то, что не имеет отношения к службе? Если солдат исправно тянет лямку, если нет нарушений дисциплины, так чего же ещё? Сухо и казённо майор спросил:
— В расстрелах он участвовал?
— Было дело. Вспомнил! Очень странный факт. Зачистили аул. Положили всех. Сашка к одному духу сзади подкрался, бросился на него, как рысь, обезоружил. Сидит на нём, коленом на грудь давит и в глаза смотрит. Тому духу надо было просто врезать по кадыку ребром ладони. Простое дело. Саша ведь не барышня, в зачистках не раз участвовал, никогда не капризничал, не чистоплюйствовал. А тут — тянет. Ну бой-то закончился. После боя так-то уже не режут, по-нормальному расстреливают. Я Саше говорю: «Отведи его за дом и шлёпни». Он подчинился. Поднял духа и за дом. А тот не сопротивлялся — спокойный. И Саша спокойный. Я тут же об этом забыл, а через 5 минут хватился — где Саша? Выстрела-то вроде не было. Что за хрень? Иду за дом, а там картина маслом. Дух стоит у стены, а Саша — напротив, автомат ему в грудь наставил. И в глаза друг другу смотрят, как будто разговаривают без слов. Дух тоже такой, необычный. Молоденький, красивый. Как принц из сказки. Смотрит и улыбается. Я на Сашу заорал: «Ты чё, уснул что ли?». Тогда он сразу же нажал на спуск, весь рожок в духа выпустил. Ко мне поворачивается, морда каменная и говорит: «Его надо похоронить». Я весь на психе — заорал на него: «Ну ты достал меня!». А Саша, на меня не глядя, достаёт лопатку и начинает копать могилу. Да шустро так, деловито. Я рукой махнул. Время в общем-то было. Солдаты по домам наркоту искали. Я уж это, сами понимаете, не препятствовал. Зачистки — дело нервное. Да и потом — каких я только истерик у наших не насмотрелся. Пока в себя приведёшь — запаришься. Так что сашиной придури значения не придал. А сейчас подумал — странно это.
Князев отомкнул гауптвахту, где держали Сашку. Тот сидел на полу со связанными за спиной рукам вполоборота к вошедшему майору и на его появление никак не отреагировал. Лицо пленного было очень сосредоточенным, он смотрел строго перед собой невидящими глазами.
— Встань, сволочь, — зловещим шёпотом скомандовал майор.
Солдат неторопливо, но сноровисто поднялся, хотя это было не так легко сделать со связанными за спиной руками. Он бегло и как-то брезгливо глянул майору в глаза и уставился в пол перед собой.
Майор неторопливо достал из кобуры пистолет, передёрнул затвор, направил ствол в грудь пленному и всё тем же зловещим шёпотом скомандовал: «Мордой в стену». Саша так же спокойно и неторопливо развернулся и встал лицом к стене. Князев медлил. Солдат молчал. Потом майор неторопливо поднял пистолет и выстрелил в стену у самого сашиного уха. Солдат даже не вздрогнул. Через несколько секунд он тихо выдохнул: «Аллах акбар». Это было что-то среднее между вздохом облегчения и шипением змеи.
«Кругом», — тихо но жёстко скомандовал майор. Солдат выполнил команду, как на плацу. Он смотрел в пол, избегая встречаться глазами с офицером, и всё-таки во всём его облике Князев чувствовал отсутствие страха. В душе майора началась какая-то странная вибрация. Он — честный офицер, а перед ним — гадёныш, мразь, и всё-таки он чувствует нравственное превосходство этого гадёныша. Этого не может быть. Нет оснований. Но это так. Князев вдруг представил себя офицером вермахта, который собирается допросить пленного партизана. Это было уже несколько смешно, что помогло майору вернуть самообладание.
— Это была репетиция, — Князев почувствовал, что его усмешка получилась какой-то кривой, нехорошей. — Шлёпнем тебя завтра, с утречка. В Кабул не повезём, не надейся. Показания твои никому не нужны. Так что побудь тут ещё ночку. О жизни подумай.
— Хвала Аллаху, Господу миров. Я стану шахидом, — по-прежнему глядя в пол, прошептал — прошипел бывший советский солдат.
— Смотри мне в глаза, сволочь! — неожиданно заорал Князев, теряя остатки самообладания.
Саша спокойно поднял глаза. Они оказались очень ясными. В них действительно читалась радость. Мальчишка не играл. Вечная его сосредоточенность, про которую говорил ротный, сейчас ушла, в нём чувствовалась собранность, но совершенно не было напряжения. Князев понял, почему парень смотрел в пол. Не хотел делиться радостью с чужаком. Майор смотрел в его глаза и спрашивал себя: «Вот что такое известно этому парню, чего не знаю я? Что-то очень важное. Что такое ислам? Ничего хорошего. Так почему же у него глаза такие радостные, а я — как дурак?».
— Ты убивал наших? — теперь уже как-то задумчиво спросил Князев.
— Нет, не пришлось.
— А если бы пришлось?
— И не задумался бы. Тебя, майор, я шлёпнул бы без репетиций.
Лицо шахида исказила ненависть. Это позволило Князеву хотя бы отчасти, но всё же вернуть себе чувство собственного превосходства. Где ненависть, там нет правды. Князев восстановился, вопрос выскочил из него легко, без напряжения:
— Зачем? Что случилось, Саша?
Шахид как-то весь разом выпрямился и процедил сквозь зубы:
— Что ты хочешь услышать, кафир?
Князеву ещё больше полегчало. Перед ним был враг. Матёрый и законченный, во всей своей полноте. В нём не осталось ничего от русского паренька. Обычный душман, каковых майор перевидал немало. Мир в душе у Князева вновь стал обретать привычную простоту. Вопросы исчезли.
«Злая вера у этих сволочей, но мужественная, — думал Князев, когда вечером шёл домой. — Да — мужская вера. Этим парня и соблазнили. Герои хреновы. Нет, не надо его стрелять. Отправлю всё же в Кабул. Дадут щенку лет шесть дисбата, может ещё выберется, человеком станет. В дисбате таких «шахидов» делают нормальными людьми, не сильно даже напрягаясь», — майор весь разомлел от собственного гуманизма. Он уже не помнил, что видел перед собой отнюдь не заблудившегося советского паренька, а настоящего душмана. Майор очень устал.
— Здравия желаю, Клавдия Ивановна, — приветствовал он жену в их убогой мазанке.
— Что-то случилось, Дима? — жена посмотрела на него испуганно.
Князев устало сморщился. Клава никогда не задавала ему вопросов, связанных с работой.
Она не раз видела в его глазах отражение смерти и никогда ничего не спрашивала. Жена боевого офицера. Почему сегодня. Он раздраженно буркнул:
— Это ты объясни мне, что случилось.
— У тебя лицо тёмное.
Князев ничего не ответил. У него не было сил задуматься о словах жены. Он надеялся, что с такого устатка уснёт сразу же, но тупая боль в спине, явный признак стресса, не давала ему забыться. За всю ночь он так толком и не уснул. Нервно дёргался, ворочался, вставал, курил. Голова наливалась тяжёлой пустотой.
На работу поутру он пришёл совершенно разбитый и злой на весь мир, даже не пытаясь думать о причинах своей озлобленности. Сознание, кажется, включило защитные механизмы, на корню давившие любой намёк на мысли о Сашке. Дела просматривал механически, заставляя себя по несколько раз перечитывать одно и то же, чтобы вникнуть в содержание. Когда в дверь постучали, он с некоторым даже облегчением крикнул: «Войдите».
В кабинет важно вплыли муллы. Один, второй, третий. Вот уж кого он не ожидал увидеть в своём хадовском кабинете. С муллами Князев старался поддерживать нормальные отношения. Иногда встречался с кем-нибудь из них, обсуждал вопросы, связанные с поддержанием порядка, но встречались они негласно, чтобы никто, по возможности, об этих встречах не знал, или хотя бы старались отразить встречу, как случайную. Ни ему, ни им эти встречи не прибавили бы авторитета. К тому же они не любили друг друга. Князеву были неприятны эти ограниченные фанатики, они же смотрели на него, как на главного врага ислама, что было в общем-то недалеко от истины. Русские из тактических соображений терпели ислам среди тех, кто перешёл на сторону народной власти. Простые мусульмане искренне благодарили шурави за религиозную терпимость, но чекисты и муллы ни сколько не заблуждались относительно прочности этого мира. И вдруг все местные муллы в полном составе открыто и пожалуй даже демонстративно пожаловали в ХАД на приём к главному чекисту здешних мест. Воистину, небо упало на землю.
— Кого мне благодарить за счастье видеть у себя самых уважаемых людей города? — Князев встал из-за стола, картинно распахнув объятья и широко улыбнувшись.
Многоопытные муллы, конечно, поняли, что со стороны офицера КГБ этот жест — даже не дань традиции, а едва прикрытая издёвка. И без того весьма напряжённые, служители Аллаха ещё более подобрались, понимая, впрочем, что на советского офицера бессмысленно обижаться. Сами напросились, заявившись в ХАД — место воистину проклятое. Вперёд выступил главный мулла, сухой старик с длинной седой бородой и недобрым, надменным лицом. Он, похоже, с большим трудом выдавил из себя:
— Мы задержали преступника. Хотим передать его в твои руки, сэр мошавер[3].
— Вот как? Искренне рад этому замечательному примеру сотрудничества между религиозными лидерами и органами безопасности, — Князев сочился нарочито лукавым дружелюбием. У него даже голова перестала болеть. Майор не мог отказать себе в удовольствии немного поглумился над «религиозными лидерами», понимая между тем, что всё происходящее — весьма значительно и клоунадой отнюдь не завершится. — И в чём же вы обвиняете этого человека?
— Если бы он не был преступником, мы не передали бы его тебе.
— Значит, я должен осудить его, даже не зная в чём он виновен? Такого уровня взаимного доверия нам ещё только предстоит достигнуть.
— Он развращает народ.
— Сейчас, подождите, вспомню, какой же это состав преступления? Должно быть, я не очень твёрдо знаю Уголовный кодекс Афганистана? В любом случае, надо вспомнить о том, что в вашей стране сейчас установлена народная власть. Вынести приговор преступнику может только суд. Афганский суд.
Князев перестал ёрничать и последние слова произнёс очень жёстко, пожалуй, даже с угрозой. Он начал понимать, что муллы хотят с кем-то свести счёты его руками, не доводя дело до суда, который, вероятнее всего, будет вынужден оправдать их недруга. Они надеются, что в боевых условиях «сэр мошавер» окажется достаточно скорым на расправу и сделает им подарок, не сильно вникая в детали дела. Может быть, так и будет, но муллы, как здравомыслящие прагматики, должны понимать, что сейчас им предстоит обозначить тот интерес, который имеет в этом деле «сэр мошавер». Князев многозначительно замолчал, глядя прямо в глаза главного муллы. Какие нехорошие у него глаза. Тяжёлые, стремящиеся придавить собеседника. Неужели мулла думает, что таким образом сможет произвести хотя бы некоторое впечатление на советского разведчика? Не переоценил ли он прагматизм этих фанатиков?
Мулла вдруг начал дышать очень тяжело. Он не привык уговаривать и убеждать. Его слово было и законом, и судом. Высшим судом, а не каким-то там «народным». Как унизительно было что-то там доказывать этому презренному кафиру. Но они так решили — еретика и смутьяна должен приговорить именно кафир. Только так и никак иначе.
Наконец мулла собрался с духом:
— Этот человек совершил религиозные преступления, и народному суду мы не можем его предать.
— А я разве мусульманин? — спросил Князев совершенно серьёзно, без тени улыбки. — Почему меня должны интересовать ваши религиозные проблемы? Может быть вам предать его шариатскому суду и побить камнями? — майор чувствовал, что этот диалог — ритуальный танец, а вскоре они доберутся до сути вопроса.
— Сэр мошавер, конечно, знает, что шариатский суд с некоторых пор не имеет права выносить смертные приговоры. Преступник на самом деле достоин побития камнями, но если мы сделаем это, что тогда вы сделаете с нами?
— Я? Ничего. Вас будет судить народный афганский суд. Мы терпим вас, служителей Аллаха, ровно постольку, поскольку вы помогаете нам поддерживать порядок. А если вы осмелитесь кого-то казнить, исходя из религиозных соображений.
— Вот именно, сэр мошавер, вот именно. Мы помогаем вам поддерживать порядок. Без нас вам порядка не удержать. Мы проживём без вас в этой стране. Всегда жили. А вы без нас — не сможете. А этот человек — он разрушает порядок, он смущает народ, он одинаково опасен и вам, и нам.
— Так значит всё-таки, по-вашему, советский офицер должен взять на себя функции шариатского суда?
— О, нет, — мулла всем своим видом дал понять, что даже мысль об этом кажется ему кощунственной. — Этот человек выступает против сынов Ленина. Убей его за это.
— Он совершил преступления против советской власти?
— Ещё не совершил, но он — подстрекатель. Вы же не хотите подождать пока он поднимет восстание против Советский армии здесь, в самой спокойной провинции? Вы понимаете, что его нельзя предавать публичному суду, ни вашему, ни нашему? Его надо просто тихо убрать. Вы должны это сделать.
— Я ничего вам не должен.
— Нет, конечно, не нам, сэр мошавер, — тонко и зловеще улыбался мулла. — Вы должны своему начальству. Этот человек призывает не подчиняться безбожникам, то есть вам. Он так же говорит, что он — шах. Он, по-существу, призывает к реставрации монархии, желая царствовать на нашей земле. Тот, кто оставит этого самозванного шаха безнаказанным, тот враг советской власти.
«Ах вот оно что, — подумал Кзязев, — я-то, дурак, ждал, когда они обозначат мой интерес в этом деле, а они решили попросту взять меня на испуг. До чего дошло — религиозные фанатики учат меня любить советскую власть. А ведь они действительно могут организовать мне большие неприятности. Да не в этом дело — от доносов как-нибудь отобьюсь. Только тут и правда что-то очень серьёзное, от чего нельзя просто так взять и отмахнуться. Если муллы так переполошились, значит это тема».
Князеву надоело играть в слова, и он просто спросил:
— Вы задержали смутьяна?
— Да, он здесь, во дворе.
— Пусть его приведут ко мне, а вы — идите. Если мне надо будет что-нибудь обсудить, я найду вас. Сюда больше не приходите, — Князев заметил, что разговаривает с муллами, как со своей агентурой. Им это, должно быть, очень обидно. Ну и наплевать, сами напросились.
Перед майором стоял типичный человек Востока лет тридцати с небольшим. Его облик и впрямь был царственным. Благородное лицо, осанка, красивые длинные волосы и короткая борода — всё изобличало личность незаурядную. Даже простая и обычная для этих мест одежда сидела на нём как-то уж очень ладно, словно её подбирали и подгоняли лучшие модельеры. «Может и правда какой-нибудь принц крови? — подумал Князев. — Держит себя с большим достоинством, страха в нём нет. И никакой позы, никакого вызова. Не похож он что-то на подстрекателя и религиозного фанатика».
— Ты — Шах? — спросил майор.
— Так меня называют, но я не считаю себя шахом, и не стремлюсь им стать. Если бы стремился, разве позволил бы так легко себя арестовать? Спроси и тебе скажут — я не сопротивлялся. Претендента на корону защищало бы множество сторонников. Меня не защищал никто.
Шах не заискивал и не оправдывался. Он просто говорил правду. Говорил спокойно и даже дружелюбно. Князев сразу же почувствовал к этому человеку большую симпатию. В нём чувствовалась сила и доброта одновременно. В Сашке тоже чувствовалась сила, но в нём полыхала ненависть. Шах был не такой, хотя было и сходство. Как будто оба они знают что-то очень важное и совершенно недоступное пониманию Князева.
Большие, чёрные, по-восточному томные глаза тепло смотрели на майора. С Шахом хотелось говорить. Наверно, поэтому Князев долго молчал, смакуя своё впечатление от этого необычного человека. Потом неторопливо и без нажима начал:
— Тебя передали мне муллы. Что ты сделал?
— Спроси у них. Я не знаю за собой государственных преступлений.
— Ты призывал к свержению народной власти?
— Нет, не призывал, — Шах очаровательно улыбнулся.
— Ты хочешь, чтобы Афганистаном правил шах?
— Я хочу, чтобы Афганистаном правил Бог. То Царство, в которое я призывал людей — не от мира сего.
— Значит, ты всё-таки против народной власти?
— Это ты сказал.
В душе майора неожиданно для него стало закипать раздражение. Князев чувствовал, что Шах отнюдь не пытается издеваться над ним, но это-то и составляло неожиданную проблему. Многие пытаются по началу глумиться над следователем. Майор знал, как таких ломать. С этим человеком так нельзя. С этим — непонятно как. Он выскальзывал из рук. Князев не переставал чувствовать симпатию к этому чудаку, но к симпатии странным образом примешалось раздражение. Он продолжил разговор довольно жёстко:
— Чем ты занимаешься?
Шах словно не заметил изменения в тоне майора, он ответил в прежней дружелюбной манере:
— Я свидетельствую об Истине. Люди, которые любят Истину, слушают меня.
— Ах вот оно что! — Князев злобно взвился, вскочив из-за стола. Его лицо перекосила ненависть. — Об истине свидетельствуешь? И всего-то навсего? Ну так это ж пустяки! Тебя надо немедленно отпустить! Вот только скажи мне, что такое истина — и вали отсюда.
Приступ чекистской ярости нисколько не смутил Шаха. Он ответил спокойно и проникновенно:
— Истина в том, что Иса — Сын Аллаха. Господин наш Иса — Он и есть Истина.
— Ну это и вовсе пустяки. Не хватало мне ещё залезать в ваши религиозные дебри.
На это Шах не ответил ни одного слова.
Князев подошёл к карте Афганистана и тупо уставился на неё. Про задержанного он, казалось, забыл, повернувшись к нему спиной. В кабинете повисло молчание. Точнее, два молчания. Одно — доброе, другое — злое. Майор пытался придти в себя. Он не мог понять, почему его душу так легко и беспричинно затопила ненависть к этому милому проповеднику. В голове вдруг застучали странные молоточки: «Он опасен, он опасен, он чрезвычайно опасен. Его надо убить. Убить и всё».
Князев подошёл к окну и с удивлением увидел, что муллы всё ещё стоят во дворе. Совсем с ума сошли. А за спиной у них уже целая толпа. Мрачные злобные лица, чудовищная концентрация ненависти. Эти люди готовы прямо сейчас порвать на части кого угодно. От массовых беспорядков их отделяет только шаг. За один день можно потерять всю провинцию. Потом для её возвращения потребуется крупная войсковая операция. Провинция, конечно, будет возвращена, но при этом погибнут сотни советских солдат. Груз-200 хлынет в Союз. Сотни матерей в рыданьях будут обнимать холодный цинк гробов. Он, майор КГБ Дмитрий Юрьевич Князев, для того и находится здесь, чтобы это предотвратить. И он знает, как это сделать. Надо всего лишь отдать им на растерзание этого чудака. Но он, майор КГБ Дмитрий Юрьевич Князев, не сделает этого. Почему? Ради чего он забудет свой долг? Во имя чего заставит рыдать сотни матерей? Выхода не было. Он вдруг почувствовал безмерную, нечеловеческую усталость.
Отошёл от окна, глянул на Шаха. Тот посмотрел на офицера с искренним сочувствием лучшего друга, способного понять его, как никто другой.
— Видишь там толпу? — с трудом преодолевая неспособность говорить, спросил Князев. — Все они хотят твоей смерти.
— Я знаю, — спокойно и сочувственно ответил Шах.
— Назови мне хоть одну причину, по которой я должен сохранить тебе жизнь?
Шах молчал.
— Не хочешь говорить?
Шах молчал.
Князев вышел во двор к толпе.
— Я допросил этого человека. Он ни в чём не виновен.
Толпа, как по команде, начала бесноваться:
— Убить! Расстрелять! Побить камнями!
К майору подошёл старый мулла и сказал:
— Вы слышите, сэр мошавер? Вариантов нет. Прикажите расстрелять дервиша. Иначе мы не отвечаем за дальнейшее развитие ситуации.
Мулла говорил теперь уже без злобы и без нажима — спокойно и властно. Толпа дала ему такую возможность. Но майор КГБ не может пойти на поводу у религиозных фанатиков. Да ещё так публично, позорно. А иначе — бунт. Толпа наэлектризована до предела. Одно неосторожное слово и ситуация выйдет из-под контроля. Выхода не было.
Выход пришёл вдруг, сразу, как озарение. «Афганизировать конфликт». Вывести советскую сторону из сторон конфликта, превратив его в конфликт между афганцами. Майор уверенно шагнул к толпе:
— Вы — хозяева на этой земле. Власть в Афганистане — народная, значит — афганская. Русские лишь помогают вам, но всё решаете вы сами.
Толпа притихла. Майор продолжил ещё более уверенно:
— Только афганцы имеют право решать, кто прав, а кто виноват. Задержанный будет оправлен в провинциальный комитет Народно-демократической партии Афганистана. Товарищ Набард, верный сын афганского народа, во всём разберётся.
Это решение не особо порадовало толпу, но и возразить им было нечего. Дикие злобные выкрики сменились глухим, но относительно спокойным ворчанием. Толпа утратила внутреннее напряжение. Некоторые стали расходится. Князев вызвал конвой. Шаха вывели из здания ХАДа под дулами автоматов. Это понравилось толпе. Потом конвой вместе с задержанным исчез в недрах БТРа. Машина в свою очередь, тут же исчезла в облаке пыли. Разочарованные фанатики больше не имели причин для возмущения. Сражение было выиграно. Во всяком случае — на сегодня.
Секретаря провинциального комитета НДПА Набарда Князев презирал от всей души. Это был отвратительный человек. Он постоянно врал и непрерывно хвастался. Очень любил подарки. За деньги Набард был готов продать всё — не только народную власть, но и родную мать. Человеком он был неумным, но, сделав какую угодно глупость, никогда не признавал себя виновным, ссылаясь на бесчисленные трудности. Набард очень любил власть и постоянно пытался доказать, что все в его провинции должны подчиняться только ему, и всё должно происходить только с его согласия. Набард постоянно искал способы подставить советника ХАДа, ему не нравилась излишняя самостоятельность Князева, а так же то, что майор слишком плохо скрывал своё отвращение к функционеру НДПА. Их взаимная враждебность была почти открытой.
«Ну что ж, — подумал Князев, — самое время протянуть руку дружбы «верному сыну афганского народа». Он хочет всё решать сам? Так вот и пусть решает. Если приговорит дервиша, значит пойдёт на поводу у религиозных фанатиков. Скажем потом, что он снюхался с муллами, а отсюда и до исключения из партии недалеко. Если отпустит — вызовет такой гнев своих, что его и из партии исключать не надо будет. Его просто на части порвут. А откажется принимать решение — потеряет лицо, покажет управленческую беспомощность. Сможет ли он после этого усидеть в своём кресле?».
Кажется, советник интуитивно принял самое лучшее из всех возможных решений. Он не только снял с себя проблему дервиша, но и получил хороший шанс решить проблему Набарда, который очень мешал ему работать. Теперь можно было пару суток спокойно ждать известий о том, каким именно образом проколется местный царёк. Что при этом будет с дервишем? Да какая разница? Он появился ни откуда и исчезнет в никуда. Стоило бы, конечно, получше представлять себе, почему появление этого человека так взволновало местную муллократию, но, честно слово, не до того.
Князев решил тут же забыть про возникшую проблему, как про уже снятую, но сам по себе Шах не шёл у него из головы совершённо независимо от проблемы. Майор вспоминал каждую черточку воистину царственного облика этого человека. Осанка, поворот головы, глаза. А с каким благородным спокойствием он говорил. Очень просто и совершенно без рисовки. При этом в нём чувствовалась большая внутренняя сила. Казалось, Шах был живым воплощением какой-нибудь красивой восточной легенды про халифа, который скрывается под рубищем нищего. Воистину — Шах. Не даром его так прозвали.
Майор вспомнил о том, как странно посмотрел на него дервиш, когда они расстались. В этом взгляде было сочувствие к советскому офицеру и даже нечто большее — казалось, дервиш боялся, что офицер совершит некую роковую ошибку, которая погубит его. Память профессионального разведчика воскресила едва заметное движение руки дервиша — словно предостерегающее. Эта рука как будто готова была подняться, чтобы защитить своего палача.
В сердце майора вернулась невыносимая тревога. Нет, проблему ещё не удалось снять. Самое главное, а, может быть, самое страшное — впереди. И проблема вовсе не в том, чтобы разрулить противоречия с муллократией и свалить Набарда. Всё это — уж как-нибудь. Теми или иными средствами, с большими или меньшими потерями, он обязательно вырулит. Но Князев окончательно понял — эту проблему нельзя решать любой ценой. Всё дело в Шахе. Кажется, впервые в жизни Дмитрий встретил человека. Его нельзя потерять. Сохранить этого человека — вот что самое главное, но, видимо, теперь это уже невозможно. А нельзя же до бесконечности жертвовать хорошими и ни в чём не виноватыми людьми для того лишь, чтобы угодить всяким подонкам. Все эти муллы, все эти набарды — это же просто дерьмо. Все они вместе взятые не стоят одного Шаха. И он отдал им его на растерзание. Господи, до чего же это мерзко.
Но он — офицер КГБ. Он служит Отечеству. Его личные чувства, его симпатии и антипатии не имеют значения. Он сделает всё для того, чтобы сохранить в провинции стабильность, и если для этого потребуется собственноручно отрезать головы десяти таким дервишам — он сделает.
Вечерами после службы рядом с Клавой всегда было очень хорошо, спокойно, мирно. Что бы он тут делал без неё? Нервы бы не выдержали. А рядом с женой он всегда успокаивался, восстанавливался. Они очень мало говорили, потому что не хотелось обсуждать местную жизнь, а про Россию вспоминать — только душу себе травить. Они просто были вместе.
Но сегодня Дмитрий не мог успокоится. Никогда не обсуждавший с женой свою работу, сегодня он не выдержал:
— Клава, ты вроде разбиралась со всеми этими исламскими течениями и направлениями. Что значит «Иса — Сын Аллаха»?
Жена растерянно задумалась.
— Боюсь, что это ничего не значит. Такой постановки вопроса просто не может быть. Нет ни одного суфийского братства или ордена дервишей, кто исповедовал бы такой символ веры. А кто это сказал?
— Дервиш один. Или даже не знаю, кто он такой. Религиозный проповедник. Муллократия на него сильно окрысилась.
— Ещё бы им не крыситься. Эта формула — исламская по форме и христианская по содержанию. Уникальный феномен. До такого, кажется, никто до сих пор не додумался. Для муллократии это очень опасно.
— Ну-ка поясни.
— Ты знаешь, что мусульмане чтут и уважают «пророка Ису», как они называют Иисуса Христа. Чтут, но не считают его Сыном Божьим, в отличие от христиан. И мусульмане, и христиане чтут единого Бога, но суть христианства в исповедании Христа Сыном Божиим. Значит, тот кто сказал: «Иса — Сын Аллаха» — уже христианин.
— А не мог этот «кто-то» просто принять христианство?
— Ну это уж ты у него спроси. Этот человек — большой хитрец. Он придумал облачить христианство в исламские одежды. А ведь одежды-то и не исламские, а просто восточные. Простой мусульманин этой разницы вообще не воспримет. Для него ислам — традиция предков. Верность предкам для него и означает верность исламу. А тут получается, что мусульманин может фактически принять христианство, не отрекаясь от национальных традиций. Это очень сильно угрожает власти исламского духовенства.
— Значит, этот дервиш обманывает мусульман?
— Не обязательно. Он, может быть, хочет психологически облегчить переход из ислама в христианство. Интересно было бы поговорить с ним.
— Вряд ли придётся. Ладно. Спасибо.
Клавдия Ивановна знала, что если муж закончил разговор — не надо пытаться его продолжить. Дмитрий долго молчал. Потом вдруг неожиданно посмотрел жене в глаза и спросил:
— Клава, ты веришь в Бога?
— Да, — тихо, но твёрдо сказала она.
Дмитрий молча кивнул.
Они никогда не говорили об этом. Увлечение жены религиоведением Дмитрий воспринимал спокойно и уважительно, усматривая в нём интерес чисто исследовательский, в чём не сильно ошибался. Впрочем, потом он заметил, что Клава повесила у них в спальне маленькую иконку Богородицы. Очень маленькую и на самом незаметном месте. «Ну ладно, — подумал Дмитрий, — плохого-то ничего в этом нет. Если ей так хочется». Пару раз он видел, как Клава украдкой крестится на эту иконку, потом случайно наткнулся на просфорки в старой сахарнице, так же не придав этому почти никакого значения.
Дмитрий думал, что ему всё понятно. Служба у него суровая, жестокая, жене он, к сожалению, уделяет очень мало времени, а она переживает за него, зная, что муж постоянно рискует жизнью. Он очень любил жену, чувствовал свою вину перед ней. Но как он мог её успокоить? Сказать: «Не волнуйся, не переживай»? Это было бы как-то фальшиво и нечестно. И если Клава сама нашла психологический выход, если ей становится легче, когда она перекрестится на икону, если это её успокаивает — так это очень даже хорошо. Он вообще не задумывался о том, верит ли она в Бога, считая религию чем-то вроде психотерапии, то есть, не отрицая её пользы для некоторых людей в определённых ситуациях. А то, что образованный человек может верить в старика, который сидит на облаке и управляет людскими делами — этого он не допускал.
Себя Князев считал атеистом, хотя никогда не был воинствующим безбожником. Верующие казались ему людьми довольно жалкими и беспомощными, то есть никому не способными угрожать, а значит и обижать их, тем более — преследовать, он полагал делом низким и недостойным. Он — офицер ПГУ[4] — элита КГБ, никогда не имел отношения к «пятой линии»[5] и вообще не любил «пятёрку», полагая её оплотом непрофессионализма в недрах госбезопасности.
И вдруг оказывается — его жена верит в Бога. Это было очень странно. Впрочем, тут не было ничего страшного, пугающего. В конце концов у них — свобода вероисповедания, гарантированная каждому гражданину. Советская Конституция — не пустой звук. Конечно, жене офицера КГБ не пристало. Но ведь у Клавы достаточно такта, чтобы не афишировать свою веру. Значит, это её личное дело. Клава — добрая, ласковая, отзывчивая. Она не может прилепиться душой ни к чему плохому. Неприятно только — верующие, они все какие-то убогие, как будто недоделанные. Но ведь она — не такая. Клава — самая смелая женщина на свете. В Афган к нему приехала. Сколько раз вместе под пулями были. Жёны декабристов по сравнению с ней ничего особенного для своих мужей не сделали. В Сибири они не знали, что такое ракетные обстрелы. «Господи, как я люблю её!» — подумал Князев. Он и не заметил, что обратился к Богу.
Поутру майор решил ещё раз зайти к Сашке, судьбу которого так и не решил до сих пор. Хотел просто по-человечески поговорить с пацаном. Странно, но теперь он уже не испытывал ненависти к предателю. Мысли о Клаве, о Шахе, о Сашке как-то причудливо переплетались в его голове. Клаву он очень любил, Шах произвёл на него очень сильное впечатление, а Сашка. Ведь не плохой вроде бы парень. В нём совершенно не чувствовалось внутренней гнили, которая всегда свойственна предателям. И все они верили в Бога. По-разному, наверное, верили, но ни один из них не был похож на жалкое плаксивое существо, каковыми Князев всегда представлял себе верующих. Что-то тут было не так. Все они знают что-то совершенно недоступное его пониманию.
Сашка, как и в первую их встречу, сидел на полу вполоборота к вошедшему. Он так же не повернул к нему головы и вообще никак не отреагировал на появление майора. Князев несколько секунд молча смотрел на него, а потом сказал:
— Встань, — не скомандовал, не приказал, а скорее предложил.
Парень встал так же как и в прошлый раз — не промедлив, но и не поторопившись. Теперь его руки не были связаны.
— Саша, давай поговорим, как мужик с мужиком. Наш разговор не будет иметь для тебя никаких негативных последствий. Объясни мне, по возможности коротко и чётко, зачем ты всё-таки переметнулся к ним? Что такое есть у них, чего нет у нас?
Солдат посмотрел майору в глаза немного насмешливо и надменно, но вместе с тем — заинтересованно. Он уже настроил себя на очередную порцию оскорблений, но голос офицера прозвучал неожиданно по-человечески. Сашка молчал, но теперь было уже очевидно, что он не отказывается говорить, а просто думает, как бы это попонятнее объяснить тупому и ограниченному солдафону некоторые прописные истины. Потом он заговорил, размеренно и немного нравоучительно:
— Вы сражаетесь ни за что. Убиваете людей сами не знаете зачем. А мы сражаемся во славу Аллаха, Господа Миров. Всё что вы делаете — бессмыслица. Нормальный человек не может выносить бессмыслицы. А мы сражаемся во имя высшего смысла. Нам умирать легче, чем вам жить.
В душе у Князева вновь стало закипать раздражение, но он сдержался — сам же вызвал парня на откровенность — и заговорил спокойно:
— Мы сражаемся за Родину. Солдатам много знать не положено, но правда в том, что мы защищаем южные рубежи нашей страны. Если бы нас здесь не было, здесь были бы американцы, а потом они попёрли бы на Союз.
— Русские, американцы, афганцы. Какая разница? Бог не создавал разных народов, люди сами потом разделились. Наша Родина — рай, который приготовил Аллах для своих воинов. А вы несёте с собой безбожие. По всему миру несёте его. Вы отравили своим ядом уже полмира. Вас надо остановить.
Князев опешил и растерялся. Он никогда раньше не думал о таких вещах, это были совершенно чуждые ему понятия. Он думал, что всё просто: есть Родина, есть долг. Каждый честный офицер должен выполнять свой долг перед Родиной. В этом и есть высший смысл службы. У него не укладывалось в голове, что религия, ничем не отличавшаяся в его представлении от психотерапии, может быть каким-то «высшим смыслом». Не успокоительной таблеткой, а чем-то вроде Родины, чем-то таким, за что отдают жизнь. Князев растерянно смотрел на Сашку и понимал, что для него всё это так и есть, очень уж искренне говорил пацан. Майору потребовалось немалое усилие воли, чтобы продолжить разговор:
— Ну хорошо, ты стал верить в Бога. Так и верил бы на здоровье. Сейчас в Союзе за это никого не преследуют. Отслужил бы по-нормальному, вернулся бы на Родину, ходил бы в церковь. У нас же вера своя, русская.
— Вместе с бабками иконы слюнявить? — Сашка презрительно усмехнулся. — Противно. Только здесь я увидел настоящую, живую веру. Ислам — сильный, мужественный. Мусульмане — настоящие мужчины.
— Ты нашу веру не трогай, не погань, — Князев неожиданно для самого себя вступился за христианство. — Ты ещё многого не понимаешь.
— Это вы не понимаете, потому что вы не верите. Но Аллах заставит вас поверить, — последние слова Сашка произнёс уже совершенно без мальчишеской назидательности, упругим шёпотом, при этом он напряжённо смотрел в глаза майору, как будто хотел поджечь его душу.
Князеву было хреново. Про Сашку он старался думать коротко: «Щенок». Он гнал от себя мысли о том, что этот «щенок» в чём-то, может быть, и прав. Мысли эти приходилось гнать с постоянным усилием, потому что они непрерывно лезли в голову. От этого и было хреново.
Ещё хуже стало, когда он узнал, что история с Шахом не закончилась. Набард вернул ему Шаха и прислал письмо: «Благодарю вас, товарищ Князев, за оказанное мне доверие. Все вопросы мы с вами должны решать сообща, я всегда так считал. Пусть этот случай станет хорошим началом наших совместных, согласованных действий. Забудем все недоразумения, которые между нами были. Думаю, мы ещё станем друзьями.
Дервиша мы хорошенько допросили. По нашей части за ним вины нет. Он не агитировал против народной власти и наших советских друзей. Мы могли бы пристрелить эту собаку, просто чтобы больше не возиться с ним. Как говорил товарищ Сталин: «Нет человека — нет проблемы». Но некоторые косвенные данные позволяют предположить, что он, возможно, связан с иностранными спецслужбами или подрывными организациями. А это уже ваша компетенция, уважаемый товарищ Князев. Мы понимаем, что не должны вмешиваться в дела спецслужб. Надеюсь, что смог быть вам полезен. С революционным приветом, секретарь Набард».
«Из рук выскользнул, мерзавец, — подумал Князев, брезгливо отбросив письмо. — Раскусил мою хитрость и не позволил впутать себя в неприятную историю? Так и есть, но тут ещё что-то. В самом тоне письма. Похоже, что Набард искренне надеется на его дружбу. Набард почувствовал в нём своего. Это было самым отвратительным. Даже обидным. А что? Выжму из Шаха всё что можно, шлёпну его, завяжу дружбу с Набардом. Стану такой же мразью, как он. И будем мы жить-поживать, да дерьма наживать».
Майор велел позвать дервиша. Тот зашёл в кабинет осторожной нетвёрдой походкой. Правый глаз Шаха заплыл, всё лицо было а ссадинах. В волосах — запёкшаяся кровь. Похоже, он едва стоял на ногах. Князев отпустил конвой и предложил Шаху присесть. Тот не отказался.
— Тебя били?
— Набард приказал бичевать меня.
— Тебе трудно говорить?
— Жить вообще нелегко. Я могу говорить.
— К какой оппозиционной группировке ты принадлежишь? Исламская партия Афганистана? Национальный фронт исламской революции?
— Я не принадлежу к оппозиционным партиям.
— Скажи прямо, кто ты?
— Дервиш. Проповедник.
— Твои религиозные убеждения не свойственны ни одному из орденов дервишей.
— Наш орден мало известен.
— Почему Набард обвиняет тебя в связях с иностранными организациями?
— Я из Персии. Я не скрывал этого.
— Кто и с какой целью послал тебя в Афганистан?
— Меня послал Всевышний. А про свою цель я уже говорил — свидетельствовать об Истине.
— Помню, помню. «Иса — Сын Аллаха». Значит, ты тайный христианин?
— Почему «тайный», если я проповедую открыто?
— И никаких политических целей твоя проповедь не преследовала?
— Нет. Я далёк от политики.
Странный это был допрос. Казалось бы — всё обычно, по-деловому. Князев спрашивал о том, о чём на его месте спрашивал бы любой следователь. Но в его вопросах чувствовалась такая безмерная усталость, как будто ответы были ему совершенно неинтересны. Хотя в этой усталости чуткий слух уловил бы что-то очень тёплое, человечное. Шах отвечал предельно точно и максимально коротко. Так отвечают профессионалы спецслужб — ни одного лишнего слова, ни шага в сторону, никакой суеты. И всё-таки всем своим нутром опытного разведчика Князев чувствовал, что Шах — не из мира спецслужб. Он не боится проколоться, не подбирает слова. Он не играет роль. Князев понял, что на другие вопросы Шах готов отвечать весьма подробно и развёрнуто, он совершенно открыт и готов на любую степень откровенности, но на те вопросы, которые задавал ему Князев, дервишу скучно было отвечать, они, по его суждению, не требовали большей степени подробности. Это был действительно очень странный допрос. Офицер ничего не пытался выудить, задержанный ничего не пытался скрыть.
Допрос можно было заканчивать. Князеву очень хотелось поговорить с Шахом, но он не знал, как. Ситуация не очень-то располагала к дружеской беседе. А может и не надо ничего говорить? Князев почувствовал, что рядом с Шахом ему хорошо. Мирно, спокойно. Когда он ещё испытывал это чувство? Да только вечерами, с женой, когда они просто сидели рядом и молчали.
— Шах, скажи, почему муллы так ненавидят тебя, почему они добиваются твоей смерти?
— Они не любят Истину. Их интересует только власть.
— Но ведь ты же не пытался выгнать их из мечети и встать на их место?
— Не пытался. Я разговаривал с людьми, со всеми, кто готов был меня слушать. Я говорил им, что Аллах любит их, и они тоже должны любить Аллаха.
— У меня жена верит в Бога. Кого она должна любить больше — мужа или Бога?
— Это одно и тоже.
— Как это?
— Ответ в твоём сердце. Я чувствую, что твоё сердце уже распахнуто и готово принять Бога. Тебе надо только позвать Его.
— А ты знаешь, что я имею власть расстрелять тебя? — Князев сказал это с какой-то совершенно неуместной печальной задумчивостью.
— Ты не имеешь надо мной никакой власти, — Шах сказал это так же задумчиво и печально.
— Значит, ты не боишься смерти?
— Боюсь, — неожиданно быстро сказал Шах и виновато улыбнулся. — Не думал, что будет так страшно. Но я справлюсь с этим.
Князев удивлённо посмотрел на Шаха. Он не ждал такого ответа. Ему вдруг больше всего на свете захотелось обнять этого странного дервиша.
— Я постараюсь найти возможность отпустить тебя. Только сразу уходи в свою Персию.
— Ты забудешь свой долг, господин офицер? Ты так легко погубишь свою карьеру?
Князев не ответил. Помолчав, спросил:
— Спина болит?
— Горит огнём.
— Сейчас я отправлю тебя на гауптвахту. Сразу же пришлю врача, он твоей спине поможет. Там у меня один солдат сидит. Ты поговори с ним, Шах. Он ислам принял. Кто-то из нас очень сильно запутался. Или он. Или ты. Или я.
Князев ещё не принял решение. Он очень хотел отпустить дервиша, но не был уверен, что сделает это. Ему наплевать было на карьеру, после Афганистана майор, уже выслуживший пенсию (год за три), решил выйти в отставку. Тут речь шла о вещах куда более значимых. Надо было совершить поступок, противоречащий всем его представлениям о жизни, в известном смысле уничтожить себя самого. Если бы неделю назад некий офицер сказал ему, что он готов отпустить задержанного, рискуя при этом жизнями советских солдат, Князев, не думая, арестовал бы этого офицера, не усомнившись, что он предатель. А сейчас он сам готов стать предателем? Князев взмолился: «Господи, помоги мне найти выход!».
Во дворе ХАДа опять собралась вся местная муллократия при поддержке перевозбуждённых фанатиков, кричавших: «Убить нечестивца!». Эти выкрики были пока довольно редкими, фанатики словно не требовали ничего, просто не позволяли забыть, зачем собрались.
Князев обратился к толпе: «Я допросил этого человека и не нашёл в нём никакой вины». Толпа угрожающе загудела, он попытался перекричать этот гул: «Товарищ Набард так же не обнаружил в нём никакой вины». Толпа дико заревела, слов уже было не разобрать, но перекошенные ненавистью лица убедительно давали понять, что эти люди способны на всё.
Князев дрогнул. Он понял, что сейчас начнётся погром. Только кровь Шаха может успокоить этих людей. Порвут дервиша на части и разойдутся. Позднее он спрашивал себя, струсил ли он тогда? Да не то что бы струсил. Просто было как-то уж очень глупо погибать сейчас ради спасения симпатичного незнакомца, которого всё равно не спасти. А если и струсил. Кто стоял вот так один перед беснующейся толпой, тот поймёт его. Стало совершенно очевидно, что Шаха придётся принести в жертву. Дервиш по-любому приговорён. Да ведь знал же этот милый бродяга, на что шёл, когда возвещал тут такие истины, которые заведомо должны были привести мусульман в бешенство. Шах знал, как рискует, обижаться ему теперь не на кого.
Больше для проформы Князев спросил:
— Так в чём же вы его всё-таки обвиняете?
Вперёд вышел старый мулла, уверенно, спокойно и веско бросив:
— Он развращает народ.
Мулла не сомневался в том, что его слова — приговор, который весьма затруднительно будет обжаловать. Он посмотрел на Князева, не пытаясь скрыть усмешки. В этот момент Дмитрий ненавидел муллу всеми силами души. На минуту он вообще забыл про Шаха, очень остро переживая унижение, какому ещё ни разу не подвергался за всё время службы в Афганистане. Впрочем, он понимал, что мулла имеет право на усмешку, сегодня сила была на его стороне. Князев хотел ещё что-то спросить для проформы, а потом послать за Шахом конвой. С муллой сейчас придётся договариваться о том, чтобы сохранить хотя бы внешнюю благопристойность. Нельзя же позволить толпе в буквальном смысле разорвать дервиша на части прямо перед дверями ХАДа. Мулла должен гарантировать, что расправа совершится чуть позднее и не слишком демонстративно.
В этот момент к нему подошёл солдат и шепнул на ухо: «Товарищ майор, вам записка от жены, она говорит, что это очень срочно». Дмитрий вздрогнул. Клава никогда не отвлекала его от работы и не стала бы это делать по пустякам. Здесь не было и не могло быть никаких личных дел, которые нельзя отложить до вечера. Что же случилось? Дмитрий всем нутром почувствовал, что это загадочное дело действительно нельзя отложить ни на одну минуту. Жёстко сказав мулле: «Подождите. Я быстро», он прошёл в свой кабинет и развернул записку жены. Это оказалась не просто записка, а маленькое письмо:
«Дима, умоляю тебя, не причиняй никакого вреда праведном человеку, которого вы задержали и крови которого жаждет местное духовенство. Ты знаешь, я не придаю большого значения снам, не увлекаюсь их толкованием и никогда тебе своих снов не рассказывала, но то, что я видела сегодня ночью — это был не просто сон. Мне дано было видеть и понять то, что Бог очень редко открывает людям. Я видела тебя с почерневшим от ненависти лицом. Это был уже не ты — лицо злодея. Твои руки были по локоть окровавлены. Ты подошёл к умывальнику и долго-долго мыл руки, а кровь всё не отмывалась. Тебе это ничего не напоминает? Да ты, наверное, не читал, я тебе потом объясню. Ещё я видела праведника, привязанного к столбу. Толпа побивала его камнями. А вокруг его головы разливалось сияние. Я ужасно страдала от мысли, что ты можешь послать на смерть святого человека. Димочка, поверь мне, это невероятно важно! Не отдавай праведника на смерть. Отложи решение хотя бы до завтра. Погубив этого человека, ты погубишь себя. До встречи, любимый. Господь с тобой».
В душе у Дмитрия, пока он читал письмо жены, произошло что-то необычное. Потом он много раз вспоминал этот момент и никак не мог постичь произошедшего с ним тогда. Это было настоящее чудо. Он просто поверил каждому слову жены. Он вообще не думал, не анализировал и не взвешивал. Он даже не верил. Он просто знал. Теперь он знал наконец то самое главное в жизни, к чему всегда неосознанно стремилась его душа. И вот душа наполнилась тихим, ясным, ласковым светом. Прошло не больше двух минут. Майор помнил, что за стеной его ожидает беснующаяся толпа, но больше не было ни страха, ни сомнения. Всё стало таким кристально-прозрачным, словно он видел теперь не действительность, а её духовный смысл. Дмитрий почувствовал, что даже лицо его разгладилось, освободившись от морщин, наложенных тягостными раздумьями.
Князев вышел на улицу и посмотрел в глаза старому мулле. Он вдруг почувствовал такое сострадание к этому человеку, словно и не было никакого муллы, а перед ним стоял давно потерянный, сбившийся с пути друг. Чудесным образом к нему пришло понимание судьбы этого человека, который теперь исполнен высокомерия, властолюбия и ненависти, а вот — это он же — юный воспитанник медресе, сердце которого пылает искренней любовью к пророку Мухаммеду, да благословит его Аллах и да приветствует. Юноша копит жалкие гроши, порою отказывает себе даже в хлебе, чтобы совершить хадж. Он печалится оттого, что намаз надо совершать всего пять раз в день, он хочет всю свою жизнь превратить в непрерывный намаз. И вот теперь он — страшный старик, позабывший мечты своей юности. «Прости его, Господи, ибо не ведает, что творит», — от всей души взмолился Дмитрий. Он обратился к мулле:
— Дервиш признан невиновным. Он полностью оправдан и будет отпущен.
— Сэр мошавер, вы адекватно оцениваете ситуацию? — мулла усмехнулся сдержанно и криво. Голос его прозвучал не слишком уверенно для человека, осознающего свою силу. Кажется, он почувствовал, что ситуация незримо переломилась. В его глазах читалось недоумение, которое легко перерастает в страх. Он даже не стал напоминать майору про страшные возможности уже почти обезумевшей от жажды разрушения толпы.
— Вы можете не сомневаться, почтенный, смысл происходящего мне вполне понятен. Дервиш будет освобождён в любом случае. Дальнейшее обсуждение.
Дмитрий не успел договорить. Невдалеке раздался сильный взрыв и сразу же — пламя. На несколько бесконечных секунд повисла гробовая тишина, толпа смолкла. А потом прозвучали почти одновременно ещё два взрыва. «Стингеры» — сразу же оценил ситуацию майор. Моджахеды проводят карательную операцию, наказывая город, покорившийся неверным. Знали бы они, сколько тут у них вдруг появилось добровольных помощников, не стали бы и «Стингеры» тратить. Могли бы без боя в город победителями войти.
Толпа лихорадочно и панически заметалась. Мулла стоял неподвижно, словно впал в транс или превратился в соляной столб. Князев тоже стоял, как стоял, не утратив спокойствия. Опытный боевой офицер хорошо понимал, что куда-то бежать во время такого обстрела совершенно бесполезно, ракета может накрыть тебя где угодно. Лучше бы, конечно, лечь, так можно хотя бы от осколков уберечься, но заполнившее душу майора спокойствие не покидало его. Обстрел показался даже естественным и закономерным, как будто страшная концентрация ненависти, заполонившая город, сама породила эти взрывы. Смерть тоже совершенно не пугала. Самое важное в жизни уже произошло. Он теперь знает «что есть Истина». А может и не знает. Просто Истина заполнила его сердце.
Неожиданно страшная мысль обожгла его: «Клава! Что с ней?». Князев бросился через весь город к своему дому. Город пылал, всё горело и рушилось. Дмитрий ни на что больше не обращал внимания, он хотел только увидеть жену — живую и здоровую.
Ракета попала точно в их дом. Князев рванул дверь, запертую изнутри на задвижку, так что дверь слетела с петель. Клава лежала на лестнице, ведущей на второй этаж. Наверное, она спускалась вниз из спальни. Оказаться в момент попадания ракеты именно здесь было наименее вероятно, а окажись она в любом другом — была бы жива.
Из её груди торчал длинный осколок. Крови почти не было — попадание точно в сердце. Князев не бросился к ней. Он знал, что его жена уже мертва. Её голова, запрокинувшись, лежала на ступеньке. Лицо было очень спокойным, как будто она просто уснула, думая при этом о чём-то очень приятном. «Наверное, молилась в спальне, — подумал Князев. — Она знала, что я её не подведу и всё сделаю правильно».
Клава лежала в очень естественной, женственной и вместе с тем целомудренной позе, словно сама прилегла здесь и устроилась поудобнее. Рука не казалась бессильно повисшей, она замерла в красивом умиротворяющем жесте. Так она обычно без слов давала понять: «Всё будет хорошо». Князев вдруг явственно увидел тихое, лёгкое сияние вокруг её головы. Больше он ничего не помнил. Мир исчез.
Дмитрий сидел на камушке на берегу небольшой горной речки. Когда таяние снегов проходит, эта речка из бурного, ревущего потока превращается в тихий речек. Спокойно так журчит, никуда больше не торопится. Некоторые вообще пересыхают, а эта — нет, не пересыхает. А вода в ней — словно жидкий кристалл. Такая чистая. И вкусная. Едва только взглянешь на такую воду и сразу же хочется умыться и напиться. Ещё надо хорошенько вымыть руки. Нет, руки не надо мыть. Руки чистые, руки чистые, руки чистые. Это ангел ему нашёптывает? Да, наверное, ангел. Или жена. А его жена — и есть ангел. Как же ему повезло. Это Бог дал ему такое счастье. Его жена — ангел.
Дмитрий встал и сладко потянулся. Всё хорошо. Словно заново родился. Он, наверное, умер? Конечно, умер, а иначе как он мог заново родится?
Неожиданно перед его глазами появилось лицо. Очень хорошее лицо. Доброе. Похоже, он знает этого человека. Только никак не может вспомнить. Потом до него донёсся голос, словно из другого мира:
— Дмитрий Юрьевич, вы меня слышите?
— Шах!!! — в его голове словно разорвался «Стингер». В одно мгновение он вспомнил всё. И сразу же потерял сознание.
Очнувшись, Дмитрий увидел перед собой уже два лица. Это были Шах и Сашка. Он лежал на земле рядом с той самой речкой, под голову ему был заботливо положен какой-то брезент. Рдели угли затухающего костра. Дмитрий спросил:
— Где мы?
— Недалеко от границы с Ираном, — ответил Шах.
— Шах, расскажи всё по порядку.
— Мы с Александром сбежали во время ракетного обстрела. Это оказалось несложно. Не волнуйтесь, никого из русских мы во время побега не убили. Мы очень хотели обойтись без крови и Бог благословил. Спрятались в горах недалеко от города, решили, что не покинем страну, пока не узнаем, что с вами. Ведь мы оба обязаны вам жизнью. А с вами было плохо. С того момента, как вы узнали о смерти жены, ваш рассудок бездействовал. Вы ходили, ели, все основные функции организма были в порядке, но вы ничего не говорили, никак не реагировали на людей и, похоже, вообще не воспринимали действительность.
— Шах, давай «на ты». Откуда ты узнал о моём состоянии?
— Хорошо, Дмитрий, давай «на ты». В городе многих увлекли мои проповеди. Друзья рассказали мне всё о тебе. Они же по моей просьбе вывели тебя ночью из больницы, которая совсем не охранялась. Мы тронулись в путь.
— А Клава?
— Не беспокойся за неё, Дмитрий. Клавдию Ивановну похоронили с отданием воинских почестей. А на небесах её душу встретили ангелы. Не сомневаюсь в этом.
— Она сама — ангел.
— Да, такая праведница, можно сказать — ангел. А может и выше ангелов. Аллах знает об этом лучше.
Утрата жены стояла в душе Дмитрия тяжёлой тупой болью. Он не думал о жене, просто испытывал очень сильную боль. Это была необычная боль — она не вызывала отчаянья, но и не оставляла ни на секунду. Наверное, рассудок покинул его на время именно потому, что иначе он оказался бы не в состоянии это выдержать. Сейчас, присущие профессиональному разведчику навыки, были уже достаточны для того, чтобы вытерпеть боль, не теряя самообладания.
— Я шёл сюда с вами, не сопротивляясь?
— Извини, но ты был как барашек на верёвочке, которого не трудно вести за собой. Никаких объяснений ты не воспринимал, но следовал за нами без возражений.
— Зачем вы привели меня сюда?
Шах тяжело вздохнул:
— Скажи, Дмитрий, когда ты пришёл в сознание, ты был рад увидеть рядом меня и Александра?
— Да, рад, — совершенно бесстрастно ответил Князев.
— Значит, я не ошибся, тебе не надо было тогда оставаться среди советских офицеров. Сейчас, если захочешь, можешь вернуться.
— Не захочу, — равнодушно сказал Дмитрий.
Шах, кажется, продолжал испытывать неловкость:
— Дмитрий, поверь, я не распоряжался твоей судьбой по своему усмотрению. Я молился Царю царей Господину нашему Исе, и Он открыл мне, что надо делать. Но мы решили не покидать Афганистан, пока ты не придёшь в сознание и не дашь согласие. Даже если ты решишь остаться, перед этим мы сможем обстоятельно поговорить. Тебе нужен этот разговор.
— Без вопросов, Шах. Спасибо. Мне нужен этот разговор, — Князев говорил как-то отрешённо, механически. Не похоже было, что ему нужен разговор с кем бы то ни было.
Боль в его душе стала как-то необычно переливаться. Она перемешивалась с радостью. Он подошёл к реке, опять сел на камень и стал смотреть на воду. Ему хотелось насладиться лицезрением жидкого хрусталя теперь уже в сознании. Ни мыслей, ни чувств, ничего — всю его душу заполнил жидкий хрусталь, тихо-тихо журчавший. Кажется, боль ушла, оно он даже не придал этому значения. Так он смотрел на воду не меньше часа, а, может быть, и гораздо больше. Снова, как из другого мира донёсся голос Шаха:
— Дмитрий, нам нужно идти.
— Да, я готов.
— Ты нормально себя чувствуешь?
— Я в очень хорошей форме.
Через два дневных перехода граница оказалось позади. Они были в Персии. Дмитрий ни разу не спросил Шаха о том, как они пересекут границу, надёжно ли «окно»? Он не спросил даже о том, какова их цель в Персии. Просто шёл и всё. С друзьями обменивался лишь короткими необходимыми фразами. Он не понимал, что за прострация охватила его. Иногда на душе было очень хорошо, иногда возвращалась пульсирующая боль. Сашку Дмитрий не замечал, ни разу не обратился к нему, хотя чувствовал в своей душе всё нарастающую симпатию к нему.
Однажды на привале он посмотрел на парня по-отцовски и с тихой грустью спросил:
— Зачем ты, Саня, ислам принял? От Христа отрёкся. Это очень плохо. Ведь Христос есть Истина.
— Не говорите так, Дмитрий Юрьевич. Я не отрекался от Христа, потому что тогда не знал Его. Некрещёный был. Господин многое мне объяснил. Я приму христианство. Нет ничего странного в том, чтобы из ислама перейти в христианство.
— Хороший ты парень, Саня, — Дмитрий улыбнулся широко и даже весело.
Это не укрылось от внимания Шаха, он понял, что с Дмитрием можно уже говорить.
— Скажи, Дмитрий, откуда тебе известно, что Христос есть Истина?
— Известно и всё. Дано знать, — в голосе Дмитрия послышались живые, человеческие нотки. — Как будто кто-то сказал мне это. А кто — не знаю.
— А я, кажется, знаю, — Шах решил поделится своим открытием. — Две недели твоё тело ходило по земле без души. Это можно, конечно, объяснить тем, что включились аварийные системы организма, мозг автоматически выключился, чтобы не перегореть. Отчасти это так, но всё куда тоньше. Твоя душа устремилась за дущою жены. Эти две недели вы провели вместе. Тело ходило по земле, а душа была на Небе с женой. Там тебе многое было открыто. Воспоминаний об этом у тебя, думаю, нет, но открытое не закрылось. Не зря ты там побывал.
— Да, — утвердительно кивнул Дмитрий, ни сколько не удивившись. — Я действительно ничего не помню, но ты сказал, и я сразу же осознал, что был с ней на Небе. А ты знаешь, Шах, что не я тебя спас, а Клавдия?
— Я знаю, — тихо улыбнулся Шах. — Меня спасла ваша любовь. Я не первый из спасённых любовью.
Андрей Сиверцев всегда жалел Пилата. Ему казалось, что римский прокуратор, человек существовавший в совершенно иной системе координат, в принципе не мог понять, Кто перед ним, Чью судьбу он решает? Не имея ни потребности, ни возможности вникать в религиозные верования иудеев — одного из самых отсталых народов империи (во всяком случае — по убеждению римлян), он, получается, автоматически оказался сопричислен к богоубийцам? Нет, конечно же, такого не может быть. Ни один грех, тем более — столь тяжкий, не может быть неизбежен. Но как всё — таки Пилат мог понять, что перед ним — Сын Божий, если это противоречило всем религиозным представлениям римского мира, который прокуратор, разумеется, должен был считать лучшим из миров? Имел ли право Пилат проявить хотя бы обычную человечность по отношению к проповеднику-бродяге, если это очевидным образом грозило крупными беспорядками? Разве имеет право государственный муж такого уровня на человечность в ущерб долгу? Пилат и так сделал всё возможное, чтобы спасти Иисуса. Он сделал даже больше, чем мог позволить себе чиновник на его месте и всё же. И всё же душу его запятнал чудовищный грех богоубийства.
И вот теперь Андрей узнал о судьбе своего друга Дмитрия Князева, бывшего майора КГБ, а ныне — командора Ордена нищих рыцарей Христа и Храма, руководителя орденской разведки. Андрей был поражён тем, насколько точно судьба Дмитрия повторила судьбу Пилата вплоть до деталей за исключением финала. Даже жену Дмитрия звали так же, как жену Пилата — Клавдия. Жена римского прокуратора Клавдия Прокула так же видела сон и предупреждала своего мужа о том, что он не должен причинять зла «этому Праведнику».
Теперь Сиверцев понял, в чём был подлинный грех Понтия Пилата. Грех, которого прокуратор вполне мог избежать несмотря на препятствовавшее тому воспитание, даже совершенно не разбираясь в иудаизме и вопреки служебному долгу. Этот грех — недостаток любви. Пилату не надо было взвешивать на весах религиозные нюансы, от него не требовалась даже судейская беспристрастность. Прокуратору достаточно было проявить способность к настоящей любви, которая и подсказала бы ему, что с головы этого Праведника по его вине не должен упасть ни один волос. Может быть, ему достаточно было очень сильно любить свою жену, но именно любви-то и недоставало в сердце сурового римского всадника.
Советский офицер ни чуть не лучше разбирался в тонкостях ислама, чем римский прокуратор в тонкостях иудаизма. Майор КГБ имел не меньше оснований отдать на растерзание религиозным фанатикам какого-то ничего не значащего, пусть и симпатичного бродягу. Но если в сердце человека живёт любовь, его сердце обязательно откликнется на зов Вечной Любви, которая поможет ему принять единственно правильное решение.
Когда Андрей увиделся с Дмитрием, ему показалось, что командор заметно смущён. Это не удивило Сиверцева — всё-таки Князев с бесстрашной искренностью вывернул свою душу наизнанку, обнажив самые потаённые её уголки. Это не каждый способен сделать даже перед самим собой, а перед другими.
Дмитрий не спросил мнения Андрея о своём «опусе», только пояснил:
— Я писал в общем-то для архива Ордена, в назидание братьям и в надежде на то, что кому-то из них может быть полезно узнать о моей судьбе. Писал недавно, имея ввиду, что первым читателем будешь ты.
— Но ведь я — не брат Ордена и не известно, стану ли им.
— Теперь уже известно. Я, собственно, с этим и пришёл к тебе. Принято решение о твоём приёме в Орден. Есть и другая новость, не то что бы плохая, но не настолько радостная. Исполнение этого решения отложено на неопредёлённое время. Впрочем, причина этого не имеет отношения к тебе. Тут действуют некоторые орденские правила, о которых ты узнаешь позднее. А то, что я писал фактически для тебя. Наши судьбы очень тесно переплелись, при этом я знаю про тебя всё, а ты про меня — ничего. Надо было это поправить и рассказать о себе. А языком рассказывать не нашёл бы сил.
По душе Андрея прокатилась тёплая волна. Его примут в Орден! Как долго и мучительно он этого ждал. То, что и теперь ещё придётся ждать — уже не имеет значения. Жизненный путь определён раз и навсегда. Больше нет вопросов. Он уже погребён. Только тамплиер способен понять, какой радостью наполняет душу сознание собственной, уже совершившейся смерти. Это порог вечности. И весь остаток его земного бытия протечёт теперь перед лицом вечности.
Не меньше радовало то, что Дмитрий (замечательный мужик, настоящий рыцарь) считает его, Сиверцева, таким близким другом, какие вообще не у всех бывают. Андрей не знал, что сказать, да, впрочем, и не пытался найти слова. Между ними всё было ясно. Дмитрий хорошо читал молчание Сиверцева. Наконец Андрей спросил:
— А Сашка — не тот ли сержант Ордена, с которым я знаком?
— Тот самый. Он уже рыцарь Ордена. Сложная у парня судьба, долго ему пришлось ислам с себя соскабливать. Он пришёл к Богу раньше, чем я, но мой путь оказался прямее. В Ордене его терпеливо и мучительно «дотягивали до ума». Со мной меньше возились. Не моя заслуга, просто судьбы разные.
— А как вы в Орден попали? Шах, кажется, не очень похож на тамплиера.
— Нет, он, конечно, не храмовник. Шах возглавляет Орден дервишей-христиан. Это, можно сказать, христиане мусульманского обряда. Орден Шаха через некоторые косвенные связи выходит на Орден Храма. Мы с Шахом и Сашей прибыли в Персию, там в окрестностях Аламута и расположена резиденция наших милых дервишей. Мы, конечно, у них не остались, европейцам «мусульманский обряд» ни к чему. Шах вывел нас на тамплиеров, так мы оказались в Эфиопии, в «Секретум Темпли».
— Умеете вы ломать сложившиеся представления о мире, в первую очередь — о мире религий.
— Ну это мы ещё и не начинали. Прежний Сиверцев пока не умер, не думай. Он умрёт, когда мир, который отражается в его сознании, станет полностью другим. Ты ещё такое узнаешь. Да многое и увидишь. Я не случайно поторопился подсунуть тебе свой опус. Нам предстоит романтическое путешествие в Персию. С Шахом лично познакомишься.
— Да, мастера вы сказки оживлять.
— Не «вы», а «мы».
— Именем Господа, мессир.
— Отправляемся завтра.
— На верблюдах через пустыню?
— Пустыней ты ещё насытишься. Думаю, путешествие на подводной лодке Ордена будет ни чуть не менее увлекательным.
— На подводной лодке?!
Из Лалибелы отправились на автомобиле в сторону маленького и спокойного государства Джибути. К охваченной войной растерзанной Эритрее даже не приближались, хотя через неё выбираться в Красное море казалось проще, но только не сейчас, здесь даже у всепроникающего Ордена не было «окон».
Добрались до Хариса, что недалеко от озера Абба, через которое проходит граница между Эфиопией и Джибути. Границу предстояло пересечь на вертолёте. Сиверцеву показали этот маленький спортивный вертолёт, который вынесет их прямо в Аденский залив через всю территорию небольшого прибрежного государства. Вылететь сразу же не могли, Дмитрий что-то согласовывал и утрясал. В Харисе застряли на два дня. Было время поговорить.
— Знаешь, Дмитрий, у меня всё ислам из головы не идёт. В твоём опусе как-то очень расплывчато обозначено твоё отношение к этой религии. Вроде бы ты с уважением относишься к исламу, а вроде бы и не совсем.
— Ох, Андрюха, кто бы говорил. Прочитал твой нетленный шедевр «Цена войны». На иронию внимания не обращай, мне понравилось. Так вот этот твой Ходжа. Ты же любишь его. Героический воин джихада. Сколько очарования.
— Да, наверное, Ходжу я и любил, и ненавидел, когда пытался представить себе. Помнишь Абдуллу из «Белого солнца пустыни»? «Абдулла — воин». Хищник, чудовище, а им всё же любуешься. В Абдулле нет ничтожности.
— Очарование ислама.
— Ну и?..
— То что всегда. Ислам надо видеть объёмно, не слишком поддаваясь его хищному очарованию, но и не впадая при этом в экстаз ненависти.
— С одной стороны, с другой стороны.
— Я понял, ты прав. Объёмный взгляд таит свои соблазны, легко порождая кашу из противоречивых оценок, то есть ничего по существу не проясняя и оставляя без ответа главный вопрос: как к этому относится? Выход, однако, есть — надо выстроить иерархию оценок, определить, какая из них самая главная, принципиальная. Положительный или отрицательный аспект попадёт на первое место в этой иерархии?
— Ну и?..
— Главное тут вот что: ислам — вера в Бога. Вера в того самого Бога Творца, в которого верят христиане.
— А иногда считают, что мусульмане верят в Аллаха, то есть вроде бы в другого Бога.
— Ты знаешь, что это глупость, хотя иногда мне кажется, что эту глупость насаждают сознательно. Какой умник перевёл первую часть исламского символа веры: «Нет Бога, кроме Аллаха». Бог — по-арабски «Аллах». Это одно слово. И переводить надо честно: «Нет Бога, кроме Бога». И речь идёт о том самом «Боге Авраама», в которого верят и христиане.
— Это понятно, я о другом. Есть чисто христианское утверждение: «Аллах — не Бог Библии».
Дмитрий тяжело вздохнул:
— Есть такое. Давай разберёмся. Мне кажется, это утверждение проецирует модель отношений между людьми на отношения между человеком и Богом. У людей как? Скажем, твой начальник — майор КГБ Иванов и, выполняя его приказы, ты искренне полагаешь, что служишь КГБ, но на самом деле этот человек — подполковник ЦРУ Смит и выполнение его приказов приводит к тому, что ты работаешь на ЦРУ. В мире людей такое может быть — думаешь, что служишь родине, а на самом деле — её врагам. Но в отношениях Бога и человека такого быть не может, потому что Бог, в отличие от КГБ и ЦРУ — вездесущ и всеведущ. Для того, чтобы служить Богу, достаточно искренне этого хотеть. Бог примет твоё служение несмотря на то, что некоторые люди стараются использовать твои усилия в делах направленных против Бога.
Если мусульмане искренне верят в то, что служат Богу Авраама и весь Коран построен на утверждении, что Аллах — Бог Авраама, тогда в каком смысле можно утверждать, что «Аллах — не Бог Библии»? Именно Богу Авраама молятся мусульмане, как же можно утверждать, что они молятся какому-то другому богу?
— Значит, если человек молится Богу-Творцу, он не может случайно впасть в поклонение тёмным силам?
— А это как раз возможно. Сидит где-нибудь в пещере христианский отшельник, впавший в прелесть, искренне полагающий, что угождает Богу, а на самом деле он давно уже служит демонам. Но ведь он же не изобретатель другой религии. Он не другому богу служит, просто ненадлежащее поклонение Богу истинному завело его в чёрный тупик. Так же мусульмане. Если они ненадлежащее служат Богу Авраама, это ещё не значит, что они служат другому богу.
— Значит утверждение «Аллах — не есть Бог Библии» — ложное?
— Оно не ложное. Скорее относительное и условное. Мусульмане наделяют Бога многими качествами, которыми Он не обладает. Например, по их мнению, Аллах — источник всего на земле, в том числе и зла. В этом смысле Аллах действительно не есть Бог Библии, потому что Бог Библии не есть источник зла. Но ведь и огромное количество христиан имеет ложные представления о Боге, например, считая Его палачом и карателем. Мы говорим таким христианам, что они имеют ложные представления о Боге, но ведь мы же не утверждаем, что они служат другому богу, уже хотя бы потому что бога-карателя на самом деле просто не существует, и служить ему невозможно. Так же и некоего Аллаха, который не есть Бог Библии, просто не существует. Как же можно ему служить?
Конечно, Аллах — не есть Бог Библии, потому что Бог Библии — Святая Троица, а мусульмане не поклоняются Святой Троице. Но это всё-таки не поклонение другому богу, это неправильное представление о Боге.
— А утверждение, что «пророк Иса» не есть Иисус Христос?
— То же самое. И верно, и не верно. С одной стороны так, потому что Иса — всего лишь пророк, а Иисус Христос — Сын Божий. Разумеется, пророк не есть Сын Божий. Но с другой стороны, и мусульмане и христиане имеют ввиду одну и ту же Личность, просто имея об этой личности разные представления. В этом смысле Иса — это, конечно же, Иисус. Скажем, ты утверждаешь, что Иванов — чуточку талантлив, а я говорю, что Иванов — абсолютно гениален. Ты, конечно, можешь сказать мне, что я говорю про какого-то совсем другого Иванова, но это скорее метафорически, ведь мы же помним, что имеем ввиду одного и того же человека.
— Замудрили мы с тобой.
— Так, может, и не надо было мудрить? Аллах — Бог Авраама, Бог Библии. Отрицая это, мы вынуждены будем утверждать, что Бог католиков и протестантов — тоже не Бог Библии, потому что они тоже имеют о Боге некоторые ложные представления. А это — абсурд. Итак, мы с мусульманами поклоняемся одному Богу.
— При этом мусульмане и христиане вот уже вторую тысячу лет истребляют друг друга, исходя из мотивов в значительной степени религиозных.
— Истребляют друг друга люди, а не религии. Достаточно ли хорошо эти люди знакомы с религиозной системой противоборствующей стороны? А свою собственную религию мы достаточно хорошо знаем? Взаимная враждебность вызвана порою тем, что христиане плохо знают христианство, а мусульмане — ничуть не лучше знают ислам. Но это в ретроспективе, до которой ещё доберёмся. А в современном мире характер религиозных войн совершенно переменился. Сражаются уже не мусульмане и христиане, а мусульмане и европейцы. Последние — преимущественно атеисты. И вот тут на первый план выходит именно то обстоятельство, что ислам — это вера в Бога. Кому ты пожелаешь удачи в такой войне: безбожникам или людям, которые сражаются во славу Всевышнего, пусть даже поклоняясь Ему не вполне надлежащим образом, но всё-таки — поклоняясь?
— Начинаю въезжать. Кажется, именно с этим обстоятельством и связана наша симпатия к исламу: мусульмане — верующие, которые противостоят безбожникам.
— Дальше будет ещё много обстоятельств, в том числе и не самых для ислама приятных, но пока заостримся на этом. Недавно прочитал очень мощный роман современной писательницы Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Чудинова описывает Францию, где власть захватили мусульмане. Француженки ходят в паранджах, все совершают намаз, а кто вчера был Жаном, тот сегодня Абдулла. Мороз по коже пробегает, жутковато видеть Париж таким. А потом начинаешь понимать, что этот протест носит чисто культурный характер. Мусульмане отбили Париж не у христиан, а у безбожников, в каковых уже давно в большинстве своём превратились французы. И если Париж принадлежит людям, которые верят в Бога и которые одержали победу над атеистами — это страшно? Страшно на том лишь основании, что во Франции теперь доминирует другой тип культуры? На таких изломах становится хорошо заметно, что для нас важнее — вера или культура. Конечно, мы очень любим европейскую культуру, нам трудно радоваться её разрушению, но если вера в Бога для нас — самое главное, тогда мы, может быть, найдём в себе силы порадоваться победе искренних поклонников Бога.
— Да, похоже, ты прав. Я, кстати, замечал, что мусульман максимально ненавидят именно атеисты и ненавидят как раз за то, что мусульмане верят в Бога очень ревностно и бескомпромиссно. Нелепо было бы нам, христианам, присоединяться к этой ненависти. В противостоянии безбожному миру мусульмане — наши союзники. И всё-таки я не хочу, чтобы француженки ходили в паранджах.
— Но это лучше, чем если бы они ходили полуголые, что сегодня — сплошь и рядом и не много кого смущает, включая христиан чья «терпимость» порою простирается слишком далеко, а вера не имеет никакого отношения к повседневности. А для мусульман вера — это не что-то такое по воскресеньям, а сумма принципов, по которым они выстаивают всю свою жизнь. Они каждую минуту — на работе, на улице, в кафе — ведут себя, как мусульмане. Именно это, в первую очередь, раздражает не только атеистов, но и нашу христианскую интеллигенцию, привыкшую чётко разграничивать религию и жизнь. В воскресенье я иду в церковь, а в понедельник — на фестиваль продвинутого кино, где будут крутить порнушку. Ведь — «это же искусство». Во вторник я вместе с коммунистами буду требовать социальной справедливости, забывая о том, что коммунистическая идеология построена на отрицании Бога. В среду я буду брататься с буддистами, так же отрицающими Бога. «Ведь мы же не дикари, со всеми надо дружить». А вот если ты мусульманин — не будет в твоей жизни ни порнухи, ни коммунистов, ни буддистов. И ты не раз в месяц будешь молится, а пять раз в день, и не у себя в спальне или в церковном закутке — ты будешь падать на колени посреди базара, посреди офиса или на тротуаре, едва заслышав с минарета крик муэдзина, призывающий к намазу. Скажи мне, Андрюха, разве такая ревность в поклонении Богу не должна вызывать восхищение любого искреннего христианина?
— Всё так, всё так, — задумчиво и без удовольствия согласился Сиверцев. — Значит сегодня религиозные войны между христианами и мусульманами уже невозможны?
— А тебя это печалит?
— Да нет, какая тут печаль. Но ведь вражда-то сохраняется. И мусульмане по-прежнему готовы резать христиан. Это мы не готовы к симметричному ответу.
— Осталось лишь разобраться, «мы» — это кто? Смотрел недавно исламские источники, почти везде есть характерная формулировка: «мусульмане и европейцы». То есть с одной стороны — религиозная группа, а с другой — географическая общность. И мы прекрасно понимаем, что формулируя тему таким образом, мусульмане правы. Вера против географии. Откуда тут взяться конфликту на религиозной почве? Западный же учёный Монтгомери озаглавил свою работу: «Влияние исламской науки на средневековую Европу». А почему он, интересно, не сформулировал иначе: «Влияние арабской науки на христианский мир»? Да потому что всё правильно: Хорезми — исламский учёный, а Коперник — европеец. Джихада в наше время может быть сколько угодно, а крестовые походы невозможны. И тогда встаёт вопрос: против кого ведётся джихад? Теперь уже не против христиан, а против безбожных европейцев.
— Значит, тебе нравится такой джихад? Ты, может быть, не против в нём поучаствовать?
— Не передергивай, Андрюха. Моя условная и относительная симпатия к исламу не простирается столь далеко. Я могу сражаться только за Христа. Но перед лицом безбожного мира я порою могу видеть в мусульманах союзников.
— Но ведь Орден жив. Храмовники сражаются. Значит, теперь уже не с мусульманами?
— Нет, конечно же. В эпоху крестовых походов на геополитической карте не было одного мощного игрока — воинствующего безбожия. Теперь этот игрок захватил большую часть мира. При таком раскладе христианской военной элите надо обезуметь, чтобы пойти на вооружённое столкновение с исламом.
— А я всё же не стал бы исключать возможность вооружённого столкновения между мусульманами и христианами. Именно христианами, а не европейцами.
— Я тоже такой возможности не исключаю. Всё зависит от адекватности мусульман. Если воины джихада начнут разрушать христианские храмы и резать наших священников — они увидят перед собой крестоносцев. Европейцы, которые ещё вчера были совершенно безразличны к христианству, вдруг осознают, что они — христиане. И тогда между нами вновь может вспыхнуть война за веру.
В этом смысле у романа «Мечеть Парижской Богоматери»[6] очень характерный финал.
Изображённое в романе сопротивление «новому исламскому порядку» преимущественно не христианское, а «культурное», христиане там в абсолютном меньшинстве. И вдруг неожиданно именно христиане начинают задавать сопротивлению тон. Они решают захватить Нотр-Дам-де-Пари, в котором мусульмане устроили мечеть, с единственной целью — отслужить последнюю мессу и взорвать собор. Этот финал, исполненный подлинного величия, противоречит всему строю романа, изображающего поражение европейской культуры, которая явно ставится выше веры. И вдруг вера становится выше культуры — ради единственной литургии герои решают уничтожить великий архитектурный памятник. Воистину, «месса стоит Парижа».
— Ты считаешь этот финал нелогичным?
— Да как раз наоборот. В жизни такой переворот в сознании вполне может произойти. Люди, привыкшие делать из культуры идола, перед лицом антихристианской агрессии вдруг могут осознать себя христианами. Ради единственной литургии можно пожертвовать не только собором, но и всеми сокровищами мировой культуры, если нет выбора. И никому не посоветовал бы ставить европейцев в такую позицию.
Дмитрий во всё время диалога продолжал оставаться спокойным, тон не повышал, но выглядел исполненным удивительного вдохновения. Его глаза не горели, а светились. Разгладились морщины на лице, в котором твёрдость и религиозность замечательно сочетались с полным отсутствием озлобления или агрессивности. «Настоящий рыцарь веры» — подумал Андрей, чувствуя, что этот разговор его самого перевозбудил до крайности, чего он совершенно не чувствовал в командоре. Сиверцеву захотелось как-то всё же поменять тональность разговора.
— Мессир, вы говорили о том, что Саше пришлось потом долго «соскабливать» с себя ислам. И, говоря об этом, вы отнюдь не излучали симпатии к исламу.
Дмитрий тяжело вздохнул:
— Это очень больная для меня тема. Война в Афганистане закончилась, последний советский солдат покинул эту страну. Но не все покинули. Бывшие наши пленные, принявшие ислам порою под угрозой смерти, теперь уже добровольно остаются в Афгане, потому что дорожат своей новой верой и хотят жить в исламском мире. В этом их счастье, и в этом их трагедия. В Союзе они никогда не видели живой веры и уж тем более не встречались с мужественной религиозностью. Ислам их очаровал, это вполне естественно и закономерно. Это была их первая встреча с Богом, и они выбрали Бога, отвергнув безбожие. Хороший шаг, радостный? Но теперь невозвращенцы отвергают уже христианство. Это страшная трагедия. Ислам по сравнению с христианством — вера рациональная, холодная, порою просто мертвящая. Вера без любви. Наверное, атеисту проще стать христианином, чем мусульманину. Впрочем, и атеисты разные, и мусульмане тоже, так что не стал бы настаивать на этом утверждении, а парней жалко. Самые лучшие, самые духовно развитые ребята, испытывая мучительную жажду веры, не дождавшись встречи со Христом, приняли религию, которая не может удовлетворить и десятой части их реальных духовных запросов. Сашин случай — особый. Он смог перебраться от ислама к христианству только благодаря Шаху. Ни один христианский священник ни в чём не смог бы убедить новоиспечённого мусульманина. А Шах, мусульманизированный христианин, оказался очень удачным мостиком от ислама ко Христу. Но мусульманин, принявший христианство, склонен и христианство воспринимать по-мусульмански — жестко, радикально, рационально, упрощённо. Избавится от этих стереотипов восприятия — тяжелейший духовный труд.
— Мне трудно это понять.
— Просто ты плохо знаешь ислам.
— Хочу Коран прочитать.
— Валяй.
В Харисе они разместились в маленьком уютном домике на окраине. Хозяин, отдав им ключи, сразу же куда-то исчез. Дмитрий предупредил Сиверцева, что из дома они выйдут только для того, чтобы сесть в вертолёт, осмотр окрестностей на сей раз не входил в их планы. В чистой уютной комнате холодильник ломился от еды, которой им двоим хватило бы на неделю. Был так же шкаф с книгами в основном религиозного содержания, среди которых Сиверцев нашёл Коран, с увлечением в него погрузившись.
Дмитрий время от времени куда-то исчезал и, появившись в очередной раз, сказал, что они проведут здесь ещё не меньше суток. Сложилась самая благоприятная ситуация для ведения бесконечных религиозных диспутов.
— Как тебе Коран? — спросил командор.
— Проглотил на раз. Очень неожиданная книга. Масса открытий.
— Например?
— Да вот хотя бы отношение к христианству. Весь Коран пронизан очень большим почтением и ко Христу, и к Богородице, и к самим христианам тоже. Мне очень понравилось: «Ты, конечно, найдёшь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорят: «Мы — христиане!». Это потому что среди них есть иереи и монахи, и что они не превозносятся» (5;85). Или вот ещё, куда уж красноречивее: «Евангелие, в котором руководство и свет» (5;50). А вот что говорит Коран, обращаясь к иудеям и христианам: «Разве вы станете препираться с нами из-за Аллаха, когда Он — наш Господь и ваш Господь» (2;133). «Наш Бог и ваш Бог един» (29;45).
— Всё так, но уже сам пророк Мухаммад вёл войну с византийцами-христианами, не говоря уже про ближайших преемников пророка.
— Так что же, мусульмане забыли Коран, не успев его составить, или христиане были не в курсе, что перед ними люди, которые чтут Христа и Евангелие?
— Так не надо. Обойдёмся без либеральных завываний по поводу того, что «все религии учат одному, и изначально все они исключительно миролюбивы, только потом плохие люди всё исказили и начали воевать». Это пошлые благоглупости.
— Так в чём же дело?
— Человек, прочитавший только «Новый завет», ещё не знает христианства, и человек, прочитавший только Коран, ещё не знает ислама. Фундамент храма — ещё не храм. Ислам, как разработанная религиозно-политическая система, содержит немало положений, куда менее дружелюбных по отношению к христианству.
— И всё-таки дружелюбие Корана по отношению к христианству — факт достаточно значимый.
— Да, безусловно, я с этим и не спорю, просто хотел сразу же избавить тебя от избыточной и неоправданной эйфории на сей счёт. Но то, что Коран не враждебен христианству — факт очень важный и далеко не всем известный.
— Но, может быть, византийским императорам так же не было известно с каким великим почтением относится пророк Мухаммад к христианам, и войны начались по недоразумению?
— Нет, совсем не так. Поставь-ка ты себя на место византийцев. В чём состояла «радостная весть», которую они получили с появлением Мухаммада? В Аравии завёлся некий человек, проповедующий монотеизм, уважительно относящийся к христианству и выступающий против идолопоклонства и язычества. Это, конечно, хорошо. Но этот человек говорит, что получает откровения от Бога, который руководит им напрямую, без посредников. При этом он утверждает, что является пророком не ниже Иисуса, и посылаемые ему откровения равны по достоинству Евангелию, а то и повыше, поскольку пророк, пришедший после Иисуса, должен возвестить более высокие истины. Человек, который ставит себя выше Христа — злейший враг христианства, и его доброжелательность к «людям Писания» гроша ломанного не стоит. К слову сказать, так же должны были воспринять Мухаммада и иудеи. Если новоявленный пророк считает себя равным Моисею — это страшное кощунство. Вот к каким выводам неизбежно должны были прийти христианские (равно — иудейские) богословы в том случае, если до них дошла самая точная и совершенно избежавшая искажений информация о содержании «исламского призыва».
— Как всё легко: появились люди, которые называют себя нашими друзьями, а мы покумекали и решили, что они — наши враги.
— Ну хорошо, чтобы тебе легче было «въехать» в характер ситуации, спроецируем её на современность. Скажем, ты — живущий в Москве православный богослов. И вот до тебя доходит известие, что где-то «во глубине Сибирских руд» появился некий «пророк», утверждающий, что получает «откровения от Бога», прямо-таки икрящийся любовью к христианству, но утверждающий при этом, что он равен Христу и пришёл для того, чтобы улучшить, усовершенствовать учение Христа. Что ты скажешь на сей счёт?
— Какой-то сумасшедший создал очередную секту.
— Во как! Сразу — сумасшедший. Отчего же так быстро испарилась доброжелательность к новоиспеченным друзьям, очень любящим христианство? И ты не упадёшь новоявленному «пророку» на грудь и не окропишь её слезами?
— Ну ладно, Дмитрий, сильно-то не глумись.
— Это ещё не сильно. Куда «сильнее» было твоё понимание византийских христиан, как злобных фанатиков, не пожелавших рыдать на груди Мухаммада. Значит, ты продолжаешь настаивать, что сибирский «продолжатель дела Христа» — именно сумасшедший?
— Ну, может быть, мошенник, создавший новую религию, просто чтобы денег заработать.
— Да. Лихо ты с «пророками» разбираешься. Христиане, бывшие современниками Мухаммада, отнеслись к новоявленному арабскому пророку куда мягче и деликатнее. Ты, случайно, не религиозный фанатик?
Андрей напряжённо засопел. Его поразила лёгкость, с которой Дмитрий загнал его в полный умственный тупик. Он понимал, конечно, что эта лёгкость связана с недостаточностью познаний в области сравнительного богословия. Это было обидно, но его на самом деле интересовала истина, а не победа в споре, так что собственную обиду было относительно легко проигнорировать.
Дмитрий выдержал паузу и продолжил:
— А как ты отнесёшься к «откровениям», которые сибирский (или арабский) пророк получает «от Бога»?
— Не поверю. Какое ещё «откровение» может быть после Христа?
— Вот! Это и есть главное. Значит, на месте византийских христиан, ты просто не поверил бы, что Коран — от Бога. Значит, новая религия — ничто. Её просто нет. Никак иначе христиане и не могли отнестись к новоявленному исламу, не смотря на все его реверансы в сторону христианства. Эти реверансы не могли вызвать у христиан ни доверия, ни радости в силу ещё одного очень простого обстоятельства: с одной стороны существует могучая христианская империя, охватившая полмира, а с другой стороны — арабский чудак и ничтожная горстка его приверженцев. Если слабый заискивает перед сильным, в этом нет ничего удивительного или внушающего к нему уважение.
— Но если «откровение» Мухаммада не от Бога, значит, оно от дьявола. Ведь третьего не дано.
— Это так. Но духовная реальность — штука тонкая, тут всё сложнее.
— Не тот ли это случай, когда недопустимо усложнять? Или Свет или тьма, или Истина или ложь, или Бог или дьявол.
— А человек?
— А причём тут человек?
— Разве человек не является субъектом духовной реальности? Не только объектом, но и субъектом?
— Поясни.
— В духовной сфере нельзя объявлять всё, не идущее от Бога, идущим от дьявола. Многое тут идёт от человека, а в человеке Свет и тьма, Истина и ложь переплетаются, порою, самым причудливым образом.
— Человек может быть обманщиком или не обманщиком, мошенником или не мошенником. Третье дано?
— Дано! В этом-то всё и дело. Давай разложим все возможные варианты происхождения откровения Мухаммада. Первое — откровение от Бога. Второе — Мухаммад бесноватый, которому диктовал дьявол. Третье — психический больной, шизофреник, страдающий раздвоением личности. Четвёртое — обманщик, который всё выдумал. В своё время я делал такой расклад и понял, что ни одно из этих объяснений не удовлетворяет меня в полной мере, в каждом я чувствовал фальшь.
Начнём с простого: Мухаммад — обманщик, который выдумывал откровения. Не верю. Любой, кто объективно и непредвзято изучал биографию Мухаммада, скажет тебе, что это был человек большого благородства и чистой души. Это был великий человек. Люди такого масштаба не бывают заурядными обманщиками, они не могут просто что-то выдумать и на этом построить всю свою жизнь. Для них это слишком мелко, ничтожно. Такие натуры стремятся к величию и не терпят ничего ничтожного. Порою они становятся великими грешниками, но мелкими плутами — никогда.
Второе. Шизофрения, раздвоение личности. Исключено. Достаточно знать клинику шизофрении, чтобы понимать, что поведение Мухаммада в неё не вписывается. Проще говоря, шизофреники так себя не ведут. Раскладывая медицинские аргументы, мы ушли бы сильно в сторону, если этот аспект тебя заинтересует, поговоришь при случае с профессиональным психиатром.
Третье. Откровение от сатаны, дьявольский диктант. С эти разобраться уже куда сложнее, но после долгих размышлений я рискну исключить такой вариант. Во-первых, весь Коран строится на отречении от сатаны, на противостоянии ему.
— Ну мало ли сектантов, которые служат бесам, но при этом ругают их почём зря.
— В этом ты прав, так бывает. Но мы можем хотя бы утверждать, что Мухаммад явно не был сознательным поклонником сатаны. При этом сектанты, согласные с тем, что сатана — зло, всё же склонны внедрять усложнённое отношение к нему. Дескать, «без тьмы не бывает света», «падший ангел играет необходимую роль» и прочие безумные глаголы. В Коране — не так. Коран отрицает служение сатане радикально, прямолинейно и бескомпромиссно. Дьявол всегда избыточно мудрит, накручивает искусственно усложнённые аргументации, он ничего не делает простоте, а Корану совершенно неприсуща хитроумная казуистика, он очень прост. Мне приходилось знакомится с большим количеством сатанинских источников и хорошо известно их мерзко-опустошающее воздействие на душу человека. Дух Корана — совершенно иной.
Кроме того, весь Коран построен на стремлении привести людей от идолопоклонства, от многобожия к поклонению единому Богу Творцу. Очень трудно приписать этот замысел сатане. С чего бы это вдруг сей рогато-хвостатый персонаж решил привести людей к Богу? Языческая Аравия была территорией дьявола, с его точки зрения там и так всё было нормально. «Улучшением ситуации» для падшего духа был бы только откровенный и неприкрытый сатанизм, которого, как мы отметили, в Коране нет. Ислам вёл людей из мрака идолопоклонства к свету монотеизма. Косо, криво, но вёл. Для аравийских идолопоклонников ислам был явным, очевидным шагом вперёд на пути их духовного развития, а потому Коран принципиально невозможно считать «дьявольским диктантом».
— Насколько я понимаю, Божественным откровением ты Коран так же не считаешь?
— Не считаю, как это не грустно. Хотелось бы верить Мухаммаду, но не имею такой возможности. Мухаммад утверждал, что суры Корана — это слова Бога, которые диктует ему, пророку, Джибраил (архангел Гавриил). Не могу в это верить. Для начала скажем — в этом просто нет логики. Какова могла быть цель откровения, которое Бог послал Мухаммаду? Совершенно её не вижу. Арабам Мухаммад принёс монотеизм, а что он принёс всему остальному миру? Ничего. Все без исключения религиозные истины, которые содержит Коран, были очень хорошо известны до Мухаммада.
— Но, предположим, мусульмане не принимали христианское учение о Святой Троице, полагая, что оно граничит с многобожием. Они, конечно, ошибались, но если именно в этом Мухаммад видел данную Богом миссию — очистить монотеизм от позднейших наслоений, утвердить чистое единобожие? Если Мухаммад считал, что Бог послал ему откровение именно с этой целью?
— А иудаизм, религия Моисея? Она тем самым и являлась, что в этом случае мог видеть Мухаммад в самых сладких своих снах — чистое единобожие. Что нового содержит откровение, данное Мухаммаду, по отношению к откровению, данному Моисею? Ничего. Религия Моисея на тот момент была очень хорошо известна в Аравии. Зачем было посылать Мухаммаду ещё одно точно такое же откровение? Нет смысла.
— А если иудаизм — откровение для евреев, а ислам — откровение для арабов? Два аналогичных откровения просто даны двум разным народам?
— Ну, может быть, сам Мухаммад примерно так и думал, хотя в Коране этой мысли нет, там ты нигде не найдёшь утверждения, что ислам — монотеизм для арабов. Но мы сейчас говорили не о том, зачем Мухаммад создал ислам, а о том, зачем Бог мог послать Мухаммаду откровение? Сам Мухаммад вполне соглашался с тем, что христианство — от Бога. При этом христианство — универсальная религия для всех стран и народов. На момент пророчества Мухаммада уже полностью сложился канон «Нового Завета», из которого явно следовало, что Христос принёс Благую весть всем народам без исключения. Зачем тогда Бог после этого мог послать откровение лично арабам, если откровение Нового Завета было дано среди прочих народов, в том числе, и арабам? Да, кстати, ни один исламский богослов с твоей мыслью не согласится. Они отнюдь не склонны считать ислам арабским монотеизмом, полагая свою религию данной всем странам и народам. Вот ты говоришь, что внимательно прочитал Коран и многое тебя в нём поразило, например, дружелюбное отношение Корана к христианству. А ещё что-нибудь?
— Да, хотел поделится. Очень странным показался многократный, весьма убогий и примитивный, пересказ историй из Ветхого Завета, точнее — Пятикнижия Моисея. Зачем это нужно, если Пятикнижие уже существует, и там истории Юсуфа (Иосифа), Мусы (Моисея) и прочие изложены детально и развёрнуто? Мне пришло в голову такое сравнение. Предположим, в моей стране невозможно купить Библию, а я очень хочу познакомится с её содержанием. Мне удалось найти человека, хорошо знающего Библию, и тот устно пересказал мне основные библейские сюжеты. Конечно, в устном пересказе это получилось довольно убого и примитивно, но, предположим, у меня нет другого источника. Чтобы ничего не забыть, я записал пересказы, а позднее даже издал их — не мне одному интересно, что там написано в этой Библии, которую никто из моих соотечественников в руках не держал. Но вот проходит время, Библия становится всем доступна, её свободно продают, а рынок уже наводнён моей книжкой с её весьма несовершенным и заметно оглуплённым пересказом. И что же теперь считать, что у нас — две священных книги, да ещё равных по достоинству? Мне кажется, мою логично изъять из употребления просто потому, что она больше не нужна. Но ведь Коран — именно такая книга, это примитивный устный пересказ библейских сюжетов на уровне «историй у костра» — их письменное изложение теряет всякий смысл, если есть настоящая Библия.
— Ну, вот теперь и ответь себе на вопрос: зачем это Бог стал пересказывать Мухаммаду содержание и так уже существующей Библии? Если Мухаммад не умел читать, так это ещё не достаточное основание для того, чтобы Бог решил даровать всему миру новое откровение, обратившись напрямую к безграмотному богоискателю. А Мухаммад действительно не умел читать и вынужден был довольствоваться устными пересказами Библии, которые в значительной мере и составили содержание Корана. Изволь после этого верить, что Коран — слова самого Бога.
— Как-то беседовал я с одним мусульманином, который утверждал, что Иисус возвестил религиозные истины на более высоком уровне, чем Моисей, а Мухаммад, соответственно, на более высоком уровне, чем Иисус. Тогда я не знал, что ему ответить.
— А теперь попытайся это сделать. Что более высокого принёс Мухаммад в понимание религии по сравнению с Христом?
— Действительно, ничего. Мне даже кажется, что по сравнению с Евангелием, Коран — это явный шаг назад, к Ветхому Завету. Постоянные угрозы, запугивания — вся религиозность строится на страхе. Наверное, во времена Моисея Бог разговаривал с людьми на языке страха, потому что они попросту не поняли бы никакого иного языка. Но пришло новое время, Христос возвестил людям религию любви, а Коран опять пытается вернуть людей к религии страха.
— Ну, вот мы и ответили на вопрос, почему Коран не может быть откровением, данным от Бога. Потому что в духовном развитии человечества это явный шаг назад, к ветхозаветности. Бог не мог даровать откровение, ведущее к деградации, отбрасывающее всё человечество назад. После Евангелия в Коране просто нет смысла.
— Но почему тогда мусульмане утверждают, что ислам — боле высокий этап в развитии монотеизма?
— Об этом ещё поговорим, но это уже не про Коран, а про ислам. А пока мы установили, что Коран не есть книга Богоданная.
— И что тогда? Насколько я понял, ты утверждаешь, что Мухаммад не был обманщиком, не был он так же психически больным, который «слышит голоса». При этом Коран написан не по внушению дьявола и не является так же откровением от Бога. Но я, признаться, не усматриваю никаких других вариантов.
— Ты когда-нибудь писал стихи?
— Писал, — Сиверцев грустно улыбнулся. Ранняя молодость, первая любовь. Тогда — писал. Не только про любовь, но именно тогда.
— Ну и как стихи — получались на твой сегодняшний взгляд?
— Думаю, что да. И тогда, и позднее мои стихи хвалили многие люди, хорошо разбирающиеся в поэзии. Говорили, что они — настоящие. Пожалуй, так и есть. Точнее — было.
— Значит, тебе известно, что такое вдохновение? Когда что-то такое на тебя «нисходит» и стихи буквально выливаются из тебя в законченной стройной форме.
— Как не знать. Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. Да, действительно, порою собственные стихи производили впечатление чего-то внешнего по отношению к моей личности. Я их не придумывал, не сочинял, они просто выскакивали из меня уже готовые — едва успевал записывать. А иногда и сочинял, и придумывал — в этом случае стихи выходили плохие, эти были как раз «мои», порождённые моим сознанием. А хорошие как будто исходили откуда-то извне, там порою присутствовали образы и мысли, которых во мне вроде бы и не было. Не раз потом задумывался: вдохновение — оно от Бога? Или от дьявола? Или какой-нибудь «космический диктант»?
— Да, интересный вопрос. А мне кажется вдохновение, оно чаще всего изнутри самого человека, из подсознания, потому и производит впечатление чего-то внешнего по отношению к сознанию. А оно не внешнее, а глубоко и неосознанно внутреннее. Конечно, природа вдохновения очень сложна, возможно, к этому «каналу связи» могут подключяться некие внешние силы, как светлые, так и тёмные — вполне личностные силы, которые нечто надиктовывают человеку. Наверное, так бывает, но, согласись, нелепо было бы все в мире стихи разделить на внушённые Богом и продиктованные дьяволом. Чаще всего природа стихов — вполне человеческая.
Вот так, мне кажется, и родился Коран. Это человеческая книга. Это порождение личности Мухаммада, плод его религиозно-поэтического вдохновения. Он не был обманщиком, потому что сам воспринимал аяты, которые вдруг начинали звучать в его душе, как нечто внешнее по отношению к своей личности, как «слова дарованные свыше». Мухаммад был человеком исключительно одарённым, но при этом — совершенно необразованным. Он, конечно, ничего не слышал о «поэтическом вдохновении», ему нетрудно было сделать вывод о том, что сам Бог через архангела диктует ему, как надо жить. При полной богословской безграмотности Мухаммад был человеком пытливым, немало беседовал и с христианами, и иудеями, постоянно размышлял о религии. Не удивительно после этого, что его подсознание вдруг начинало порождать некие религиозно-поэтические образы.
— А ведь и правда, Коран — очень поэтичен. Значит, по-твоему, это послание подсознания Мухаммада сознанию Мухаммада?
— Где-то примерно так. Впрочем, и без Бога, и без дьявола тут, конечно, не обошлось. Человек есть человек. Он наделён личной волей, собственным разумом, но кроме этого он постоянно испытывает на себе посторонние влияния. Так что в Коране есть что-то от Бога, что-то от дьявола, но основное — от Мухаммада.
— Это точка зрения нашей Церкви?
— Нет, ни в коем случае. В Церкви нет единого и для всех обязательного суждения относительно природы Корана. Такие вопросы обычно не догматизируют. Это моя личная точка зрения. Можешь иметь другую. С удовольствием поспорю с тобой.
— Может, когда-нибудь и поспорим, но пока твои выкладки кажутся мне максимально реалистичными. А как ты представляешь себе Мухаммада? Что это был за человек?
— Мне кажется, я люблю его. Мухаммада трудно не любить. Очень яркая личность. Харизматический лидер. Блестяще одарённый человек. Он весьма обаятелен. Иначе и быть не могло. Кто бы откликнулся на военно-религиозный призыв одиночки, ничего не значащего торговца, если бы этот человек не обладал уникальными личностными качествами?
— Религиозный гений.
— А вот, ты знаешь, думаю, что нет, он не был религиозным гением. Скорее, гениальный поэт, гениальный политик, оратор. Но именно в религиозной сфере Мухаммад проявил очень мало чуткости, его религиозные пассажи тонкостью не отличаются. Не надо быть гением, чтобы оглуплять и примитивизировать уже существующие религиозные системы. Что помешало Мухаммаду принять христианство если не в ортодоксальном варианте, то хотя бы несторианство, монофизитство или даже арианство, на тот момент ещё не исчезнувшее? Ариане, напомню, отрицают, что Христос был Сыном Божьим, то есть отрицают Святую Троицу. Ислам вообще можно считать арабским арианством. Говорят на Мухаммада сильно повлиял один монах арианин. Вполне возможно. Так почему же Мухаммад, если склонялся к монотеизму, не принял христианство в одном из его вариантов? Зачем надо было свою религию изобретать?
— Так ведь он же получал «послания от Бога» с соответствующими повелениями.
— Если бы он день и ночь думал о том, что пора склонится ко Христу, именно на эту тему он и получал бы «послания».
— И почему, по-твоему, он не принял христианство?
— Гордыня. Раздувание собственного «я» до космических размеров. «Мне никто не нужен, я ни за кем не пойду, я сам всё устрою лучше, чем у всех». Это нежелание признавать над собой никакой власти. Нежелание склонить голову ни перед кем и ни перед чем, отрицание любого авторитета, даже если это авторитет учения, завоевавшего полмира. Ведь «я» — это больше, чем полмира; «я» — это весь мир.
— Но, кажется, Мухаммад — не первый из арабов, не захотевших принять христианство?
Почему арабы, проживавшие в непосредственной близости от мировых центров христианства (Эфиопия, Египет, Палестина) продолжали молится свои идолам? Может быть, арабская ментальность плохо сочетается с христианскими идеями?
— Злая неправда. Вспомним историю. Христианство проникло в Аравию ещё в IV веке вместе с эфиопскими завоеваниями. Эфиопы оккупировали Йемен в 340 г. и оставались там до 378 г. Примерно в тоже время в Наджране появился подвижник по имени Фимеон, он призывал жителей Наджрана принять христианство, и многие последовали его призыву.
В 523 году, во время очередной оккупации Йемена эфиопами, правителем здесь стал наместник эфиопского негуса Абраха. Он стал активно распространять христианство и построил в Йемене церковь, названную Йеменской Каабой. Христианство приняли несколько арабских племён и некоторые арабские правители Хиры. Конечно, этот процесс шёл очень сложно, арабы противились религии оккупантов, то есть они противостояли христианству на политическом, но отнюдь не на ментальном уровне.
— Христианство много где было «религией оккупантов», но тем не менее — прижилось.
— Дело в том, что власть эфиопов над частью Аравии никогда не была прочной. То придут, то уйдут. Если бы Эфиопия взяла под себя всю Аравию хотя бы лет на сто — все арабы были бы христианами. А не произошло этого потому, что пустыню с бедуинами завоевать почти невозможно, да и не много кому хочется. Впрочем, христианизация арабов продолжилась и после возникновения ислама и не только через эфиопское, но и через византийское влияние. В 935 году целое арабское бедуинское племя бану-Хабиб в числе 12 тысяч всадников с семьями (всего — более 60 тысяч чел.) одновременно приняло христианство. Решение, сильно напоминающее политическое, но христианство в этом племени укоренилось и уже в эпоху крестоносцев было «верой предков». Арабский историк XIII века ибн Зафир пишет, что бану-Хабиб и в его дни остаются христианами.
В Х веке, после возвращения Антиохии в состав Византийской империи в течении нескольких лет практически всё местное арабо-мусульманское население добровольно приняло христианство. На тюрок-мусульман, позднее захвативших Антиохию, арабы-христиане смотрели уже как на иностранцев-завоевателей, а на франков-крестоносцев — как на освободителей и братьев по вере. Впрочем, вопрос об арабской ментальности увел нас далеко в историю, куда мы пока не будем углубляться. Хотел лишь показать, что Мухаммаду ничто не мешало принять христианство, кроме его космической гордыни.
— А ты говорил, что любишь этого человека.
— Да, люблю. Кто без греха? Люблю человека и его прекрасные качества и скорблю о его грехах. У великих людей и грехи, порою, великие. Мухаммад в нравственном отношении был на голову выше большинства своих соотечественников. Но это его нравственное превосходство носит характер ветхозаветный, нехристианский. Некоторые истории из жизни Мухаммада хорошо это подтверждают.
Однажды земляки-язычники подвергли его издевательствам трижды в течение дня, и только на третий раз он сказал: «О, курайшиты, я принёс вам погибель» и призвал на них проклятие. Заметь, пророк пытается быть долготерпеливым и незлобивым, как христианин. Он стремится прощать личные обиды и смиренно подставляет другую щёку, но слишком долго терпеть он не в состоянии, вскоре уже он изрекает угрозы и проклятия. Из этого примера явно следует, что Мухаммад нравственно выше любого курайшита, но до христианского идеала очевидным образом не дотягивает.
Или ещё случай. Некий Убайи бин Халеф часто угрожал ему убийством. Пророк терпел-терпел, но однажды сказал: «Это я убью тебя, если захочет Аллах!». Можешь представить себе Иисуса, который говорит: «Это я убью тебя»? Вот и спроси себя, что нового принёс Мухаммад в монотеизм по сравнению с христианством. Желание убивать обидчиков?
— Но он всё-таки старался терпеть и прощать обиды.
— Да, старался. Только надо сделать одно уточнение. Приведённые мною примеры относятся к мекканскому периоду деятельности Мухаммада, когда первые мусульмане были одиноки и беззащитны, а вооружённая сила была на стороне их врагов — многобожников. Легко простить обиду, если ты слаб и ничем по-существу ответить не можешь. Когда же в мединский период пророк встал во главе армии, его склонность прощать заметно притупилась. Улбу бин Абу Муайта, который некогда наносил ему обиды, Мухаммад приказал казнить. Когда приговорённый спросил Мухаммада: «Кто позаботится о моих детях?», пророк ответил: «Огонь!». Не правда ли, доброта несказанная: пообещать адский огонь детям за грехи отца? Вряд ли мусульмане стали заботиться о детях казнённого после такого заключения пророка.
Ещё был случай. Некий Каб сочинял стихи о жёнах сподвижников пророка, нанося им тяжкие оскорбления. Подлое, конечно, поведение и за него следовало наказать, вопрос лишь в том, насколько сурово. Пророк сказал своим людям: «Кто возьмётся убить Каба бин аль-Ашрафа? Поистине, он нанёс обиды Аллаху и его посланнику».
— Христиане тоже убивали, и мы убиваем.
— Вопрос о войне за веру — отдельный вопрос. Мы пока сравниваем не христианство и ислам, а Христа и Мухаммада. Христос никого не призывал убивать. Мухаммад постоянно призывал убивать, в том числе — не только во имя веры, но так же из мести, за лично ему нанесённые обиды. Надо признать, что Мухаммад часто сдерживал свой гнев, порою поступал очень человечно, иногда прощал врагов. Я не склонен демонизировать Мухаммада, отнюдь не считаю его исчадием ада или человеком слишком жестоким. Чаще всего он производит впечатление обычного человека, в котором постоянно борются добро и зло. Да, для христиан это был бы обычный человек. Неплохой человек, но весьма далёкий от святости.
— А факты, которые ты привёл, случайно не «клевета на пророка»? Легендарные личности всегда обрастают байками.
— Тут я чист. Эти факты — из книги крупнейшего современного исламского богослова Ар-Рахика аль-Махтума «Жизнь пророка». На конференции Лиги исламского мира был объявлен конкурс на лучшее жизнеописание пророка. Из 170-и представленных работ эта книга признана лучшей. А это значит, что ведущие исламские богословы современности подтвердили достоверность фактов из жизни Мухаммада, изложенных Ар-Рахиком. Значит приказы пророка об убийстве противников они считают образцом религиозного поведения. Не правда ли, очень грустно?
Дни ожидания в Харисе подошли к концу. Командор скомандовал: «На посадку». Маленький четырёхместный вертолёт летел сначала над озером, потом над землёй. Вся экспедиция состояла из двух человек, не считая пилота, который откуда-то появился в последний момент перед взлётом.
В Ордене Андрей отвык задавать вопросы, он по-прежнему не знал, куда и зачем они летят. Волнующим и сладостным было ощущение того, что он полностью отдал свою судьбу в Божьи руки, больше ни о чём не любопытствуя, зная только настоящий момент и вполне этим довольствуясь. Даже вниз Сиверцев почти не смотрел, потом и сказать не смог бы, что за страна Джибути, и как она выглядит. Андрей пытался молится, молитва, вроде бы, не шла, но на душе всё же было хорошо и спокойно. Он и сам не сознавал, что непрерывно молится — без слов.
Вскоре он заметил, что летят они уже над водной гладью. «Аденский залив», — подумал Андрей. Начало смеркаться, и постепенно стало темно. Летели они очень низко, под ними была ровная, гладкая, почти чёрная поверхность. Всю дорогу они молчали, казалось, что это молчание длится вечно. Андрей не знал о том, сколько времени они провели в воздухе, наверное, много часов — достаточно, чтобы отвыкнуть от звуков человеческого голоса. Неожиданно он услышал голос Дмитрия — жёсткие, рубленные фразы: «Приближаемся к указанной точке. Уточните координаты. Понял. Корректируем курс». Они спустились ещё ближе к поверхности воды, пилот включил прожектор. Его луч так ярко прочерчивал на чёрной глади изумрудную дорожку, что Сиверцев, до этого, казалось, безразличный ко всему на свете, теперь не мог оторвать глаз от этой световой инкрустации.
И вдруг, словно мираж в пустыне, перед ним выросла неожиданная и величественная картина. Сначала он увидел силуэт небольшой субмарины в надводном положении. Они стремительно приближались, и он уже видел, что в рубке, выдаваясь из неё по пояс, стоит рыцарь-тамплиер в белом плаще с абсолютно седыми волосами и такой же седой редкой бородой. На левом плече рыцаря в луче прожектора пламенел тамплиерский крест.
Это была воистину мистическая картина. Чёрная и почти неразличимая гладь воды напоминала первозданный хаос, в пределах которого изумрудная дорожка знаменовала жизнь. Даже корпус субмарины на этой дорожке смотрелся как-то очень по-человечески. Врезанная в эту картину фигура белого рыцаря с суровым лицом напоминала пришельца из мира иного. Не чувствовалось никакого противоречия между современной субмариной и древним рыцарским плащом, картина выглядела порождением вечности, где все эпохи одновремены, образуя некий органический сплав, который пребудет всегда. Многочасовая молитва во время перелёта, выключив Сиверцева из течения времени, помогла ему духовным зрением увидеть посреди океана то, что принадлежало Океану Иному.
Вертолёт завис над палубой субмарины в паре метров, Дмитрий выбросил небольшую верёвочную лестницу, и они спустились на палубу. Пилот выключил прожектор и вертолёт тут же исчез. Покинувший рубку белый рыцарь уже стоял перед ними на палубе. Дмитрий спокойным, глубоким и тихим голосом сказал:
— Командор Князев и послушник Сиверцев приветствуют великого адмирала.
Дмитрий поклонился адмиралу, Сиверцев точно повторил его движение. Рыцарь-адмирал так же поклонился гостям, его поклон был даже глубже, чем у них, и отличался большой почтительностью, но он не сказал при этом ни слова, сразу же направившись к рубке. Они — за ним.
Внутри субмарины было очень тесно. В коридоре два человека могли разойтись только боком. Все двери и панели — металл, отливающий матовой белизной. Освещение несильное, равномерное. Андрея сразу же охватило ощущение домашнего уюта, чего, казалось бы, трудно было ожидать, оказавшись внутри стального футляра, но здесь металл воспринимался, как нечто одухотворённое. Необычные корабелы строили эту субмарину, и необычные моряки здесь служат. Впрочем, пока они ещё не видели ни одного моряка за исключением великого адмирала.
И тут Сиверцев впервые услышал голос морского рыцаря: «Погружение на стандартную глубину, курс прежний». Адмирал шёл по коридору впереди них и отдал приказ, ни к кому не обращаясь, но было понятно, что вахтенный слышит его. Голос адмирала был суровым и жёстким, но без малейшего оттенка грубости, пожалуй это был голос очень замкнутого и немногословного, но, вместе с тем, доброго человека.
Адмирал открыл одну из дверей и жестом пригласил гостей войти, сразу же поклонившись и давая понять, что у гостей пока не будет в нём необходимости. Прежде, чем отвесить ответный поклон, Андрей посмотрел в глаза адмиралу, и тот тоже посмотрел ему в глаза. Эта встреча длилась бесконечно долгую секунду.
Суровое, мужественное лицо адмирала показывало человека, привыкшего отдавать приказы. Рядом с ним ни у кого не могло возникнуть сомнения в том, что этому человеку надо подчиняться всегда и во всём, не задумываясь, начальник ли он тебе. Он казался живым воплощением власти. И вместе с тем в его облике было нечто от доброго и любвеобильного монастырского старца. К нему хотелось придти на исповедь. Он выслушает тебя с тихой грустью и скажет лишь несколько слов, которые ты потом будешь помнить всю жизнь. Сиверцев не удивился бы, увидев под рыцарским плащом епитрахиль священника. Волосы старца не были коротко подстрижены, как у большинства тамплиеров, а были собраны на затылке пучком, что ещё больше углубляло его сходство со священником. Сиверцев почувствовал этого человека как-то сразу, мгновенно. Адмирал-священник казалось так же фотографически мгновенно вместил всю личность Сиверцева без остатка через один только взгляд. Андрей понял, что этим взглядом адмирал молча его благословил.
Предоставленная им каюта по габаритам и внутреннему убранству мало чем отличалась от купе поезда, разве что отсутствием окон. Когда присели, Дмитрий без затей спросил:
— Силён наш адмирал?
— Да. Таких людей вижу в Ордене. Про каждого хотелось бы написать.
— Задумка любопытная, но про великого адмирала Ордена Христа и Храма ты вряд ли что-то напишешь. Он, знаешь ли, не говорит.
— Но я слышал его речь.
— Вот он только в таком роде и говорит: отдаёт приказы, инструктирует экипажи, даёт отчёты капитулу, делает заключения. А сверх этого — ни одного слова. Да и то, что он говорит по службе — предельно лаконично. Такой у него условный обет молчания.
— Кто он?
— Никто не знает. Великий магистр передо мной, конечно, не отчитывается, но, думаю, что и он не знает. О нём известно только то, что можно узнать от афонцев, а им известно тоже немногое. Когда-то давно на Святой горе Афон появился монах из бывших моряков. Он избегал больших монастырей, жил сначала в пещере, потом купил небольшую келью. Вместе с моряком-монахом в келье поселились ещё два инока. Так и жили. Никто не знал о нём ничего, даже его национальность осталась неизвестной. Он говорил на английском, но не на разговорном, а на литературном. Это позволяло усомниться в том, что он англичанин, да и ничем кроме языка, он англичанина не напоминал. Отличался большой молитвенностью и крайним немногослованием.
Потом принял священный сан.
Не знаю, как наши вышли на него. Или он на нас. Короче, как-то он пересёкся с Орденом. Наши предложили ему возглавить орденский флот. Он не заставил себя уламывать, но поставил условие — нигде на базах Ордена никогда не появится, флотом будет управлять в море, не сходя на берег. Решил стать морским отшельником. Действительно, подводное безмолвие субмарины во многом превосходит безмолвие подземных пещер, где селились монахи-отшельники.
— И он вообще никогда не сходит на берег?
— Очень редко, далеко не каждый год, он берёт дней десять отпуска, чтобы побывать на Афоне. Ни на какую другую землю, кроме афонской, его нога не вступает никогда. Где он хоронится на Афоне во время отпусков — никто не знает, не в прежней келье — это точно. Думаю, проводит время в абсолютном одиночестве и безмолвии.
— А как же его священный сан?
— Он не только адмирал, но и духовник флота Ордена. В море служит литургию, исповедует всех моряков.
— Летучий храмовник.
— Да, фигура очень мистическая. Иногда мне кажется, что он ушёл на Афон где-то в XIV веке, а в Орден пришёл, наверное, в XVI-м. Не надо, конечно, понимать это слишком буквально. Хотя. Знаешь, Андрюха, я в Ордене уже второй десяток лет и не первый год принадлежу к высшему руководству тамплиеров, но даже у меня есть некоторые вопросы, на которые я не ищу ответов. Тайны бывают разные. Военные, например, или коммерческие. Тут для меня нет тайн. При моей-то работе. А есть тайны мистические. Перед ними я просто склоняю голову и никогда не пытаюсь узнать больше, чем открывает Господь. Великий адмирал — человек неземной, уже хотя бы потому что — морской. А может и не только поэтому. Всё. Отбой. Спим 5 часов.
Завтрак в их каюте появился на маленьком столике раньше, чем они проснулись.
Помолились перед маленькой иконкой Богородицы. Перед иконкой горела лампада. Андрей не сразу даже понял, что это не обычная масляная лампада, а диод, закреплённый внутри красного стаканчика.
Перекусили. Дмитрий покинул каюту. Появился где-то через час и сказал:
— В нашем распоряжении — полдня. Не устаю удивляться великому адмиралу. Дела, которые с другими пришлось бы сутки обсуждать, с ним раскладываем по полочкам за час, да и то лишь из-за моего многословия, а иначе и за 15 минут управились бы. На что потратим сэкономленное время?
— Нас ждёт ислам, мессир. Ислам не любит ждать.
Итак, вопрос, который мы уже затрагивали: в чём вероучительная новизна ислама? Какие религиозные истины, до него неведомые, возвестил пророк Мухаммад?
Современный шиитский автор Гейдар Джемаль пишет: «К умме (общине) Авраама принадлежат и «люди Писания» (иудеи и христиане). Эта идентичность противопоставляет единобожников языческому миру и характеризуется исповеданием веры в пророков, вышедших из лона Авраамова. С точки зрения мусульман, религии Моисея и Иисуса — это тоже ислам. Но есть и религия пророка Мухаммада. Мусульмане смотрят на иудеев и христиан, как на людей, которые причастны к откровению, но должны признать превосходство мусульман».
Не правда ли, господин Джемаль — очень добрый? Покровительственно похлопал христиан по плечу и, чтобы мы не сильно расстраивались, возвестил, что христиане, не смотря на своё несовершенство, всё же не полные отбросы — за второй сорт сойдут. Чтобы понравится Джемалю, мы всего-то навсего «должны признать превосходство мусульман». Странно только: если я признаю превосходство мусульман, я приму ислам, потому что абсурдно будет оставаться в менее совершенной вере. Если же, признав превосходство мусульман, я всё же останусь христианином, так очевидно, что я полный идиот. Не в такой ли именно позиции желает видеть христиан Джемаль? Вот только он почему-то не объясняет, в чём же именно состоит превосходство мусульман?
— Ты сказал, что Джемаль — шиит. Это не чисто шиитская идея?
— Нет, отнюдь — идея общеисламская. Джемалю вторят и суннитские авторы, тот же Ар-Рахик: «Христиане — мусульмане своего времени». Дескать, в своё время христианство было лучшей религией, но, когда появился ислам, в христианстве не стало необходимости. Вот и вся их симпатия к нам, которая тебе первоначально так понравилась. По их суждению, христиане — люди отставшие от жизни, от передовых религиозных идей на полторы тысячи лет без малого.
Ещё один исламский автор (к сожалению, анонимный) пишет: «На основании хадисов, Аллах послал 124 тысячи пророков, пятеро из них были наиболее великими, они принесли божественные законы для людей. Это Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммад. Мусульмане признают всех пророков и выражают к ним большое уважение. Мы считаем Мухаммада величайшим среди посланников Аллаха, последним пророком для всего человечества, после которого не будет пророков. Ислам, который принёс Мухаммад — религия, дополняющая предыдущие религии».
Как видишь — тоже самое. Ислам выше христианства, Мухаммад пришёл затем, чтобы дополнить «религию Иисуса». При этом ни один из процитированных мною исламских авторов не говорит о том, чем же это таким ценным Мухаммад дополнил христианство?
— Ну ведь что-то же они говорят по этому поводу?
— Напрямую сравнивать ислам и христианство мусульманские богословы избегают, а о том, что принёс в мир Мухаммад, они, конечно, говорят, вот только звучит это подобно детскому лепету. Анонимный мусульманин утверждает: «Посланник Аллаха пришёл не для того, чтобы люди признали Бога, но для того, чтобы они отказались придавать ему сотоварищей». Но ведь уже «религию Мусы», то есть иудаизм, совершенно невозможно заподозрить в том, что она «придаёт Аллаху сотоварищей», то есть в этом отношении мусульмане даже над иудаизмом не поднялись.
— Значит, они полемизируют с христианским учением о Святой Троице?
— Коран ничего не говорит про Святую Троицу и с этой идеей не полемизирует. Понятно, что Мухаммад в силу своей безграмотности был попросту не готов к такой полемике. (Вообще, безграмотность избавила Мухаммада от многих проблем. Как известно, ночью в лесу стрелять легче — деревья не мешают). В Коране есть слова о том, что нельзя «придавать Аллаху сотоварищей», но непонятно, это полемика с христианством или с многобожием.
— Но ведь поклонение Святой Троице — чистейший монотеизм, и нет тут никакого «придавание сотоварищей».
— Да, разумеется! Христианство — чистейший монотеизм. Но это мы понимаем. Учение о Святой Троице — глубочайшее, воистину неисчерпаемое. А попробуй-ка втолковать это учение исламскому богослову, для которого и «Детская Библия» оказалась бы сложновата.
— Так что же всё-таки, но их мнению, принёс в мир Мухаммад?
— Ар-Рахик пишет: «Основными составляющими исламского призыва являются:
1. Единобожие.
2. Вера в Последнийдень.
3. Очищение собственной души ради того, чтобы она отказалась от всегопорицаемого и недостойного, что влечёт за собой дурные последствия, стремиласьк самосовершенствованию и совершала благие дела.
4. Упование на Аллахавсевышнего.
Предшествовать всему этому должна вера в послание Мухаммада иготовность принять его благородное руководство».
Вот так. Один из самых авторитетных исламских богословов современности неторопливо и чётко по пунктам формулируя содержание «исламского призыва», ничего иного кроме вышесказанного, обнаружить не сумел. Целая комиссия исламских богословов, рассматривая его представленный на конкурс труд, ничего не предложила к этому добавить. Значит, мы имеем дело не с частной точкой зрения конкретного мусульманина, а с безупречно сформулированной позицией ислама. Итак, что же мы видим? Пятый пункт по сути не богословский, он призывает верить в то, что Мухаммад — «самый большой». А первые четыре пункта и есть, собственно, содержание откровения Мухаммада. Но ведь тут же нет совершенно ничего нового по сравнению с христианством. И единобожие, и вера в последний день, и призыв к очищению души, и упование на Бога — всё это есть в христианстве. Так и остаётся непонятным, чем же это таким Мухаммад дополнил «религию Иисуса» и где то самое главное в исламе, на основании чего христиане должны признать его превосходство.
— Да ведь христианство, я полагаю, куда побольше вышесказанного.
— Ещё бы не побольше. Содержание «исламского призыва» составляет весьма незначительную часть от содержания христианства. Да кроме того, в третьем пункте — большое лукавство. На самом деле ислам не призывает к очищению души и вообще никаких требований к душе не предъявляет.
— Но если исламские богословы призывают очищать душу, в каком смысле ты говоришь о том, что они этого не делают?
— В том смысле, что они противоречат сами себе. Вспомни «пять столпов ислама», пять основных требований, которые предъявляет ислам к своим последователям. 1. Исповедовать, что нет Бога, кроме Бога, а Мухаммад — пророк Его. 2. Совершать молитву. 3. Отдавать часть имущества бедным. 4. Совершить паломничество в Мекку. 5. Соблюдать пост в месяц рамадан.
Любой мусульманин, выполняющий эти пять нехитрых предписаний — хороший мусульманин. Никто не вправе требовать от него большего. Но где тут хоть одно слово об очищении души? Конечно, ислам призывает совершать хорошие поступки и не совершать плохих, но это остаётся не требованием, а пожеланием, поскольку никакого богословского обоснования не имеет. Даже сильно примитивизированное христианство и то объясняет, почему человек не должен совершать дурных поступков — потому что за это он попадёт в ад. А вот как богословствуют мусульмане: «В хадисах Али утверждает, что посланник Аллаха говорил: «Всякий, кто умрёт, не совершив в этой жизни многобожия, будет введён Аллахом в рай». И ещё: «Всякий, кто придерживается единобожия, тому рай обещанный»». Отсюда совершенно непонятно, зачем воздерживаться от дурных поступков, зачем заниматься очищением души, если достаточно придерживаться единобожия, и ты попадёшь в рай.
— А ведь получается, что, с мусульманской точки зрения, представители всех направлений иудаизма и всех христианских конфессий так же попадут в рай, поскольку придерживаются единобожия. И тогда не понятно, зачем нужен ислам?
— Вот то-то и оно.
— Но в исламе всё же есть понятие греха?
— Да есть-то оно есть, но мусульмане понимают грех очень упрощенно. Для христиан грех — болезнь человеческой природы. Основное содержание христианства — искусство излечения от этой болезни, то самое очищение души. Мусульмане понимают грех, как юристы, для них это нарушение божественного закона. Ислам предписывает: «Если ты совершил дурной поступок, то соверши вслед за ним хороший, который сотрёт его». Видишь, как всё просто: не надо замаливать грех, не надо бороться с греховными помыслами, не надо никакого покаяния. Просто соверши вслед за дурным поступком хороший и сотрёшь свой грех — больше можешь о нём не вспоминать и грешить дальше. Так можно сегодня убить кого-нибудь, а завтра раздать щедрую милостыню — и никаких проблем. Не говоря уже о том, что для мусульман грех — только поступок. О греховных помыслах или желаниях, за которые, по представлениям христиан, так же приходится расплачиваться, они вообще представления не имеют. В этом смысле ислам нравственно ниже не только «религии Иисуса», но даже «религии Моисея». Ведь одна из десяти заповедей гласит: «Не возжелай жены ближнего своего». А мусульманин вообще не поймёт, как это одно лишь желание может быть грехом? Да и не станет мусульманин морочить себя такими вопросами, потому что для него преодоление последствий греха — вообще не тема.
— Меня ещё поразили мусульманские представления о рае. Я читал, что каждый находящийся в раю должен ежедневно иметь 343 тысячи гурий и поедать 24 миллиона видов разных лакомств.
— Вот как раз к мусульманскому раю и к гуриям я не стал бы цепляться. Мне не нравится, когда ислам критикуют на уровне пошлых анекдотов, превращая сравнение религий в заурядную перебранку. Мы им злорадно припомним гурий, они столь же злорадно начнут хихикать по поводу раскалённых сковородок, на которых, по христианским представлениям, жарят грешников в аду.
— Но ведь в христианском учении адские сковородки нельзя понимать буквально.
— А кто тебе сказал, что гурий надо понимать буквально? Серьёзный исламский богослов, описывая рай, отнюдь не станет соревноваться с «Кама-сутрой», так же как и христианские богословы, говоря про ад, не возьмут за образец застенки гестапо. Всё это представления, бытующие на самом низком уровне религиозного сознания, их крайне некорректно комментировать. Ведь мы же не хотим, чтобы о христианстве судили по тому, что мелют наши бабушки в церквях.
— Ну ладно, не станем цепляться к эротическим фантазиям бесхитростных вояк. Хотя. Если мусульманин день и ночь мечтает только о красивых наложницах, это ведь ни сколько не противоречит требованиям ислама — ни один мулла его ни в чём не упрекнёт. А по христианским представлениям это грешник, одержимый блудной страстью.
— Да, это уже серьёзнее. Ислам предъявляет к верующим очень невысокие нравственные требования. Мусульманином быть легко, потому, очевидно, этот упрощённый примитивный вариант монотеизма получил такое распространение. Это как популярные брошюрки для простых людей, где коротко и доступно излагают сложные теории. Тут всё просто и понятно. В такой религии обывательскому разуму легче успокоится.
— Но в исламе успокаивались не только умственно ленивые обыватели, но и гениальные учёные-мусульмане. Как же ислам удовлетворял интеллектуальные запросы самых передовых учёных своего времени?
— Я же не говорю, что это религия дураков. Ислам утверждает принципиальную непознаваемость Бога, это влечёт за собой отсутствие в исламе сколько-нибудь развитого богословия. Простым воякам это нравилось потому что не надо ничего изучать. Учёным непознаваемость Бога нравилась потому что Бог ислама — максимально абстрактен, алгебраичен. Немецкий писатель Хайне в романе «Ожерелье голубки» вкладывает в уста своего персонажа-мусульманина очень интересные слова: «Восток находится во власти разума, Европа — чуда. Мечеть — не священный дом Бога с алтарём, на котором происходят чудеса. Мечеть — не мистическое место, а место для собраний. Сущность ислама так же отвлеченна, как число. Нет никакого совпадения в том, что сыновья Аллаха развили основы математики. Гениальная новизна арабских цифр состояла в введении нуля, загадочного знака, собственно несуществующего числа. В нуле кроется существо абстрактного Бога из пустыни».
— А знаешь, Дмитрий, в таком понимании есть своё величие. Мусульмане в почтительном безмолвии склоняют головы перед непознаваемостью Бога, испытывая священный трепет. Может быть, в безмолвии перед лицом Тайны гораздо больше мудрости, чем в многословии? Все наши слова слишком грубы и несовершенны, они не достойны Бога. В таком священном безмолвии есть что-то глубоко мистическое.
— Вот это продукт русского мозга, — Дмитрий весело улыбнулся. — Даже абсолютное отсутствие мистики, построенное на крайнем рационализме, мы готовы понимать, как нечто «глубоко мистическое». В русском преломлении не только ислам, но и атеизм становится мистичным. Впрочем, твой подход мне симпатичен, тут что-то такое есть. Главное, с чем я согласен — нельзя оглуплять взгляды оппонентов. Если мы хотим не просто разругать, а понять ислам, мы должны попытаться представить, чем может быть ислам в высшей точке своего развития, что он может дать человеку по максимуму.
— Впрочем, стоит задуматься, каковы нравственные последствия этого «священного безмолвия»? Люди молчат, Бог молчит, а что в итоге? Не ровно ли нулю участие в делах людских того Бога, сущность которого лучше всего выразима нулём?
— И вот тут мы подходим к самому главному. В исламе связь между Богом и человеком максимально ослаблена именно потому что Бог — абстрактен. Ислам не только отрицает, но и осуждает идею любви к Богу. Мусульманский богослов XIII века ибн Талийя писал, что любовь предполагает прежде всего соотнесённость, пропорциональность, которых нет и не может быть между Творцом и творением. С точки зрения ислама это в высшей степени логично. Бог не может любить людей, и люди не могут любить Бога. Слишком несопоставимые величины. Любому математику это понятно. А вот христианство выше логики и математики. В основе нашей веры — чудо Боговоплощения. Сын Божий, Богочеловек жил среди нас, поэтому Его можно любить, и мы знаем, что Он нас любит. В исламе же непознаваемость Бога приводит к его бесконечной удалённости от человека. Бог так далёк, что людям остаётся одно — здесь, на земле, заниматься своими земными делами. В итоге ислам стал религией очень земной, очень человеческой, реализующей связь с высшем духовным миром на очень формальном уровне — без участия сердца, без чувства.
— А ведь религия — это связь человека с Богом. Значит в исламе не так уж много религии?
— Вот именно! Я долго не мог понять, что принёс ислам, в чём его суть. Ведь на уровне богословия ислам — тот самый ноль. Наконец до меня дошло, что ислам — вообще не религия в собственном смысле слова. Это религиозно-политический сплав. Именно в этом уникальность ислама. Новое слово, с которым Мухаммад пришёл в мир, это не новые религиозные идеи, это превращение религии в политику. Потом я нашёл у мусульманских мыслителей множественные подтверждения этой догадки. Как пишет один автор: «Ислам или политика, или вообще ничто».
— В христианстве тоже много политики.
— Ошибаешься. Христианство, как религиозная система, политических идей не содержит вообще. Господь призвал отдавать «Богу Богово, а кесарю кесарево», то есть Богово и кесарево смешивать не надо. Для христиан религия и политика — две параллельные реальности, которые влияют друг на друга, но никогда не пересекаются. Могут существовать политические системы, основанные на христианской идеологии. Есть христианский взгляд на власть. Иные церковные структуры чрезвычайно политизированы. Но ислам не политизирован. Ислам это и есть политика. Ислам не вырабатывает взгляд на власть, как на что-то внешнее по отношению к себе. Ислам сам по себе — теория власти. А практическая цель ислама — захват власти.
Христос сказал: «Царство Моё не от мира сего». Мухаммад мог бы сказать: «Царство моё — в этом мире».
— Корректно ли моделировать то, что мог бы сказать Мухаммад?
— Хорошо, оставим слова, посмотрим на действия. С самого начала Мухаммад — военно-политический лидер, создающий своё государство, где ему принадлежит верховная власть. Это было весьма успешно продолжено его сподвижниками. Шиитский автор делает утверждение, которое относится не только к шиизму, но и к исламу вообще: «Шиизм не позиционирует себя в качестве религии в традиционном для европейца понимании. Он не сводится исключительно к ритуальной практике и комплексу этических норм, а является прежде всего универсальной духовно-политической идеологией. Шиизм не политизирован, а изначально неразрывно связан с политикой. В шиитском вероучении вопрос о власти является самым главным, основополагающим». Обрати внимание на то, что думает исламский автор о религии «в традиционном для неё понимании». Он полагает, что для нас религия это «ритуальная практика и комплекс этических норм». О том, что религия может содержать некую богословскую систему, он даже не догадывается. А в том, что основной вопрос ислама — вопрос о власти, он безусловно прав.
Отсюда понятно, что европейцы попадают в откровенно нелепую ситуацию, полагая, что христианство и ислам — две сопоставимых религии, которые отличаются разными богословскими идеями. Если мы будем искать богословские различия двух религий, мы их не найдём, просто потому что не найдём в исламе богословия.
— Когда мы прибудем в Персию? — спросил Андрей командора.
— А я разве не говорил, что мы пока идём не в Персию?
Андрей молча, с едва заметной напряжённой улыбкой помотал головой, сам на себя удивившись, что задал вопрос. В Ордене его уже почти отучили от праздного любопытства, да, видно не совсем. Дмитрий видел, что Андрей, можно сказать, созерцает бездну собственного несовершенства, и остался доволен, не собираясь ничего объяснять. Задающего вопросы в Ордене отнюдь не считали нарушающим субординацию, но тот, кто спрашивает нечто без прямой необходимости, показывает, что он неспокоен, а неспокойный тамплиер — не тамплиер.
Они лежали на койках. Оба молча смотрели в потолок, казалось, забыв друг о друге. Потом Дмитрий сказал, ни к кому не обращаясь:
— Мы идём в сторону Индии. Прежде, чем повернём к Персии, у меня будет встреча на бескрайних просторах Индийского океана, в нейтральных водах.
Андрей теперь уже молчал, ведь не похоже было, что командор к нему обращается. Дмитрий продолжил:
— Скоро всплывём.
— Можно будет мне выйти на воздух?
— Можно, но учти, что это будет не больше пяти минут. Меня оставят на поверхности, субмарина уйдёт под воду, а я буду ждать катер наших друзей. Не всем друзьям мы показываем свои игрушки, особенно — самые любимые.
Субмарина всплыла. Андрей почувствовал себя счастливым, увидев солнце и вздохнув океанский воздух. На палубе матрос накачивал небольшую надувную лодку. Он был в чёрной робе и тельняшке. Принадлежность к Ордену выдавал только шеврон на рукаве — красный тамплиерский крест на белом поле. Сверху белого поля была, кажется, чёрная полоса, но её трудно было различить на чёрной робе. Командор Князев был одет так же, только без шеврона на рукаве. Странно было видеть Дмитрия в тельняшке. Впрочем, ему шло.
Дмитрий сел в надувную лодку, стоящую на палубе субмарины. Скомандовали погружение. Андрей почувствовал, что в воду они ушли неглубоко, на несколько метров. Через пару часов скомандовали всплытие. Андрей опять не поленился высунуться на воздух. Надувная лодка болталась теперь метров за двести от субмарины. Командор, приближаясь к ним, энергично работал маленькими вёслами.
В каюту Дмитрий вернулся мрачнее тучи. Не говоря ни слова, встал перед иконой и начал молча молится, время от времени крестясь и отвешивая поясные поклоны. Андрей не решился к нему присоединится, сейчас совместная молитва не объединила бы их. Впрочем, сидя на койке, Андрей тоже молился без слов, не обращаясь к Богу ни с какими просьбами, просто стараясь обратить ко Всевышнему всю свою душу. Ему удалось уберечь свой разум от размышлений о неведомых и, похоже, страшных событиях. Наконец Дмитрий присел на свою койку напротив Андрея и, поставив локти на колени, закрыл лицо ладонями. Так продолжалось ещё некоторое время, Андрей по-прежнему старался уйти в себя, точнее — в Бога, чтобы предоставить командору полную автономность и обеспечить невмешательство а его внутреннее состояние. Через некоторое время Дмитрий убрал ладони от лица и посмотрел на Андрея, с тихой печалью улыбнувшись, впрочем, его голос прозвучал довольно бодро:
— Ислам зовёт?
— Ислам зовёт и манит, мессир.
— Хотел поговорить о сунитах и шиитах. Я позаглядывал уже в некоторые книги, но так и не смог понять различия между ними.
— Не удивительно. Ты искал богословских различий, а их нет. Христианин привык к тому, что различия между христианскими конфессиями носят богословских характер: католики, протестанты, православные, монофизиты имеют разные мысли о Боге, о спасении души и так далее. А между суннитами и шиитами почти нет богословских различий, они имеют разные мысли о власти. Это вообще не понять, если не уяснить предварительно, что ислам есть политика.
— А что означают сами термины?
— Ты ведь наверняка об этом читал, но не запомнил. И не запомнил потому, что значение слов «суннизм» и «шиизм» никак не объяснило тебе разницу между понятиями. Напомню: суннизм от «сунна», дословно — пример, обычай. В широком смысле — руководство для мусульманской общины. Шиизм от «шиа» — соглашение и единогласие двух людей или двух групп в убеждении или в деле. Второе, вытекающее из первого, значение термина «шиа» — последователи, приверженцы кого-либо.
— Шииты, кажется, последователи Али?
— Так точно. Али бин Абу Талиб — двоюродный брат Мухаммада и муж его дочери — Фатимы. Али был, можно сказать, первым мусульманином, поскольку первым откликнулся на «исламский призыв» Мухаммада. Али — ключевая фигура шиизма. Шахристани говорит: «Тех, кто следует Али и признаёт его руководство, называют шиитами». Вот тебе, собственно говоря, и весь шиизм.
— А кто такие имамы, которым принадлежит власть, по представлениям шиитов?
— Это потомки Али и Фатимы, то есть прямые потомки Мухаммада, члены его семьи — Ахл аль Байт. Только им, Ахл аль Байт, по представлениям шиитов, может принадлежать абсолютная и универсальная власть над исламским миром.
— А у суннитов есть какие-то основания не любить Али?
— Отнюдь, сунниты весьма чтят Али. Тут надо вспомнить историю. После Мухаммада мусульмане избрали своим религиозно-политическим лидером Абу Бакра. Он стал первым из четырёх «праведных халифов». Халиф — лидер всех мусульман, в руках которого сосредоточена религиозная, военная и государственная власть. Халифа, заметь, избирали путём демократической процедуры, и претендентом на этот пост мог быть любой из сподвижников Мухаммада. Следующим после Абу Бакра халифом стал Омар, потом — Осман, а потом — Али. То есть для суннитов Али — четвёртый праведный халиф — фигура высокочтимая. То, что он был зятем пророка, конечно, имело для суннитов большое, но отнюдь не решающее значение. Ведь власть он получил только в четвёртую очередь и не в силу своей принадлежности к Ахл аль Байт, семье пророка, а в силу демократического избрания исламской уммой (общиной).
Для шиитов же три первых праведных халифа — узурпаторы. Али, по их представлению, должен был наследовать непосредственно Мухаммаду, и дальше власть должна была принадлежать только потомков Али — имамам. Вторым после Али шиитским имамом стал Хасан инб Али, внук пророка, третьим — Хусейн, второй сын Али и внук пророка и так далее. Всего, по представлениям штатов, было 12 имамов. Последний имам, Махди, не умер, а находится в сокрытии и наступит время, когда он вернётся.
— Какая красивая идея! Загадочный таинственный Махди. Ожидание его второго пришествия.
— О, идея сокрытого имама безусловно обладает величайшим мистическим очарованием. Гейдар Джемаль пишет: «Последний, 12-й имам является живым, находится среди нас всё это время в сокрытии, чтобы явиться в последний момент истории». А вот другой шиитский автор: «Только Аллах знает, когда придёт время пришествия Махди. С приходом имама Махди Аллах посредством его наполнит мир справедливостью и уничтожит ложь и угнетение».
— А ведь эти две трактовки заметно отличаются. Джемаль пишет, что Махди придёт в последний момент истории, а другой шиит полагает, что Махди наведёт в этом мире порядок.
— Верно подметил, но так глубоко мы с тобой не полезем. Пусть шииты меж собой разберутся, чего они ждут от Махди: конца света или социальной справедливости.
— Но в любом случае, идея Махди — мистическая, а не политическая. Она хоть и выросла из вопроса о власти, но на настоящий момент к власти отношения уже не имеет. Ведь в современном исламском мире нет больше ни халифов, ни имамов, следовательно, суннитам и шиитам было бы уже не о чём спорить, если бы они всего лишь делили власть.
— Да, действительно, со временем между шиитами и суннитами наметились расхождения, которые с известной степенью условности можно назвать богословскими. Для шиитов вопрос о власти стал вопросом об истине. Власть семьи пророка получила мистическое обоснование. Джемаль пишет: «Пророк попросил Бога очистить людей его дома — это Али, Фатима и их дети — Хасан и Хусейн. Эта милость распространяется на 12 имамов». Для шиитов это означает, что 12 имамов непорочны и защищены от грехов. В силу этого, только имам является гарантом от искажений религии и нововведений, поскольку имам не может ошибаться.
По утверждению шиитов, мусульмане не имеют права сами решать религиозные вопросы, но должны беспрекословно следовать решениям, которые вынесет авторитетный руководитель. Это учение о талиме — авторитетном учении, причём учителем может быть только имам. «Люди не способны судить о Божьих делах, иначе, зачем вообще нужен пророк?» — вопрошают шииты.
— Это похоже на догмат о непогрешимости римского папы.
— Не совсем, но это попытка решить тот же самый вопрос: что является критерием религиозной истины, через какие инструменты и механизмы Бог открывает истины веры? Католики утверждают, что римский папа «экс катедра»[7] непогрешим в вопросах веры и нравственности, то есть голос папы — голос самого Бога. Шиитский имам — нечто в этом же роде и даже более того, поскольку шииты полагают его не только непогрешимым в вопросах веры, но и свободным от личных грехов. Так много римские папы на себя не берут, тут они вполне согласны с утверждением всех остальных христиан о том, что без греха один Бог. Но если римский папа и по сей день может изрекать непогрешимые суждения, то голос шиитских имамов не звучит уже более тысячи лет. Следовательно, для шиитов единственным критерием истины является изучение речений и деяний 12-и древних имамов.
— Похоже, шииты куда мистичнее суннитов: глубже лезут, о таинственном вопрошают.
— Вот-вот. Ещё у ранних шиитов принято было размышлять над вопросами весьма таинственными. Какова природа загробной жизни? Что есть Божественное откровение? Возникла целая тенденция, получившая от её противников название «гуллув» («преувеличение») — склонность заходить в этих мистических копаниях глубже, чем позволяют религиозные приличия. Между тем, сунниты склонны ограничивать религиозную сферу формальным исполнением шариата, то есть норм и правил. Когда мы говорим о рационализме или юридизме ислама — это относится прежде всего к суннитам, каковых большинство в исламском мире.
— Юридизм суннитов так же заставляет вспомнить про каталицизм.
— Ну да. А есть и ещё сходство. Шииты, критикуя идею халифата, говорят, что халиф — это «жрец-император». Разве это не заставляет вспомнить про римского папу, претендующего одновременно и на религиозную, и на политическую власть? Шиитам не нравится идея такого совмещения.
— А ты говорил, что расхождения между суннитами и шиитами идут только по политическим, но не по богословским вопросам. Но и «талима» и «гуллув» — богословские понятия, никакого отношения к политике не имеющие. И различное отношение к идее скрытого имама показывает богословские, а не политические расхождения.
— Тут, пожалуй, ты меня урыл. Соглашусь: между двумя основными направлениями ислама есть богословские отличия и, отрицая это, я несколько погорячился. В своё оправдание могу сказать, что сами же шииты настаивают: «Основной вопрос шиизма — вопрос о власти». Они вообще большие путаники, у них нет такого же чётко сформулированного учения, как у нас, а потому трудно бывает разобраться, что у них есть, а чего нет. И ещё раз подчеркну, что разошлись сунниты и шииты по вопросу чисто политическому: кто должен наследовать власть Мухаммада, богословские различия появились гораздо позже. К тому же богословские понятия, которые ты вспомнил — чисто шиитские, в суннизме нет аналогичных. Это шииты мучили себя вопросами о том, какие пути ведут к постижению религиозных истин. Суннизм отнюдь не имел другого взгляда на эту тему, он этой темой просто не интересовался.
— Мне кажется, мы не должны зацикливаться на истории. Нам, конечно, важно понять характер первоначальных противоречий и причины их возникновения, но важнее, чем сейчас отличаются сунниты и шииты.
— Сунниты мечтают о создании всемирного халифата. Шииты ждут скрытого имама. Впрочем, первые не только мечтают, но и действуют, да и вторые не только ждут. Современный шиитский лозунг: «Мы должны брать власть и организовывать политическое пространство под скрытого имама».
— Красиво звучит. Завораживает.
— Не увлекайся шиизмом, а то католиком станешь. Говорю же — и у тех, и у других в конечном итоге всё сводится к политике, то есть к обустройству земных дел, а не к заботе о посмертной участи души. Им важно, кто и на каком основании будет править, так что богословские различия между ними, мягко говоря, не актуальны. Впрочем, разница в суннитском и шиитском взгляде на власть носит до некоторой степени богословский характер. Сунниты, как всегда, не сильно морочили себя этой темой: главу мусульманской уммы избирают все мусульмане. Очень обычный, в высшей степени человеческий подход. Шиитский подход другой: «Только Бог выбирает для людей лидера, обладающего абсолютным правом распоряжаться мусульманами и их делами. Подобно тому, как пророка выбирает сам Аллах, так и имама непосредственно назначает Всевышний. Сами люди не в состоянии правильно выбрать имама или правителя на том основании, что только Аллах прекрасно знает, что необходимо людям и что в их сердцах».
— Мне кажется, шиитский взгляд на власть гораздо ближе к христианским представлениях о сакральной природе власти по сравнению с демократическим подходом суннитов.
— Ближе, но не идентичен. На практике в современном мире эти шиитские представления неизбежно приводят к заключению: ни один правитель исламского государства не имеет религиозной власти, никто не имеет права «распоряжаться мусульманами и их делами», пока не пришёл Махди.
Сиверцев обессилено упал на койку и, глядя в потолок, прошептал:
— Теперь мне известна главная причина религиозных войн: легче их всех перебить, чем во всём этом разобраться.
Дмитрий зашёлся в беззвучном смехе:
— Из твоего черезчур радикального суждения можно извлечь некоторую логику. Действительно, для того, чтобы не появилось желания «их всех перебить», необходимо «во всём этом разобраться». Другого пути нет.
— Как тебе наша субмарина?
— А разве я её видел?
— Ты видел гораздо больше, чем любой из послушников Ордена.
— Не думал, что подводные лодки бывают такими маленькими.
— Конечно, большинство субмарин, не только атомных, но и дизельных — гиганты по сравнению с нашей малюткой. Здесь экипаж — всего 9 человек — три вахты.
— Зато этим кораблём командует сам великий адмирал.
— Нет, великий адмирал не командует этим кораблём, ему подчиняется весь флот Ордена. Адмирал не имеет нашу субмарину постоянным местом пребывания, так что командир здесь есть помимо него. Наш адмирал носится по разным морям на разных кораблях. Сейчас он здесь, потому что ему надо было встретиться со мной, а мне надо было вплотную подойти к территориальным водам Индии. Эта субмарина практически бесшумна и на радарах не отражается. Она хоть и маленькая, но гораздо более современна и совершенна по сравнению с типовыми субмаринами флотов мира. В известном смысле — это спецназовская подлодка. При максимальном уплотнении может взять на борт десант до 20-и человек — несколько боевых групп. Когда речь идёт о боевых подразделениях Ордена — это страшная сила, большего количества бойцов нам никогда не требуется.
— Ума не приложу, куда тут можно запехать 20 человек?
— Мы с тобой в этом случае не занимали бы вдвоём целую каюту. Впрочем, скоро ты на себе узнаешь великие возможности местного уплотнения. Сейчас идём в Персию, там пробудем совсем недолго. Возьмём людей и. Думаю, предстоит большая бойня. Ты впервые примешь участие в боевых действиях на стороне Ордена.
На Андрея эта ошеломляющая новость, кажется, не произвела никакого впечатления. Не то чтобы совсем никакого, но ни бурной радости, ни нервного возбуждения в его душе не возникло. Человек, который идёт, не слишком удивляется тому, что сделал ещё один шаг. Конечно, это был судьбоносный шаг, сражаясь вместе с тамплиерами, он фактически становился тамплиером, но он уже понял, что главное — не в плаще и не в посвящении. Главное происходит в его душе, и оно, это главное, уже произошло. Он был спокоен. Теперь — если бой, значит бой. Сиверцев лишь несколько иронично спросил командора:
— Надеюсь, мессир, не шиитов придётся резать? А то я их уже немножко полюбил.
— О, нет. Шииты — ангелы по сравнению с тем зверьём.
— Мы ничем не отличались тогда. Крестоносцы во имя Христа заливали Палестину кровью. Воины джихада резали крестоносцев, стремясь всех до единого столкнуть в море. Христиане весьма успешно соревновались с мусульманами в жестокости, имея такую же склонность снимать религиозные противоречия при помощи меча. Какие у нас основания утверждать, что ислам — религия войны, а христианство исключительно миролюбиво? — Сиверцев говорил это без внутренней убеждённости, он просто моделировал некую идеологему, пока не зная, что ей противопоставить.
Дмитрий с пониманием кивнул и тихо начал:
— Может быть, мы найдём эти основания в священных книгах наших религий? Коран содержит на сей счёт многочисленные и вполне однозначные указания: «Если же они станут сражаться с вами — убивайте их — таково воздаяние неверных». «Сражайтесь на пути Аллаха». «Аллах любит тех, кто сражается на его пути». «А когда встретите тех, которые не уверовали, то — удар мечём по шее». Это только примеры. Весь Коран — призывает к священной войне. Теперь вспомним Евангелие. Разве Христос хоть где-то хоть раз призывал к войне за веру? «Все взявшие меч, мечём погибнут», — вот пожалуй единственная фраза, выражающая отношение Христа к войне. Чувствуешь разницу с Кораном?
— Спору нет, разница разительная. Коран призывает к священной войне, Евангелие — не призывает. Но вы, мессир, сами говорили, что содержание любой религии никогда не равно содержанию её священной книги. Религия основана на традиции понимания священной книги. И в конечном итоге, и в исламе, и в христианстве всё свелось к одному — режем друг друга, каждый — во имя своих религиозных убеждений.
— Это недопустимая подмена. То, о чём ты говоришь — действия определённых людей, которые не обязательно должны быть равны содержанию религии. Скажем, христиане, убивавшие ради веры — очень плохие христиане, извратившие содержание своей религии. Упрёк этим христианам — не упрек христианству, потому что как раз с точки зрения христианства они заслуживают упрёка. А вот мусульмане, убивавшие за веру, это как раз очень хорошие мусульмане. Они чётко следовали предписаниям своей религии и с точки зрения ислама заслужили только похвалу.
— Значит, Ричард Львиное Сердце, убивая за веру, был плохим христианином, а Саладин, убивая за веру, был хорошим мусульманином? При этом папа римский так же благословил короля, как и халиф благословил султана.
Дмитрий тяжело вздохнул и молчал несколько секунд. Потом продолжил:
— Ты очень красиво и эффектно заостряешь вопросы. Так и надо. Однако, не думай, что на кроткие острые вопросы можно получить такие же короткие острые ответы. Желание получить простой и однозначный ответ оглупляет и примитивизирует духовную реальность, что в конечном итоге и приводит к тупым и грубым столкновениям. Так что наберись терпения. Ответы есть, но они не так просты, как это бывает в исламе.
По поводу твоего сравнения. Действия короля, с христианской точки зрения, очень неднозначны. Не абсолютно отрицательны, но и не бесспорно положительны. Если римский папа благословил его однозначно, так не забывай, что это был глава не какой-нибудь, а именно католической церкви — христианской конфессии максимально близкой к исламу по своему рационализму и юридизму. Представители других христианских конфессий (например, православные) в другие эпохи (например, сейчас) могут совершенно иначе смотреть на действия короля. А вот действия султана, с исламской точки зрения, есть абсолютное, бесспорное и непререкаемое благо. Представители всех направлений ислама, в том числе и шииты, в любую эпоху, в том числе и сейчас, одобряют войну, которую вёл герой джихада.
— Да, вот я уже подумал, мессир, что мы на самих себя бритву точим. Если христианство абсолютно миролюбиво и отрицает войну за веру, значит Орден Христа и Храма — сборище отщепенцев, не имеющих права именовать себя христианами.
— Позднее я докажу тебе, что христианский пацифизм, полностью отрицающий священную войну, это столь же плохое христианство, как и кровожадно-извращённый вариант нашей религии. Пока пойми главное: христиане относятся к священной войне неоднозначно, мусульмане — однозначно. Самым нелепым тут было бы цепляться к одним только крестовым походам, как это делают либералы. Христианству — почти 2 тысячи лет, исламу — без малого полторы. Наверное, стоило бы на всю историю посмотреть. Вспомним первые века христианства. Эта была эпоха почти непрерывного мученичества. Христиан убивали, убивали и убивали, но их ни разу даже мысль не посетила объединиться, вооружиться и вдарить по язычникам. Всем очень хорошо известно, что христиане не проявляли ни малейшей склонности распространять свою веру силой оружия.
Теперь вспомним первые века ислама. Ислам родился из войны. Сам Мухаммад непрерывно вёл войну, отдавал приказы о казнях, делил военную добычу. Однажды один из сподвижников Мухаммада сказал ему, как он решил судьбу пленных иудеев: «Их мужчин я приговариваю к смерти, женщин и детей следует взять в плен, а имущество разделить». Мухаммад на это ответил: «Ты рассудил согласно велению, ниспосланному Аллахом». Вот так всё просто: обезглавили 700 человек, и это им, оказывается, сам Бог велел.
— Это известно из исламского источника?
— Не переживай, из исламского. Автор, оправдывая массовую казнь пленных, одобренную самим пророком, говорит, что те иудеи «совершили военные преступления». Допустим совершили, но что это по существу меняет? Если уж сам создатель ислама не только вёл войну за веру, но и одобрял резню безоружных пленных, так после этого все мусульмане на все времена могли считать вопрос о праве на религиозную войну раз и навсегда решённым.
— Но ты сам говорил, что Мухаммад вовсе не отличался жестокостью и часто проявлял умение прощать и миловать.
— Это так и есть. По меркам того времени, он был довольно гуманным полководцем, иногда он видел смысл в том, чтобы свести до минимума неизбежную жестокость войны. Когда в сентябре 629 года предстояло сражение с византийцами, Мухаммад сказал воинам: «Не убивайте детей, женщин, стриков и уединяющихся в кельях (монахов), не вырубайте пальм и не разрушайте дома». Да, Мухаммад явно не хотел воевать с христианами, не ради этого он поднял знамя ислама. Но если всё же был вынужден к этому, повелел, насколько возможно, ограничить жестокость войны. Но мы говорим не о степени жестокости исламских войн, а о том, что ислам — это война и только война.
— Да тут и о жестокости можно сказать. Если Мухаммаду приходилось специально предостерегать: «Не убивайте женщин, стариков и детей», значит, во всех остальных случаях его бравые парни обязательно вырезали бы всех под корень. И пальмы вырубили бы. И дома разрушили бы. Значит, по отношению к многобожникам не просто велась война, а применялась тактика выжженной земли.
— Действительно. Я и сам об этом не задумывался. Стараюсь быть честным и объективным как по отношению к Мухаммаду, так и по отношению к исламу. Не стоит на них лишнее наговаривать. Но что было, то было.
— Тогда, конечно, можно было сказать, что молодой ислам оборонялся от многократно превосходящего противника, поэтому мусульмане вынуждены были вести войну.
— При Мухаммаде — да. Но первый же его преемник Абу Бакр провозгласил: «Если люди откажутся от джихада на пути Аллаха, Он непременно оставит их без помощи».
— Я, кстати, где-то читал, что слово «джихад» означает всего лишь «усердие», а священная война — «газават».
— Это так. Джихад — старание, усердие на пути Аллаха. Но как-то уж так получилось, что мусульмане с самого начала предпочитали проявлять усердие именно в форме войны, так что термин «газават» не сильно требовался. Не случайно современные исламские источники отражают второе значение слова «джихад» — священная война. Для мусульманина понятия «усердие» и «война» сразу же слились воедино. Не много времени прошло, и преемники Мухаммада завоевали во славу Аллаха Ближний Восток, Персию, всю Северную Африку, большую часть Испании.
— Христианские императоры тоже вели захватнические войны.
— Вели, но никогда не считали это священной войной за веру. Они воевали именно как императоры, а не как распространители христианства.
— Это их оправдывает?
— Это оправдывает христианство. Если византийские императоры из политических соображений захватывали новые территории, Православная Церковь никогда это не благословляла, никогда не объявляла имперскую войну войной за веру. А мусульмане захватили огромные территории, считая, что ведут священную войну ради распространения ислама.
— А когда окрепший ислам стал реальным врагом Византии, православные не пытались объявить крестовый поход против мусульман?
— Да императоры-то были бы не против. Если война всё равно неизбежна, плохо ли подключить к ней ещё и религиозную мотивацию. Но против была Церковь. Православная Церковь решительно выступила против использования христианства для обслуживания военно-коммерческих целей. В X веке император Никифор Фока потребовал от Константинопольского патриарха Полиевкта причислять к лику святых всех без различия воинов, павших в войне с арабами. Патриарх не только отказал, но ещё и ответил императору, что оставшиеся в живых воины только по снисхождению допускаются к принятию Святых Тайн, от которых их надо бы отлучать на 5 лет, как проливших кровь. Не знаю, правда, почему патриарх сказал про 5 лет. Тринадцатое правило свт. Василия Великого предлагает отлучать от причастия воинов, убивавших на войне, на 3 года.
Сиверцев осторожно посмотрел на командора, казалось, вообще ничего не понимая. Он только и смог выдавить из себя:
— Это правило применялось?
— Если оно существовало, значит применялось. Хотя, конечно, со временем его почти перестали применять. Но никогда не отменяли и не отменят. Разумеется, было бы странно, призывая воинов защищать Родину, потом наказывать их за то, что они честно выполнили свой долг. Но если воины, привыкшие и полюбившие убивать, вдруг возомнят себя великими «столпами веры», призывая распространять Свет Христов силою меча, их могут и от причастия отлучить, чтобы помнили — они выполняют очень нужную, но чрезвычайно грязную работу, после которой надо несколько лет отмываться, прежде чем вместе с другими христианами к Чаше подойти. Таково противоядие от объявления чисто имперских войн войнами за веру.
— А как быть с теми, кто убивал, защищая других?
— В XII веке собор в Константинополе постановил, что убивающие разбойников, как при защите, так и ради общей пользы по призыву других, должны подвергаться такой же епитимии, какой подлежат убивавшие на войне.
— Дмитрий, но мы же на свою голову горячие угли собираем. Получается, что тамплиерское служение — сплошной и непрерывный грех. За то, что тамплиеры вынуждены убивать, защищая христиан, Церковь, оказывается, должна наказывать.
— Так и есть. Наше служение греховно. Но мы никогда не сложим оружия. Мы продолжим сражаться, защищая веру Христову.
— Поясни, а то я совсем запутался.
— А это тебе не ислам, где всё просто. В каноническом праве есть такое понятие, как «икономия» — снисхождение. Из икономии некоторые правила в конкретных случаях дозволено не применять. Так же и с этими правилами. Разрешая убивать разбойников или вести войну ради защиты христиан, Церковь из икономии разрешает то, что вообще-то запрещено.
— Совершенно не могу этого понять. Или уж разрешено, или уж запрещено.
— Да разрешено, разрешено, не переживай. Вот, скажем, ты — врач, который ухаживал за больными в чумном госпитале и сам заразился. А тебе разрешают не лечится. Ведь ты же подвиг совершил, за что же тебя теперь истязать мучительными процедурами? Ты обрадуешься такому разрешению? Так же и грех, в том числе убийство, не столько преступление, сколько болезнь, а епитимия — не столько наказание, сколько лекарство. Тебя не столько наказывают, на 3 года оставляя без причастия, сколько предлагают за это время хорошенько подлечиться, очистить душу молитвами, прежде чем приступить к Святым Тайнам. И если из икономии всё же допускают, так это значит, что все будут дружно умолять Бога как можно быстрее очистить твою душу от того ущерба, который ты ей нанёс, когда был вынужден убивать в бою. Христианский воин именно так должен это понимать. Ему не полагается рай за то, что он убивал неверных. Он, убивая, нанёс своей душе ущерб, то есть как раз удалился от рая, и теперь непрерывной молитвой он должен загладить этот грех и всю Церковь просить о молитвах, чтобы его душа быстрее очистилась, и можно было причащаться.
— А вот, почитав блаженного Августина, я думал, что всё проще. В своём труде «О граде Божием» он утверждает: «Не тот убивает, кто обязан служить повелевающему, как меч служит орудием тому, кто им пользуется. И потому заповеди «не убий» отнюдь не переступают те, которые ведут войны по полномочию от Бога».
— При всём моём уважении к блаженному Августину. Разрешение на грех всегда казалось мне разрешением заболеть и не лечиться. Если твоя душа после самого святого боя терзается и болит, если ты чувствуешь, что душа изранена, поможет ли тебе разрешение не чувствовать эту боль? Блаженный Августин — мощный богослов, но порою в его построениях очень много латинского, юридического. Он склонен понимать грех, как нарушение закона, а освобождение от греха, как амнистию. Это очень похоже на ислам.
— Как же тогда понимать служение тамплиеров?
— Как чрезвычайно трагическое. Мы знаем, что убивая в бою за веру, мы грешим, то есть удаляем себя от Бога, от Царствия Небесного. Но, принимая на себя добровольные страдания за Христа, мы, напротив, приближаем себя к Богу, восстанавливаем свой внутренний мир. Греховностью своего служения мы постоянно калечим свои души, молитвою — стараемся исцелить. Но молитва наша может быть слабой, нечистой. Да и можем ли мы поручится, что, принимая на себя страдания, мы делаем это ради Христа, а не ради собственного тщеславия? Служение тамплиеров — воистину страшное. Мы понимаем это. На службе в Ордене мы можем погубить свои души. Но мы уповаем на милосердие Божие, на молитвы всех наших небесных заступников. Мы не можем иначе. Там, где мы с тобою скоро будем, беззащитных христиан истязают и убивают только за то, что они — христиане. Андрюха, я много видел в этой жизни, но у меня волосы дыбом встали, когда я узнал, что там творится. Так, может быть, оставим тех христиан на растерзание? Побережём свои души от греха? Не замараем себя кровью? Нет, мы вступим в бой. Но не думай, что это приблизит нас к Богу. Мы лишь уповаем на то, что Бог простит нас, поможет нам исцелить души, добровольно искалеченные грехом убийства.
Друзья долго молчали. Андрей был потрясен, его душа содрогалась. Он и не думал, что всё вот так. Теперь ему открылась правда. Он в ужасе стоял перед бездной, которая столь неожиданно разверзлась и готова была его поглотить. Он испытывал страх, но растерянность не тронула его душу. Решимость не ослабла. Теперь он окончательно понял, что станет тамплиером.
Когда они отмолчались, Андрей интуитивно ощутил, что надо выруливать обратно, в теоретическую плоскость:
— Как же всё-таки оценить крестовые походы? Из твоих слов можно сделать вывод, что это чисто католическое изобретение, в основе своей — антихристианское.
— Не соглашусь с этим выводом. Точнее — не приму его однозначность. Когда папа римский обещал отпущение грехов всем, кто погибнет во время крестового похода, истребляя мусульман, это была мысль антихристианская, как и вообще индульгенции — кошмарная, совершенно не христианская идея. Уверен, что далеко не все крестоносцы удостоились Царствия Небесного. Иные, может быть, спасли бы свою душу, оставшись дома, а, отправившись в крестовый поход, погубили душу. Если иной крестоносец был уверен, что убивая мусульман, он тем самым прокладывает себе дорогу в рай, то думаю, что всё наоборот — таковые приближались к аду. Однако были и другие крестоносцы, решившие претерпеть ради Христа любые страдания и отдать за Него жизнь. Они тоже убивали мусульман, но цель свою видели не в этом, а именно в том, чтобы пострадать за Христа. Они искренне стремились защищать восточных христиан, уберечь христианские святыни от осквернения и поругания. Уверен, что тысячи таких крестоносцев — чистых, искренних, возвышенных удостоились Царствия Небесного. Возможно, многие из них, оставшись дома, могли погубить свои души, потому что вели бы ничтожную, низменную жизнь, а в крестовом походе — спасли свои души, потому что отдали их «за други своя».
В крестовых походах перемешалось всё — высшие духовные порывы к Небесам и чудовищные греховные бездны, стремление к Богу и стремление к грабежам, самое чистое человеколюбие и самое грязное человеконенавистничество. А в целом, с нравственно-христианской точки зрения, я склонен оценивать крестовые походы скорее положительно. Они подарили Церкви огромный сонм святых мучеников, какого не было с первых веков христианства. В том числе и святых тамплиеров. Мы можем поручиться: те кто в плену выбрал смерть, но не принял ислам, не отрекся от Христа — ныне в Царстве Небесном. Таковые вели войну воистину святую и засвидетельствовали это своей мученической кончиной.
— Зачем же сейчас католики лебезят перед мусульманами, расшаркиваясь в извинениях за крестовые походы? Католическая церковь Германии устроила в музее епископства города Майнц выставку под названием «Святых войн не бывает», предлагая посетителям критически взглянуть на «бесславные деяния» крестоносцев. На открытии выставки кардинал Карл Леман утверждал, что на нечеловеческие мучения в Святой Земле рыцарей толкала не вера, а жажда власти и обогащения. Кардинал сказал, что экспозиция выставки станет началом новых контактов между исламом и Европой.
— Его высокопреосвященство, похоже, судит по себе. Во время крестовых походов в Святой Земле такие как кардинал Леман ради благ земных готовы были ползать на брюхе перед мусульманами. Ведь именно это и делает Леман, заискивая перед влиятельными мусульманскими диаспорами Европы. В его бескорыстии легко усомниться. Кто дал право этому ничтожеству плевать на гробы мучеников-крестоносцев?
— Но, может быть, он действительно хочет мира между мусульманами и христианами?
— Если бы он действительно хотел мира, он мог бы предложить мусульманам организовать аналогичную выставку. Например: «Сражений на пути Аллаха не бывает». Пусть бы на этой выставке муфтий сказал, что воины джихада не за ислам сражались, а воевали ради власти и обогащения. Пусть бы этот муфтий попросил у всего мира прощения за грабительские кровавые завоевания на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Испании. Предложил бы полюбоваться на «бесславные деяния» воинов джихада. Вот тогда всё было бы честно, тогда это, может быть, и способствовало бы миру между нами. Но пока мы просим прощения за крестовые походы, мусульмане продолжают джихад, и даже мирные мусульмане никогда не осудят тех, кто вёл или ведёт джихад. А «кардиналы леманы» заискивают перед воинами Аллаха, выпрашивая себе право на комфортное существование.
— Значит, современные мусульмане не осуждают войну за веру?
— Да что ты. Вот что пишет уже известный нам Сафи Ар-Рахман: «В исламе война стала средством осуществления благородных и похвальных целей, средством освобождения от притеснения и насилия, средством очищения земли Аллаха от вероломства, предательства, греха, враждебности». И это пишет, заметь, не отморозок-террорист, а один их крупнейших суннитских богословов современности.
— Но он, кажется, перечислил достаточно благородные цели войны.
— Ещё бы. Но за трескучим пафосом надо увидеть главную мысль этой сентенции: «В исламе война стала». Они сами подчёркивают: война — неотъемлемая, органичная часть ислама. Нельзя сказать: «В христианстве война стала». У нас нет «богословия войны» просто потому что христианство — это религия и не отвечает на политические и военные вопросы. Во всём «Новом завете» мы почти не встретим никаких оценок войны. Обычно ссылаются на два момента.
Первый, когда св. Иоанн Предтеча говорит воинам, как надлежит себя вести и при этом отнюдь не призывает их оставить военное ремесло. Ни одобрения, ни осуждения войны из уст Предтечи Христова не прозвучало, потому что он пришёл возвестить истины совершенно иного порядка. Второй фрагмент: Христос не велит апостолу Петру оказывать вооружённое сопротивление. Забывают, правда: дальше Христос говорит о том, что Отец Небесный мог бы послать легионы ангелов, если бы было надо. Господь подчёркивает, что в случае необходимости в военной силе (ангельской!) не было бы недостатка. «Легионы ангелов» существуют! Но сейчас решается вопрос иного порядка. Вопрос отношений между Богом и людьми — не военный, не политический. А ислам — это политика. Политики же без войны не бывает. Соответственно, не может быть ислама без войны.
— У шиитов такое же отношение к войне?
— Тут шииты и сунниты полностью едины. Посмотри изданную в Иране книгу разъяснений и толкований «Свет Священного Корана». Там говорится: «Исламские войны ведутся во имя Аллаха, повелевающего распространять истину, единобожие, бороться с беззаконием, моральным разложением и ересью». Здесь всё ещё радикальнее: во имя распространения истинной религии можно и должно вести войну. Это уже прямой призыв к религиозной агрессии. Опять же обратим внимание на словосочетание «исламские войны». Христиане тоже непрерывно вели войны, но никогда не было «христианских войн», то есть вытекающих из природы христианства. А из природы ислама война вытекает непосредственно и неизбежно, поэтому понятие «исламская война» вполне оправдано.
Единственный раз за всю свою историю христиане позволили себе поднять оружие для защиты единоверцев и религиозных святынь во время крестовых походов. И вот мы уже скоро тысячу лет перед всем миром извиняемся, все дружно осуждают «грабительские крестовые походы», хотя они были чисто оборонительным предприятием с целью остановить агрессию ислама. А мусульмане открыто призывают «во имя Аллаха» к нападению на соседей с целью «распространять истину, единобожие» — и ничего, всё нормально. Они и не думают в этом каяться, да никто почему-то и не призывает их к покаянию, никакие «кардиналы леманы».
— А что творили тевтоны в Прибалтике? Поймают язычника и говорят: «Крещение или смерть».
— Тевтонские отморозки после этого теряли всякое право называть себя христианами. Церковь всегда осуждала практику насильственного насаждения христианства. Тевтоны так поступали, потому что были очень плохими христианами. А мусульмане, насильственно распространяющие ислам, как раз очень хорошие мусульмане. Подобные эксцессы в христианском мире случались только тогда, когда правители прикрывали свои имперские задачи именем Христа, на что совершенно не имели права, либо когда церковные иерархи лезли в политику, что им по сану совсем не надлежало, либо это были простодушные и безграмотные христиане, имеющие очень смутное представление о христианстве. И всё это было давным-давно, новейшая история совершенно не знает подобных эксцессов со стороны христиан.
Но вот что пишет Гейдар Джемаль — не средневековый, а современный исламский автор. Надо ещё сказать, что Джемаль — прекрасно образованный интеллектуал, а не тупой полевой командир. При этом он не относится ни к духовенству, ни к правящим кругам исламского мира, то есть не имеет необходимости оправдывать чью-либо политику. Джемаль лучше других знает, что такое ислам. И вот что он пишет: «Существует 3 мира: дар уль куфр (мир неверия), дар уль харб (мир войны) и дар уль ислам (мир веры). Мир войны — это зона, в которой происходит столкновение с куфром». Неужели ещё нужно что-то объяснять? Ислам не просто одобряет или приветствует войну за веру. Ислам — это и есть война. Они не станут, как мы, засорять себе голову вопросами о том, когда можно, а когда нельзя обнажать меч во славу Божию, когда это грех, а когда — не очень. Во славу Аллаха они всегда готовы убивать, без проблем и без систем.
— И мы скоро вступим в бой ради Христа. И покроем себя грехом.
— Вступим. Покроем. И будем замаливать свой грех, который удалит нас от Царства Небесного. И будем уповать на то, что Господь из великого милосердия своего очистит от крови души грешных своих слуг.
Горы дарят небо. В горах небо другое — огромное и близкое. Горы дарят воздух. Здесь человек начинает понимать, что живёт не в пустоте. Горы дарят цветы. Как нежны эти маленькие Божии создания, растущие на камне. В горах мужчина начинает понимать, что значит быть мужчиной. Здесь совершается встреча с самим собой.
Никогда в жизни Сиверцев так не уставал, как во время изнурительного перехода по горам Ирана. И всё-таки он чувствовал себя счастливым, потому что всё было просто — надо выдержать, надо дойти. А больше ничего не надо.
Покинув субмарину и без проблем вступив на персидскую землю, они сначала долго ехали куда-то на машине, которая ждала их в условном месте, потом опять ехали и вот теперь снова шли козьими тропами.
Впервые они с Дмитрием работали группой. Андрей научился понимать своего командора без слов. Князев был старше его не более, чем на полтора десятка лет, но Андрей уже начинал чувствовать в нём отца — внимательного и заботливого, очень простого и близкого, всегда говорившего с ним на равных, но иногда вдруг удалявшегося на недосягаемые высоты орденской иерархии. Без надменности, без холода, он просто становился психологически недоступным. Андрей хорошо чувствовал, когда к командору можно обращаться просто по имени, а когда его надлежит называть «мессир» и никак иначе.
Они развели костёр на берегу горной речки. Дмитрий пошёл с котелком к воде. Как хорошо на нём смотрелись просторные персидские одежды, словно он всю жизнь их носил. И эта шапочка, сначала казавшаяся странной, а теперь уже ставшая вполне привычной. Так же одеваются моджахеды в Афганистане, тот же народ — фарси. После Афгана Князев мог возненавидеть эту одежду, а он носит её, как природный перс — с элегантным достоинством и простотой. Он явно любит эту одежду. Так же, наверное, он относится к исламу. Отвергает его, но любит. Любит в исламе верность Богу до последнего вздоха, любит суровость и простоту, любит приверженность добрым и древним традициям.
Как не хотелось бы Андрею когда-либо скрестить своё оружие с мусульманами. До того ли, когда мир вокруг них бьется в истерике воинствующего безбожия? Пусть противоречия между исламом и христианством принципиальны и непреодолимы, но перед лицом безбожного мира они отступают на второй план. А Дмитрий-таки вылитый моджахед. Не только по одежде, у него и лицо стало какое-то душманское.
К окрестностям Аламута они подходили когда уже смеркалось. Как и всегда в конце дневного перехода Сиверцев едва держался на ногах. Голову застилал туман, ещё больше усугублявшийся сумерками. Двух персов, которые встретили их на тропе, Андрей почти не воспринял, словно они выплыли из сна и сейчас должны исчезнуть, а потому не надо обращать на них много внимания. Потом появился горный аул, мазанки, показавшиеся такими же иллюзорными. Его завели в какое-то помещение, жестом указали на кровать и исчезли. И вообще всё исчезло.
Андрей проснулся ранним утром. Глянул на часы — начало пятого. Спать совершенно не хотелось, голова была ясной, во всём теле — бодрость, несмотря на то, что мышцы болели от вчерашней перегрузки. Хотелось двигаться. В душе стояло замечательное ощущение радости жизни. Спал он, как выяснилось, в одежде. Присел на кровати. Хотелось вот так просто посидеть в безмолвной молитве.
Через некоторое время в комнате появился. Шах. Никем иным этот человек не мог быть. Дмитрий описывал Шаха, как бродягу-оборванца, а стоящий перед Сиверцевым человек был одет в шелка и парчу, голову его венчал тюрбан с крупным рубином, на груди — крест, усыпанный изумрудами. Он напоминал исламского вельможу среднего калибра, даже крест не разрушал этого образа. Но царственная осанка, исполненная величавой простоты, изумительно благородное лицо — они могли принадлежать только тому нищему бродяге-дервишу. Чёрные маслянистые глаза были очень добрыми, без намёка на высокомерие, такие вряд ли могли быть у вельможи. Сиверцев встал и, сдержанно улыбнувшись, отвесил полупоклон. Шах ответил тем же.
— Вы — Шах? — по-мальчишески спросил Андрей.
— Так называют меня. Я отзываюсь, чтобы никого не смущать. Но я не шах, конечно. Слуга своих людей, — Шах говорил мягко и добродушно, но совершенно без елейности.
— А меня зовут Андрей.
— Мистер Князев уже успел рассказать мне о вас. Не хотите ли, Андрей, присутствовать на богослужении в Каабе Христа?
Андрей растерялся лишь на секунду:
— Если это будет угодно Богу, господин.
Аул, по которому они шли, был самым обычным — мазанки, суровые бородатые мужчины, женщины в паранжах, шустрые босоногие ребятишки. Храма нигде не наблюдалось. Шах завёл Андрея в самую обычную мазанку с нищим убранством. Ничто здесь не напоминало храм, но растеряться Андрей не успел. За ободранной неприметной дверью, которая могла бы вести в заурядную кладовку, открылась каменная лестница, ведущая вниз. Пока они спускались, Шах пояснил: «Когда-то на месте нашего аула был замок ассассинов. Нет, не Аламут, конечно. Аламут стоял в нескольких милях отсюда, а этот замок, так же подчинявшийся Хасану ас-Саббаху и его преемникам, был куда меньше главной ассассинской твердыни. Но ассасины даже небольшие свои замки обустраивали весьма основательно, а в результате, хотя наш замок давно исчез, но подземные помещения очень хорошо сохранились, чему мы, конечно, рады. Здесь наш храм. Христианская Кааба».
Они уже спустились. Сиверцев осмотрелся. Не многое здесь напоминало ему храм. Стены древней, но очень аккуратной каменной кладки. Массивные колонны из того же серого камня подпирали своды. Нигде ни одной иконы. Вдоль стен в массивных медных подсвечниках горели свечи потолще наших церковных. Они явно играли роль не ритуальную, а изначально им присущую, то есть просто освещали помещение. Кое-где можно было увидеть подвешенные на цепочках небольшие масляные светильники вроде наших лампад. Андрей сразу понял, зачем нужны эти лампады — когда после богослужения гасят свечи (дорогое удовольствие) куда более экономичные масляные светильники не позволяют помещению погрузиться в полный мрак.
Прихожане стояли ровными рядами. Последняя группа зашла уже после них с Шахом. Потом Андрей узнал, что два воина остались наверху и замерли у входа с обнажёнными саблями. Все держали в руках обычные мусульманские молитвенные коврики. Кто-то сунул в руку Андрею такой же. Шах показал гостю, где ему надлежит встать и исчез за парчовой завесой, расшитой крестами. Похоже, эта завеса играла роль нашей алтарной перегородки. Вскоре из-за неё раздались плавные звуки фарси. Все расстелили коврика и встали на колени. Андрей последовал общему примеру. Богослужение началось.
«Мечеть мечетью», — с некоторой внутренней неловкостью подумал Сиверцев. Он, безусловно, доверял Дмитрию и Шаху, понимая, что те не втянули бы его в еретическое и уж тем более мусульманское богослужение, а всё-таки было как-то не по себе. Впрочем, искоса поглядывая на молящихся, он испытывал к ним искреннюю симпатию. Какие хорошие восточные лица! Он любил Восток. Как настоящий тамплиер, он не видел в этом противоречия со своей любовью к Западу. Восток и Запад очень разные, но почему же им нельзя любить друг друга? Мужчина и женщина тоже очень разные, но именно поэтому они друг к другу тянутся. Последняя мысль показалась Андрею очень правильной, но несколько фривольной. Твёрдо решив встать на путь монашества, он, наверное, должен избегать таких метафор. Хорошо, что у них тут женщины в паранджах. Не отвлекают своими личиками.
Андрей не знал фарси и плавных слов молитвы не разбирал, но чувствовал, что их последовательность очень точно повторяет строй православной литургии. Сейчас должны открыться Царские Врата. Действительно, парчовая завеса словно сама собой раздвинулась посередине, и он увидел Шаха. Теперь это был величественный тайносовершитель с лицом, словно нездешним. Андрей понял, что шёлково-парчовые одежды Шаха — не повседневные. Это богослужебное облачение. И похожее и непохожее на облачение православных священников.
Мистические токи полностью захватили душу Андрея. Теперь он не только понял, но и почувствовал, что участвует в христианском, более того — православном богослужении. Не просто присутствует, а именно участвует. Его нисколько не смутило то, что на месте престола он увидел чёрный каменный монолит — кубический, каким и должен быть престол. Обсидиановый глянец «Каабы Христа» отражал огоньки свечей и лампад. Некоторые мужчины и женщины причащались, некоторые просто целовали чашу. Они сразу же спокойно и дисциплинированно расходились, исчезая через дверь, ведущую наверх. Всё — совершенно молча, да и во время всего богослужения никто из верующих не проронил ни единого слова. Когда уже почти все разошлись, подросток, так же как и Шах одетый в парчу, но поскромнее, стал задувать свечи, оставив горящими только лампады. Видимо, этот мальчик был чем-то вроде нашего алтарника. Сиверцев назвал его про себя: «маленький Мук».
Храм погрузился в мягкий полумрак. Все разошлись, «маленький Мук» так же исчез. Они остались вдвоём с Шахом.
— Вам понравилось наше богослужение? — ласково спросил Шах.
— Оно прекрасно. Восхищение и растерянность — вот мои чувства.
— Не удивительно, друг мой. Такого вы нигде в мире не увидите.
— Может быть, нигде в мире не знают, зачем ортодоксальным христианам рядится в мусульманские одежды?
— А если бы знали, тогда, может быть, мусульман было бы не больше, чем нас сейчас. Весь Восток поклонился бы Христу.
— А это было бы честно? Вы как будто бы вводите мусульман в заблуждение, подсовывая им христианство в исламской упаковке.
— О, нет, мы никого не обманываем. Все члены нашего братства достаточно развиты, чтобы понимать: разница между исламом и христианством существенно превосходит разницу в обрядах.
— Тогда зачем?
— Чтобы не ломать людей без необходимости. Обычно мусульманин, принимая христианство, вынужден принимать чуждый ему тип национальной культуры, отрекаясь от множества с детства дорогих ему обычаев и некоторых представлений, впитанных с молоком матери. Это проходит обычно через серьёзный психологический слом, в котором решительно нет необходимости. У нас, мой друг, вы не увидите ничего специфически исламского, вы всего лишь оказались в мире традиций Востока. А разве это плохо, если человек, принимая веру истинную, сохраняет верность обычаям предков? Мы избавляем мусульман от ощущения, что, приняв Христа, они больше не принадлежат к собственному народу. Например, женщины у нас ходят в паранджах — что в этом нехристианского? Это просто следование национальному обычаю.
— А я думал, на Востоке женщины давно уже отказались от паранджи.
— В городах — конечно. Там большинство наших женщин одеваются и ведут себя по-европейски. Ты понимаешь, что они отказались от паранджи отнюдь не потому, что стали христианками. Хотят вкусить благ цивилизации, весьма сомнительных, по нашему суждению. В традиционном исламском мире таких женщин считали вероотступницами и ещё догадываешься, кем их считали. Для перса женщина без паранджи — всё равно что для европейца женщина в нижнем белье. Бесстыдница. А если женщина приняла христианство, значит, она может ходить без паранджи. Но и для неё, и для её мужа это очень болезненно психологически. Зачем мучить людей?
— Да, тут вы, пожалуй, мудры. Я живу в закрытом мужском коллективе, готовлюсь принять монашество. Благодарен вам за то, что ваши женщины в паранджах. Мне так, спокойнее.
— Вот видишь! А мои одежды? Чем плох мой тюрбан? Что в нём исламского или нехристианского?
— Вы напоминаете великого визиря.
— Вот именно, дорогой. Были же визири — христиане. Почему, став христианским священником, я должен менять свои персидские одежды на греческие? Не было бы греха и сменить, но и оставить, как есть — не грех. А моим прихожанам как есть — роднее, ближе, привычнее.
— Но есть тут у вас кое-что не просто от Востока, но именно от ислама. Отсутствие икон, например.
— Мо-ло-дец, — голос Шаха, исполненный тихой радости, журчал и переливался. — Правильно заметил. Но тебе, наверное, трудно понять этнического мусульманина. Он переживает очень тяжёлый и глубокий стресс, увидев в храме изображение человеческого лица. Хорошего в этом мало, но такова реальность. Переубедить человека можно, но есть такие глубины души, которые лучше не трогать. Это, порою, приводит к слому. А зачем? Ведь христианам не предписано молится только перед иконами, и христианское богослужение не становится недействительным в помещении, где нет икон.
— Но ведь Церковь догматизировала иконопочитание.
— Совершенно верно. Я своим чётко разъяснил: икона — не идол. У нас запрещено считать икону идолом. Но мы не принуждаем использовать иконы во время молитвы. И в храме поэтому нет икон. Дома некоторые держат иконы. Их за это не осуждают, другие не хотят иметь икон — их тоже не осуждают.
— А ваш престол явно символизирует чёрный камень Каабы. Это ведь исламский символ.
— Заметил, глазастый ты мой, — Шах весело и добродушно рассмеялся. — Тут уж ты нас прости, прояви снисходительность. Тебе трудно представить, какое место в сердце каждого правоверного мусульманина занимает Кааба и её чёрный камень. Туда всегда устремлены сердца всех мусульман, и каждый мусульманин, где бы он не находился, молится в сторону Каабы. Надо ли усердствовать, вытравляя из их сердец этот священный порыв? Наши люди так же молятся, направив свои взоры и души в сторону чёрного камня Каабы, только для нас это имеет другое значение. Наш чёрный камень — престол, на котором совершается бескровная жертва. Здесь сам Христос. И, глядя на чёрный камень, мы молимся Христу. А ведь когда-то, до Мухаммада, Кааба была символом язычества, но Мухаммад сделал её символом единобожия. А про «Йеменскую Каабу» слышал? (Андрей кивнул). Первые христиане-арабы в Йемене так же называли свой храм Каабой. И мы называем свой храм Каабой Христа. Так же нет ничего антихристианского в молитвенных ковриках и в том, чтобы всю литургию провести на коленях.
— Если я правильно вас понял, есть обычаи не чисто национальные, не восточные вообще, а исламские, но не содержащие в себе ничего антихристианского, ничего плохого.
— Мудрость нашего юного друга услаждает мою душу. Всё так, воистину. Что, к примеру, антихристианского в запрете на вино? Мы сохранили у себя этот исламский запрет. Знаешь, как горько бывает слышать, когда мусульмане говорят меж собой про бывшего единоверца: «Он принял христианство, теперь будет пить вино». Пьянство превращается в первый признак принятия Христа. Конечно же, умеренное употребление вина не несёт в себе ничего плохого, но, чтобы не создавать соблазна, мы запрещаем нашим христианам мусульманского обряда пить вино. И свинину не едим. Грехом это не считаем, однако, воздерживаемся. Зачем соблазнять простецов, оставшихся в исламе? Мы хотим показать им, что не ради вина и свинины приняли Христа в своё сердце.
— Но как же вы относитесь к пророку Мухаммаду?
— Стараемся никак не относится, чтобы не смущать ни себя, ни окружающих нас мусульман. У нас существует негласный, но весьма аккуратно соблюдаемый запрет на обсуждение миссии Мухаммада. Ты, наш добрый друг, очевидно, полон суждениями на сей счёт, но для нас существуют вопросы, по которым мы предпочитаем воздерживаться от окончательных выводов.
— Но легко ли мусульманину, впитавшему ислам с молоком матери, признать, что Иисус — выше Мухаммада? Ведь Мухаммад, как бы к нему не относиться — простой человек, а Христос — Сын Божий.
— Легко, мой друг! Легко и радостно! Мы доказываем, что Иса — Сын Аллаха с опорой на исламское богословие и на речения самого Мухаммада.
— Невероятно. Ведь мусульмане считают, что пророк Мухаммад пришёл после пророка Исы, чтобы возвестить более высокие истины.
— Есть такое утверждение в исламе. Но есть и другие. Мусульмане называют Христа «Рух Аллах», то есть Дух Божий. С точки зрения ортодоксии это, конечно, неверно, но для нас тут важно утверждение о том, что Христос — больше, чем человек. И это утверждение не носит случайный характер, его не раз развивал сам Мухаммад. Обратимся к словам пророка, подлинность которых мусульмане не подвергают сомнению. Вот что писал Мухаммад негусу, правителю Эфиопии: «Свидетельствую, что Иса, Сын Мариам — Дух Аллаха и Его Слово, с которым он обратился к благой и целомудренной деве Мариам, которая зачала Ису от Его Духа и Его дыхания, подобно тому, как Он создал Адама Своей рукой».
— Но ведь это же утверждение догмата о непорочном зачатии! Мухаммад утверждает, что Иисус был рождён не от земного отца, а от Духа Святого.
— Вот именно! Мухаммад по сути утверждает, что Иисус был больше, чем человек, значит Иисус больше, чем любой из пророков, поскольку все пророки были людьми. Значит Мухаммад свидетельствует, что Иисус Христос выше его, поскольку он — не более, чем человек, и никогда он сам не утверждал ничего сверх этого.
— После этого мне совершенно непонятно, на чём строится ислам, как отдельная от христианства религия.
— Ислам, не имея разработанного богословия, в силу этого очень противоречив. Ни сам Мухаммад, ни его последователи, включая наших современников, не потратили достаточных усилий на то, чтобы эти противоречия устранить. Внутрисламские противоречия порою больше, чем противоречия между исламом и христианством. Вот послушай какая полемика состоялась однажды между Мухаммадом и христианами, о чём гласит предание.
Мухаммад сказал:
— Иисус — раб Аллаха и Его творение. Он, как и все люди, ел пищу, пил воду, говорил с людьми.
Христиане парировали:
— Если он действительно был творением Аллаха, то кто был Его отцом?
— Мухаммад не растерялся:
— Что вы говорите об Адаме? Разве он не был творением Аллаха?
— Да, он был рабом и творением Аллаха, — согласились христиане.
— Если Адам был творением Аллаха, то кто же был его отцом?
Христиане не нашли, что ответить Мухаммаду, последний торжествовал победу в диспуте.
Сиверцев помолчал, подумал, а потом тихо хохотнул:
— А ведь это, по сути, полемика между различными направлениями христианства, причём богословие Мухаммада, кажется, ближе к православию, чем арианство, например. Ведь Мухаммад здесь вполне соглашается с тем, что у Христа не было земного отца. Кроме того, похоже, что Мухаммад полемизирует отнюдь не с православными, а с монофизитами. Иначе зачем бы Мухаммаду делать такой акцент на человеческой природе Христа: «Он, как и все люди, ел пищу, пил воду». Православные никогда этого и не отрицали. Мы ещё и добавить могли бы к этому, что Христос, по человеческой своей природе, страдал, испытывал страх. Почти отрицали человеческую природу Христа именно монофизиты, поэтому Мухаммад на ней так настаивает. А! Ведь Йеменскую Каабу построили именно монофизиты! Наверное, Мухаммад и православные гораздо быстрее поняли бы друг друга, им было бы легче договориться о человеческой природе Христа.
— Я восхищён глубиной богословских познаний храброго русского воина, — Шах развёл руками и улыбнулся несколько озадаченно, пожалуй, даже испуганно.
Андрей этого не заметил и с воодушевлением продолжил:
— Мне кажется, этот диспут возник из-за путаницы между двумя понятиями. Сын Божий, как второе лицо Святой Троицы и Богочеловек Иисус, который есть Сын Божий, но Он так же и Сын человеческий. Второе Лицо Святой Троицы не может быть сотворено, потому что это и есть Бог, а человеческая природа Богочеловека разве не была творением?
— А разве не следует моему прекрасному другу немного поумерить свой богословский пыл и остановиться перед вопросами, доступными лишь богопросвещённому разуму? — улыбка Шаха была всё такой же доброй, но теперь уже немного грустной.
Андрей сразу же сник и молча кивнул головой. На мгновение ему показалось, что перед ним — отец Августин. А ведь и правда, Шах и Августин в чём-то очень похожи. Господь не оставляет его без мудрого наставника.
— Простите, господин. Бывает — увлекаюсь.
— Но и смиряться умеешь, — совсем уже по отцовски улыбнулся Шах. — Дадим же слово разуму воистину богопросвещённому. Великий православный богослов, преподобный Иоанн Дамаскин, советовал христианам во время диспутов с мусульманами применять следующее рассуждение: Иисус и по Корану, как по Евангелию — Слово Божие. Слово Божие, и по мнению мусульман, вечно, а не сотворено. Следовательно, Иисус не сотворён. Что в этом рассуждении для нас самое важное? Христианство логически вытекает из собственно исламского богословия.
— Да, никуда не попрёшь. Мусульманское понимание Христа — значительно больше, чем просто почтительное отношение к одному из пяти великих пророков.
— А я ещё нечто к этому добавлю. Согласно мусульманским представлениям, Христос не умер. Весьма уважаемый нами Гейдар Джемаль пишет, сравнивая Христа с Махди: «С нашей точки зрения Иисус Христос тоже жив, Он находится у Бога, взят им вверх и тоже явится во время великой битвы с Антихристом — будет Его (Христа) второе пришествие».
— Получается, что для шиитов даже Махди больше, чем Мухаммад, не говоря уже о Христе. Мухаммад умер, а Махди не умер. И в последний час для великой битвы придёт не Мухаммад, а Махди. Получается, Христос и Махди — фигуры мистические и сверхъестественные, а Мухаммад рядом с ними — обычный, земной, даже если и великий человек.
— Это так, но не станем углубляться в собственно шиитское богословие и обобщим то, что мыслит о Христе ислам как таковой. Христос рождён не от земного отца, а от Духа Святого. Христос есть Дух Божий и Слово Божие. Христос не умер, а взят Богом на Небо. В последние времена грядёт второе пришествие Христа. Это вполне исламское богословие есть собственно христианство, если простить богословскую некорректность некоторых формулировок. Это, конечно, не ортодоксальное христианство, но всё же христианство.
— Но как примирить это вполне исламское понимание Христа со столь же исламским утверждением, что «пророк Иса» — не более чем четвёртый из пяти великих пророков?
— Ни как не примирить. Это неустранимое противоречие ислама. Все пророки (Ной, Авраам, Моисей, Мухаммад) по исламу рождены от земных отцов, а Иисус, по исламу же, от Духа Святого. Все пророки по исламу умерли, а Иисус, по исламу же, не умер. Как же он может быть всего лишь одним из пророков? Из стремления устранить это противоречие и возник наш Орден дервишей-христиан.
— А как это всё начиналось?
— Мы искали истину в исламе. И мы нашли истину в исламе. Этой истиной оказалось христианство. Иса — Сын Аллаха.
— Значит, была группа мусульман-богоискателей?
— Сначала группы не было. Был я один. Я был исламским суфием. Можно сказать, христианствующим суфием. Постепенно поиск истины привёл меня к ортодоксальному христианству, к вере Святой Соборной Апостольской Церкви. Затем Аллах даровал мне единомышленников. Так возник наш Орден.
— А то, что вы живёте в окрестностях Аламута не связано каким-либо образом с ассассинами — последователями Хасана ас-Саббаха?
— Мы не принадлежим к низаритам, которых так же именуют ассассинами. Но вот уже много веков здешние края, можно сказать — территория религиозного свободомыслия. Здесь привыкли к неортодоксальным формам ислама, они не вызывают возмущения в этом краю исламских богоискателей. Поэтому я и обратил свою проповедь в первую очередь именно сюда, хотя сам я родом из Исфахана.
— Мне бы очень хотелось побольше узнать о вашей судьбе, господин.
— Секретов у меня нет, но, боюсь — не о чем будет рассказывать. Родился, учился, думал. Жил как все. Может быть, моя внутренняя, духовная биография не вполне стандартна, но она в общем-то тебе уже известна. Точнее — понятна.
— Но я почти ничего не знаю о суфиях, о дервишах.
— Я подберу тебе книги. Сам почитаешь.
Сиверцев не видел командора с тех пор, как они прибыли сюда. Едва проснулся, Шах пригласил его на богослужение, потом беседовали. Как сокровище, Андрей принёс в отведённую ему комнату несколько книг, которые дал ему Шах, но сомневался, что у него будет время на чтение. Андрей помнил, что они прибыли сюда не на курорт и не хотел садиться за чтение, пока не прояснится ближайшая перспектива.
Он вышел во двор, хотел просто посидеть здесь пока в тенёчке. Командор появился, как джин из бутылки.
— С Шахом познакомился? В местной Каабе побывал?
— Не только познакомился, но и очень хорошо поговорил. Не только побывал, но и участвовал в богослужении.
— Всё хорошо. А я смотрел бойцов Шаха. Вот это тигры! По боевой подготовке почти не уступают храмовникам. Владеют всеми видами стрелкового оружия, фехтование — отличное. Не наше, конечно, фехтование, восточное, но тем лучше на сей раз. Отобрал десять бойцов, отправятся с нами. Радуют они меня. Настоящие тамплиерские туркополы.
— Когда выступаем?
— Завтра на рассвете.
— Значит, сегодня полдня у меня есть?
— А, Шах книжками нагрузил. Почитай, почитай, библиофил. Скоро будет не до этого.
А был ли суфизм? Может быть, это всего лишь мираж пустыни? В пустыне у каждого свой мираж. И вот теперь люди спорят: здесь был прекрасный замок, нет, здесь скакала могучая конница, вы оба не правы — тут росли высокие пальмы. Таков суфизм — кому что показалось.
Даже само слово «суфи» — слово мираж — никто не знает, что оно значит, и каждый волен видеть в нём всё, что пожелает. Одни говорят, что суфиев назвали так по их шерстяной одежде (суф — шерсть). Другие утверждают: от «соффа» — скамья. Или от арабского «саф» — чистый. Или от греческого «софос» — мудрый. Так же и с персидским словом «дервиш». Что оно означает? Может быть «порог двери». А может быть «находящийся в глубоком размышлении». А в каких отношениях находятся понятия «суфи» и «дервиш»? Дервиш — бродяга, а суфи — мудрец. Конечно, мудрец может быть бродягой, а бродяга может быть мудрецом. В призрачном мире всё может быть.
Само появление суфизма, сказать бы «окутано мраком», но это не так. Оно зримо, но иллюзорно. Вот один современный суфий пишет: «Суфизм представляет собой древнее духовное братство, происхождение которого никогда не было установлено или датировано. Несмотря на то, что суфиев ошибочно считают мусульманской сектой, их можно встретить в любой религии. Они называют ислам оболочкой суфизма и считают суфизм тайным учением всех религий».
Ознакомившись с эти суждением, вы теперь, может быть, думаете, будто узнали, что такое суфизм? Не обольщайтесь. Автор этих строк — либерал-экуменист. Не удивительно, если — масон. Во всяком случае, его суждение вполне вписывается в масонскую идеологию. Ясно одно: он считает себя суфием, но при этом не считает себя мусульманином. Так что же — суфии не мусульмане? Это не ложь. Но и не правда. Это мираж. Мираж ведь не обманывает. Это вполне реально существующий образ. Вопрос лишь в том, сколько ещё образов может существовать на том самом месте. Но чтобы поставить вопрос об отношениях ислама и суфизма, надо вернуться к происхождению этого причудливого явления.
Говорят, что дервишество и суфийство существовали в Аравии и Персии задолго до Мухаммада, только под иными названиями. Значит суфизм — не ислам? Но попытка привязаться к предшествовавшим религиозным традициям — это как раз и есть ислам. Некоторые дервиши считают так: «Семена суфийства были посеяны во времена Адама, дали зародыш во времена Ноя, стали распускаться при Аврааме, плод их появился при Моисее, созрел же он при Христе, а при Мухаммаде произвёл чистое вино». Красиво-то как! А ведь это чистый ислам. С этой точки зрения суфизм — вполне законное учреждение в исламе. И одновременно — это чистое масонство. Значит, ислам — масонство? Острая мысль. Мозги бы не поранить.
Всё бы в этой красивой схеме было замечательно, да только вот ведь беда — не все религиозные традиции до Мухаммада были монотеистическими, а даже скорее напротив. Так не язычники ли «существовали в Аравии и Персии под иными названиями»? Не язычество ли они протащили в ислам под видом суфизма? Вопрос.
Есть, например, такая оценка: «Представления суфиев о Божестве и средствах сближения с Ним более всего напоминают учение последних представителей античной философии, неоплатоников и неопифагорейцев. Замечают так же следы сходства с каббалой, буддизмом, индийским отшельничеством. Формально оставаясь на почве Корана и довольствуясь аллегорическим пониманием его слов, суфии в действительности стояли гораздо ближе к домусульманским учениям».
Вот тебе и «законное учреждение в исламе». Да это же нечто откровенно антиисламское. Буддизм, к примеру, отрицает существование Бога-Творца, а ведь именно вера в единого Бога — основной догмат ислама. К тому же, приведённая точка зрения не единична. Значительная группа исследователей считает главными источниками, из которых суфии черпали своё учение, неоплатонизм, магизм и буддизм. Многие исследователи называют суфийское учение пантеизмом. А это уже на грани безбожия, как, впрочем, и буддизм. Тогда получается, что суфии не имеют ничего общего не только с исламом, но и с монотеизмом как таковым?
Вот такое, к примеру, весьма категорическое утверждение. «Дервиши отрицают нравственное зло. Человек, как эманация Божества, должен стремиться к совершенному погружению в Его лоно. Начало религиозной жизни они переносят из области волевой деятельности в сферу чувства. Это естественное и необходимое следствие всякого пантеизма вообще».
Значит, суфизм — это всё-таки пантеизм — отрицание личности Бога, стремление к «слиянию с Абсолютом» — нечто откровенно антиисламское, как, впрочем, и антихристианское. Ошибки нет, вот ещё характеристика: «Последняя цель дервиша в этом мире — халь — абсолютное погружение в божество и постижение сущности как божества, так и всего существующего во вселенной».
Мрак индуистских культов, традиция совершено оторванная от классического Востока. Вот суфизм. Где тут сближение с христианством? Что тут могло привести ко Христу? Но не торопитесь. Не позволяйте ввести себя в заблуждение категорическими оценками исследователей: «дервиши проповедуют», «конечная цель дервиша», как если бы не вызывало сомнения, что все дервиши проповедуют именно так, и такова именно цель любого дервиша. То что мы поняли и узнали о суфизме — правда. Но это правда миража. Это некий образ, который реально существует и действует на нас и делает дервишей такими, какие они есть. Однако, пустыня — большая. Вы думаете, пустыня — пуста? О, нет. Пусты мегаполисы. А пустыня переполнена ничем не ограниченным количеством невероятных мистических возможностей.
Представьте себе: бредут по пустыне два усталых странника. И вдруг оба они видят на горизонте нечто. Один из них, опасаясь, что это обман зрения, восклицает:
— Ты видишь?!
— Да, конечно! Это суфизм!
Первый с облегчением вздохнул:
— Значит, глаза не обманули меня. Я тоже вижу суфизм.
И они устремились навстречу суфизму, полагая, что пребывают в согласии. Но они видели разное. Один — опьянение и экстаз. Другой — трезвость и свет разума. Угодно ли вам считать их жертвами миража? Не торопитесь с ответом.
Когда же всё-таки и как возник суфизм? Хотел сказать: не иллюзорный, а реальный. Но лучше бы нам от такого противопоставления воздержаться. Ведь мы по-прежнему в пустыне.
Древнейшие известия о суфиях приводят в христианскую Хиру на Ефрате и построенную рядом арабами Куфу. Из Куфы происходил живший в VIII Абу Хашим, по преданию, первый, кого стали называть суфием. Что же послужило толчком к возникновению суфизма? Ибн Хальдун писал: «Когда во втором и в последующих веках ислама страсть к мирским благам распространилась и большинство мусульман вовлечено было в круговорот мирской жизни, явились лица, которые посвятили себя благочестию под именем суфи».
Ибн Хальдун говорит про тенденцию, которая свойственна любой религии: импульс первоначально заявленного идеала жизни постепенно ослабевает, и тогда появляется личность, дающая новый импульс благочестия, желая восстановить торжество забытых идеалов и вновь поднимая планку религиозных требований. Вокруг такой личности быстро возникает союз единомышленников. Отчасти так было и тут: постепенно выдыхающийся ислам породил суфизм, чтобы мусульмане не забыли о Боге окончательно. Но были и чисто исламские причины возникновения суфизма, не имеющие отношения к понижению уровня благочестия.
Ислам изначально был системой политической, а политика, как известно, направлена на обустройство чисто земных дел. Ислам по самой своей природе очень много думает о земле и очень мало о Небе. Ислам сам по себе на две трети состоит из «круговорота мирских дел». В недрах этой военно-политической системы неизбежно должны были появиться люди, склонные больше внимания уделять «делам небесным», думающие не о вопросах наследования власти, а о вопросах «наследования рая», не о джихаде, а о душе, не о разделе военной добычи, а о приближении к Богу. Слишком политичный ислам порождал духовную неудовлетворённость, а потому суфии неизбежно должны были появиться.
Ислам был беден содержанием. Сподвижники Мухаммада умирали со словом «один», имея ввиду, что Бог — один. В этом слове всё исламское богословие. Маловато. А ведь богословски одарённые люди в исламе были. Они-то под именем суфиев и начали создавать разработанные богословские системы.
Ислам совершенно не удовлетворял мистические потребности религиозно настроенной души. Ислам — рациональная религия без сверхъестественного. А душа просит чуда. Душа, ещё находясь в теле, уже хочет приближаться к Богу, а ислам этого совершенно не даёт. Ислам — это политика плюс рационализм и чуть-чуть религии на уровне букваря. А суфии предлагают мистику.
Итак, суфизм в исламе не мог не появится. Суфизм — попытка развить и дополнить собственно религиозный, изначально неразвитый компонент этой военно-политической системы. Да вот ведь беда — ислам был напрочь лишён дисциплины духовных поисков. В исламе совершенно отсутствуют критерии определения того, какие религиозные идеи — вполне исламские, а какие выходят за рамки ислама.
Христианство нашло способ выяснения богословских истин — соборы. Собственно вся Церковь решала, что есть христианство, а что таковым не является и представляет собой плод субъективно суемудрия конкретного человека. Собирались вместе богословы со всего христианского мира и молили Бога, чтобы Дух Святой прояснил их разум, дабы им решить — вот эта идея является христианской или нет. Так постепенно удалось довольно чётко прочертить границы христианского богословия.
Тем временем исламские мыслители изощрялись в оттачивании аргументов на тему о том, кому должна принадлежать власть в исламе, не сильно интересуясь собственно религиозными вопросами. И когда появился суфизм, просто некому было определять — это ещё ислам, или уже нет. И никто не знал, как это можно определить. И никто не думал о том, надо ли это вообще определять. Невозможно представить себе, чтобы со всего исламского мира съехались мудрецы, дабы решить, соответствует ли Корану и Сунне учение, например, Баязида Бистамского с тем, чтобы довести до сведения всей уммы — Баязид исповедует чистый ислам, или наоборот — учение Баязида — неисламское и правоверным мусульманам, если они хотят остаться таковыми, следовать за Баязедом не надлежит. Никто себя этим не морочил.
И вот начались миражи суфизма. Каждый суфий от собственной головы богословствовал, как хотел, поскольку не было критериев, исходя из которых вся умма могла бы сказать суфию, что он с таким своим богословием уже перестал быть мусульманином. Суфии могли сколько угодно спорить и меж собой, и с шиитами, и с суннитами, но это были споры конкретных мудрецов, каждый из которых мудрил от своей головы, а простой мусульманин мог следовать за любым из них, руководствуясь личными симпатиями, и никто его на этом основании не мог упрекнуть, что он «покинул умму».
Суфизм мог быть чем угодно. И он стал чем угодно. Что-то вроде Святого Грааля. Все его ищут, но никто не знает, что это такое: то ли чаша, то ли камень, то ли группа людей, то ли абстрактная идея. Но если Грааль принадлежал литературе, то есть миру воображаемого, то суфизм, казалось бы, принадлежал реальности? Да в том-то всё и дело, что не совсем. Суфизм так же принадлежал миру воображаемого, обладая лишь реальностью миража. Ты хочешь опьянения? Суфизм — это опьянение. Ты хочешь трезвости? Суфизм — это трезвость. Ты можешь, как последний сумасшедший лизать раскалённый клинок, и это суфизм. Ты можешь, как великий мудрец, писать возвышенные стихи, и это суфизм.
Так вот, Баязид из персидского города Бистама. Он был самым ярким сторонником мистического опьянения. А сторонником трезвого направления был Джунейд Багдадский. Два разных направления в рамках одной системы — казалось бы, что тут удивительного? Но парадокс в том, что «трезвый» Джунейд говорил про «пьяного» Баязида, что он занимает такое же место среди суфиев, как Гавриил среди ангелов. Вот это уже совершенно невозможно понять.
Баязид говорил о полном исчезновении личности человека, стремящегося к единению с Богом. Его целью был мистический экстаз, при котором человек перестаёт ощущать своё тело и своё существование отдельно от Бога. Это может быть движение к индуистскому «слиянию с Абсолютом» или буддистской нирване, но это не ислам. Это полное отрицание исламских представлений о рае.
Про Баязида Бистамского Убисини говорит: «Он отождествил себя с Богом, когда в присутствии своих учеников воскликнул: «Слава мне! Я выше всех вещей!». Надо ли объяснять, что значит для ислама возомнить себя равным Аллаху? Крайняя степень вероотступничества. А между тем, именно «трезвый» Джунейд столь высоко ставил откровенно бесноватого Баязида.
А вот трезвый вариант суфизма, багдадская школа. Один из самых ярких её представителей Абд-ал-Кадир так обозначил цель суфизма: «Закрыть перед людьми двери ада и открыть двери рая». Эти слова после воплей бесноватого Баязида — словно глоток чистейшего воздуха после дыма пожарищ. Под формулой Кадира мог бы подписаться и христианин. В богословском смысле это не только выше экстатичного суфизма, но выше и законнического ислама. Ведь ислам утверждает, что двери рая открыты для всех, кто исповедует единобожие и уж тем более для шахидов, павших в священной войне. А Кадир, осознавая, что этого явно недостаточно, создаёт целую систему, чтобы «открыть двери рая». Это явный шаг на пути к христианству. Ведь Абд-ал-Кадир говорил в своих проповедях о победе над страстями и о любви. Воистину, он двигался от Мухаммада ко Христу. А Баязид — от Мухаммада к Люциферу.
А был ещё Беха ад-Дин, живший в XIV веке в Бухаре. Его учение проникнуто умеренностью, как и вообще суфийство багдадской школы. Беха ад-Дин признавал только молчаливое самоуглубление и отвергал экстаз, достигавшийся громкими криками и музыкой. Суфий, по его мнению, не должен владеть ни землёй, ни рабами. Воистину, это был христианствующий суфий.
Но был и Джелал ад-Дин Руми (XIII в.), утверждающий, что Бога одинаково можно найти и в мечети, и в церкви, и в капище идолов. Это уже конкретное масонство. За утверждение насчёт капища идолов, Мухаммад велел бы зарезать этого мыслителя на месте. И тем не менее Руми продолжают считать исламским мыслителем.
Как же европейцы определяют, что такое суфизм? Мы привыкли, что за каждым религиозным направлением стоит внятная и разработанная система взглядов и убеждений. Но в суфизме ни у одного из даже хорошо организованных орденов нельзя найти систематически развитого учения. Мы просто не готовы оказаться в пустыне с её миражами и ускользающими смыслами.
Представьте себе, что все христианские ереси (арианство, несторианство, монофизитство, иконоборчество и так далее) объединили под одним общим названием. Что между ними общего? Друг от друга они отличаются порою куда больше, чем от православия. Несториане и монофизиты, надо полагать, пришли бы в ужас, оказавшись под одной крышей. Их объединяет отрицание ортодоксии, но никаких общих положительных утверждений они не имеют. Да никому бы в христианском мире такое объединение и в голову не пришло. Но суфизм — именно такое объединение. Все исламские ереси от почти христианства до почти сатанизма сведены к одному общему понятию. Впрочем, само понятие ереси в исламе весьма условно. Если нет разработанной ортодоксии, что считать ересью? В итоге, одни исламские богословы признают суфизм вполне законным учреждением в исламе, другие, напротив, являются ожесточёнными врагами суфи. И для того, и для другого оснований волне достаточно. Вот любопытное суждение: «У суннитских дервишей сущность суфизма глубоко скрыта и замаскирована под формой ислама, так что её с трудом можно узнать. У шиитских дервишей наоборот — сам ислам едва узнаваем в форме суфизма». Деление весьма условное, потому что на самом деле суннитские суфии бывали ещё куда большими путаниками, чем шиитские, но общий расклад примерно таков: то ислам у них рядится в одежды суфизма, то суфизм в одежды ислама. С ума бы не сойти.
Так было ли хоть что-нибудь объединяющее всех суфи? Было. Вот что пишет современный суфи: «Для достижения высшей цели, то есть познания абсолютной истины, путнику необходимо пройти такие ступени, как шариат (свод религиозных законов), тарикат (путь духовного совершенствования), хакикат (высшая ступень духовного совершенства)».
Ну вот теперь более или менее понятно. Для всех суфи традиционный ислам — не есть законченная религия, а лишь начальная ступень, некая точка из которой надлежит отправляться на поиск истины. Значит, основная масса мусульман, которые довольствуются соблюдением шариата — народ неразвитый, духовно непросвещенный, весьма далёкий от истины. Выходит, что для всех суфи ислам — религия тёмных масс?
Суфи должен перейти на ступень тариката, стать странником на пути к истине. Вот только куда двигаться? А куда хочешь. Перед тобой 360 градусов окружности. Иди по любому из них, ты уже суфи, просто потому что идёшь. Немногие избранные достигают высшей истины — хакиката, но они уже никому не расскажут, каков он, этот хакикат, изнутри. Это область тайного учения, скрываемого от пребывающих на стадии шариата, то есть от всех традиционных мусульман. Достигшие хакиката, может быть, более всего чтут Мухаммада. А может быть — Христа. Или Люцифера? Они не скажут об этом никому.
Приходит, скажем, молодой религиозно настроенный мусульманин в Орден дервишей. Его принимают и дают ему звание мюрида, но ему ни слова не говорят, каково учение в этом Ордене, каков устав. Он знает одно — его новые братья обладают истиной. Пока ему велят, к примеру, рассказывать руководителю все свои сны. Потом, возможно, допускают до мистических радений, где особое внимание уделяют музыке, пению, танцам, доводящим до состояния экстаза. Ему могут приказывать совершать поступки, нарушающие установленные нормы поведения, чтобы вызвать на себя порицание. Говорят, это будет ему полезно. Ему, может быть, запретят пить вино, а, может, заставят пить его до скотского состояния в обязательном порядке. Всё зависит оттого, в какой Орден он попадёт. И через некоторое время, если будет хорошим мальчиком, ему раскроют тайное учение, объяснят, в чём она, истина. Но он уже никому об этом не расскажет. Разве не страшно?
Очередной мираж: путник бредёт по пустыне и видит перед собой ханаку — исламский монастырь. Здесь живут монахи-дервиши. Путник рад: в исламе тоже есть аскеты.
Первые обители суфиев — ханаки появились в Египте во второй половине XII века. В Азии — раньше. Историк суфизма Джами рассказывает, что первая ханака была построена христианским (!) эмиром города Рамлы в Палестине. Как это красиво и возвышенно: христианское и мусульманское монашество на Святой Земле!. Взаимовлияние и взаимопомощь между двумя великими религиями!.. Мираж.
Значительная группа европейских исследователей считают, что дервишество образовалось в исламе под влиянием христианского монашества и в подражание ему. В XIII веке в Египте встречаем такое редкое в мусульманском мире явление, как женская обитель. Во главе обители находилась «игуменья», наставлявшая сестёр и учившая их Закону Божьему. Как это по-христиански!.. Мираж.
Фон Гаммер пишет: «Выражение пророка «Нет монахов в исламе» должно бы бы достаточным для того, чтобы препятствовать всякому подражанию монашеству, но естественное расположение арабов к уединённой и созерцательной жизни заставило их скоро забыть это правило». Очень интересно! Арабы-таки не удержались и учредили монашество? Другой европейский автор едва не захлебнулся от восторга по этой поводу: «Мусульмане мистики во многом напоминают средневековых христиан. Абд-ал-Кадир Гилянский был современником Бернара Клервосского. В XII веке и в мусульманским, и в христианском мире была сделана успешная попытка оживить монашество, предъявив к нему более серьёзные нравственные требования». Тут возвышенность наших религиозных представлений имеет шанс достигнуть апогея. Видите, как Кадир и Бернар пожимают друг другу руки?.. Мираж.
Не будем, впрочем, забывать, что мираж — тоже реальность, только очень зыбкая и неустойчивая. Однако, под властью миража можно прожить жизнь. И даже — далеко не самую плохую жизнь. Если некий араб-созерцатель пребывал в убеждении, что он — исламский монах-молитвенник, имеющий целью приближение души к Богу? О-хо-хо. Не пора ли выбираться из пустыни?
В чём же реальность, которая не есть мираж? А просто. Либо пророк Мухаммад прав и «в исламе нет монахов», либо в исламе нет пророка, а это значит, что нет и самого ислама. Логика острая и безжалостная, как меч тамплиера.
Вот трезвая точка зрения: «Ошибаются те, что называет дервишей аскетами. Деллингер называл дервишество карикатурой на аскетизм. Дервишество есть мистико спиритуалистическая секта с доступным и тайным учением. Аскетизм не то же, что мистицизм».
Вот не менее трезвая позиция: «В дервишестве нет ничего монашеского. В нём проповедуется чистая мистика и спиритизм. В дервишестве не требуется ни нищеты, ни девственности».
И ещё: «Странствовать дервиши отправляются обыкновенно по достаточном приобретении спиритических сил, и странствовать они идут с целью расточать между народами эти силы».
Спириты-факиры. При чём тут монашество? Ну вот мы и выбрались из под власти миражей. Немного грустно, потому что было красиво, но ничего не поделаешь. Взгляд христианина — трезвый взгляд.
«Каков же был тарикат Шаха? — задумался Сиверцев. — Как он мог из этих иллюзорных дебрей выбраться к ортодоксальному христианству? Достаточно ли в суфизме возможностей для того, чтобы стать христианином?».
Оказалось, что достаточно. От ислама суфизм расползался во все возможные стороны, в том числе и в сторону христианства.
Ещё в XIV веке в Малой Азии было отмечено движение в пользу слияния ислама и христианства под влиянием суфиев. Трудно сказать, что хотели эти суфии: синтезировать две религии или выйти из ислама в христианство. Но они «христианствовали», это точно. Их опыт можно было изучить, скорректировать, развить.
Ага-Мухаммад Алит, знаменитый шиитский учёный, ожесточённый враг суфиев, писал: «Главные положения «Хулули» (суфийского братства), конечно, сходны с символом назарян (христиан), которые веруют, что Дух Божий вошёл в утробу Девы Марии, а потому веруют в учение о Божественной природе своего пророка Иисуса».
Почтенный Ага-Мухаммад мог бы, конечно, знать, что не только суфии-хулули, но и сам пророк Мухаммад говорил едва ли не тоже самое. Но, видимо, суфии делали гораздо больший акцент на божественной природе Христа, чем это было принято в традиционном исламе, и это суждение начали связывать с суфизмом.
Вот ещё одна оценка: «Дервиши признают, что между тем, как все пророки и даже сам Мухаммад родились, как обыкновенные люди, Иисус Христос, которого они вместе с простыми мусульманами называют Рух Аллах, то есть Божий Дух, произошёл от Божественного Духа, вошедшего во чрево Девы Марии. Поэтому он обладает Божественной природой».
Итак, некоторая часть дервишей-суфи посвятила себя заботе о небольших, едва заметных росточках христианства, которые были в традиционном исламе. К слову сказать, развивать то, что в исламе уже есть, куда более исламский подход, чем, например, заимствовать у индусов учение о реинкарнации, как это делали другие суфии, так что именно христианствующие суфии могли пользоваться в мусульманской умме наибольшим авторитетом. Так вот могло ли из этих росточков, за которыми ухаживали мудрые и просвещённые суфии, вырасти полноценное дерево христианства? А что этому препятствовало?
Многие суфии развивали учение о Божественной Любви. Иные суфии понимали любовь пантеистически, то есть в совершенно нехристианском смысле. Именно о суфи-пантеистах один исследователей писал: «Дервиши превратили любовь не только в основное, руководящее начало жизни и деятельности человека, но и в одушествляющий принцип всей вселенной». Забудем на время про пантеизм и посмотрим на это утверждение беспристрастным христианским оком. Под чем тут не мог бы подписаться апостол любви Иоанн Богослов? Бог есть Любовь. Бог управляет вселенной. Значит, вселенной правит Любовь.
В исламе нет понятия любви. Ислам ничего не говорит о любви к Богу и даже отрицает её возможность. Коран учит не любви, а повиновению. Это книга кнута и пряника. Но вот что говорила удивительная женщина-суфи Рабиа ал-Адавайа: «О, Господи, если я служу тебе из страха перед адом, то спали меня в нём. Если я служу Тебе в надежде на рай, изгони меня из него. Если я служу Тебе ради Тебя самого, то не скрой от меня вечной Своей красы. Так охватила меня любовь к Богу, что не осталось у меня ничего, чем я могла бы любить кого-либо, кроме Бога».
Разве эти слова принадлежат не христианской монахине-подвижнице? Воистину, Рабиа была настоящей христианкой, даже если не подозревала об этом.
А вот речения великого суфия Ал-Басри:
«Познание наступает тогда, когда ты не находишь в своём сердце ни крупицы вражды».
«Каждый намаз, на котором отсутствует сердце, приближает к мучениям».
«Рай вечный — не за ничтожные дела земные, а за добрые намерения».
Это не ислам. Это христианство. Разве ислам предписывает изгонять из своего сердца вражду, ненависть к врагам? Разве ислам говорит нам, с каким сердцем надо совершать намаз? Его надо совершать пять раз в день, а к сердцу — никаких требований. Исламский рай для тех, кто «сражался на пути Аллаха», а тут все предписанные исламом «дела земные» объявляются ничтожными, а в рай, оказывается, можно войти «за добрые намерения». Это не просто христианство. Это православие.
«Наш трезвый друг» Джунейд ал-Багдади мыслил так: «Знай, что Аллах приближается к сердцам своих рабов ровно настолько, насколько Он видит их сердца приблизившимися к Нему. Следи же за тем, что близко твоему сердцу». Если бы мудрый и опытный игумен в православном монастыре обратился с такими словами к юному послушнику, ни сколько не было бы удивительно.
А мудрый суфий Саади Ширазский так видел дервиша: «Внешние признаки дервиша — рубище и нестриженные волосы, но действительные его приметы — бодрое сердце и умерщвлённая плоть. Обязанность дервишей — молитвы и славословия Богу, услужение и повиновение Ему, принесение в жертву себя и довольство малым, исповедание единобожия и упование на Бога, смирение и терпение».
Здесь нет спирита-факира, который лижет раскалённые железяки и прочими столь же глупыми способами «расточает спиритические силы». Это образ православного монаха. Разумеется, далеко не законченный образ, но ни сколько не противоречащий нашим представлениям о монашестве.
И это уже не ислам. И это уже не мираж суфизма. Это великий Саади. Современник Ордена тамплиеров.
Поезд весело катил по просторам Индии. В купе вальяжно расположились трое мужчин в белых одеждах местного покроя. В двух из них не трудно было узнать европейцев, а третий все всякого сомнения являл собой «лицо мусульманской национальности». Этот последний буквально прилип к окну, с напряжённым восхищением всматриваясь в буйную природу за окном.
— Скажи, Али, тебе нравится Индия? — спросил Сиверцев несколько покровительственно.
— Да, конечно же! — Али охотно подтвердил и без того очевидный факт.
— А мне не нравится, — категорично отрезал Андрей.
— Почему? — Али выглядел растерянным ребёнком.
— Слишком много шика, — пренебрежительно отрезал Андрей.
Князев жизнерадостно рассмеялся, бросив Сиверцеву понимающий взгляд.
— Что вы смеётесь? — к растерянности Али уже примешалась столь же детская обида, которую он не считал нужным скрывать.
— Не обижайся, Али, — спокойно и по-отцовски сказал Князев, — просто наш друг вспомнил одну русскую книжку. Ты не мог её читать, на фарси Ильфа и Петрова никто не смог бы перевести.
— Так точно, командор, — с картинной строгостью заключил Сиверцев.
Князев опять хохотнул, но на сей раз коротко. В контексте Ильфа и Петрова обращение «командор» приобретало ироничный смысл.
Али ещё ближе пододвинулся к окну, всем своим видом изображая, что его не надо отвлекать от чудесных лицезрений. Но Сиверцев не унимался:
— А почему тебя называют Али Каирский? Ты ведь не египтянин и вряд ли жил в Каире.
— Я очень хитрый, — весьма серьёзно сказал Али, не отрываясь от окна.
— А при чём тут хитрость? В Каире все такие?
Неожиданно для Андрея, Князев опять расхохотался. Али посмотрел на командора с благодарностью и улыбнулся тонкой, невероятно хитрой улыбкой.
— Сказки «Тысяча и одна ночь» переведены на русский, — пояснил Князев. — Тебе, Андрей, стоило их почитать, тогда ты знал бы, кто такой Али Каирский. Что за прелесть эти сказки! Каждая из них есть поэма! Кто сказал?
— Не знаю. Я что, Пушкин что ли? — тонко парировал Андрей.
У Князева уже, кажется, не было сил смеяться. Все трое пребывали в самом благодушном настроении.
После невероятной тесноты подводной лодки буйство красок сказочного Индостана пьянило и расслабляло. Кажется, шпроты в банке чувствовали себя просторнее, чем они в маленькой субмарине, которая в Персии приняла на борт 11 человек. Андрей искренне недоумевал, вспоминая о том, что Князев говорил ему — это плавсредство может перевести десант до 20-и спецназовцев. «А, впрочем, что тут непонятного? — вяло думал Сиверцев. — Спецназовцы — не туристы, им комфорт никто не гарантирует. Тут единственный критерий — смогут ли они выдержать такое уплотнение? А они смогут».
С ними пошли десять тигров Шаха, да напросился ещё один шиит — двунадесятник, называвший себя Али Каирский. Али симпатизировал христианству, но не имел намерения его принимать.
— Зачем тебе с нами, Али? — печально спросил Князев. — Мы идём защищать христиан и только христиан.
— Люди, которые убивают там христиан, убивают и мусульман. Это наши общие враги. Господин, конечно, знает, какие там гонения на мусульман.
— Али, мы никогда не ответим вам взаимностью и никогда вместе с шиитами не пойдём защищать мусульман.
Али вздрогнул и посмотрел на командора храмовников исподлобья. Его глаза вспыхнули, но он очень быстро справился с собой. Присутствовавший при разговоре Сиверцев подумал: «Настоящий воин». Сделав паузу, Али прошипел, как змея:
— Что ты хочешь услышать, господин, в ответ на свои злые слова?
Князев, кажется, несколько растерялся. Он явно не хотел конфликта, но ещё меньше ему понравилось бы сентиментальное «братание». Али выглядел простодушным и плутливым ребёнком, неустойчивым в своих желаниях, как и все дети, а сейчас Князев подумал, что ошибся как минимум в последнем пункте.
— Я хочу услышать, Али, что ты будешь кричать, когда вместе с нами пойдёшь в бой?
— Господину будет неприятно, если я воскликну «Аллах Акбар»?
Их взгляды жестко встретились. Оба молчали. Так опытные фехтовальщики не торопятся хвататься за клинки, зная, что первый же выпад станет последним. Наконец Али произнёс упругим и непокорным голосом:
— Из уважения к христианам, я буду кричать: «Рух Аллах акбар». Рух Аллах — Дух Божий. Так мы, мусульмане, называем Мессию.
Князев молчал. Душа Андрея сжалась. Ему страшно было даже представить, что происходит сейчас в душе командора. Наконец, Князев сказал так же тихо и печально:
— Ты пойдешь с нами, Али. — По лицу командора не проскользнула даже тень доброжелательной или дружелюбной улыбки. Али так же очень серьёзно отвесил почтительный полупоклон.
Тогда в Персии, они больше не сказали друг другу ни слова. А сейчас они всю дорогу смеялись, балагурили, подтрунивали друг над другом. Им было легко и радостно. О вере не сказали ни слова. О страшных событиях в Индии так же ни разу не обмолвились. Зачем? Будет день и будет смерть. И они, Бог даст, успеют помолиться перед смертью. Каждый по-своему. Это будет. А сейчас они — беззаботные путешественники.
— А зачем мы вырядились индусами, мессир? — несколько дурашливо спросил Андрей. — Если честно, мы с вами не очень похожи на аборигенов. Разве что Али, да и то не очень. Он весь такой… каирский.
— А на кого, по-твоему, должны быть похожи два европейца и перс? Кому угодно бросится в глаза странность нашей кампании, так что выход у нас один — косить под паломников в какой-нибудь храм бахаи, где все религии в куче, или к очередному Саи Бабе, которого, надо полагать, «чтут все народы земли». Такие паломники любят наряжаться индусами. К тому же эта просторная одежда очень удобна, не сковывает движений. Ты ещё оценишь это, когда мы будем резвиться. Да ведь и белый цвет — не чужой для нас.
Андрей понял, что Дмитрий деликатно намекнул на цвет тамплиерского плаща и напрягся, ожидая реакции Али. Последний, не переставая внимательно смотреть в окно, обронил: «У пророка было белое знамя. Не все знают об этом».
Утром перед завтраком надо было молится. Андрей опять почувствовал, что назревает неловкая ситуация, но командор уже всё продумал. Он обратился к Али спокойно и уважительно:
— Сейчас мы помолимся, а потом — ты. Хорошо?
Али с дружелюбным пониманием кивнул.
Командор глянул на ручной компас и, определив, где восток, встал на молитву. Андрей присоединился (Али смотрел в окно). Они 13 раз прочитали «Отче наш». Затем командор, ещё раз взглянув на компас и что-то в уме прикинув, показал Али: «Мекка — там». Шиит кивнул с благодарной детской улыбкой. Теперь уже Князев с Сиверцевым пересели к окну, заинтересовавшись пейзажами.
Всё было хорошо. Так хорошо, что лучше и не надо.
Князев разбил десант на три группы. Две из них, по 5 человек, составляли тигры Шаха. Командор назвал им цели, поставил задачи и отпустил в «автономное плавание», пояснив Сиверцеву: «В бою мне не хотелось бы ими руководить, у них свои командиры, роль которых весьма нежелательно принижать. Да и всё равно пришлось бы разделиться. Тут несколько объектов на значительном удалении». Тигры добирались до своих объектов самостоятельно.
С ними пошли так же три моряка с подлодки — один рыцарь и два сержанта Ордена. Моряков Князев взял в свою группу. Сейчас они ехали в соседнем купе.
И вот уже они вшестером стоят на вокзале — все в белых индийских одеждах. Лица моряков, с которыми Андрей так и не успел познакомиться — суровые, напряжённые, они явно чувствовали себя не в своей тарелке. Подводные жители не умели играть роль, приспосабливаться к ситуации. Али всё так же восторженно вертел головой, ему и не надо было играть роль — он был без ума от Индии. Поглядывая на Дмитрия, Андрей каждый раз рисковал расхохотаться. Лицо командора приняло торжественное выражение не слишком умного паломника, который очень боится уронить своё достоинство и всем своим видом даёт понять: «Я тут — человек не последний». Опытный оперативник менял обличия, кажется, сам того не замечая, с той же лёгкостью, с которой иной поправляет волосы.
Подкатил небольшой микроавтобус — старый, обшарпанный. Вышедший из него водитель-индус сразу же направился к Дмитрию, такому важному, что не было сомнений — он тут главный. Сам индус был в драных джинсах и жёваной футболке болотного цвета, одеждой своей куда менее напоминая индуса, чем «группа паломников».
— Вы к отцу Джеймсу? — шёпотом по-английски спросил шофёр командора.
— О да, конечно, — с высокомерным британским дружелюбием ответил командор.
Маленький, аккуратный двухэтажный особнячок со всех сторон утопал в зелени деревьев. Рядом стоял совсем маленький храм западной архитектуры с католическим крестом. К храму прижималась вовсе крошечная хижина со ставнями на окнах. Кругом — цветы, самые невероятные и экзотические, всех возможных оттенков, весьма заботливо ухоженные.
— Вот такие здесь монастыри, Андрюха, — обронил Дмитрий, когда они вылезли из автобуса.
Из хижины вышел высокий сухопарый священник в чёрной сутане, с распахнутыми объятиями и обворожительной улыбкой устремившийся навстречу гостям.
— Вы и есть тот самый мистер Князев? — радостно вопросил священник, пожав протянутую ему руку двумя руками.
— Просто Дмитрий, — сдержанно улыбнулся командор. — А это наши братья. — он каждого представил по имени.
Священник особенно долго и радостно тряс руку Али, чем привёл юного шиита в немалое смущение. Пока представлялись, Сиверцев внимательно рассматривал священника. Когда-то он явно был очень стройным мужчиной, но теперь сильно сутулился. Короткие волосы были совершенно седыми, лицо гладко выбрито. Удивительно благородное и очень доброе лицо. Он никогда, наверное, не переставал улыбаться, но улыбка его было очень грустной. Всегда радостный священник выглядел всегда печальным.
— Господа, — несколько смущённо начал священник, — наши сёстры хотели бы хоть одним глазком взглянуть на вас. Монахиням, конечно, не пристало знакомиться с мужчинами, тем более такими красавцами, но и прятать вас от них было бы как-то странно.
— Да, конечно же, — по-прежнему сдержанно обронил Князев.
— А они уже тут за дверью стоят. Очень переволновались. Подглядывают, наверное, во все щели, — отец Джеймс, переволновавшийся, кажется, больше всех, суетливо направился к особнячку и, исчезнув за дверью, через несколько секунд показался с сёстрами.
Неслышными шагами они вытекли на улицу, да так и остались стоять у дверей, не смея приблизиться к гостям. Командор отвесил в сторону монахинь почтительный полупоклон, чему последовали все тамплиеры. Монахини так же поклонились. Они были в белых сутанах и чёрных апостольниках, разного возраста, от совсем ещё юных до стариц. Отец Джеймс о чём-то пошептался с этой стайкой и приблизился к тамплиерам с монахиней лет сорока, на груди у которой висел деревянный крест.
Князев понял ситуацию и счёл за благо сделать два шага вперёд, отделившись от своих парней.
— Это наша игумения, мать Наталья, — отец Джеймс представил Князеву монахиню с крестом. Игумения очень пристально и твёрдо посмотрела в глаза командору и с едва уловимой иронией спросила:
— Значит, благородные господа будут защищать невест Христовых?
— Если это будет угодно Господу, матушка, — спокойно и доброжелательно ответил Князев, не пытаясь попасть в тон.
Игумения опустила глаза в землю, а когда подняла их, они были влажными. Дрогнувшим голосом она сказала:
— Мы будем молиться за вас.
Привычным жестом мать Наталья протянула командору крест, висевший у неё на груди. Князев перекрестился и поцеловал крест, прошептав, не глядя на матушку: «Non nobis, Domine, non nobis, sed tuo nomine da gloriam».
Игумения молча поклонилась и исчезла вместе с сёстрами в недрах своего корпуса.
— Мне очень жаль, господа, что не могу разместить вас достойно, — развёл руками отец Джеймс. — Сами понимаете — женский монастырь. В свою хижину не приглашаю, там даже нам с моим котом тесно. Придётся уж — на полу в воскресной школе, а пока отобедаем там же.
Ведомые священником, они нырнули в какие-то заросли, где обнаружилось ещё одно здание, одноэтажное, но побольше хижины духовника монастыря.
Сдвинутые школьные парты образовали длинный стол, на котором было расставлено скромное угощение: лепёшки, молоко, сыр, овощи, фрукты. Ели молча. Отец Джеймс, кажется, испытывал неловкость, не зная, как начать разговор. Наконец он выдохнул:
— Грэхем много рассказывал мне о вас, Дмитрий. Хотя, может быть, не так уж и много, но только хорошее.
Дмитрий кивнул и спросил:
— Как он погиб?
— Очень просто. Ехал на машине с сыновьями. У него были замечательные мальчики 10-и и 8-и лет. Машину остановили боевики из «Баджранга». Облили бензином и подожгли. У нас сейчас это очень просто, — похоже, отец Джеймс давно уже выплакал все слёзы, он рассказывал о страшной смерти миссионера и его детей, страдальчески улыбаясь.
Сиверцев вспомнил, что Дмитрий, исчезнув на некоторое время посреди Индийского океана, вернулся на субмарину сам не свой. Сейчас стало понятно, что тогда он узнал о страшной смерти миссионера, с которым, по видимому, был хорошо знаком. Ни один тамплиер не проронил ни слова, услышав о страшном мученичестве христиан, но все до единого изменились в лице. Командор пояснил, обратившись к своим:
— Наш друг был миссионером из Австралии. Католик. В Индии он прожил почти всю жизнь, больше 30-и лет проповедовал среди прокажённых. Грэхем понимал, что в любой момент может стать одним из них, и вместе с ними будет гнить заживо. Но Бог миловал. Скольких всеми отверженных и медленно умирающих он привёл ко Христу. Так совершалось чудо: умирающие становились оживающими для жизни вечной. Этот пример — назидание всем нам, братья. Грэхем всю жизнь был готов к смерти, и вот Господь даровал ему мученическую кончину, а значит — жизнь вечную. Отсюда не все мы вернёмся. Счастливой вам смерти, братья.
Лица тамплиеров, искажённые перед этим страданием, просветлели. Все как-то сразу приняли это простое обстоятельство: сентиментальное путешествие закончилось, они вступили в реальность смерти. В свою реальность.
Неожиданно заговорил рыцарь-моряк, плотный мужчина лет тридцати с чёрной, очень неровно подстриженной бородой:
— Отец Джеймс, мы пришли сюда, чтобы защищать индийских христиан. Мы знали, что у вас начинаются гонения. Но мы, конечно, не представляли, что в Индии — времена Нероновы — христиан превращают в факелы, — он сокрушённо помотал головой. — Расскажите, что у вас происходит? Уже много случаев мученичества? — моряк спрашивал спокойно, несколько даже по-деловому.
— Недавно в одном селении неподалёку отсюда зверски замучили целую христианскую семью: мать, отца и четверых детей в возрасте от 2 до 12 лет. В другом городе беснующаяся толпа сожгла на площади 300 экземпляров Библии. Подробности мне неизвестны, но вряд ли все, у кого эти Библии отняли, остались живы. Мне известно о гибели 64 христиан — это по всей Индии примерно за год. Убивают священников, насилуют монахинь, сжигают церкви. Недавно по Калькуттой разграбили женский монастырь, творили всё, чем это обычно сопровождается. В одном штате на Рождественской неделе было 120 нападений на христиан, сожгли 30 церквей. Как-то пятерых христиан растерзали, обвинив их в смерти священной коровы, хотя обвинение — абсурдное. Наши христиане не настолько безумны, чтобы лакомиться говядиной.
— Чем же вызваны эти дикости, что к ним подтолкнуло?
— В последние годы началось лавинообразное обращение далитов в христианство. Они тысячами принимают Христа. Слышал, что в Нью-Дели ожидалось одновременное обращение целого миллиона далитов, не знаю только, состоялось ли.
— А кто такие далиты?
— Это представители низших каст.
— Разве в Индии до сих пор существуют касты?
— Ещё как существуют. Далиты — отверженные. Они занимают самые низкооплачиваемые должности, выполняют самую нечистую работу — дворники, уборщицы. Многим из них запрещают даже молится в индуистских храмах. Естественно, далиты, поставленные вне общества, оказываются очень восприимчивы к христианству. Что им индуизм, если их свои же в свой же храм не пускают? А христиане принимают далитов, как равных. Для них единственная возможность стать человеком — это быть со Христом.
— А ведь это для любого человека так. Разве без Христа мы были бы людьми?
— Конечно, конечно. А здесь эта духовная реальность очень уж очевидно выражена на общественном уровне. Представители высших каст сами толкают далитов в христианство. Это и радостно, и страшно. Конечно, мы рады за тех, кто становится нашими братьями. Но как не скорбеть при виде бесовской гордыни и озлобленности брахманов? У представителей высших каст мир в головах рушится — низшие касты фактически исчезают, понемногу перетекая в христианство. Этому противодействуют на всех уровнях, включая законодательный. Ещё в 1950 году был издан президентский указ, согласно которому далиты в случае обращения в христианство, теряют ряд предусмотренных законом льгот. Хотя, какие уж «льготы» у отверженных, но они теряют последние законодательные гарантии. Этот антихристианский указ в 1985 году был подтверждён Верховным судом Индии. А в некоторых штатах приняты законы вообще запрещающие обращение индуистов в христианство и ислам.
— В ислам далиты тоже переходят? — вставил слово Али.
— Да, случается. Реже, но случается. Но злоба брахманская обращена в первую очередь против христианства.
Али по-детски насупился, но ничего не сказал. Моряк снова перехватил инициативу:
— Значит, гонения на христиан устраивает само государство?
— Ну не совсем так. Кровавые зверства государство, конечно, не санкционировало, во всяком случае — открыто. Это всё на совести фанатиков-фундаменталистов, в основном из организации «Баджранг». Но антихристианское законодательство фактически провоцирует баджранговцев. Даже Конституция Индии «не предусматривает права обращать другое лицо в свою веру». Получается, что убийцы на свой манер стоят на защите Конституции. Один из лидеров «Баджранга» Паранд так и сказал: «Истинной причиной насилия является возмущение индусов прозелитической деятельность христиан».
— Никогда не думал, что индуизм отличается такой крайней степенью религиозной нетерпимости.
— Индуизм весьма неоднороден. Это даже не религия, а группа религий, которые заметно отличаются. Вишнуисты, как правило, спокойнее, терпимее, хотя в массе своей они отнюдь не борцы за права низших каст. Но главный источник ненависти — шиваистские культы, в основном — культ богини Кали. Среди её поклонников немало настоящих убийц-маньяков. Их вполне можно считать сатанистами.
В разговор вмешался Дмитрий:
— Отец Джеймс, вы считаете, что гонения будут нарастать?
— Я не считаю, я знаю. «Баджранг» готовит нечто масштабное, нечто вроде того, что устроили в своё время сикхам, — обращаясь уже ко всем, священник пояснил, — В 1984 году в ответ на убийство премьер-министра Индиры Ганди здесь расправились с пятью тысячами сикхов в течении трёх дней. Это было ужасно. Многих сикхов не просто убивали, а сжигали заживо, мальчиков кастрировали.
— Что за сикхи? — спросил моряк.
— Местная религиозная группа. Их вероисповедание являет собой нечто среднее между исламом и индуизмом. Подробнее долго объяснять.
Али встрепенулся при слове «ислам» и спросил Князева:
— Тогда ваши братья, господин, не пытались вступиться за сикхов?
— Не пытались и сейчас не стали бы пытаться.
Али неожиданно взорвался:
— Для вас только христиане — люди! На всех остальных вам наплевать, пусть режут кого угодно, вы и пальцем не пошевелите. Есть ли в вас хоть капля благородства? — Али замолчал так же неожиданно, как и взорвался. Под пристальным, холодным взглядом Дмитрия в нём словно что-то надломилось.
Командор выдержал паузу и тихо-жёстко спросил:
— Ты всё сказал?
— Да, — буркнул Али, глядя в стол.
— Теперь скажи: ты зачем с нами пошёл?
Али молчал.
— Напомню: ты пошёл с нами для того, чтобы защищать индийских христиан. Ты помнишь о том, что я не хотел тебя брать?.. Я спрашиваю: ты помнишь?!
— Да.
— Теперь последний вопрос: ты воин или сентиментальная барышня-правозащитница, страдающая склонностью к истерии?
Али окончательно обмяк:
— Простите, господин.
Все за столом напряжённо молчали, понимая, что сейчас только командор имеет право говорить. И командор заговорил:
— Поясню нашему другу Али, его преподобию и всем братьям: горстка тамплиеров не может защищать весь этот мир от него самого. И не считает нужным! Сегодня мы поможем сикхам против шиваистов, а завтра сикхи начнут резать шиваистов. Мы опять должны помочь? Мы что, наёмники? Мы — рыцари Христа и Храма, мы делаем своё дело — защищаем христиан. Если завтра среди далитов-христиан окажутся сикхи, мы не прогоним их, не лишим нашей защиты, не станем делить людей на чистых и нечистых. Но в чужие свары мы ввязываться не будем. Всё.
Подчинившись неожиданно возникшему желанию, Сиверцев встал и в гробовой тишине спокойно произнёс:
— Деус вульт.
Все так же встали и дружно-тихо сказали:
— Деус вульт.
Князев сел, за ним — все остальные. Выдохнув, командор сказал:
— Теперь вернёмся к делам. Отец Джеймс, вы можете сказать, когда и где «Баджранг» готовит главный удар?
— Если ничего не изменится, то на день независимости Индии — через три дня. Вероятнее всего в Городе — это милях в десяти от нас. Там уже сейчас собираются поклонники Кали. Их будет, по нашим прогнозам, 2–3 тысячи. В Городе компактно проживают далиты-христиане — около 4 тысяч. Далиты всегда безоружны. Они по натуре вообще не драчуны. Уже не первую тысячу лет далитам запрещают даже прикасаться к оружию. Их и вооружать бесполезно — они боятся орудий убийства не меньше, чем убийц. Может быть, именно поэтому они — добрые христиане. Просто позволят себя перебить и всё.
— Это камень в наш огород? — грустно улыбнулся моряк.
— Ты ещё на мою голову? — оборвал его Князев.
— Простите за невольную бестактность, — извинился священник. — Милитес Христи это милитес Христи. Я отношусь к вам с огромным уважением. Очень надеюсь на вас. Последнее время я в ужасе. Не за себя боюсь. С радостью принял бы смерть за Христа, но ведь они не убьют меня, думаю, что совсем не тронут. И сестёр не убьют. Осквернят и оставят в живых. Они почти никогда не убивают монахинь, понимают, что смерть для них предпочтительнее. Они знают так же, что монахиня не может наложить на себя руки. Ах, если бы мы все погибли — отправились бы вместе ко Христу, я и мои дочки. И сразу же всё, что мы претерпели на земле, перестало бы иметь значение. Но как мы тут будем все вместе жить, после того, что они устроят? Я ничего не могу для них сделать, я — их главный защитник, никак не могу их защитить. Это ощущение бессилия — ужасно. Мы с дочками помолились, и Господь послал нам вас.
— Много у вас сестёр? — спросил Князев.
— Восемь.
— Вы ждёте нападения на монастырь в ближайшее дни?
— Перед тем, как устроить массовую бойню в Городе, они планируют серию мелких акций.
Наш монастырь — идеальная цель. Это может быть завтра — послезавтра.
— Значит, мы прибыли вовремя.
— Завтра с утра я служу мессу. Придёте?
— Нет, отец Джеймс. Вы знаете — мы не можем.
— Да, я знаю. Вы придерживаетесь греческой ортодоксии. Вам нельзя молится с нами. Такие у вас правила.
— Не обижайтесь, отец. Вы знаете, как мы вас уважаем. Но именно сейчас, когда мы защищаем христиан-католиков, для нас очень важно остаться собой. А то в вашем религиозном море очень легко берега потерять. Да и ни к чему моим парням ваших сестёр смущать. Сёстрам так и скажите: гости смущаются.
— Вы очень мудрый человек, Дмитрий.
— Я? Нет. Я Божий. Грешный, но Божий.
Князев обратился к своим:
— Братья, у меня для вас радостная новость. Из нас только я имею белый плащ, но предстоят бои, кровь, может быть, смерть. Я выпросил у магистра разрешение всем на время боёв выдать белые плащи. Каждый тамплиер имеет право погибнуть в белом плаще.
Радости братьев не было предела. Моряки вскочили, Дмитрий открыл ещё не распакованный дорожный баул и каждому протянул аккуратный белый свёрток. Братья сразу же облачились. Сиверцев и Али продолжали сидеть, сдержанно улыбаясь. Улыбки у них получились довольно кислые.
Князев хлопнул Сиверцева по плечу:
— И тебе, чадо моё, полагается та же честь, хоть ты ещё и не тамплиер. Но если погибнешь, то тамплиером.
Сиверцев встал, поклонился, принял свёрток. Он почему-то не был ни удивлён, ни взбудоражен. Но на душе стало очень тепло.
— Али. — начал Князев.
— Я всё понимаю, — отчеканил Али.
— Ты, как всегда, ничего не понимаешь, горячая твоя душа. Для тебя я приготовил особый плащ. Белый, но без креста. Примешь?
Али был счастлив. Облачившись в белый плащ, он торжественно провозгласил:
— Белый цвет — цвет знамени пророка.
Они поселились в воскресной школе, сдвинув парты к стене. Спали на голом полу, несмотря на протесты отца Джеймса, предлагавшего мягкие тюфяки. Командор, однако, пояснил, что спать им лучше без комфорта, чтобы ночью сон не разбирал. Нападения ждали именно ночью. Дежурили у монастырского здания по очереди. Первая ночь прошла без происшествий. Днём из здания школы не выходили, томились от скуки, разговаривали мало. Кто-то читал, кто-то молился, кто-то тупо смотрел в окно. Первую ночь Сиверцев почти не спал, а потому на вторую быстро сморило, однако ненадолго. Проснувшись и глянув на часы, он увидел, что до его дежурства осталось полчаса. Решил сразу идти на пост.
— Кто идёт? — послышался шёпот из кустов.
— Non nobis, Domine. — Сиверцев нырнул туда, откуда послышался шёпот.
Дежурил рыцарь-моряк, которого Андрей уже окрестил про себя «Чёрная борода».
— Не спится? — спросил «борода».
— Да. Посидим вместе?
— Без проблем.
— Мы ведь так и не познакомились.
— Брат Жан, рыцарь.
— Андрей, послушник.
Брат Жан явно не был болтлив, а Сиверцеву хотелось поговорить:
— Брат участвовал в боевых действиях на стороне Ордена?
— Моряки редко сражаются. Наши задачи в основном патрульные, транспортные. Дважды брали на абордаж пиратские суда в районе африканского рога. Было много треска и крика. Жертв не было. Корабли потопили. Пиратов оставили в шлюпках на волю волн.
— Жёстко.
— Не в бирюльки играли.
— Тогда тоже выдавали белые плащи?
— Нет. Это сейчас только командор похлопотал. Молодец. Так и надо. Каждый тамплиер имеет право погибнуть в белом плаще. А «естественным путём» я вряд ли успею получить белый плащ.
— Почему?
— Примут в Орден — узнаешь.
— Хочу спросить тебя, брат Жан.
— Идут. Быстро беги, поднимай наших.
Толпа человек в 30 лениво, вразвалочку приближались к монастырю. Погромщики говорили в полный голос, смеялись, чувствуя себя вполне уверенно. У большинства из них в руках были тяжёлые палки и камни, несколько человек важно шествовали с кривыми саблями, огнестрельного оружия не наблюдалось.
Приблизившись к монастырскому корпусу, они начали что-то выкрикивать, нетрудно было догадаться, что выкрики были похабными. В окна полетели камни. Двое уже собирались лезть в окна с выбитыми стёклами, как у себя под носом услышали громкий голос. Сиверцев, наблюдавший за развитием ситуации из укрытия, не понимал ни слова из того, что кричали погромщики, голос Князева так же не принёс ему на какой информации — командор говорил на хинди, но всё было и так понятно. Несколько слов командора прозвучали спокойно, властно и насмешливо. На Князева сразу же набросились двое. Первого он ударил кулаком в челюсть, явно сломав её, руку второго перехвалил и вывернул, как минимум вывихнув. Это послужило сигналом к началу атаки.
На погромщиков набросились с двух сторон, в один фланг ударили моряки, в другой — Сиверцев и Али. Били мечами плашмя. Командор загодя напутствовал: «Как можно меньше крови. Выступаем не против солдат, а против людей почти невооружённых. Рубить их мечами — низость, этих негодяев вполне достаточно хорошенько отмолотить. Пистолеты при себе иметь, но применять лишь в самом крайнем случае, весьма желательно обойтись без стрельбы. Винтовки не брать. В целом — действовать по обстоятельствам. Может быть, мы недооцениваем уровень вооружённости противника. Наш ответ должен быть симметричен».
И вот теперь они давали «симметричный ответ». Били мечами плашмя, но безжалостно, в полную силу, с хорошего размаха, постепенно входя в раж. Погромщики, никак не ожидавшие силового сопротивления, да ещё такого жёсткого, были совершенно деморализованы, они хаотически метались под ударами, давили друг друга, почти не оказывали сопротивления, лишь изредка пытаясь подставить под меч толстую палку. Кажется, толпа начала редеть, те погромщики, которым удалось вырваться из тамплиерских клещей, начинали понемногу разбегаться. Впрочем, в темноте это трудно было оценить.
Внезапно на горле Сиверцева что-то очень плотно сомкнулось, какая-то удавка, наброшенная сзади. На миг он потерял дыхание, потом поневоле попытался податься вперёд и чуть окончательно не задушил самого себя. Сознание уже начало мутиться, когда звериное чутьё бойца подсказало ему единственное верное решение — он бросил своё тело на спину, на того, кто его душил. Нападающий, не ожидая этого, так же упал вместе с ним на землю. Сиверцев резко перевернулся, оказавшись верхом на поверженном враге. Он хорошо запомнил перекошенное ненавистью лицо с клочковатой бородой и бешено расширенные зрачки человека, по-видимому, находящегося в наркотическом трансе. Впрочем, он видел это лицо не больше секунды, сразу же ударив врага со всей силы кулаком в кадык.
Вскочив на ноги, полузадушенный Сиверцев и не думал уже бить мечём плашмя. Он сделал два больших боевых взмаха, кажется, кто-то упал, трудно было разобрать в темноте. Но уже третий взмах рассёк воздух. Избиение закончилось. Лишь на краю площадки всё ещё звенели сабли. Разгорячённый Али бойко наседал на погромщика, так же вооружённого саблей. Тамплиеры смотрели на этот бой, не решаясь отнять добычу у честолюбивого шиита. Поединок смотрелся немного потешно, фехтовальщиком Али был, мягко говоря, начинающим. Его спасало то, что погромщик и вовсе не умел фехтовать и носил саблю, по-видимому, лишь для декорации. Но вот Али сделал весьма изощрённый выпад. Сабля противника упала на землю вместе с кистью руки. Несчастный даже не вскрикнул, лишь тупо глядя на фонтан крови, хлеставший из руки. К врагу подошёл Князев, сильно взяв его за руку выше того места, где была отрублена кисть. Ток крови чуть затих. «Дайте какую-нибудь тряпку», — резко скомандовал командор. Андрей, сидевший на земле, рефлекторно поискал вокруг себя что-нибудь подходящее. Он подобрал какой-то шнур, подошёл к командору и подал ему. Князев перетянул руку калеки, ток крови прекратился, хотя она продолжала капать. Несчастный так и стоял заворожено, не двигаясь с места.
Начало светать, теперь можно было рассмотреть «поле боя». Несколько погромщиков лежали неподвижно, другие сидели на земле и скулили. Появился отец Джеймс. Лицо его было невообразимо скорбным, но, кажется, даже сейчас на нём отражалась некая остаточная улыбка. Священник сказал, обратившись к Князеву:
— Им надо оказать медицинскую помощь.
— Да, конечно, — сухо обронил командор.
Перед Андреем всё текло как в кино. Он трогал руками сильно болевшее горло и смотрел, как три монахини перевязывают раненных, накладывают шины на сломанные руки, обрабатывают раны на головах Убитых оказалось трое и четверо раненных, которые не могли идти. Кто мог хотя бы ползти, давно уже воспользовались этой способностью. Побоище оказалось относительно бескровным. Они вшестером разогнали три десятка подонков. К Андрею подошёл Князев и, усмехнувшись, бросил:
— Кажется, из трёх трупов два — твои. Герой.
— Не люблю, когда меня душат сзади.
— Очень странно. Обычно это всем нравится.
Сиверцев чувствовал, что командор, хотя и недоволен, но не осуждает его, просто констатирует факт. Князев был по-деловому спокоен, дышал ровно. Во время боя он прикрывал окна, чтобы кому-нибудь из погромщиков не пришло в голову забраться в корпус и взять заложниц. Меча командор так и не обнажил, орудуя исключительно кулаком справа в челюсть.
К командору подошла молоденькая монахиня и по-деловому доложила:
— Господин, мы закончили оказание первой медицинской помощи.
— Очень хорошо, сестра. Из наших братьев кто-нибудь пострадал?
— Ничего серьёзного. Одному попали камнем в плечо — сильный ушиб, но кости целы. Другого ударили палкой по голове — мы перевязали. Колотых и резанных ран ни у кого нет.
— Тебе-то, Андрюха, не нужна помощь?
— Горло немного побаливает. Попью чайку с малинкой и всё пройдёт.
— Малинка? — растерялась монахиня. — Не знаю, что это такое, но дорогих лекарств у нас, к сожалению, нет.
Сиверцев и Князев добродушно улыбнулись, Андрей отвесил монахине почтительный полупоклон и заверил:
— Ничего, сестра, не волнуйтесь, пройдёт и без малинки. Ах, если бы вывидели, как у меня на родине это дорогущее лекарство растёт прямо в лесу на кустах.
Монахиня смутилась и опустила глаза. Командор по-русски одёрнул своего послушника: «Ты не очень-то расходись, благородный спаситель девиц».
Монахиня, продолжая смотреть в землю, снова обратилась к командору:
— Этим, господин, была перетянута рука того, кому отрубили кисть. Странная вещь, возьмите, может быть, для вас это важно, — девушка поклонилась и исчезла.
— Ах вот оно что, — Князев усмехнулся, — ведь этим тебя душили?
— Не знаю, возможно.
— На твою драгоценную жизнь покушался жрец богини Кали.
Командор показал Андрею «странную вещь». Это был очень узкий и длинный мешочек, на самое дно которого было насыпано что-то тяжёлое. Князев долго выковыривал содержимое, и наконец, на его ладони блеснуло нечто похожее на грязные осколки цветного стекла. Командор пояснил:
— Необработанные драгоценные камни. Это орудие ритуального убийства. Удобная штука. Сама захлёстывается на шее жертвы.
— Польщён таким вниманием жреца, ныне, впрочем, уже покойного.
— Ну да, — отвлечённо констатировал командор. Он тут же забыл про Сиверцева и подошёл к священнику и игуменье, которые стояли неподалёку.
Отец Джеймс сказал:
— Дмитрий, мы решили, что убитых и раненных вывезем на своём автобусе к большой дороге. Там, на обочине, их вскоре кто-нибудь обнаружит.
— Да, так и сделайте, — кивнул командор, потом скомандовал своим:
— Общее построение.
— Ну что, орлы, размялись? Настоящий бой впереди, но разминка прошла неплохо. Сработали грамотно, технично. Сейчас отдохните, а вечером пешим строем выступаем в сторону Города, ночью должны быть уже там.
— Монастырь оставим без защиты? Могут ещё раз напасть, — обеспокоенно обронил брат Жан.
— Вряд ли. Сейчас вся эта шушера стягивается у Городу. Там они готовят основное представление. И мы должны быть там. Всё. Отбой.
Тамплиеры пошли к школе. К командору подошёл Али:
— Господин, можно я возьму себе трофейную саблю? Очень плохая сабля, но хочу оставить на память.
— Да, возьми.
— А вы, господин, видели мой последний удар?
— Ты был неотразим, Али, — добродушно и устало обронил Князев, но, глянув на левое плечо юного шиита, замер в изумлённой растерянности.
Али был единственным, кто сегодня одел подаренный командором плащ. Тамплиеры решили не поганить плащи до основной схватки, а горячий юноша не утерпел, облачился. Плащ Али был без креста, и вот теперь на его левом плече явственно пламенел крест. Кровь врага брызнула на плащ мусульманина, самым явным и очевидным образом запечатлев его христианским символом.
— Али, сними плащ и внимательно рассмотри его, — восхищённо предложил командор.
Юноша, рассматривая крест, стоял, как громом поражённый:
— Что это значит, господин?
— А как ты думаешь? — Князев не мог сдержать широкой, радостной улыбки.
— Я теперь должен стать христианином? — растерянно прошептал юноша.
— Тебе решать. Однако, трудно усомниться в том, что сам Аллах даровал тебе крест в первом же бою.
— Христианин. Храмовник. — ещё более растерянно прошептал Али, кажется, перестав кого-либо замечать.
Князев положил ладони на плечи юноши и сказал, словно неожиданно обретённому сыну:
— Пошли отдыхать. У тебя ещё будет время обо всем подумать.
Лалит принадлежал к касте брахманов. С детства у него была лишь одна мечта — стать великим учителем народа, вобрать в себя всю мыслимую мудрость, а потом приступить к немыслимой, и всю свою жизнь посвятить любимой и великой, но столь много страдающей Родине. Как заворожённый, Лалит повторял слова отца: «Индия — это вечно живые боги. Любишь богов — любишь Родину». Лалиту было лет шесть, когда он почувствовал, что истина, возвещённая отцом, запела в его сердце. Он смотрел на прекрасное изображение Вишну и чувствовал: «Это Индия. Это моя Родина».
Родители Лалита были очень богаты, он вырос в настоящем дворце, в роскоши и совершенно без забот, не зная, что такое страдание. Его все любили, и он любил всех. К ним приходили учителя-брахманы, всегда очень любезные и никогда не ругавшие своего ученика. Да и за что его было ругать? Мальчик всё схватывал на лету и вскоре уже свободно читал на санскрите веды. Мальчик радовал родителей и учителей прекрасным знанием «Бхагават-гиты».
Конечно, в постижении истины у него случались проблемы. Его, например, пугал и шокировал культ бога Шивы. Но он быстро во всём разобрался и понял, что поклонение Шиве и его жене Кали совершенно необходимо, потому что без этого разрушится мировая гармония. Не бывает созидания без разрушения, не может быть Вишну без Шивы. Индия — это боги, а не Бог. Только очень глупые люди принимают лишь радостную часть истины, не понимая, что её надо принимать всю целиком. Поклонение Шиве, таким образом, обязательно.
Вот только сердце всё равно не лежало к жестокому богу разрушения. Но он и тут увидел выход. Одни молятся преимущественно Вишну и Брахме, другие — Шиве, а вместе они совершают правильное, сбалансированное, гармоничное поклонение.
Быстро достигнув вершины в постижении индуизма, Лалит решил двигаться дальше. Он знал, что некоторые считают христианского Иисуса одним из великих посвящённых и решил проштудировать священные книги христиан. Новый завет поразил его до глубины души. Это и впрямь была истина высшего порядка. Юноша сразу же сделал вывод о том, что настоящий брахман должен хорошо изучить все речения Иисуса — без этого истина не будет полной, и высшая мудрость не откроется.
Он уже был совершеннолетним, учителя больше не ходили в дом. Поступать в университет Лалит решительно отказался. Там преподавали слишком много ненужного, не имеющего отношения к мудрости. Так что христианские книги он изучал самостоятельно, предпочитая обходиться без шор, которые неизбежно накладывают любые учителя.
Что больше всего поразило его в христианском учении? Для Иисуса все люди были равны. К низшим кастам Он, кажется, даже больше тянулся. Он водил дружбу с блудницами и грешниками, он призывал к себе всех страдающих и обременённых. Это было очень странно. Лалит был уверен, что высшая мудрость может принадлежать только брахманам. Только брахманы имеют возможность потратить всю свою жизнь на постижение великих истин. Как может человек, который ещё вчера собирал налоги, вдруг неожиданно открыть для себя тайны мироздания? Но если Иисус — Бог, Он может по своему усмотрению открыть эти тайны кому угодно — и вчерашнему мытарю, и даже блуднице. Но зачем?! Зачем Иисусу это делать? Как можно настолько обесценивать Истину, открывая её всем подряд? И зачем тогда брахманы тратят всю жизнь на постижение великих истин, если завтра любой неприкасаемый может принять Христа и будет иметь прямую связь с Космосом.
Лалит решил, что должен снять это противоречие, иначе ему никогда не стать великим брахманом. Он уже понял, что учение Иисуса нельзя просто так взять и проигнорировать, его надо гармонизировать с Ведами, Упанишадами, Бхагаватгитой и всем комплексом мудрости брахманов. Надо было найти ключ к этой гармонизации. Но ключа, кажется, не было. Либо неприкасаемый может быть ближе к Абсолюту, чем брахман, либо этого быть не может.
Лалит понял, что для решения этой головоломки необходимо некое совершенно нестандартное средство, не из комплекса наличествующих. И тут его осенило: надо поставить эксперимент, надо увидеть христиан-далитов и, может быть, в их глазах обрести ответ на вопрос: может ли быть доступно Учение без обучения, возможно ли знание без познания? Одевшись победнее, он отправился в квартал христиан-далитов.
Вернувшись, Лалит неделю ходил сам не свой. А, может быть, две или три недели? Он не знал. Время исчезло. Он увидел в глазах далитов-христиан то, что хотел и боялся увидеть — Истину. Он не разговаривал с ними. Не было необходимости. Он почти не обратил внимания на нищету и убожество их жизни — не за тем пришёл, чтобы лицезреть картины быта. Его не заинтересовал священник — европеец. Он здесь пришлый, дело не в нём. Главное было в глазах далитов, они самым явным и очевидным образом свидетельствовали, что в их душах обитает Истина.
Глаза отверженных были так похожи на глаза его родителей, когда они смотрели на горячо любимого сына. Его матушка, ныне уже покойная. Как она любила его. А отец. Суровый и строгий, он всё же никогда его не наказывал и даже голос не повышал, являя собой воплощённую любовь к сыну. И вот теперь в глазах далитов он увидел нечто родственное этой родительской любви. Значит, прав был евангелист Иоанн: «Бог есть Любовь».
Лалит понял, что впустую потратил полтора десятилетия, стремившись к Истине через мудрость. Ныне далиты-христиане ближе к Истине, чем он. «Утаил от мудрых и открыл детям». Так, или почти так, сказал Христос.
Нет, никогда ему не гармонизировать веру предков и христианство. Нет гармонии между Светом и тьмой, Истиной и ложью, Христом и Шивой. Но зато есть другая гармония. Это гармония всеобщей любви, гармония между брахманом и далитом, если оба они идут к Истине. В душе всё рухнуло, но он уже знал, что из обломков прежних убеждений сможет построить новое здание.
Но как же отец? Лалит решил поговорить с престарелым и сильно сдавшим за последнее время отцом.
— Скажи, отец, далиты — это Индия?
— Да, но лишь до тех пор, пока остаются далитами. Если они получат равные права с брахманами, значит Индия погибла. Есть вещи, которые никогда не должны меняться.
Вместо твёрдой убеждённости Лалит увидел в глазах отца боль. Зачем он мучает старика?
— Да, отец, ты прав. Есть нечто неизменное. Я всегда любил, люблю и буду любить тебя и маму.
— Ты говоришь про маму в настоящем времени? — отец словно пытался что-то увидеть в густом тумане.
— Я чувствую, что мама жива. Может быть, она сейчас слышит нас.
— Она не узнала нас в своём новом перерождении.
— А если бы она всё-таки помнила нас и по-прежнему любила? Ты был бы рад?
Отец тяжело вздохнул:
— Я был бы рад сейчас подняться в воздух и улететь с Земли. Но разве это возможно?
— А если и это возможно?
— Ты стал христианином, сынок? — задумчиво и печально спросил отец.
— Пожалуй, нет. Но ты только на миг представь себе: если бы ты, мама и я всегда, и в другом мире тоже, помнили и любили друг друга. Разве такая уверенность не сделала бы тебя счастливым?
Отец долго и удручённо молчал. Потом в его глазах появился тихий свет, и он заговорил:
— Когда ты был ещё совсем маленьким, мы с мамой уже смогли рассмотреть в тебе большие таланты. Мы не сомневались, что ты станешь великим брахманом, станешь первым. Нас не пугало, что ты идёшь непривычным, особым путём, ведь только так и можно стать первым. И вот теперь ты поднялся на такие высоты мудрости, куда мне доступ закрыт. Мне страшно думать о том, о чём ты говоришь. Я тут плохой для тебя собеседник. Но я верю в твой путь. Ты постигаешь Непостижимое. Мне и правда кажется странным, что наша мама забыла о нас в новом перерождении. Мне трудно представить, что я могу забыть тебя. Ты думаешь, возможно вечно помнить и любить?
— Отец. Для Любви нет ничего невозможного.
Прошло много лет. Отец давно умер. Лалит стал наследником огромного состояния. Ещё он стал христианином. Потом — главой христиан Города.
Брахман-христианин, да ещё богатый, то есть обладающий широчайшими возможностями, был костью в горле у фанатиков-шиваистов. Они готовы были порвать его на части, но не решались тронуть — всё в Городе: и школа, и больница, да и само здание мэрии были построены на личные деньги Лалита.
Он решил не жениться и не иметь собственных детей, хотя детей очень любил. Всю свою душу Лалит отдавал детям христиан, в основном — из низших каст. Впрочем, он так же щедро благотворил детям традиционных индуистов, включая поклонников богини Кали. Эти, по его представлению, были самими несчастными и более других нуждались в любви.
Лалит хотел, чтобы весь Город жил так же, как и его родительская семья — в любви. Отчасти это удавалось, а в основном — нет. Лалит не отчаивался, он хорошо понимал, что большинству людей удобнее жить, как прежде. Он часто вспоминал свой юношеский поход в квартал далитов. Почему он тогда увидел вокруг себя только глаза, исполненные Истины? Далиты-христиане, так же как и все люди, были очень разными: порою озлобленными, иногда — равнодушно-тупыми, нередко — совершенно безразличными ко Христу, несмотря на то, что приняли крещение. Почему он не увидел этого тогда? Да ведь увидел, но не придал значения, как чему-то вполне обычному. Если хотя бы в одном далите из ста он чувствовал душу, совершенно преображённую Христом, он уже не вспоминал про его вполне заурядных братьев.
Лалит знал, что ему не суждено закончить дни в неге и довольстве, которые сопровождали его всю жизнь. Когда-нибудь пружина реакции традиционалистов со страшной силой разожмётся, и многие, в том числе и он, примут смерть за Христа. Лалит даже хотел этого. Слишком уж благополучным христианином он был. Разве так можно очистить душу и приблизиться ко Христу? Он надеялся на мученическую кончину, хотя и не был уверен, что достоин её. И вот он увидел долгожданную черту.
Незадолго до дня независимости в его дворец пожаловал мэр. Он долго униженно кланялся и раболепно улыбался, наконец, возвестив, что господин Лалит окажет Городу большую честь, если примет на себя председательство во время праздничных торжеств — кому же ещё возглавить церемониал выноса знамени, если не самому уважаемому гражданину Города?
— И вы позволите христианину возглавить вынос знамён? — грустно улыбнулся Лалит.
— Ну, разве это имеет значение? — стушевался мэр.
— А разве не имеет? — Лалит продолжал улыбаться.
— Мы всё-таки просим нашего господина. — мэр как-то весь разом обмяк.
— Лалит оборвал его непринуждённым и доброжелательным жестом. Он уже понял, что это провокация. Увидев национальные знамёна в руках у христиан, фанатики-традиционалисты обязательно испытают острый приступ ненависти к христианам, особенно если их должным образом настроить, а это обязательно будет сделано.
— Эта идея принадлежит уважаемому господину Паранду? — Лалит испытующе и пристально посмотрел на мэра.
— Да нет, мы, конечно, ведь вы же всё-таки.
На мэра было жалко смотреть. Сомнения исчезали. Это провокация. Значит настал момент истины. Лалит улыбнулся широко, непринуждённо и очень доброжелательно сказал:
— Спасибо за оказанную честь, господин мэр. Я принимаю ваше предложение.
Паранд принадлежал к касте кшатриев. В его жизни всё было очень просто. Его семья была бедна. Он знал, что станет богат. Его родителей мало кто уважал. Он знал, что его будут уважать все. С детства мальчик отличался очень хлипким телосложением. Но он знал, что станет самым сильным. Он знал это так же спокойно и уверенно, как и то, что живёт в Индии. Думать было не о чем. Он вообще никогда не думал.
Отец-пьяница часто бил Паранда. Мальчик воспринимал это как нечто вполне естественное и никогда не пытался сопротивляться. Вовсе не из уважения к отцу, просто тот был сильнее. А сила имеет право. Паранд вырос и накачал мускулы. Когда однажды пьяный отец по своему обыкновению попытался поколотить сына, он врезал родителю в зубы с разворота. Он сделал это спокойно и без гнева, просто констатировал, что власть в доме поменялась.
Мать он почти не замечал. Маленькое, молчаливое, не поднимавшее глаз существо не вызывало у него никаких эмоций. Однажды, когда он был подростком, мать сказала ему, что он должен пойти с ней на церемонию поклонения богине Кали. Кажется, тогда он впервые увидел глаза матери — властные и жёсткие. Религия нисколько не привлекала Паранда, но под взглядом матери он понял, что возражать не стоит.
Церемония проходила не в храме, а в лесу, вдалеке от чужих глаз. В почти непроходимых дебрях стоял алтарь, никому не известный, кроме поклонников Кали. Они уселись в кружок, жрец подходил к каждому и говорил: «Отведай сладость Кали. Теперь ты — её, а она — твоя», давая при этом нечто похожее на кусочек сахара. Паранд поморщившись, положил это в рот и вскоре почувствовал дикое, бешенное возбуждение. Вместе со всеми он выкрикивал гимны Кали, прославляя её страшный облик. Он чувствовал себя как школьник, которого позвали учить уроки, а вместо этого предложили сыграть в захватывающую игру. Такая религия была ему по нраву. Он понял, что Кали — его богиня. Это вам не занудные проповеди брахманов.
Потом откуда-то привели связанного мальчишку-далита. Его положили на алтарь и перерезали горло ритуальным ножом. Жрец слил кровь жертвы в чашу и каждому дал от неё отхлебнуть. Началось настоящее веселье. Никто уже не помнил себя, все срывали с себя одежды, прыгали, что-то выкрикивали, потом катались по земле, лихорадочно совокупляясь. Паранд смутно помнил происходившее. Кажется, он переспал со своей матерью. Или это была Кали?
После церемонии Паранд несколько дней ходил сам не свой. Его терзала смутная, неосознанная неудовлетворённость, некая неутолённая жажда. Он понял, что хочет крови. К тому времени он уже сколотил небольшую банду юнцов, постепенно осуществляя свою мечту стать самым сильным и богатым. Все пацаны в округе платили им дань. Под холодным, тёмным взглядом Паранда кто угодно готов был расстаться со всеми деньгами, только бы этот жуткий тип отвязался.
С членами банды он был так же жесток, но они терпели и покорялись, понимая, что жестокость главаря по отношению к чужим куда страшнее. Теперь у Паранда всегда были деньги, он без труда платил учителю фехтования, купил неплохое оружие. Учеником он оказался весьма способным — чутким, переимчивым, внимательным. К тому же Паранд был фактически равнодушен к физической боли, в любой схватке проявляя ошеломляющую противника готовность идти до конца. Это был прирождённый воин, настоящий кшатрий.
И вот теперь, поняв, что не сможет жить, если не будет пить кровь, он, как всегда, не нашёл о чём тут думать. Они ловили одиноких бродяг и тащили их в лес. Постепенно все в его банде «подсели» на человеческую кровь. Двое отказались пить и сами были «выпиты». Они были сыновьями кшатриев, их долго искали, но так и не нашли. На Паранда не думали, ведь он был их другом, к тому же нечеловеческое хладнокровие этого пацана могло ввести в заблуждение даже весьма опытного дознавателя.
Паранд понял: «пьющие кровь» должны стать внутренним кругом его банды, своего рода гвардией, новых членов не торопились к этому привлекать. Сначала шли многочисленные проверки и многие их не проходили.
Полноценных ритуалов наклонения Кали сами не проводили, участвовали во «взрослых».
Шли годы. Люди Паранда были теперь уже не бандой, а организацией. Все, кто входил во внутренний круг и участвовал в человеческих жертвоприношениях, стали респектабельными гражданами. Среди них были офицеры, бизнесмены, политики, жрецы. Да, жрецы у них теперь были свои и ритуалы свои.
Паранд стал богатым и весьма влиятельным человеком. В своём штате влияние этого сильного, хладнокровного и уверенного в себе лидера было безусловным. Его уважали уже и на самом верху. Паранд всегда знал, что надо делать и говорить на публику, он выказывал почтение всем богам Индии, но поклонялся только Кали. Именно она принесла успех ему и всем его сторонникам. Они продолжали пить кровь, но это не сделало их безумными, все люди Паранда, напротив, становились идеально расчётливы и хладнокровны, «выпуская пар» только на тайных сборищах. Паранд всегда очень точно рассчитывал, сколько радикализма он может позволить себе в настоящий момент. Он приобрёл известность последовательного патриота, для которого нет ничего дороже Индии.
Паранд не знал, что такое ненависть. Он совершенно равнодушно отдавал самые изуверские распоряжения. Всё чаще его одолевала скука, путь его был слишком прямым и гладким, ни разу не довелось столкнуться со сколько-нибудь существенным препятствием. Это была его страна. Он чувствовал Индию всеми фибрами души. Здесь он не мог проигрывать.
И всё-таки ему довелось узнать, что такое ненависть. Даже более того — он познал страх — чувство до этого ему совершенно неведомое. Часть Индии, всё более и более заметная часть, буквально на глазах становилась миром чужим и непонятным, живущим по другим, невообразимым правилам. Далиты тысячами, десятками тысяч принимали христианство и, что самое немыслимое, к ним присоединялись некоторые кшатрии и даже брахманы. В Индии появилась и всё более крепла реальность без каст. В христианском мире все были братьями. Если брахман прилюдно обнимает неприкасаемого — это уже не Индия. И в эту чёрную воронку может засосать полстраны.
Паранд заметил, что из глаз далитов, принявших христианство, исчезает страх. И тогда он сам познал страх. И познал ненависть. Рядом с христианами он превращался в ничто. И было непонятно, что с этим делать. Конечно, люди Паранда постоянно третировали христиан, натравливали на них всех, кого могли, нередко они убивали этих отщепенцев. Но это не только не останавливало обращение в христианство, но, казалось, даже подхлёстывало его. Впервые в жизни Паранд видел перед собой людей, которые не испытывают перед ним страха и даже смерть встречают спокойно. Теперь боялся он. Но Паранда, который боится, не может быть. Он выжгет эту язву калёным железом.
Однажды он присутствовал на конференции, где дали слово христианскому священнику. Когда эта свинья заговорила, Паранд, до этого внимательно слушавший всех ораторов, совершенно утратил способность воспринимать содержание речи. Его гнуло, ломало, корёжило. Он видел христиан и раньше, но говорящих — никогда. Это было совершенно невыносимо. Может быть, именно так он чувствовал бы себя, если бы ему очень долго не давали выпить человеческой крови. Когда священник, наконец, смолк, Паранда ещё долго колотило, от хладнокровия и самообладания не осталось и следа. С того дня Паранд, всегда такой прагматичный и расчётливый, начал постепенно терять чувство реальности.
Того священника выследили, похитили и принесли в жертву Кали в их тайном капище. Паранду стало очень хорошо, когда он отведал его крови. Кровь христиан намного слаще обычной, это он знал и раньше, а кровь священника оказалось ещё слаще.
Но полегчало Паранду ненадолго. Теперь его гнуло и корёжило от одной только мысли о том, что где-то рядом ходят христиане и священники, кровь которых не выпита. При этом, он чувствовал, что становится смешон, вот так по одному воруя священников и нападая на небольшие группы христиан. Ситуацию надо было переломить кардинально. Однажды, во время жертвоприношения, он понял, чего хочет от него Кали. Большой резни! Утопить целый город в крови христиан! Это будет грандиозное, дотоле ещё невиданное жертвоприношение. А потом тоже самое произойдёт во всех городах Индии, где есть христиане.
С этого момента прагматичным и расчётливый политик исчез. Родился новый Паранд — одержимый, всё содержание личности которого составляла единственная мания — уничтожить всех христиан в Индии. Он больше не считался с реальностью, он не думал о своём будущем, он сорвал маску, уже не пытаясь изображать респектабельного гражданина. Он почти перестал спать и ел очень мало, но зато ритуалы поклонения Кали совершались теперь не раз в месяц, а ежедневно.
Паранд развил бурную деятельность по организации резни христиан. В этом деле он по-прежнему проявлял изощрённую расчётливость и способность одновременно учитывать огромное количество факторов. Основу подготовки составляло формирование общественного мнения. К тому моменту, когда он даст отмашку, христиан должны ненавидеть все. Не просто не любить, это и всегда было так, а пылать к ним лютой ненавистью вплоть до готовности рвать их на части зубами. Не разделяющие этих чувств должны забиться в норы и не высовываться. Пока они разогревались мелкими акциями — разоряли монастыри, жгли храмы, убивали священников. Старались уничтожить христианских священников, чтобы в момент большого выступления некому было сплотить христиан, одновременно приучая простых индусов к крови. Шторм должен нарастать постепенно.
Паранд похудел так, что стал похож на мумию. Глаза его полыхали чёрным ледяным пламенем. На улице люди шарахались от него. Впрочем, говорил он по-прежнему очень мало и никогда не повышал голоса.
Когда Паранд пришёл к мэру Города, последний вжался в кресло и старался смотреть в стол. Развалившись перед ним, Паранд, выдержав паузу, начал ронять слова:
— Близится день независимости. Все мы, конечно, ходим, чтобы торжества прошли на должном уровне. Их должны возглавить лучшие люди Города. Председательство, думаю, лучше всего поручить господину Лалиту.
Мэр ожидал чего угодно, только не этого:
— Но… это не всем понравится.
— Да неужели? — усмехнулся Паранд. — А как ты думаешь, мне это понравится?
Мэр молчал, превратившись в сгусток ужаса. Он начал понимать, что стоит за этим приказом — именно приказом. Паранд почувствовал себя хорошо, ощутив, что его власть над земляками по-прежнему беспредельна. Тратить слова не имело смысла:
— Ты сделаешь так, как я сказал.
Все, кто видел Лалита, руководившего церемонией выноса знамён, обратили внимание — у него сегодня необычное лицо, и весь он какой-то нездешний. Лалит был, как всегда доброжелателен и внимателен к каждому, распоряжения отдавал с улыбкой. Ни одна мелочь, касавшаяся организации торжеств, не ускользала от внимания председателя. И всё-таки казалось, что он распоряжается так, словно его самого всё это не очень-то и касается, как будто он готов вскочить в поезд, который унесёт его туда, где уже сейчас находятся все его мысли.
Всё шло хорошо, всё было по плану, однако у многих было ощущение, что добром этот праздник не закончится. Последнее время в Городе нарастала антихристианская истерия, а сегодня в выносе знамён вместе с Лалитом участвовали ещё три христианина. Когда знамёна проносили через площадь, из толпы стали раздаваться оскорбления в адрес христиан. Последние вели себя спокойно, словно ничего не слышали. И вдруг толпа забурлила. Боевики Паранда выхватили тяжёлые палки и стали пробиваться к христианам, несшим знамёна. Это породило всеобщую суматоху. Далеко не все в Городе так уж сильно ненавидели христиан, но людей Паранда боялись все до единого, им никто не препятствовал.
Фанатики пробились к христианам и выхватили у них знамёна, началось безобразное избиение. Христиане не сопротивлялись, да и что они могли против десятков озверевших боевиков. Люди в толпе заметались, женщины визжали, казалось, каждый чувствовал себя в опасности, хотя все знали, что гнев фанатиков направлен только против христиан, но близость концентрированной ненависти порождает панику. Полицейские, кажется, только делали вид, что пытаются пробиться через толпу к месту избиения.
Толпа постепенно редела, люди разбегались и вот уже на площади остались только четыре распростёртых тела, тяжело дышащие фанатики и суетливо спешащие к ним полицейские. Сам Паранд в сегодняшнем избиении не участвовал, его подручный, руководивший акцией, презрительно глянул на полицейских, в растерянности остановившихся неподалёку. Некоторое время он рассматривал полицейских в упор, чтобы те не подумали, что люди Паранда могут бежать от стражей порядка. Потом спокойно сказал своим:
— Идём за город. Там собираются все наши.
Толпа на площади не очень-то поддержала фанатиков, потому что население, наиболее злобно настроенное к христианам, понемногу собиралось тем временем за городом.
— Христиане мертвы? — спросил Паранд своего подручного.
— Мои парни били так, что не выжили бы и слоны.
— Ты убедился в том, что они мертвы?
— Зачем?
— Болван. Возьми двух бойцов и идём в больницу.
— К тебе привезли христиан? — очень спокойно спросил Паранд главного врача. Самообладание и хладнокровие понемногу вернулись к нему, когда он перешёл к фазе активных действий. Теперь он опять чувствовал свою силу и свою власть, с презрением глядя на трепещущего врача, который еле смог выдавить из себя:
— Да.
— Не заставляй тянуть тебя за язык.
— Трое мертвы, один чуть жив.
— Лалит?
— Да.
— К нему.
В шикарной палате Паранд увидел Лалита, от тела которого тянулись какие-то провода и трубки к неведомым приборам.
— И ты смеешь лечить этого подлого предателя? — Паранд продолжал говорить очень спокойно, несколько даже иронично.
— Наша больница построена на деньги господина Лалита. — сказав это, врач сам ужаснулся своей смелости.
— Вот как? — усмехнулся Паранд. — Я не знал. Иначе давно бы уже сжёг вашу больницу, построенную не нечистые христианские деньги. Но, думаю, ещё не поздно.
— Смилуйтесь, господин, — врач упал на колени.
— А ты сам, случайно, не христианин?
— Нет, нет, что вы!..
— Ну так убей христианина, убей предателя Родины, — Паранд с улыбкой протянул врачу кинжал.
Врач взял кинжал на удивление спокойно, его лицо вдруг совершенно изменилось, он встал с коленей, как-то странно без страха посмотрел на Паранда и вдруг неожиданно резким движением вонзил кинжал себе в сердце.
Ироничная улыбка исчезла с губ Паранда. На несколько секунд он растерялся и даже почувствовал что-то похожее на страх, но самообладание быстро вернулось к нему. Пнув труп врача ногой, он перевернул его на спину, вытащил из груди кинжал и вонзил его в грудь Лалита, который так и не пришёл в сознание.
Богиня мести Кали в представлении её поклонников — обнажённая женщина с длинным, красным языком. Над толпою неслись дикие выкрики: «Женщины, подражайте великой богине Кали!». Многие женщины, уже накачанные наркотиками, стали срывать с себя одежду и начали трястись в диких экстатических танцах. Безумие понемногу охватывало толпу. Все скакали, дёргались, кричали, никто уже не помнил себя.
Паранд, стоявший в некотором отдалении со своим помощником, наблюдал эту картину без радости.
— Почему так мало людей? — проворчал он.
— Уже больше тысячи, — еле выдавил из себя помощник, хорошо знавший, чем заканчивается неудовольствие вождя.
— Мало, очень мало. — Паранд прошептал это уже без гнева и раздражения, о чём-то думая.
— Наши люди из окрестных деревень не успели подтянуться.
— Знаешь, что бывает с теми, кто опаздывает?
Помощник почувствовал, что всё его нутро наполнилось липким холодным ужасом, но вождь продолжал по-деловому:
— Сколько людей прибудет из деревень?
— До трёх тысяч, если не больше.
— Хорошо. Но если их будет меньше, ты пожалеешь, что родился. Когда самое позднее прибудут?
— Сегодня вечером, в крайнем случае — ночью.
— Хорошо. Да ведь и местные не все здесь. Город может дать ещё не меньше тысячи человек.
— Многие наши пошли на праздник, а оттуда разбрелись по домам, бараны.
— Ладно. Пусть веселятся. Сегодня на христиан не идём. Ты понял? Никто из наших сегодня не должен идти в квартал далитов. Когда подтянется деревенщина, эти уже перегорят. Толку не будет. Христиан мы сегодня не перебьем, а спугнуть можем. Всё начнём завтра утром. Сейчас этим выдай побольше сладости Кали, чтобы их никуда не тянуло. Пусть наши люди сегодня ещё поработают в городе, всех оповестят, что завтра утром каждый должен быть здесь. Дескать, намечается небывалое жертвоприношение. Когда прибудет деревенщина — накорми, размести, проследи, чтобы не разбредались.
Помощник не успел сказать, что всё будет в точности исполнено, как до них через рупор донеслись голоса полицейских: «Всем немедленно расходиться… немедленно расходиться…».
— Ещё эти идиоты, — злобно прошипел Паранд, и бросил помощнику: — Проследи, чтобы сегодня (на этом слове он сделал акцент) ни один полицейский не пострадал, а то как бы завтра сюда войска не стянули.
Не торопясь, вразвалочку приблизившись к группе полицейских, Паранд отозвал офицера в сторону и, зловеще улыбнувшись, спросил:
— Вам что-то не нравится, господин офицер?
— У нас приказ: предотвращать массовые беспорядки.
— Ну так предотвращайте, — усмехнулся Паранд.
— Господин Паранд, вы имеете большое влияние на этих людей. Вы, конечно, не откажетесь помочь силам правопорядка?
— Эти люди — настоящие патриоты Индии. Сейчас они славят великую богиню. Я повторяю свой вопрос, офицер. Что вам не нравится?
Офицер побледнел. Он понял, что его жизнь висит на волоске. Да и с какой стати он должен отдавать свою жизнь ради спасения ничтожных христиан? Начальнику полиции легко отдавать приказы, а дальше что? Полицию и так не любят, осталось только весь народ против себя восстановить. Он заискивающе обратился к Паранду:
— Мои парни, конечно, не хотят идти против народа. Мне кажется, господин Паранд, мы должны действовать согласованно, на благо всех граждан.
— Вот и хорошо, — улыбнулся Паранд. — Теперь слушай меня внимательно, офицер. Сегодня люди повеселятся и разойдутся. Только отошли бы твои парни подальше, а то, сам слышишь, уже раздаются угрозы в ваш адрес. Я сдерживаю людей, но не могу это делать до бесконечности. Сами не подставляйтесь. Где-то ближе к полуночи ты уже сможешь отрапортовать своему начальнику, что героически предотвратил беспорядки. А вот завтра с утра. Лучше бы тебе очень сильно заболеть, так же как и всем полицейским. Завтра я не смогу гарантировать вашу безопасность. Лично мне наплевать, будет ли здесь завтра полиция. Это ничего не изменит. Но если хотите жить, у вас два варианта: либо вы с нами, либо вы тихо сидите по домам. Мы не хотим конфликта с государством, но не остановимся ни перед чем. Твой начальник — старый дурак. Он не любит Индию. А патриоты не любят таких, как он. Если ты сегодня ночью передашь ему мои слова — вы оба не жильцы. А с утра говори, что хочешь.
— Спасибо, господин Паранд, — дрожащим голосом начал рассыпаться офицер. — Мы не против патриотов… мы с вами.
— Вот и хорошо, — усмехнулся Паранд.
В квартале далитов-христиан на улицах не было ни души. Все сидели под домам, а точнее — по подвалам. В одном из подвалов, который был просторнее других, командор Дмитрий Князев попросил собрать старейшин. Собралось полсотни человек. Князев начал просто:
— Мы — рыцари Христа. Мы пришли для того, чтобы защищать вас.
В подвале повисла гробовая тишина. Аплодисментов и радостных возгласов не последовало. Во взглядах старейшин чувствовалась настороженность. Наконец, один из них, сухонький старичок с редкой чёрной бородой, спросил:
— Откуда вы?
— А разве это имеет значение?
— Это верно, — с философическим спокойствием согласился старичок. — Теперь уже ничто не имеет значения, и ваше появление — тоже. Вас — несколько человек, а их будет несколько тысяч. Как вы сможете нас защитить?
— Мы сделаем всё возможное и, либо спасём вас, либо умрём вместе с вами.
— Ну, если вы хотите умереть, и то выбрали место очень удачно. Вскоре в этом квартале не останется живых.
Тут вскочил холёный мужчина лет сорока и истерично закричал:
— Хватит ломать комедию! Незнакомцы должны немедленно убраться от нас. С людьми Паранда ещё можно обо всём договориться, но если они узнают, что в нашем квартале прячутся вооружённые люди, тогда точно всех перережут.
— Вы не сможете ни о чём договориться с бесноватыми изуверами. Им нужна ваша кровь, вся до капли, — в голосе Князева зазвучали металлические нотки. — Вспомните сикхов. Пять тысяч убитых за три дня. Отчего же они не договорись с фанатиками?
— Незнакомец прав, — с места поднялся согбенный старец с длинной серой бородой. Кажется, его здесь считали за патриарха, все взгляды сразу же устремились на него. — появление этих людей никак не может нам навредить. С Парандом говорить не о чем, да и кто бы за это взялся? Но мы готовы принять смерть за Христа. Что может быть лучше мученической кончины? Я хочу спросить человека, именующего себя рыцарем Христа: почему он хочет лишить нас мученических венцов?
— Сколько у вас людей? — с болью в голосе спросил Князев.
— Около семи тысяч человек.
— И все до единого готовы умереть за Христа? И не найдётся слабых, которые перед смертью будут в отчаянии богохульствовать, готовые отречься от всего на свете, только бы выжить? Сколько христиан во время резни не спасут, а погубят свои души? Или вы не знаете, что мученическая смерть дана только святым? У вас — семь тысяч святых? Никто из них не станет перед смертью целовать ноги убийц, умоляя о пощаде, вместо того, чтобы славить Христа? А ваши жёны и дочери? Они готовы быть изнасилованными? И вы к этому готовы?
С мест понеслись возмущённые возгласы: «Да как ты смеешь?», «Кто дал тебе право?», «Кто ты такой?». Патриарх, не повышая голоса, спросил:
— Ты пришёл сюда для того, чтобы оскорблять нас?
— Я лишь хочу, чтобы вы посмотрели правде в глаза. Даже очень хорошие христиане не всегда готовы умереть за Христа. Даже первоверховный апостол трижды отрёкся. Тогда он не был готов умереть за любимого Учителя, а ведь как перед этим хвалился: «Если и все отрекутся, я не отрекусь». Не время ли нам сейчас вспомнить об этом?
— Незнакомец опять прав, — патриарх склонил седую голову. — Как тебя зовут, храбрый человек?
— Дмитрий.
— Сколько вас, Дмитрий?
— Шестеро. Должны пойти ещё две группы по пять человек, но не подошли и теперь уже не успеют. Не знаю, что с ними случилось. Мы всё равно примем бой. Шанс на победу есть. Каждый мой воин может стоить нескольких сотен, но дело даже не в этом. Мы со Христом! Победа приходит с Неба! Если Господь захочет, чтобы мы победили — так и будет.
Лицо патриарха озарила грустная светлая улыбка. Он подошёл к Дмитрию и обнял его. Все поняли, что с этого момента обсуждение прекратилось. Старец сказал, обращаясь к своим:
— Идите к своим людям и скажите, чтобы они неустанно молились за наших защитников. Эти рыцари — настоящие христиане, они готовы отдать за нас жизнь. Так и скажите.
Когда они остались вдвоём, патриарх сказал командору:
— Никто из наших не сможет сражаться вместе с вами. Ты должен это понять правильно. Никто из далитов ни разу в жизни даже не дотрагивался до оружия, и в бою толку от них не будет.
— Я понимаю. Только одна просьба: послать лазутчика к месту основного беснования. Мы должны владеть информацией.
— Лазутчик уже вернулся как раз перед нашим собранием. Сегодня нападения не будет. Что-то там у них не заладилось.
— Вы не могли бы отдать лазутчика в моё подчинение?
— Хорошо.
— И ещё. Погромщики, судя по всему, могут войти в ваш квартал только с юга. Очень просил бы ваших уплотниться и перейти в северную часть квартала, при этом не покидать подвалов.
— Сделаем. Дмитрий, неужели шанс на спасение действительно есть?
— Да, если погромщиков будет тысячи полторы, максимум — две.
Ожидания Паранда оправдались в полной мере. К ночи подтянулось более трёх тысяч поклонников Кали из ближайших сёл. Горожан к утру на поле собралось две тысячи с лишним. Такой силы они никогда ещё не собирали. Ни один христианин в Городе не увидит заката солнца.
Его людей достаточно, чтобы перебить всех до единого. Они тут же пойдут на другие города, чёрное пламя Кали охватит всю Индию. Родится новый мир, в котором Паранд станет пророком.
Жрецы уже начали понемногу разогревать толпу. Отовсюду звучали слова священных гимнов, прославляющих великую богиню:
— Она украшена ожерельем из человеческих голов, у неё длинные зубы!
— В нижней левой руке она держит отрубленную человеческую голову, в верхней левой руке она держит меч!
— На ней пояс из рук мёртвых тел!
— Её местопребывание — место сожжения трупов. Её окружают шакалы!
— Её лицо ужасающе, кровь стекает с уголков её губ![8]
Жрецы выкрикивали отдельные фразы гимнов, как призывы. Толпа понемногу приходила в экстаз. Здесь не только жрецы, но и все собравшиеся хорошо знали гимны Кали. И вот уже отовсюду неслось:
— Гирлянды из человеческих голов украшают её голову и шею!
— Ожерелья змей на её груди!
— Своей левой ногой она стоит на груди трупа, своей правой ногой — на спине льва, облизывающего труп!
Жрецы во всю бесновались, потому что уже приняли «сладости Кали». Всем остальным наркотика пока не давали, Паранд распорядился, чтобы «сладость» выдали непосредственно перед тем, как они выступят. А ещё надо совершить жертвоприношение Кали. Сегодня он всё рассчитал до мелочей — толпа не должна перегореть раньше времени. Пока ещё продолжалась «идеологическая подготовка»:
— Она черна, как грозовая туча!
— У неё высунутый, свисающий язык!
— Пучок её спутанных волос касается неба!
— Она пьёт вино из черепа!
— Мёртвые тела служат украшением для её ушей!
— Её громкий хохот наводит ужас!
Ближе к полудню в христианский квартал вернулся лазутчик — шустрый подросток, посланный на поле беснования ещё с утра.
— Сколько их хотя бы примерно? — спросил командор.
— Более пяти тысяч, господин.
— Ты не ошибся? — Дмитрий изменился в лице.
— Я очень хорошо считаю, господин, и я знаю, как пересчитывать людей в толпе. Мы все погибнем, господин?
— Да, — грустно улыбнулся Дмитрий. — Да, сынок, мы все погибнем. Их многовато. Не печалься. Может быть, уже сегодня ты будешь беседовать со святыми на Небе. Господь нас примет к себе, не сомневайся.
— Можно мне остаться с вами, господин? Я хочу погибнуть вместе с воинами.
— Да, сынок, конечно можно. Впрочем, у меня есть для тебя важное задание. Отправляйся обратно к толпе и внимательно следи за происходящим. Запоминай всё. Потом расскажешь об этом кому-нибудь из христианских священников. Мы вряд ли услышим твой рассказ, нам, видимо, суждено погибнуть. Впрочем, сначала убедись, что все мы мертвы. А потом ищи живого христианского священника. То, что я поручаю тебе, очень рискованно, но кто-то должен рассказать правду. А сейчас, извини, у нас будет военный совет. Иди с Богом.
Все тамплиеры слышали этот разговор, командор был избавлен от необходимости давать пояснения, а успокаивать своих было просто нелепо.
— Надо выбрать место, где мы встретим эту нечисть. Пойдём.
Они прошлись по улице, на которой сплошь стояли убогие лачуги со ставнями на окнах. Дмитрий внимательно осматривал каждое из этих хлипких деревянных строений. Когда они дошли до места, где друг напротив друга стояли два относительно крепких каменных домишки, командор сказал:
— Вот здесь. Очень хорошо. Слушайте внимательно, — обратившись к одному моряку-сержанту, Князев сказал:
— Засядешь в этом доме с «Гевером». Когда авангард толпы поравняется с окном, коси их длинными очередями. Два рожка — больше не надо. Ты, брат, — сказал он второму сержанту, — Когда первый отстреляется, ударишь по толпе с другого фланга, так же длинными очередями и так же только два рожка. Они не ждут нападения, их первой реакцией на стрельбу будет полная растерянность. Надо быстро менять ситуацию, чтобы они не успевали привыкнуть. Сначала с одного фланга стрельба, потом с другого, начнут метаться, давить друг друга, часть точно бросится назад, потопчет арьергард.
— Но часть, мессир, бросится вперёд, просто с перепуга, по случайности, — заметил брат Жан.
— Конечно, — по-деловому ответил Князев. — Я, Андрей и Али перегородим улицу. Так только братья сержанты с флангов отстреляются, мы пойдём во фронт с мечами. Будем рубить нечисть быстро, энергично, с огоньком, с задором.
— Вас сомнут не позже, чем минут через десять.
— Так и будет. Тем временем вы, господа сержанты, ударите врукопашную с флангов. Смысл этой тактики прост — ни в коем случае не давать им привыкнуть к ситуации, каждые несколько минут преподнося новый сюрприз и вызывая новую волну растерянности.
— Моя задача, мессир? — сухо спросил брат Жан.
— Самая ответственная. Первое. Заняв позицию на крыше этого дома, передать мне по рации о приближении противника. Во время бойни никак себя не проявляй. Ты должен оставаться в живых до самого финала. Когда увидишь, что никто из нас не шевелится, возьмёшь вот этот кейс, спустишься, привлечёшь внимание максимального числа погромщиков и нажмёшь вот эту кнопочку. Разнесёт всё в радиусе пятидесяти метров. Это будет точка.
— Вы не дадите мне возможности принять участие в бою?
— Я, как видишь, не пытаюсь спасти твою жизнь. Просто самое ответственное задание поручаю единственному, кроме себя, рыцарю в отряде. Погибнуть в бою легче, чем нажать кнопку. Так говорят люди, которые много повидали.
— И всё-таки всех нам не уничтожить, — задумчиво сказал брат Жан.
— Конечно. Улочка узкая, под наш молот попадёт только авангард. Мы положим максимум до двух тысяч, включая взрыв и тех, кого они потопчут сами. Когда всё стихнет, арьергард прочухается и кинется резать далитов. Из последних, может, кто-то и выживет, погромщики здорово выдохнутся на этой улочке, куража мы им поубавим. А из нас не выживет ни один. Вопросы есть?
Все молчали. Командор закончил:
— Храмовники не погибают. Они отступают в рай для перегруппировки.
«Весёлый праздник» за городом приближался к своей кульминации. Выкрикивание чудовищных гимнов сделало своё дело — толпа напиталась чёрной энергией разрушения. Паранд почувствовал, что пришло время для самого главного — жертвоприношения. Жрицы зарезали чёрную козу, собрали её кровь в чашу и торжественно поднесли поклоннице Кали — обнажённой женщине с мутными глазами и растрёпанными волосами. Все знали, что стоит ей выпить жертвенную кровь, как через неё начнёт говорить сама богиня. Призыв самой Кали к истреблению христиан — вот та искра, которая должна упасть в приготовленную бочку пороха.
Мутные глаза женщины понемногу наполнились диким огнём. Паранд почувствовал, что богиня уже вошла в неё.
— Что ты нам скажешь, великая мать? — как можно громче вопросил Паранд. — Что нам сделать с христианами? Поведёшь ли ты нас на последний бой?
Неожиданно лицо бесноватой исказила гримаса панического страха. Грубым, нечеловеческим голосом она в ужасе закричала:
— Не-е-е-е-е-т!!! В Городе — белые ангелы! У них в руках огромные мечи![9] Нам не справиться с ними.
Бесноватая вдруг села на землю, закрыла лицо руками и истерично завизжала:
— Спрячьте меня! Побыстрее спрячьте меня! Я боюсь, боюсь. Они уничтожат меня. Они белые, белые… они всех вас уничтожат.
Паранд стоял как громом поражённый. Никогда в жизни он не был таким растерянным. Неужели богиня отвернулась от него, предала, когда он был в двух шагах от величайшего могущества? Или богиня на самом деле слаба? Слаба, как все бабы! Так вот в чём дело. Ну что ж. Тогда ему не нужна такая богиня. Он! Сам! Бог! Он — воплощение Шивы! Но объявлять об этом — не ко времени.
Люди растерянно молчали, уже готовые расходится по домам. Никто из них не сомневался, что в женщину, выпившую жертвенной крови, вошла сама богиня Кали. И вот они увидели богиню в жалком, униженном, перепуганном состоянии. Что тогда ждать от них, простых смертных, если сама богиня боится?
Паранд чувствовал, что у него не больше минуты на то, чтобы спасти ситуацию. Срывающимся голосом он закричал:
— Эта подлая шлюха — тайная христианка. Она применила свою христианскую магию и не позволила богине войти в себя. Никаких ангелов нет, это христиане подговорили свою шлюху напугать нас. Но нас не напугаешь. Мы принесём новую жертву — настоящую. И мы услышим подлинный голос Кали. Приведите сюда лучшую из поклонниц богини.
Это до некоторой степени убедило людей, в толпе какое-то время шушукались, гудели, толкались, кого-то проталкивая вперёд. И наконец перед жрецами и Парандом появилась «лучшая поклонница» — с лицом, перекошенным ненавистью и без намёка на страх. Это понравилось Паранду, но на всякий случай он шепнул ведьме на ухо: «Одно только слово про ангелов и я вырву твоё сердце». Ведьма посмотрела на Паранда и презрительно усмехнулась, она явно не боялась ни людей, ни ангелов, ни самого вождя поклонников Кали. Паранд окончательно успокоился.
Быстро зарезали новую козу, ведьма жадно взахлёб выпила её кровь, так, как будто всю жизнь ждала этого момента. И тут… всё повторилось. «Великая богиня Кали» опять завопила насмерть перепуганным голосом: «Весь Город занят белыми ангелами с огромными мечами, они слишком сильны по сравнению с нами… бойтесь. расходитесь…».
Продолжить свою истерику она не смогла. Паранд выхватил саблю и раскроил ей череп. Дюжина гвардейцев Паранда так же выхватили сабли и встали за спиной у своего господина с клинками наголо. Теперь Паранд поверил, что в обеих ведьм действительно вошла богиня Кали, и что богиня действительно испугалась. «Ну что ж, — подумал он, — значит я, бог Шива, разведусь со своей трусливой женой Кали. Я сражусь, если надо, с Вишну и Брахмой разом, не то что с какими-то там ангелами».
Но люди хорошо слышали, что сказала Кали, они сразу же начали расходится, а иные и разбегаться. Паранд орал: «Всем верным — остаться! Я сам поведу вас на христиан!». Но основная масса людей теперь уже не обращала на него никакого внимания, толпа стремительно редела. И всё-таки многие остались. Из членов организации Паранда ни один не покинул своего господина. Эти люди давно уже не принадлежали себе. Каждый из них знал, что, покинув Паранда, они не проживут и суток. Верных осталось около семисот человек. Окинув взглядом свою гвардию, Паранд крикнул: «Вперёд, на христиан! Очистим нашу землю от этой заразы! Вас поведу я — бог Шива!».
Рация на поясе Князева ожила:
— Мессир, вы слышите меня?
— Говори, брат Жан.
— Они идут.
— Конец свя.
— Подождите!
— Что ещё?
— Их меньше тысячи. Пожалуй, не больше восьмисот человек.
— Не может быть. Куда же подевались ещё 5 тысяч человек?
— Говорю о том, что вижу.
— Вас понял, брат Жан. Конец связи.
Сержанты, вооружённые штурмовыми винтовками, были уже на позициях. Рядом с командором стояли только Сиверцев и Али. Они услышали разговор по рации и радостно заулыбались. Князев сурово глянул на них:
— Ничего не изменилось. Пусть никто не надеется выжить. Под наш удар попадёт не авангард, а весь их отряд, но в этом отряде — отборные бесноватые головорезы. Не знаю, что там произошло, но если уж 5 тысяч человек по неведомым причинам разбежались, значит оставшиеся — отъявленные нелюди. Молитесь непрерывно, братья. Всё. К бою.
Втроём они встали поперёк узкой улочки, полностью её перегородив. Ветерок слегка развевал белые плащи. В правой руке каждый держал обнажённый меч. Али в последний момент тоже захотел драться не кривой саблей, а тамплиерским мечём. В левой руке они держали кинжалы.
Паранд шёл впереди отряда в окружении гвардейцев с обнажёнными саблями. Холодное оружие было только у них, остальные погромщики были вооружены палками, стальными прутьями и камнями. А, вот они — «белые ангелы». Думают перегородить им дорогу. Трое. Смешно. Но Паранд не успел посмеяться. Ставни в доме напротив них распахнулись, из окна послышался грохот длинных очередей.
Погромщики ошалело озирались, падали один за другим, но ни один из них не бросился назад. Паранд мгновенно распластался по земле, он довольно быстро сообразил, что надо ползти «под огонь», к стене того дома, из которого их поливали свинцом. Многие последовали его примеру — они привыкли повторять каждое движение вождя. Но основная масса так и не смогла стряхнуть с себя оцепенение, продолжая падать и не понимать, что происходит. Кто-то рванул вперёд, на «белых», которые не трогались с места. Те, кто пошёл в прорыв, были зарублены мечами.
Через пару минут огня к Паранду вернулась способность приказывать, он заорал: «Все на эту сторону». Погромщики повиновались, огонь прекратился. И тут распахнулись ставни дома на противоположной стороне улицы. Отползая на эту сторону, они превратили себя в идеальную мишень для второго стрелка с противоположной стороны. В какие-то секунды упало несколько десятков человек. Паранд дико зарычал от бешенства, но даже тут он не утратил самообладания и по-пластунски пополз обратно. Он даже не заметил, что пуля прошила его левую руку. Через некоторое время очереди смолкли, оставив на земле больше сотни неподвижных и корчащихся тел. Паранд осмотрелся. Из его парней не побежал ни один. Он вскочил на ноги, но опять не успел ничего скомандовать. Три страшных белых фигуры надвигались на них с непонятными громкими выкриками: «Деус вульт! Деус вульт! Рух Аллах акбар!».
Началась рукопашная, а точнее — бойня. Никто из людей Паранда не был готов к схватке — они шли избивать безоружных, не имея ни боевых навыков, ни оружия — с палками трудно противостоять мечам. Каждый взмах этих страшных клинков ложил на землю двух-трёх погромщиков. Уже несколько сотен тел устилали улицу. И всё-таки люди Паранда не бежали, пытаясь даже с палками бросаться на «ангелов». Один навык у них всё-таки был — неукоснительно выполнять распоряжения вождя. А Паранд, жмущийся у стене, непрерывно орал: «Бейте! Бейте! Бейте!».
Рядом с Парандом прилипли к стене пятеро гвардейцев, остальные уже полегли под пулями и мечами. Гвардейцы привыкли с надёжностью хороших машин повторять то, что делает вождь, и сейчас они, как и он, под мечи не лезли.
Бой понемногу продвигался назад по улице, «белые» теснили толпу, оставляя за собой ковёр из мёртвых тел. Хлестали фонтаны крови. Впервые в жизни вид крови не радовал Паранда. И вот на его лице появилась искажённая маска радости. Бойня продвинулась мимо них, «белые», сосредоточившись на толпе, не обратили внимания на тех, кто прилип к стене, и теперь Паранд видел их спины. Он оторвал себя от стены, гвардейцы последовали его примеру. Вшестером они набросились на атакующую тройку. Одного «белого» сам Паранд зарубил первым же ударом сабли — никакой он оказался не ангел. Двое других, однако, в последний момент почувствовав нападение с тыла, успели извернуться и отразить сабельные удары. Два гвардейца сразу же упали. Один «белый» вновь обернулся лицом к толпе, второй остался в одиночку против четырёх сабель. «Белые» дрались теперь спиной к спине. Гвардейцы Паранда умели фехтовать, но меч белого мелькал в воздухе, словно кровавая молния, успевая отражать все удары. Неужели и правда ангел?
Паранд заметил, что с флангов толпу атакуют ещё двое «белых». Видимо, стрелки из домов вылезли. Но вот один из них упал. На ногах оставалось не больше сотни погромщиков, но трое уцелевших «белых» уже явно теряли силы. Упал ещё один гвардеец. Это уже ничего не решало. Отбивавшийся от гвардейцев «белый» больше не имел сил атаковать и перешёл к обороне, которая с каждой минутой слабела. А поредевшую толпу так и не удалось заставить бежать. Она понемногу обтекала схватку и теперь уже «белые» бились в окружении. Паранд опустил саблю — без него закончат.
И тут произошло нечто неожиданное. С тыла на его людей набросились откуда-то взявшиеся пять воинов — они не были «белыми», но принадлежали, видимо, к той же кампании. Вновь прибывшие сражались кривыми саблями, их ярость была столь стремительна, что несколько десятков погромщиков полегли за минуту. От огромной толпы в семьсот человек уже ничего не осталось.
Паранд в оцепенении замер с обнажённым клинком, уже не присоединяясь к схватке. Всё было кончено. Добивали последних его людей. И тут он почувствовал укол в спину. Вяло обернувшись, он увидел откуда-то взявшегося ещё одного «белого». Одежда его была чиста и не запятнана кровью. Меч тоже чистый. «Он сегодня не сражался», — это было последнее, что в своей жизни подумал Паранд, повалившись на землю с раскроенным черепом.
С самого начала боя Андрей ничего не помнил. Позднее, напрягая память, он смог извлечь из неё лишь какие-то отрывочные образы: искажённые страхом и ненавистью лица, вкус крови на губах, отлетающие в сторону отрубленные руки и… ощущение лёгкости. Орудовать тяжеленным мечём было удивительно легко, казалось, что меч управляет им, ведёт в гущу врагов. Меч словно стал не только невесом, но и разумен. Когда бой закончился, он едва держался на ногах, но сам этого не осознавал, ему казалось, что он может ещё горы своротить. Если бы бой продлился ещё минут 15, он просто упал бы без чувств.
Потом рассказали, как он, шатаясь подошёл к командору и затараторил:
— Мессир… надо срочно атаковать соседние кварталы… там ещё много этих изуверов… их надо уничтожить… всех до единого, — лицо его было искажено до неузнаваемости.
— Андрей, вложи меч в ножны, — спокойно сказал Дмитрий.
— Нет, нет, мессир… рановато… бой не закончен… разве вы не понимаете?
Дмитрий понял, что его друг не в себе, он медленно и осторожно взял его за руку, в которой Андрей сжимал меч, и попытался разжать пальцы, сомкнутые на рукоятке. Пальцы не разжимались, хотя Андрей не сопротивлялся. Он перестал бормотать и с удивлением смотрел то на командора, то на собственную руку. Князев понял, что сведённые судорогой пальцы легче сломать, чем разжать. Он бросил, ни к кому не обращаясь:
— Дайте медицинский спирт.
Извлекли откуда-то пузырёк, налили в походный стаканчик.
— Выпей, — громко и отчётливо скомандовал Князев, пристально глядя Сиверцеву в глаза.
— Это водка? — скривился Андрей.
— Стал бы я предлагать русскому офицеру водку. Это чистый спирт.
Андрей усмехнулся и залпом выпил. Через минуту он весь обмяк, меч сам выпал из руки, он сел на землю и снова начал бормотать:
— Вы не понимаете… бой не закончен.
Семьсот человек были вырезаны поголовно. Командор окинул взглядом улицу, заваленную трупами, и прошептал:
— Мы не хотели этого.
В лесу хоронили павших — Али и сержанта-моряка. Али похоронили по-тамплиерски, завёрнутым в белый плащ, лицом вниз. Князев сказал над его могилой:
— Это был очень чистый и возвышенный юноша. Мне кажется, в своём последним бою он уже был христианином. До встречи, Али.
Брат Жан сказал над могилой сержанта:
— Он был настоящим тамплиером. Мечтал стать рыцарем. Убеждён, что его мечта сбылась. Он стал рыцарем.
Неподалёку сложили костёр. Аккуратно положили на него окровавленные лохмотья своих белых плащей и некоторое время сидели молча вокруг костра. Никто не хотел говорить. Лица у всех были мрачные и сосредоточенные. Наконец Князев выдавил из себя, обращаясь к командиру пятёрки тигров, которые прибыли в последний момент боя:
— Вы спасли нам жизнь.
— Если бы мы прибыли вовремя, вашу жизнь не пришлось бы спасать. Мы очень виноваты.
— Это так, — отрешённо и без гнева сказал Князев. — Со своих за опоздание на сутки я содрал бы три шкуры.
Потом командор посмотрел на брата Жана, по лицу которого пробегали нервные судороги:
— Прости, брат Жан, что лишил тебя участия в бою, но ведь ты понял, что иначе было нельзя. К тому же именно ты прикончил лидера фанатиков.
— Вовсе не для того, чтобы «принять участие». Я видел, что он может уйти, а этого нельзя было допустить. Я спустился только тогда, когда стало очевидно, что бой выигран.
Было понятно, что моряк сильно страдает, хотя ни за что не скажет об этом. Нелепо как-то воину показывать себя мальчишкой, которому не дали «поиграть в воину». И всё-таки Андрей, поставив себя на его место, ужаснулся трагичности той роли, которую играл морской рыцарь. Он должен был из безопасного укрытия спокойно наблюдать за тем, как один за другим падают его братья, как оставшихся окружают и вот-вот затопчут, а потом выйти и нажать кнопку. Годы боевой подготовки — для того, чтобы нажать кнопку.
Сам Андрей оправился от шока очень быстро. Теперь ему стыдно было за свою истерику, которую он смутно припоминал. Но ни командор, ни братья не единым словом не упрекнули его. И то сказать — после такой бойни даже у опытных рубак могла крыша съехать, и не на час, а навсегда. Он же чувствовал сейчас лишь смертельную усталость и абсолютную опустошённость, но в общем-целом был в форме.
Не так Андрей представлял себе победу над изуверами. Он полагал, что когда они спасут жизни тысяч христиан, у всех на душе будет праздник, но на лицах отражались только мрак, пустота и страдание. Да. Одно дело выстраивать теории по поводу «священной войны», а другое — её вести. Как можно радоваться тому, что улица в квартале далитов сейчас завалена трупами?
Командор подвёл итоги:
— Мы недооценили противника. Планируя операцию, я даже мысли не допускал, что толпа, вооружённая палками и стальными прутьями продержится против мечей более десяти минут. Весь расчёт строился на том, что они побегут и начнут давить друг друга. Так и было бы, если бы мы имели дело с обычной беснующейся толпой. Было бы даже лучше, если бы их пришло на тысячу больше — значительное количество людей в толпе, запаниковав, создало бы больше проблем своим, чем нам. Но пришли одни только законченные зомби, не способные поддаваться панике. Не стал бы ими восхищаться. Их стойкость не имеет ничего общего с сознательным боевым мужеством. Люди с такой степенью забесовлённости не испытывают страха лишь постольку, поскольку не испытывают вообще никаких человеческих чувств. Это ходячие мертвецы. У них почти полностью отсутствует личная воля, их телами управляют бесы. Думаю, высший смысл был именно в том, чтобы под наши мечи попали только те, кому уже нечего делать на земле, а не соблазнённые изуверами крестьяне с душами ещё живыми. Все мы сейчас немного не в себе, но надо возвращаться в себя. Сейчас молиться будет особенно трудно, но совершенно необходимо.
Вскоре после окончания боя, когда они были ещё на той страшной улице, к ним приплёлся весь избитый тигр из второй пятёрки — единственный уцелевший. Тогда командор просто кивнул, увидев тигра, сейчас пришло время его выслушать.
— Что с вами случилось? — спросил Княев.
— Сначала всё шло нормально, — начал тигр. — Без больших проблем отбили нападение на монастырь, который вы велели защищать. По душам поговорили с местным священником и хотели уже отправляться в Город. Но перед тем, как прощаться, священник рассказал страшную историю. В селе неподалёку с неделю назад жрец богини Кали отправился со своей 12-летней дочерью в Город, якобы для того, чтобы купить учебники к новому учебному году. Но вернулся домой один, без дочери и на расспросы жены не ответил ничего вразумительного. А в тех краях ещё год назад два жреца Кали похитили и обезглавили восьмилетнюю девочку, принеся её кровь в жертву богине. Выводы о судьбе дочери этого жреца напрашивались сами собой. Ночью мы прокрались в село, тихо похитили жреца и велели вести нас туда, где находится его дочь, живая или мёртвая. Она была мёртвая… с выбритой головой, вся изрезанная, повсюду были следы омерзительных ритуалов. Увидев всё это, мы просто потеряли голову. Жреца зарубили на месте, над трупом его дочери, и пошли громить храм Кали. Ворвались туда, рубили саблями всех подряд. Вокруг храма сразу же собралось чуть ли не всё село, в бешенстве они набросились на нас, защищая своё капище. Им было мало дела до судьбы принесённых в жертву детей. Короче, наших перебили, я чудом остался жив — от сильного удара по голове потерял сознание, меня приняли за мертвого. Это всё.
И без того не сильно радостные лица тамплиеров и тигров перекосила гримаса боли, но никто не проронил ни слова. Князев глухо заговорил:
— Вы поняли, братья, с кем мы тут сражались? Сказать, что это не люди, значит не сказать ничего. Но ваших, — он обратился к выжившему тигру, — это не оправдывает. Если бы вы были людьми Ордена, вы бы уже не были людьми Ордена. Действовали без приказа, по своему разумению бросились восстанавливать справедливость. А вы знаете, к чему мог привести ваш благородный порыв? К новому витку гонений на христиан. До тех пор, пока мы только отбивали нападения, не посягая на их поганые капища, мы сбивали накал гонений. В следующий раз они так раскрутятся не раньше, чем через несколько лет. Но если будет разрушен хоть один из храмов Кали, думаю, вскоре в Индии не останется ни одного живого христианина. Правильно ли будет покинуть Индию, спровоцировав новые злодеяния против христиан? Хорошо ещё, что вас перебили. Надеюсь, хранители капища удовлетворили этим свою злобу.
Князев обратился к командиру запоздавшей пятёрки:
— Надеюсь, за вашими ничего в этом роде не числится?
— Нет, господин. Мы опоздали, потому что заблудились. Но если бы мы оказались на месте братьев, боюсь, поступили бы точно так же.
— Извольте воевать с такими «героями», — по-отцовски проворчал Князев.
В этот момент брат Жан, глядя себе под ноги и не поворачивая головы к командору, прошептал:
— Мессир, из-за деревьев за нами кто-то следит…
Князев встал и громко сказал:
— Кто бы ты ни был, тебе лучше подойти к нам.
Дмитрий надеялся, что после этих слов незнакомец побежит, то есть проявит себя, и они без труда его догонят, но незнакомец и правда направился к ним. Это оказался тот самый мальчонка-далит, которого командор перед боем послал смотреть за толпой фанатиков. Дмитрий выдохнул:
— Сынок, я просил тебя шпионить за поклонниками Кали, а не за нами.
Тамплиеры и тигры заулыбались. Лазутчик смущённо пробормотал:
— Господин, я не хотел подходить сразу же, чтобы вас не напугать.
— Спасибо, сынок, что поберёг наши нервы, — Дмитрий обнял мальчика за плечи. — Ну, давай, рассказывай, что там произошло на поле? Почему разбежались 5 тысяч человек?
Лазутчик рассказал о том, как жрицы Кали предостерегали от нападения на христиан, пугая всех «белыми ангелами». Лица воинов просветлели.
— Возрадуемся, братья, тому, что Господь был с нами, — торжественно провозгласил командор. — Господь уберёг от наших мечей случайных людей, поддавшихся массовому психозу. Господь Сам рассеял основные силы врага и дал нам возможность спасти христиан. А мы, значит.
Дмитрий вдруг сбился с торжественного тона и жизнерадостно расхохотался:
— Ну что, ангелы вы мои отмороженные. Думаю, мы с вами заслужили по глотку спирта? Пацану не наливать.
Командор дал своему послушнику отпуск. Сам вернувшись с Секретум Темпли, он предложил Андрею пожить некоторое время в деревне Шаха.
Только покинув Индию, Сиверцев по-настоящему ощутил, насколько разрушительным для его души было напряжение этой боевой операции. Первую неделю после бойни в Городе, Андрей совсем не хотел молится. Даже несколько слов молитвы, буквально выдавленные из себя с трудом, порождали в душе лишь глухое раздражение, даже протест. Всё в нём противилось чистым, прозрачным и ясным словам, обращённым к Богу. Он ставил себя на молитву, как на боевое дежурство, боролся с собой, понимая, что из этой мути надо выгребать, а иного пути нет.
Постепенно на душе становилось светлее. Он теперь много улыбался, в чём ему весьма помогали улыбчивые тигры. Они были такими мирными здесь, у себя в деревне. Андрей с удовольствием посещал все богослужения в Каабе Христа, бродил по горам — любовался окрестностями, разминался. Читал всё, что под руку попадётся — без цели и без смысла. Так продолжалось дней десять. А потом он почувствовал, что к нему вернулась потребность внутреннего движения, развития, познания. Ведь он находился в окрестностях Аламута, на землях средневековых ассассинов. Точнее — измаилитов. Ещё точнее — низаритов. Он захотел, чтобы всё стало точнее точного. Пора было разбираться с этой гранью исламской цивилизации.
— Кто такие измаилиты? — задумчиво обронил Шах. — Думаешь, они сами это знают?
— Однако, мы должны это знать, господин. Если потребуется — лучше, чем они сами.
Шах грустно улыбнулся:
— Ты обрёл Истину. Зачем тебе копаться в древних заблуждениях?
Андрей несколько раз молча кивнул, явно не соглашаясь с собеседником, но давая ему понять, что вопрос правомерен. Потом начал ронять:
— В Индии, господин, мы не копались в заблуждениях. Умывались в крови тех, кто заблуждается. Ничего хорошего в этом не было. Как-то, знаете ли, хочется теперь противоречия с иноверцами хотя бы пытаться снимать на уровне теории. Не знаю, с кем предстоит сражаться завтра. Хотелось бы хорошо представлять, кто предо мной — служитель демонов или человек, который поклоняется нашему Богу, хотя и делает это наперекосяк. Заблуждения заблуждениям — рознь.
— Да, наверное, ты прав, — в свою очередь закивал Шах. — Ну что ж, давай разбираться. Ты знаешь, что шииты признают власть в исламе только за потомками Мухаммада через его дочь Фатиму и зятя — Али. Двенадцать первых потомков, начиная с Али, по мнению шиитов — имамы, очищенные от греха и в силу этого обладающие истиной. Двенадцатый имам — Махди не умер, но скрылся и вернётся в последние времена. Так мыслят шииты-двунадесятники. Так вот измаилиты признают только первых шесть имамов, седьмого они не признали.
— Кажется, все богословские различия между направлениями ислама вытекают из вопросов наследования власти. Похоже, кроме земной власти этих возвышенных людей вообще ничего не интересует.
— Это так, но различия между мусульманами, начинаясь с вопроса о наследовании власти, позднее всегда выходили за рамки этого вопроса и становились куда более существенными. Так же и с разницей между шиитами-двунадесятниками и измаилитами.
Так вот, у шестого имама, Джафара ас-Садика, был наследник — Измаил, который должен был стать седьмым имамом. Джафар объявил Измаила умершим и назначил своим наследником Мусу аль Казима, который и стал в своё время седьмым имамом. В качестве такового Мусу признали почти все шииты, кроме группы сторонников Измаила. Иные говорили, что Измаил не умер, находились утверждавшие, что видели Измаила живым после объявления о его смерти. Джафар продолжал настаивать на том, что его сын Измаил мёртв. Многие будущие измаилиты отвернулись от Джафара. Другие, впрочем, не перестали уважать Джафара, считая, что он объявил о смерти сына, чтобы защитить его. Третьи верили, что Измаил умер, но заявляли, что власть в этом случае должна была перейти к сыну Измаила — Мухаммаду, а не к брату Джафара — Мусе. При всех своих разногласиях будущие измаилиты были едины в одном — Муса не является законным седьмым имамом. В 765 году измаилиты обособились от шиитов-двунадесятников.
— Значит, измаилиты это те, кто признаём законным седьмым имамом Измаила?
— Нет, нет так. В вопросе о седьмом имаме у них нет ясности. Личность Измаила, дав название течению, тут же отошла на периферию. Были те, кто объявил Измаила скрытым имамом — Махди, но большинство измаилитов признали таковым не его, а его сына — Мухаммада ибн Измаила. Дескать, Мухаммад отправился в Персию, а потом исчез — скрылся от человеческих.
— Итак, Мухаммад ибн Измаил — седьмой скрытый имам, Махди, который вернётся в конце времён? Если так, то это фактически стирает разницу между шиитами-двунадесятниками и измаилитами. Какая разница какого имама ждать из сокрытия — седьмого или двенадцатого? Когда придёт, тогда и назовёт свой номер, если на тот момент это ещё будет иметь значение.
Шах тяжело вздохнул:
— Европейцу трудно расхлебать кашу внутриисламских разногласий. При всём своём хвалёном рационализме, Восток не склонен к созданию последовательных, логичных или хотя бы просто внятных богословских систем. Для большинства мусульман это просто не имеет значения, а потому шиитские и измаилитские мудрецы могут богословствовать как захотят, и это не приведёт к распаду движения. Ты говоришь, какая разница — ждать 7-го или 12-го? А им без разницы, есть ли разница. Они говорят — ждём «седьмого совершенного», и все сунниты с шиитами могут быть свободны. Одни измаилиты говорили, что седьмой совершенный придёт в день Страшного Суда и будет судить живых и мёртвых. Другие утверждали, что седьмой совершенный уже пришёл, но пока не может открыться. И пришёл он не для того, чтобы устроить Страшный Суд, а для того чтобы «наполнить землю справедливостью». Не у всех хватает терпения ждать Страшного Суда, жить хорошо хочется здесь и сейчас. У европейских христиан такое глобальное расхождение в доктрине тут же привело бы к распаду на обособленные религиозные группы, а для измаилитов это как бы не имеет значения. Махди уже пришёл или Махди придёт через тысячу лет — какая разница? Махди будет править землёй или Махди уничтожит землю — неужели это важно? А вот «седьмой» или «двенадцатый» — это важно до чрезвычайности, потому что говорящие «седьмой» — свои, а говорящие «двенадцатый» — чужие. У них есть богословие, разница между толками ислама не сводима к разным представлениям о наследовании власти, но любое богословское различие начинает по-настоящему волновать их только тогда, когда запахнет властью. Ранний измаилизм можно свести к утверждению: «Седьмой совершенный — наследник шестого имама Джафара». А кто этот «седьмой», когда он придёт (или уже пришёл) и в чём будет смысл его появления. Думаю, у трёх измаилитов было семь мнений. Из этой путаницы могло вырасти что угодно. И как ты думаешь, что выросло?
— Не иначе — государственный переворот.
— Ну вот, ты уже начинаешь понимать. Так и было. В 909 году некий Убейдаллах объявил, что он есть скрытый имам, решивший явить себя миру.
— Убейдаллах утверждал, что он — Мухаммад ибн Измаил, живущий на земле уже без малого два века?
— Нет, он не стал так дурачиться. Убейдаллах просто представил родословную (липовую, конечно), согласно которой он — прямой потомок Мухаммада ибн Измаила.
— Позвольте-ка, позвольте. Ведь из этого заявления следовало, что Мухаммад ибн Измаил не был Махди. И Убейдаллах не был седьмым совершенным уже потому, что между ним и ибн Измаилом протянулась цепочка имамов. А ведь измаилиты ставили именно на седьмого и получается, что Убейдаллах фактически отменил измаилизм.
— Ты опять перестал понимать. Убейдаллах фактически создал измаилизм, как политическую реальность, а какая реальность ещё интересовала измаилитов, кроме политической? То, что он перечеркнул богословие измаилизма не сильно волновало измаилитов, которые вполне привыкли к тому, что их учение — каша из самых разнообразных и противоречивых мнений.
— И все измаилиты признали власть Убейдаллаха в качестве имама?
— Были недовольные, например, карматы, продолжавшие ожидать пришествия Мухаммада ибн Измаила. Но что такое была горстка отщепенцев-карматов, конфликтующих со всем миром, по сравнению с могучей державой, которую создал Убейдаллах — Фатимидским халифатом. В их мире любая богословская реальность обречена на исчезновение, если не сможет стать реальностью политической. Это христианская Церковь могла сохраняться и активно развиваться в первые три века своего существования, не смотря на то, что не только не имела власти, но и постоянно подвергалась гонениям со стороны последней. А в мире ислама, если у тебя нет власти, твоё богословие никому не интересно, твои идеи вряд ли переживут тебя самого. А если у тебя есть власть — богословствуй как хочешь — имеешь право.
Итак, Убейдаллах и его наследники создали новую державу в Северной Африке, захватили Египет, построили город-сад Каир. Измаилитская династия в Египте приняла имя Фатимидов по имени дочери пророка — Фатимы.
— А почему — Фатимы? Она фигура знаковая для всех шиитов и никогда не была знаменем собственно измаилитов.
— Понятно, почему они не выпячивали имя Измаила или его сына Мухаммада. Ведь если ни один из них не Махди, то они рядовые фигуры в череде имамов, ничем не интереснее того же Убейдаллаха. Последний даже интереснее, потому что он создал державу, а они — нет. Приняв имя Фатимы, измаилиты желали, очевидно, подчеркнуть своё родство с остальными шиитами. Но почему именно Фатимы, женщины, а не Али, который был первым имамом? В этом их трудно понять.
— Когда измаилиты облекли себя в политическую форму Фатимитского халифата, у них появилось своё более или менее разработанное богословие?
— И да и нет. Основная идея измаилитов заключается в следующем. Миром правит череда Говорящих и Скрытых имамов, которые, по милости Аллаха, всегда пребывают на земле. Обрати внимание — «скрытый имам» обрёл форму множественного числа, то есть утратил свою исключительность. Все имамы от Мухаммада ибн Измаила да Убейдаллаха были «скрытыми», что не мешало им умирать, в отличие от Махди. Так вот имам, по мнению измаилитов, это воплощение метафизической души вселенной и потому обладает божественной природой. Только имам способен открыть внутреннее значение Корана. Имама часто именуют говорящим Кораном.
— Ну что же, вполне внятное богословие.
— Да ты пойми, что это не богословие. Это не есть сумма утверждений, обязательных для всех приверженцев учения. Здесь обозначен лишь способ постижения истины, а не сама истина. Ведь получается, что каждый новый имам может делать какие угодно утверждения, каждый раз новые. Это означает, что измаилизм не есть некое стабильное, зафиксированное учение. Он может оборачиваться чем угодно. У измаилитов в порядке вещей индивидуальный поиск истины — почему нет, если неизвестно, что есть измаилизм.
— К слову сказать, «метафизическая душа вселенной» — идея не исламская.
— Конечно, совершенно не исламская. Измаилизм вобрал в себя и греческий неоплатонизм, и индийским мистицизм, и много чего ещё, причём этот смысловой ряд разомкнут.
— Выходит, учение измаилитов в том, что никто не знает, чем станет их учение завтра?
— Где-то так. Поэтому удобнее говорить не про учение измаилитов, а про их религиозное лицо. Это лицо обладает ярко выраженной индивидуальностью. Измаилиты никогда не сводили свою веру к соблюдению определённых норм поведения, они предлагали верующим впечатляющие образы и картины. Измаилизм открывал религиозному воображению целый экзотический мир, предлагая мистику — то, чего так не хватает исламу. Шиизм вообще богат мистикой, но традиционный шиизм удерживает себя в рамках ислама. Измаилизм сломал эти рамки. Это уже не ислам, хотя внешне, порою, очень похоже.
— А низаризм?
— О, если бы низаризм существовал, я бы с удовольствием объяснил, что это такое.
— Низариты есть, а низаризма нет?
— А тебя это всё ещё удивляет? Как ты думаешь, появились низариты?
— Опять власть не поделили?
— Именно. Возник очередной спор о наследовании власти — никаких идейных расхождений. В 1094 году умер фатимидский халиф ал-Мустансир. У него было два сына. Старшему, Низару, на момент смерти отца было около 50-и. Он был официально объявлен наследником и готовился стать 19-м имамом. Младшему брату, ал-Мустали, был 21 год. И вот главнокомандующий ал-Афдал, человек, обладавший реальной силой, объявил халифом юного и удобного ал-Мустали, проигнорировав права Низара. Низар бежал в Александрию с целью поднять восстание, но вскоре был схвачен и казнён. Многие измаилиты отказались признать имамом ал-Мустали. Говорили, что имамат перешёл к сыну или внуку Низара, тайно вывезенному из Египта и воспитанному в Аламуте Хасаном ас-Саббахом. По другой версии, Низар не был казнён и укрылся в Аламуте.
— Значит, знамя Низара подхватил Хасан ас-Саббах?
— А было что подхватывать? Мне кажется, имя Низара осталось в истории религии лишь потому, что его незаконно лишили престола, и некоторым низаритам было удобно усмотреть в этом повод для неповиновения. А иначе он просто стал бы очередным и ничем не примечательным фатимидским халифом. Джеймс Вассерман, автор очень толковой и грамотной книги о низаритах, на сей счёт, тем не менее, написал нелепицу: «После смерти Низара, последовавшей в 1095 году, Хасан ас-Саббах непосредственно участвовал в развитии и распространении учения о наследии Низара». Хасан решительно не нуждался ни в самом Низаре, ни в каком-то учении о его наследии. Достаточно вспомнить, что Хасан захватил Аламут в 1090 году, то есть за пять лет до того, как из Низара сделали сначала терпилу, а затем — знамя неповиновения. Даже если бы Низар стал халифом, и никаких «низаритов» не появилось бы, Хасан в точности так же продолжал бы создание своей горной империи, не обратив на личность фатимидского халифа решительно никакого внимания. Конечно, незаконное лишение Низара власти дало Хасану повод объявить о своём неподчинении Каиру, но даже в этом поводе он не сильно нуждался. Неприступная горная империя Хасана, к тому же лично им созданная, в любом случае фактически не подчинялась бы Каиру. Вот и всё, что стоит за разделением измаилитов на мусталитов и низаритов.
— Но всё же вряд ли между двумя направлениями измаилизма не было вообще никакой разницы на уровне учения.
— Разница, конечно, была, но вызванная отнюдь не спорами о личности 19-го имама, а скорее арабо-персидскими противоречиями. Измаилизм, укореняясь на разных почвах, арабской и персидской, вбирал в себя свойства этих почв. Персидский измаилизм вобрал в себя очень многое из местных верований, например, почитание священных камней, веру в переселение душ и так далее. Всё это было совершенно чуждо египетским измаилитам-мусталитам.
— А ведь, к слову сказать, христианство, распространяясь на разных национальных почвах, тоже вбирало в себя местные черты.
— Да, но только на уровне внешних традиций и обрядов, и никогда на уровне учения, доктрины. У христиан учение очень чётко сформулировано, и они ревностно следят за его чистотой. Поэтому и арабские, и русские, и греческие, и грузинские, и прочие православные, несмотря на огромную разницу в национальных традициях и в ментальности, исповедуют в точности одно и то же учение вплоть до запятой. Так же и в нашем братстве ты видишь внешнее обрядовое следование местным традициям при точном следовании православной догматике. Другое дело — измаилизм, который никогда не имел чётко сформулированной религиозной доктрины, и на персидской почве начал перенимать не просто обряды и традиции, а сами идеи, верования.
— А в чём своеобразие лица измаилитов-мусталитов?
— А нет ни своеобразия, ни лица, потому что нет и самих мусталитов. После раскола на низаритов и мусталитов Фатимидский халифат не просуществовал и ста лет, уничтоженный Саладином. А в исламском мире, как мы говорили, учение, не подкреплённое властью, очень быстро умирает. Если ты потерял власть, у тебя не будет сторонников, твои мысли никого не заинтересует, и твоя вера вскоре умрёт.
Между тем, Хасану ас-Саббаху удалось создать небольшую, но очень влиятельную державу сначала в Персии, а потом в Сирии. Персидские и сирийские низариты имели право на доктрину, потому что обладали реальной властью. Эта власть поднялась и окрепла на противостоянии оккупантам — сельджукам. Борьба с сельджуками обеспечила низаритам народные симпатии и укрепила их. Впрочем, с конца XII века они могли уже не называть себя низаритами, а просто измаилитами, потому что никаких иных измаилитов уже не существовало.
— Но когда монголы разгромили персидских измаилитов, а Бейбарс — сирийских, измаилиты всё же сохранились, не смотря на то, что были полностью лишены государственной власти.
— А вот тут уже горы сыграли свою роль. В наших горах, как ты, должно быть, уже понял, никогда и никого окончательно уничтожить невозможно. Все измаилитские крепости монголы не могли разгромить уже хотя бы потому, что все они не могли обнаружить. Даже в наше время обнаружены ещё не все измаилитские замки в Иране. А если иной измаилит сохранял власть, хотя бы над одной крепостью и парой аулов, он мог сохранить измаилизм. Так в горах измаилиты дожили до наших дней, потом перебазировались в Индию. И сегодня измаилизм как религия существует ровно постольку, поскольку глава измаилитов Ага-хан — очень богатый и чрезвычайно влиятельный человек с огромными международными связями.
— А у современных измаилитов есть религиозное учение, сформулированное хотя бы в общих чертах?
— Да, в общих чертах учение измаилитов сейчас известно. Однако, сразу же хочу уточнить — вряд ли доктрина современных измаилитов имеет много общего с религиозными представлениями Хасана ас-Саббаха. Серьёзные богословские труды аламутских имамов по большей части утеряны. У низаритов сейчас нет канона авторитетных писаний. Пытаясь что-то писать об истории низаритов, современные их последователи вынуждены черпать сведения из суннитских текстов. Выяснения того, что говорят о низаритах их враги, недостаточно для изучения низаритских верований. Впрочем, не сомневаюсь, что Хасан ас-Саббах был мусульманином. Нетрадиционным, но всё же мусульманином. А вот современные измаилиты — совершенно не мусульмане.
Само учение об имаме претерпело у измаилитов радикальные изменения. Нынешние измаилиты полагают, что происхождение имамов — божественное, неведомое людям, которые только для простоты понимания считают имамов детьми людей. На самом же деле, божественная, единая душа имама переселяется из одной личности в другую. Каждая эпоха имеет своего пророка — нотика, а при нём — имама. Основатель ислама Мухаммад был всего лишь нотиком, а имамом при нём был Али. Они считают, что имам никогда не оставляет людей без своего водительства, явного или скрытого. Кто умер, не познав имама своего времени, тот умер языческой смертью.
Как видишь, тут мало общего с учением шиитов о 12-и имамах, очищенных от грехов по молитвам Мухаммада, и о последнем из них — Махди, скрытом имаме, который не умер и вернётся в последние времена. Мало в этом общего и с учением ранних измаилитов, которые зациклились на личности 7-го имама, седьмого совершенного. Какая разница, 12-й или 7-й, если это один и тот же имам, душа которого переселяется в тело очередного имама? Скрытого имама измаилиты уже не ждут, поскольку имеют явного — Ага-хана.
Тут получается некий синтез шиитских идей с индуистским учением о реинкарнации. Измаилиты считают, что душа праведного человека попадает в рай не сразу, она должна сначала пройти ряд степеней, возвышающих её. Душа хорошего человека после смерти переходит в ещё лучшего, пока она, всё время очищаясь, не дойдёт до рая. Души порочных переходят сначала в животных, потом в насекомых, растения и камни, пока не попадут в преисподнюю. Это не индуизм, поскольку последний отрицает существование рая и ада. Но это и не ислам, поскольку последний не содержит учения о реинкарнации. Любопытный синтез, интересное теоретическое построение. Тебе хочется и дальше копаться в деталях этого экзотического учения?
— Сказанного, пожалуй, достаточно.
«Смерти они не боялись, будучи уверены, что познают все радости рая. Эти райские блаженства представлялись им в снах и грёзах, возбуждаемых употреблением гашиша», — пишет про убийц-ассассинов весьма авторитетный историк XIX века Жозеф-Франсуа Мишо. Воистину, есть темы, одно только прикосновение к которым выводит из строя мозги даже самых серьёзных исследователей. Многочисленные историки, работающие обычно весьма аккуратно, не проявляя склонности к поспешным выводам, привыкшие взвешивать доказательства на медицинских весах и никогда не выдающие гипотезу, тем более сплетню, за установленный факт, тут же теряют голову, стоит им заговорить о низаритах — ассассинах. С важным видом они тиражируют откровенную ахинею, как нечто общеизвестное, а потому не требующее доказательств. «Ассассины — средневековая секта убийц-наркоманов», — это утверждение, кочующее из книги в книгу, постепенно стало доводить Сиверцева до тихого бешенства.
Андрей по-прежнему не имел ни одной причины любить или каким-то особенным образом уважать низаритов-ассассинов. Они оставались для него чужими и по всему весьма неблизкими. Но его до крайности возмущала легковерность, с которой ассассинов обвиняли в наркомании и кровожадности. Ни на чём не основанная грязная клевета пачкает прежде всего клеветника, а ведь клеветниками были христиане, от этого и становилось больно. Разве не так же оклеветали тамплиеров, с поразительным легкомыслием и по сей день тиражируя грязные сплетни? Разве не столь же легкомысленно самые серьёзные люди повторяют нелепицу насчёт того, что «масоны произошли от тамплиеров», словно они зомбированы теми самыми масонами. Так кто же и зачем сегодня зомбирует всю Европу, утверждая, что ассассины были наркоманами? В этом стоило разобраться.
В то, что ассассины (точнее — фидаи) употребляли наркотики, Сиверцев не поверил сразу. Сделавший это утверждение либо не понимал, какое действие производят наркотики на человека, либо не имел представления о задаче, которая встаёт перед диверсантом-ликвидатором. Может быть кто-то думает, что ликвидировать министра или президента не сложнее, чем прирезать обидчика в пьяной драке? Фидаи «работали» по эмирам, визирям, султанам, всегда окружённым многочисленными и высокопрофессиональными телохранителями. Хотя бы только приблизиться к такому «объекту» на расстояние нескольких метров — задача невероятно сложная, а в одиночку обыграть огромную и чаще всего весьма эффективную службу безопасности. Для выполнения такой задачи необходимо обладать железными нервами, нечеловеческими терпением и выдержкой, хорошими аналитическими способностями и мгновенной реакцией, поскольку в завершающей фазе такой спецоперации счёт идёт на доли секунды. А человек, который хотя бы даже не регулярно употребляет наркотики, и в малой степени не может обладать ни одним из этих качеств. Наркотики расслабляют волю, притупляют наблюдательность, лишают способности ясно мыслить, замедляют реакцию. Дураку понятно, что ассассинские фидаи не могли быть наркоманами. Почему же это не понятно умным людям?
Сиверцев стал искать истоки легенды о том, что ассассины использовали наркотики и, кажется, докопался до самого раннего свидетельства. Некий Арнольд из Любека где-то на рубеже XII–XIII веков писал: «Этот старец… вручает им ножи… а так же опаивает их неким питьём, повергающим в экстаз и беспамятство, и своими чарами наводит на них сновидения, полные радости, блаженства и всякого вздора и уверяет их, что за содеянное они обретут всё это навечно».
Арнольд впервые говорит про некое наркотическое «питьё», употребляемое ассассинами. Но, конечно, самый большой вклад в развитие этой нарколегенды внёс Марко Поло, пересказавший байку о чудесном саде, скрытом в Амамуте, где вся обстановка соответствовала тому, как пророк Мухаммад описывал рай. Здесь были прекрасные плоды, позолоченные беседки, шёлковые ковры. Здесь реками текли вино, молоко и мёд. Прекрасные женщины, обученные музыке, пению, танцам и искусству любви выполняли любое желание тех, кому было дозволено переступать через порог этого сада. Войти туда позволялось лишь юным ученикам, тщательно отобранными старцем по их военной доблести и личной преданности наставнику. Сначала он давал им какой-то наркотик, из-за которого они погружались в глубокий сон. Проснувшись, они оказывались в чудесном саду. Простодушные юноши некоторое время предавались чувственным наслаждениям, потом им снова давали наркотик, и они просыпались в замке. Когда их проводили к старцу, они спрашивали его о том, что видели в саду. Тогда старец выбирал одного из них и поручал ему убийство, уверяя его в том, что после успешного выполнения задания и возвращения ему снова будет дозволено войти в сад, а если он умрёт при исполнении поручения, старец пошлёт за ним ангелов, чтобы они отнесли его душу в рай.
Разве может взрослый человек читать про такие «чудеса» без улыбки? Понятно, что Марко Поло записал легенду, пожалуй даже сказку, и неплохую сказку — Шахерезада позавидовала бы. Сам он в Аламуте никогда не был, да и не мог быть, потому что писал уже после разгрома персидских ассассинов монголами.
Надо ещё обратить внимание на то, что у Марко Поло наркотик играет роль скорее снотворного, а вовсе не одурманивающего вещества. Позднейшие «сказочники» начали варьировать эту тему. Одни писали, что довольно убогий бордель Старца Горы под действием наркотиков казался ассассинам райским садом, другие заявляли, что никакого райского сада и вовсе не было, а были только грёзы, навеянные наркотиком-галюциногеном. И пошло-поехало. Вождям ассасинов приписывали безграничные способности к подчинению чужого сознания, а их «зомбированных» учеников считали либо тупыми, либо хорошо обработанными, либо напичканными наркотиками. Один только этот разброс мнений безусловно подтвержает, что об ассассинах никто и ничего толком не знал. Фантазировали кто во что горазд.
Наконец, Сиверцев встретился с книгой действительно серьёзного историка Ходжсона, который полностью подтвердил все его первоначальные выводы: «С. де Саси отверг предположение, что низариты использовали гашиш, чтобы приводить фидая в состояние бешенства и безрассудства, которые необходимы для совершения публичных убийств. Необходимость долгого, терпеливого выслеживания жертвы и осторожного использования удобной возможности исключает использование любого наркотика. Постоянное использование наркотиков ослабляет умственные способности».
Выяснилось так же, что сюжет на котором строит повествование Марко Поло, не фигурирует ни у одного надёжного историка. Значит, во всём виноват итальянец, рассказавший сказку, которую легковерная Европа приняла всерьёз? Да нет же! Напомним, Марко Поло писал уже после разгрома ассассинов, когда они были уже мало кому интересны. Легенда об их наркомании явно родилась раньше, чему подтверждение — тот же Арнольд из Любека. На основании чего родилась эта легенда? Говорят, что нет дыма без огня.
Сейчас едва ли не во всех книгах на эту тему фигурирует, как абсолютно бесспорное, утверждение: слово ассассин произошло от «гашишин», точнее — «хашишийя» — употребляющий гашиш. Между тем, Вильгельм Тирский, современник ассассинов, говорил, что ему неизвестно происхождение этого слова. Не правда ли, забавно: современникам это слово не было понятно, а сейчас его происхождение ни у кого не вызывает сомнений.
Так кто же запустил это слово в оборот? Сиверцев наконец нашёл отправную точку. Джеймс Вассерман пишет: «Термин «хашишийя» был впервые зафиксирован в антинизаритском трактате, выпущенном в 1123 году. В тексте он никак не поясняется». Маршалл Ходжсон элегантно иронизирует по этому поводу: «Уже в тексте «Кидайат ал-Амирийе» написанном при жизни первого поколения раскольников, термин «ассассины» без дальнейших пояснений используется для обозначения низаритов. Если бы речь шла о тайном употреблении гашиша, то это парадоксальным образом было уже всем известно».
Оказывается, даже самые яростные враги низаритов из мусульман, как суннитов, так и шиитов, никогда не обвиняли ненавидимых ими сектантов в употреблении наркотиков. Нет ни одного исторического свидетельства того, что фидаи когда-либо принимали гашиш или другие наркотики. К тому же надо помнить, что это сейчас у восточных народов употребление «травки» стало в порядке вещей, превратившись чуть ли не в национальную традицию, а в Средние века употребление наркотиков осуждалось большинством мусульман. Наркоманов считали отбросами общества. А низаритов, буквально из ничего создавших уникальную горную империю, было весьма трудно считать человеческими отбросами.
Вот какова версия Вассермана: «Вероятнее всего «хашишийя» служило ругательством, пренебрежительной насмешкой, используемой суннитскими историками при описании верований еретиков, которых сравнивали с наркоманами».
Очень убедительная версия. Представьте себе, что в запале полемики вы воскликнули про теорию своего оппонента: «пьяный бред!», а то и вовсе назвали его «обкуренным», дескать, только обкурившись анаши, можно нести такую ахинею. Вы вовсе не имели ввиду, что ваш оппонент — алкоголик или наркоман, но через некоторое время вы слышите, что про него ползут слухи: пьёт, дескать, да и анашу покуривает. Вы, конечно, не будете подтверждать эти слухи, но, возможно, и опровергать не броситесь.
Вот и всё. Просто же.
Остаётся, однако, вопрос, на который ни Ходжсон, ни Вассерман не отвечают. Почему сегодня «широкие читающие массы» верят не им, серьёзным историкам, а пошлым публицистам и беллетристам, продолжающим самозабвенно тиражировать глупую средневековую сплетню о наркомании ассассинов?
Да потому, что сегодня «широкие массы» либо не верят в Бога, либо верят в Него лениво и вяло. Ради своих религиозных убеждений обыватели редко бывают готовы претерпеть хотя бы некоторый дискомфорт, а уж «отдать жизнь за веру» — это представляется им проявлением крайнего фанатизма, сумасшествия, полной неадекватности. А люди Хасана ас-Саббаха легко шли на смерть за своего вождя и за свою веру. Обыватель не может этого понять, в его ограниченное сознание такая религиозная жертвенность совершенно не укладывается. И вот обывателю говорят, что ассассины так легко прощались с жизнью просто потому, что вечно пребывали «под кайфом». Такому объяснению обыватель верит быстро, легко и даже с радостью, разумеется не требуя никаких доказательств, потому что его в высшей степени устраивает это объяснение. Ну конечно же, человек может пойти на явную смерть, только если накурится гашиша до полной потери адекватности.
Такими сытыми, самодовольными и трусливыми обывателями преизобилует любая эпоха, поэтому низаритов-ассассинов возненавидели сразу же, как только они появились. У «благоразумных» мусульман просто не укладывалось в голове, как вообще могла появиться империя Хасана ас-Саббаха. Пришёл в горы Ирана одинокий путник, и через несколько лет ему покорилась сотня мусульманских замков, и вся мощь империи сельджуков не сможет их оттуда выбить. Может быть сельджуки сразу же решили, что их вожди — просто бездарности и ничтожества по сравнению с Хасаном? Это было бы неприятное для них объяснение. Приятнее было злобно шипеть, лопаясь от зависти: «Хасан обманом заманивает в свои сети, силой магии он заставляет ему повиноваться, Хасан заставляет своих людей употреблять наркотики». И вот так эти ничтожества шипят уже без малого тысячу лет.
Умница Ходжсон писал: «Уже одни лишь аскетические устремления и строгие нравственные устои Хасана ас-Саббаха дают нам основание предположить альтернативное объяснение фанатизму фидаев — сильное чувство преданности идеалам секты и крайнюю религиозность. Одним своим существованием низариты поражали человеческое воображение».
«Их войска внушали страх. Не раз суннитские войска бежали от них, не вступая бой. В отличие от суннитов они быстро восстанавливали силы даже после чрезвычайно тяжёлых поражений. Их вдохновлял, прежде всего, свободный дух патриотизма, а не ожидание очередного жалования».
Как это похоже на тамплиеров! То есть и похоже, и непохоже одновременно. Тамплиерский героизм никогда не имел источником личную преданность конкретному человеку, только верность Христу. Для низаритов Хасан ас-Саббах был живым воплощением их веры. Тамплиеры, потеряв хоть семь магистров к ряду, не потеряли бы ничего. Ассассины, потеряв одного только ас-Саббаха, потеряли бы всё — и самих себя, и своё государство. Между тамплиерами и ассассинами была ещё куча различий, проистекавших из различий между верой истинной и верой ложной. Но Сиверцев лишний раз убедился — верность высоким идеалам, даже если они ложные, может творить чудеса, если эта верность очень сильная и искренняя. Вот этих-то чудес верности и не могли понять эмиры и улемы, которые обслуживали своих султанов либо за деньги, либо из страха.
Весь Восток наполнился шипением бессильной злобы: ассассины — убийцы, убийцы, убийцы. Шипение это перекинулось на Европу, где со времён Людовика Святого слово «ассассин» распространилось в значении «наёмный убийца». В наше время, когда растёт и ширится борьба с так называемым «международным терроризмом», легенда о безжалостных кровавых террористах-ассассинах получила новую жизнь. Миф XX века питает себя энергией средневекового мифа. Так, может быть, пришло время разобраться, что за «убийцами» были те самые ассассины?
Чем больше Сиверцев читал, тем больше убеждался: Хассан ас-Саббах разработал и успешно внедрил самый гуманный способ ведения войны, какой только может быть. Если маленькое государство с разрозненной территорией почти непрерывно воюет с огромной империей, требуется особая стратегия. Нет ничего удивительного в том, что, сражаясь один против тысячи, они не выводят всю свою армию в «чистое поле», чтобы встретить противника в открытом бою. Хасан ас-Саббах сделал своей военной доктриной индивидуальный террор, умело использовав политическую психологию Востока. Дело в том, что в случае смерти султана или иного правителя вплоть до самого маленького эмира, его войско автоматически распускалось. На Востоке присягают не государству, а правителю, и пока не появятся следующий правитель, можно считать, что армии нет. Если же султан отправляется в мир иной неожиданно, и придворная камарилья не успела хорошо подготовиться к смене власти, страна может надолго погрузится в хаос. Начинается междоусобная грызня, нередко перерастающая в гражданскую войну, наследники ожесточённо делят престол, надолго забывая про войну с внешним противником, например, низаритами.
Для сравнения можно вспомнить индивидуальный террор, развязанный революционерами в России второй половины XIX века. Это было дикое, тупое кровавое безумие, абсолютная бессмыслица с точки зрения цели, которую ставили перед собой революционеры. Что они поимели, убив, к примеру, императора Александра II? Наследник в тот же день принял дела управления. Государственный аппарат ни на минуту не прекратил своей работы. Российская империя, крушения которой добивались террористы, таким образом не могла быть ослаблена даже на самую малость.
А вот империя сельджуков в случае смерти султана надолго выпадала из фазы активных действий, пока новый правитель не утвердится на троне, и не будут заново сформированы армия и правительство. К тому же действовал фактор устрашения. Новый правитель (султан, визирь, эмир) понимал, что если он продолжит активную борьбу с низаритами, вскоре, может статься, будут делить власть уже после его смерти.
В Российской империи этот фактор совершенно не действовал. Скажем, новый министр внутренних дел, заступивший на место убитого, даже будучи насмерть перепуганным и при всём своём желании не мог проводить угодную революционерам политику, потому что им никакая царская политика не была угодна, они добивались полного исчезновения царизма. Хасан ас-Саббах ставил перед собой куда более скромную и реальную задачу. Он добивался, как минимум, перемирия, а в лучшем случае того, чтобы сельджуки прекратили войну против низаритского государства и признали за ним право на существование. И он-таки этого добился.
Это сравнение убеждает в том, что террор, развязанный Хасаном, вовсе не был кровавым безумием, а, напротив, являлся весьма прагматичной и эффективной стратегией, к тому же в высшей степени гуманной. Иное политическое убийство, совершённое по приказу Хасана, позволяло избежать полномасштабного сражения или изнурительной осады, то есть спасало тысячи жизней простых и ни в чём не повинных людей. И вот теперь Хасана ас-Саббаха изображают кровавым маньяком. А кто-нибудь помнит, что неприступную крепость Аламут он взял без единой капли крови? За всё средневековье вряд ли велась хоть одна война, настолько же бескровная, как та, которую вёл Хасан.
Историк ислама Бернард Льюис приводит список — 50 убийств за 35 лет правления Хасана ас-Саббаха. Рашид ад-Дин Табиб, персидский биограф ас-Саббаха, писал о том, что при Хасане и двух его преемниках было убито 75 человек. Куда ещё меньше? Едва ли не в любом государстве того времени за аналогичный период в войнах погибали десятки и сотни тысяч людей.
Кого убивали? Самое большое значение придавалось устранению суннитских вождей. Убили двух багдадских халифов, нескольких визирей и наместников областей. Иногда прерывали жизнь исламких правоведов и кади — религиозных судей. Устранение последних, хоть они и не принадлежали к правителям, так же было отнюдь не следствием бессмысленной ассассинской злобы, а действием вполне прагматичным. Улемы и кади вели информационную войну против низаритов и погибали, как солдаты. Для почти партизанского государства низаритов, существовавшего во вражеском окружении, не было врага страшнее, чем отрицательное общественное мнение.
Так почему же современники и потомки ославили ас-Саббаха, как предводителя секты убийц? На руках любого из ликвидированных Хасаном правителей крови было куда больше, чем на руках Хасана. Любой правитель Востока постоянно отправлял кого-нибудь на смерть. Даже поговорка есть: «Иль шах убивает, иль сам он убит». Вообще, мусульмане в массе своей обычно не гнушались убийством, как средством достижения цели. А низаритские убийства выглядели даже благороднее, по сравнению с обычно имевшими место в исламком мире. Они не носили личного характера, не были средством разрешения личных споров или соперничества между отдельными людьми.
Так что же привело мир в ужас? Ну, во-первых, исламские правители до Хасана, постоянно балуясь физическим устранением противников, никогда не возводили эту практику на уровень официальной доктрины государства. Это всё же казалось циничным. Во-вторых, фидаи Хасана не просто устраняли противников, а сознательно придавали своим акциям зловещий, леденящий душу колорит. Убийства совершались чаще всего средь бела дня, прилюдно — в мечети, во дворце. Фидаи никогда не использовали яд, действуя только кинжалами. Убивая, фидаи никогда не пытались избежать смерти, для них не существовало ни страха, ни препятствий. В-третьих, Хасан, наверное впервые в истории человечества, создал специальную элитную группу ликвидаторов-профессионалов, которые к тому же действовали не за деньги, а из идейных соображений. Убийство по приказу повелителя было для фидаев актом религиозного самопожертвования. И до Хасана с радостью использовали наёмных убийц, но Хасан, можно сказать, ввёл «принцип неотвратимости наказания». От обычных наёмных убийц можно было уберечься, приняв достаточные меры безопасности. От фидаев не спасало ничто. Приговорённый Хасаном, мог считать себя трупом.
Что, собственно, нового сделал Хасан? Из практики, существовавшей и до него, и при нём, он создал прекрасно отлаженную систему и возвёл заурядную мокруху на уровень искусства. О, это был не маньяк. Это был математик.
А теперь представьте себе всех этих халифов, султанов, визирей, эмиров трясущихся от страха перед фидаями Хасана и чуть ли не рыдающих от ощущения собственного бессилия. Они, привыкшие чувствовать себя всемогущими, окружённые бесчисленной охраной, имеющие огромные армии могут быть легко прирезаны в собственных покоях, словно какой-нибудь нищий на базаре. Каждый из них пролил реки крови, по трупам шагая к трону, к власти, к могуществу, и вот теперь оказывается, всё это могущество защищает их от ассассинского кинжала не лучше тонкой рубашки. Трудно ли представить себе царственные сопли: «Это нечестно, несправедливо, не по правилам, так не должно быть, Хасан — гнусный подлый убийца».
Да, Хасан играл не по правилам. Все знают, что в шахматах «короля есть нельзя». Загнать в угол — это по правилам, а есть — нельзя. После победы под Хаттином Саладин успокоил пленного иерусалимского короля Лузиньяна, трепещущего от страха: «Малик не убьёт малика» (царь не убьёт царя). Таковы принципы корпоративной этики земных владык: «Царь — даже враг — всё же царь. Сегодня я прикажу убить его, а завтра его наследник прикажет убить меня. Лучше я сохраню ему жизнь, а завтра, если фортуна переменится, он пощадит меня».
Войны развязывают цари, посылая на смерть тысячи своих подданных. Ни в чём не повинные и совершенно не заинтересованные в войне солдаты режут друг друга, озлобляясь до крайности, ради славы, ради власти, ради богатства своих владык. А владыки тем временем, пребывая в приятной прохладе и кушая щербет, составляют друг другу послания в самых изысканных выражениях, соревнуясь с противником в благородстве и великодушии. А после битвы владыки встречаются, заключают друг друга в объятия и обмениваются дарами, клянутся в вечной дружбе, даже не думая о том, сколько воинов с обеих сторон погибло, чтобы они могли сейчас вот так приятно беседовать.
Хасан изменил правила. «Султан начал против меня войну? Султан умрёт». Султану это не нравилось. Он готов был погубить десять тысяч своих воинов, но «не подписывался» рисковать собственной жизнью. Вот откуда через века несётся вопль: «Хасан ас-Саббах — убийца». Это вопль земных владык, которые не любят, когда их убивают. Правители редко бывают готовы нести личную ответственность за свои решения. Если бы Клинтон, организовавший «Бурю в пустыне», знал, что теперь он должен ждать в гости фидая, он бы обязательно задал вопрос: «Зачем Америке пустыня?». Если бы Мадлен Олбрайт, истерично призывавшая к бомбардировкам сербов, на минуту представила себе, как некрасиво торчит из её горла позолоченная рукоятка кинжала, она, возможно, решила бы, что сербы — не такие уж плохие парни. И если бы Ельцин, развязавший чеченскую войну, представил себе, как его любимую дочку режут на куски. А на куски-то резали чужих дочек — русских и чеченских бедняков. Так настолько ли кровав Хасан ас-Саббах, который ввёл личную ответственность правителей?
Современных исламских террористов иногда сравнивают с ассассинами. Полная чушь. Сейчас террористы в Америке, в России и Израиле убивают простых людей. Почему-то Усама бен Ладен ни разу не организовал покушение ни на президента США, ни на директора ЦРУ. Почему-то израильский премьер Ицхак Рабин (как выяснилось — вполне уязвимый) пал от руки своих, а не палестинских террористов, которые тем временем убивали израильских детей. Почему-то Шамиль Басаев не стал организовывать покушение на российского премьера Черномырдина, а решил захватить несчастных в больнице, после чего Черномырдин весьма дружелюбно разговаривал с Басаевым по телефону. И почему-то ни ЦРУ, ни «Моссад», ни ФСБ многие годы не могли изловить одного-единственного Усаму бен Ладена. А зачем? Ведь Усама ведёт себя корректно и не трогает вождей этих стран. Кажется, действует старый принцип Саладина: «Малик не убьёт малика».
Ассассинский террор никогда не был обращён против ни в чём не повинных бедняков, о чём современники хорошо знали. Автор трактата «О земле Иерусалимской и её обитателях» писал: «Ассассины устраивают заговоры только против знатных людей, да и то не без вины или причины. Убивать простой народ у них считается высшим бесчестием». Таких свидетельств множество.
Хасана называли убийцей, но никто и никогда не обвинял его в резне мирных жителей или казни пленных. Этого «деспота и тирана» не обвиняли в репрессиях по отношению к своим в связи с недостаточной лояльностью. Да, он не казнил своих за измену, потому что ему никто не изменял. Почему же ассассины, вчерашние крестьяне, были так преданы Хасану? А вряд ли к ним кто-то до Хасана относился по-человечески. По всему видно, что «предводитель убийц» исповедовал принцип: «Мир хижинам, война дворцам». Почему ни один султан или халиф не подослал наёмных убийц к самому Хасану? Да потому что это было бесполезно — Хасана окружали люди, которые любили его.
Сильные мира сего никак не могли (и до сих пор не могут) разгадать секрет влияния Хасана ас-Саббаха на людей, объясняя его, то наркотиками, то магией. А секрет-то, кажется, простой. Хасан вернул беднякам их человеческое достоинство. Эмиры, визири, улемы презирали и топтали конями собственных подданных, а Хасан относился к ним, как к людям. Потому за Хасана готовы были умирать, не задумываясь.
Можно, конечно, сказать, что Хасан сам развязал эту войну. Если бы он не захватил Аламут и не создал своего государства, убивать не пришлось бы вообще — ни много, ни мало. Он всё же поднялся на крови, а кровь малой не бывает. Но почему-то забывают о том, что Хасан ас-Саббах поднял персов против оккупантов-сельджуков. Он вёл не только религиозную, но и национально-освободительную войну. История обычно оправдывает любую кровь, если она пролита в борьбе за свободу и независимость. Но Хасана история осудила.
Сиверцев поделился с Шахом своими соображениями по поводу Хасана ас-Саббаха. Шах слушал очень внимательно и молча кивал, время от времени сокрушённо вздыхая. Когда Андрей закончил, Шах прошептал:
— Многое из того, что ты говоришь — бесспорно, многое — во всяком случае — небезосновательно. Но мне страшно, когда я тебя слушаю. Я не знаю, где ты остановишься в своём оправдании Хасана ас-Саббаха.
— А надо остановится?
— Обязательно. Иначе ассассином станешь, — грустно улыбнулся Шах.
Сиверцев растерялся и потерял нить разговора. Шах, убедившись в том, что русский не планирует горячих полемических выпадов, так же тихо продолжил:
— Хассан ас-Саббах был и продолжает оставаться загадкой за семью печатями. Мы не знаем и никогда не узнаем о том, что это был за человек. Все правители очень одиноки, но одиночество Хасана было безмерным, нечеловеческим. Не чувствовал ли ты на себе дыхание космического холода, когда думал о нём?
— Да. что-то такое. в этом роде.
— Тебе не кажется, что личность этого правителя, внимательного к людям и относительно человечного, совершенно лишена человеческого тепла?
— Но, может быть, потому и холодит, что он для всех — загадка?
— Может быть. может быть. Иногда мне кажется, что Хассан замкнулся в абсолютном отрицании всего, и самого себя в том числе.
— Вы правы, господин. В Хасане есть нечто весьма зловещее. Я весьма далёк от «обращения в ассассинскую веру». Я лишь хочу понять. Мне кажется, это очень важно.
— Может быть, для тебя и важно, а кому-то я не посоветовал бы ни на минуту мысленно прикасаться к этой персоне. Вы смелый человек, господин Сиверцев. Холод испепеляет.
— Вы хотите сказать, что я не отдаю себе отчёт в характере своих изысканий?
— Да откуда я знаю, Андрюшенька, какие отчёты ты отдаёшь сам себе? Ты, конечно, не Хасан ас-Саббах, но тоже загадка. Каждый человек загадка. Камень — и тот загадка. Не хочешь ли побывать в Аламуте?
— А это возможно?
— Старый дервиш у себя на родине имеет некоторые возможности.
Сиверцев и Шах отправились в путь в сопровождении трёх молодых тигров, тех самых, которые участвовали в индийской операции. В деревне Сиверцев очень дружелюбно раскланивался со своими боевыми товарищами, при встрече они ещё издали улыбались друг другу. Тигры, правда, не говорили по-английски и общаться они почти не могли, но Андрей понемногу учил фарси, и теперь они уже обменивались несколькими фразами.
Здесь Андрей одевался, как местные. Ему очень понравилась восточная одежда, а кроме того, доставляло удовольствие чувствовать себя среди персов своим. Во время перехода они почти не разговаривали, горные тропы не любят болтунов. Уже затемно вошли в какую-то деревню и там переночевали. Снова пустились в путь на рассвете, когда деревня ещё спала — Андрей так никого здесь и не видел. Часа через два пути Шах дал знак остановиться и кивнул на высокую гору:
— Вот Аламут.
В ответ ни Сиверцев, ни тигры не проронили ни слова. Они как заворожённые смотрели на вершину, казавшуюся совершенно недоступной. Потом Андрей спросил:
— И никто после низаритов не попытался здесь водвориться?
— Да что ты. Аламут археологи обнаружили только в 20-е годы ХХ века, а до этого вообще никто не знал, где он находится.
Они начали немыслимое восхождение. Горцы не делали никакой скидки на то, что Андрей — равнинный житель. Продвигались с ровной скоростью, сноровисто и деловито. Андрей имел некоторый горный опыт, а иначе просто помер бы на этой тропе, и всё-таки вскоре сердце начало выскакивать у него из груди. Он старался дышать правильно, как по учебнику, но всё-таки он задыхался. В какой-то момент Сиверцев испугался, что сейчас в его глазах вспыхнет яркий свет, а потом всё потухнет. А вершина казалась по-прежнему недоступной. Он непрерывно молился, постаравшись уйти в молитву весь целиком. Это его спасло. Когда поднялись, он сразу же лёг на камни в тени обломка стены. Дыхание постепенно восстанавливалось. «Если бы я сам определял скорость подъёма, то взобрался бы сюда относительно легко, — подумал Андрей. — Ну да. А если бы скорость нашего подъёма определяли враги, засевшие наверху и сыпавшие на нас стрелы?». Теперь он знал, что означала неприступность Аламута.
Отдохнув, он встал и начал осматриваться, не обращая внимания ни на Шаха, ни на тигров. От Аламута немногое осталось. Вот, кажется, остатки ворот. руины квадратной башни. фрагмент крепостной стены метра на полтора высотой. Андрей шагнул к стене.
Сохранилась часть комнаты, примыкавшей к стене. Стены комнаты были такими же толстыми, как и сама крепостная стена. Странно. Кто же внутри дома ставит перегородки, равные по толщине внешним стенам? Кто? Хасан! Андрей вдруг всем своим существом ощутил, что именно здесь жил Хасан ас-Саббах. Это его келья.
Из этой кельи в крепостной стене была прорублена маленькая дверь. Андрей шагнул через неё и оказался на небольшом уступе, который нависал над двухсотметровой высотой. Отсюда открывался потрясающий вид на долину, над которой господствовал Аламут — гнездо орлов. Взгляд охватывал пространство на много километров вокруг. Обозревая окрестности отсюда, с высоты орлиного полёта, и впрямь чувствуешь себя воздушным хищником, который господствует над землёй, но не принадлежит земле.
Хасан изобрёл поразительный способ покидать Аламут, не покидая даже своей комнаты. Здесь он стоял. Здесь мог стоять только он.
Хасан уже пять лет не видел неба и звёзд. Да, точно, через два месяца будет ровно пять лет с тех пор, как он в последний раз выходил сюда, на свой балкон. Тогда ему показалось, что смотреть на небо и уж тем более видеть звёзды — неслыханная дерзость. Это всё равно, что в упор рассматривать сокрытого имама, вечно молчащего Махди. Разве ничтожный человек имеет право на это? Бессмысленные люди пялятся на небо, словно в свою тарелку. Но им — можно, потому что они всё равно ничего не видят. А Хасану — нельзя, потому что он — видит. Видит величие Аллаха и трепещет перед Ним, и не имеет сил смотреть.
Исчислять пути небесных светил так же казалось ему теперь недопустимой дерзостью. Как человек смеет заглядывать в глаза вечности? Конечно, если смеет, то пожалуйста, можно и заглянуть, но он, Хасан ас-Саббах, не смеет, боится сойти с ума. Там, в высших небесных сферах, всё так близко к Махди, хотя это ещё не сам Седьмой Совершенный, это даже меньше, чем его отражение. Небо — лишь намёк на отражение Махди. Но всё равно очень страшно. Всю свою жизнь Хасан служил ему — Седьмому Совершенному. А он молчал. Смеет ли Хасан заговорить первым?
Он совершенно забросил астрономию, квадрант и астролябия пылились без дела. Он не смотрел на небо и звёзды. От всего бескрайнего мира у него осталась только эта убогая комната, а из всех наук, некогда столь горячо им любимых, он признавал теперь только математику. Формулы, формулы, формулы. Сфера чистого духа. Посреди утончённых и изысканных вычислений он так же рисковал встретить намёк на Махди, но этот страх ему удавалось преодолевать.
О, как безумны, желающие видеть Сокрытого имама. Он потому и сокрыт, что его близость совершенно непереносима для человеческого сознания. Хасан отдал Сокрытому всю свою душу без остатка. И вот от его души почти ничего не осталось. Сначала был огонь — пламя, грозившее поглотить весь мир. Потом только дым. Теперь — тень от дыма. Такова расплата дерзнувшему познать Седьмого Совершенного. Такова награда посмевшему служить Махди.
Где-то там жила, пульсировала, развивалась и страдала созданная им великая империя. Он никогда не видел её. Ни на один из своих бесчисленных замков он ни разу даже не взглянул. Зачем? Какой смысл в том, чтобы рассматривать чужое богатство? Всё это принадлежит не ему, а Махди. Много раз, сидя здесь, в этой комнате и вынашивая планы по захвату новых замков, по укреплению уже завоёванных, продумывая переговоры с врагами, Хасан мечтал о том, как скажет открывшемуся Махди: «О, великий, у тебя в этом мире есть своя страна, я создал её для тебя». Но теперь он уже твёрдо знал, что Махди не придёт. Никогда не придёт. А он, Хасан, теперь уже и не хочет этого.
Весь мир для него ограничился желтоватым листом прекрасной самаркандской бумаги. Бумагу ему привозили самых лучших и дорогих сортов. Это была единственная роскошь, которую позволял себе Хасан. Он никогда в жизни не имел дорогих одежд, никогда не пробовал изысканных блюд, он не познал любви красавиц. Единственной его женщиной за всю жизнь была жена — отнюдь не красавица, да и ту он не видел уже лет двадцать. Или тридцать?
А великолепная самаркандская бумага у него всегда есть. И прекрасная китайская тушь. Только китайская. Иной он не признавал. Как он любил выстраивать на листке бумаги изумительные уравнения. В последнее время даже уравнения стали ему страшны, потому что в них порою слишком явственно проявлялся намёк на Махди. Почему Махди, Великий Господин, так страшен?
Потому что всегда молчит.
Сегодня Хасан почувствовал, что заболел. Давно уже появившаяся неловкость в утробе всё нарастала и временами начинала переходить в боль, пока ещё не сильную, но Хасан уже знал, что эта болезнь — к смерти. Наконец-то он умрёт. Мысль о смерти до некоторой степени позволила ему забыть страх перед Махди. Он решил выйти на свой балкон и увидеть звёзды.
Да, страх перед Махди прошёл. Вот оно — небо. Ну и что в нём? Безмерная бездна. Но его душа — тоже бездна. Неописуемое величие. А разве он, Хасан — не велик? Сияние звёзд. Но, может быть, и его сердце — звезда, такая же холодная и никому не доступная.
Хасан почувствовал своё единение с этой бездной. Прежнего восхищения звёздным небом уже не было. Страх окончательно исчез. Как много, оказывается, даёт человеку ощущение близости смерти. Хасан теперь знал, что он сам и есть эта бездна. Он начал что-то бормотать себе под нос, а потом услышал собственный голос и с удивлением стал разбирать слова:
— Знаешь ли, сынок, как называется эта звезда? Впрочем, не важно. Мне кажется, ты сейчас там, на этой звезде. Там мы и встретимся с тобой? Мне хотелось бы именно там. Ты подождёшь меня? Мне надо очень многое тебе сказать.
Хасан почувствовал, что с его глазами что-то не так. Он прикоснулся к ним и ощутил на кончиках пальцев влагу. Не может быть. Он? Хасан ас-Саббах? Плачет? Он никогда не плакал. И вдруг мысль о том, что из его глаз текут слёзы, показалась Хасану необычайно радостной. «Это ты, сынок, довёл отца до слёз?» — вслух спросил Хасан и чуть не рассмеялся, но вместо этого закашлялся.
Своего сына Хасан убил собственной рукой много лет назад. Убил без сожаления и с тех пор ни разу в этом не раскаялся. Он сделал то, что надо было сделать и никогда больше не вспоминал про убитого сына, как не вспоминал про неудачное уравнение, перечёркнутое каламом. Если что-то напоминало про убитого сына, он испытывал тупую ноющую боль, вроде той, что ощущал сейчас в утробе. Хасан не обращал внимания на эту боль, он никогда не жалел себя, как опытный воин: получил рану — терпи, боль ничего не значит, имеет значение только победа.
И вот сейчас, когда земные победы уже рассыпались прахом в его душе, когда он больше не видел смысла служить молчащему Махди, он неожиданно для самого себя заговорил с убитым сыном. Ему показалось, что сын не молчит, а отвечает отцу. Нет не показалось, он был уверен — сын не только слышит его, но и отвечает ему. Хасан так пристально смотрел на звёзды, что его душа словно растворилась среди них, а он всё беседовал и беседовал с сыном.
«Сынок, я расскажу тебе такое. Полвека я размышлял и вот, наконец, понял. Там, у вас, это всем хорошо известно? Да, конечно же, ведь ты — среди звёзд. Ты превзошёл отца мудростью. Я очень рад. Ты никогда не превзойдёшь отца? Ну что ты, сынок, не скромничай. Я — всего лишь орёл, а ты — ангел. Я надеюсь, ты встретишь меня там. Будешь очень рад? А я — счастлив. Мы впервые по-настоящему встретимся».
Светало. Звёзды бледнели. Душа Хасана вернулась в Аламут, и он почувствовал, что очень сильно замёрз. На дрожащих негнущихся ногах он прошёл в комнату и заснул, кажется раньше, чем успел коснуться своего ложа.
Проснулся он в то же время, что и всегда, проспав лишь несколько часов, однако, чувствовал себя на удивление бодрым. И на душе было легко. Отодвинув тяжёлый затвор он впустил слугу и не торопясь занялся завтраком. Утроба не беспокоила, хорошо принимая лепёшку, сдобренную мелкими глотками молока.
Хасану казалось, что он понял главное: «Как мог я понять Махди, если не захотел понять сына? Можно ли приблизиться к сокрытому и далёкому, если не желаешь приблизиться к родному и близкому? Махди молчал, а сын говорил, но я не желал слушать». Эти мысли не вызвали у Хасана отчаяния, потому что теперь он знал, что сын жив и готов встретить отца. Эта встреча всё разъяснит. Теперь уже недолго. Напрасными ли были все его великие деяния? Трудно сказать. Но, кажется, пришло время разобраться. Теперь он был готов. Он больше не боялся ни Махди, ни себя, ни собственной жизни. Хасан заметил, что давно уже расправился с завтраком. Он пристально посмотрел на слугу, который замер в ожидании распоряжений господина, и тихо сказал:
— Сегодня я не буду заниматься делами. Позови Рашида.
Уже несколько лет в Аламуте жил летописец Рашид, мечтавший написать жизнеописание Хасана ас-Саббаха. Когда Хасану впервые доложили о нём, он велел кормить летописца, оказывать ему уважение и даже разрешил своим людям отвечать на его вопросы. Но от встречи отказался. Через год ему напомнили про Рашида. Хасан отрезал:
— Я не разговариваю с теми, кому я нужен. Я разговариваю только с теми, кто нужен мне. Этот человек пока мне не нужен. Пусть ждёт. Из Аламута не выпускать, даже если захочет уйти.
Приближённые Хасана знали, что господин никогда ни о ком не забывает. Он мог годами не вспоминать про человека, а потом вдруг позвать его, будто они вчера расстались. Это объяснили летописцу. Рашид решил ждать, пока не умрет либо он, либо Хасан. Ему не стали даже объяснять, что покинуть Аламут теперь уже не в его воле. Зачем обижать человека? Он и сам не уходил. И вот сегодня настал день Рашида. С замирающем сердцем он переступил порог комнаты, доступ в которую был открыт только избранным, да и то не часто.
Летописец увидел перед собой очень скромно одетого сухопарого старика среднего роста с короткой седой бородой. Всё в этом человеке казалось очень обычным, и Рашид не сразу понял, почему он производит такое сильное впечатление. Только позднее, по ходу разговора, он заметил, что лицо Хасана ас-Саббаха совершенно неподвижно, словно это не лицо, а маска. «Жив ли этот старик?» — спросил себя Рашид. Жёлтые глаза Хасана так же по началу не произвели никакого впечатления, старик их прятал, избегал смотреть в глаза собеседнику. Но один раз Рашид поймал взгляд Хасана и ему стало не по себе. В жёлтых глазах не было ничего человеческого, никаких эмоций, лишь холодная готовность к действию — любому действию. Если бы Рашид увидел эти глаза сразу же, как вошёл, он просто не смог бы начать разговор, но это, слава Аллаху, произошло позже, а пока он был исполнен радостных предвкушений.
— Что ты хочешь знать? — спросил старик с надменным равнодушием.
— Мне, господин, хотелось бы знать о вас всё с самого момента рождения.
— Я родился, когда мне было семь лет, и мои родители не приняли в этом никакого участия.
— Ваше рождение было чудесным? — замирая от радостного предчувствия встречи с мистикой, спросил Рашид.
— Конечно, — едва заметно усмехнулся Хасан. — Когда в душе человека пробуждается стремление постичь Истину — это настоящее чудо, и только с этого момента человек может считать себя по-настоящему родившимся. До семи лет я исполнял религиозные предписания просто из послушания родителям, которые не могли научить меня ничему, кроме правильного исполнения этих предписаний. Я не думал о смысле религии, когда же задумался — это и было моим рождением. Я испытал очень сильное стремление изучать различные науки, а прежде всего — богословие. К этому не возникло препятствий. Я изучил Коран, труды исламских богословов, а так же математику, астрономию, географию, минералогию. Все науки служили мне средством постижения Корана. Я стал убеждённым шиитом-двунадесятником, полагая это учение здравым, логичным, стройным. Я считал, что в религии всё должно быть так же, как и в математике — прозрачно, последовательно, однозначно. Я полагал, что постижение религиозных истин — то же решение уравнений. Каждый может это, если его научить.
— А разве это не так?
— Если это так, тогда зачем ты несколько лет ждал встречи со мной?
— Вы — великий.
— А в чём это величие? В том, что передо мной трепещет пол мира? Или в том, что я ближе к Истине, чем другие? Ты знаешь? Ты ничего не знаешь. И я ничего не знаю. Будешь перебивать — сделаем перерыв ещё на несколько лет.
— Простите, господин.
— Так вот. С 7-и до 17-и я изучал богословие и все возможные науки, стремительно расширяя пределы своего невежества. Так было до тех пор, пока я не встретил учителя — Амиру ибн Зарра. Он был измаилитом. Мы спорили с ним.
Хасану показалось, что он слышит свой голос откуда-то издалека. Этот голос, словно ему не принадлежащий, механически, размеренно вёл своё повествование. А душа перенеслась на 50 лет назад и вновь замерла от предвкушения встречи с неведомым.
— Я очень уважаю тебя, Амира, — сказал юный Хасан, подражая степенности опытных улемов. — Ты — человек хорошего нрава. Но, друг мой, измаилиты перешли все границы. То, чему вы учите — противно здравому учению.
— И в чём же оно, это здравое учение? — скептически скривился Амира.
— Здравое учение — это то, чем обладают массы людей, в особенности — шииты. Истину нельзя искать за пределами ислама.
— И где же они, эти пределы?
— Где заканчивается Коран — там предел.
— Слушай меня внимательно, юноша. Сейчас ты узнаешь главное. Коран нигде и никогда не заканчивается.
— Но я знаю Коран наизусть!
— Память твоя хранит слова, мой добрый Хасан, но смысл этих слов недоступен тебе.
— Мне непонятно, что ты говоришь, Амира. Слово значит то, что оно значит.
— Слово бездонно. Его смыслы неисчерпаемы. Смыслы слова — драгоценные сокровища, хранимые там, куда не может проникнуть убогий разум непосвящённых. А ключи от этой сокровищницы только у нас.
Хасану тогда казалось, что Амира совершенно его уничтожил, буквально стёр в дорожную пыль. Хасан считал себя носителем прекрасной и всесторонней образованности, но всё, чему он научился за 10 лет и в малой степени не помогло ему отразить хотя бы один из доводов Амира. Эти доводы были стремительны, блестящи, неуловимы. Их смысл ускользал, на них невозможно было ответить. Хасану казалось, что он, имея в руках лишь калам, пытается отражать удары кинжала. И он был весь изранен, растерзан. Он — это то, что он знал. Его больше не было. Он не знал ничего.
Хасан возненавидел Амира, как богач ненавидит грабителя, в одночасье сделавшего его нищим. И всё-таки его тянуло к этому таинственному и скептичному измаилиту, словно он надеялся, что грабитель — именно тот человек, который поможет вновь разбогатеть.
— И всё-таки, Амира, мне кажется, что учение измаилитов — философия, а не религия. Халиф Египта — философ, не больше.
— А что есть философия, мой руг? Любовь к мудрости. Разве тебе ненавистна мудрость?
— Я не люблю, когда всё запутано, когда ни на один вопрос мне не дают понятного ответа.
— Так, может быть, тебе следует упражнять своё понимание? Тогда ты распутаешь запутанное.
— У вас ни в чём нет ясности.
— Непосвящённые всегда в тумане. Призови солнце имама, и он развеет этот туман.
— Мне страшно Амира. Я боюсь, что, приняв имама, я окажусь вдалеке от истины, потеряю твёрдую почву под ногам.
— Имам есть опора, с ним ты всегда на твёрдой почве. Имам есть путеводная нить, с ним ты никогда не заблудишься.
— Но как мне поверить в это?
— Пророк Иса сказал: «По плодам их познаете их». Посмотри, как живёт община измаилитов.
— Да, я знаю, измаилиты богобоязненны, благочестивы, воздержанны.
— Разве это не доказательство?
— Да. да. Измаилиты ненавидят пьянство и я тоже его ненавижу. Ведь сказано, что пьянство — исток всякой грязи и мать преступлений.
— Вот видишь. Значит у нас нет ни грязи, ни преступлений. Так у кого же истина? У нас или у вечно пьяных шиитских улемов?
— Может быть, ты и прав. Но ведь шиитов-двунадесятников — большинство. Разве может такое большое количество блуждать вдалеке от истины?
— Ты когда-нибудь видел, как гонят баранов на бойню? Их не спасает то, что их очень много. Смысл происходящего сокрыт он них. Это, потому что они — бараны. Ты хочешь быть бараном?
— Я хочу быть Хасаном! И я стану Хасаном! — юноша уязвлённый в самое сердце, неожиданно возвысил голос. — Понимаешь ли меня, Амира, играющий смыслами слов, как факир на базарной площади? Внятен ли тебе скрытый смысл моих слов? Сейчас, когда хоронят измаилита, люди говорят: «Это тело еретика, изливавшего множество лжи и бессмыслицы». Но уста Хасана вовек не изрекут ни бессмыслицы, ни лжи. Я познаю Истину. Я открою сокрытое. Спасутся только те, кого я спасу.
Амира, сначала ошарашенный этим напором, быстро вернул свою невозмутимость и изрёк со своей обычной язвительной улыбочкой:
— Ты наш, Хасан. Ты ещё не понимаешь этого, но ты уже наш. Ночью, когда ты будешь лежать в своей постели, мучаясь от бессонницы, ты вдруг поймёшь, что ты — измаилит.
После этого разговора Хасан вернулся домой, как в тумане. Он сразу же рухнул на постель, и сознание оставило его. Проснулся за полночь, почувствовав сильный жар и озноб. Он метался, что-то выкрикивал, потом потерял сознание, а вскоре уже перестал чувствовать грань между сном и явью. Кажется, к нему подходили родители, потом какие-то лекари, они что-то говорили, но их слова не доходили до него. «Как они не понимают, что меня здесь нет, я в ином мире, в страшном мире», — эта мысль сверлила Хасана.
Потом он узнал, что бился в горячке три дня, никто уже не надеялся, что он встанет на ноги, думали, что он без сознания, но это было не так. Его сознание находилось в аду — среди кошмарных фантастических картин, в море непостижимых открытий. Тогда он понимал то, что не понимает ни один человек на земле. Но он всё забыл. Память сохранила лишь одну картину. Он смотрит на своё тело и видит, как оно покрывается гнойными струпьями и начинает гнить. Вот уже видны кости, с которых кусками падает его тухлая зловонная плоть. Потом вспыхнул яркий свет, сокрывший его бренные останки. Стало хорошо. Когда свет постепенно исчез, он увидел, что его тело вполне здорово, но оно не такое как прежде. Оно стало совершенным и даже слегка светилось. Аллах даровал ему новое тело, новую кожу. Он разглядывал себя спокойно, ничему не удивляясь. Теперь он уже никогда не станет прежним. Изменение, которое с ним произошло, затронуло не только тело, но и разум, и душу. Теперь он твёрдо, уверенно и спокойно видел перед собой путь, которым ему надлежит идти.
Во время этих метаморфоз Хасан почувствовал, что некая великая личность незримо присутствует рядом с ним. Хасан понимал, что именно через этого незримого и великого Аллах творит над ним Свою волю. Надо узреть Незримого, постичь Непостижимого, и тогда он сможет изменить весь мир.
Хасан нашёл себя лежащим в постели. Жар и озноб прошли. Сознание было ясным, как никогда. Он внимательно рассмотрел свои руки и убедился, что они — обычные, человеческие. Но он твёрдо знал, что это лишь кажется. Ничего обычного, человеческого в нём больше никогда не будет. Он хотел стать Хасаном. И он стал Хасаном.
Когда Амира увидел своего друга после болезни, он был поражён неподвижностью его лица. Это уже не было лицо 17-летнего юноши, но и на лицо зрелого мужа или старика оно нисколько не походило. Амира, было, подумал: «лицо мертвеца», но сразу же понял, что это не так. В лице Хасана была жизнь, но жизнь недоступная простому человеческому пониманию. Хасан, между тем, очень тихо и спокойно сказал:
— Я достиг понимания скрытых целей и конечной истины измаилитов. Мне необходимо поговорить с вашим даи.
Хасан проходил обучение сначала у одного даи, потом у другого. Учился ли он на самом деле? Скорее, высасывал своих учителей, как паук мух, потом отбрасывал за ненадобностью. Он знал, что они — никто, они могут лишь дать ему необходимую информацию, без которой не обойтись. По-настоящему можно учиться только у имама, который сам по себе — истина. В этом и был измаилизм. Шииты лишь ждут Махди, тем самым признавая, что сейчас у них нет истины. К измаилитам Махди уже пришёл и его наследник сейчас в Каире. Хасан не просто понимал, а чувствовал измаилизм всем своим изменённым естеством. В центре всего стоит личность. Нет личности — нет истины. Истина не есть теория, это человек. Имам. Посредник между Аллахом и людьми. Поэтому так мало значения имеют учителя, которые являются лишь носителями информации.
Впрочем, у последних не было повода обижаться на Хасана. Всегда спокойный, вежливый и очень внимательный по всему, что ему говорили, он схватывал учение на лету и никогда не противоречил своим учителям. Кланялся, как подобает, делал всё, что ему велели. Кто-то улавливал за его вежливой покорностью крайнюю степень высокомерия. Но придраться было не к чему. Кого-то пугало его неподвижное, лишённое мимики лицо. Никто не видел, чтобы Хасан улыбался, не говоря уже про смех. Но и это было затруднительно постановить Хасану в упрёк. Учителя сходились во мнении, что этот юноша, возмужав, очень много сделает для распространения их учение. Хасан так не считал. Но не собирался делать «очень много». Он знал, что сделает всё и даже чуть больше. Сначала он положит к ногам имама Персию, а потом весь мир.
Путаница измаилитского учения больше не смущала Хасана, хотя он по-прежнему весьма иронично воспринимал это «суп из семи круп». Измаилиты тужились, желая соединить исламские представления о мире с доисламскими греческими, персидскими, вавилонскими верованиями. Получалось не очень стройно. Но это не имело значения. Имам есть воистину снимающий противоречия. Две вещи увлекали Хасана по-настоящему — математика и фехтование. Разум и меч, логика и лезвие — вот что поможет ему завоевать для имама мир.
Он изучил труды всех известных математиков, благо в Исфахане было несколько хороших библиотек. Покупая на последние деньги самую дешёвую бумагу, он самозабвенно решал уравнения, представляя себе, что каждое уравнение — сражение, которое необходимо выиграть. И выигрывал. Даже опытные математики разговаривали с ним на равных.
Фехтовал Хасан так же блестяще. Не обладавший от природы большой физической силой, он был расчётлив, осторожен, молниеносен. Собственно, фехтовальщиком его сделала математика. Он никогда не наносил ни одного лишнего удара, никогда без толку не размахивал саблей, зная, что для победы достаточно одного взмаха клинком. Каждый лишний взмах может стать последним в жизни. Если формула содержит всего лишь один лишний знак — она ошибочна. Это поражение.
Друзей у Хасана не было, хотя многие хотели бы приблизиться к этому человеку, источавшему огромную холодную силу. Но все эти люди были для Хасана «лишними знаками», «ненужными ударами». Впрочем, однажды он сказал Абуфасалу, у которого жил в Исфахане: «Если бы у меня было всего два верных друга, я смог бы победить султана и перевернуть вверх дном всю сельджукскую империю». Значит, он всё-таки нуждался в друзьях? Он просто помнил Архимеда. Зная, что обладает огромной силой, он понимал, что ему нужны только две вещи: точка опоры и рычаг — два верных друга. И тогда мир перевернётся.
Наконец, возведённый в ранг даи, он отправился в Каир, ко двору фатимидского халифа ал-Мустансира — имама измаилитов.
В Каире Хасан пережил первое в жизни и самое страшное из всех своих поражений. Он потерял имама. Живого имама, которому можно служить, больше не было. Значит не было единственно возможного критерия истины, следовательно не было и самой истины, потому что теперь невозможно было установить её границы. Остался лишь хаос измаилитского учения. И остался сам Хасан. Один на один со всем миром.
Всё произошло не сразу, в утрату имама Хасан долго не мог поверить. Хотя началось это сразу же как только он прибыл в Каир. Город-сад, город-сказка поразил юного перса склонностью к дешёвой показной роскоши и суетливо-торгашеским духом. Он не увидел здесь и намёка на суровый боевой аскетизм, который один только и может позволить измаилитам положить весь мир к ногам имама. Все что-то покупали и продавали, как будто вселенскую империю можно купить. Все, от последних подёнщиков до первых придворных, пускали друг другу пыль в глаза и ходили перед лицом людей, а не перед лицом Аллаха. Все старались обмануть всех и думали только о том, чтобы вырвать друг у друга кусок власти пожирнее, как будто не в этом городе во дворце обитает сама истина.
Измаилитские богословы так же произвели на Хасана впечатление весьма удручающее. Это были такие же торговцы — торговцы знаниями и мнениями. Знаний у них было — хоть отбавляй, мнений — и того больше. Они готовы были с рассвета до заката вести богословские споры и блистать эрудицией. Тот, кто смотрит в глаза самой истине — не спорит. Он знает. И действует. А эти были способны только на пустопорожнюю болтовню.
Хасан очень быстро познакомился с ведущими даи Каира. Он ни чем не выказывал им своего пренебрежения, почтительно поддерживая учёные диспуты, никогда не стараясь переспорить даи, но демонстрируя достаточный уровень знаний, чтобы вызвать к себе интерес. Хасан опять делал вид, что учится и, в известном смысле, он действительно учился, полагая, что многое можно перенять даже у насекомых и, хотя ставил даи не выше последних, всё же старался хоть что-то подчерпнуть из их многословной и суетливой «мудрости».
Хасан ждал главного, ради чего сюда прибыл — возможности припасть к ногам имама и полностью передать ему свой разум, свою силу, свою волю. Вскоре свершилось. Вежливый, внимательный и хорошо образованный перс приобрёл большое уважение среди даи. Его решили представить ко двору.
Дворец так же неприятно поразил Хасана — огромное количество позолоты и ни намёка на подлинное величие. Придворные — в роскошных одеждах, а лица — тупые и самодовольные. Всюду — раболепство и никакого достоинства.
«Перед истиной нельзя ползать на брюхе, — думал Хасан. — Истине надо служить честно и самоотверженно. Богатство, власть и сама жизнь теряют значение для человека, если он приблизился к истине, у него на губах уже не заиграет рабская, угодливая улыбочка. А эти».
И вот — имам. Крепкий худощавый мужчина с безмерно уставшими глазами. «Есть от чего устать в этом дворце», — подумал Хасан. Ал-Мустансир произвёл на него большое впечатление. Да и не мог он увидеть перед собой никого, кроме имама, если столь страстно стремился к этому.
— У тебя очень хорошие рекомендации, юноша. Ты хочешь служить мне? — равнодушно обронил имам.
— Да мой повелитель. Я брошу к вашим ногам весь мир.
Имам при этих словах не изменился в лице. Хасан понимал, что имам не может встретить его обещание проявлениями восторга. Юноша боялся, что имам иронично и презрительно усмехнётся. Но нет, имам оставался бесстрастен. Это окрылило Хасана. Наконец повелитель обронил:
— Весь мир — это очень много, мой мальчик.
Хасан почувствовал, что имам хочет ещё что-то сказать и замер в ожидании. Но имам молчал, а потом сделал знак своим приближённым удалиться. Когда они остались вдвоём, ал-Мустансир выдавил:
— Расскажи о себе.
Хасан рассказал всё, что считал имеющим значение, стараясь по возможности быть кратким. Ал-Мустансир слушал его, не перебивая и, казалось, без интереса, равнодушно, но Хасан чувствовал, что имам ловит каждое его слово. Когда Хасан закончил, повелитель сказал уже не так вяло, но по-прежнему очень ровно:
— Ты будешь служить мне, мой мальчик. Будешь хорошо служить. Но не уверен, что тебе понравится среди моих придворных шакалов.
— Для меня имеете значение только вы, мой повелитель. Без вас весь мир не имеет смысла.
Ал-Мустансир смерил Хасана чуть удивлённым, пристальным взглядом. Слова юного перса нисколько не походили на обычную придворную лесть. Они дышали невероятной, запредельной убеждённостью, некой сверхъестественной силой. Халиф, никогда не имевший таких слуг, был поражён. Он не нашёл ничего лучшего, как молча хлопнуть в ладоши, давая понять, что аудиенция окончена.
Через неделю халиф позвал Хасана.
— Ты уже познакомился с моим главнокомандующим Бадром ал-Джамали?
— Да, мой повелитель.
— И как он тебе?
— Самодовольное ничтожество. Он не хочет воевать ради славы имама. Он вообще не хочет воевать и думает только о наслаждениях.
Халиф привык к тому, что его придворные плетут утончённые интриги, никогда открыто не пытаясь опорочить друг друга в глазах повелителя. А этот мальчик рубит с плеча. Он не придворный и никогда не станет придворным.
— А ты смог бы возглавить мою армию?
— Да, мой повелитель.
— И что бы ты стал делать с армией?
— Сначала — на Иерусалим, потом — на Антиохию, затем — Багдад, оттуда — на Исфахан, и тогда можно будет всерьёз заняться завоеванием Индии.
Ал-Мустансир не растерялся. Он задумался. Этот мальчишка не похож на юного безмозглого бахвала, не понимающего о чём говорит. В нём — огромная сила. Халиф чувствовал эту силу. Если её почувствует Бадр, мальчик не проживёт больше недели. Можно надеяться только на близорукость Бадра. Халиф продолжил разговор без тени иронии:
— Значит — весь мир. Но наша династия правит в Египте уже вторую сотню лет, и за всё это время мы не смогли завоевать даже Палестину.
— Может быть, слуги имама недостаточно верили в своего повелителя? Этот мир не имеет смысла, если не починён имаму. Но Аллах не творит бессмыслицы. Значит, мир должен подчинится вам.
Усталость вдруг ушла из глаз халифа. Он пристально посмотрел в жёлтые глаза Хасана и молча хлопнул в ладони.
Призвав Хасана на следующий день, халиф сразу же взял быка за рога:
— Знаешь ли ты, мой мальчик, что я — не хозяин даже в собственном дворце? — заметно было, что каждое слово ал-Мустансир выговаривает с большим трудом.
Хасан попытался уловить в словах имама скрытый эзотерический смысл, но не смог и просто сказал:
— Весь Египет — лишь сотая доля тех земель, которые по праву должны принадлежать вам, повелитель.
Халиф горько усмехнулся:
— Я не шучу, Хасан. Я пленник в этой золотой клетке. Пленник Бадра. Без его согласия я и шага не могу ступить.
— Его надо арестовать и обезглавить.
— У меня нет ни одного надёжного человека, которому я мог бы поручить это. Как бы ещё меня не обезглавили, если я посягну на жизнь Бадра. Он подкупил всех моих слуг, всех гвардейцев, а армия и так в его руках.
— Может быть, подкупить его людей? — задумчиво протянул Хасан.
— Все его люди — это вообще-то мои люди. Как ты представляешь себе халифа, который подкупает собственных людей? Ты обещал завоевать для меня весь мир. Так завоюй для начала вот этот дворец.
— Я сделаю это, — спокойно сказал Хасан.
— Завтра я назову тебе имена нескольких человек, вместе с которыми ты будешь действовать. Пара-тройка друзей у меня ещё осталось. Они очень преданы мне, но они не вожди. Моим вождём будешь ты.
На следующий день, когда Хасан в сопровождении слуги халифа шёл в покои повелителя, путь ему преградил сам главнокомандующий Бадр ал-Джамали в сопровождении двух гвардейцев.
— Наш повелитель не хочет тебя видеть, — гнусно улыбнулся Бадр.
— Но повелитель только что приказал привести к нему этого юношу, — робко заметил слуга халифа.
— Он передумал, — Бадр расхохотался, даже не пытаясь скрыть, что лжёт.
Хасан понял, что дело проиграно, но не почувствовал страха. Глядя Бадру прямо в глаза он прошипел так, как мог это сделать только разгневанный царь:
— Как смеешь ты, собака, преграждать мне дорогу?
Страшная сила этих слов привела главнокомандующего в ужас. Словно защищаясь, он сделал гвардейцам знак схватить Хасана.
В тюрьме у Хасана было время обо всём подумать, и он даже обрадовался этой возможности. Перспектива на завтра же быть обезглавленным ни сколько не пугала его. Он знал, что Аллах заберёт его жизнь только тогда, когда он будет не нужен здесь, на земле. Если он уже не нужен Аллаху, тогда его жизнь не имеет ли ценности, ни смысла и жалеть о ней просто глупо.
Хасан начал понимать, что произошло нечто куда более страшное, чем смерть. Кажется, халиф ал-Мустансир — не имам. Умереть за имама было бы куда легче, чем остаться в живых, но без имама. Хасан не боялся остаться один на один со всем миром. Он знал, что стоит ему лишь захотеть — толпы людей склонят перед ним головы и легко признают его власть. Но зачем? Ни власть, ни богатство не интересовали Хасана. Он хотел лишь одного — служить истине. Нет имама — нет истины. Зачем завоёвывать мир?
Но точно ли ал-Мустансир — не имам? Этот человек произвёл на него очень сильное впечатление, он выглядел настоящим повелителем. Но сейчас, вспоминая каждое слово, каждую интонацию, каждый жест халифа, Хасан постепенно пришёл к совершенно ясному выводу: ал-Мустансир — человек, лишённый настоящей внутренней силы. При более благоприятных обстоятельствах из него мог бы получиться неплохой царь, но всего лишь царь — не более. В нём не было достаточной силы для того, чтобы стать царём царей и повелевать всем миром. А нет силы — нет истины. Это совершено очевидно.
Как мог настоящий повелитель превратиться в раба этого жирного и тупого борова — Бадра? Ещё когда Бадр только начинал прибирать к рукам реальную власть, все его ходы можно было просчитать на несколько лет вперёд и уже тогда уничтожить. Мог ли подлинный имам, которому ведомы даже тайные замыслы Аллаха, не разгадать тайных замыслов этого примитивного животного? Сомнений больше не было: ал-Мустансир — не имам.
Но как такое возможно? Да очень просто! Хасана вдруг озарило. Убейдаллах, более века назад объявивший себя имамом, который вышел из сокрытия, и основавший фатимидский халифат, был заурядным самозванцем, и все его потомки, включая ал-Мустансира — самозванцы, даже если не подозревают об этом. Нет силы — нет истины. И думать тут больше не о чем.
Думать, однако, было о чём. Мир не может существовать без имама, как человек не может существовать без еды. Вывод прост — подлинный имам, Махди, до сих пор находится в сокрытии. Дано ли Хасану познать сокрытого имама, или он так и умрёт язычником? У Хасана есть сила, и она проложит ему дорогу к истине. Сам он не Махди, это ясно, иначе не было бы в его сердце этого всепоглощающего стремление служить Махди. Но сила! Не бывает бессмысленной силы. Впрочем, Аллах знает об этом лучше. И Аллах обязательно подаст ему знак, что делать дальше.
Хасан сидел на грязной тюремной соломе, прислонившись спиной к стене. Глаза его были полузакрыты, а губы еле слышно шептали арабские слова молитв. Время думать вышло. Пришло время молиться. Он погрузился в мистический транс.
Внезапно раздался страшной грохот. Хасан даже не вздрогнул. Открыл глаза и посмотрел прямо перед собой. У тюрьмы исчезла стена. Просто исчезла и всё. Впрочем, безо всякого волшебства. Стену разрушило нечто вполне земное, о чём говорила стоящая в воздухе пыль. Несколько крупных камней, каждый из которых мог бы превратить голову Хасана в кашу, упали у его ног, но ни один из них не задел его. Хасан спокойно встал и вышел на улицу. Из-под обломков торчали руки и ноги раздавленных стражников. Хасан осмотрелся. Это, оказывается, упал почти достроенный минарет рядом с новой мечетью. Хасан видел, как строили этот минарет. Тогда ещё он подумал о том, что египтяне — плохие математики, и расчёты, вероятнее всего, сделали не точно, минарет не будет устойчивым сооружением. Он может рухнуть. Что и произошло.
Хасан отряхнул одежду от пыли и спокойно зашагал прочь. Куда идти? Понятно, в порт. В Каире больше делать нечего.
— Куда идёт твой корабль? — спросил Хасан капитана.
— В Сирию, господин.
— Отвезёшь меня туда?
— Сколько господин заплатит?
— Что «заплатит»? — Хасан оставался в мире ином.
— Сколько денег даст мне господин, если я отвезу его в Сирию? — уточнил капитан, полагая, что перед ним иностранец, плохо его понимающий.
— Денег? — Хасан хорошо понимал речь капитана, но вопрос о деньгах показался ему странным, как если бы у него вдруг попросили тележку навоза. Почти не думая, он сказал:
— Если отвезёшь меня, никогда не раскаешься в этом до конца своих дней.
Капитан всмотрелся в благородные черты лица Хасана. Он решил, что перед ним какой-нибудь принц, решивший в простой пропылённой одежде незаметно исчезнуть из Каира. Слишком уж он спокоен, привык, видимо, приказывать. Такие люди не платят. Они награждают. И порою весьма щедро. Может подарить, например, драгоценный перстень — целое состояние.
— Располагайтесь на моём корабле, господин. Всё уже готово к отплытию.
Хасан никогда раньше не был в море, да и сейчас оно его не заинтересовано. Спокойная, гладкая, бесконечная поверхность. В море нет ответов. Горы — другое дело. Все ответы — в горах. Впрочем, сейчас море его устраивало. На этой беспредметной равнине ничто не отвлекало от молитвы.
Хасан не обратил внимания на признаки приближающейся бури, потому что не знал этих признаков. Что такое буря, он тоже не знал. Вскоре стало интересно. На равнине вдруг начали вырастать всё более и более высокие горы. Корабль бросало вверх и вниз.
Хасан крепко взялся за снасть и подумал: «Да здесь, оказывается, погибнуть гораздо легче, чем в горах». Хасан никогда не боялся смерти, но здесь и боятся было нечего. Ведь не для того же Аллах спас его из темницы, чтобы утопить в этой пучине. Корабль накрыло огромной волной. Хасан рефлекторно задержал дыхание и вскоре вновь спокойно выдохнул воздух. Потом опять накрыло. Неприятно, но терпимо. «Аллах смывает с меня пыль Каира», — подумал Хасан.
Корпус корабля начал трещать. Хасан видел вокруг себя искажённые ужасом лица. Он понимал этих людей. Они боятся смерти. Не хотят умирать. Такова их природа. Они не знают, что останутся живы сегодня.
Хасан услышал голос капитана, который держался за снасти рядом с ним и уже не отдавал команд:
— Ты прав, чужеземец. Мне не понадобятся твои деньги. Мёртвым они не нужны, — отважный моряк сохранял самообладание, но в его голосе звучали обречённость и бессилие.
— Сегодня мы не погибнем, — спокойно сказал Хасан.
— Ты умеешь приказывать морю? — скривился капитан.
— Я не приказываю. Я знаю. Мы будем живы.
Через полчаса буря стихла. Все, кто был на корабле, бросились вычерпывать воду — теперь это имело смысл. Хасан, всё такой же невозмутимый, стоял на прежнем месте и смотрел вдаль неподвижным взглядом.
Буря превратила Хусейна в животное. Он ползал по палубе на четвереньках, цеплялся за всё подряд, не разбирая, где чья-то нога, где мачта и дико выл. Его пинали, он даже не обращал на это внимания. Хусейн Каини был мужественным человеком и опытным воином, он давно забыл, когда в последний раз испытывал страх. Но Хусейн всегда сражался только с людьми, а эта буря. Кажется, что все шайтаны ада ополчились на них разом. И тут кто-то подхватил Хусейна под мышки, поставил на ноги и спокойно сказал:
— Крепко держись за снасть, иначе тебя смоет за борт.
Хусейн повиновался и посмотрел в лицо обладателя спокойного голоса. Лицо было удивительным, совершенно неподвижным. На нём не было ни отчаяния, ни растерянности, но и никаких тёплых чувств к Хусейну тоже не было. Казалось, этому человеку всё равно погибнет Хусейн или спасётся. И всё-таки он его спас. К Хусейну вернулось самообладание, рядом с удивительным незнакомцем он вдруг почувствовал себя в полной безопасности. Когда буря стихла, Хусейн был уверен в том, что именно незнакомец своим нечеловеческим хладнокровием остановил разгул стихии. Вместе с этим человеком он не задумываясь прыгнул бы теперь в адское пламя. Он искоса поглядывал на неподвижное лицо, желая начать разговор, но не знал с чего. Наконец решился:
— Вы, должно быть, опытный моряк?
— Впервые вышел в море, — незнакомец даже головы к Хусейну не повернул.
— Кто же вы, господин?
— Я? Хасан ас-Саббах.
«Хасан ас-Саббах», — пробормотал Хусейн себе под нос, словно титул, неведомый доселе, но самый высокий в мире. Каини был чутким человеком, он понял, что незнакомец отрекомендовался в полной мере, и любые расспросы не только не уместны, но и абсолютно лишены смысла. Неожиданно он принял решение:
— Меня зовут Хусейн Каини. Мы с друзьями хотели наняться на службу к эмиру Алеппо. Но теперь мы хотим служить вам. Только вам.
Хасан повернул, наконец, голову к Хусейну. Он ни сколько не был удивлён этим предложением, казалось, хотел лишь сделать некоторые уточнения:
— Вы знаете, что вас ждёт?
— Величие, — Хусейн потом до конца своих дней удивлялся тому, что дал такой ответ.
— А если завтра я пошлю вас на смерть?
— Это будет хорошая смерть, — хищная улыбка опытного воина заиграла на губах Хусейна Киани.
Алеппо понравился Хасану не больше, чем Каир. Почему горожане так ничтожны, мелочны? Думают только о пропитании, мечтают лишь об удовольствиях, суетятся, как насекомые. Этих людей не трудно было дёргать за ниточки, заставить их суетится в нужном Хасану направлении. Но зачем? Их ничтожные душонки никогда не загорятся пламенем веры. Им не нужна истина. А скрытому имаму не нужны такие слуги.
Впрочем, в Алеппо Хасан нашёл десятка два единомышленников, которые бросили всё и последовали за ним. Хасан никому и ничего не обещал, кроме скорой смерти. Своего учения он им так же не раскрывал. Да и было ли у него тогда учение? Была лишь уверенность в том, что он на службе у скрытого имама, который выше звёзд. Эта уверенность передавалась другим. Люди ломали свою судьбу, следуя за ним, просто потому что он — Хасан ас-Саббах.
Потом был Багдад и, наконец, Исфахан. Хасан возненавидел города. Нетрудно завоевать мир для имама, но зачем ему такой мир? Мир мелочных страстишек. Его Махди испепелит этот глупый и ни на что не годный мир. Зачем его завоёвывать? У великого повелителя будут особые подданные. Хасан собирал лучших и вёл их за собой. Его армия росла медленно, но не уклонно. Сквозь города они просачивались небольшими группами, увлекая за собой всё новых и новых. Хасан больше не видел в городах своей цели.
Начались долгие годы странствий по горам Западной и Северной Персии. Хасан установил и поддерживал вялотекущую связь с измаилитскими даи Исфахана, формально признавая их власть над собой. Он отправлял в Исфахан гонцов, подробно рассказывая об успехах своей проповеди, с почтением принимал из столицы инструкции, но он давно уже не придавал этим связям со своим руководством никакого реального значения. В горах Хасан был совершенно независим. Кто они такие, эти городские мудрецы, чтобы стоять над Хасаном? Над ним только имам. А имам ещё не явил своё лицо. Хасан ни одному человеку не сказал, что больше не признаёт над собой власть фатимидского халифа ал-Мустансира и не считает его имамом. Придёт время, и ал-Мустансир сам по себе развеется, как пыль на ветру, и все поймут, что фатимидский фалифат — иллюзия, одна только видимость, лишённая реального духовного наполнения. Истина явит себя. А пока не время им знать, что этого ещё не произошло.
В горах, как и ожидал Хасан, его проповедь имела куда больший успех, чем в городах. Особенно охотно шли за ним горцы Северного Ирана — народ дикий, свирепый и очень независимый по натуре, не привыкший признавать над собой никакой власти и не имевший в этом необходимости. Эти дикари уважали только силу. И они видели в Хасане силу. И они пошли за Хасаном.
Горцы были очень неприхотливы и презирали городскую изнеженность. Они видели как неприхотлив Хасан, умеющий довольствоваться одной грубой лепёшкой в день и спящий, порою, на голых камнях, завернувшись в дорожный плащ бедняка. Горцы презирали многословных проповедников, ничего для себя не находя в бесплодных разглагольствованиях. Хасан говорил редко и очень скупо, роняя немногие слова, как драгоценные камни. Горцы уважали воинов, а ни один из них не мог одолеть Хасана в боевом состязании. Когда они видели, как ловко Хасан орудует саблей, это было для них лучшим аргументом в пользу того, что этот человек прав во всём. Горцы были очень набожны. Они не любили говорить о религии, но каждым своим дыханием стремились славить Аллаха. И они чувствовали набожность Хасана, совершенно не показную, не демонстративную, но именно поэтому — настоящую.
Нельзя сказать, что Хасан испытывал к беднякам и труженикам тёплые чувства. Он ни к кому не испытывал тёплых чувств. Но он никогда не призирал бедняков и не смотрел на них высокомерно. Он вообще не видел разницы между богачами и бедняками. Хасан был очень терпим к человеческим недостаткам, но никогда не прощал людям одного — ничтожности помыслов и устремлений. А эту ничтожность он находил и среди богатых, и среди бедных. Среди последних, пожалуй, реже. Не скованные богатством, бедняки чаще проявляли подлинную возвышенность души, устремлённость к чему-то более высокому, чем повседневность с её мелочными заботами. Бедняки, не смотря на всю свою безграмотность, гораздо чаще оказывались людьми мистически настроенными, и только это имело значение для Хасана. Такие вот безграмотные горные мистики и составляли его гвардию. Он не выносил людей, готовых цепляться за свою ничтожную жизнь до последнего издыхания. За Хасаном шли только те, кто готов отдать жизнь в любой момент. Он верил в имама, его люди верили в него. За эту веру все они были готовы умереть, зная, что их смерть теперь уже не может быть бессмысленной.
Хасан говорил со своими людьми, как господин и повелитель. Он никогда не пытался им понравиться, не заискивал и был очень скуп на похвалу. Но он никогда не презирал их, не унижал и не оскорблял. Наказывал, порою, очень жестоко, за непослушание собственной рукой срубил несколько голов. Но это не подорвало, а, напротив, укрепило его авторитет.
Холуйства и раболепства не терпел совершенно. Он не любил унижать и презирал тех, кто перед ним унижался. С ним надо было говорить, не теряя достоинства, как с повелителем, который безмерно выше их, но, не забывая о том, что они тоже слуги имама, как и он — каждый на своём месте. Гордым горцам, которых никто и никогда не мог покорить, это очень нравилось.
Хасан в совершенстве овладел искусством убеждать и обращать в свою веру. Личность его сама по себе покоряла, на него смотрели не только с восхищением, но и с благоговением, и ему не надо было изобретать какую-то особую тактику проповеди. Но он научился не делать лишних движений, не тратил ни одного лишнего слова. Он, собственно, научился быть самим собой. И за ним теперь готовы были пойти десятки тысяч.
Когда Хасан впервые увидел Аламут — страшную крепость на высокой горе, он понял, что его земные странствия закончились — он войдёт в эту крепость и выйдет из неё только с Махди.
Рашид лихорадочно записывал рассказ Хасана. Его глаза горели, руки тряслись, он был вне себя. Слова великого Хасана ас-Саббаха совершенно перевернули его, почти уничтожили, стёрли его душу. Теперь он окончательно понял, почему десятки тысяч людей готовы были идти на Хасаном на смерть. Потому что никогда раньше не было таких правителей. Им выпало счастье служить. неземному человеку. Ас-Саббах принадлежит скорее Космосу, чем этим горам.
Хасан, конечно, не всё рассказывал Рашиду. Многое, вспоминая, он так и не произносил вслух. Говорил ровно, пожалуй, даже монотонно, ни разу не изменился в лице, да и не было у него другого лица, кроме привычной маски. Хасан видел, что уже совершенно загипнотизировал летописца, тот не в себе, надо сделать перерыв.
— Приходи завтра с утра, — сказал Хасан и остался один.
Совершенно один. Он никогда не хотел этого! Он надеялся, что в этой комнате они будут вдвоём с невидимым Махди. Хасан будет обращаться к скрытому имаму и находить в своём сердце ответы. Но ни разу за все эти десятилетия Махди не явил себя ни в одном знаке, ни в одном намёке. Хасан чувствовал, что все его мысли — его собственные, и от Махди ни коим образом не исходят. Почему Махди не захотел посетить хотя бы сны Хасана? Почему?!
Теперь Хасан понял уже окончательно: он потерпел великое и страшное поражение, абсолютно бессмысленно расточив огромную силу среди вселенской пустоты. Это следовало понять уже тогда, когда Хасан стал боятся молчащего Махди, когда перестал ждать его прихода и начал думать о его возможном открытии с ужасом.
— Знаешь ли ты, сынок, как страшно настоящее одиночество? Когда ты совершенно один во всей вселенной. Аллах недостижим, Махди молчит, и космический холод начинает проникать в самые глубины души. Да, сынок, ты, наверное, это знаешь. Ты ведь тоже был очень одиноким.
Хасан опять почувствовал, что на душе стало теплее, холод космоса перестал обжигать душу. Страх ушёл. Хасан чувствовал, что он не один. Старик хотел было опять пойти на свой балкон и, глядя на звёзды, больше уже не пугающие, поговорить с сыном, который — там. Но вместо того он вскочил как ошпаренный, и бросился к книжной полке. Схватил «Новый завет» и стал лихорадочно его листать. Вот они, эти слова ученика пророка Исы Иоанна: «Любовь изгоняет страх». Значит, его страх прошёл, потому что в сердце своём он почувствовал любовь к сыну? Всё так просто? Да, просто до чрезвычайности. Он никогда никого не любил. Он прожил жизнь впустую.
Рашид предвкушал самое интересное в рассказе Хасана ас-Саббаха:
— Вы совершили величайший в мире подвиг, взяв неприступный Аламут без единой капли крови. С тех пор люди не хотят читать сказки. Вместо того весь мир пересказывает легенды о вашем умении завоёвывать сердца.
«Сердца?» — вяло подумал Хасан, совершенно обессиленный целой ночью трагических открытий. Когда это его интересовали людские сердца? Да и кому было интересно сердце самого ас-Саббаха? Его голос вновь монотонно зазвучал, восхищённый Рашид записывал, а Хасан вспоминал многое такое, о чём не говорил вслух.
К тому времени, когда Хасан увидел Аламут на вершине горы, он хотел лишь одного — остаться наедине с Махди. Переносить людей становилось всё труднее. Не было больше сил смотреть на эти толпы и видеть перед собой огромное количество глаз. Пусть приходит Махди и берёт себе этих людей, и делает с ними, что хочет. Их так много, а Махди у Хасана один. Этим людям не нужен Махди, им вполне достаточно Хасана. Они ничего не понимают. А он устал. Он взойдёт на эту гору и будет ждать скрытого имама. Подумав об этом, Хасан почувствовал огромный прилив силы. Усталость, накопленную за десятилетие странствий, как рукой сняло.
— Как ты думаешь, почтенный Хусейн, мы возьмём Аламут? — спросил Хасан верного Каини.
— Аламут не взять приступом, — весело ответил Хусейн Каини, — но мы пойдём на штурм и будем счастливы умереть на тебя, мой повелитель.
— Вы ещё не заслужили счастья умереть за меня. Я опечалю тебя, Хусейн. В Аламут мы войдём без боя.
— Как скажите, мой повелитель, — Хусейн улыбался всё так же радостно и безмятежно.
Каини не сомневался, что всё будет так, как сказал Хасан. Он, конечно, ничего не понимал, но рядом с Хасаном достаточно было верить. В этом и было счастье Хусейна. А умереть можно когда угодно. Можно прямо сейчас. А можно и через сорок лет. Рядом с его повелителем такое мелочи не имели значения.
Аламут высился над плодородной долиной, замкнутой со всех сторон горами. Не прошло и года, как жители всех деревень этой долины стали измаилитами и большими поклонниками Хасана ас-Саббаха. Хасан велел им скрывать изменение веры и во всём по прежнему изъявлять покорность гарнизону Аламута. Солдаты гарнизона часто спускались в долину для заготовки продовольствия. Пришло время и среди них начать проповедь. Основную часть аламутского гарнизона составляли персы-шииты, служившие сельджукам-суннитам, но тайно ненавидевшие их. Солдаты-персы оказались очень восприимчивы к проповеди Хасана, даже некоторые сельджуки тайно переходили на его сторону. Прошло два года, и все в долине и почти все в гарнизоне были уже измаилитами.
Однажды в крепость из долины вернулся небольшой отряд фуражиров. Крестьяне под присмотром солдат несли на спинах мешки с зерном. Войдя в крепость, они спокойно положили мешки на землю. Отдышавшись, столь же спокойно начали развязывать мешки и извлекать из них сабли. Никто не торопился, солдаты с деловым хладнокровием смотрели за тем, как крестьяне вооружаются. Среди крестьян был тихий, очень скромно одетый невысокий человек с чёрной бородой. На вид ему было лет тридцать с небольшим. Он не развязывал мешки, не брал в руки саблю и ничего не говорил, как будто странное действо, развернувшееся во дворе крепости, его совершенно не касалось. Человек этот внимательно, но несколько равнодушно, рассматривал двор.
Из домов выходили всё новые и новые группы солдат, присоединяясь к прибывшим из долины. Все они стояли с саблями наголо, не говоря ни слова. На их лицах легко читалось напряжённое ожидание. Когда во дворе собрался почти весь гарнизон Аламута, скромный человек с чёрной бородой тихо сказал:
— Позовите коменданта крепости.
Комендант окинул взглядом двор и увидел, что все его люди с вооружёнными крестьянами из долины стоят за спиной у маленького человека средних лет. Нутро у коменданта похолодело, но железные нервы бывалого воина позволили ему сохранить самообладание.
— Что здесь происходит? — жёстко спросил он.
— Власть поменялась, — несколько лениво сказал маленький человек. — Я — Хасан ас-Саббах — новый хозяин Аламута.
— Аламут принадлежит великому султану Малик-шаху, — по-прежнему жёстко отрезал комендант.
— Комендант, у тебя есть люди, готовые защищать крепость? Посмотри вокруг себя.
Бывалый воин, ни разу не растерявшийся посреди самых жестоких битв, быстро оценил ситуацию. Все его солдаты стояли за спиной у этого невесть откуда взявшегося Хасана. Здесь, впрочем, не все, но остальные явно уже прирезаны. Он остался один. Ну что ж, он не вздорная баба и не станет закатывать истерики. Воин должен уметь проигрывать. Он внимательно посмотрел в глаза нового хозяина Аламута и сразу же пожалел об этом. В жёлтых глазах этого человека зияла бездонная и равнодушная пустота — ни ярости, ни радости — вообще ничего человеческого. Ничего даже звериного — пустота и всё. Комендант почувствовал, что по всему его телу разливается липкий ужас. Сдавленным голосом он еле выдавил:
— Я — ваш пленник, или мне будет позволено уйти?
— Конечно, ты можешь идти, дорогой. Ты не сделал ничего плохого. Аллах уберёг тебя от этого.
Комендант уже пошёл к выходу, когда Хасан окликнул его:
— Постой. Назови своё имя.
— Махди.
— Махди? Вот как? Хорошее имя. Будешь служить мне?
— Никогда.
— Хороший ответ человека, который достоин хорошего имени, — Хасан задумался, а потом продолжил:
— Я, пожалуй, куплю у тебя Аламут. Было бы несправедливо просто так отобрать крепость у воина, который не запятнал себя ни трусостью, ни предательством. Сейчас тебе напишут расписку, по которой ты получишь в Дамагане 3 тысячи динаров. Этого достаточно?
— Мне не нужны твои деньги.
— Ты не прав, воин. Честные люди не должны отказываться от денег, потому что тогда всё золото мира окажется в руках у подлецов. Не обижай меня отказом, достойный Махди.
Хасан стал душой Аламута. Аламут стал душой Хасана. Они слились воедино. Хасан словно заново родился, испытывая прилив невероятной энергии. Эта скала и крепость на ней станут подножием трона сокрытого имама. Аламут соединит небо и землю.
Кипела работа. В скалах они рубили каналы, по которым вода поступала теперь в Аламут, выдалбливали каменные резервуары для её хранения. В недрах горы Хасан приказал так же выдолбить подземные хранилища для продовольствия. Здесь всегда было прохладно, пища не портилась. В крепость свозили большие запасы продовольствия, построили небольшую мельницу, организовали пекарню, завели даже своих коров — места в крепости хватало. Существенно укрепили цитадель и были теперь готовы к любой осаде. Потом стали штукатурить дома — столица Хасана должна выглядеть достойно. За пару месяцев построили особый дом для самого Хасана — прилегающий к стене, с выходом на «балкон» за стену.
Хасан работал не только как организатор, но и как инженер, делая сложные расчёты. Его знание математики пригодилось теперь в полной мере. За годы странствий он истосковался по науке. Теперь в Аламут по его заказам доставляли уникальные издания со всего мира. Когда Хасан переехал в свой дом и обзавёлся хорошими книгами, у него появилась возможность заняться не только прикладной, но и фундаментальной наукой. Главного было теперь у него вдоволь — тишины. А ещё — прекрасной самаркандской бумаги.
Хасан никогда не давал себе зарок не покидать свой дом, но так получилось — он не видел необходимости выходить из него. За последние 30 лет он покинул свою келью всего дважды. Дни его текли размеренно. Утром он отодвигал засов, которым на ночь запирался. Слуги безмолвно приносили воду для омовения и лёгкий завтрак. Потом он держал совет со своими ближайшими помощниками, а отослав их — писал письма, разрабатывал планы операций. Ближе к вечеру отдавал себя науке и религиозным размышлениям. Он просто не знал, зачем ему выходить из дома, а ничего лишённого смысла он никогда не совершал. Таков был его принцип — ни одного лишнего движения.
Ел Хасан очень мало, ограничиваясь самой простой пищей — молоком и лепёшками собственного аламутского производства. Он никогда не ограничивал себя в еде и про аскетизм, как особую духовную практику, знал разве что из книг. Он просто не понимал, зачем нужны деликатесы и всякого рода изысканная еда. Какой в них смысл? Пища нужна для поддержания организма, а для получения утончённого наслаждения гораздо лучше подходит алгебра.
Таково же было его отношение к женщинам. Он не видел в них ничего, кроме способа получение наследника. Ни в одном из математических уравнений Хасан не смог найти для символа, обозначающего женщину, никакого иного значения. Жена (ведь он давно был женат) родила ему сына и дочерей. С тех пор он не мог понять, зачем ему нужна жена, уже выполнившая своё предназначение, а тем более — дочери, которые когда-то кому-то родят наследников, но он-то тут при чём? Ему казалось очень странным, что эти женщины живут в одном доме с ним. Бессмыслица вызывала дискомфорт. Конечно, они ходили бесшумно и говорили чуть слышно, ни в малой мере ему не мешая, но их присутствие было тем самым лишним знаком, из-за которого рушится уравнение. Через несколько лет во время осады Аламута он отослал их под предлогом безопасности, а потом просто забыл про жену и дочерей, и никто не осмелился ему о них напомнить.
Сын в его логических построениях был значимой величиной, но всему своё время. Когда-то он начертает уравнение, ключом к которому будет именно сын, но это не сейчас, пройдёт, быть может, ещё лет десять.
А пока они созидали свою горную империю. Подкупом, обманом, штурмом они брали всё новые и новые крепости, постепенно распространив своё влияние на всю Персию. Верный Хусейн Каини создал мощный аванпост в Кухистане, на юго-востоке. На юго-западе измаилитский центр возник благодаря усилиям талантливого даи Абу Хамзы. Великолепный замок Лимиссар к западу от Аламута взял лучший полководец Хасана — Кийя Бузургумид.
Активно строили новые замки везде, где только находили утёс, годный для укрепления. О деньгах Хасан никогда не думал и никогда не испытывал в них недостатка. Золото приходило само, и на любую операцию, разработанную Хасаном, его всегда было достаточно.
Однажды Хасану доложили, что его хочет видеть человек, имеющий сообщить нечто важное. Хасан молча кивнул — пусть войдёт.
— Смиренный слуга моего повелителя, недостойный Муззафар, — вошедший преставился, впрочем, с большим достоинством. Он явно принадлежал к людям, рождённым повелевать, но на Хасана трудно было произвести впечатление.
— С чего ты взял, что имеешь право считать себя моим слугой?
— Ты можешь казнить меня за дерзость прямо сейчас, но перед смертью я всё-таки скажу, что принадлежу к твоим слугам.
«Не стелется, не раболепствует, в ноги не падает, — подумал Хасан. — Воистину, есть права, которые нельзя дать. Их можно только взять».
— Говори, Муззафар, — сухо, но без раздражения обронил Хасан.
— Я служил сельджукам. Потом познал свет учения измаилитов. Понял, что могу служить только Хасану ас-Саббаху. Или никому. Думал, как мне быть, если я вдалеке от моего повелителя и не могу сказать ему: «Приказывай». Я решил, что пользу моего повелителя должен высветить разум, дварованный мне Аллахом. Изучив расположение крепостей, которые подчинены вам, я пришёл к выводу: вам будет очень полезен в стратегическом плане замок Гирдкух. Я решил стать комендантом этого замка. Эмир сельджуков не хотел назначать меня на эту должность, но его сердце оказалось шкатулкой весьма незамысловатой, и я нашёл к нему ключик. Став комендантом Гирдкуха, я убедил эмира в том, что надо выдать много золота на укрепление замка, а иначе его захватит Хасан ас-Саббах. Эмир дал золото. Я укрепил замок. Хорошо укрепил. Когда это было сделано, я сказал своим людям, что разделяю учение измаилитов и подчиняюсь только Хасану ас-Саббаху. Они были готовы к этому. Они были счастливы. И вот сегодня Гирдкух твой. Кто отнимет у меня право быть слугой Хасана ас-Саббаха? Даже ты не в силах это сделать.
— Правильные мысли. Хорошая работа. Что же ты ждёшь от меня? — Хасан испытующе посмотрел на Муззафара.
— Хочу получать от тебя подарки. Приказы. Когда я действовал для тебя, но без тебя, ни о каких иных подарках не мечтал.
— Ну что ж, отправляйся в Гирдкух. Управляй. Буду время от времени присылать тебе подарки.
Эта история нисколько не удивила Хасана, он воспринял её, как должное. Его империя была разбросана по огромной территории небольшими островками, и служить ему могли только такие люди — умные, хитрые, инициативные, способные действовать совершенно самостоятельно, но вместе с тем готовые к беспрекословному повиновению. Тупые и ограниченные исполнители могли обеспечить власть над городом и его окрестностями, но не над оторванными друг от друга территориями. Но если бы коменданты его замков были слишком самостоятельны, любой из них мог забыть про Хасана, возомнив себя полноправным хозяином. Однако, не было ни одного такого случая. Единожды признавшие власть Хасана, как высшим счастьем дорожили правом подчиняться ему.
Впрочем, Хасан залетел в своих воспоминаниях несколько вперёд, рассказывая летописцу, как они трудились, создавая ожерелье из замков, нанизывая на нить единой воли всё новые и новые жемчужины.
Через два года после захвата Аламута сельджукский султан Малик-шах решил обидеться на Хасана и отбить Аламут вместе с уже захваченным к тому времени Кухистаном. Оба войска сельджуков были разбиты небольшими гарнизонами крепостей при единодушной поддержке местного населения. Измаилиты Хасана с большим благородством и великодушием относились к крестьянам, населявшим долины вокруг крепостей, это обеспечивало им такую поддержку мирного населения, на какую не мог рассчитывать ни один исламский правитель.
Но Хасан понимал, что султан будет слать войско за войском, каждая победа будет стоить измаилитам больших потерь, и в конце концов сумма поражений султана обернётся для сельджуков победой — измаилиты просто закончатся, будут постепенно выбиты. Необычное государство Хасана могло выжить только благодаря неожиданному решению.
Как-то Хасан спросил своего полководца Бузургумида:
— Скажи мне, храбрый Бузургумид, сколько раз человека надо ударить кинжалом, чтобы он умер?
— Достаточно одного удара, если он нанесён точно в сердце.
— Вот именно. А ведь в жизни всё не так. Человек получает десять ударов кинжалом и уходит живым. Всё почему? Противники, вместо того, чтобы сражаться, размахивают руками, как последние глупцы. Ты когда-нибудь видел бой настоящих фехтовальщиков? Они долго смотрят друг другу в глаза, а потом один из них наносит один удар. И всё. И бой закончен.
— Никогда такого не видел.
— Конечно, не видел. Так сражаются мудрецы. А ещё скажи мне, храбрец, сколько врагов надо убить, что обратить в бегство вражеское войско?
— Наверное, несколько тысяч. Смотря, какое войско.
— Значит, тысячи глупцов должны долго-долго размахивать руками и тогда придёт победа?
— Моему мудрому повелителю, конечно, известно, что я всего лишь один из таких глупцов.
— Судя по твоим словам, ты отнюдь не безнадёжен, Бузургумид. Так слушай. Чтобы убить человека, нужен только один удар кинжалом. Чтобы обратить в бегство войско, надо убить только одного человека — султана. Итак, чтобы одолеть войско, нужен один удар кинжалом.
— Мудрость моего повелителя.
— Много болтаешь. Ненужные слова, как ненужные удары — путь к поражению. У нас есть люди, которые могут убить султана?
— Знаю двух храбрых воинов, блестяще владеющих кинжалом. Они готовы умереть за тебя.
Два крепких рослых юноши с решительными лицами стояли перед Хасаном. Один из них был просто свиреп, на лице второго Хасан прочитал способность мыслить. Хасан хорошенько их рассмотрел и, показав на «мыслящего», сказал «свирепому»:
— Убей его.
«Свирепый» молниеносно выхватил кинжал и нанёс своему товарищу смертельный удар. Но «мыслящий», не растерявшись, ловко ушёл из-под удара и так же выхватил кинжал. Теперь они стояли друг против друга с обнажёнными кинжалами. Это продолжалось всего пару секунд. Хасан сказал:
— Стоп! — и обратился к «мыслящему»:
— Почему ты не дал убить себя? Ведь я приказал твоему товарищу: «убей».
— Вы приказали ему «убей», но вы не приказали мне «умри».
Хасан с удивлением поднял бровь. Это был исключительный случай, когда на его лице отразилось живое человеческое чувство. Он задумчиво сказал:
— Ты умрёшь, мой мальчик. Но сначала ты убьёшь султана. Ты убьёшь для меня султана сельджуков Малик-шаха. Вопросы есть?
— Сколько дней на подготовку?
Хасан опять с удивлением поднял бровь. Ах, если бы все его люди были такими. Мудрыми, решительными, молниеносными. Этот мальчик никогда не позволит себе ни одного лишнего жеста, не задаст ни одного лишнего вопроса.
— У тебя три дня, сынок. Все слышали? Этот юноша — мой сын. Я посылаю на смерть сына.
Султан был мёртв. Когда его в палантине несли из дворца в гарем, неожиданно для охраны рядом с палантином появился некий юноша, отдёрнувший полог и точным, выверенным ударом вонзивший султану кинжал в сердце. Ликвидатор не пытался скрыться. Телохранители навалились на него и задушили. Мог ли ликвидатор уйти по завершении акции? Шанс у него, во всяком случае, был, но он сознательно не захотел им воспользоваться. Юноша помнил: по воле Хасана ас-Саббаха он должен не только убить, но и умереть. Да и сам он страстно желал принести себя в жертву. Не ради обещанного рая — ради любви к величайшему повелителю на свете. Его любовь к повелителю была столь безмерна, что жертва, меньшая, чем жизнь, никак не могла удовлетворить её.
Хасан, узнав о совершившемся, сказал только одно:
— Мой приёмный сын был фидаем — верным.
С двух сторон погибло всего два человека, а это позволило на долгих десять лет прекратить войну между сельджуками и измаилитами. После смерти султана начались восстания во всех провинциях сельджукской империи. Новый султан вновь и вновь собирал армии, чтобы укротить феодалов, которые почувствовали слабость центральной власти. Сельджукам стало не до измаилитов — империя всё никак не могла выбраться из гражданской войны.
Конечно, время от времени сельджуки огрызались на измаилитов и, порою, весьма болезненно. Хасан понимал, что успокаиваться нельзя. Необходима серия ликвидаций улемов и эмиров. Любой, кто осмелится порочить измаилитов или напасть на один из их замков, должен умереть. И тут последовала серия неудачных покушений. Новые фидаи гибли один за другим, не сумев выполнить задание.
Фидаи были чаще всего горцами. Едва оказавшись в городе, в непривычной для себя атмосфере, они сразу же привлекали к себе внимание диким видом и грубыми манерами. Их можно было одеть хоть в золотую парчу, от этого их дикость становилась только заметнее. Хасан понял, что для ведения необычной войны нужны необычные люди, а у него не было таких людей. Где взять фидаев, готовых не только принести себя в жертву, но и спланировать операцию с интеллектуальной утончённостью во всех деталях? Измаилитам-горожанам не хватало жертвенности — испорченная порода. Горцам не хватало интеллекта — порода не развитая. Мучеников-интелектуалов было нигде не взять, их можно было только вырастить, воспитать. Итак, надо было создать новую породу людей, каких ещё не было в мире. Задача достойная математика ас-Саббаха.
Размышляя об этом Хасан вспомнил, как год назад комендант Лимассара Умид решил развлечь своего повелителя редким лицедеем. Этот притворщик прошёлся перед Хасаном в облике христианского монаха. Получилось очень натурально. Потом изобразил базарного торговца — его как подменили — другой человек. А вот он уже улем — такой, какими обычно и бывают улемы. Лицедей не переодевался, он лишь копировал мимику, жесты, походку, манеру держать себя. Хасану стало противно, он резко оборвал представление:
— Зачем ты притворяешься?
Лицедей разом сбросил все личины. Теперь это было жалкое, насмерть перепуганное существо без лица. Кажется, таков он и был настоящий. Лицедей дрожал, не смея вымолвить ни слова. Хасану стало ещё противнее.
— Зачем ты хочешь казаться тем, чем не являешься? Кому это надо?
Комендант Умид, так же побледнев, но, не потеряв самообладания, сделал знак лицедею удалиться и робко обратился к Хасану:
— Мы надеялись развлечь повелителя.
— Развлечь? — Хасан, казалось, пытался понять значение этого слова. — Тот, кому нравятся шуты, сам в душе шут. Я похож на шута, Умид?
— Прикажешь его прирезать?
— Ты — бестолочь, Умид! Зачем его резать? Пялиться на лицедея — занятие, недостойное воина Аллаха. Но резать-то его зачем? Из сердца своего надо вырезать склонность к ничтожным развлечениям. Ты понял меня, комендант?
Год спустя Хасан об этом вспомнил и позвал коменданта Лимассара:
— Тот лицедей всё ещё у тебя, Умид?
Комендант побледнел, как тогда.
— Ты многому научился у этого шута, храбрый воин. Изображаешь труса так, что не отличишь от настоящего. Успокойся. Неужели ты думаешь, я не вижу всего, что происходит в Лимассаре? Если твоя голова всё ещё на плечах, значит, я не нашёл в тебе вины, достойной смерти. Этот лицедей больше не будет вас развлекать, времени у него на это не останется. Он будет обучать моих мальчиков искусству перевоплощения.
— Я весь — внимание, повелитель.
— Мы создаём особый отряд ликвидаторов. Вы должны отобрать в крестьянских семьях до 30-и мальчиков лет 12-и — самых умных, самых талантливых, самых сильных. Один ты с этим отбором не справишься. Возьми хорошего ученого из наших, этого лицедея и мастера кинжала. Отбирайте только тех мальчиков, у которых каждый из них найдёт способности. Если понадобится — выбирайте одного ребёнка из тысячи. У тебя в Лимассаре создаём учебный центр. Там будем учить их всему — наукам, перевоплощению, владению кинжалом. Хорошо бы учить их ещё разным языкам.
— Наш лицедей, повелитель, кроме фарси, хорошо владеет тюркским и арабским.
— Для начала сгодится. Потом определим, какие ещё языки нужны. И математика! Вам, тупицам, не понять, зачем она нужна, а мои мальчики быстро поймут — умеющий решить сложное уравнение, в одиночку справится с любой задачей.
Хасан задумался и замолчал, словно мысленно разглядывал Лимиссар, находящийся в 30-и километрах от Аламута.
— Ты похвалялся, Умид, что в твоём замке разбиты прекрасные сады, где растут диковинные фрукты, невиданные цветы. Бьют фонтаны. устроены уютные беседки.
— Так, повелитель. Всё это есть в Лимассаре.
— Свои сады отдашь моим фидаям. Там они будут проходить обучение. Запомни, Умид: моим мальчикам — всё самое лучшее. Они своими кинжалами будут вырывать мир из лап шайтана. Мы готовим их на смерть. Они должны чувствовать заботу о себе. Мы должны дать им всё, что можем, и даже чуть больше.
— А музыка в садах фидаев дозволена? — робко осведомился Умид.
Хасан усмехнулся. Все хорошо помнили, как пару лет назад повелитель с треском выгнал из Аламута музыкантов, запретив им когда-либо появляться в своей столице. Хасан не любил музыку, она представлялась ему торжествующей бессмыслицей, расслабляющей волю, парализующей разум. Может быть, в раю, когда придёт время насладиться плодами земных трудов — будет музыка. Но жизнь на земле — непрерывная война. До музыки ли тут? Однако, подумав, Хасан сказал:
— Рай для верных начинается на земле. Во всяком случае, у нас будет так. Если мои мальчики захотят музыки — пусть будет. Если захотят.
Умид, быстро подхвативший идею повелителя, сразу же стал развивать её во всех направлениях:
— В раю должны быть гурии. Может быть, мы предоставим нашим фидаям прекрасных девушек для отдыха и восстановления сил?
— Где ты возьмёшь девушек, бесстыдник? Будешь отнимать дочерей у горцев? Так ты хочешь отплатить нашим преданным слугам? Хочешь, чтобы жители окрестных деревень возненавидели нас?
— О нет, повелитель. У окрестного племени дейлемитов обычаи не запрещают девушкам общаться с мужчинами до свадьбы. Они сочтут за честь.
— Если так. Объясните девушкам и их родителям, что это их служение общему делу. Ни одну девушку не должны привести в Лимассар насильно. Если такое случится — ты лишишься головы.
Умид расслабился:
— Может быть, повелитель назовёт и другие ошибки, за которые я могу лишиться головы, выполняя это задание?
— Ещё — вино и гашиш. Если в садах фидаев появятся вино или гашиш, лучше тебе, Умид, сразу же броситься вниз головой с крепостной стены. Разум моих мальчиков всегда должен быть чистым, прозрачным и холодным, как вода горных родников.
Обучение юных фидаев в Лимассаре пошло полным ходом. Замысел Хасана осуществлялся с изумительной точностью, как и любая гениальная идея. Такой породы людей мир действительно никогда не знал. Фидаи могли всё. И никто не понимал, в чём их разгадка. Конечно — блестящее всестороннее образование, запредельное религиозное рвение, небывалая преданность вождю. Про фидаев можно было говорить бесконечно, но главный секрет этих мальчиков был в том, что они носили в своей душе смерть с той же непринуждённостью, с какой иные носят кошелёк на поясе. Страх смерти был не то что бы неведом, а скорее непонятен фидаям, как страх перед самим собой. Фидаи полностью изгнавшие из себя ничтожное, были людьми из другого мира.
Сельджуки, погружённые в междоусобицу, дали достаточно времени для подготовки мальчиков Хасана. Но вот передышка закончилась, к власти пришёл султан Санджар — правитель сильный и решительный, сразу же вознамерившийся уничтожить измаилитов. Вокруг Аламута сомкнулось кольцо осады.
Хасана это не испугало. Он знал, что жизнь повелителя сельджуков у него в руках. Более того, он не хотел убивать султана, спокойно зная, что в его власти не только казнить Санджара, но и помиловать. Да ведь и невозможно строить власть на одних только убийствах, у иных противников есть разум, а люди, наделённые разумом, могут договариваться. Хасан счёл Санджара человеком разумным и решил сохранить ему жизнь. Так решил хозяин осаждённого Аламута, находившегося на грани голода.
Хасан послал к Санджару посольство с предложением мира. Не капитуляции, а мира. Султан грубо выгнал измаилитских послов, не пожелав с ними говорить. «Однако, он не убил послов», — удовлетворённо подумал Хасан.
Утром следующего дня султан, проснувшись, увидел, что в пол у его ложа воткнут кинжал. Рядом лежала записка: «Если бы я не желал султану добра, кинжал торчал бы у него из груди». Многочисленные охранники султана все были на постах и честно исполняли свой долг.
Султан на целые сутки погрузился в состояние тяжёлой и мрачной задумчивости. Потом велел предложить измаилитам перемирие. Это перемирие вскоре переросло в фактическое признание государства Хасана ас-Саббаха. Санджар позволил измаилитам удерживать часть денег с налогов, собиравшихся на его землях, разрешил собирать дорожные пошлины с проезжающих, даровал другие привилегии.
И всё это благодаря тому, что один-единственный мальчик-фидай совершил невозможное, переиграв многочисленную охрану.
Рашид лихорадочно записывал. Ему открывалась ранее никому не известная правда о фидаях. Хасан рассказывал легко и, пожалуй, даже с удовольствием. Неожиданно сильная боль, словно кинжалом, вонзилась в его чрево. Болезнь! Никто не должен знать о его болезни, тем более этот летописец. Хасан нашёл в себе силы не измениться в лице, лишь сухо проскрипел:
— Всё на сегодня.
Оставшись один, он с трудом, скорчившись, дошёл до постели. Боль постепенно стихла. Она не исчезла, продолжая пульсировать во чреве, но теперь уже не мешала вспоминать о том, чего никогда не узнает летописец.
Вспомнив про своих фидаев и про запрет на вино, Хасан опять невольно вспомнил о сыне. Казалось, само это слово «сын» кинжалом вонзается в его чрево. Спасения не было. Хасан понял, что убив сына, он убил себя. При этом он странным образом не испытывал ни раскаяния, ни сожаления, вспоминая тот момент, когда взмахнул саблей над головой сына. Убийство было лишь итогом, подведением черты. Он потерял сына гораздо раньше, если вообще когда-нибудь его имел.
Наследник был для него «проектом» — одним из многочисленных проектов, которые Хасан во множестве одновременно разрабатывал. А занимался он своими проектами в абсолютном одиночестве, в тишине своей кельи, никогда не пытаясь лично проследить за их осуществлением. Зачем? Он и так всё видел, всё знал.
Он нанял для своего ребёнка лучших учителей. Те потом, заикаясь от страха, докладывали ему, что мальчик не проявляет склонности ни к математике, ни к астрономии, ни к географии. Пытался ли он говорить об этом с сыном? Зачем, если и так стало ясно, что науки — не его стезя. Учителя фехтования так же докладывали Хасану, что сын показывает результаты ниже средних. Опытный администратор Бузургумид пытался обучить его началам управления — результат тот же.
Ему докладывали, что сын чаще всего без дела слоняется по замку, пытаясь вести праздные разговоры то с одними, то с другими. И это у него не очень получалась. Кто же вот так запросто будет болтать с наследником повелителя? Однажды Хасану донесли, что его сын слоняется по Аламуту пьяный. Он велел привести его.
— Кто ты такой, что позволяешь себе пить вино?
— Я сын Хасана ас-Саббаха! — с пьяной развязностью заявил юноша.
— Ты? Сын? Хасана ас-Саббаха? — отец, казалось, был потрясен этим открытием. — Да известно ли тебе, щенок, что Аллах может из камней сотворить сыновей Хасану ас-Саббаху? Мои настоящие дети — фидаи.
— Фидаи — никто. Смертники. Они нужны лишь для того, чтобы убить и умереть.
— Заткнись, ничтожество. Это ты — никто. И говорить с тобой не о чем. Если тебя ещё раз увидят пьяным — зарублю своей рукой.
Его увидели пьяным через неделю. Хасан прикончил его быстро, хладнокровно, не думая, как убивают врага на поле боя. Что испытывал он тогда? Не более, чем досаду. «Проект наследник» был закрыт, а в разработке находилось ещё множество других проектов, куда более впечатляющих.
В последние годы он редко вспоминал о сыне, каждый раз испытывая глухую боль и стараясь не обращать на неё внимания. Что такое боль? Препятствие, которое надо преодолеть. И вот теперь, накануне смерти, он понял: та боль была не препятствием, а сигналом тревоги, который указывал ему на то, что он идёт ложным путём. Всем своим нутром Хасан почувствовал, что потеря сына и молчание Махди — две очень тесно связанные темы, но он никак не мог уловить эту связь.
Хасан попытался получше вспомнить сына и понять, каким он был. Перед ним возникло лицо, на котором отражалась странная смесь из высокомерия и крайней неуверенности в себе. Таким и был его сынок — думающий, что он уже по праву рождения «нечто» и постоянно ощущавший, что он «ничто». Ему не надо было ни к чему стремиться, потому что он уже — сын Хасана, но удовольствие от этой уверенности ни в ком не находило опоры — ни в отце, ни в его приближённых. Отца он почти не видел и не чувствовал, что нужен ему. Приближённые держали себя с ним подчёркнуто вежливо, но соблюдали такую дистанцию, которая не позволяла ему ни к кому приблизиться. Его уделом стало хроническое, можно сказать, врождённое одиночество. Никакие науки его не заинтересовали, потому что не были способом это одиночество преодолеть. Сам Хасан был столь же одинок, но для него одиночество было свободным выбором, он принял на себя эту тяжёлую ношу только тогда, когда стал к ней готов. Для нежной души ребёнка одиночество стало проклятьем, оно стёрло его, свело на нет. Не позволило стать личностью. Отец и сын были двумя самыми одинокими в Аламуте людьми.
— А ведь я, сынок, мог приглашать тебя сюда, на свой балкон. Мы разговаривали бы о звёздах, и ты полюбил бы их. Я рассказывал бы тебе о скрытом имаме, и твоя душа устремилась бы к нему. О многом можно было поговорить. Сын повелителя мог запросто разговаривать только с самим повелителем.
— Да, отец, только этого я и хотел — запросто разговаривать с тобой.
— Мы были нужны друг другу, а я этого не понимал, — горько прошептал Хасан.
— А я не мог сказать тебе об этом, — грустно улыбнулся сын.
— Но сейчас мы вместе? — робко спросил Хасан.
— Не знаю, отец. Ты ещё многого не понимаешь.
Хасан тяжело вздохнул. Он действительно не мог понять, какова связь между истиной и сыном. Почему к истине он мог придти только через сына? Чувствовал, что это так. Но чувствовать мало, надо знать.
Его мысли переключились на скрытого имама. Почему он не явил себя? Хасан опять почувствовал острый приступ боли, потом забылся сном. Ночь превратилась в жуткую смесь из боли и забытья. Мысли стали лихорадочными, туманными, но сны не покинули его. Помнится, он прочитал что-то очень важное у апостола Иоанна. А ведь некоторые христиане утверждают, что сей апостол не умер и по-прежнему пребывает на земле. Так вот оно что! Неужели Иоанн и есть скрытый имам? Надо было искать Иоанна? Говорят, он — в горах Эфиопии? Надо было отправляться в Эфиопию?
Хасан всегда чутко чувствовал фальшь, и сейчас ему сразу же стала очевидна фальшь его рассуждений. Будь имам Иоанном или кем-нибудь другим, но искать его надо было не в Эфиопии, а в собственном сердце. Сердце же Хасана всегда было пусто. Неужели именно поэтому молчал Махди? Кажется, у христиан есть интересные мысли на эту тему. Хасан уснул уже на рассвете с «Новым заветом» в руках.
Пришёл Рашид. Может быть, это их последняя встреча. Сегодня они будут говорить о самом главном.
Учёнейший измаилит, низко кланяясь повелителю Аламута, поднёс ему красиво украшенный свиток.
— Что это?
— Ваша родословная, мой повелитель. Путём сложных изысканий мне удалось установить, что вы ведёте свой род от самого Мухаммада ибн Измаила, а это значит, что вы есть истинный имам — повелитель Космоса, первый после Аллаха.
Хасан развернул свиток, пробежал глазами по строкам. Полный бред. Неужели они думают, что его можно прельстить такой дешёвкой? А ведь многие правители прельстились бы. Но он — не «многие». Хасан один. Они не понимают этого. Учёный глупец, сам того не подозревая, нанёс Хасану тяжёлое оскорбление, приравняв его к обычному султану, жадному до незаслуженных восхвалений.
Хасан небрежно уронил свиток в чашу с водой, стоящую на столе. Потом сказал учёному:
— Возьми и читай.
Тот взял мокрый свиток и растерянно смотрел на чернильные разводы.
— Что же ты молчишь?
— Вода всё смыла, повелитель.
— Неужели? Значит, у меня больше нет родословной? Но вот я перед тобой — всё тот же. От меня не убыло.
— Но если повелитель позволит.
— Молчи. Запомни и передай всем: я лучше буду любимым слугой имама, чем его незаконным сыном. Ступай.
Оставшись один, Хасан долго не находил себе места. Такое не часто с ним случалось. На следующее утро он велел позвать к себе самых близких соратников и начал без предисловий:
— За кого люди считают меня?
— Многие думают, что ты — Махди, имам, вернувшийся из сокрытия, для того, чтобы наполнить землю справедливостью, — сказал Хусейн Каини.
— Но ведь вы знаете, что это не так?
Все согласно кивнули.
— Кем ещё меня называют?
— Говорят, что ты сторонник Низара, сына покойного халифа ал-Мустансира, — сказал Умид.
— Но ведь Низар давно мёртв. Он и на год не пережил своего отца.
— Не все верят, что он мёртв, иные полагают, что ты скрываешь его в Аламуте. Нас уже начали называть низаритами.
— Что за чушь? Низар был ничтожеством, пьяницей, пылью на ветру. Или я представитель пыли, которая к тому же давно развеялась? Что ещё говорят?
— Кто-то считает тебя самозванцем, который незаконно присвоил себе право говорить от имени скрытого имама, — выдал бесстрашный Бузургумид.
Хасан усмехнулся.
— А за кого вы считаете меня?
— Ты — худджа — представитель скрытого имама до его пришествия, — Бузургумид сказал это спокойно и по-деловому, словно доложив о том, что в Аламут доставили сто мешков пшеницы.
Хасан посмотрел на своего полководца с благодарностью. Простой, малообразованный Бузургумид обладал удивительными способностями и никогда не забывал ни одного слова, сказанного повелителем.
— Ты прав, Бузургумид. Но не хотите ли больше узнать о том, кто я?
Несколько пар глаз впились в своего повелителя.
— Я — глас вопиющего в горах. Я призываю сделать прямыми пути имама к тому времени, когда он придёт. Я — всего лишь даи, но я истинный даи. Даи привлекает людей к сокровенному учению имама. Даи устанавливает духовную связь между имамом и его сторонникам.
— А ты, повелитель, разговариваешь с имамом? — за всех спросил Бузургумид, имевший смелость спрашивать.
— Ты спрашиваешь о сокровенном, о запретном. Тебе достаточно верить в то, что волю имама ты можешь узнать только через меня. В чём эта воля, я не раз говорил вам и ещё скажу. Мы должны наращивать силу, которая позволит установить праведное правление имама на земле. Мы должны будем распространить власть имама на весь мир. А весь мир сегодня — зловонное болото. Люди копошатся, как насекомые, стараясь вырвать друг у друга куски богатства и власти пожирнее, люди трусливы, мелочны и ничтожны, они не хотят думать о высоком. Пока такие люди наполняют весь мир, имам не захочет себя открывать. Куда придёт имам? Даже Каир, где правят наши братья-измаилиты — грязная помойка, столица ничтожества. Что уж говорить про города язычников. Где же имам найдёт опору? Где та точка, с которой он начнёт завоевание мира? Здесь, в Аламуте. Сюда придёт имам, потому что здесь он найдёт чистых сторонников, которые не заботятся о мелочном и готовы отдать за него жизнь, ни секунды не раздумывая.
— А если имам до сих пор не пришёл, значит, мы ещё не всё подготовили к его приходу? — спросил Хусейн Каини.
— Правильно мыслишь, Хусейн. Но понимаешь ли ты, что значит хорошо подготовиться к приходу имама? Может быть, государство, которое мы создали для имама, ещё не достаточно крепко и устойчиво? Нет, уже достаточно. Может быть, в Аламуте, Лимиссаре и Кухистане недостаточно чисто? Нет, у нас везде порядок. А вот сердца наши недостаточно устойчивы и чисты. Все ли наши люди полностью победили страх смерти и избавились от мелочных страстишек? Все ли помыслы наших людей направлены только к имаму? Сердца готовьте! Очищайте их от всего земного. Вы поняли?
Слова Хасана произвели на его соратников страшное впечатление. Под взглядом жёлтых глаз, в которых, кажется, и впрямь не было ничего земного, они почувствовали себя полными ничтожествами. Но каждый знал — они перед лицом такого величия, какого нет нигде на земле. Они были угнетены и счастливы одновременно.
Наконец Бузургумид решился спросить:
— Значит, халиф ал-Мустансир не был имамом?
— Плохой вопрос. Какое тебе дело до того, кем был человек, которого больше нет?
— А халиф Мустали?
— Мустали — не имам. Вы не о том спрашиваете. Зачем гадать, кто может быть скрытым имамом? Он из рода Али — это известно. Он подчинит себе весь мир — это так же известно. Он придёт к нам. Больше некуда. А чьим сыном он будет. Аллах знает об этом лучше.
Всё было не так, как представлял себе Рашид. Теперь он понял главное: дело не в доктрине Хасана, дело в нём самом. Этот человек обладал потрясающей способностью к подчинению чужой воли. Он был живым воплощением неземной власти. Только в этом и заключалось объяснение его невероятных дел. И всё-таки Рашид спросил о том, о чём собирался:
— А вот доктрина «талима», которую вы, повелитель, гениально усовершенствовали. Если честно, я не смог в ней разобраться. Не могли бы вы объяснить?
— Талима. Ты не очень устал, летописец?
— Рядом с вами никто не чувствует усталости.
— А потом падают замертво.
Рашид содрогнулся. Хасан неторопливо начал:
— Скажи мне, нуждается ли человек в учителе, для того, чтобы познать Бога? Либо нуждается, либо нет. Ведь так?
— Бесспорно.
— Предположим, человек считает, что учитель ему не нужен. Тогда он не должен считать, что его суждения лучше других суждений.
— Почему? Мудрый прав, а глупый ошибается.
— Но ведь если ты считаешь, что учитель не нужен, значит, и сам ты не должен учить. А если ты отрицаешь чужие суждения, значит ты учишь. Как же можно отрицать роль авторитета и тут же утверждать эту роль в собственном лице?
— Значит, учитель нужен? — робко предположил Рашид.
— Да. Нужен авторитетный учитель. Учение суннитов совершенно несуразное. Они полагают, что община Мухаммада никогда не может впасть в ошибку — умма не ошибается. Сунниты вынуждены передавать истину через множество людей. Но любой из этих людей может быть отъявленным еретиком или попросту глупцом. А, собравшись все вместе, еретики и глупцы превращаются во вселенский разум?
— Да, да, я понимаю, — затараторил Рашид. — Множественность указывает на ложность. Должен существовать единственный и неповторимый авторитет — источник истины. Это имам.
— Верно. Либо учитель должен быть авторитетным, либо сойдёт любой учитель. Но если любой, тогда почему не я сам? А если я сам могу быть собственным учителем, значит учитель не нужен. Это понимают все шииты. Но шииты-днунадесятники думают, что они уже ответили на вопрос, а между тем, они всего лишь его поставили. Как доказать авторитетность учителя? Мы не можем этого сделать, если наше доказательство не опирается ещё на какой-нибудь авторитет, но его авторитетность опять же придётся доказывать. Значит, мы так и не обретём учителя. В итоге шииты оказываются в таком же затруднении, как и сунниты.
— Дальше мой разум не может идти, — Рашид беспомощно хлопал глазами.
— А дальше ничей разум идти не в состоянии. Дальше должна идти воля. Имам сам является своим доказательством. Сама природа его притязаний является доказательством. Мой имам, единственный, кто осмелился заявить, что является собственным доказательством, поэтому его должны признать все мусульмане.
— Но Мустали тоже заявляет.
— Что он заявляет? Его улемы заявляют. А они погрязли в спорах. У них нет единства. Между тем, лишь единство является доказательством истины, которая опирается на уникальный и непосредственный авторитет имама. Я создал единство. Я, Хасан ас-Саббах, только я имею право говорить от лица имама.
— Значит, в познании имама разум бессилен?
— Не так. Как же ты познаешь подлинность моих слов, если не будешь использовать разум? Главную роль во взаимоотношениях имама и разума играет диалектика. Без разума имам не постижим. Без имама выводы разума бесполезны. Без разума имам остаётся недоказанным, без имама разум оказывается бессильным. Но вот разум, а вот имам. Вместе он неуязвимы.
В своём поиске окончательного решения всех религиозных вопросов Хасан предпринял ужасающий, отчаянный прыжок. Он знал, что его бескомпромиссный скептицизм, выискивающий ошибки в собственных абстрактных построениях, может привести человека к безумному отрицанию всего на свете. Но он презирал полумеры, его не интересовали полуистины. Он не собирался делать «ещё один шаг вперёд». Ему нужен был только последний шаг — решительный и бесповоротный. Это было всепоглощающее сосредоточение только на окончательных истинах. Всю свою душу он вложил в абсолютное, универсальное обоснование авторитета имама. Он шёл к обоснованию, которое выходило бы за пределы любых соображений опыта и истории.
Его обвиняли в беспредельном стремлении к самоутверждению. Они никогда не понимали, что это и есть стремление к самоотрицанию, самоуничтожению. А он понимал и был готов. Хасан — это всё. Значит, Хасан — ничто. Он понимал и не боялся.
Пророк Мухаммад. Какой смысл говорить о пророке, если не имеешь ни малейшего представления о Боге, пророком которого он является? А наши понятия о Боге — набор бессмысленных слов, пока он не является через пророка. Но как признать пророка, если он давно умер, и у нас нет с ним прямых контактов? Только живой (!) имам может восполнить эту логическую необходимость. Вот только имам молчит. Да, молчит. Хасан презирал любой самообман. Молчание есть молчание и ничего больше. Где он, этот имам? И тогда приходит ненависть к сокрытому и молчащему. А потом страх, потому что очень уж на многое посягнул.
Словно откуда-то от подножия высочайшей горы донёсся голос Рашида:
— Весь мир полон легендами о вашей библиотеке, но никто её не видел.
— Библиотека. — Хасан словно проснулся. — Ты увидишь её.
В доме Хасана было несколько комнат. Библиотеку он расположил там, где когда-то была женская половина. Книги сверху до низу закрывали собой большую стену.
— То, что собрал за 30 лет, — равнодушно сказал Хасан.
Рашид обомлел. Никогда в своей жизни он не видел столько книг. Даже в домах далеко не самых бедный мудрецов было лишь по несколько фалиантов, а здесь их сотни. Жизни не хватит, чтобы прочитать все. Или надо заниматься только этим.
— Повелитель, вы прочитали все эти книги? — восторженно спросил Рашид.
— Да, конечно, — недовольно побурчал Хасан. — Иные — по несколько раз.
Ему было больно вспоминать про свою страсть к наукам. Что дали ему книги? Что в них толку, если главный вопрос так и не решён? Он может считать себя одним из самых образованных людей в мире, но это ничего не значит и ничего не стоит. Хасан стал перечислять книги, словно предавших его друзей:
— Вот Аль Хорезми. Ему принадлежит описание всей обитаемой части мира, основанное на географии Птолемея. Но это ерунда. Зачем нам знать про мир, который ещё не завоёван? Всё равно что считать персики в саду у соседа. Интереснее его работы по математике.
— Говорят, Аль Хорезми изобрёл арабские цифры?
— Нет, это индийские цифры. Аль Хорезми их только заимствовал. А вот квадратные уравнения никто до него решать не умел. Это ценно. В астрономии он мало что открыл, однако, сделал нечто весьма полезное — составил для халифа аль-Мамуна свод нескольких индийских астрономических таблиц, известный под названием Синд Хинд. Вот она, эта книга. А вот «Звёздный канон» Абу Рейхана Беруни.
Рашид продолжал расплываться в блаженной улыбке:
— Я слышал про эту книгу, мечтал её найти, да где уж. Говорят, Абу Рейхан намекает на то, что земля вращается вокруг солнца.
— То же мне открытие. Индусы за несколько столетий до Беруни знали, что земля вращается вокруг своей оси и вокруг солнца. Но это пустое знание. Оно ничего не даёт.
— А книги индусов у вас есть?
— Нет. Зачем? Арабы выжали из индусов всё, что нужно. Но у индусов нет ни слова о том, что Аллах желает от нас.
— Говорят, погрузившийся в море знания, не жаждет берега.
— Так говорят глупцы. Мы все должны стремиться к берегу, ибо наш берег — Аллах. А имам — путь к Аллаху. Познать имама — единственное к чему надо стремиться.
— Но разве математика поможет нам в этом? Здесь у вас есть замечательные книги знаменитых математиков — ибн ас-Салиха и ибн ас-Саффара. Человек не может считать себя мудрым, если не знает их книг, но разве они пишут об имаме?
— А ты читал эти книги?
— Пытался. Понял, конечно, не много.
— В этом всё и дело. Знаешь ли ты что есть алгебра?
— По-своему представляю, но затрудняюсь выразить.
Хасан усмехнулся и взял с полки небольшую книгу. Рашид прочёл на обложке: «Омар Хайям. Трактат о доказательствах». Хасан с неожиданной для него назидательностью школьного учителя заговорил:
— Вот, что пишет Хайям: «Искусство алгебры есть научное искусство, предмет которого составляет абсолютное число и неизмеримые величины, являющиеся неизвестными, но отнесённые к какой-нибудь известной вещи, по которой их можно определить. Эта вещь есть количество или отношение». Ты понял, что это значит?
Рашид беспомощно помотал головой.
— Но как же можно говорить про имама, не понимая простейшего? Скажи мне, имам является неизвестной величиной?
— Так, должно быть.
— Но является ли он величиной измеримой?
— Это доступно лишь повелителю.
— Это никому не может быть доступно.
Хасан поставил на полку «Трактат о доказательствах» и взял в руки другую книгу. Он смотрел на неё, не раскрывая.
— Самая ценная работа Омара Хайяма: «Толкование трудностей во введениях к Эвклиду». Если бы ты мог понять, о чём пишет здесь Хайям. Этот человек — завоеватель нового царствия разума. Его мысль поднялась до высот, казалось бы, совершенно недоступных человеческой мысли. Он фактически стёр грань, отделявшую иррациональные величины от числа. Есть величины, про которые можно доподлинно сказать, что они существуют, это доказано со всей неопровержимостью. До определённого предела их можно даже выражать и записывать, но невозможно выразить целиком. Невозможно в принципе, это совершенно не зависит от нашего искусства. Наступает предел, после которого каждый новый знак стоит кровавых слёз, но окончательное выражение остаётся по-прежнему недоступным. Таков и есть скрытый имам. Мы должны стремиться к нему, мы обязаны пытаться его познать, но мы никогда его не достигнем и не познаем. В определённый момент язык человеческих слов становится совершенно бессмысленным и бесполезным, дальше ты можешь двигаться, выражая плоды своего познания на языке алгебры, но и этот язык в своё время становится столь же бессилен. Тогда алгебра уже не нужна. Как ты думаешь, Рашид, что тогда нужно?
— Тогда нужен Хасан ас-Саббах.
— Правильный ответ. Но совершенно бесполезный.
Рашиду стало не по себе. Он почувствовал, что надо хоть о чём-нибудь спросить:
— Говорят, что Омар Хайям был вашим другом?
— Никогда. Я в глаза не видел этого рифмоплёта и пьяницу. Не знаю даже, жив ли он теперь. Если подох — не велика потеря.
Хасан сел в кресло. Невозможно было понять, спит он или бодрствует. Пока повелитель находился в таком состоянии, Рашид не решался даже рассматривать книги. Казалось, прошла вечность, когда летописец услышал тихий шипящий голос Хасана:
— Ты покинешь Аламут сегодня до заката солнца.
— Аламут в осаде, мой повелитель. Впрочем, я пройду через сельджуков. Клянусь, не скажу им ни слова о том, что видел и слышал в Аламуте.
— Ты можешь рассказывать им всё, что захочешь. Сельджуки, если говорить языком математики — «величина, стремящаяся к нулю». Они достойны внимания не более, чем назойливые мухи. А в Аламуте, как ты заметил, нет мух. И никогда не будет. Ты напишешь мою биографию?
— Да, повелитель, напишу. И буду как о высшей чести просить о том, чтобы поднести вам свой скромный труд.
— Ты никогда не поднесёшь мне свой труд. Однако, трудись. Двигайся. Не застывай. Теперь всё. Иди.
Хасан знал, что этой ночью умрёт. Боль во чреве совершенно оставила его — верный признак того, что смерть на пороге.
Последние годы прошли в непрерывных боях с сельджуками. Новый султан Мухаммад был неутомим в походах против крепостей измаилитов. Это была непрерывная цепь осад и приступов. Он теряли одни крепости и тут же захватывали новые, потом отбивали старые и тогда новые попадали в осаду — так до бесконечности. Вся эта возня интересовала Хасана очень мало. Он не хотел даже убивать султана, сказав своим: «Султан Мухаммад уже взвешен на весах и найден весьма лёгким». Франки, крепко обосновавшиеся в Палестине и Сирии, были окончательным приговором сельджукам. Да и фатимидскому халифату тоже. Всё это рухнет, а горная империя, созданная Хасаном, устоит. Это было ясно и просто. Но это не имело больше значения.
Хасан знал, что дело всей его жизни проиграно. Проиграно окончательно и бесповоротно. Ему наследует Бузургумид — бесстрашный воин, талантливый полководец, хороший администратор. Но не более того. Бузургумид не унаследует у Хасана его стремление к истине, к познанию имама, к служению высшему идеалу. Этот полководец, как, впрочем, и все, кто ему наследует, будут думать лишь о сохранности своей власти над Аламутом, уже не зная, зачем это надо. Аламут устоит, но превратится в мёртвый памятник самому себе.
Бузургумид ещё хорош, он многое впитал от Хасана, пусть и не осознанно. Но даже он был величиной значимой лишь до тех пор, пока стоял за Хасаном, как ноль за единицей. А на смену ему придут в Аламут правители совершенно ничтожные, не помышляющие ни о чём, кроме власти и наслаждений.
Впрочем, глупо жалеть о том, что у него нет настоящего наследника. Что бы он ему передал? Свою пустоту и отчаяние? Своё духовное поражение? Стремление к истине? Ну да. Скрытый имам — логическая необходимость. Но его нет. Сейчас, когда на пороге смерти страх перед непознанным Махди прошёл, Хасан вдруг понял, что Махди нет. Значит и логики нет. И математики нет. Истины просто не существует.
Хасан взял в руки «Новый завет» и начал его листать.
— Читал ли ты эту книгу, сынок? Ты ведь не любил читать.
— Любил. Ты не знал об этом, отец. Я читал не те книги, которые задавали учителя, и они докладывали тебе о моих скромных успехах. А я читал. И эту книгу — тоже.
— Что же ты ценил в этой жизни, сынок?
— Вино и книги, — с лёгкой иронией улыбнулся сын. — Только вино и книги согревали мою душу.
— Но душу надо закалять, а не согревать.
— Если не согреешь — не закалишь. Отец, у тебя мало времени. Почитай внимательно книгу, которую держишь в руках. Если сможешь согреть свою душу — будешь вооружён. Тебе предстоит страшный бой. Последний и самый страшный в твоей жизни.
Слова сына про предстоящий бой Хасан пропустил мимо ушей, но совету решил последовать.
Пилат спросил Христа: «Что есть истина?». Но ведь Христос не ответил. Впрочем, кажется, тут где-то было. Вот. Христос говорит: «Я есть истина». Значит, истина есть Христос? Но это ничего не объясняет. Предположим, Христос — Бог. Значит Бог есть истина? Но Бог не доступен пониманию. Всё опять пошло по кругу.
И тут в его сознании вспыхнули слова апостола Иоанна, прочитанные ещё вчера: «Бог есть любовь». Христос есть истина. Христос есть Бог. Бог есть любовь. Значит!!! Истина есть любовь. Это было простое и бесконечно прекрасное уравнение. Истина наконец открылась ему.
Так вот почему сын заговорил с ним. Хасан никого и никогда не любил. Но искра любви тлела в нём, не разгораясь. Эта искра напоминала о себе болью, которую он испытывал, когда вспоминал про сына. Сын был единственным человеком, которого он мог бы, наверное, полюбить. Вот в чём была связь между скрытым имамом и сыном. Истина могла открыться ему через любовь к сыну.
Хасан почувствовал, что очень любит сына, который даже на том свете не забыл про отца. А сын любил его всегда. И теперь их любовь преодолела границы миров.
В тот момент, когда Хасан осознал это, перед ним разверзлась чёрная бездна. Это не было видением или образом. Может быть, бездна просто разверзлась в его душе. Но голос он услышал отчётливо:
— Ты искал меня и нашёл.
— Скрытый имам? Махди? Решил, наконец, заговорить? Но ты мне больше не нужен.
— А кто тебя спрашивает, дурак, о том что тебе нужно? Ты отдал мне всю свою душу. Теперь твоя душа принадлежит мне.
— Иблис[10]? Ты и есть — Махди?
— Какой же ты дурак, Хасан. Я есть вечная смерть. Истины и жизни больше не существует. Быстро к ноге, ничтожество!
— Истина существует. Это Христос, — неожиданно для себя сказал Хасан, и его сердце наполнилось тихой радостью, какой он не испытывал никогда в жизни. Сразу же рядом с ним (а, может быть, в его душе) появился мирный Свет — добрый и ласковый. Со стороны Света он не слышал никакого голоса, но ощущал, что Свет так же призывает его к себе, как и тьма.
— Не смеши меня, — язвительно усмехнулся Иблис, хотя голос его прозвучал уже не столь уверенно. — Кровавый маньяк, никого в своей жизни не любивший, вдруг обратился ко Христу. Это не твоё, Хасан.
— Я любил истину и пытался ей служить.
— Ты не любил истину. Ты её страстно желал. Это разные вещи. А служил ты только собственной гордыне. Значит, ты мой.
— Что же ты не открыл себя раньше?
— С такими путаниками, как ты, лучше не действовать открыто. Стал бы ты служить «скрытому имаму», если бы знал, что он — враг Аллаха?
— Ни за что.
— Вот именно. Я и сейчас не явился бы тебе, если бы ты не стал совать свой нос в совершенно ненужную тебе книгу. Успели бы ещё встретиться после твой смерти. А при жизни ты, и не зная меня, всё равно служил мне — скрытому и таинственному, всё отрицающему, не признающему над собой никакой власти. Или не понял до сих пор — ты мне подобен!
— Я не твой.
— Чей же ты?
— Ничей.
— Дурак. Всякий, кто считает, что он — ничей, на самом деле — мой.
Хасан понял, что полемика с этим существом ни к чему не приведёт. От него не прикроешься словами. Время диспутов закончилось. Пришло время выбирать.
Свет манил к себе, но не уговаривал и ничего не требовал, в отличие от Тьмы. Хасан понимал, что достаточно ответить Свету внутренним согласием, просто выбрать Его, и Тьма тот час отступит. Но это оказалось не так просто. Свет был теперь любимым, но по-прежнему чужим, что-то в нём пугало Хасана и очень сильно отталкивало. Тьма была ненавистной, но, как ни странно, весьма родственной, влекущей к себе. Хасан чувствовал, что выбрать Тьму гораздо проще — подобное тянется к подобному. Казалось, что он обречён, и всё-таки он понимал, что вопреки всей логике выбор у него есть. Он ещё не принял решение. А времени почти не осталось. Он не доживёт до рассвета.
После смерти Хасана ас-Саббаха прошло почти полтора века. Горное государство низаритов, выжившее во многочисленных бурях, теперь рушилось под ударами монголов. Воины хана Хулагу брали крепость за крепостью, им покорилось уже около ста низаритских твердынь. Аламут выдержал многолетнюю осаду, но в конечном итоге сдался.
Персидский историк Ата Малик Джувайни был потрясён, когда ему рассказали, что в каждой низаритской крепости монголы находят богатую библиотеку. Неужели эти дикие фанатики, наркоманы-убийцы, которых ненавидит весь мир, были на самом деле книжниками-мудрецами? Кем же были эти проклятые ассассины, если не только их вожди, но даже коменданты самых незначительных крепостей никак не могли обходиться без хороших библиотек? Что это были за люди? А не важно! Главное, что они — были. И никогда их больше не будет.
И всё-таки Джувайни не смог удержаться от соблазна и, пользуясь хорошими отношениями с монголами, отбыл к осаждённому Аламуту в надежде, что застанет крепость ещё не разрушенной и сможет ознакомиться с аламутской библиотекой.
Джувайни проторчал под стенами Аламута несколько месяцев и вот, наконец, низариты сдали свою твердыню. Аламут поразил учёного перса. Большие пространства крепости создавали впечатление самодостаточного мира. Роскошные оштукатуренные здания. витые лестницы. почему бы и не провести здесь всю жизнь, если есть хорошая библиотека?
А вот келья, где некогда жил Хасан ас-Саббах. Вряд ли здесь что-то изменилось с его времён. Переступив порог хасанова жилища, Джувайни был вторично поражён, на сей раз — суровым и мрачным аскетизмом этого помещения. Стены грубого камня, никакой отделки, полное отсутствие украшений, минимум мебели и то довольно грубой. Похоже, последующие вожди низаритов жили уже не здесь, устроив в келье Хасана что-то вроде библиотеки с читальным залом. Да и кто бы кроме ас-Саббаха решился здесь жить? Какой контраст с общим аламутским великолепием. А ведь Хасан ас-Саббах 35 лет не покидал эту келью, не желая видеть не только окружающего мира, но даже и самого Аламута вне своей конуры.
Джувайни почувствовал, что душу его сжал зловещий ужас от прикосновения к чему-то непостижимому и запредельному. Вот комната с книгами. Огромное количество прекрасных фолиантов. Благоговевший перед знаниями перс в любой другой ситуации набросился бы на книги и листал бы их часами, а здесь было ещё интереснее — он мог взять себе любое количество этих книг. Однако, ноги его словно приросли к полу, он стоял перед книгами и боялся приблизиться, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к ним.
Этих книг касались руки великого Хасана ас-Саббаха. Великого?! Омерзительный паук, боящийся солнечного света, забившийся в каменную щель и раскинувший на полмира гнусную паутину убийств! Что в нём великого? Эти мысли воплем вырвались из души Джувайни. И в тот же момент он почувствовал, что сам он — никто перед таким человеком, как Хасан ас-Саббах. Замерев перед непостижимой загадкой этой грандиозной личности, оставалось только брызгать слюной в бессильной злобе. Это мелочно и недостойно мудреца — у Джувайни хватило честности и смелости вынести приговор самому себе. Он подумал о том, что надо бы всё-таки посмотреть книги, но в этот момент в комнату вошёл монгольский военачальник. Суровое и тупое лицо этого не знавшего сомнений человека вывело Джувайни из оцепенения.
— Нашёл что-нибудь интересное? — спросил монгол.
— Ничего особенного. Можно всё сжечь.
Монголы приступили к исполнению чрезвычайно сложной задачи — сносу крепости Аламут.
В горной деревне Андрея раздражало теперь всё, что он видел вокруг себя — и эта пыль на дороге, и эти маленькие аккуратные домики, и эти горы вокруг. Не радовали больше благородные и доброжелательные лица крестьян, их плавная и переливчатая речь скребла по душе напильником. Халаты, чалмы, паранджи — всё выводило из себя. Как его достал весь этот восточный колорит, первоначально приводивший в восторг. Про ислам ему даже думать было больно — объелся до отрыжки. И в Каабу Христа на последнюю службу он не пошёл — всё здесь было чужим, не на него рассчитанным. Экзотика восхищает недолго. Вымотал его этот отпуск. Пора в Европу. А его Европа теперь в Африке. Сиверцев горько усмехнулся.
Встав перед иконой, он, как тамплиер в походе, вместо обедни 13 раз прочитал «Отче наш». Казалось, молитва дерёт горло — сухая и жёсткая. И всё-таки стало легче. Он постарался собрать мысли в кучу.
Во всём виноват ас-Саббах. Даже ночами он слышал теперь это змеиное шипение: «Хас-с-с-с-сан». Нельзя безнаказанно прикасаться к памяти таких людей. Да, безнаказанно нельзя, а вообще — надо, если мы хотим хоть чем-то быть в этом мире.
Хорошо бы закрыть глаза и сказать себе, что больше не существует ни шиитов с суннитами, ни суфиев с дервишами, ни измаилитов с низаритами, но мир от этого не изменится. Мир переполнен исламом и от этого никуда не денешься. В этом мире нет отдыха, уюта, комфорта, кто ищет их — гоняется за миражами. На земле невозможно «устроиться поудобнее». Здесь — непрерывная война, в первую очередь — война идей, порождающая все остальные войны.
Что такое его исламские изыскания? Переговоры с противником. Поиск перемирия. Стремление ко взаимному пониманию. Одновременно с поиском уязвимых мест. Куда денешься? Войну никто не отменял. Надо продолжать.
Сиверцев полагал, что от Хасана ас-Саббаха сразу же перейдёт к сирийским ассасинам и Горному Старцу — Синану. Но, подумав, он понял, что Синан пока постоит в очередь. Нельзя рассматривать отношения тамплиеров и ассассинов вне контекста отношений Ордена Храма с исламским миром вообще. А это в свою очередь невозможно, пока не разберёшься в отношении Западного мира к исламу.
Первый крестовый поход. Хасан ас-Саббах уже прочно обосновался в Аламуте. Вторжение крестоносных франков в Палестину его совершенно не волнует. Хасан скорее даже радуется тому, что франки наносят поражение за поражением его заклятым врагам — сельджукам. Но всё это далеко от Персии вообще и от Хасана в частности. Ему не до крестоносцев.
А крестоносцы? Что знали они об исламе, о мусульманах, против которых обнажили мечи? Ни-че-го! Ничего и даже более того. Дикая и дремучая религиозная безграмотность Запада до глубины души поразила Сиверцева. Ладно ещё то, что простые рыцари, участники крестового похода, слабо разбирались в нюансах сравнительного богословия и смутно представляли себе, что такое ислам, против которого они ополчились. Но и самые образованные люди Запада — хронисты, поэты, богословы — люди, писавшие книги, пороли про ислам такую дичь, что даже Дэн Браун по сравнению со средневековыми авторами — академик.
В хрониках первого крестового похода не раз встречаются странные описания мусульманских мечетей, в которых, оказывается, были огромного размера статуи Мухаммада, покрытые золотом и серебром. Наиболее подробное описание «идола Мухаммада» можно найти в хронике «Деяния Танкреда» Рауля Канского. Уважаемый Рауль в изумительных деталях описывает серебряную, инкрустированную золотом статую Мухаммада, которую обнаружил норманнский предводитель Танкред в мечети Аль-Акса, когда ворвался туда.
Надо ли объяснять, что никаких «идолов» и «статуй» ни в одной мечети никогда не было и быть не могло, потому что в исламе вообще запрещено изображение человека, и запрет этот связан именно с подчёркнутым отвращением к идолопоклонству, которое мусульмане всегда испытывали. Ислам и возник-то из отвержения идолов, мусульмане, пожалуй даже чрезмерно усердствовали, избегая любого намёка на идолопоклонство, сторонились любых изображений, которым хотя бы теоретически кто-то мог поклоняться. А тут, нако-те, статуя Мухаммада посреди Аль-Аксы.
Рауль Канский писал свою хронику между 1112 и 1118 годами, и хотя он не был участником первого крестового похода, но, безусловно, был знаком с «первопоходниками», каковых тогда было вокруг великое множество. Он ведь писал не про давно минувшие времена и не про давно исчезнувшую религию, а про своё время, про своих современников и земляков. На чьих, интересно, «свидетельских показаниях» он построил свой рассказ про «статую Мухаммада»?
Но есть и более поразительный факт. Фульхерий Шартрский не только участвовал в первом крестовом походе, но и прожил в Святой Земле длительное время, а между тем он так же вспоминает об идолах в мечетях. Значит, Фульхерий сознательно клеветал на мусульман? Зачем? Если дело крестоносцев — святое, то неужели недостаточно вполне реальных доводов для его обоснования? Неужели мученикам-крестоносцам, претерпевшим ради Христа невероятные страдания и отдавшим жизнь, защищая христиан, прибавила бы святости эта глупая клевета на их врагов? К тому же множество франков, никогда не видевших идолов в мечетях, прекрасно осознавали, что Рауль, Фульхерий и прочие им подобные — лжецы.
За этим, похоже, скрывается такое состояние души, которое не позволяет видеть во врагах ничего хорошего, а всё плохое в этом мире с радостью им приписывает, не утруждая себя проведением грани между ложью и правдой. «Чем плоха ложь, если она нам выгодна? Ну не в этом виноваты враги, так в другом, а в общем-то они во всём виноваты, потому что они плохие». Не таков ли принцип любой политической и религиозной пропаганды, включая и современную? Нам ли пенять на средневековых пропагандистов?
Впрочем, Средневековье имело в этом смысле свою специфику. Авторы той поры, кажется, совершенно не чувствовали грани, отделяющей вымысел от реальности. Они, пожалуй, даже и не врали в обычном смысле, потому что сами себе верили, любую фантазию принимая за реальность, если она была достаточно впечатляющей. Они фактически жили в воображаемом мире, ни сколько не задумываясь о том, что любая картина действительности нуждается в доказательствах, подтверждениях, свидетельствах. Это нам понятна разница между хроникой событий и художественным произведением, а для средневековых авторов такой разницы не было.
Про мусульман рассказывали небылицы и почище, чем «идолы в мечетях», легко и непринуждённо обвиняя их в многобожии. Это мусульман-то, у которых вся вера сводится к тому, что Бог — один.
Героическая песнь «Фьерабрас» описывает покрытые золотом статуи мусульманских богов: Первагана, Аполлеса и Марса. В «Песни о Ролланде» мусульманский эмир Балиган заявляет о своём почитании мусульманских богов — Магомета, Аполлена и Первагана. Винсент из Бове и другие средневековые авторы охотно рассказывают про мусульманский культ богини Венеры.
Надо ли объяснять, что мусульмане не давали ни малейших поводов к тому, чтобы подозревать их в многобожии. Средневековые писатели резвились, как дети, выдумывая различных мусульманских богов, и сами же этим сказкам верили, и никто в Европе не сомневался, что мусульмане — идолопоклонники и многобожники. Логика была примерно такой: если мы воюем с мусульманами, значит они язычники, потому как с кем же ещё и воевать христианам, как не я язычниками.
Поразительным было полное отсутствие интереса к реальному исламу и миру ислама даже со стороны богословов. Последние, так же как и сочинители «героических песней», описывая ислам, просто игрались со своими фантазиями. Беда Достопочтенный писал, например, что сарацины являются потомками Агари, египетской наложницы Авраама, но они приняли имя Сары, законной жены Авраама, чтобы скрыть своё незаконное происхождение. От такой «этнографии» дурно делается. Арабы действительно, согласно Библии, являются потомками Агари, но ни они и ни какой-либо другой мусульманский народ никогда не называли себя сарацинами. Эту кличку по глупости дали мусульманам сами же крестоносцы, после чего многомудрый богослов изощрённо объяснил европейскую глупость мусульманской хитростью.
Неужели европейские христиане ни сколько не пытались понять ту веру, которую объявили подлежащей истреблению? Да вроде бы и пытались. Клюнийский аббат Петр Достопочтенный даже заказал для себя перевод «Корана» на латынь, но не похоже, что это пошло ему на пользу. В своём сочинении «Против секты сарацин» аббат писал о том, что ему самому непонятно, является ли ложное учение ислама ересью, а его последователи еретиками, или же их следует считать скорее язычниками. Где уж понять. Даже под микроскопом в исламе невозможно обнаружить ни малейших признаков язычества. Если же анализировать не сам ислам, а европейские сказки на эту тему, тогда и правда возникают затруднения. Среди мусульманских народов Петр называет турок, арабов, сарацин. Значит, он не считает, что «сарацины» — кличка всех мусульман, полагая их неким особым народом. После этого о чём ещё говорить?
О, Петру Достопочтенному было что сказать. Он утверждал, что Мухаммад своими проповедями предоставил Сатане треть человечества, отторгнув от Христа и подчинив власти дьявола. Это, мягко говоря, богословское мнение можно считать ключом к пониманию религиозной психологии крестоносцев и объяснением всех прочих небылиц об исламе. Не богословие заставило взяться за меч, а меч породил богословие. Не потому всколыхнулась вся Европа, что мусульмане — исчадья ада, а наоборот: поскольку всколыхнулась вся Европа, значит мусульмане исчадья ада.
Первый крестовый поход был предприятием неслыханным по своей грандиозности, и это само по себе породило у франков представление о том, что религиозная цель похода соответственно столь же грандиозна, глобальна. Защищать восточных христиан от наскоков каких-то там еретиков, которые верят в того же Бога, что и христиане? Это слишком мелкая цель, которая может стать поводом для небольшой локальной войны. А тут весь христианский мир всколыхнулся и дружно двинулся на врага — средство столь крайнее, что и враг должен быть, соответственно этому средству, самым страшным изо всех, какие только бывают в мире. Тут уж на роль врагов не подходят «почти христиане», они должны быть служителями самого сатаны. Потому-то мусульманам так легко приписывали всё самое отвратительное, что только бывает в религии. Знали, что не ошибутся — служителям сатаны непременно должны быть присущи все мерзости, какие только существуют. Потому мечети с такой лёгкость называли «diabolicum atrium» — обиталище дьявола, не имея склонности вдаваться в богословские детали.
Если мы стреляем из пушки — враг не может быть воробьём. Если мы на кого-то сбросили атомную бомбу, враг просто обязан быть носителем всех существующих в мире пороков. Европа сама себя загипнотизировала. Вспыхнув небывалым религиозным рвением, Европа была столь поражена собственным рвением, что нашла ему лишь одно объяснение — приблизилась последняя битва добра и зла. Ведь шли-то в Святую Землю, которая будет сценой окончательной битвы Христа и Антихриста. Ожидание конца времён и последней битвы с Антихристом было свойственно времени первого крестового похода. А в эпоху глобального катаклизма можно уже не щадить ни себя, ни врагов.
Говорят, Бернар Клервосский провозгласил формулу: «Крещение или смерть». Он полагал, что язычникам лучше умереть, чем жить во грехе. Если только на святого Бернара не наговаривают лишнего, так надо признать, что это совершенно нечеловеческое, по сути — антихристианское богословие. Сиверцев печально вздохнул над этим трагическим заскоком любимого им Бернара. Любить — не значит разделять заблуждения.
Запад, Запад. Вечно увлекающийся, склонный к экзальтации, не знающий духовной трезвости. Создающий в своём воображении грандиозные картины, а потом позволяющий этим картинам собой управлять. Сиверцев по-прежнему очень любил крестоносцев-идеалистов, погибавших за Христа, но невозможно было, глядя правде в глаза, видеть в первом крестовом походе один только чистый и незамутнённый порыв святости. Слишком много было экзальтации, а отсюда — много жестокости, очень уж хотелось сразиться с войском самого дьявола, так хотелось, что на роль сатанинского воинства вполне подходили любые враги.
Попытки понять ислам как можно глубже и серьёзнее, честнее и объективнее, так измучили Андрея, что он уже пожалел о предпринятых изысканиях — мало радости копаться в чужих заблуждениях. Но теперь он окончательно понял, что не напрасно изучал ислам. Нельзя брезговать изучением религии врагов. Богословски безграмотный рыцарь веры легко превращается в ожесточённого фанатика, чего, к сожалению, не смогли избежать многие первые крестоносцы. Нельзя создавать удобный для себя образ чужой веры. Это образ должен быть правдивым, иначе и сражаться будешь не во имя правды, а во славу собственных химер. Легко объявляя всех иноверцев «слугами дьявола», с той же лёгкость самому можно стать игрушкой в дьявольских руках.
Впрочем, мифологизация ислама относится в большей степени к эпохе первого крестового похода. Когда крестоносцы создали на Святой Земле свои государства, и мусульмане стали для них не только врагами, но и соседями, западные авторы проявили достаточно честности и объективности, разбираясь в особенностях ислама.
Гийом Тирский уже не рассматривает мусульман как идолопоклонников и многобожников, а Оливер Кельнский даже осознаёт, что мусульмане могут приписывать многобожие христианам. В письме к султану аль-Камилю Оливер сообщает, что поводом для этого (впрочем, безосновательным) является вера в Святую Троицу. Французский монах Фиденций Падуанский, судя по его писаниям, вполне осознает, что у мусульман запрещены изображения пророка и вообще людей.
Гийом Триполийский усердно исследовал совпадения между Кораном и Евангелием и, выявив таких совпадений немало, на этом основании пришёл к выводу о том, что мусульмане недалеки от Бога, почитаемого христианами. «Молодец какой», — саркастично усмехнулся Сиверцев. В самом деле, Триполитанец пиал в XIII веке, значит прошло всего каких-то полтора столетия, а палестинских христиан уже начали посещать богословские озарения, связанные с параллелями между Кораном и Евангелием. Воистину, мы в наше время куда лучше представляем себе религиозную реальность средневековья, чем современники тех событий.
У Герхарда Страсбургского находим рассказ о фонтане Каира, в котором Богоматерь омыла пелёнки Младенца Иисуса во время бегства в Египет. Герхард пишет о том, что этот фонтан почитают не только христиане, но так же и сарацины, которые приносят к нему ладан и свечи. Не будем заостряться на том обстоятельстве, что Каир с его фонтанами появился без малого тысячу лет спустя после бегства Святого Семейства в Египет. Подобные факты, исполненные трогательной религиозной наивности, имели значение ни с чем не сравнимое. Богословие оставалось уделом богословов, а простые крестоносцы встречаясь с воинами Аллаха у фонтана во время совместного поклонения общей религиозной святыне, смягчались душами и добрели, наверное, куда больше, чем это возможно было под влиянием самых миролюбивых проповедей. Возможно ли было смотреть на мусульман, как на «спутников дьявола», если они, эти мусульмане, приносили ладан и свечи в знак своего преклонения перед Младенцем Иисусом и Его Пречистой Матерью? Отсюда самым естественным и органичным образом должны были вытекать представления о том, что с мусульманами вполне можно жить в мире, и вовсе не обязательно истреблять их всех до единого.
В отношении крестоносцев к мусульманам произошёл радикальный, можно сказать — эпохальный, перелом. Гийом Тирский называет правителя Дамаска Муин ад-Дина Унура «любимцем христианского народа». Вы только представьте себе: мусульманский правитель — любимец христиан. Как такое возможно? А дело в том, что Унур, по словам Гийома — «муж благоразумнейший», к тому же летописец отмечает его «искренность в вере». Оказывается, искренность в вере достойна уважения, даже если это чуждая нам вера. Это для нас сейчас звучит, как прописная истина, как избитая банальность, но для средневекового религиозного мышления это был революционный переворот.
Впрочем, понятно, что с Дамаском крестоносцы никогда не воевали и Унуру можно было высказать почтение, как покровителю христиан. Но даже и вождя джихада Нур ад-Дина Гийом Тирский называет «религиозным и богобоязненным в соответствии со своими традициями». Вот так. Наш враг продолжает оставаться нашим врагом именно в силу того, что у него другая вера, и задача его — изгнать христиан со Святой Земли именно потому что они — христиане. Мы будем сражаться на смерть, но не теряя уважения ни к врагу, ни к его вере. Свершилось. В мир чёрно-белого средневекового мышления хлынули краски, оттенки, полутона.
В наибольшее умиление Сиверцева привёл следующий пассаж из Гийома Тирского: «Те, кто следует восточным суеверным обрядам называются на их языке суннитами, кто же предпочитает египетские традиции и, как кажется, склоняется в большей степени к нашей вере, называются шиитами».
Крестоносные интеллектуалы, ещё совсем недавно уверенные, что в мечетях стоят идолы, добрались уже до разницы между суннитами и шиитами, понимая её, впрочем, весьма коряво, но вот что характерно: Тирский пишет о том, что шииты ближе к христианству, чем сунниты, а это мысль отнюдь не лежащая на поверхности, это уже плод глубоких и сложных религиозных раздумий. Человек, напряжённо размышляющий о том, кто из иноверцев ближе к христианству, уже никогда не скажет: «Крещение или смерть».
Сиверцев уже успел подумать: «Разобрались бы сначала с исламом, а потом бы лезли мусульман истреблять. А то надо было сначала залить кровью Палестину, а потом с радостным изумлением обнаружить, что «спутники дьявола» в некотором смысле даже родственны нам по вере». Но Андрей сразу же понял, что эта мысль — из разряда заурядной либеральной пошлятины. На самом деле без залитой кровью Палестины никакого взаимного уважения и взаимного понимания между мусульманами и христианами ни за что бы не возникло. Два мира могли бы продолжать своё раздельное непересекающееся существование, не проявляя никакого взаимного интереса и, в лучшем случае, тихо презирая друг друга. Христиане и мусульмане так и считали бы друг друга едва ли не сатанистами, во всяком случае — врагами Божьими. Но, напоив пустыню кровью до такой степени, что она, кажется, уже и впитываться перестала, и те и другие были просто вынуждены начать поиск путей к мирному сосуществованию, потому что ни те, ни другие окончательно одолеть друг друга не могли. Нужен был компромисс, но никакой компромисс со «слугами дьявола» не возможен, и тогда настало время серьёзно задуматься о том, что враги — не слуги дьявола, а верят в того же Бога — на свой манер, весьма кособоко, но всё же. Только военное равновесие проложило путь к религиозному взаимопониманию. Как только военная сила одной из сторон начинала преобладать, так тут же куда-то исчезала веротерпимость.
С мусульманами вообще возможно вести богословский диалог только после убедительной демонстрации грубой силы. До тех пор, пока мусульмане знают, что они сильнее, они не разговаривают, а режут. Таковы же были и первые крестоносцы, не имевшие никакого интереса к исламу до тех пор, пока они надеялись вообще избавить мир от мусульман. Крепко и неоднократно получив по зубам от воинов Аллаха, они решили почитать Коран, предложив мусульманам повнимательнее отнестись к Евангелию.
Вера, за которую с радостью умирают, не может быть совершенно плохой. Об этом вынуждены были задуматься и христиане, и мусульмане. И крестоносцы, и воины джихада своей кровью доказали друг другу, что вера каждой из сторон достойна уважения. Никакие аргументы иного порядка не могли положить начало межконфессиональному диалогу.
Сиверцев отложил книги и подумал о том, что зря он сегодня не пошёл на богослужение в Каабу Христа. Устал, конечно, от экзотики, но литургия это литургия, нельзя пренебрегать таким великим Божьим даром. С некоторым чувством неловкости решил выйти на улицу, пройтись по деревне, которая сейчас должна быть совершенно пуста — все в храме.
Андрей давно уже закрепил привычку на границе нового пространства осматриваться и никогда не вваливаться в неизвестность желанным гостем. Сейчас, как всегда, он на секунду замер на пороге своего дома, беглым взглядом окинув улицу. Как оказалось — не напрасно. Вдоль стен бесшумно крались несколько мужчин. Судя по всему, это были чужаки. Сиверцев провалился обратно в свой дом и через несколько секунд вновь появился на пороге с «Зиг-Зауэром».
— Кто вы такие? Что вам надо? — спросил он на фарси, прекрасно понимая, что даёт незнакомцам возможность сделать первый ход, но не мог же он сразу открыть огонь по людям, чьи враждебные намерения не обозначились в полной мере.
Ответом ему была золотистая молния брошенного кинжала — противник среагировал мгновенно, но и Сиверцев был готов к такому сюжетному повороту, а потому столь же мгновенно отклонился и сразу же открыл огонь на поражение. Человека, метнувшего кинжал, он, кажется, положил, во всяком случае, тот упал, остальные исчезли из поля зрения.
Сиверцев занял позицию у окна. Пару раз он выстрелил туда, где скорее почувствовал, чем увидел движение. О результате трудно было судить — ни криков, ни звуков подающих тел. Но едва лишь он чуть-чуть отклонил голову в сторону линии окна, как в сантиметре от его виска вновь просвистел кинжал.
Андрей попытался оценить ситуацию. Нападающие не стреляют, потому что не хотят шуметь раньше времени. Храм на другом конце деревни, они явно хотят появиться там неожиданно. У дверей храма — два стражника, все остальные — под землёй, на богослужении. Стражники выполняют функцию скорее ритуальную, нападения они не ждут, их можно снять бесшумно. И тогда. наступивший ногой на люк, ведущий в подземный храм, наступает на горло всей деревне. Значит. наступающие не станут сейчас продвигаться вперёд, они не могут оставить у себя за спиной вооружённого человека. Сиверцев сковал их. Но их не двое и не трое, они всё равно его положат. Надо привлечь внимание стражников. Но они же не могли не слышать выстрелы, какой же им ещё-то шум устроить?
Ход мысли Андрея прервала тень, появившаяся в дверях, через доли секунды выросший на пороге человек сразу же получил пулю в грудь, не успев метнуть кинжал. «Учили тебя, мужик, да не доучили, — подумал Андрей. — Кто же посылает впереди себя тень, чтобы предупредить о своём появлении?». Так. Стоп. Почему стражники не реагируют на его выстрелы? И вдруг его осенило — он же каждый день упражняется в стрельбе на окраине деревни. Стражники думают, что гость опять открыл учебную пальбу.
В горах очень тихо. Нет звукового фона. Каждый звук разносится на километры. Крик Сиверцева мог испугать даже орлов на дальних вершинах:
— Опасность! — дико заорал он на фарси. — Опасность! Опасность!
Всё изменилось в то же мгновение. Сначала Сиверцев услышал удаляющийся топот ног, это явно убегали противники, замысел которых без эффекта неожиданности терял смысл. Андрей на всякий случай всё же не покидал своего убежища. Вскоре он услышал приближающуюся поступь. Господи, до чего же здесь тихо, каждый звук — втрое громче. Видимо, стражники, услышав его крики, подняли всех воинов из храма. Это было вполне очевидно, но Андрей привык не доверять никакой очевидности до тех пор, пока она не встанет в полный рост. Расслабишься на секунду раньше времени и эта секунда может стать последней в твоей жизни. Он не покидал убежища и по-прежнему держал «Зиг-Зауер» наизготовку. Наконец он услышал родной голос Шаха:
— Андрей, это я. Всё спокойно.
Он опустил пистолет и вышел на улицу, перешагнув через труп на пороге. Здесь собрались уже все мужчины деревни с винтовками, саблями и кинжалами. Впереди стоял Шах с пистолетом в руке. «Кажется, наш «Макаров»? Из Афгана привёз сувенир?» — подумал Андрей. Лицо Шаха словно почернело, он явно пережил страшный шок. Впрочем, это не помешало персу-священнику подойти к Андрею и по-отцовски его обнять.
— Ты ранен?
— Нет, ни разу не задело.
— Посмотри на своё плечо.
Только сейчас Андрей увидел, что всё его плечо в крови. От первого брошенного в него кинжала он уклонился, как выяснилось, не очень качественно. Шах достал из-за пояса кинжал, разрезал рубаху на плече Андрея и, бегло глянув на рану, с облегчением сказал:
— Рана чистая, хорошая. Спасибо ассассинам, затачивать кинжалы они умеют.
— Ассассины?
— Да, это они, — Шах вообще отрезал рукав рубахи Андрея и быстро ловко перевязал им рану. — Потом нормально перевяжут. Да, это ассассины. — Шах бросил через плечо своим: — Осмотрите тела. Все ли мертвы?
Перевернув тело, лежащее на пороге, без экспертизы констатировали смерть — пулевое ранение в сердце. На улице лежали двое, один из них так же был мёртв — тот самый, который ранил Андрея и пал от первого выстрела. Второй получил рану лишь в бедро. Он лежал на земле лицом вниз и не подавал признаков жизни. Когда его перевернули, бледное лицо исказила гримаса боли, но он не проронил ни звука.
— Ты?! — тяжело выдохнул изумлённый Шах.
Раненный молчал, не поднимая глаз. Лицо Шаха, и так уже искажённое скорбью, сейчас, кажется, вообще перестало быть лицом. Наконец, Шах заговорил, голос его звучал тихо, глухо, страшно:
— Этого человека я крестил неделю назад. Он сказал, что горец. Я поверил в его искренность, думал, что Господь послал мне ещё одного сына. Я просто старый дурак. Бойся, Андрей, ассасинов, желающих принять крещение.
Шах обратился, наконец, к раненому:
— Саид… не хочу называть тебя новым христианским именем… тебя прислали тогда на разведку? Ты принял крещение только для того, чтобы изучить в нашей деревне все входы и выходы?
— Да.
— Что вы хотели сделать с нами?
— Вы все до единого должны были сгореть в вашем храме.
— Зачем вам это?
— Вы предали веру предков, вы не имеете права жить.
— Саид. посмотри мне в глаза и скажи честно: ты. лично ты действительно считаешь нас предателями, оскверняющими родную землю своим зловонным дыханием? Ты полностью в этом уверен?
Саид с трудом поднял глаза, ему, кажется, тяжело было смотреть в лицо Шаха. С большим трудом он выдавил из себя:
— Я… не… — и больше не звука.
Было непонятно, что он имел в виду. «Не считаю так»? «Не знаю»? «Ненавижу»? Никто не попросил его уточнить.
Шах, с большим трудом вернувший себе самообладание, тихо прошипел:
— Горе тебе, Саид. Я говорю тебе: горе.
Ни к кому не обращаясь, Шах обронил:
— Окажите медицинскую помощь. Дайте кров. Кода сможет ходить, отпустите на все четыре стороны.
Андрей очень хотел обсудить всё происшедшее с Шахом, но он понимал, что персу сейчас не до этого. Шах явно не может себя простить за это нападение, считая себя единственным виновником того, что жизнь всех членов общины некоторое время висели на волоске. Сиверцев решил не тревожить Шаха хотя бы сутки, дать ему возможность прийти в себя.
Сам он после этого скоротечного боя чувствовал себя на удивление хорошо и даже лучше, чем до этого. Боевой стресс помог стряхнуть с души сонную одурь, которая последнее время совсем его одолела. Рана, уже перевязанная по-настоящему, почти не болела. Он подобрал у себя в доме два брошенных в него ассассинских кинжала, решил сохранить на память. Подумал о том, что неплохо бы поупражняться в метании кинжалов.
По деревне ходить не хотелось. С ним раскланивались, как со спасителем, а он не знал, как на это реагировать. Решил, что пока лучше всего будет засесть за книги. Больше всего его сейчас интересовали отношения между тамплиерами и мусульманами в Святой Земле.
Магистр Дитмар, путешествовавший по Святой Земле в начале XIII века, описал удивительную картину: «Во время перемирия к этим горам ежегодно в феврале съезжаются христиане-тамплиеры и немецкие госпитальеры. Они разбивают шатры прямо на лугах, проводят время в радости и веселье, а отпущенные пастись кони щиплют траву и набираются сил. Сарацины-бедуины во время перемирия так же приезжают туда, чтобы соревноваться друг с другом. Ведь бедуины удивительно искусны в верховой езде. Они устраивают состязания. Согласно светской обходительности христианские рыцари выказывают бедуинам уважение и вручают им подарки».
Эта трогательная идиллия наполнила душу Андрея тихой печалью. Вот ведь как. Закончилась зима, Палестина расцветает, сердца тамплиеров и сарацин полны мирной весенней радостью. Суровый рыцарь Храма, покрытый шрамами от мусульманских сабель, дружелюбно улыбаясь вручает подарок лучшему бедуинскому наезднику. Сарацин рассыпается в витиеватых благодарностях. Они готовы обнять друг друга. Ещё вчера этот храмовник мог спокойно прикончить этого сарацина в бою, и сарацин так же не упустил бы возможности избавить землю от кафира, а завтра, может быть, так и будет — они сойдутся в смертельной схватке. Но сегодня они как братья. Казалось бы, зачем им воевать? Вот так бы и дружили. Но они не дружили бы, если бы не воевали. Это трудно понять, но это так. Их неразрывная духовная связь основана на извечном боевом противостоянии. Стоит одной из сторон сложить оружие и братьев больше не будет. Будут господа и рабы.
Отношение тамплиеров к мусульманам строилось на удивительном сочетании крайней, непримиримой жестокости и симпатии, основанной на очень глубоком уважении. Западные современники тамплиеров совершенно не могли этого понять, и не удивительно — Орден Храма по мере развития перестал быть явлением чисто западным. Орден стал душой Западного Востока. Европа, закосневшая в чувстве собственного превосходства, не могла понять палестинской души тамплиеров. Крестоносцы, недавно прибывшие из Франции, были для тамплиеров куда более чужими, чем мусульмане, с которыми храмовники каждый день сражались. Орден бесстрашно впустил в свою душу Восток, но не покорился ему, сохранив самобытность.
Это сложно. Этого не понимали. Тамплиеры постоянно подвергались нападкам за слишком мягкое обращение с мусульманами — они разрешали им занимать прежние жилища и молиться Аллаху в своих домах. Совсем уж удивительно прозвучали эти обвинения в письме Фридриха II графу Ричарду Корнуэльскому в 1245 году. «Чья бы корова мычала». Фридрих, прибыв на Святую Землю, первым делом заявил, что проделал столь длительное путешествие лишь для того, чтобы услышать призыв муэдзина с минарета. Фридрих водил дружбу с султаном и, попросту выкупив Иерусалим за деньги, казалось бы, на деле доказал свою склонность договариваться с мусульманами без войны, на основе взаимного уважения. Но не было тут никакого уважения. Просто Фридриху было в равной степени наплевать и на муэдзина с минарета, и на Гроб Господень. Этот циник с опустошенной душой был одинаково равнодушен как к христианству, так и к исламу. Он не имел ничего против чужой веры, потому что не имел своей. Тамплиеры — наоборот. Верные христианству до смерти, они уважали мусульман, так же готовых отдать жизнь за ислам. Потому Фридриха и раздражала дружба тамплиеров с мусульманами, что она покоилась на основаниях прямо противоположных его беспринципности.
Тамплиеры не только на Святой Земле, но и в Испании прославились уважением к исламу, хотя на всём полуострове у мусульман не было врагов более ожесточённых, чем тамплиеры. В 1234 году тамплиеры приняли сдачу Ширвента у мусульман и пообещали им вернуть дома и земли, если они вернутся через год и день. Вскоре между тамплиерами и мусульманами было заключено соглашение, уточняющее условия их проживания: свобода отправления культа, освобождение от военной службы, арендной платы и налогов на 2 года. Условия просто шикарные. А в 1243 году Орден кроме того распорядился о возведении крепостной стены для защиты мусульманского квартала. По этому случаю мусульмане поклялись своему сеньору — Ордену Храма соблюдать все договорённости, как подобает верным и преданным подданным.
Вот он — идеал религиозного мира с мусульманами. Сначала — военная победа, а потом предоставление мусульманам всех гражданских прав, включая право исповедовать ислам. Без войны, не получив предварительно по зубам, мусульмане всегда будут воспринимать любые мирные инициативы, как проявление слабости. Если христиане, не желая воевать, клянутся в уважении к исламу, у мусульман это не вызовет ничего кроме презрения, они поймут одно: христиане — трусы. В этом случае мусульмане будут добиваться не уважения к исламу, а покорности. Но в эпоху крестовых походов мусульмане очень даже уважали христианство.
Усама ибн Мункыз писал о франкских священниках и монахах: «Я был свидетелем сцены, преисполнившей моё сердце восторгом, но одновременно опечалившей его, ибо я не встречал у мусульман благочестивого рвения, подобного этому».
Мусульмане способны были оценить не только высокую религиозность, но и гуманизм христиан-победителей. Ибн-Джубайр в 1184 году свидетельствует о том, что крестьяне-мусульмане живут под властью христиан лучше, чем под властью мусульманских правителей.
Как видим, дикий, варварский лозунг «Крещение или смерть» был забыт и в первую очередь — благодаря тамплиерам. Для Ордена Храма Святая Земля стала родным домом, а в собственном доме кровопусканий не устраивают, хотя и чистят его, не останавливаясь ни перед чем. Тамплиеры вросли в Святую Землю не ради истребления ислама, а ради защиты христианства. И мусульмане были для них врагами лишь когда нападали, а во всех остальных случаях — соседями. И благородство тамплиеров по отношению к соседям едва ли не вошло в поговорку. У мусульман.
Ибн аль-Асир писал, что мусульмане просили у тамплиеров гарантий для выполнения соглашений: «Рыцари были благочестивыми людьми, которые засвидетельствовали свою верность данному слову». Но более всего потрясло Андрея то, что сам Саладин обратился к тамплиерам и попросил гарантий исполнения договорённостей, достигнутых с франками. Это произошло всего через 4 года после Хаттина, когда Саладин обезглавил 230 пленных тамплиеров и поклялся «избавить землю от этих исчадий ада». Да, Саладин ненавидел тамплиеров, понимая, что они являют собой главное препятствие осуществлению его глобального замысла освобождения Палестины от крестоносцев. Но стоило ему понять, что «окончательное решение христианского вопроса» отодвигается на неопределённое время, как тут же стало очевидно — ни с кем из крестоносцев, кроме тамплиеров, ни о чём толком договориться невозможно, и если он не хочет хаоса на Святой Земле — нужны гарантии тамплиеров.
Тамплиерскими гарантиями не случайно так дорожили, их слово было самой надёжной печатью, скреплявшей договора между христианами и мусульманами. Например, в 1167 году король Иерусалима Амори решил заключить союз с фатимидским халифом Каира. Этот союз был направлен против всё возрастающей мощи Нуреддина. От имени христиан в Каир отправились два посла: граф Гуго Цезарийский и тамплиер Жоффруа Фуше, командор Иерусалимского королевства. Конечно, королевское посольство легко могло обойтись и без представителя Ордена, но присутствие среди послов высокопоставленного храмовника было условием халифа. Как оказалось, халиф был прав. Вскоре политическая ситуация изменилась, и король Амори начал подготовку экспедиции, направленной против недавнего союзника — фитимидского халифа. У короля, как видим, не было друзей, у него были интересы. Не так мыслил великий магистр Ордена Храма Бертран де Бланшфор. Магистр заявил, что Орден не последует за королём, поскольку тамплиеры полагают несправедливым «вести войну против нашего договора о союзе и нашей клятвы с халифом, который был нашим другом и доверял нашему обещанию».
Вот из таких ситуаций и выросли бессмертные сплетни о том, что тамплиеры предали христианство и вступили в сговор с неверными. А они всего лишь вели себя честно и не предавали никого и никогда. Ещё они были реальными политиками и прекрасно понимали, что христианские государства на Святой Земле могут выжить только играя на противоречиях между мусульманскими правителями. Своим примером храмовники постоянно доказывали, что честность и политическая прагматичность — отнюдь не взаимоисключающие понятия.
Может, конечно, показаться удивительной такая религиозная война, когда христиане в союзе с мусульманскими сражаются против других мусульман. Может быть, это уже не была война за веру? Короли и султаны, графы и эмиры просто делили власть, ни сколько при этом не руководствуясь религиозными убеждениями? Отчасти, может быть, так и было, потому что в жизни всё перемешано. Христианские правители на Святой Земле были людьми очень разными, и многие из них в большой степени руководствовались политическими, а не религиозными соображениями. Но к Ордену Храма это вряд ли относится в сколько-нибудь значительной степени. Количество примеров религиозной воодушевлённости тамплиеров столь огромно, что невозможно предположить, будто для них христианские идеалы значили меньше, чем борьба за власть. Сиверцев хорошо помнил свои исследования религиозной составляющей Ордена и никогда бы не поверил, что тамплиерам стало безразлично, какой веры придерживаются их союзники — лишь бы помогали.
Но ведь заключали же тамплиеры союзы с мусульманами, и хранили верность этим союзам, полагая при этом, что сохраняют верность Христу. Это как? А это, можно сказать, новое религиозное мышление, принципиально отличное от мышления первого похода. Тамплиеры теперь знали, что ислам — хоть и несовершенная религия и абсолютно неприемлемая для христиан, но это всё же не язычество, и мусульмане — не враги Бога, а люди, которые служат Богу ненадлежаще, но всё же служат именно Ему — Единому Богу Вседержителю. Военно-политические союзы с носителями чистого монотеизма возможны, это не измена Христу, уже хотя бы потому, что мусульмане весьма почитают Иисуса, хоть и на свой манер. Тамплиеры вели религиозную войну не ради истребления ислама, а для защиты христианства. Тамплиеры де-факто признали за исламом право на существование здесь, в Палестине. Они не признавали за мусульманами лишь права на истребление христиан. Тамплиеры готовы были дружить с мусульманами, которые так же признавали де-факто христианское присутствие в Святой Земле. Тамплиеры как бы говорили своим друзьям-мусульманам: это наша с вами общая земля — христианская и мусульманская.
Самым величественным выражением этого христианско-мусульманского союза Палестины была битва под Ла-Форби 17 октября 1244 года.
Монголы привели в движение полмира. Орды Чингисхана, разгромив Хорезм, вызвали великий исход хорезмийцев. Последние, оставшись без родины, но по-прежнему являя собой страшную и огромную вооружённую силу, хлынули в Месопотамию, Сирию, Палестину, сметая всё на своём пути и убивая всех подряд — и мусульман, и христиан. 23 августа 1244 года хорезмийцы отбили у крестоносцев Иеруалим.
Египетский султан решил использовать ситуацию к своей выгоде и вступил в сговор с хорезмийцами, желая их руками разделаться и с непокорными мусульманскими правителями Сирии, и с крестоносцами заодно. Тогда крестоносцы вступили в союз с султанами Дамаска и Хомса, составив мощную коалицию. С сирийскими мусульманами объединились все франкские силы крестоносных государств: рыцари из Иерусалима, Триполи, Антиохии, Кипра и все военно-монашеские Ордена: тамплиеры, госпитальеры, тевтонцы и рыцари святого Лазаря.
Тамплиеры, наконец, сражались плечом к плечу со своими давними друзьями — мусульманами Дамаска. Вполне понятен пафос этого союза: «Это наша с вами земля. Это земля христиан и мусульман. И вот на нашу землю вторглись дикие орды, которые режут всех подряд. Хорезмийцам нет дела до Бога, до веры, они несут только смерть и разрушение. И мы должны во имя Христа и во славу Аллаха отстоять нашу общую землю».
Произошло чудо — боевые кличи «Деус вульт» и «Аллах акбар» неслись теперь из одного стана. Эти кличи сливались, означая теперь одно.
В битве под Ла-Форби франко-сирийская коалиция потерпела страшное поражение. Летописец крестоносцев писал: «Дамасский султан и султан Хомса сразились первыми. Они столкнулись с врагами — сарацины против сарацин. Они нисколько не щадили друг друга, как если бы не были одной веры. Довольно там было добрых ударов и великих подвигов со стороны Дамаска и Хомса, но они потеряли много своих людей и были побеждены. В битве остались одни христиане».
Христиане так же сражались с невероятной стойкостью и были не столько разбиты, сколько уничтожены. Боевые потери тамплиеров составили 90 % личного состава.
И всё-таки это была славная битва! Орден и Дамаск плечом к плечу против диких хорезмийцев и отморозков мамелюков из Египта! Египет был уже не фатимидский, а мамелюкский, воины-рабы, захватив в Каире власть, сражались с христианами на истребление, им не нужен был мир, война была для мамелюков единственным способом существования. Христианско-мусульманская партия стабильности сражалась с партией разрушения. Дамаск и Хомс против Каира и Хорезма «как если бы они не были одной веры» — справедливо заметил летописец-франк. А как восхищается наш франк «добрыми ударами и великими подвигами» славных союзников-мусульман! Кажется, именно в этот момент была достигнута главная цель крестовых походов — возвышенно-героический союз двух цивилизаций.
Ла-Форби надо помнить вечно. Но про Ла-Форби забыли.
Буквально через несколько лет грянул седьмой крестовый поход, возглавляемый королём Франции Людовиком IX. Это был классический крестоносец, то есть склонный вести себя в Святой Земле, как слон в посудной лавке. Храбрый, порывистый, исполненный самых возвышенных чувств, Людовик ничего не желал понимать в деталях хрупкого механизма равновесия между крестоносцами и мусульманами, над созданием которого неустанно трудились тамплиеры. У Людовика, который прибыл в Святую Землю сражаться, то есть истреблять мусульман, совершенно не укладывалось в голове, как это тамплиеры могут о чём-то договариваться с мусульманами, да ещё у него за спиной.
Может быть и правда нелегко было понять, почему великий магистр Ордена Храма Гийом де Соннак поддерживает хорошие отношения если не с султаном Каира, то во всяком случае с его эмирами, то есть с врагами. Де Соннак между тем плёл дипломатическую паутину, завязывая с султаном переговоры, которые могли подарить крестоносным государствам, балансировавшим на грани полного истребления, хоть какую-то передышку. Не бывает войны без переговоров с врагами, если, конечно, противники — не тупые быки, с глазами, налитыми кровью. Впрочем, де Соннака обвиняли не только в переговорах, но и в дружбе с султаном, и даже более того — в том, что магистр и султан породнились, став кровными братьями. Один крестоносный хронист так и писал: «Магистр Ордена Храма и султан Египта совместно заключили столь добрый мир, что оба велели отворить себе в чашу кровь». Речь тут идёт о ритуале символического «братания» через смешение крови.
Переговоры между магистром и султаном привели короля Людовика в гнев. Король велел передать де Соннаку «дабы тот отныне не был столь дерзок, чтобы принимать просьбы султана Вавилона без особого повеления короля или вести с сарацинами обсуждение того, что касается короля Франции и его баронов».
Что тут скажешь? Во-первых, Людовик настолько мало понимал в делах Востока, что даже не осознавал разницы между древним Вавилоном и современным Каиром, что, впрочем было обычно для европейцев того времени, но только не для тамплиеров, которые чувствовали себя в политической географии Востока, как рыба в воде. Во-вторых, не вполне понятно, с чего это король Франции считал дела Египта и Палестины своими делами, как будто это были Нормандия и Шампань. Король был на Востоке пришельцем и чужаком, а тамплиеры у себя дома регулировали отношения с соседями, так что, по совести, их нельзя было упрекнуть в посягательстве на королевскую компетенцию. В-третьих, магистр де Соннак вовсе не имел ввиду что-либо решать без короля, полагая подготовить переговоры и сделать королю подарок в виде уже установленных контактов. В-четвёртых, обвинить магистра в дружбе с султаном могли только западные европейцы, совершенно не понимающие, что Восток — мир иных представлений, и под дружбой здесь понимают совсем не то, что на Западе, легко награждая партнёров самыми возвышенными эпитетами, которые в реальности мало что значат. И, в-пятых, что касается «кровного родства» султана и магистра. Это то, что мы называем легендой, а лучше бы назвать просто сплетней — болтать можно всё что угодно. А даже если это и было правдой, речь скорее всего шла о принятых на Востоке политических ритуалах, о некоторых правилах придворного этикета, реальное содержание и последствия соблюдения которых были совершенно непонятны людям Запада, но вполне доступны тамплиерам, которые хорошо чувствовали грань, которую никогда нельзя переступать в отношениях с мусульманами.
По всему выходит, что король вел себе совершенно как ребёнок, возомнивший, что может учить жизни взрослого человека, а магистр вынужден был ему подыгрывать, так что венценосному политическому младенцу понравилось изображать из себя «владыку Востока».
Вскоре на смену де Соннаку пришёл новый великий магистр Ордена Храма Рено де Вишье. Конфликт между королём и Орденом был заново воспроизведён с удивительной точностью. Маршал Ордена Храма Гуго де Жуи провёл с султаном Дамаска переговоры по достаточно частному вопросу, до которого королю и дела быть не должно. Речь шла об уступке не столь уж значительного земельного участка, на половину которого претендовал султан Дамаска. Маршал де Жуи урегулировал вопрос, подготовил текст договора и вместе с одним из дамасских эмиров направился к королю, чтобы представить договор на утверждение. Орден повёл себя по отношению к королю вполне корректно, оставив за венценосным крестоносцем право окончательного решения, лишь подготовив текст договора заранее — обычная практика управления, когда черновую работу делают до того, как представить проект договора первому лицу. Но король опять раскапризничался, как ребёнок, сильно обидевшись на тамплиеров, которые вечно всё решают без него. На сей раз королю захотелось не только грубо одёрнуть, но и унизить храмовников. Он посадил перед собой магистра де Вишье и эмира из Дамаска, сказав: «Магистр, скажите послу султана, что он вынудил вас заключить с ним договор, не сказав мне, и поэтому вы снимаете с себя все свои обещания». Король вообще не вникал в текст договора и вряд ли мог бы сказать что-то вразумительное относительно его содержания, он просто не устоял перед мелочным желанием продемонстрировать свою власть. Магистр мог бы сам унизить короля, и ничего бы ему король за это не сделал, но Рено де Вишье поступил по-христиански, не желая подрывать авторитет королевской власти, и решил лучше сам пережить незаслуженное унижение. Магистр передал эмиру договор, сказав: «Я отдаю вам договор, который плохо составил, и это меня удручает». Тамплиеры, стоя на коленях, должны были принести публичное покаяние, а маршала де Жуи король изгнал из Святой Земли.
Можно представить себе, как позднее магистр говорил эмиру: «Не надо принимать всё это всерьёз. Пусть король и дальше думает, что всё здесь зависит от него, а наше соглашение мы реализуем чуть позже». Обычное дело. Некомпетентный начальник вмешивается в дела помощников-профессионалов. А потом подобные глупые истории порождали среди крестоносцев мифы о том, что предатели-тамплиеры снюхались с мусульманами, и эти мифы имеют хождение до настоящего времени.
Говорили, что во времена Фридриха II армией Дамаска командовал бывший тамплиер, сохранивший верность Христу. Этому тамплиеру была так же доверена опека над малолетним наследником. Умирающий султан Аль-Муаззам будто бы полагал, что верность тамплиера является лучшей гарантией независимости Дамаска от притязаний брата Аль-Муаззима, Аль-Камиля, правившего Египтом.
Правдивость этой истории вызывает большие сомнения. Даже если существовал некий франк, от корого много зависело в делах Дамаска, вряд ли это был тамплиер, максимум — рыцарь, некоторое время служивший вместе с тамплиерами, не принимая обетов. Но рождение мифа о тамплиере, который едва ли не командовал Дамаском, само по себе весьма примечательно.
Дружелюбие мусульманского Дамаска к христианам было общеизвестно. Ещё со времён Иоанна Дамаскина христиане могли претендовать в этом городе на весьма высокое положение. Так же всем известна была вековая дружба между Орденом Храма и Дамаском. Дружба, скреплённая кровью на поле боя под Ла-Форби. Союз Ордена и Дамаска — великий союз. Если бы сегодня некие мусульмане и христиане решили объединиться ради общих религиозных целей (а таковые, безусловно, есть) они могли бы взять своим девизом слова: «Дамаск и Тампль».
Между мусульманами и палестинскими франками (в первую очередь — тамплиерами) существовало необычное джентльменское соглашение. Если они заключали перемирие, а с Запада вдруг шёл крестовый поход, палестинские франки имели право нарушить перемирие. Мусульмане как бы говорили рыцарям-соседям: «Мы хорошо понимаем, что вы не можете нести ответственность за действия ваших европейских единоверцев, и не поддержать их вы тоже не можете. У вас с нами — одна земля, у вас с ними — одна вера. Вера важнее». Это хороший пример политического благородства мусульман.
Дружеские связи между франками и мусульманами на Святой Земле ближе к финалу крестовых походов не только не слабели, но и напротив — крепли. Не прекращая смертельной схватки, они как-то совсем уж сроднились. Легендой стали добрые отношения с мусульманами великого магистра Ордена Храма Гийома де Боже.
С султаном Калауном де Боже связывала дружба, и это не сильно смущало латинскую аристократию Востока. В 1281 году, когда Калаун вёл с франками переговоры о возобновлении перемирия, против султана созрел заговор. Франки узнали об этом и предупредили султана.
Любопытный, кстати, момент — франки лучше самого султана знали, что творится у него при дворе. Орден Храма на Востоке довёл работу своей разведслужбы до такого уровня, какой Западной Европе и не снился. Де Боже располагал многочисленными осведомителями, в том числе в Каире. Основным был эмир Салах, занимавший при султанском дворе весьма высокое положение. Один хронист писал: «Сей эмир Салах имел обыкновение предупреждать магистра Храма на благо христиан, когда султан желал как-либо уязвить последних, и стоил он магистру хороших даров каждый год». Когда Калаун решил разорвать перемирие и напасть на Триполи, де Боже получил об этом информацию и предупредил власти Триполи.
Как видим, «дружба» де Боже с султаном Калауном носила характер несколько. восточный. Магистр мог дружить с мусульманами, но действовал всегда только на благо христиан. Да султан не сильно и обиделся на де Боже за то, что он попытался поломать его планы в отношении Триполи.
Правители Востока, бесконечно враждуя между собой, не просто терпели тамплиеров, но и очень в них нуждались, как в некой третьей силе, помогающей удерживать ситуацию в равновесии.
Был, например, такой случай. В 1285 году султан Калаун отказался вступать в переговоры с царём Армении Левоном II, когда тот желал заключить перемирие. Левон обратился к Ордену Храма. К султану пришёл командор тамплиеров Малой Армении с устным посланием от Левона и письмом от магистра Храма, где было прошение, чтобы послы Левона могли явиться ко двору султана. До этого армянских послов просто арестовывали и не давали ответа. Но раз уж просят сами тамплиеры.
Все эти тонкости, нюансы и хитросплетения восточной политики Ордена воспринимались на Западе с дубовой простотой и прямолинейностью: либо мы сражаемся, либо предаём христиан. Во время процесса против Ордена инквизиторы старательно пытались выудить из допрашиваемых доказательства того, что тамплиеры снюхались с сарацинами и предали христианство.
Гуго де Норсак, допрошенный 8 мая 1311 года, показал: «Часто разговаривали с сарацинами и Гийом де Боже, магистр Ордена, и брат Матье Дикарь. Они завязали большую дружбу с султаном и сарацинами и оный брат Матье вёл с ними разговоры, а брат Гийом содержал несколько сарацин на жаловании».
Пьер из Нобильяка, сержант Ордена, допрошенный 10 мая 1311 года, показал: «Оный брат Гийом де Боже водил большую дружбу с султаном и сарацинами, ибо иначе ему было бы невозможно за морем выжить со своим Орденом».
Бесхитростный сержант из Нобильяка явно понимал в реальной восточной политике больше, чем многомудрые европейские судьи Ордена. Подобные показания свидетельствуют лишь об одном — если бы не изощрённое лавирование и балансирование тамплиеров, остатки Иерусалимского королевства пали бы куда раньше. А о предательстве христианства и речи не шло. В игры с мусульманами тамплиеры никогда не заигрывались. Если, к примеру, Тевтонский Орден в Прибалтике преспокойно заключал союзы с язычниками против христиан, то никогда и ничего подобного не позволял себе Орден Храма на Святой Земле. Любые союзы тамплиеров с мусульманами всегда были направлены только на защиту христиан и никогда не шли им во вред. Тамплиеры никогда не приносили свои религиозные убеждения в жертву сиюминутным политическим выгодам. Политики вне религии для Ордена Храма вообще не существовало.
Главным результатом крестовых походов стало великое бракосочетание Запада и Востока. Встретившись в непримиримой вражде, две грандиозных и столь непохожих друг на друга цивилизации, не только познакомились, но и породнились.
Киплинг писал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, им никогда не сойтись». Но это не более чем миф, типичный для британского колониализма. Киплинг был прав лишь в одном — Запад и Восток принципиально различны, они находятся на противоположных полюсах, но это полюса одного процесса. Мужчина и женщина тоже принципиально различны, но ни для кого не тайна их взаимное притяжение, и вне этого притяжения не может существовать жизнь. Мужчина и женщина создают семью — самый естественный и самый важный союз на свете.
Таким же естественным и важным было состоявшееся на Святой Земле бракосочетание Запада и Востока. Вне этого великого союза земная цивилизация не может достичь своей полноты, она всегда будет оставаться однобокой и ущербной. А Орден Храма был ребёнком, родившимся от брака этих цивилизаций, от союза непримиримых, но вечно стремящихся друг к другу начал — западного и восточного.
Орден Храма, по природе своей западно-восточный, должен стать любимым ребёнком человечества, если оно хочет гармонии. Известно ведь, что, когда мать с отцом поссорятся, их лучше других примирит ребёнок, потому что каждый из родителей видит в ребёнке отражение Может ли Земля существовать без Ордена?
Шах уже третий день не мог прийти в себя — ходил мрачнее тучи, на вопросы отвечал коротко и отрывисто. Сиверцев, наконец, решил, что надо, поменьше церемонясь, все же попытаться вывести Шаха из ступора:
— Может быть, уже довольно, мой господин, заниматься самоедством? — спросил Андрей таким тоном, как будто Шах был его слугой.
— Самоедство? Шах мрачно поднял бровь. — Русские словечки. Такого я ещё не слышал. А ведь это очень точно.
— И очень скверно, мой господин.
Шах трижды молча кивнул головой. Потом глухо заговорил:
— Ты читал арабские сказки?
— Читал, но не знаток.
— Я — глупый джин. Позволил загнать себя в бутылку вместе со всей общиной, так что и младенец мог заткнуть горлышко пробкой. Из-за моей преступной самонадеянности могли погибнуть все до единого — глупо, бессмысленно, без боя. Несколько десятков человек могли заживо сгореть в подземелье лишь из-за того, что старый дурак забыл применить остатки своих мозгов по назначению. Понимаешь ли — забыл! Не-по-ду-мал! В любой армии мира меня за это расстреляли бы по приговору трибунала.
— Но вы всё же не командир роты.
— Да невозможно здесь отделить духовную власть от военной. На мне лежит полная, абсолютная ответственность за этих людей.
— Ну так ведь не случилось же ничего.
— А разве благодаря мне? Если бы здесь случайно не оказался европеец.
— Случайно? Господин, должно быть, шутит. У Аллаха нет случайностей. И европеец оказался здесь, вполне возможно, по вашим молитвам.
— Если мы будем исследовать возможности.
— Довольно! Европеец здесь единственный человек, который может сказать вам это. И европеец говорит: довольно. Вы приняли меры безопасности?
Шах с пристальным удивлением посмотрел на русского храмовника, который вдруг заговорил голосом повелителя, так что его право на это было невозможно поставить под сомнение.
— Да, конечно, я принял меры безопасности. Это же совсем просто. Выставил скрытые посты на всех подступах в деревню. Дозорным достаточно будет подать сигнал о приближении противника караулу у входа в наш храм. Кроме того, все наши теперь идут на богослужение с оружием. Оставляют его наверху, у входа в храм.
— Грамотно. И довольно об этом. Господин, я не буду просить у вас прощения за то, что взял ненадлежащий тон. Своим отчаянием вы вновь подвергаете всю общину опасности.
Шах вновь трижды кивнул, но теперь уже не так мрачно.
— Ты прав, Андрюша. До конца своих дней буду молиться за тебя.
Сиверцев понял — чтобы избежать обычных в таких случаях расшаркиваний друг перед другом, надо срочно переводить разговор на другую тему.
— А что это за ассассинская община в горах, напавшая на нас? Люди Ага-хана?
— О нет, к Ага-хану эти люди не имеют ни малейшего отношения и даже вряд ли подозревают о его существовании. Наши горы — затерянный мир, не случайно ведь даже Аламут нашли не так давно. Руины многих некогда славных замков до сих пор остаются в сокрытии. И не только руины, некоторые человеческие обломки империи Хасана ас-Саббаха так же уцелели в безвестности, и сами они мало знают об окружающем мире. Ни с какими религиозными центрами они не связаны, считают себя измаилитами, но на самом деле исповедуют не измаилизм, а сумму диких горских суеверий. Так всегда бывает, когда религиозная группа остаётся без наставников-богословов и без связи с единомышленниками. Ас-Саббах, наверное, в гробу вертится, глядя на то, в каких дремучих дикарей выродились его последователи. Когда-то ни один ассассинский замок не стоял без хорошей библиотеки, а эти вообще редко умеют читать. Думаю, Хасан не пришёл бы в восторг и от того, что они исповедуют его культ, полагая ас-Саббаха реинкарнацией то ли Мухаммада, то ли Заратустры. Тут они спорят. Спорить они вообще-то любят, но только друг с другом, потому что всем прочим не сильно интересны диспуты с людьми совершенно безграмотными.
— А ваша община чем им не угодила?
— При всех своих недостатках, ассассины наших гор — люди религиозно воодушевлённые, для них вера очень много значит. Уж как пронюхали, что мы исповедуем христианство. кажется, я их недооценивал. видимо, решили начать войну во славу божественного ас-Саббаха. Мы ведь занимаем территорию бывшего ассассинского замка. Для них логично желать очистить от иноверцев землю, некогда принадлежавшую их предшественникам.
— А силёнки-то у них для этого есть?
— Да в том-то всё и дело, что я, старый дурак, никогда не интересовался этим всерьёз. Теперь придётся всё хорошенько разузнать. Вероятнее всего, в наших горах вспыхнула настоящая религиозная война. И эта война пойдёт на истребление.
— Ну что ж. Умрём за Христа.
— Да. Или выживем во славу Христа. Мы готовы умереть, но мне хотелось бы сохранить общину.
— А если в этих горах разразится война за веру между ассассинами и христианами, Ага-хан не поддержит своих, узнав о их существовании?
— О, нет, Ага-хан IV — респектабельный джентльмен. Он никогда не станет заниматься такой «глупостью», как война за веру.
— Я толком-то ничего и не знаю про Ага-хана. Расскажите.
— Измаилитские имамы начали восстанавливать своё влияние где-то в XVIII веке, выдвинувшись на заметные роли в политике Персии. Тогда персидские шахи пожаловали им титул «ага-хан». Потом центр имамата перенесли в Индию, в Бомбей, где издавна существовала мощная измаилитская община. Измаиты так хорошо поладили с британскими колониальными властями, что Ага-хан III был посвящён в рыцарское достоинство. А в 1937 году его даже избрали президентом Лиги Наций. Сам понимаешь, что «ревнителем измаилитской веры» он при этом никак не мог являться.
— А его приемник?
— Ещё в меньшей степени. Карим, будущий Ага-Хан IV, родился и вырос в Швейцарии.
Специфику его религиозности в достаточной мере характеризует то обстоятельство, что историю ислама он изучал в Гарварде, получив степень бакалавра. Ага-ханом IV Карим стал в 1957 году, имея 20 лет от роду. С тех пор он гораздо больше времени живёт в Европе, предпочитая родную Швейцарию и пригород Парижа. Это, можно сказать, представитель высшего света Европы. В своём роду он имеет не только имама Али, но и Ричарда Львиное Сердце — отдалённого предка его матери. Лучшие европейские дома принимают Ага-хана на самом высшем уровне.
— Как интересно. Значит, в личности Ага-хан осуществился союз Запада и Востока?
Андрей рассказал Шаху о своих соображениях по поводу того, что Орден Храма — дитя от брака Востока и Запада. Шах слушал очень внимательно, не перебивая. Когда Андрей закончил, он сказал:
— По поводу Орден Храма — интересная мысль. Но насчёт Ага-хана обольщаться не надо. С одной стороны, он действительно являет собой весьма необычное дитя Запада и Востока, но, с другой стороны, это говорит лишь о его чужеродности собственной измаилитской среде. Это сам Ага-хан — европеец, а его измаилиты, рассеянные на просторах Индии, Персии и Африки — совершенно чужды европейской культуре, а к исламу они вообще не имеют отношения, так что на роль мостика между двумя цивилизациями они совершенно не годятся, потому что не принадлежат ни Западу, ни классическому Востоку.
— И много измаилитов «ходят» под Ага-ханом?
— Не мало. Где-то миллионов 15–20. Но они вообще очень слабо напоминают религиозное сообщество, будучи объединены скорее ментальностью отщепенцев — людей для всех чужих. Что не скажешь про их лидера — человека для всех своего.
— А чем вообще занимается этот экзотический имам?
— Бизнесом. Он — один из богатейших людей планеты, так что почтение, которое оказывает ему Европа, связано далеко не только с принадлежностью к роду Мухаммада и династии Плантагенетов одновременно.
— А характер бизнеса?
— Тут возникает очень интересная тема. Говорят, что на протяжении многих последних десятилетий организация Ага-хана является наиболее успешной среди всех мировых финансовых организаций, занимающихся проектами по развитию стран третьего мира.
Сиверцев хитро усмехнулся:
— Ах вот оно что. Большое сердце. Всё своё состояние готов потратить на помощь развивающимся странам. При этом не надо сомневаться, что в ходе реализации благотворительных проектов его состояние неуклонно растёт. Да, вы правы, господин, Ага-хан — хладнокровный прагматик, он не захочет иметь ничего общего с локальной религиозной войной, если таковая вспыхнет в наших горах. Тут ему руки не нагреть, и религиозно-воодушевлённые горцы его нисколько не заинтересуют. Мне кажется, я начинаю понимать знаковый смысл этой фигуры. Ага-хан символизирует союз Запада, предавшего христианство, и Востока, предавшего ислам. Вот и весь секрет его респектабельности. Однако, не стал бы полностью исключать наличие в его деятельности религиозного компонента. Вы понимаете, что может стоять за его интересом к «третьему миру»?
— Многое. Но тут тебе лучше поговорить с Дмитрием. Старый разведчик, должно быть, ориентируется в скрытых смыслах подобных международных схем.
— Да, интересно будет с ним об этом поговорить. Но пока нам до Ага-хана — как до звёзд. Куда актуальнее выяснить планы ваших ближайших соседей — оторванных ассассинов. Хотел поговорить с Саидом. Не возражаете?
— Поговори. — Шах опять заметно помрачнел. — Не понимаю, как я мог так ошибаться в этом юноше. Я был уверен, что он искренне стремится к Истине.
— Не факт, что вы ошиблись в нём, господин. А какое имя вы дали ему в крещении?
— Александр. Саид — Саша.
Незадолго до этого разговора с Шахом, Сиверцев, занимавшийся связями средневековых тамплиеров с мусульманами Палестины, закончил опус об Усаме ибн Мункызе. Усама был фигурой колоритнейшей. Опираясь на людей ислама, подобных ибн Мункызу, можно выстроить по-настоящему плодотворный и творческий диалог двух авраамических религий.
Сиверцев решил, что пойдёт к Саиду-Саше завтра, а пока ему хотелось спокойно перечитать и поправить то, что у него получилось на счёт Усамы ибн Мункыза.
Из Иерусалима в Дамаск вернулся лекарь, посланный туда благородным эмиром Муин ад-Дином, другом и покровителем Усамы ибн Мункыза. Франки не имели таких искусных врачевателей, какие были у мусульман, а потому Муин надеялся, что его любезный жест вызовёт благодарность крестоносцев — людей диких и грубых, но весьма необходимых теперь Дамаску в качестве союзников.
И вот Муин ад-Дин и Усама ибн Мункыз с нетерпением ожидали возможности выслушать лекаря, на которого возлагали надежды в том числе и как на дипломата, а до некоторой степени — лазутчика.
— Хорошо ли приняли тебя франки? — спросил эмир лекаря.
— Да, господин. Встретившие меня тамплиеры известны своей любезностью и обходительностью, в чём мне довелось убедиться на своём примере. Рыцари кланялись и улыбались мне, оказывая почтение всеми возможными способами. Они понимали, что я не только лекарь, но и посол благородного эмира.
— А твоё искусство они смогли оценить по достоинству?
— Господин. я сделал всё возможное.
— Значит, ты не смог им помочь?
— Даже Аллах не сможет помочь этим дикарям, — лекарь насупился, словно обиженный ребёнок.
Муин ад-Дин добавил к своему добродушию немного грустной задумчивости:
— Аллах отдал в руки этих дикарей святыни ислама. Не за грехи ли правоверных и не потому ли, что поклонники Исы до некоторой степени всё же угодны Аллаху?
— Мой разум не может подняться до постижения предметов столь возвышенных.
— Так вот и говори о том деле, в котором понимаешь, — не переставая улыбаться, но теперь уже с недобрым нажимом отрезал эмир.
— Мне предложили вылечить рыцаря и женщину, — забубнил лекарь. — У рыцаря был абсцесс на ноге, и я применил припарки к голове.
— А если бы у него болела голова, ты лечил бы ногу?
— Возможно, — тон лекаря граничил с дерзостью. — Искусство врачевания — дело до чрезвычайности тонкое. Мы ищем причину болезни и находим её порою совсем не там, где думали обнаружить её профаны.
«Кажется, франки настолько рассердили его, что он перестал бояться моего гнева», — подумал Муин, но вслух сказал только:
— Продолжай.
— Женщина страдала сухоткой. Не столь уж сложный случай, и ничего особенного тут делать не стоило. Я предписал ей строгую диету, в первую очередь — как можно больше свежих овощей.
— Ну так говори же наконец, помогло ли им твоё лечение?
— Обязательно помогло бы, господин, но тут явился лекарь франков, — вдруг очень горячо затараторил лекарь. — Франкский врач спросил у рыцаря, что он предпочитает: жить с одной ногой или умереть с двумя. Когда больной дал легко предсказуемый ответ, врач заставил его положить ногу на колоду и какой-то силач взялся отрубить больную часть ноги большим топором. Первый удар не достиг цели. Рыцарь страшно кричал. Второй удар раздробил кость и несчастный сразу же умер. Это было ужасно.
— Ужасно? Ты никогда не воевал. Продолжай.
— Лечение женщины оказалось ещё ужаснее. Франкский лекарь объявил, что в неё вселился бес и что надо её остричь. Остригли, после чего больная вернулась к своей обычной еде, обильно сдобренной горчицей и чесноком, а ведь именно такое питание и вызвало болезнь. Естественно, сухотка усилилась, тогда за больную вновь взялся варвар-франк, именующий себя лекарем. Он сделал ей крестообразный надрез на голове, обнажил кость и втёр туда соль. Несчастная вскоре с дикими криками умерла. Простите господин, но у меня сердце чуть не разорвалось, когда я на всё это смотрел. Эти дикари ничего не понимают в медицине, но не желают ничему учиться, потому что мнят себя великими эскулапами. Лекари франков куда страшнее для больных, чем сами болезни.
— Много ты видел лекарей-франков? — вставил слово Усама.
— Одного этого, да ещё рассказывали.
— Рассказывают сказки, а наука строится на фактах, — Усама хищно улыбнулся.
Муин ад-Дин нетерпеливым жестом пресёк уже готовую вспыхнуть перепалку и спросил своего друга:
— Усама, ты изучал медицину. Что скажешь?
— Искусство врачевания у франков действительно стоит на гораздо более низком уровне, чем у арабов, — рассудительно заговорил ибн Мункыз, — но, конечно же, не все их лекари таковы, каков описан моим учёнейшим собратом, в правдивости рассказа которого я, впрочем, не сомневаюсь ни на одно мгновение, — Усама учтиво поклонился насупившемуся лекарю. — Иные разделы медицины лучшие лекари франков понимают весьма глубоко, к примеру, их познания в лечебных свойствах минералов и растений заслуживают уважения, а, пожалуй, и заимствования со стороны наших лекарей. Не надо относиться к франкам с предубеждением. Порою, знающему меньше нас всё же известно нечто такое, что может стать для нас открытием, причём весьма полезным. Это понимают все настоящие учёные. Беда же франков в том, что их священники часто вмешиваются в медицину и пытаются лечить исходя не из данных науки, а из религиозных заблуждений, точнее — суеверий, к религии имеющих так же мало отношения, как и к медицине. Не все франки понимают, что руководить молитвой должны одни люди, а руководить лечением — люди совсем другие. Однако, подобные заблуждения, происходящие от смешения понятий и функций, отнюдь не являются у франков повсеместными и, конечно же, не сводят на нет их достижения в области медицины.
— Мне кажется, я сейчас слышу дипломата, а не учёного, — усмехнулся эмир.
— Одно другому только помогает, мой мудрый господин. И дипломатия, и медицина, для того чтобы быть успешными, должны исходить лишь из установленных фактов. При этом и дипломат, и медик должны ставить перед собой лишь осуществимые задачи, не посягая на достижения, которые заведомо находятся за гранью возможного.
— А как же насчёт смешение функций, Усама? — легко увлекающийся эмир чуть не подскочил, настолько интересными показались ему мысли Усамы.
— Великая мудрость подсказала моему учёнейшему господину самый лучший из всех вопросов, какой можно было задать при обсуждении данной темы. А дело тут в том, что хоть и нельзя смешивать функции, но можно использовать принципы, на которых строится иной род занятий. Священник не должен лечить, а лекарь не должен заниматься дипломатией, однако, по воле Аллаха, существуют универсальные принципы, свойственные этим занятиям. Дипломатию, так же как и медицину, ваш покорный слуга назвал бы искусством возможного. Успех приходит к тем врачам и дипломатам, которые знают, что надлежит считать успехом.
Эмир как-то разом потух и вновь обратился к лекарю:
— Однако же, вернёмся к делу. Ты что-нибудь говорил франкам о своём отношении к их способам лечения?
— Нет, господин.
— А тамплиеры? Это был их лекарь?
— Нет, господин. Тамплиеры только встретили меня и проводили в госпиталь, принадлежащий не им, а кому-то другому. Не знаю кому.
— И ты вообще ничего не сказал по поводу того, что на твоих глазах убили двух больных?
— Я лишь спросил, нужны ли ещё мои услуги? Мне ответили, что не нужны.
— А тамплиеры? Ты ещё виделся с ними?
— Они проводили меня почти до самых стен Дамаска — рыцарь и два конных сержанта. По дороге мы мало говорили. Тамплиеры вообще весьма немногословны. Они несколько отличаются от остальных франков.
— Ты, кажется, многому у них научился, из тебя каждое слово приходится тянуть клещами. Что-то ведь они сказали тебе на прощание?
— Сказали, что будут рады видеть моего господина у себя в гостях, в Иерусалиме, то есть в Аль Кудсе, хотя, конечно, никакой это не Аль Кудс, пока там сидят варвары-франки. Ещё сказали, что искренне надеются на дружбу с Дамаском, и что свет этой дружбы может в недалёком будущем озарить весь мир.
— А что ты им ответил?
— Ответил, что передам их слова моему господину, что сейчас и исполнил.
— Они, должно быть, сочли тебя невежливым, поскольку ты не сказал им никаких приятных слов?
— Я был слишком потрясён тем, что увидел госпитале, а чувства тамплиеров не отражаются на их лицах. Если они и обиделись, заметить это было невозможно.
— Да уж, конечно. Это ты у нас весь на поверхности, несчастное дитя смешения функций. Ладно, будем считать, что дипломата из тебя не получилось. Ступай и лечи моих людей.
Когда эмир и Усама остались вдвоём, Муин ад-Дин спросил:
— Что скажешь, благородный ибн Мункыз?
— Ты сам прекрасно знаешь, господин, что без союза с франками нам никак не обойтись, совершенно независимо от тех неприятных деталей, которые мы сейчас обсуждали. Иначе Зенги Кровавый сожрёт Дамаск и не подавится. У нас нет выбора.
— Выбор есть всегда, Усама. Весь исламский мир с восхищением смотрит на правителя Алеппо Зенги, который поднял знамя джихада. А на Дамаск, не поддержавший джихад и плетущий интриги против его предводителя, будут смотреть с ненавистью и презрением.
— Зенги — предводитель джихада? Тогда почему он точит зубы на мусульманский Дамаск, вместо того, чтобы идти на крестоносные Антиохию и Триполи? Исламский мир хорошо понимает, что Зенги — просто хищник, готовый сожрать всех, и мусульман в первую очередь. Недаром его прозвали Кровавым. Почему мы должны отдавать ему родной город?
— Скажут, что Зенги всего лишь хочет объединить всех мусульман под знамением джихада, потому и претендует на Дамаск.
— Как ты думаешь, господин, подтвердят ли наши отрубленные головы мудрость исламской политики Зенги? А пока мы живы, нам будет что ответить хору льстецов Кровавого. Главное, о чём мы должны помнить — франки не угрожают Дамаску, для этого у них силёнок маловато. Наш союз с франками не будет явным, мы не станем кричать о нём на каждом углу, если понадобится — будем всё отрицать. При этом мы на каждом углу будем кричать о том, что Зенги — не предводитель джихада, а враг ислама, посягающий на мир правоверных. Мы поднимем шума не меньше, чем он.
— А как ты думаешь, кому поверит Багдад, Дамаску или Алеппо?
— Это просто. Багдад поверит тому, кто сильнее. Только сила имеет значение. А союз с франками сделает нас сильнее. Вот и всё.
— Воистину, Усама, ты счастливый баловень универсальных принципов. Увлечение медициной сделало из тебя хорошего политика, — вполне дружелюбно, хотя и несколько иронично протянул эмир. — Но вот скажи мне, дорогой. только мне, это не для посторонних ушей. Если бы Зенги не угрожал свободе Дамаска, а был, напротив, самым бескорыстным из всех возможных предводителей джихада, тебе бы доставило удовольствие воевать вместе с ним против франков? Только не криви душой.
Усама сделал паузу и печально сказал:
— Медицина приучила меня иметь дело только с фактами. Если человек болен, нет смысла говорить о том, что было бы, если бы он был здоров.
— Не хочешь отвечать? Даже меня боишься?
— О, нет, господин. Я лишь хотел сказать, что не задавал себе этого вопроса и сейчас не готов на него ответить.
— Мне кажется, Усама, ты любишь франков. И тамплиеров не раз называл своими друзьями. Может быть ты просто не хочешь воевать с друзьями?
— Господин может не сомневаться в том, что я — правоверный мусульманин. Ислам для меня дороже всего мира. Если уж говорить на языке предположений, то я прямо сейчас, у ваших ног готов сложить голову во славу Аллаха. Вам нужна моя голова?
— Ну что ты, что ты, дорогой. Мне, конечно, нужна твоя голова, но только у тебя на плечах. Успокойся, я не подозреваю тебя в готовности изменить Аллаху.
— Да, господин, больше всего на свете я ценю веру и верность. Но именно моя преданность исламу и побуждает меня видеть в тамплиерах друзей. В людях, именующих себя рыцарями Храма, я увидел такую религиозную воодушевлённость, такую верность Аллаху, какой никогда не встречал среди мусульман.
— У тамплиеров — верность Аллаху?
— Аллах — Бог Авраама. Так учит Коран. Христиане так же поклоняются Богу Авраама, о чём и пророк Мухаммад говорил. Конечно, христиане говорят об Аллахе много неразумного, они так же чрезмерно возвеличивают пророка Ису, а это весьма и весьма неразумно, но мудрец умеет учиться даже у тех, кто заблуждается, потому что они в чём-то правы.
— Красиво говоришь.
— Мои красивые слова не имеют значения. Имеет значение только сила. А у тамплиеров есть большая сила духа. Такую силу можно получить только от Аллаха. Поэтому хороший мусульманин не может не уважать тамплиеров.
— И что даёт им эта сила? Чему такому мы сможем у них научиться?
— Умению умирать, — очень сурово и жёстко отрезал Усама.
Эмир прикрыл глаза и молчал. Его лицо стало неподвижным, как у мертвеца. Потом он очень медленно поднял веки, но его глаза, кажется, по-прежнему не видели ничего вокруг. Эмир начал ронять тяжёлые ледяные слова:
— Благородный ибн Мункыз. никогда. ты слышишь меня?.. никогда и никому ты не должен говорить тех слов, которые сказал сейчас мне.
Харам-эш-Шериф. Храмовая гора. место священное для каждого мусульманина. Отсюда пророк Мухаммад на священном коне Аль Бараке вознёсся на Небеса, где говорил с самим Аллахом. Впервые в своей жизни Усама ибн Мункыз стоял на Харам-эш-Шериф. Когда он родился, Купол Скалы и мечеть Аль-Акса, отдалённая мечеть, про которую говорит Коран, уже принадлежали франкам. О, Аллах милосердный, как давно они сюда ворвались, как прочно здесь засели, как мало надежды на то, что в Аль-Аксе вновь будут молиться правоверные мусульмане.
Оказавшись на Храмовой горе, допущенный сюда гостеприимными и вежливыми тамплиерами, Усама вдруг почувствовал, что ненавидит этих храмовников всеми силами души, что готов впиться зубами в горло первому же рыцарю в белом плаще. Не было тут никакого противоречия с тем, что он говорил эмиру Муин ад-Дину. Есть время дружить с тамплиерами и есть время рвать им глотки. Сейчас время дружбы. Но как, оказывается, тяжела милость сильных. Как невыносимо на душе.
Да, конечно, тамплиеры — поклонники Аллаха, но ведь им нет дела до пророка Мухаммада, он для них — ничто. Как это вынести? Усама попытался представить себе волшебного коня Аль Барака, который бил копытами на этой горе. Аль Барак прекрасен. А если рассказать про него тамплиерам, они с вежливым участием выслушают это, как если бы им рассказали красивую сказку. Но Аль Барак — не сказка! О, как невыносимо смотреть теперь на хладнокровно-приветливые лица тамплиеров. А этот удивительный свет в глазах. От Аллаха ли он? Теперь важно не сойти с ума, думая об этом. Теперь, пожалуй, важнее молиться, чем думать. Можно ли молиться в осквернённой тамплиерами Аль-Аксе? Наверное, в любом месте и в любое время лучше прославлять Аллаха, чем не делать этого. Только воззвав ко Всевышнему, он сможет вернуть себе душевное равновесие и спокойствие, столь необходимое теперь, во время переговоров с франками.
— Благородные рыцари позволят мне вознести хвалу Аллаху в мечети Аль-Акса? — голосом как можно более ровным обратился Усама к сопровождавшему его командору тамплиеров.
— Конечно же, почтеннейший Усама, вы можете помолиться в бывшей мечети, — невозмутимо суровый командор улыбнулся весьма дружелюбно, но, как показалось Усаме, немного насмешливо. При этом он явно сделал акцент на слове «бывшей» — для тамплиеров на Храмовой горе мечети нет. Усама всей душой ощутил изнанку любезности храмовников.
Внутри Аль-Асы сейчас действительно не многое напоминало мечеть — здесь располагались руководители Ордена, а часть помещений храмовники использовали под склад. «Готов ли я убивать тамплиеров ради того, чтобы очистить это святое место от скверны франков, чтобы здесь опять была настоящая мечеть?» — спросил себя Усама. Он даже не пытался ответить на этой вопрос, сама его острота достаточно поранила душу.
Тамплиеры тактично оставили Усаму наедине с Аллахом. Он расстелил молитвенный коврик и полностью погрузился в молитву, обратившись лицом к Мекке. Вдруг кто-то схватил его за плечи и, грубо развернув, закричал: «Вот так надо молиться!». Усама совершенно растерялся, не понимая, что происходит. Перед ним стоял молодой тамплиер и, возмущённо глядя на араба, всем своим видом изображал учителя веры. Ибн Мункыз ничего не успел ему ответить, в мечеть быстро вошли командор и два рыцаря и, ни слова не говоря, схватив непрошенного «учителя», силой вытащили его из мечети.
«Кажется, этот шайтан пытался развернуть меня лицом к востоку? Как это странно.» — подумал Усама. Он почему-то совершенно не чувствовал себя оскорблённым, хотя молиться уже не мог, механически замерев в молитвенной позе. И тут бешенный франк, видимо, вырвавшись из цепких объятий братьев, вновь влетел в мечеть и опять попытался развернуть Усаму: «Надо молиться вот так». На сей раз его уже не просто вытащили, а скорее вышвырнули из мечети.
Суровый командор храмовников, виновато улыбнувшись, сказал Усаме:
— Смиренно просим вас простить нашего неразумного брата, который прибыл из страны франков лишь несколько дней назад. Он никогда не видел, чтобы кто-нибудь молился, не будучи обращён взором к востоку. Это его сильно смутило. Мы научим его уважению к местным обычаям. Вы можете продолжить молитву.
Усама внимательно посмотрел на командора. С его лица исчез даже намёк на усмешку, видимо, он и правда чувствовал себя виноватым. Опытный тамплиер очень хорошо понимал, что к некоторым струнам в душе мусульманина совершенно недопустимо прикасаться. Усама даже попытался ободрить его улыбкой:
— Я уже достаточно помолился сегодня.
Он покинул мечеть с изумлённой душой. Что-то в этом комичном недоразумении весьма его порадовало, а он даже не мог понять, что именно. Усама вспомнил, как искажено было лицо юного «учителя веры», когда он увидел мусульманина, молящегося в сторону Мекки. Кажется, этот несмышлёныш был до глубины души потрясён открывшейся ему картиной. Так почему же он, правоверный мусульманин, отнюдь не чувствовал себя оскорблённым при столь явной демонстрации неуважения к исламу?
Неожиданно Усама понял секрет своего благодушия. Мальчишка-тамплиер увидел в нём единоверца! Учить правильной молитве можно только того, кто исповедует ту же веру, что и ты сам. Не много смысла в том, чтобы объяснять язычнику, как надо молиться ложному богу, пожалуй, даже логично, что ложному богу молятся в ином направлении. Но мальчик был уверен, что Усама молится Богу Истинному, потому и был так потрясён неправильным, по его мнению, направлением молитвы. Этот ребёнок увидел к нём своего! Хочет ли Усама убить это искреннее дитя на поле боя? Он опять не ответил себе, но сам вопрос уже походил на ответ.
Переговоры шли весьма приятно и очень сложно, как и подобает идти любым переговорам на Востоке. Гостеприимные и дружелюбные тамплиеры торговались так горячо и весело, как будто все они до единого родились в Багдаде. Эмир Муин ад-Дин и его верный помощник Усама ибн Мункыз чувствовали себя в родной стихии, словно и не с франками они пытались договориться, а с самыми настоящими людьми Востока, плетущими словеса подобно Шахерезаде, засыпающими партнёров немыслимыми восхвалениями, при этом почти ни в чём не уступая. С франками обычно трудно — они говорят, как рубятся, а потому с ними легче рубиться, чем говорить. Но тамплиеры — особые франки — рубятся, как люди Запада, а говорят, как люди Востока. В конечном итоге им удалось добиться всех необходимых договорённостей по совместному противодействию Зенги Кровавому.
Не раз Усама думал о том, что тамплиеры — те немногие из франков, для которых Палестина — родная земля. По этому поводу можно было скрипеть зубами, но с этим нельзя было не считаться, как с фактом. Занятия наукой приучили Усаму уважать факты, а это означало в данном случае — уважать тамплиеров. Верность исламу побуждала Усаму склонять голову перед волей Аллаха. А тамплиеры могли обрести здесь вторую родину только по воле Аллаха. Как ни верти, а они здесь свои. И они держат себя в пределах допустимого, зная ту грань, через которую нельзя переступать. Тамплиеры чувствуют, что именно даровал им Аллах, а на что, не дарованное им, посягать нельзя. А вот Зенги не чувствует предела, он посягает на то, что не даровано ему свыше, посягает на чужое, и сам становится чужим для Дамаска. Значит, союз Дамаска и Иерусалима против Алеппо совершается по воле Аллаха.
Пришло время прощаться, Муин ад-Дин со свитой изъявил желание последний раз посетить Харам-эш-Шериф. Вместе с тамплиерами зашли они в мечеть Омара, именуемую также Куполом Скалы. И тут к эмиру подошёл тот самый юный тамплиер, с которым у Усамы случилась комичная стычка а Аль-Аксе. Лицо юноши в белом плаще было чистым, ясным и воодушевлённым, но без того ребяческого перевозбуждения, которое накатило на него во время их последней встречи. Усама был искренне рад этой встрече, улыбнувшись юноше, как старому другу. А тот тем временем чинно и важно спросил Муин ад-Дина:
— Позволит ли великий эмир обратиться к его благородному спутнику? — эта искусственная степенность так не шла к простодушию юноши, что невольно вызывала улыбку.
Эмир, по-отцовски тепло посмотрев на тамплиера, тут же сообщил своему лицу вид самый вежливый и торжественный, провозгласив:
— Вы получили это разрешение, доблестный рыцарь.
Тогда юноша тоном нашкодившего ребёнка сказал Усаме:
— Надеюсь, благородный Усама ибн Мункыз простит меня за глупое и недостойное поведение во время нашей последней встречи.
Юноша так замечательно улыбался, что Усама невольно подумал: «Хотел бы я иметь такого сына», а вслух тепло сказал:
— Ни сколько не сержусь на вас, благородный рыцарь. Вы ведь хотели, как лучше, отнюдь не имея намерения оскорбить меня?
— Конечно же! — с радостной поспешностью согласился тамплиер. — Просто пока я очень мало понимаю в делах Святой Земли, но братья уже многое мне объяснили. Я теперь думаю так: мы уважаем вашу веру, вы уважаете нашу веру. Наши убеждения в чём-то сходны, а в чём-то различны, но спорить нам не стоит, потому что такие споры бывают очень обидными.
— Всевышний даровал моему собеседнику большую мудрость, — Усама сказал это от души, чистый юноша, проявив рассудительность, заслужил похвалу.
Тут тамплиер неожиданно сказал:
— В христианстве так много прекрасного. Хотите увидеть Бога-Ребёнка?
Усама растерялся, а Муин ад-Дин доброжелательно ответил:
— Да, конечно, хотим.
Тамплиер повёл их за собой и наконец показал на образ Мариам с Мессией, да пребудет спасение с ними обоими:
— Вот — Бог-Ребёнок, — сказав это, юноша сам с трогательным умилением посмотрел на икону. Сейчас он был похож на ангела, прославляющего Всевышнего у Его Престола.
На душе Усамы стало радостно и немного тревожно. Юный рыцарь хотел сделать им большой подарок, открыв нечто важное и сокровенное. Бог-Ребёнок. Да вознесётся Аллах высоко, над тем, что говорят христиане. Но ведь этот юноша и впрямь мудрец с чистой и ясной душой. Он сказал, что нам не стоит спорить о религии и решил просто показать самое главное, корневое различие между исламом и христианством. Для мусульман Всевышний бесконечно далёк и совершенно непостижим. Что-либо говорить про Аллаха и уж тем более изображать Его — немыслимо, невероятно. А христиане готовы носить Творца вселенной на руках, баюкать Его и нянчить, потому что Он — Ребёнок. Христианство — ласковое и нежное, как руки матери. Как можно идти с этим в бой? Как можно не испугаться страшной мясорубки, привыкнув к ласковым объятиям своей нежной веры? А ведь эти поклонники Ребёнка дерутся словно львы и боятся смерти порою куда меньше, чем мусульмане, привыкшие к суровому поклонению недоступному Аллаху. И на Небесах эти мальчики, легко идущие на смерть, ожидают не наслаждений с райскими любовницами, а нежных материнских объятий Мариам и чистой детской радости встречи с Богом-Ребёнком.
Эмир Муин ад-Дин и Усама ибн Мункыз молча и сдержанно поклонились юному тамплиеру.
Усама весело улепётывал. Он убежал из Каира от неминуемой смерти, и ещё неизвестно убежал ли, может быть, догонят, а на душе было так радостно, так задорно, словно молодость вернулась. Звёздная ночь, безмолвная пустыня, отряд в 3 тысячи сабель, и они несутся, подобно смерчу. Усама представил себе, что под ним — волшебный конь Аль Барак, который мчит его через космос.
Впереди показались белые плащи. Тамплиеры! Усама громко и жизнерадостно расхохотался. Что может быть лучше, чем бой с друзьями-тамплиерами посреди ночной пустыни! Усама выхватил саблю и весело поскакал прямо в гущу друзей-врагов.
Через два года после того памятного посещения Иерусалима умер покровитель Усамы эмир Муин ад-Дин. Положение ибн Мункыза в Дамаске сразу же осложнилось. Не то что бы он впал в немилость, но роли уже никакой не играл и смотрели на него весьма косо. Заигрывания с тамплиерами у многих в Дамаске, мягко говоря, не вызывали восторга. Все, конечно, понимали, что главный их враг — Зенги и для противодействия ему хороши все средства, но старались на всякий случай сторониться тех, кто работал над созданием коалиции с тамплиерами. Сторонились не очень демонстративно — авторитет покойного эмира многим запечатывал уста, но эмир умер, и при встрече с Усамой почти все его вчерашние друзья начали переходить на другую стороны улицы. Впрочем, идею союза с крестоносцами Дамаск не отверг полностью, но занял выжидательную позицию, и Усама, символ этого союза, стал, во всяком случае, пока, весьма неудобен.
Усама ибн Мункыз очень любил Дамаск и не имел иных намерений, кроме как служить родному городу, но, оставаясь в его стенах, он сейчас ничем не мог послужить Дамаску. Тогда он решил отправиться в Каир. Фатимидский халифат был очень серьёзным игроком на шахматной доске восточного Средиземноморья, заручиться поддержкой такого мощного партнёра было бы очень выгодно, но вот беда — Каир склонялся скорее на сторону Алеппо, чем Дамаска. Не слишком явно и не открыто, но всё же. Эти-то проблемы и намеревался порешать в Каире Усама ибн Мункыз. Ему и в голову не приходило, что он застрянет в Египте на долгие 10 лет.
Без Усамы хлынул в Палестину второй крестовый поход. Когда он узнал, что крестоносцы под предводительством короля Франции Людовика осадили его родной Дамаск, он сначала не поверил своим ушам. Потом пришёл в неописуемое бешенство. Потом успокоился и начал думать.
Так-так. Весь мир знает, чем было вызвано второе нашествие крестоносцев на Восток — Зенги Кровавый сожрал графство Эдесское. Крестоносцы шли для того, чтобы вернуть графство и вот вдруг, не приближаясь к Эдессе, они почему-то устремились на Дамаск. Ай да Зенги! Молодец, хорошо поработал. Только слепец не увидит теперь, что стоит за изменением направления крестового похода — сговор между эмирами и баронами Северной Сирии. Баронам Антиохии наплевать на Иерусалим, точно так же как эмирам Алеппо наплевать на Дамаск. У них на севере свой баланс интересов, своё равновесие сил. Франки Антиохии уже смирились с потерей Эдессы — лишь бы их не трогали. Они обо всём договорились с Зенги. И тут, как снег на голову, совершенно не нужный антиохийским франкам крестовый поход, грозящий нарушить хрупкое равновесие сил в Северной Сирии. Для Зенги крестовый поход — большая проблема, а для князя Антиохии Боэмунда — тоже не решение проблем. Западные крестоносцы, как всегда, перебьют все горшки и исчезнут, а Зенги с Боэмундом будут вынуждены ещё очень долго собирать черепки. И вот эти двое нашли выход — пропустить крестовый поход через себя на юг, натравив его на Дамаск, точнее — стравив естественных союзников — Дамаск и Иерусалим. А король Франции Людовик позволил сделать из себя дурачка, да и не удивительно. Откуда Людовику знать, какую роль играет Дамаск в делах Востока? Но тамплиеры! Неужели они не объяснили королю, что он совершает гибельную ошибку, нападая на своего единственного восточного союзника — Дамаск? Значит, антиохийское влияние на Людовика оказалось сильнее тамплиерского. Это козни Зенги. Вот уж не думал, что у Кровавого есть ещё и мозги.
Потом Усама узнал, что крестоносцы не смогли взять Дамаск и теперь говорят, что осада закончилась неудачей из-за предательства тамплиеров. Бред пьяного факира. Усама теперь искренне сочувствовал своим друзьям-храмовникам. Они, должно быть, и правда не слишком усердствовали во время осады дружественного Дамаска, но они никого не предавали. Крестоносцев предали антиохийцы, снюхавшись с Зенги, и надо же им теперь кого-то обвинять в предательстве. Тамплиерам не позавидуешь, но Дамаск устоял, не доставшись ни Людовику, ни Зенги. А это — главное.
Жизнь Усамы в Каире была роскошна и тягостна, полна всевозможных развлечений и невыносимо скучна. Как мог он радоваться красоте танцовщиц, если дело не двигалось? Каир не шёл на союз с Дамаском, хотя и не отвергал этого союза. В Каире нечего было делать, но и покидать его было нельзя. Усама занимался тем, что укреплял свои позиции при дворе халифа, не вполне, впрочем, понимая, как это ему может пригодиться.
А Зенги так и не вошёл в Дамаск! Кровавый сдох! Но в Дамаск вошёл сын Зенги — Нур ад-Дин. Душа Усамы похолодела при этом известии. Его Дамаска больше нет. Но, может быть, на самом деле всё не так уж мрачно? Ведь Дамаск стоит. Он никуда не делся. А про Нур ад-Дина говорят много хорошего, он совсем не похож на своего безумного папашу.
Усаме вдруг так невыносимо захотелось в Дамаск, что, казалось, он сейчас встанет, и, в чём есть, пойдёт на родину пешком. Но кто он такой для нового повелителя Дамаска? Никто — в лучшем случае, а в худшем — заклятый враг его отца. Хорошо бы чем-то уравновесить это неприятное обстоятельство. Но чем? С чем он явится к Нур ад-Дину?
И вот тут произошло нечто весьма интересное. Источник из ближайшего окружения халифа сообщил, что при дворе созрел заговор. Фаворит халифа Насреддин решил сам сесть на трон. Усама не любил Насреддина. Не отличавшийся ни умом, ни храбростью, ни талантом правителя, фаворит компенсировал эти недостатки лишь напыщенностью и важностью. Одно слово — индюк. Но нельзя ли извлечь выгоду из этого заговора, обратив слабые стороны претендента на престол в свою пользу? Что если попытаться склонить его к союзу с Дамаском уже сейчас, пока он ещё не обладает реальной силой? Заговорщики сговорчивы. Конечно, если Насреддин станет халифом, он может и забыть про обещание, данное Усаме, но не резон ему будет забывать. Власть узурпатора первое время не отличается устойчивостью, любой, кто сел на трон в результате переворота, начинает искать новые опоры для своей власти, поскольку союзы, на которые опирался старый правитель, не только ненадёжны, но и опасны. И тут Насреддину весьма полезен будет Усама, предлагающий союз с Дамаском. Правда, с родным городом ибн Мункыз сам теперь не имеет никакой связи, но зачем об этом знать Насреддину? К тому же власть Нур ад-Дина в Дамаске тоже новая, неустойчивая и так же нуждается в новых опорах. И тут ко двору Нур ад-Дин является Усама — не забытым ничтожеством, не врагом отца, а связующим звеном между халифом и атабеком. Хорошо Дамаску, хорошо Каиру, хорошо Усаме — радость на полмира. Так красиво придумал, что даже стихами заговорил.
Договориться с Насреддином о взаимной поддержке и последующем союзе с Дамаском оказалось весьма несложно. Но заговор провалился. Провалился настолько позорно, что самому было впору провалиться под землю. Халифа-то зарезали без проблем прямо в спальне. Так же легко прикончили двух братьев и великого визиря. Но не подумали о сестре халифа, не обратили внимания на бабу. И когда на исходе кровавой ночи Насреддин уже уселся на халифский трон в окружении мамелюков, сестрёнка заявилась в тронный зал с открытым лицом, которое исцарапала в кровь. Её сопровождали только два телохранителя, но сумасшедшая баба с кровавой маской вместо лица сразу же могильным голосом обратилась к командиру гвардейцев-мамелюков:
— Ты забыл про меня, Ахмет. Разве не течёт в моих жилах кровь халифа, убитого тобой? Разве не надо и меня тоже убить? Вот моё горло. Режь!
— Госпожа. вам ничто не угрожает. Ступайте к себе.
— К себе?! Где я теперь у себя? Только в раю вместе с моими братьями, которых ты убил!
Она ещё долго визжала, причитала и изрыгала страшные проклятия. Насреддин несколько раз приказывал её прикончить. Но на Ахмета, этого бесстрастного убийцу, её вопли произвели очень сильное впечатление. Воин, проливший реки крови, не смог прикончить одну-единственную полоумную дуру. Может быть, Ахмед был тайно в неё влюблён, и она знала об этом? Когда же она пообещала ему прощение, если он поможет наказать остальных убийц, Ахмед подошёл к ней, поклонился и, встав лицом к заговорщикам, скомандовал: «Ко мне, мамелюки!». Большинство воинов перешло на сторону своего командира. Не все, конечно, перешли, на многих ведьмино представление никакого действия не оказало. Насреддин в окружении сохранивших верность сторонников выбежал из зала и направился к казармам мамелюков. Но туда же направился и Ахмед с ведьмой. Гвардия раскололась, в городе началась резня.
Усама не был во дворце во время попытки переворота — зачем бы ему туда лезть. Когда один из заговорщиков прибежал к нему и сказал, что для победы придётся пролить чуть больше крови, чем они предполагали, Усама сразу понял — это конец. Ахмед — опытный военачальник — им его не одолеть. Но бойня даёт им время на бегство. Не стоило большого труда убедить трусливого Насреддина в том, что именно так и следует поступить.
Во время бегства Усаме вдруг стало легко. Он скачет в родной город Дамаск, где не был 10 лет. Этот город был единственной любовью всей его жизни. Ни к одной женщине, ни к одному повелителю он не был так привязан, как к Дамаску. Там его, может быть, ждёт смерть, но это уже не имеет значения, главное — думать больше ни о чём не надо, выбора больше нет. Увидеть Дамаск и умереть.
И вот на горизонте замаячили тамплиерские плащи. Мощный отряд — это не патруль. Такой отряд тамплиеров не мог оказаться здесь случайно. Вероятнее всего — это храмовники из Газы. Что же их всколыхнуло? Да неужели не понятно? Халифова сестрёнка оказалась не только очень бойкой девочкой, но так же и весьма неглупой. На улицах Каира ещё кипела резня, а она уже послала гонца в тамплиерскую Газу с просьбой перехватить беглецов. Зачем тамплиерам ввязываться в эту свару? Тоже просто — хорошие отношения с Каиром нужны не только Дамаску. Перехват беглецов, презревших все божеские и человеческие законы — дружественный жест тамплиеров по отношению к Каиру.
Душевная лёгкость, не оставлявшая Усаму во время бегства, теперь разбавилась весёлой радостью — словно прекрасное вино сдобрили драгоценным бальзамом. Позади, в Каире, плаха, впереди, в Дамаске, тоже возможно плаха, а посредине — тамплиерские мечи. Красивый расклад! Изящный! Весёлый! Если белые плащи храмовников станут последним что он увидит в жизни — это не так уж плохо.
Тамплиеры неспешно приближались, зная, что добыча никуда не денется. Впереди скакал осанистый рыцарь, видимо, командор. Усама выхватил саблю и, неожиданно для себя издав кощунственный вопль «Дамаск акбар», бросился на командора. В первый удар Усама сложил всю свою душу, всю свою любовь и ненависть к тамплиерам. Удар был хитрый, изощрённый, но и старый седой командор тоже оказался не промах. Он красиво уклонился, так что сабля лишь скользнула по щиту.
Тамплиер расхохотался:
— Хороший удар Усама, но недостаточно хороший для того, чтобы меня прикончить.
Не думая о том, откуда этот храмовник его знает, Усама нанёс ещё один удар — тоже весьма неплохой, но так же не достигший цели. Храмовник продолжал смеяться:
— Ещё немного, Усама, и у тебя начнёт получаться.
Усама почувствовал, что его третий удар — его последний шанс. Кажется он пропорол рыцарю кольчугу на боку, вряд ли сильно его задев, а сабля сломалась.
— Хороший воин, Усама, сделал всё, что мог, заслужил смерти героя, — рыцарь по-прежнему смеялся.
Безоружный и теперь уже не очень весёлый Усама прохрипел:
— Откуда ты меня знаешь?
— Помнишь Харам-эш-Шериф, 12 лет назад? Неужели ты забыл сопровождавшего тебя командора?
— Ты поседел. Но я помню. А как тебя зовут не знаю.
— Брат Ангерран. Для тебя просто Анги.
— Кончай меня, Анги.
— Зачем? Ты ведь не враг Ордена.
— Я не враг Ордена, но не хочу этим заверением покупать себе жизнь.
— Каир испортил тебя, Усама. Болтаешь много лишнего. Беги в Дамаск.
Вокруг кипел бой. Где-то рядом сражался или уже был убит брат Усамы, которого он втянул в каирскую авантюру. Сейчас он ничем не мог помочь брату. В Дамаск? В Дамаск!
— Да хранит тебя Всевышний, благородный и великодушный рыцарь.
Уже не смеявшийся командор молча кивнул.
Встреча с родным Дамаском лишила Усаму сил. Лёгкой радости бегства как не бывало. Воспоминания впились в душу тысячами пчёл. Страха он не испытывал, смерти по-прежнему не боялся, но каждый камень любимого города словно бросал ему упрёк — болезненный, обидный, несправедливый.
— Кто ты такой и почему думаешь, что великий атабек захочет говорить с тобой? — надменно спросил его страж дворца.
— Усама ибн Мункыз, желающий служить великому атабеку ради славы Дамаска, — его слова прозвучали глухо, хрипло, почти равнодушно — тональность, совершенно не принятая при дворе. За такую небрежность обращения — без поклонов, без подобострастных расшаркиваний могли и плетьми от ворот погнать, но страж — человек нерядовой, опытный, почувствовал, что перед ним, может быть, кто-то значимый, способный заинтересовать атабека.
Через некоторое время вежливый слуга сказал Усаме:
— Следуйте за мной, господин.
Его провели в маленькую, но шикарную комнату. Дверь за спиной закрылась и грохнул засов. Усама понял, что он — пленник. Скоро ему предложат одно из двух: либо зловонную яму и смерть, либо дорогой халат и службу.
Оказалось, что не скоро. День проходил за днём. Усаме приносили дорогую еду, но сменить пропылённую и порванную одежду не предложили. Усама попросил принести ему Коран. Принесли. Он читал Коран и молился. Потом опять молился и опять читал. Ожидание странным образом не тяготило. Неопределённостью он не терзался, душу заполнила пустота — спасительная пустота без мыслей и чувств.
Прошло, может быть, три дня, а может — неделя и Усаму позвали к Нур ад-Дину. Великий атабек был одет удивительно просто — даже у его гвардейцев были одежды подороже. Весь его облик дышал благородной простотой и властью — власть исходила от него, как свет от лампы.
— Что ты хочешь? — без затей спросил Нур ад-Дин.
— Служить вам, великий господин.
— Мне или Дамаску?
— Для меня это одно.
Нур ад-Дин едва заметно усмехнулся:
— Говорят, в последнем бою ты орал: «Дамаск акбар»?
— Ничто не сокрыто от великого господина.
— За такое кощунство ты вполне заслужил смерть.
— Слова достойные великого хранителя веры.
— А твои слова дышат странной надменностью. Не у своих ли друзей-тамплиеров ты научился так нагло держать себя?
— Аллах знает об этом лучше.
Ну ад-Дин опять усмехнулся, теперь уже более явно и несколько зловеще. Атабек молчал бесконечно долго. Потом сказал:
— Твоя преданность родному городу заслуживает подарка. Необычная в наше время преданность заслуживает необычного подарка. Подарю тебе друга. Ведь настоящий друг дороже, чем всё золото мира.
Атабек хлопнул в ладоши. Два стражника ввели пленного тамплиера. Он был в изорванной белой тунике, красный крест на левом плече скрывало кровавое пятно. Пленником он был явно почётным — руки не связаны и держал себя так независимо, словно был здесь хозяином.
Усама сразу же узнал его, хотя стоявший перед ним тамплиер имел уже совсем другое лицо по сравнению с тем юношей, который когда-то налетел на него в мечети Аль-Акса, а потом хотел показать Бога-Ребёнка. Тогда ему было лет 18, сейчас — около 30-и. Теперь его лицо было опалено зноем пустыни, огромный шрам перерезал всю правую щёку — старый посиневший шрам от давно зажившей раны. В нестриженной темно-русой бороде уже пробивалась ранняя седина. На непрерывной войне быстро стареют. И всё-таки суровое лицо заматеревшего воина по-прежнему отражало детскую чистоту и непосредственность. Война сделала из него мужчину, но не чудовище. Лишила иллюзий, но не смогла отнять внутренний свет.
Они смотрели друг на друга и тихо улыбались, не говоря ни слова. Молчание прервал Нур ад-Дин:
— Это мой пленник. У себя в Ордене он занимает весьма высокий пост. Тамплиеры предполагают за него выкуп — тысячу динаров. Я дарю этого человека тебе, Усама. Можешь получить за него выкуп или поступить любым иным образом, какой сочтёшь наилучшим.
— Великий повелитель сделал мне подарок воистину царский, — Усама впервые поклонился Нур ад-Дину так, как принято кланяться хозяину.
— Теперь ты у меня на службе, Усама ибн Мункыз, — доброжелательно сказал атабек. — Пока я подумаю, к чему тебя определить, поживи в той же комнате. Её больше не будут запирать.
И тамплиер пусть побудет с тобой, пока ты не решишь, что с ним делать. Не убежит — дал слово.
— Ну, здравствуй, — сказал Усама, когда они пришли к нему в комнату. Кажется, даже встреча с братом не обрадовала бы его настолько, насколько он был счастлив видеть этого человека, который олицетворял что-то очень важное в его жизни. — Самое время узнать, как тебя зовут.
— Здравствуй, Усама. Меня зовут Жан. Впрочем, для тамплиеров имя не имеет значения. Имя имеет Орден Храма, а рыцари Храма предпочитают безымянность.
— Ну это явно сказано не про тебя. Тамплиеры никогда не выкупают своих, а за тебя предлагают целое состояние — тысячу динаров. Значит, твоя жизнь драгоценна для братьев.
— Моя жизнь не имеет никакого значения, так же как и жизнь любого тамплиера. Но сейчас в моей руке находится очень много ниточек. Короче, если меня не станет, братьям придётся заново проделывать огромную работу. Надеюсь, узнав об этом, ты не увеличишь сумму выкупа? — тамплиер улыбнулся.
— Мне вообще не нужны за тебя деньги. Мне нужен мой брат. Надо сначала узнать, что с ним.
— Твой брат жив. Он в плену у наших.
— Как ты можешь получать информацию, находясь в плену?
— Некоторые ниточки я не выпускаю из рук даже здесь.
— Тогда я обменяю тебя на моего брата, вот и всё. Даёшь слово, что прибыв в Газу, ты распорядишься отпустить моего брата?
— Даю слово.
— Ну так отправляйся хоть сейчас. Впрочем, лучше завтра утром. Коня бы тебе раздобыть, а у меня пока ничего нет.
— Едва я выйду за ворота дворца, у меня будет конь.
— Повсюду свои люди?
— Работа такая.
— Вот как быстро мы с тобой обо всём договорились.
Усама почувствовал неловкость. Так хотелось ему поговорить с этим родным врагом, но не так-то легко говорить с тамплиером. Усама хотел побыть в лучах света, исходивших от белого рыцаря, но не начнёт ли этот свет обжигать душу? Тамплиер живёт в мире иных понятий и представлений. Усама не знает языка его души. Они могут сутками плести словеса на переговорах, но вот так, оставшись вдвоём. Надо о чём-то спросить хотя бы из вежливости.
— Может быть, у тебя есть какие-то желания, тамплиер?
— Есть. Хочу, чтобы Усама ибн Мункыз увидел Бога-Ребёнка.
Сиверцев дочитал свой опус. Странно как-то стало на душе. Он тоже очень тосковал по своему родному северному городу и с большим удовольствием прогулялся бы по его улицам. Но не сказать, что он хочет этого больше всего на свете. Почему? Потому что у него есть братья, есть Орден. Это и есть его Родина. Да, всё очень просто. Бедный, бедный Усама. У него не было ничего, кроме Дамаска. Ведь Аллах бесконечно далёк.
Андрей встал, размял руки и ноги. Надо зайти к Саиду. Восток достал. Хотелось послать всех «саидов» подальше. Но если он, Андрей Сиверцев — тамплиер, значит Восток — его крест. И никуда от «саидов» не денешься.
Саид лежал в постели как-то очень строго, как лежат в гробу. Он смотрел в потолок широко распахнутыми невидящими глазами. На появление в комнате человека никак не отреагировал.
— Ты живой? — добродушно усмехнулся Сиверцев.
— Был бы мёртвый — на такой жаре воняло бы очень сильно.
— Да ты юморист. Какое имя ты получил в крещении?
— Александр. Но я предал своё христианское имя.
— Свои заставили?
— Никто не заставлял. Свои это свои.
— Знаешь, Александр. У меня на Родине тебя звали бы Саня. Друзья звали бы тебя так.
— Са-ня, — с трудом выговаривал Саня-Саид. — Какие странные звуки.
— Нормальные звуки. Как нога?
— Меня нет. Что такое нога?
— Нога, брат, это очень важно. Всего их две. Одной недостаточно. А можно обе потерять. Тогда совсем плохо.
Саид кисло улыбнулся:
— Болит, но заживает. О чём хочешь поговорить?
— Да о тебе, Саня, о тебе. Куда ты теперь?
— К своим не вернуться — убьют. А твои не простят.
— Глупый ты, Саня. Наши тебя уже простили.
— Сам себя не прощу.
— Это правильно. Но с этим живут. Давай о главном, Александр. Ты считаешь себя христианином?
— Не знаю.
— Ну ничего себе! Ты вообще понимаешь, о чём речь? Тебя здесь не задержат, когда поправишься — отпустят на все четыре стороны. Но четыре стороны — это очень много. Тебе нужна одна. И надо знать — какая. Что за вера у твоих земляков-ассассинов?
— Не знаю.
— Ты смеёшься?
— Серьёзно. Тебе это трудно понять, но у нас так. Путь — тайна. Надо заслужить право встать на путь. Тогда наставник чуть-чуть приоткрывает самый краешек тайны. Будешь во всём покорным — приоткроет побольше. Я ещё не заслужил того, чтобы встать на путь. Наставник сказал: «Отдашь нам христиан — встанешь на первую ступень».
— Мрак. Значит, вы по сути не исповедуете никакой религии?
— Для таких как я — только покорность и ничего больше.
— А хотел бы ты сейчас встать на вашу первую ступень?
— Мне кажется, там ничего нет.
— И давно тебе так кажется?
— Слушай, европеец, ты ведь чужой здесь?
— Я здесь не чужой, потому что христианин. И ты тоже.
— Но ведь после того, что я сделал, меня никогда не допустят к вашей первой ступени.
— Да нет у нас никаких ступеней! Когда ты принял крещение — ты получил всё! Высшая Сила мироздания благословила тебя!
Глаза Саида засветились, он хотел вскочить с постели, но сморщился от боли и упал обратно. Вдруг он разрыдался.
— Я чувствовал! Когда меня крестили, я что-то такое почувствовал в своей душе. Как будто свет. Хорошо было. Но я не поверил — думал, кажется. И пришёл сюда вас резать. И свет ушёл из души. А после боя в меня вошли ужас и отчаяние. И сейчас так. Я всё потерял.
— Ничто не потеряно. Ты должен покаяться в своём грехе. Потом принять причастие. Свет вернётся. Может быть не сразу, но вернётся.
— Значит, согласно вашей вере — выход есть?
— Конечно. Поговоришь с Шахом. то есть со священником. Он всё объяснит. Скажи ему, что раскаиваешься и хочешь стать настоящим христианином.
— Так просто?
— Не просто. Но понятно. И никаких ступеней, никаких тайн.
— У вас сразу — доступ ко всем тайнам?
Андрей тяжело вздохнул:
— Саня, тебе нужны тайны или тебе нужен Свет? Свет. благодать Божия будет с тобой. И тебе сразу расскажут, что для этого надо делать. Ничего не скроют.
— Значит, поговорить со священником?
— Когда я уйду, позову его. Он придёт. А ты мне пока вот что скажи. Ваши наставники поддерживают связи с другими такими же, как они из других деревень?
— Это невозможно.
— Ну прямо. Тебя ведь много во что не посвящали.
— Ты бы видел горы, которые окружают нашу деревню. Из нашей долины есть выход только в вашу сторону.
— И ты никогда не видел в вашей деревне чужих людей?
— Ты, видимо, не понимаешь — это невозможно.
— Вообще никакой связи с внешним миром?
— Наш мир — наша деревня.
Шах встретил Сиверцева тихой виноватой улыбкой:
— Александр исповедался и причастился. Удивительно чистая душа. А я просто старый дурак. Сначала меня очаровало его желание креститься, а потом, когда он поднял на нас оружие, я вычеркнул его из души, настолько был потрясён. А ведь если разобраться, меня потрясло не столько его предательство, сколько собственная непредусмотрительность, гнев же, конечно, легче было обрушить на мальчишку, чем на себя. Я не стал бы с ним разговаривать. Не нашёл бы сил, оправдываясь тем, что это бесполезно. Погиб бы хороший парень. По моей вине. А тебе-то как удалось достучаться до его души?
— Я не ставил перед собой такой задачи. Просто он был мне интересен.
— Всё правильно. Спаси тебя Бог, Андрюша.
— Во славу Божию. Саша рассказал вам о том, что их деревня изолирована от внешнего мира?
— Да. Я уже всё понял.
— А я, признаться, до сих пор не понимаю, как такое возможно. У них есть оружие, одежда и многое другое, что они никак не могут сделать сами. Да ведь они бы уже одичали, если бы жили в полной изоляции.
— Их изоляция неполная, к тому же — недавняя. Поясню. Я в этих краях — не местный, не говоря уже о том, что всё об этих горах не знает никто. Мы с друзьями-христианами пришли сюда всего лет десять назад. В деревне многие считали себя измаилитами, но сильных наставников не было и, соответственно, никакого религиозного фанатизма мы не встретили. Местные оказались очень восприимчивы к христианской проповеди. Так возникла наша община. Мне и раньше говорили, что дальше за нами так же живут измаилиты, но было не до них, а сейчас я решил узнать, много ли их там? Если хотя бы несколько деревень и они решили развязать войну, то нам конец. Оказалось, что всего одна деревня и тупик.
— Так как же живёт эта деревня?
— Они всегда связывались с внешним миром именно через наше направление. Раньше, когда здесь жили их единомышленники, пусть и не слишком ревностные, это не составляло проблемы. Когда здесь водворились мы, они продолжали ходить — реже, с большими предосторожностями, но всё же они не оказались в полной изоляции. Время от времени в нашей деревне появлялись чужие люди, на которых я почти не обращал внимания — миролюбивые, спокойные путники с тюками — у нас не было повода для беспокойства. Сейчас я вспомнил множество деталей, да плюс — рассказ Александра, а ещё с местными старожилами поговорил и картина стала ясна.
— Значит, вы больше не видите опасности?
— Думаю, опасности нет. Есть вполне решаемая проблема, которой мы сейчас очень плотно займёмся.
— Но если они напали однажды, то и ещё раз нападут.
— Да нет им смысла нападать. Наша первая задача — объяснить им это. Отправим посольство и всё порешаем. Их к себе пригласим. В боевом отношении мы сильнее их, и они это быстро поймут. Их главная проблема — беспрепятственный проход караванов через нашу деревню. И мы дадим им эту возможность. Когда ассассины поймут, что мы для них — не пробка, которая закупоривает их бутылку — сразу же успокоятся.
— А религиозные противоречия?
— Когда они узнают, что мы сильнее, их уши откроются. Христианство перестанет казаться им таким ужасным. Может быть, мы вообще склоним ассассинов на свою сторону или, во всяком случае, договоримся о невмешательстве в религиозные дела друг друга.
— Как тут всё интересно в ваших горах. Количество и качество клинков — главный богословский аргумент.
— Ну не совсем, конечно, так, но это Восток, Андрюша. Мы, христиане, готовы все до единого погибнуть, но от Христа не отречёмся. Аассассины — другие. Для них религиозные убеждения — фундамент боевой силы. Соответственно, слабость — признак ложности убеждений. Впрочем, забудь. Проблемы нет.
— А всё-таки жалко выглядят современные ассассины. Гнилые обломки страшных зубов великого тигра — Хасана ас-Саббаха. Хасан, наверное, сморщился бы от презрения, увидев, во что выродились его последователи.
— Хасан был Хасаном, а его последователи имели бледный вид уже вскоре после его смерти, что уж говорить про наше время.
— А как же великий и ужасный Старец Горы — Рашид ад-Дин Синан?
— Клоун.
— Человек, заставлявший трепетать весь Восток — клоун? Верится с трудом.
— А это вообще не предмет веры. Надо просто внимательно и непредвзято пройтись по источникам.
Простодушный Жан де Жуанвиль, сенешаль короля Людовика Святого, писал: «Когда Старец Горы скачет верхом, перед ним едет глашатай с топором, у которого длинная ручка, покрытая серебром, а в неё воткнуто множество ножей. Глашатай выкрикивает: «Расступитесь перед тем, кто несёт смерть королям в своей деснице»».
Представив себе эту картину, исполненную детской жути, Сиверцев жизнерадостно расхохотался. Вспомнил о том, как в пионерском лагере они рассказывали друг другу наивно-страшные истории, не сомневаясь в их правдивости. Рассказы средневековых хронистов о Старце Горы были в том же духе — по-детски наивные, способные испугать лишь ребёнка, а у взрослого не вызывающие ничего кроме улыбки.
Вот, к примеру, весьма показательный фрагмент из «Деяний короля Ричарда»: «Для исполнения поручения Старец вручает каждому один-единственный нож, чудовищно длинный и острый». В пионерском лагере эта история пользовалась бы большим успехом. Андрей вспомнил, как у них в лагере однажды распространился слух о том, что в окрестностях бродит «бандит с золотым ножиком». То же самое мироощущение, та же психология.
А вот ещё чудная подробность. В 1264 году папа Урбан предупреждал письмом Карла Анжуйского о действиях своего недруга короля Манфреда: «Этот самый Манфред… уже отправил во Францию. двух ассассинов, снабжённых пятьюдесятью разными ядами». Пятьдесят ядов! Сильный ход.
Над средневековьем смеяться не надо, так же как не надо смеяться над детьми. Это отнюдь не глупость, а принципиально иное мироощущение. Средневековые хронисты, так же как и современные дети, почти не ощущали границы, отделяющей фантазию от реальности. Но если мы считаем себя людьми взрослыми и давно уже не средневековыми, надо относиться к источникам той поры. определённым образом. Надлежит ли к примеру, считать свидетельством современника следующее высказывание учёного Вальтера Мапа: «Старец ассассинов, то есть тот, который правит осью земли».
Из свидетельств средневековых хронистов крупицы исторической истины приходится вычленять примерно так же, как из древнегреческих мифов. В рассказах о деяниях ассассинов правды не больше, чем в рассказах о деяниях арганавтов. А современное европейское мышление до сих пор играет со средневековым мифом об ассассинах, создавая всё новые и новые модификации этого мифа, при этом совершенно не интересуясь реальностью, скучной и отвратительной.
Вот, к примеру, фрагмент из послания нотариуса Бурхарда, которого в 1175 году отправил на Восток император Фридрих Барбаросса: «На границе Дамаска, Антиохии и Алеппо обитает некий сарацинский народ, который называют ассассинами. Вопреки вере сарацин, они едят мясо и жену могут брать любую, хоть свою мать или сестру. Они обитают в горах и почти непобедимы, ибо находятся в укреплённых замках. Земля их не очень плодородна, так что живут они только разведением скота. У них есть господин, который вселяет страх во всех сарацинских правителей, далёких и близких, а так же могущественных христиан по соседству, ибо они имеют обыкновение убивать их удивительным образом. Правитель этот владеет в горах множеством прекрасных дворцов, заключённых за высокими стенами. В этих дворцах он приказал множество детей своих селян растить с самой колыбели и обучать различным языкам, а именно латыни, греческому, романскому, сарацинскому и многим другим. Их учителя проповедуют им с самого раннего возраста, чтобы они повиновались любому слову или повелению господина своей страны, и если они будут так поступать, он дарует им райское блаженство, ибо имеет власть над Богом живым. Им внушают, что невозможно обрести спасение, хоть в чём-то ослушавшись повелителя страны. Когда они оказываются перед лицом правителя, тот спрашивает их, желают ли они повиноваться его приказам — и тогда он отправит их в рай. Они оставляют всякие противоречия и колебания и, пав ниц, с душевным пылом отвечают, что будут повиноваться ему во всём. Тогда правитель выдаёт каждому их них золотой нож и любого по своему желанию посылает убить какого-либо правителя».
Если бы нотариус Бурхард был собирателем фольклора — не было бы ему равных, но как разведчик он явно подкачал, потому что занимался не сбором достоверной информации, а записыванием сказок. Скучно даже опровергать благоглупости по поводу сексуальной распущенности убийц-полиглотов. Текст Бурхарда интересен в первую очередь как один из первых камней, ставших фундаментом демонически-зловещего мифа об ассассинах. Запад прямо-таки жаждал быть насмерть перепуганным, лихорадочно отыскивая источники страха не для того, чтобы их устранить, а чтобы впасть в сладострастие ужаса. Миф о Горном Старце удовлетворял эту потребность в инфернальном кошмаре. И современные модификации мифа об ассассинах служат удовлетворению всё той же нездоровой психической потребности.
Можно ли хоть в какой-то мере верить средневековым свидетельствам об ассассинах? Да, но весьма нелегко определить эту меру доверия. Вот сюжет, который в наше время более всего любят воспроизводить («История Ираклия» под 1197 г.):
«Иерусалимский король Анри Шампанский ответил на приглашение повелителя ассассинов и поехал к нему. Старец принял его с великим почётом и повёз его по своей стране, показывая замки. Как-то раз они подъехали к замку, увенчанному высокой башней, а на каждом зубце этой башни стоял человек, одетый во всё белое. И тут повелитель ассассинов сказал: «Ваши люди не сделают для вас столько, сколько мои сделают для меня». Он прокричал и те двое, что стояли на крепостной стене, бросились вниз. Собеседник был изумлён, а старец сказал, что нет ничего такого, что его люди не сделали бы для него».
Было ли это на самом деле? За исключением деталей, вероятнее всего, было. Плоды фантазии средневековых хронистов выглядят совершенно иначе, а эта история звучит как-то уж очень по-взрослому. При всей своей театральности, она дышит подлинным кошмаром. Но в чём кошмар? И вот тут средневековое и современное обывательское восприятие, в чём-то весьма сходные, очень сильно расходятся. Сейчас эту историю приводят как доказательство страшного религиозного фанатизма, ужасаясь прежде всего тому, что ассассины легко отдавали жизнь во имя своих религиозных убеждений. Современный европейский обыватель тем и бывает шокирован, что кто-то мог легко и добровольно умереть ради такого второстепенного пустяка, как религия, то есть сама по себе религия (любая!) предоставляется кошмаром нашим бездуховным современникам.
Средневековые христиане, напротив, если за что и уважали ассассинов, так это за твёрдость религиозных убеждений. К примеру, Гийом Тирский писал: «В течение 400 лет они (ассассины) столь ревностно придерживались веры сарацин и их обычаев, что по сравнению с ними все остальные кажутся отступниками, они же исполняют предписания этой веры во всём». Простим тирскому хронисту то, что он ошибочно приравнивает измаилизм к «сарацинской вере», то есть традиционному исламу. Главное Гийом подметил верно — ассассины были гораздо более ревностны в религии по сравнению с традиционными мусульманами, и это вызывает его уважение. Крестоносные хронисты не могли видеть ничего пугающего в том, что ассассины с лёгкостью умирают во имя веры. Разве не так же легко отдавали жизнь за Христа тамплиеры? Но их пугало другое: ассассины умирали не ради Бога, а ради старца. Вот это-то переключение религиозного чувства с Бога на человека и представлялось чудовищным. Ассассины смотрели на своего предводителя, как на бога, а это уже настоящее язычество, весьма далёкое не только от христианства, но и от ислама. Такие язычники ужасны потому, что от них можно ждать чего угодно. Крестоносцам были известны предписания ислама, но они не могли знать, что завтра ударит в голову Горному Старцу.
Поначалу европейское сознание восприняло преданность ассассинов Старцу Горы с некоторым даже восхищением. Трубадуры обещали своим возлюбленным хранить такую же верность, как и ассассины своему таинственному учителю. Но это означало лишь то, что христианское сознание Европы начинало понемногу разлагаться и оязычиваться. Культ прекрасной дамы и культ Горного Старца имеют общие черты. И трубадуры, и ассассины выражали стремление умереть ради самого главного в их жизни человека, забывая о том, что их жизнь принадлежит Богу и никому нельзя воздавать почести, которых достоин лишь Бог.
Но жеманное и манерное отношение трубадуров к ассассинам не могло возобладать в европейском сознании, потому что ужас перед живым язычеством был куда сильнее, чем склонность к поэтическим излишествам. На смену поэзии быстро пришло мифотворчество. Европа, заворожённая инфернальным кошмаром, который по большей части сама же и создала в своём воображении, все беды своего мира стала списывать на ассассинов. Вдруг неожиданно выяснилось, что «крестовый поход детей» — странное стихийное движение, погубившее множество юных европейцев — проделка Горного Старца. В 1212 году Винсент из Бове на полном серьёзе утверждал, что Горный Старец держал в плену двух пилигримов и не отпускал до тех пор, пока они не поклялись привести к нему детей из французского королевства. Воистину, кошмару не ведомы логика и здравый смысл.
Вскоре вошло в большую моду списывать на ассассинов чуть ли не все политические убийства, имевшие быть в Европе. 15 сентября 1231 года некто убил герцога Людовика Баварского. Как сказано в анналах Марбаха, «сделал это некий человек, из числа тех, кого посылает Горный Старец. Убийцу подвергли пыткам, чтобы он сознался, по чьему приказу действовал, но даже пытками не смогли ничего добиться». Очевидно, что не было ни одного доказательства причастности к этому убийству ассассинов, однако Кельнские анналы так же утверждают: «Этот самый Горный Старец, союзник императора, решил отомстить за многие несправедливости, которые герцог совершил по отношению к императору». Горный Старец, конечно, не был союзником императора Фридриха II, это чистый фантазм, а о существовании Людовика Баварского предводитель ассассинов вряд ли хотя бы слышал. Но грешить на ассассинов было так удобно и модно, что и сам Фридрих II решил задействовать этот миф в своих политических раскладах. В мае 1236 года Фридрих выдвинул обвинение против герцога Австрийского: «Замышляя против нашей души злодейство, он отправил своих посланцев к Горному Старцу, пообещав тому несметную плату, если тот расправится с нашим величеством». Про доказательства, как и всегда в таких случаях, лучше не спрашивать.
На ассассинов начали списывать не только реально имевшие место убийства и покушения, но и охотно выдумывали покушения, которых на самом деле никогда не было. Гийом из Нанжи писал в «Житии» Людовика Святого: «Старец Горы, обманутый дьяволом, начал замышлять убийство короля Франции Людовика. Этот злой и коварный царь жил на границе Антиохии и Дамаска в хорошо укреплённой крепости на горной вершине. Его страшились христиане и сарацины, жившие по соседству и даже вдалеке, ибо он не раз посылал людей, хладнокровно убивавших правителей. Итак, он послал во Францию эмиссаров, повелев им любым способом уничтожить Людовика». Далее Гийом из Нанжи рассказывает о том, что Горный Старец изменил своё решение и послал других эмиссаров — отменить приказ об убийстве короля. Посланные вслед схватили первых и выдали королю. Людовик осыпал и тех и других подарками и отправил Старцу Горы королевские дары в знак мира и дружбы.
Людовик Святой действительно имел контакты с ассассинами, но не во Франции, а в Святой Земле, а эта история — чистый вымысел. В наше время из таких вымыслов делают боевики, раньше их включали в хроники и жития. Но не думайте, что многое изменилось. Современные обыватели так же воспринимают боевики, как вполне адекватное отражение реальности, самые нелепые «страсти-мордасти» принимая за чистую монету. И сейчас, как в средневековье, обыватели любят, чтобы их пугали.
Даже реальные акции ассассинов обрастали такими мелодраматическими вымыслами, что авторы современных мыльных опер могут лопнуть от зависти. В 1192 году два ассассина, одетые в сутаны христианских монахов, убили маркграфа Конрада Монфератского, да и было за что — незадолго до этого Конрад захватил ассассинский корабль с грузом и казнил всю команду. Бессмысленная казнь команды была явным перебором даже по меркам самой ожесточённой войны, и вот ассассины прикончили Конрада прямо в день его свадьбы, причём весьма изощрённо и театрально. Это исторический факт, но вот какую байку читаем в «Хронике казначея Бернарда»: «Когда повелитель ассассинов узнал, что маркиз ограбил его людей. он приказал двум своим людям поехать в Тир и убить маркиза. Они отправились в Тир, прибыли туда и приняли крещение. Одного воспринял от купели маркиз, а другого находившийся тогда в Тире Балиан, муж королевы Марии». Нелепо думать, что маркиз, известный своим высокомерием, стал бы крёстным отцом какого-то бродяги, к тому же, если исходить из обстоятельств убийства, ассассинам не было никакой надобности принимать крещение, чтобы совершить своё дело. Действительно, куда проще было переодеться монахами, как и пишет о том другой хронист. Но сколько изощрённой фантазии, сколько демонического цинизма приписывается здесь ассассинам: сначала сделать Конрада своим крёстным отцом и только после этого прикончить его.
Потом прошёл слух, что ассассины убили Конрада по просьбе Ричарда Львиное Сердце. Потом заговорили о том, что ассассины пробрались на Запад, чтобы убить самого Ричарда и т. д. и т. п. Единожды включённый фонтан ужасов работал на полную мощность ещё не одно столетие.
Приходится признать, что тех ассассинов, про которых так любили поговорить в Средние Века, на самом деле никогда не существовало. Но в любую эпоху, не исключая и нашу, массы людей имеют болезненную потребность испытывать ужас. И если уж люди хотят быть насмерть перепуганными, так они найдут свой образ страха, слепят его из чего угодно. А властители всегда будут использовать народный страх в политических целях, сознательно нагнетая страсти, потому что им это выгодно. Средние Века испытывали как психологическую, так и политическую потребность в мифе об ассассинах, а кому-то и в наше время по тем же причинам выгодно этот миф реанимировать.
Первым создателем и главным источником мифа об ассассинах был предводитель сирийских низаритов Рашид ад-Дин Синан — тот самый Старец Горы. Позднее так называли всех предводителей ассассинов и, что самое смешное, даже Хасана ас-Саббаха, но первым Старцем Горы был именно Синан. Этот человек был самой настоящей мифотворческой машиной, и, во многом, именно его личные качества определили характер кошмара, пережившего века. Посмотрев, что писали о Синане как европейские, так и восточные хронисты, Сиверцев понял, почему Шах назвал Синана клоуном.
Синан был артистом по натуре, он всё делал «на публику». Кажется, главной его страстью было стремление производить впечатление. Старец Горы являл собой самовлюблённое, несколько экзальтированное существо, далёкое от подлинного величия. В нём, по большому счёту, не было ничего способного вызвать настоящий, реальный, а не искусственный страх.
Пишут, что Синан обладал прекрасными актёрскими дарованиями, много внимания уделял внешнему облику. Он отрабатывал величавые позы, которые должны были отражать его сверхчеловеческое достоинство и поражать народное воображение. Он мало говорил и не допускал, чтобы его видели за едой. Этот человек, явно страдающий нарциссизмом — диаметральная противоположность Хасану ас-Саббаху. Хасан никогда и ни на кого не пытался производить впечатление, он 35 лет прожил, не выходя из комнаты. Человеку, который живёт напряжённой внутренней жизнью по большому счёту безразлично, как его воспринимают. Синан вообще не имел постоянной штаб-квартиры, непрерывно путешествуя из крепости в крепость и редко две ночи ночуя на одном месте. Человек, который любит пребывать на публике и репетирует красивые позы, не может иметь серьёзного внутреннего содержания. Хасан может заинтересовать политолога, религиоведа, психолога. Фигура Синана — создателей дешёвых приключенческих романов.
Хасан считал себя не более чем представителем скрытого имама. Синан изображал из себя пророка рангом не ниже Мухаммада. Никто и никогда не рассказывал про какие-либо «чудеса», сотворённые Хасаном. Он просто не нуждался в волшебных подтверждениях своей власти, потому что власть его была подлинный. Ему достаточно было являть собой то, что он есть. Про Синана постоянно рассказывали какие-нибудь «чудеса», вне этих наивных благоглупостей не существовало ни его, ни его власти.
Синана считали ясновидящим, приписывали ему целительную силу. Говорили, что он дважды спасал людей от падающих скал. Однажды он будто бы единолично отразил нападение воинов Саладина, лишив их возможности двигаться и удержав на расстоянии от низаритского отряда. По преданию, однажды ночью ученики обнаружили его беседующим с зелёной птицей, сияющей ярким светом. Синан объяснил, что это душа Хасана II явилась, чтобы попросить о помощи. Говорят, он невидимкой попал в шатёр Саладина. Рассказывали историю о том, как некий юноша нёс сумку, и она каждый раз становилась тяжелее, когда он думал о Синане дурно. Говорили, что Синан будто бы не отражается в воде.
Это же просто бульварная дешёвка. Не надо сомневаться, что над созданием подобных «чудес» Синан лично не мало потрудился, как минимум распуская слухи, а порою — устраивая инсценировки. Чего стоит одна история с говорящей головой. В шатёр Синана заходят люди и видят, что на земле на блюде лежит отрезанная голова, которая начинает вещать, уведомляя о высочайшем духовном ранге Синана. Люди, поражённые до глубины души, уходят, и тогда из ямы, закрытой коврами, вылезает целый человек. Ему тут же отрубают голову и через минуту всем желающим показывают сей предмет, только что говоривший, чему есть свидетели. Если представить себе психологический тип Синана, не возникает сомнений в том, что он был вполне способен на такие проделки.
Ибн Джубайр писал про Рашид ад-Дин Синана: «На склонах горы Ливан располагаются крепости еретиков — измаилитов, они приписывают человеческому существу божественные черты. Судьба послала им дьявола в человеческом обличье по имени Синан, который увлёк их ложью и выдумками и очаровал их. Они сделали его своим божеством, вверив ему свои души и полностью подчинившись ему».
Понятно, что это оценка врага, то есть человека предубеждённого, к тому же по-восточному горячего и склонного к преувеличениям, но это, в основе своей, справедливая оценка. И всё-таки Синан — это одно, а люди, любившие его, это другое. Актёры и поклонники заслуживают разного отношения. И уже нисколько не смешно читать о том, что люди Синана считали его высшим существом. Сам он поддерживал такие мнения, но избегал говорить о том, кто он есть на самом деле. Одни полагали его богом во плоти, другие считали имамом. Когда он охромел, ему попросту предложили на время умереть, чтобы вернуться к ним в прежнем облике — не сомневались, что это вполне ему по силам. Синану воздавали беспрецедентные почести, построили посвящённое ему святилище. Многие верили, что он не умер, а перешёл в сокрытое состояние и когда-нибудь выйдет из пещеры в Кафе, куда удалился.
Любовь простых измаилитов к Синану была очень горячей и искренней. Можно ли снискать такую любовь, благодаря лишь актёрским дарованиям и ложным чудесам? Очевидно, тут всё сложнее. Синан умел проявлять к простым людям большую чуткость. Об этом так же рассказывали немало историй.
Однажды он пораньше отослал крестьян с работы, потому что в их деревне поранился ребёнок, и он нуждался в немедленной помощи. Случай поразительный, исключительный для исламского мира. Великий повелитель заботится о больном ребёнке какого-то ничтожного крестьянина. Крестьяне привыкли к тому, что жестокие и высокомерные эмиры топчут их копытами коней, словно дорожную пыль. И вот они видят, что грозный владыка относится к ним, как к людям, проявляет внимание к их повседневным нуждам. Конечно, сердца этих крестьян были навеки отданы Синану, и они готовы были в любой момент умереть за любимого повелителя.
Однажды Рашид ад-Дин вошёл в одну деревню. Народ пришёл к нему, предлагая гостеприимство, и старейшина деревни принёс ему еду под покрывалом. Синан приказал, чтобы еду отложили в сторону, и никто не открывал покрывало. Когда, отобедав, он поднялся и уже готов был сесть на коня, старейшина спросил: «Господин, почему ты не отведал моей еды и не успокоил моё сердце?». Синан тихо ответил: «Из-за спешки твоя жена забыла вынуть внутренности из цыпленка, а я не хочу, чтобы об этом кто-то узнал».
Это действительно трогательный факт заботы о чести последнего из подданных, о его психологическом состоянии. Старейшина не столько был поражён ясновидением Синана, сколько тронут тем, что господин уберёг его от позора.
Однажды к Синану направилась группа богословов из Дамаска, намереваясь вступить с ним диспут и доказать, что они, сунниты, исповедуют чистый ислам, а Синан уклонился от веры, завещанной Мухаммадом. Влюблённый в Синана Абу Фарас, рассказывая эту историю, конечно же сообщает, что Синан, «приводя красноречивые доказательства, а так же убедительные и изящные аргументы», решительно припёр к стенке сорок богословов и неопровержимо доказал, что он и его люди — самые что ни на есть правоверные мусульмане. Не удивительно в устах апологета звучит и история о том, что Синан каждому из этих богословов безошибочно предсказал время и место смерти. Но весьма удивительна следующая подробность встречи Синана и богословов: «Господин Рашид ад-Дин сказал: «Разместите их в саду и пошлите туда живой скот, и птицу, и горшки, и блюда, и новые ложки, и монеты, чтобы они смогли купить на них всё, что пожелают. Они думают, что мы не мусульмане и не позволят себе есть нашу еду»».
Именно такие подробности дышат подлинностью, потому что вряд ли могли быть придуманы, исходя из задач прославления Старца Горы. «Они брезгуют нами, и мы должны уважать их право нами брезговать», — установка весьма нестандартная для авторитарного лидера, каждое слово которого сторонники воспринимают, как великую истину. Что ни говори, а Синан был человеком весьма тонким и чутким, умевшим расположить к себе сердца врагов.
Факты человеческого отношения к людям со стороны Синана впечатляют куда больше, чем все его глупые чудеса. Конечно, и тут чувствуется немало актёрства, позёрства, рисовки. Проявляя человечность, Синан явно играет роль и любуется собой. Но это уже нечто настоящее, а не бутафорское, тут есть к чему отнестись с уважением, это одна из реальных опор его власти. Вторая реальная опора Синана — высокий профессионализм его людей, действительно обладавших пусть и не фантастическими, но, безусловно, впечатляющими диверсионно-шпионскими навыками. Рассказывают, например, такую историю. Однажды к Саладину пришёл посланник Синана, сказавший, что хочет говорить наедине. Саладин отослал своих придворных, оставив лишь двух мамелюков: «Эти двое мне, как сыновья. Я и они — одно». Тогда посланец Синана повернулся к мамелюкам и спросил: «Если бы я приказал вам от имени учителя убить этого султана?». Они достали мечи и сказали: «Приказывай».
Прочитав эту историю, Сиверцев почувствовал, что ему не смешно. Конечно, тут ощущался всё тот же дешёвый антураж зловещей мифологии, и история эта, вероятнее всего — вымышленная, но, как ни странно, она дышит некой психологической достоверностью, вполне реальным трагизмом человеческих отношений на Востоке.
Ассассины действительно обладали навыками всепроникновения, были виртуозами вербовок, имели разветвлённую агентурную сеть. Порою, без всяких сказок, казалось, что ассассины — везде, и в самом узком кругу приближённых Саладина их действительно было немало. Великий султан имел все основания бояться маленького горного князька.
Ассассины организовали два покушения на Саладина, в 1175 и 1176 году. В обоих случаях султан чудом остался жив. Саладин был вынужден принять беспрецедентные меры безопасности. Он мог каждый год предотвращать по покушению, но это означало жить в постоянном и невыносимом напряжении. Мог ли султан раздавить Старца Горы по-простому — при помощи грубой военной силы? Это было нелегко, но в принципе возможно. В августе 1176 года Саладин осадил главный оплот низаритов Сирии — Масиаф. Однако, вскоре он безо всякой видимой причины снял осаду и ушёл. Это уже не миф, а страшная реальность, которая навсегда останется покрыта мраком. Никто не знал и не узнает, почему Саладин отступил от Масиафа. Говорили, что он тайно встретился со Старцем Горы и заключил с ним договор. Но почему — тайно, почему этот договор остался скрытым? Унизительно было говорить о союзе с тем, кто не раз пытался тебя убить? Но ведь куда более унизительно отступать без боя, навлекая на себя обвинения в трусости. Очевидно одно: отступив от Масиафа, Саладин унизился, и если он молчал о причинах отступления, значит, будучи обнародованы, они ещё больше увеличили бы его унижение. Вот тут уже фигура Старца Горы представляется отнюдь не бутафорской, а реально страшной.
Вообще, сирийских ассассинов много раз могли бы раздавить те или иные достаточно могучие правители как франков, так и мусульман. Но никто почему-то не сделал этого. Похоже, ассассинов считали необходимой шестерёнкой в политической машине Востока. Конечно, Восток мог жить без ассассинов, но они открывали перед всеми силами Востока такие возможности, которыми никто не хотел пренебрегать. И эту реальность создал Синан.
Кем он был? Рашид ад-Дин Синан родился близ Басры в южном Ираке в зажиточной семье. Он бежал а Аламут ещё юношей после ссоры с братьями. В Аламуте он подружился с молодым Хасаном II, изучал науки. Когда друг Синана Хасан II пришёл к власти в Аламуте, он поставил Синана во главе сирийских низаритов. Низариты в Сирии на момент появления там Синана уже реально действовали, но не имели большого веса, и своей будущей славой они обязаны именно этому вождю. Синан признал провозглашённое Хасаном II учение Киямы, знаменовавшие фактический разрыв с исламом. Пока был жив Хасан II, Синан подчинялся Аламуту, но наследника Хасана II Синан не признал, община сирийских низаритов стала независимой от Аламута и вообще ни от кого независимой. И это сделал Синан.
Сиверцев почувствовал, что его отношение к Старцу Горы с его ассассинами постоянно усложняется. Не только в рамках мифа, но и в реальности сирийские низариты являли собой нечто значимое, уникальное и загадочное, не говоря уже о том, что миф — тоже реальность, поскольку миф порою оказывает влияние на действительность, как вполне объективная сила.
Вот, к примеру, строки из фальшивого послания Старца Горы, распространённого в Европе: «Мы никому не причиняем зла без вины и не по заслугам, тех же, кто перед нами провинился, мы, с Божьей помощью, долго не терпим и со всей прямотой вознаграждаем за причинённую нам несправедливость». Да, Старец Горы никогда не писал этих строк, но что в них фальшивого? Это «послание» есть факт общественного сознания, как европейского, так и восточного. Старец постепенно становился символом не только ужаса, но и справедливости, неотвратимости возмездия. И если реальный Старец изначально не очень походил на этот образ, то образ постепенно мог влиять на реальность. Разве Старцу не хотелось походить на миф о себе или хотя бы подыгрывать этому мифу?
Когда кости Синана уже сгнили в земле, Жак де Витри писал: «Они (ассассины) ставят над собой начальника не по наследному праву, но голосуя по справедливости и оного называют Старцем, но не из-за преклонного возраста, а из-за выдающейся мудрости и достоинств. Против особ низкого происхождения они считают злоумышлять недостойным».
Де Витри зафиксировал образ имевший широкое хождение. Так ли было или так только считали? А если так считали, то считай, что так и было. Могучий миф об ассассинах оказывал сильнейшее влияние и на мусульман, и на франков, и на самих ассассинов, являясь одним из существенных факторов, определявших ближневосточную политику. А правды об ассассинах не знал никто и никогда, да они и сами-то её не знали.
Что ни говори, а в истории низаритов имя Рашид ад-Дин Синана по значимости стоит рядом с именем Хасана ас-Саббаха. И по сей день иные источники, пытаясь что-то сообщить про одного из них, рассказывают истории из жизни другого. Хасан и Синан были очень разными, но Сиверцев уже готов был изменить своё первоначальное мнение. Кажется, Синан не только казался, но и был.
Кем? Актёром и позёром, но вместе с тем — блестящим организатором. Человеком, склонным производить дешёвые эффекты, но вместе с тем — повелителем, обладавшим огромной силой. Самовлюблённым нарциссом, само существо которого составляла вопиющая безвкусица, но вместе с тем — харизматическим лидером, за которого с лёгкостью отдавали жизнь. Синану приписывали возможности, которыми он на самом деле не обладал, но и его вполне реальные возможности были таковы, что с ним приходилось считаться и великому Саладину, и могучему Ордену Храма.
Был ли Синан, так же как и ас-Саббах, настоящим религиозным лидером? В какой мере его сложная и весьма успешная деятельность определялась религиозными мотивами? Эти вопросы уводят нас к фигуре покровителя Синана — Хасана II с его учением Киямы. Это очень сложные вопросы.
Послать кинжал за 10 метров точно в столбик было не так уж сложно. Сложнее было сделать это, стоя спиной к цели. Но у Сиверцева уже начало получаться. Позолоченная молния кинжала, зловеще сверкнув на солнце, входила в плотную древесину на пол-лезвия. Проникающая способность у этих клинков была потрясающей. Бросок из положения «лёжа» — точно в цель. Бросок с завязанными глазами на голос — цель поражена. Целью был Саша, закрывавшийся большим деревянным щитом. Саша — его инструктор.
Время пребывания Андрея в горной деревне подходило к концу, и он решил пройти курс метания кинжалов у Саши-Саида, который уже вполне оправившись, пребывал в благодушнейшем расположении. Андрей очень полюбил этого простого и чистого парня, прекрасно метавшего кинжалы и ничего не знавшего про большой мир с его дерьмом.
Ты очень способный, Андрей, — сказал Саид. — У тебя уже кое-что получается, но мастером кинжала ты никогда не станешь.
Да понятно, что с вашими ассассинами я сравняться не смогу.
Извини, Андрей, но ты не сможешь сравняться даже с нашими детьми. У нас пятилетние мальчишки метают кинжалы лучше, чем ты — их учат с трёх лет.
А зачем? Вы вроде ни с кем не воюете.
Это не важно. В кинжале — душа ассассина. К тому же, учитель обещал большую войну.
Войны не будет. Шах обо всём договорится с вашим Учителем.
Это очень хорошо. Ты ведь понимаешь, как мне трудно. «Ваши» — «наши». Всё перепуталось.
Это всегда и всем трудно. Скажи, Саша, а как ты относишься к Горному Старцу — Синану?
В нашей деревне нет такого человека. Если он из ваших, то я ещё не успел с ним познакомиться.
Это древний Учитель ассассинов, который жил много столетий назад.
А откуда вы тогда про него знаете?
В нашем мире изучают прошлое.
Зачем?
У нас считают это важным и полезным.
Не понимаю. Есть я, есть ты. Какая нам польза знать про того, кого нет?
Может быть, ты и прав. У нас вообще привыкли делать много такого, в чём, по здравому размышлению, трудно найти смысл. А ты хотел бы увидеть наш большой мир?
Думаю, что нет, не хотел бы. У меня и так теперь в душе два мира — деревня, где я вырос и деревня, где я счастлив. К этому трудно привыкнуть. А ваш большой мир, он, наверное, как десять наших деревень? Или даже сто?
У нас тысячи городов и каждый, как тысяча деревень.
Как вы не сходите с ума? Учитель учил меня счёту. Я знаю, что такое тысяча — десять сотен. Но представить это трудно. Столько скота не бывает. Людей тем более не может быть тысяча. Не хочу даже представлять то, о чём ты говоришь.
Многие считают наш мир прекрасным.
У вас все счастливы?
Нет, конечно же.
А я — счастлив. Когда я молюсь на богослужении в храме — чувствую себя очень счастливым. Я понял, что человеку нужен только храм, всё остальное вообще не имеет смысла. Конечно, человеку надо питаться, одеваться, значит надо разводить скот. Я думаю так: выходит человек из храма, ухаживает за скотом, заготовляет мясо, шкуры, делает сыр, а потом опять возвращается в храм. Разве ещё что-то нужно?
А кинжалы?
В горах много хищников.
А зачем на кинжалах — позолота?
Так принято. Но это и правда не нужно.
А в нашем мире очень много позолоты. Много того, что не нужно.
Почему вы так неразумно живёте?
Иначе не умеем. Но некоторые — учатся. Пытаются жить разумно.
Надо заканчивать исторические изыскания. Ассассины и тамплиеры — тема сложная и важная. Важная? Лучше пойти помолиться. Однако, не то состояние. И за книги взяться после разговора с Сашей Андрей не имел сил. И правда, зачем всё это: читать, писать, думать о людях, которых нет? Зачем нужны путешествия в прошлое? С чем он оттуда возвращается? С желанием пойти в храм. Путешествия в прошлое пробуждают в его ленивой душе молитву. Эту цель — пробуждение молитвы — нельзя терять из вида, потому что за пределами этой цели — царство абсурда.
Андрей едва удерживался от смеха, читая бесхитростное повествование Жана де Жуанвиля: «Впереди всех сидел эмир в пышном одеянии и при всех регалиях. За ним — ассассин, державший в руке 3 кинжала. В случае отказа, эмир вручил бы королю эти кинжалы, как вызов. За ним сидел другой, с намотанным на руку полотном, которое мыслилось, как саван королю, если от отвергнет требования Старца Горы».
Ну разве не смешно? Кинжалы. саван. Полная безвкусица. Люди, способные вызывать реальный страх, никогда не будут устраивать такой дешёвый балаган. Это послы Старца Горы пришли требовать дани у Людовика Святого, когда тот находился в Палестине. Уже середина XIII века. Не только Хасан ас-Саббах, но и Рашид ад-Дин Синан давно превратились в воспоминания, а ассассины окончательно стали опереточными персонажами. Они могли теперь в лучшем случае претендовать на роль кооператива наёмных убийц, но уж никак не являли собой фактора, способного определять мировую политику, хотя именно таковой и пытались из себя изображать. Жуанвиль — не фантазёр, его рассказу можно верить даже в деталях, и эти детали — чем дальше, тем смешнее:
«Эмир вручил королю верительные грамоты и потребовал, если ему дорога жизнь, ежегодной дани Старцу Горы, как это делали германский император, венгерский король и вавилонский (каирский — авт.) султан. Кроме угрозы прозвучало и то, что король должен отменить дань, которую Старец Горы платит тамплиерам и госпитальерам».
По современным меркам это типичный наезд тупорылых быков-рекетиров. Впрочем, в наше время даже самые тупые быки, предлагая крышу и требуя за это процент с прибыли, не станут демонстрировать слабость, рассказывая в ходе наезда о своих проблемах, которые «терпила» как раз и может порешать. Ассассинам платят дань монархи Европы, а сами они платят дань тамплиерам и госпитальерам? Глупые горцы жалкого старца фактически сделали утверждение о том, что рыцарские Ордена сильнее монархов. Не поленились они даже объяснить — почему.
Жуанвиль вспоминает: «Старцу не было никакого резона убивать магистра одного из этих Орденов. Ему было хорошо известно: стоит убить одного, как на его месте появится другой, ничем не хуже прежнего. Поэтому ему не было никакого смысла расходовать своих ассассинов на то, из чего нельзя было извлечь никакой выгоды».
Это достаточно ценное свидетельство о характере силы Ордена. Ассассины прекрасно понимали разницу между королём и магистром. Новый король — это другой король, а новый магистр — это всё тот же магистр. Король — фигура качественно, принципиально иная по отношению к своих подданным, а магистр — лишь один из тамплиеров и ничем принципиально не отличается от других рыцарей Храма. Король правит подданными, магистр не правит Орденом. Орден правит собой с помощью магистра, и в этом смысле не имеет значения изменение его имени. В этом, к слову, нет ничего демократического, это аристократический принцип. Братья-рыцари равны по своему достоинству, как представители военно-духовной касты.
Впрочем, вернёмся к тому посольству. Совершенно непонятно, как ассассины намеревались «поставить на деньги» короля, зная, что неуязвимые для них тамплиеры и госпитальеры — всегда при королевском дворе. Как можно «развести» лучшего друга своих хозяев? Но «мудрый» Старец Горы, видимо, не понимал того, что понятно любому братку, и дальше ситуация развивалась вполне предсказуемо.
Жуанвиль продолжает: «Магистры этих Орденов на сарацинском языке потребовали от эмира на следующий день явиться в палатку магистра госпитальеров. И ещё они сказали, что, если бы не почтение к королевской особе, то утопили бы эмира в море, и что ему следует вернуться через две недели с дарами от Старца Горы, чтобы король забыл эти безрассудные угрозы. Через две недели гонцы Старца Горы вернулись в Акру, доставив королю драгоценные дары и сорочку Старца. Это знак того, что Старец готов окружить короля своей любовью, как никого другого, ибо нет ничего ближе к телу, чем сорочка».
Так ассассинский «наезд» на короля Людовика закончился тем, что они сами «попали на деньги». Они, кстати, нагло блефовали, утверждая, что «германский император, венгерский король и вавилонский султан» платят им дань. Монархи о чём-то договаривались с ассассинами, могли слать им дары, но никак не дань.
Конечно, ассассины и в тот период были достаточно опасны, с ними считались и предпочитали договариваться, но у тамплиеров было достаточно сил, чтобы прихлопнуть Старца Горы, как назойливую муху. Орден не делал этого, потому что ассассины могли быть полезным инструментом в противостоянии с исламским миром. Но тамплиеры и ассассины никогда не были равноправными партнёрами. На тот момент ассассины уже 100 лет платили Ордену дань.
Совершенно невозможно понять, на основе чего в наше время возникают легенды о том, что между тамплиерами и ассассинами существовала глубокая и едва ли не мистическая связь. Это были две военных силы, одна из которых взимала дань, а вторая платила, потому её и терпели. Нет ни одного исторического свидетельства о том, что между тамплиерами и ассассинами существовало некое духовное родство, что они хоть в чём-то были единомышленниками. В Средние века не было даже мифов на эту тему. Это уже в наше время начали возникать глупые легенды о двух тайных мистических Орденах — западном и восточном, каковыми были тамплиеры и ассассины. Понятно, кем и зачем эти легенды запускаются в обиход. Либерал-экуменисты всех мастей ищут в истории основания для создания синтетической религии.
Сиверцев, в своё время потратив немало усилий на опровержение мифов о «тайном учении тамплиеров», сейчас уже просто не хотел тратить время на полемику с параноиками. Есть факты. Тамплиеры были ортодоксальными католиками. Ассассины имели религиозное учение до чрезвычайности невнятное, зыбкое и расплывчатое. Вне этих фактов ничего нет, а отсюда затруднительно сделать хотя бы только предположение о возникновении «единомыслия» между этими двумя силами.
Даже о характере военно-политических контактов между тамплиерами и ассассинами почти нет никакой информации. Вероятнее всего эти контакты сводились к отдельным договорённостям по частным вопросам и вообще не являют собой сколько-нибудь интересные объекты исследования. Надо помнить о том, что тамплиеры всегда говорили с ассассинами с позиции силы, как со слабыми.
Всё началось в 1152 году, когда ассассины убили свою первую жертву среди крестоносцев — Раймунда II, графа Триполи. В ответ тамплиеры предприняли против ассассинов масштабную военную компанию, в конечном итоге принудив их выплачивать ежегодную дань — 2000 золотых безантов. Это большая сумма, но отнюдь не судьбоносная. Две тысячи безантов не делали тамплиеров богатыми и не разоряли ассассинов.
Так на протяжении более века ассассины находились в положении угрожаемом со стороны тамплиеров. В 1212 году паломник Вильбрант Ольденбургский писал: «Мы видели Кастель-блан, замок славный и мощный. Он расположен в горах на границе с владениями Горного Старца. Этот замок представляет большую угрозу землям ассассинов, ибо им владеют и управляют тамплиеры».
Когда Синан пришёл к власти, ассассины уже платили дань тамплиерам. Синан не пытался освободится от этой дани. Тамплиерский Кастель-блан слишком красноречиво нависал над его владениями. Синан, как вполне адекватный политик, полагал разумным решать проблему тамплиеркого соседства при помощи денег, а не при помощи оружия. Ассассины, как всегда, находились в состоянии войны со всем миром, у Синана были проблемы и посерьёзнее, чем тамлиерская дань. Против ассассинов планировал экзпедицию могучий Нур ад-Дин. У последнего было достаточно сил, если бы по-настоящему напрягся, стереть Горного Старца в порошёк со всеми его крепостями. И вот тогда-то, в 1173 году, Рашид ад-Дин Синан и направил посольство королю Иерусалима Амори с предложением союза.
Говорят, что единственным условием, которое выдвинул Синан королю, было снижение дани, которую ассассины платят тамплиерам. Но Синан был бы полным идиотом, если бы выдвинул такое условие, а ни по чему не похоже, что он страдал хроническим идиотизмом.
Надо же вникнуть в политический расклад того момента. Центральной фигурой этого расклада был атабек Нур ад-Дин, сожравший уже полвостока и явно не собирающийся останавливаться на достигнутом. Нур ад-Дин был смертельно опасен для всех — и для Иерусалимского королевства, и для Ордена Храма, и для ассассинов. Причем, королевство и Орден могли устоять в противоборстве с Нур ад-Дином и без союзников. Ассассины без союзников устоять не могли. Значит, на иерусалимских переговорах уж кому-кому, а только не Синану было выдвигать условия. А вот король Амори и магистр де Сент-Аман могли ставить Горному Старцу какие угодно условия. И позднее такое условие, видимо, возникло — если ассассины примут христианство, они станут нашими союзниками.
Теперь следующий вопрос: в ком Синан был больше заинтересован — в короле или в магистре? По всему видно, что в магистре. Королевство Иерусалимское вообще не граничило с владениями ассассинов. Синан имел проблемы существенно севернее и граничил с графством Триполи, которое было фактически самостоятельным от короля. Ещё Старец граничил с тамплиерами. Конечно, обо всём договориться с королём, который может повлиять и на графа Триполи, и на магистра Ордена — это был грамотный ход со стороны Синана, но куда важнее были хорошие отношения с триполийцами и тамплиерами. В такой ситуации со стороны Синана было бы вполне логичным не только не требовать уменьшения дани тамплиерам, но даже пообещать увеличить эту дань.
Следующий вопрос — был ли союз с Синаном выгодным для тамплиеров? Безусловно. Храмовникам было куда спокойнее граничить с владениями данника-Синана, чем с владениями Нур ад-Дина — непримиримого лидера джихада, с которым вообще невозможно было о чём-либо договариваться. Владения Синана были для тамплиеров хорошей буферной прослойкой между ними и Нур ад-Дином. Да надо ещё помнить, что Дамаск, после того, как его сожрал Нур ад-Дин, уже не был городом, дружелюбным Ордену, и по отношению к Дамаску на тот момент тамплиеры не имели никаких моральных обязательствах.
Итак, политический союз между тамплиерами и ассассинами был тогда выгоден обеим сторонам. Для ассассинов он был судьбоносным, для тамплиеров — не настолько, но всё же важным. И вот на этом-то политическом фоне произошла совершенно необъяснимая история, над разгадкой которой безуспешно бьются многие исследователи уже девятую сотню лет.
Говорят, что Синан в обращении к королю Иерусалимскому Амори и патриарху Антиохийскому выразил желание перейти в христианскую веру и даже направил своего посла Абдуллу для переговоров с иерусалимским монархом. После достижения соответствующего соглашения Абдулла отправился из Иерусалима к себе в Масиаф с охранной грамотой от короля Амори. Но недалеко от Триполи посольство было атаковано тамплиерами под командованием одноглазого рыцаря — Вальтера Меснильского.
Гийом Тирский рассказывает эту историю чуть иначе. Он пишет, что Вальтер Меснильский не нападал на возвращающееся посольство со своим отрядом, а был одним из сопровождавших посольство от самого Иерусалима. Когда же проезжали близ Триполи, «вдруг кто-то из числа упомянутых выше братьев (тамплиеров), входивших в королевский эскорт, внезапно с обнажённым мечём обрушился на него (посла ассассинов) и убил безоружного и ничего не опасавшегося поверенного, страждущего христианской веры. Утверждают, что это совершил с ведения братии некий брат Вальтер, а именно Масниил».
В этой части Гийому Тирскому, видимо, можно верить — лихой рыцарь Вальтер входил в королевский эскорт, и не было никакого нападения отряда тамплиеров на посольство, просто рыцарь эскорта прикончил посла.
Это оскорбило и разъярило короля Амори. Он приказал арестовать виноватых. Великий магистр Одон де Сент-Аман настаивал на соблюдении законных прав тамплиеров — храмовники не подлежат светскому суду. Вальтер был осуждён тамплиерским капитулом. Не удовлетворившись этим, Амори отправился в Сидон, где происходило заседание орденского капитула и арестовал Вальтера, направив его в тюрьму Тира. А Синану король послал письмо с извинениями, заверив, что это произошло не по его вине.
Великий магистр Ордена Христа и Храма Одон де Сент-Амон не взял на себя ответственность за инцидент, утверждая, что Одноглазый никакого приказа не получал. И вот ещё что интересно — история не сохранила объяснений самого Одноглазого, хотя он был допрошен сначала на капитуле Ордена, а потом людьми короля, которые его забрали. О дальнейшей судьбе этого несчастного рыцаря так же ничего не известно.
Вот такая решительно абсурдная история. Она порождает целый ряд вопросов. Отдавал ли великий магистр приказ об устранении посла ассассинов? Если да, то какие у него были к тому причины? Существовала ли хотя бы теоретическая вероятность того, что ассассины могли принять христианство?
Гийом Тирский видит причину происшедшего в банальной алчности — в случае крещения измаилитов тамплиеры теряли ежегодный доход в 2000 безантов. Это вообще-то глупость, потому что сумма была не столь уж существенной для тамплиеров и ради неё вряд ли стоило идти на конфликт с королём, к тому же Синан, когда само существование его государства держалось на волоске, за союз с крестоносцами явно был готов заплатить и побольше этой суммы. Не факт, что тамплиеры из-за этого союза теряли деньги.
Вальтер Мап, не сильно мудрствуя, утверждал, что тамплиеры просто не хотели мира, потому что тогда их Орден стал бы не нужным. Ещё бо льшая глупость — союз с Синаном вовсе не приводил к миру, лишь создавая иной расклад в борьбе с Нур ад-Дином. И даже в случае установления мира на Святой Земле Орден не переставал быть нужным, потому что сохранялась необходимость в силе, которая будет поддерживать и гарантировать мир.
Что-то слабенькие аналитики были в Средние века, да и нынешние «специалисты по ассассинам» аналитическими способностями не блещут. Пишут, например, что тамплиеры знали хитрость и вероломство измаилитов, а потому решили, что те просто одурачили Амори. Но если ассассины дурачили короля, значит отсутствовала вероятность заключения союза, и тогда непонятно зачем резать посла, пытаясь расстроить дело и так заведомо провальное?
Так почему же всё-таки никого не заинтересовали объяснения Вальтера Одноглазого? Да потому что таким, как Гийом Тирский и так всё было понятно: все тамплиеры — плохие, а брат Вальтер так и вовсе исчадие ада. Вот что Тирский пишет про Вальтера: «Де Меснил, человек дрянной и одноглазый, у которого дух кипел в его ноздрях, и ни в чём не разбирающийся». Спустя полвека этой оценке вторит Жак де Витри, недрогнувшей рукой написавший про Вальтера: «Человек вредный, муж Белиала, не знающий страха перед Богом. Единственным убийством этот предатель, сразив всего лишь одно тело, погубил бесчисленное множество душ».
Как видим, всё просто. Если у Вальтера «дух кипел в ноздрях», так и единственная причина его преступления — кипение духа в ненадлежащем месте. В чём тут ещё разбираться? Впрочем, кажется, эти и подобные оценки, возлагая всю вину на Вальтера, выводят из-под удара магистра де Сент-Амана и весь Орден? По логике — да, но ненавистникам тамплиеров не нужна было логика, ведь они одновременно утверждали, что причина преступления — жадность тамплиеров, хотя в этом случае непонятно, при чём тут личные отрицательные качества убийцы?
Итак, отдавал ли Одон де Сант-Аман приказ о ликвидации посла ассассинов? Только если был полным идиотом, да и в этом случае — вряд ли, потому что не мог единолично принять решение такого уровня, это была компетенция капитула, а чтобы весь тамплиерский капитул состоял из идиотов — это уж совсем невероятно.
Во-первых, такое наглое, открытое и демонстративное устранение посла, имеющего королевскую охранную грамоту, неизбежно влекло за собой острый конфликт между королём и Орденом, а тамплиерам это совсем не было надо. Если уж хотели бы устранить посла, так могли это сделать чужими руками и не у всех на виду.
Во-вторых, у Ордена не было причин желать расстроить союз между ассассинами и королевством. Зачем перед лицом такой смертельной опасности, как Нуреддин было наживать себе ещё один геморрой в виде бессмысленной конфронтации с Горным Старцем? Если бы хотели его раздавить, так давно бы уже это сделали. Тамплиеры договорились с Нуреддином и сдали ему своего данника? Предположим, а зачем? Чтобы увидеть Нуреддина на границах собственных владений, тем самым подвергая их смертельной опасности?
Тамплиеры предполагали, что за «крещением ассассинов» скрывается некая «подляна» и, срывая крещение, хотели эту «подляну» предотвратить? Да неужели Синану было тогда до того, чтобы «кидать подляны» Иерусалиму, на который он только и мог надеяться в противостоянии с Нур ад-Дином? Да и чтобы он мог сделать такого вредоносного? Провести своих хлопцев в Иерусалим под видом крещаемых и всех там перерезать? Иерусалим, кишащий рыцарями, было таким образом не одолеть. Напакостить мог, но тогда получил бы к одной смертельной опасности ещё одну.
Итак, если бы капитул принял решение о ликвидации посла ассассинов, Орден получил бы серьёзные проблемы с королём, дополнительные проблемы с Нуреддином, да ещё запутку с Синаном, как минимум, хлопотную. На фоне такого расклада талдычить про какие-то несчастные две тысячи безантов мог только совсем неумный человек.
И действительно, конфликт с королём нанёс Ордену огромный ущерб. С Нур ад-Дином дополнительных проблемы не возникло, только потому, что он умер. А так сожрал бы атабек оставленного в одиночестве Синана, и тамлиеры увидели бы славных воинов джихада под стенами своего Кастель-Блана. Интересно ещё то, что между Синаном и тамлиерами вражды из-за убийства посла не вспыхнуло. Очевидно, что тамплиеры не хотели этой вражды и сумели объяснить Старцу, что не было воли Ордена на убийство посла, и вовсе не из-за этого убийства союз между франками и ассассинами так и не был заключён. Просто после смерти Нуреддина у Синана отпала острая необходимость в этом союзе. Мусульманам стало не до ассассинов. На выяснение отношений между Зенгидами и Аюбидами ушло время, а историю отношений с Саладином и франки, и ассассины писали уже с чистого листа.
Получается, что Вальтер Одноглазый прикончил посла ассассинов без приказа, по своей инициативе? Получается, что так. И что это ему в голову ударило? Да, возможно и правда тот самый «дух» — через ноздри, в которых он «кипел». На сей счёт у Сиверцева возникла своя версия, но он пока это отодвинул и задался главным вопросом — могло ли свершиться крещение ассассинов?
Гийом Тирский в этом не сомневался, когда писал: «Старец Горы, вопреки обычаям своих предков, получил в свои руки Евангелия и апостольские писания и тяготел к их постоянному изучению. Чудеса Христа и Его заповеди, а так же апостольское учение сделали своё многотрудное дело — спустя какое-то время он стал их приверженцем. Затем он сопоставил правдивое и привлекательное для своих людей учение Христа с тем, что жалкий совратитель Магомед даровал своим приверженцам. Он проникся отвращением к тому, что впитал с молоком матери и стал гнушаться нечестивости упомянутого совратителя. Подобным образом просветив свой народ, он приказал им оставить путь суеверия и расстаться с теми молитвами, которые были у них в обычае раньше, отказаться от своих постов, притронуться к вину и свинине. Желая дальше идти по пути Божественной веры, он направил мужа по имени Баальдел, мудрого, осмотрительного в решениях, красноречивого и разделявшего учение своего наставника с тайным посланием во владение короля». Дальше Гийом Тирский рассказывает про бесчинство Вальтера Одноглазового и заключает: «Восточная Церковь потеряла угодное Богу и уже готовое приращение».
Ах, милый тирский фантазёр, сколько же в его повествованиях благочестивого вранья. Единственное, что в этом рассказе является правдой, так это то, что люди Синана действительно почём зря трескали свинину, не отказываясь запивать её хорошим вином. Но, нарушающий законы шариата, от одного этого отнюдь не делается христианином.
Фантазмы Гийома Тирского получили своё развитие, и вот уже Жак де Витри писал: «Синан принялся со всей тщательностью читать и исследовать Христово Евангелие, восхищённый чудесами и святостью этого учения».
Впору грустно улыбнуться. Мужиков до такой степени захватила волна миссионерского восторга, что разум завершено утратил над ними свою власть. В воображении возникла очень яркая картина: самый страшный в мире злодей решил принять христианство вместе со всеми своими подданными! Картина эта выглядела столь восхитительно, что воображение тут же начало подсказывать подробности, присущие житиям раскаявшихся разбойников, но не имеющие ничего общего с конкретной ситуацией. Логика тут была простая: «Это настолько замечательно, прекрасно и возвышенно, что это, конечно же, правда». Если вам, к примеру, скажут, что вам причитается наследство на миллиард долларов, вам настолько захочется в это верить, что вы, может быть, и не обратите внимания на те причины, по которым это невозможно. А средневековый мир так же мечтал о христианизации всей вселенной, как мы — о земном богатстве. Робкая надежда на крещение ассассинов, едва забрезжив, тут же обратилась в уверенность, и уже ничто не могло убедить таких людей, как Гийом Тирский, в том, что Старацу Горы наплевать на христианство.
Как же всё было на самом деле? Фархад Дафтари полагает, что Гийом Тиский неправильно понял суть предложений Синана. Благодаря теологическому образованию и широкому кругозору, Синан, возможно, действительно стремился больше узнать о христианстве, но и не более того. Доктрина Кийямы была неверно понята многими средневековыми историками, как шаг на пути к принятию христианства.
Ах вот оно что. Сами предложения Синана нигде в исторических документах не зафиксированы. Не факт, что он вообще дал обещание креститься со своими людьми, а, вероятнее всего, и не давал. Подобные Гийому Тирскому приближённые короля, легко впадающие в состояние радостного перевозбуждения и склонные любой двусмысленный намёк принимать за окончательную договорённость, как беззубые старушки разнесли весть о том, что ассассины — без пяти минут христиане. Только, в отличие от беззубых старушек, эти деятели писали исторические хроники, по которым мы теперь и пытаемся судить о том, что же там было. Но если включить мозги, то станет понятно — ничего там и не было. Главная ошибка историков, подобных Гийому, в том, что они проецировали западную ментальность на весь мир. (К слову сказать, эту ошибку западные мыслители повторяют и по сей день). А Восток — мир словесных хитросплетений и ускользающих смыслов. Синан просто заигрывал с крестоносцами, охотно выражая свою симпатию к христианству, легко соглашаясь с отдельными его положениями и уклончиво отвечая на вопрос о возможности крещения — дескать, ничто нельзя считать полностью исключенным. Вероятнее всего, так и было, во всяком случае, для Синана это была бы идеальная тактика ведения переговоров о заключении союза, который был ему жизненно необходим. А кто-то размечтался.
Кто-то и по сей день мечтает. Пирс Пол Рид, например, пишет: «Хасан II неожиданно провозгласил веру в Воскресение. Синан тут же распространил эти верования среди сирийских измаилитов». О-хо-хо. Гийома Тирского можно считать бессмертным до тех пор, пока существуют такие «религиоведы», как Пирс Пол Рид. Назвать учение Кайямы «верой в Воскресение» (то есть почти христианством) можно только сильно перевозбудившись. Что-то там они такое про «воскресение» говорили, однако стоило поинтересоваться, как выглядит Кийяма в действии.
По свидетельству Камаля ад-Дина, измаилиты при Синане погрязли в пьянстве, мужчинам не возбранялось спать со своими сёстрами и дочерями, женщины носили мужское платье, а одна их них утверждала, что Синан есть истинный бог.
Конечно, это весьма недоброжелательное свидетельство и его нельзя полностью принимать за чистую монету. Вероятнее всего, Камаль ад-Дин рисует общую картину на основе случаев единичных, а порою явно исключительных. В Аламуте при Хасане II и в Масиафе при Синане сексуальный беспредел не был явлением всеобщим, но он-таки был, и он действительно логически вытекал из доктрины Кийямы. В основе своей эта доктрина сводилась к раблезианскому принципу: «Делай, что хочешь», и тут уж кто до чего додумается.
Делать богословский анализ Кийямы просто скучно. Это был «суп из семи круп», причём из любых семи круп. Хасан II, открывая «новую эру в религии» видел перед собой лишь одну задачу — окончательный разрыв с ортодоксальным исламом. До этого измаилиты были все же мусульманами, а теперь с этим окончательно было покончено — ни рамадана, ни намаза, ни запрета на свинину и вино, ни сексуальных ограничений.
После этого просто неловко читать у Ходжсона о том, что «ряд положений этой доктрины действительно совместим с некоторыми христианскими взглядами». Ряд положений сатанизма так же вполне согласуется с христианскими взглядами, но это не делает сатанизм и христианство родственными учениями. Кийяма — религиозный беспредел, куда можно было валить всё, в том числе и некоторые христианские идеи, перемешивая их с откровенной бесовщиной.
Главное, что тут надо понять: измаилизм, в отличие от христианства, не догматическая религия, его границы и очертания всегда были очень размыты. Эта расплывчатость и неопределенность ещё больше усилилась в период Кийямы. Фактически, ни один измаилит не смог бы четко и конкретно выразить, что есть измаилизм. Потому-то одни считали Синана богом во плоти, другие — имамом, третьи — представителем имама, четвёртые — реинкарнацией буквально кого угодно. Если в религии не определён даже статус центральной фигуры — религии фактически нет, есть лишь разглагольствования на религиозные темы.
Говорят, что Синан несколько раз подтверждал свою веру в учение о переселении душ и приходят к выводу, что он, вероятнее всего, разделял это учение. Самое смешное тут именно в том, что о религиозных взглядах Синана приходится строить догадки, никто и никогда толком не знал, что есть Кийяма, а что она не есть.
О характере симпатии ассассинов к христианству интересное свидетельство оставил Жан де Жуанвиль спустя восемьдесят лет после несостоявшегося обращения при Синане. Некий миссионер, брат Иво, побывавший в резиденции Горного Старца, поделился впечатлениями с Жуанвилем, о чём последний рассказывает: «Как обнаружил брат Иво, в изголовье у Горного Старца лежала книга, где были записаны слова, которые наш Господь говорил святому Петру, когда ходил по земле. Брат Иво сказал ему: «Во имя Бога, сир, почаще читайте эту книгу, ибо в ней записано немало добрых слов». И он сказал ему, что так и поступает: «Я глубоко почитаю моего владыку, святого Петра, ибо после сотворения мира, душа Авеля переселилась в Ноя, когда умер Ной, она переселилась в тело Авраама, а из тела Авраама она переселилась в святого Петра». Брат Иво, услышав такие речи, попытался объяснить, что верить в подобное негоже и произнёс при этом немало добрых слов, но тот ему не поверил».
Кажется, всё понятно — выдернув из христианства некоторые кирпичики, ассассины использовали их для возведения откровенно антихристианской постройки. Они заигрывали с христианством ровно постольку, поскольку им было позволено всё, в том числе и это.
«Христианствование» было для ассассинов хорошим способом позлить мусульман, подчеркнуть свою непринадлежность к миру ислама, но они не сделали ни одного реального шага в сторону христианства, двигаясь скорее по направлению к тёмным индуистским культам.
Ассассины не могли принять христианство никогда и ни при каких условиях уже хотя бы потому, что в принципе отвергали любой религиозный догматизм, совершенно не воспринимая религию, как сумму неких строго установленных истин. Для них была абсолютно неприемлема мысль о том, что веровать надлежит именно так и никак иначе. Они слишком дорожили возможностью каждое утро, проснувшись, вносить в свою религию что-нибудь новое. У каждого измаилита был свой измаилизм, и Синан был для них неким «джокером», которого можно считать любой картой по усмотрению игрока.
Если кого-то до сих пор слишком волнует мысль о том, что Кийяма содержит «отдельные христианские положения», так надо сказать, что в традиционном исламе гораздо больше христианских мыслей, чем в измаилизме, хотя гораздо меньше псевдохристианской риторики. Ислам ближе к христианству, чем измаилизм уже хотя бы потому, что строится на четко определённых установках, отвержение которых выводит за рамки данной религии. И в этом смысле переход из ислама в христианство гораздо легче, чем из измаилизма. Проще принять мысль: Иисус есть это и не есть то, когда уже сформирована привычка считать, что Иисус — либо это, либо то. Но если есть другая привычка — считать, что Иисус — это всё что хочешь, носителя такого типа религиозности фактически невозможно утвердить в мысли о строгой обязательности конкретной позиции.
Итак, на пространстве средневекового Востока ассассины были дальше от принятия христианства, чем кто бы то ни было.
Аламут радостно бурлил. Здесь редко собиралось столько людей, а столько счастливых улыбок здесь не видел никто и никогда. Сейчас в Аламут собрались представители всех низаритских общин не только Персии, но и Сирии. Повелитель Хасан II обещал открыть великие истины, которые навсегда изменят их жизнь к лучшему. Во дворе уже установили длинные столы для праздничного пира, хотя шёл священный месяц рамадан, вкушение пищи до захода солнца было запрещено, а солнце стояло всё ещё высоко. Люди готовы были подождать. Вся жизнь низарита — ожидание. Они ждут, что им, наконец, покорится весь мир, ждут, что имам вот-вот откроет себя, ждут, что вернётся Хасан ас-Саббах, умерший 40 лет назад, ждут, наконец, того, что Аллах примет их в своих объятия. Низариты сами не знают, чего они ждут, но не сомневаются, что это будет замечательно. И вот теперь ждать осталось лишь несколько часов — до захода солнца. Все счастливы.
Ахмад не мог понять, почему в его душе нарастает тревога. Он сам, как все, ждал большой радости и при этом был почти уверен, что сегодня, сразу же после захода солнца, осуществится мечта всей его жизни. Но почти все низариты ждали «что-нибудь особенного», такого рода надежды почти всегда сбываются, к тому же на «особенное» Хасан II — большой мастер. А у Ахмата была очень конкретная мечта. Он надеялся, что имам, наконец, откроет себя и возьмёт в свои руки дело управления миром. Мудрым известно, что без познания имама не может спастись ни один человек. Имам подпирает мир и осуществляет непосредственную связь верующих с недостижимым и непостижимым Аллахом. Без имама — значит без Аллаха. Имам — личность космическая, и обращение к нему, это обращение от видимого к истине. Но как часто Ахмата терзало смутное ощущение, что все они, низариты, находятся в плену видимости и не приближаются к истине ни на шаг, блуждая в грязных и зловонных закоулках мелочных земных забот. Иногда Ахмад даже сомневался в том, что ими на самом деле руководит скрытый имам через Хасана II. Ахмад гнал от себя эти сомнения, стараясь заглушить всё нарастающую антипатию к этому человеку. Хасан II, конечно, был весьма глубоким и очень образованным человеком, обладавшим проницательным умом, способным на настоящие научные открытия. Но он слишком любил всем нравиться, имея явную приверженность к красивым жестам, позам и словам. Порою Ахмад думал о том, что именно таковы и должны быть признаки человека, блуждающего вдалеке от истины, поскольку человек, имеющий связь с высшей космической реальностью, никогда не будет пытаться создавать видимость чего бы то ни было. Как представить себе обладателя прекрасных алмазов, который дни и ночи напролёт упражняется в изготовлении фальшивых драгоценных камней? Но Ахмад гнал от себя эти мысли, полагая, что, разуверившись в Хасане II, он сам превратиться в ничто, в пыль на ветру, потеряв единственную сколько-нибудь твёрдую духовную опору своей жизни. Только имам — путь к Аллаху, и только повелитель Аламута — путь к имаму. Если этот путь не очень чист, не очень твёрд и надёжен, так что же делать — иного нет. К тому же, это лишь путь, а не цель, вот потому-то Ахмад так сильно надеялся на то, что сегодня Хасан II сообщит, что скрытый имам наконец открыл себя и будет руководить ими непосредственно. А чего ещё ждать? Нового воплощения Хасана ас-Саббаха? Ахмад высоко чтил ас-Саббаха, полагая его человеком воистину великим и всё же не более, чем человеком. А люди не воскресают. Бредни о переселении душ вызывали у Ахмада только брезгливость, он просто не понимал, как правоверные мусульмане могут верить в такое кощунство, а ведь они, низариты — правоверные мусульмане и даже более того — лучшие из правоверных.
Ахмад нервно прохаживался по двору, всем своим видом изображая, что не хочет ни с кем говорить. Его напряжённое, сосредоточенное лицо так явно контрастировало со всеобщим радостным настроем, что никто и не пытался к нему обращаться. К тому же он был в Аламуте почти всем чужой, лишь пару лет назад прибыв сюда из Сирии и ни с кем не завязав дружеских отношений — сурового и мрачного сирийца, способного говорить лишь о скрытом имаме, почти все сторонились. Уважали за силу, храбрость и религиозность, но сторонились.
Неожиданно до Ахмада донёсся обрывок разговора — он замедлил свои нервные шаги:
— Нет сомнений в том, что великий повелитель Хасан II сегодня откроет нам, что он и есть скрытый имам.
— Я тоже так думаю. Я догадался о том, что он и есть имам, когда впервые увидел, как он пьёт вино. Это неоспоримый признак имама, который, естественно, должен стоять выше шариата, выше всех человеческих законов.
Ахмаду показалось, что у него вдруг неожиданно, нестерпимо и пронзительно заболел зуб. Нет, это не зуб, это душа заныла, да так тоскливо, что лучше бы у него заболели все зубы сразу. Эти люди, его братья-низариты… искренне полагают порок пьянства признаком сокрытого имама. А если бы Хасан II ещё и гашиш курил, кем бы они его объявили? Самим Аллахом? Эти люди, как глупые рыбы, готовы проглотить любую наживку, но острым будет крючок у них в горле. А что будет тем временем в горле у него, Ахмада? Кинжал? Лучше кинжал в горле, чем грязные слова в ушах. На Ахмада вдруг словно скала обрушилась. Таким острым стало ощущение очень близкой и совершенно неотвратимой беды. И в этот момент к собравшимся вышел сам великий повелитель Хасан II вместе со своим лучшим другом и ближайшим соратником Рашид ад-Дин Синаном.
Повелитель Аламута был в великолепных белых одеждах из тончайшего китайского шёлка, на голове его красовалась золотая корона, украшенная драгоценными камнями. Синан был тоже в белом, но поскромнее и без короны. Лица обоих отражали торжественное самодовольство, казалось, вожди смотрели на себя со стороны, любуясь собственным величием, весьма, впрочем, фальшивым, но этого никто не замечал. Все низариты на аламутской площади восхищённо замерли и смолкли, приготовившись услышать нечто поразительное. Хасан II выдержал паузу, принял торжественную позу и в гробовой тишине заговорил:
— Храбрые воины, соратники, я возвещаю вам великое счастье. Наступил Золотой век, Кийяма. Это значит, что Судный день уже пришёл и прошёл. Аллах взвесил на весах дурные и добрые поступки каждого из вас, оценил жертвы, принесённые вами ради имама, и отныне все вы уже вступили в рай. Рай уже на земле, но не для всех, а лишь для тех, кто принял руководство имама и моё руководство. Имам сказал мне, что я — халиф, правитель посланный самим Аллахом. Итак, все кто мне верен — уже в раю, а тем, кто не принял моё руководство — вечный ад без надежды на избавление! Имам, по воле Аллаха, поставил меня, своего халифа, выше закона, и я говорю вам: шариата больше нет. Шариат был хорош, шариат — это путь в рай. Но мы, верные, уже прошли этот путь. Мы уже в раю. Правила шариата — лишь внешние символы духовных истин, теперь же они стали лишней и ненужной заменой этих истин. Для нас больше нет никаких ограничений — не нужно соблюдать пост в священный месяц рамадан, не нужно 5 раз в день совершать намаз. Вся наша жизнь теперь — непрерывный намаз, мы вечно молимся, и нам не нужно для этого поворачиваться лицом к Мекке. Радуйтесь, соратники!
Собравшиеся на площади издали единый дружный вопль. Многое перемешалось в этом вопле: и недоумение, и страх, и гнев, и даже отчаянье, но более всего — радостного восторга. Редкие интонации протеста потонули в диком восторге большинства.
Ахмад не издал ни звука. Он стоял, как громом поражённый. Ему казалось, что каждое слово Хасана — гвоздь, забытый в его душу. Отчаянье, кромешное и беспросветное, было единственным его чувством. Вопросов не возникло, Ахмад сразу же понял, что Хасан II, человек, через которого он надеялся понять скрытого имама, встал на путь Иблиса. Ничем иным не объяснить это надругательство над всем, что дорого сердцу любого мусульманина. Ахмад не знал, что надругательство по-настоящему ещё и не начиналось. Словно из другого мира донеслись до него слова Хасана II:
— Итак, сейчас мы с вами вознесём хвалу Аллаху, обратившись спиной к Мекке, чтобы стало понятно, что теперь это не имеет для нас никакого значения.
Хасан принял кощунственное направление и все на площади повернулись, так же, как он. Достаточно плотная толпа развернула Ахмада помимо его воли. Он не молился и даже не слышал тех слов, которые Хасан велел за собой повторять, но стоял он так же, как все — спиной к Мекке — ничто уже больше не имело значения. До его ушей вновь донёсся радостный вопль — кажется, шайтанова молитва закончилась, и повелитель всех пригласил к столам. А ведь солнце по-прежнему стояло высоко. Ах, да, рамадана больше нет. Много веков подряд был рамадан, а теперь нет.
Толпа понесла Ахмада к столам. Что это? На блюдах лежали маленькие зажаренные поросята. Свинина! На столах мусульман! Ах, да, да, здесь нет мусульман. Измаилитов здесь тоже нет. Кто же здесь? Хасаниты? Кийямиты? Лучше сказать — шайтаниты. Ахмаду показалось, что маленькие поросячьи мордочки смотрят на него с наглыми усмешками. Да и не удивительно видеть вокруг себя эти дьявольские отродья, если учесть, что все они уже в аду. Хасан, правда, сказал, что — в раю, но он сегодня уже не один раз путал направления.
Ахмад с некоторым удивлением обнаружил себя сидящим за столом, не испытав по этому поводу никаких чувств. Красотки в полупрозрачных одеждах разливали по бокалам вино из высоких кувшинов. Ещё и вино? А как же тут без вина, если прямо на них смотрят омерзительные поросячьи хари? В аду без вина — никак. Неожиданно Ахмад услышал у себя над ухом тихий гневный шёпот:
— Будь проклят гнусный отступник Хасан II.
Эти слова, вполне человеческие, разумные и правдивые, прозвучали, как голос истинной реальности, которая, оказывается, вовсе не исчезла. Душа Ахмада как-то сразу выскользнула из ледяного ада отчаяния, он стряхнул с себя болезненное оцепенение и повернул голову на шепот. Рядом с ним сидел могучий старый воин Хусейн. Их глаза встретились, и они без слов поняли друг друга — не все в Аламуте готовы покориться безбожию их бывшего повелителя.
С этого момента Ахмад всё помнил очень отчётливо. Они с Хусейном налили себе по бокалу ключевой воды из кувшинов и положили на свои тарелки лишь ломти хлеба и несколько абрикосов, мрачно и напряжённо наблюдая за происходящим. Ещё несколько человек за огромным столом поступили так же. А прочие с омерзительным вожделением рвали руками поросят и вскоре уже мало отличались от растерзанным животных, поскольку хлестали вино бокал за бокалом.
Вино и раньше тайком пили многие измаилиты, но не часто им представлялась такая возможность. Вина, где-нибудь припрятанного, всегда было немного — пить никто не умел, не говоря уже про тех, кто отведал вина впервые — эти и вовсе потеряли всякий контроль над собой. Хасан II и Синан, напротив, пили очень мало, лишь изредка делая небольшие глотки из золотых кубков, куда им подливали тёмно-рубиновую жидкость из особого кувшина. Вожди искрились самодовольством и, тонко улыбаясь, с удовольствием наблюдали за тем, как их подданные, нажравшись свинины и напившись вина, понемногу превращались в скотов. Время от времени вожди останавливали свои взгляды на тех, кто не пил и сохранял человеческий облик. Ахмад понял, что ни один трезвый не выйдет из Аламута живым, и это даже порадовало его, это был выход из пропасти отчаянья — они умрут во славу Аллаха от рук гнусных свиноедов и пьяниц. Они станут шахидами и, может быть, действительно увидят рай уже сегодня. На душе стало хорошо — рай уже сейчас. Что может быть лучше? Нужен только некий знак свыше для того, чтобы выхватить саблю.
Тут встал, покачиваясь, один низарит и заплетающимся языком обратился к Хасану II:
— Владыка, ты открыл нам великую истину. Но остальные-то не знают.
— Узнают, — спокойно улыбнувшись, сказал Хасан. — Завтра во все концы земли полетят гонцы с великой вестью. Наш мудрый и храбрый Рашид ад-Дин Синан отправится в Сирию, чтобы возвестить Кийяму нашим сирийским братьям.
— А если они не примут?
— Смерть, — Хасан зловеще улыбнулся. — Зачем этим глупцам жизнь? Они всё равно уже в аду.
Стол взорвался довольным пьяным хохотом. Потом встал другой измаилит:
— У нас, повелитель, есть мнение, что ты и есть скрытый имам, хотя уже не скрытый, но не совсем ещё и открытый. Что ты скажешь на это?
— Ты смотришь на меня, воин. Кого же ты видишь перед собой?
— Великого повелителя Аламута и всех низаритов.
— И только-то? — Хасан шутливо обиделся.
— О да, конечно же, прости. Я вижу перед собой великого избранника Аллаха, божественного халифа, повелителя всего мира.
— А видишь ли ты перед собой имама?
— Н… не знаю.
— Тебе пока многого не дано знать и многого не дано видеть. Кийяма открывается не сразу, а постепенно. Тебе предстоит выпить немало вина, пока ты придёшь к познанию высших истин.
Стол опять взорвался диким пьяным хохотом. Потом поднялся совсем уж пьяный измаилит, но говорил он на удивление внятно:
— Ты повелитель, сказал, что больше нет никаких запретов.
— Это так.
— А вот был такой запрет… нельзя с родственницами… это самое.
Стол опять заржал, но не слишком, всем было интересно, что пьяный вывезет дальше.
— А у меня есть сестра-красавица. Можно мне с ней… это самое?…
— Для чистого всё чисто, — ехидно улыбнулся Хасан II.
— А можно мне с моей сестрёнкой прямо сейчас вот на этом столе?..
— Но вы же помешаете нам пировать, — шутливо возмутился Хасан.
— Тогда кто-то выкрикнул:
— Ты же чистый, для тебя даже ишак чистый.
Засмеяться никто не успел. С места вскочил старый воин Хусейн и оглушительным голосом заорал:
— Довольно, грязные и зловонные свиньи! — Хусейн выхватил саблю и тут же пронзил ею похабника. Ахмад быстро последовал его примеру, разом пронзив какую-то пьяную свинью рядом с собой. Так же поступили ещё двое или трое. Тут же раздался визг десятков сабель, мгновенно выхваченных из ножен. Измаилиты были опытными воинами, они и пьяными продемонстрировали очень неплохую реакцию. Началась резня.
— Аллах акбар! — орали Хусейн, Ахмад и другие верные.
— За халифа Хасана! — орали любители Кийямы.
— Смерть отступникам! — орали и те, и другие.
Теперь Ахмад был, кажется, пьянее хасанитов — священное опьянение боя вошло в его кровь.
Все тело нестерпимо болело. Неужели Аллах всё-таки послал его в ад на вечные муки? Почему? Ведь он же шахид, он погиб, призывая Аллаха. Ахмад не сразу догадался открыть глаза — у мертвеца нет глаз. В аду. в аду. Только в аду может быть такая боль. В этот момент он услышал радостный шепот:
— Он жив, он пришёл в себя — голос был незнакомый и, кажется, принадлежал старой женщине. Вряд ли это джин или шайтан. У гурии голосочек тоже, должно быть, понежнее. Значит он на земле? Глаза Ахмад по-прежнему не открывал, но, видимо, на его лице отразилось так много чувств, что находящиеся рядом с ним поняли, что он их слышит.
— Не бойся, воин, ты среди друзей, — Ахмад услышал старческий голос, теперь уже мужской.
Он открыл глаза и увидел перед собой древнего старика и старушку, по-видимому, его жену. Судя по одежде, это были крестьяне, причем — из бедных, на эту же мысль наводило и нищенское убранство их хижины.
— Как… я попал… сюда? — с трудом выговорил Ахмад.
— Люди Хасана II приволокли к нам в деревню трупы всех верных, которых они убили. Трупы положили посреди деревни и запретили хоронить — так они пугают нас, принуждая принять их безбожное учение. А ночью один «труп» выполз из кучи и пополз прямо к нашим дверям. Аллах милосердный сохранил тебе жизнь, а мы тебя перевязали. Мы восхищаемся тобой, храбрый воин Аллаха, — добродушно и ласково проскрипел старик, его жена-старушка радостно кивнула.
— Но ведь вас же убьют, за то, что вы меня спасли.
— Значит, мы станем шахидами. В этом не будет даже большой доблести, мы уже старые, жизнь не очень-то нам и нужна. А может быть, мы прожили эту жизнь именно для того, чтобы спасти тебя? — старик грустно улыбнулся, и его жена, так же улыбаясь, закивала.
Ахмад испытывал нестерпимую боль, он едва соображал, но всё-таки задал ещё один вопрос:
— Вас принуждают отречься от шариата?
— Нас пока никто не спрашивал. Но люди Хасана II всем сказали: тем, кто не примет его богомерзского учения — смерть.
— Аллах сохранит вас, — с трудом выговорил Ахмад и провалился в небытие.
Через несколько дней раны почти перестали болеть. Оказалось, что, хотя ран много, но ни одной серьёзной. Через неделю Ахмад уже понемногу вставал, а через две недели смог бы сесть на коня, которого, впрочем, не было, но было серебро в поясе, который он всегда носил на себе. Пришло время прощаться с добрыми стариками. Половину серебра он решил отдать им:
— Неловко предлагать деньги тем, кто готов был отдать за меня жизнь, но я ввёл вас в расходы. Возьмите.
Старики не стали отказываться и с низким поклоном приняли серебро. Ахмада тронула их искренность и естественность. Иные устроили бы из вручения денег целое представление, а эти просто взяли и всё. В алчности их не заподозришь — если бы хотели, давно бы уже могли завладеть всем его серебром, а не половиной. И в этот момент он почувствовал, что измаилиты всегда были чужими для него. Вечно они что-то изображали, вечно красовались перед всем миром и друг перед другом. Зачем таким людям скрытый имам, зачем им истина? Они сделали бога из дешёвого факира, засевшего в Аламуте. Их истина — смерть, их молитвы — кинжалы. Если бы имам пришёл — они убили бы его. Как он раньше не замечал, что путь измаилизма — почти полное безбожие, которое сейчас лишь проявилось во всей красе, но так было и раньше: вместо скрытого имама — скрытое безбожие.
Ахмад сказал старикам:
— Вам бы лучше уходить отсюда. Знаю, смерти вы не боитесь, но жизнь среди мерзких безбожников — не лучшее из того, что есть в этом мире.
— Мы уже думаем об этом, воин. Не знаем только — куда? Может быть — в Исфахан? А ты сам — куда?
— На родину, в Сирию. Меня там, правда, никто не ждёт. К тому же, мерзкий Синан, должно быть, уже начал сеять среди сирийских измаилитов семена безбожия. Все измаилиты мне теперь враги, потому что они — враги Аллаха. Скажите, добрые люди, а вы молились когда-нибудь в мечети?
— Мы даже никогда не видели мечети.
— А мне, вы знаете, так вдруг захотелось помолиться в мечети. В моей жизни этого тоже ни разу не было, а сейчас так захотелось.
В глазах стариков засветились тёплые огоньки:
— Да хранит тебя Аллах, храбрый и благочестивый воин. Не мы тебя спасли, а ты нас спас.
Усама ибн Мункыз вышел из главной мечети Дамаска. Как и всегда после намаза, он пребывал в некоторой прострации. Все чувства его обострились, мир вокруг казался ярче, значительнее, мистичнее. В этот момент он любил смотреть на лица правоверных, читая в их душах, как в открытых книгах. Лица суровых воинов, лица хитрых торговцев, лица возвышенных созерцателей — всё это был его родной Дамаск.
Усама служил Нур ад-Дину вот уже 10 лет и ни разу не пожалел, что поступил в нему на службу. Нур ад-Дин вдохнул в Дамаск жизнь. С его приходом в Дамаске стало больше смысла. Нур ад-Дин на глазах превращался в великого объединителя исламского мира. Отношения Дамаска с франками, в том числе и с друзьями Усамы — тамплиерами, конечно же обострились, это было несколько грустно, но Усама понимал, что тут уже никуда не денешься. Если жить со смыслом — война с франками неизбежна. Тамплиеров он по-прежнему очень уважал и даже по-своему любил, продолжая втихаря с ними встречаться, но он помнил, что есть выбор, которого не избежать: либо на Харам эш-Шериф в очищенной мечети Аль-Акса будет вновь совершаться намаз, либо там по-прежнему будут сидеть эти парни в белых плащах.
Сегодня после намаза он думал о том, как хорошо было бы помолиться в Аль-Аксе и по привычке всматривался в лица земляков. Его внимание привлекло одно необычное лицо — худощавое, с большими удивлёнными глазами и короткой бородой. Лицо печального ребёнка. Кто он? Воин? Дервиш? Что-то среднее между воином и дервишем. Если бы в исламе были свои тамплиеры, этот человек был бы одним из них. Усама беглым взглядом окинул одежду незнакомца и заметил, что она так же необычная. Во-первых, он явно только что с дороги и почему-то не привёл одежду в порядок, прежде чем пойти в мечеть. Во-вторых, некоторые детали его одежды указывали на то, что он — не сириец. Лазутчик? Лазутчик богомерзских низаритов? Его нельзя упускать. Усама сделал знак слуге.
Ахмад покинул мечеть Дамаска после намаза совершенно потрясённый. Совместная молитва с правоверными мусульманами перевернула его душу. Как здорово было чувствовать своё единение с исламским миром. Как дурно было следовать извращённой воле одного-единственного человека. Отныне он, Ахмад — правоверный мусульманин. Надо ещё, конечно, во многом разобраться, найти хорошего учителя, а прежде всего — поступить на службу. Примут ли? Да свершится воля Аллаха.
В этот момент Ахмада окликнул человек, одетый, как слуга:
— Стой! С тобой будет говорить эмир Усама ибн Мункыз — правая рука нашего великого повелителя Нур ад-Дина.
Перед Ахмадом вырос человек в одеждах вельможи, на лице его было написано добродушное любопытство.
— Ты низарит? — без предисловий спросил вельможа.
— Бывший низарит, а ныне — одинокий странник на пути к Аллаху.
— Из Персии?
— Из самого Аламута. Не принял богомерзского учения Хасама II и хочу стать правоверным мусульманином.
— Почему я должен тебе верить?
— У господина нет ни одной причины верить мне и при этом найдётся немало причин меня обезглавить. Я сириец, но одет, как перс. Я плохо знаю ислам, я здесь всем чужой, нет никого, кто поручился бы за меня. Если бы я посмотрел на себя со стороны, то увидел бы весьма подозрительного человека.
Усама усмехнулся. Как независимо держит себя этот чужак. Как пленный тамплиер. Или переодетый принц. Да какой он принц — низарит, вне всякого сомнения. И всё-таки сколько в нём благородства. Глаза печального ребёнка. Усама верил глазам. Их не приклеить на лицо, как накладную бороду. Выдержав паузу эмир с иронией, несколько зловещей, спросил:
— Значит, ты не будешь возражать, если я прикажу тебя обезглавить?
— Да свершится воля Аллаха.
— Воля Аллаха свершится в любом случае, независимо от того, что ты по этому поводу думаешь. Следуй за мной.
В доме Усамы Ахмаду отвели отдельную комнату, очень скромную, но горцу она показалась хоромами. Простая еда так же показалась царской человеку, привыкшему к грубым лепёшкам. Ему выдали новую одежду, примерно такую же, как у слуг. Старую одежду забрали, но кинжалы оставили, немало удивив Ахмада. Простодушный странник не мог, конечно, понять, что дамасский эмир играет с ним, желая выяснить, как будет вести себя чужак, если ему оставить оружие. Ахмад не мудрил, он спрятал кинжалы в новой одежде примерно так же, как они были спрятаны в старой. Он понимал, что его судьба ещё не решена, и сабля по-прежнему занесена над его головой. Но он был совершенно спокоен, сам тому удивляясь. Наконец его позвали к эмиру.
— Расскажи, что произошло в Аламуте.
Ахмад подробно рассказал о непотребстве провозглашения Кийямы. Усама слушал, не перебивая, и, когда Ахмад закончил, продолжал задумчиво молчать. Ахмад осмелился спросить:
— А что Синан в Сирии?
— Развил бурную деятельность. Все сирийские ассассины пошли за ним, недовольных было не больше, чем у вас в Аламуте, их так же перебили, — Усама ответил Ахмаду, как ближайшему советнику, оставив без последствий дерзость пленника, осмелившегося задать вопрос.
Усама долго молчал и наконец задумчиво обронил:
— Значит, говоришь, теперь они считают себя пребывающими в раю уже на земле.
— Это кощунство наиболее меня поразило.
— Это не столько даже кощунственно, сколько ненадлежащее обращение с истиной. Некоторые суфии развивают анализ состояния души достаточно сходным образом — душа человека пребывает в вечном поиске мистической близости к Аллаху. Высшей иерархией души является длительное общение с Аллахом, в сущности равнозначное раю на земле. У христиан так же есть сходные идеи — душа, подражающая Христу, приобретает некоторые Его свойства и, до известной степени уподобляясь Богу, в некотором смысле переживает райское блаженство уже здесь, на земле. Ваш Хасан II — весьма учёный человек, он знаком с этими идеями, но развивает их некорректно и делает это лишь для утоления своего властолюбия. Тусклая тень рая на земле может быть доступна лишь немногим избранным праведникам, заслужившим такое состояние души трудами страшными и совершенно непосильными для большинства. А так, чтобы все, признавшие власть конкретного человека тот час обрели райское состояние души — это, конечно, полный бред.
— О, великий мудрец, учитель избранных счастливцев, — Ахмад, услышав с какой лёгкостью эмир излагает великие богословские истины, пришёл в неописуемое восхищение. Как жаждала его душа такой вот мудрости, которая никогда не была ему доступна.
Усама так же не часто имел таких благодарных слушателей. В мире войны всех интересует только богословие меча. Он по-отцовски тепло посмотрел на восхищённого Ахмада и, подумав, сказал:
— Ассассины должны быть уничтожены. Надо очистить землю от этой скверны. Постараемся убедить нашего повелителя Нур ад-Дина в том, что это наипервейшая задача. Мне нужен хороший советник по делам ассассинов, знающий мир этих блудодеев изнутри. Пойдёшь ко мне на службу?
— Господин наполнил мою душу слезами радости и благодарности.
Нур ад-Дин играл в мяч на площади Дамаска. Он был одет так скромно, что трудно было признать в этом человеке повелителя Аравии, Сирии, Египта и части Месопотамии. В одежде он никогда не позволял себе роскоши — ни шёлка, ни золота, ни серебра. Однажды Нур ад-Дину прислали из Египта тюрбан из очень тонкий и украшенной золотом материи. Он не захотел даже взглянуть на драгоценный тюрбан. Ему хотели описать эту редкую вещь на словах — он не захотел слушать. В это время вошёл суфи и он подарил ему тюрбан со словами: «Я надеюсь, что вместо этого тюрбана Аллах даст мне что-нибудь получше в другой жизни».
Итак, очень скромно одетый повелитель половины исламского мира играл в мяч на площади Дамаска. И тут он заметил человека, который в разговоре с другим указал на него. Он послал спросить, чего хочет тот человек, а незнакомец отвечал: «Я имею процесс против Нур ад-Дина». Неслыханная дерзость!
Кто посмел судиться с великим повелителем? Однако, Нур ад-Дин тут же бросил мяч, оставил площадь и явился к кади (судье) со словами: «Я пришёл для защиты собственного дела, сделай для меня то, что ты сделал бы для всякого». И вот кади установил, что претензии того человека к повелителю совершенно необоснованны. Что ждало теперь наглеца, дерзнувшего несправедливо обвинить самого Нур ад-Дина? Может быть, плаха или рабство? Нет. Нур ад-Дин, обратившись к кади и всем присутствующим, сказал: «Я знал хорошо, что притязания моего противника несправедливы, и тем не менее я пришёл в суд, чтобы не подумали, что я желал обидеть его. Теперь, когда право признано за мной, я желаю отдать этому человеку ту собственность, за владение которой он позвал меня в суд». О, Аллах, осени своим милосердием эту прекрасную душу, которая всюду искала пути правды!
А ведь надо сказать, что Нур ад-Дин сам и учредил высшую судебную палату для исследования обид, нанесённых частным лицам. Раньше не было такого учреждения, а повелитель счёл, что оно необходимо, когда узнал, что его эмиры и самый могущественный из них — Ширку злоупотребляют своей властью и обижают крестьян. О, этот буйный Ширку с его хитроумным племянничком Салах ад-Дином — от них ещё многие наплачутся. Но Нур ад-Дина Ширку боялся. Едва узнав об учреждении судебной палаты, этот любитель околачивать абрикосы в чужих садах тут же повелел слугам окончить все свои дела мировой. Потерял на этом много, но сохранил голову — Ну ад-Дин шутить не стал бы.
Благородный повелитель был исполнен уважения к чистым законам, сообразуясь с их определениями. По этому поводу он говорил: «Мы только слуги закона, наша обязанность состоит в наблюдении за исполнением их». День и ночь он готов был служить закону, любил оставаться один для чтения жалоб своих подданных и писем эмиров. Отвечая на них, он постоянно размышлял о том, как предупредить злоупотребления.
Все другие правители по одному подозрению и самому ничтожному поводу осуждали обвиняемых на пытку и истязания, а Нур ад-Дин запретил всё подобное. Число преступников заметно уменьшилось благодаря правосудию великого атабека и его уважению к закону.
Нур ад-Дин не только одевался, но и питался очень скромно. В это трудно проверить, но у него просто не было денег на дорогую еду. Впрочем, так он захотел сам. Атабек содержал себя только на доходы с имущества, которое было его личной военной добычей. Только то, что он сам завоевал саблей, он полагал своим, даже не помышляя потратить на себя хотя бы одну монету из казны.
Жена Нур ад-Дина постоянно жаловалась на скудость своего содержания. Однажды она поручила просить мужа об увеличении содержания. Нур ад-Дин прогневался: «Откуда она хочет, чтобы я достал, чем удовлетворить её расходы? Клянусь Аллахом, я не намерен из-за неё осудить себя на муки адским огнём. Если она думает, что деньги, врученные мне для хранения, составляют мою собственность, то она весьма ошибается. Эти деньги принадлежат всем правоверным, а я только их казначей и не хочу для её удовольствия соделаться вероломным стражем. Впрочем, у меня остаются ещё три лавки в Эмессе, пусть она возьмёт их». А эти три лавки приносили ничтожнейший доход. Но Нур ад-Дин не считал что-либо ещё своим, хотя мог бы брать из казны сколько хотел.
Казну он не желал наполнять путём обмана, полагая нечистыми деньги, получаемые при помощи обид, чинимых правоверным. Находясь однажды в казачестве, он нашёл сумму, захваченную в казну несправедливо. Он призвал служащих и сказал им: «Эти деньги не принадлежат ни нам, ни казне, их следует отнести к кади Кемаль ад-Дину с приказанием возвратить тому, у кого их взяли». Некоторое время спустя он снова пришёл в казначейство и снова увидел там эти деньги. Тогда он пришёл в гнев, повелев сказать Кемаль ад-Дину: «Я знаю, что ты способен взять на себя такой грех, но мои плечи не так крепки, и я не желаю из-за этих денег навлечь на себя правосудие Всевышнего».
Вот почему Нур ад-Дин имел такую любовь к справедливости и закону! Вот почему он проявлял такую скромность и умеренность не желая брать себе лишних денег и предпочитая иметь достаток простого воина! Великий повелитель был очень богобоязненным и всячески старался избегать грехов, возмездием за которые являются адские муки. Воистину, религиозность Нур ад-Дина была выше всяких похвал. День и ночь он заботился об исполнении своих обязанностей по отношению к Аллаху, творя милостыню и совершая добрые дела. К молитве он был очень усерден и посвящал ей значительное время. Днём он читал несколько сур Корана, на ночь творил молитву. В полночь вставал, делал омовение и молился до утра.
Не надо и говорить, что вина, запрещённого шариатом, он не пил совершенно, а кроме того — полностью запретил его продажу в своих владениях.
До него правители жили рабами желудка и всякой роскоши, не делая различия между добром и злом. А Нур ад-Дин обращал большое внимание на то, что запрещается, а что предписывается религией и вменил это в правило своим людям. Однажды он воскликнул: «Как! Мы заботимся о безопасности дорог от воров и разбойников хотя зло, причиняемое ими — второстепенно, и мы не хотим защищать религию! Не обязаны ли мы в первую очередь защищать от всякого посягательства ислам, который служит основанием всему?».
День и ночь он помышлял о средствах истребления неверных, мечтой всей его жизни было полностью очистить страны Востока от нечестивых франков. Благороднейший и храбрейший Нур ад-Дин стал вождём великого джихада, какого исламский мир не знал со времён пророка Мухаммада и четырёх праведных халифов. Ведь исламские правители измельчали, стали рабами всего ничтожного, что бывает в жизни. Они вели войны лишь ради тленных богатств и ради власти, бесконечно сражаясь друг с другом, а о джихаде и не помышляли. Потому-то неверные франки и смогли пустить корни на священной земле ислама. Но атабек Нур ад-Дин возродил великий джихад, всячески отклоняя правоверных от междоусобиц и объединяя их на священную войну.
Против франков, да поразит их Аллах, Нур ад-Дин часто прибегал к хитрости, искусству тонкого обмана. Значительную часть своих побед он одержал, благодаря этому. Но, кроме того, Нур ад-Дин приобрел себе великую славу личной храбростью и ловкостью. Он был, без сомнения, первым воином своей эпохи, его воинские таланты вошли в поговорку. Не было другого человека, который сидел бы на коне так красиво, он, можно сказать, составлял с конём одно целое.
Нур ад-Дин бросался на неприятеля, сражаясь, как простой воин, и говорил: «Увы, вот уже много времени я ищу мученичества и не могу того достигнуть». Однажды эти слова услышал один из его соратников и заметил ему: «Именем Аллаха! Не подвергай свою жизнь опасности, а вместе с нею ислам и мусульман. Ты их опора. Если тебя убьют — мы погибли». Нур ад-Дин ответил: «О, что ты говоришь! Кто может спасти нашу страну и ислам, кроме великого Аллаха, которому нет равных».
Нур ад-Дин уничижался перед Аллахом и только благодаря этому он вознёсся над людьми. Его храбрость, его искреннее стремление стать шахидом, так же как и другие его добродетели, имели одно прочное основание — истины ислама, возвещенные пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и да приветствует.
Великий атабек имел большую склонность к изучению преданий о жизни пророка Мухаммада — хадисов. Поэтому он всячески приближал к себе учёных улемов, а более всего — мудрых суфи, оказывая им большое почтение. Он призывал суфи к себе, радушно принимал и почтительно обращался с ними. Заметив суфи издалека, он вставал перед ним, обнимал его и сажал рядом с собой, поэтому благочестивые и набожные люди стекались к нему из самых отдалённых стран. Эмиры этому завидовали и часто говорили плохо о духовных лицах. Один эмир оскорбительно отозвался об имаме Кот ад-Дине. Нур ад-Дин ответил: «Допустим, ты прав, но имам имеет, чем вознаградить за пороки — своими познаниями и благочестием. А ты и тебе подобные имеете вдвое больше пороков, чем приписываете этому имаму, и при этом не имеете ничего, чем можно вас извинить. Я переношу ваши глупости, не вознаграждаемые никакой доброй стороной, и не должен терпеть недостатков в имаме?».
Нур ад-Дин построил кельи и монастыри для суфи, назначив для их содержания значительные земли. Он воздвиг многие прекрасные мечети. Мечеть в Мосуле служит замечательным примером красоты и прочности. Её постройку он поручил шейху Омару. Многие говорили, что Омар к тому не способен, но Нур ад-Дин ответил: «Кому бы я не поручал подобную работу, они обязательно удерживали часть денег для себя и мечеть оставалась неоконченной. Теперь я уверен, по крайней мере, в том, что Омар меня не обманет. Если же он что-то сделает не так, то вина будет его, а не моя». Атабек не ошибся! Мечеть вышла славной. Самое важное, оказывается, в том, чтобы начальник был честный, а остальное устроит Аллах, если же начальник — вор, не поможет то, что он хороший мастер. Воистину, Нур ад-Дин обладал великой мудростью правителя, какую не часто встретишь у владык земных. Он был строг без суровости и добр без слабости.
Нур ад-Дин построил в Дамаске школу, где обучали науке преданий — устному учению пророка Мухаммада. Он приписал этой школе значительное имущество для содержания учителей и учеников. Это было первое учреждение подобного рода. Он основал так же школы для сирот и дал средства к существованию учителям и ученикам. Во многих выстроенных им мечетях он учредил вклады для тех сирот, которые читали там Коран, и это было устроено в первый раз. Он был неутомим в изобретении всё новых и новых способов доставить пользу мусульманам. Он построил гостиницы по большим дорогам, построил много госпиталей, в том числе большой госпиталь в Дамаске. Воистину, он жил и для богатых, и для бедных — для всех мусульман.
Таков был атабек Нур ад-Дин, которому верой и правдой служил эмир Усама ибн Мункыз, а теперь и его помощник Ахмад, бывший ассассин, а ныне — правоверный суннит. Точнее, таким видел Нур ад-Дина Ахмад, сразу же влюбившийся в атабека до беспамятства. Ахмад с увлечением собирал всевозможные истории, которые свидетельствовали о небывалом величии души атабека. Нур ад-Дин был, по его мнению, величайшим из всех правителей, которых когда-либо знала земля. Усама снисходительно приветствовал восхищение Ахмада их общим повелителем, в каких бы формах это восхищение не проявлялось, но сам старый эмир понимал, конечно, что настоящий Нур ад-Дин — куда сложнее. Усама прекрасно видел, каким беспредельно жестоким умеет быть атабек, насколько он властолюбив. Действительно, не будучи подверженным низменным и ничтожным страстям, Ну ад-Дин порою пугающе безоглядно отдавался страсти властолюбия, а это порождало мнительность и подозрительность, которые с большой лёгкостью оборачивались пролитием мусульманской крови. Видел Усама и то, что атабек, порою, склонен к хитрости и обману куда больше необходимого — слово его ненадёжно. И проявлялась эта лживость отнюдь не только по отношению к франкам. И ненависть Нур ад-Дина к франкам так же, по мнению Усамы, переходила разумные пределы. Конечно, они обязаны вести джихад, а джихад нуждается в сильном лидере, и Нур ад-Дин прекрасно подходил на эту роль, но зачем столько ненависти? Зачем война на полное истребление? Многие франки — достойнейшие люди и вряд ли Аллаху будет угодно, если они окажутся полностью уничтожены. Тут надо бы проявить побольше мудрости.
Сегодня исламский мир объединяется во многом именно благодаря угрозе франков, а если франки окажутся полностью стёрты с лица земли? Исламский мир легко впадёт в ничтожество, в хаос мелочных междоусобиц. Так разумно ли полностью уничтожать угрозу, которая сегодня является для исламского мира созидательным фактором?
Нур ад-Дин этого не понимал. Он был слишком прямолинейным и бескомпромиссным. Ну прямо, как франк. А между тем, иные франки вполне уже впитали тонкую изворотливость восточного мышления, построенную на нюансах и полутонах. Франки сделали мусульман другими, джихад впитал в себя многие свойства крестового похода. Но и мусульмане не позволяли франкам остаться прежними, лучшие представители Запада быстро перенимают утончённое изящество возвышенной учёности. Восток и Запад нужны друг другу, а война на полное истребление не нужна никому.
Эти мысли всё чаще рождались в душе Усамы, когда он видел неумеренное восхищение Ахмада Нур ад-Дином. Конечно, в основном Ахмад был прав. Нур ад-Дин действительно очень сильный, благородный и справедливый правитель, в каком давно уже нуждался исламский мир, так что некоторые слабости приходилось атабеку прощать, и Ахмаду не стоило травить душу рассуждениями об этих слабостях. В жизни Ахмада было так много чистого отвращения, что оно ещё нескоро в достаточной мере уравновесится чистым восторгом, который есть лекарство для его души. Несколько пугала Усаму измаилитская склонность Ахмада боготворить повелителя, видимо, измаилизм не так легко полностью соскоблить со своей души. Атабек — не бог, не имам, не источник истины, но Ахмад, казалось бы, вполне это понимая, всё же смотрел на атабека, как на некого полубога. Тут было некоторое отклонение, но, с другой стороны, оно порождало безграничную преданность, а много ли у Нур ад-Дина таких преданных слуг, как Ахмад, и разве не такие слуги — главное богатство атабека? И если уж кого-нибудь боготворить, так Нур ад-Дин лучше, чем кто-либо подходит на эту роль. Усама стал очень дорожить Ахмадом. Общение с этим необычным воином-богоискателем обогащало его.
Был ещё один пункт, сближавший Усаму и Ахмада — ненависть к ассассинам. В этом пункте Усаме до некоторой степени изменяла столь свойственная ему рациональность. Он не хотел смотреть на ассассинов, как на политический фактор, как на одну из карт в восточной колоде. Он не смотрел на них даже как на носителей тьмы. Он видел в ассассинах только грязь — религиозную, интеллектуальную, нравственную. Это были предатели исламского мира, а предатели всегда вызывают куда больше ненависти, чем враги. С врагами можно договариваться, предателей нужно уничтожать. Как можно использовать ассассинов в качестве политической карты, если они не являют собой ничего определённого? Измаилизм — нечто зыбкое, нестабильное, аморфное, расплывчатое, хаотичное. Разум Усамы-математика это приводило в крайнее возмущение. Как можно составлять уравнение, если единица на твоих глазах вдруг неожиданно оборачивается двойкой, а двойка — тройкой. Ассассины упорно убеждают мусульман в том, что они — мусульмане, поскольку разделяют исламский символ веры. Христианам они пытаются представить себя почти христианами, лукаво демонстрируя свою «веру в воскресение» и восхваляя Христа. Индийцам они так же представляются своими, поскольку верят в переселение душ — учение богомерзское как для мусульман, так и для христиан. Как и о чём можно договариваться с этими оборотнями? А Синан? Факир, фокусник, шут, ловко играющий то на низменных страстях своих подданных, то на их религиозном рвении, жонглирующий богословскими истинами, словно шарами. Синан, пожалуй, не менее учён, чем он, Усама, но для Усамы мудрость — путь к ясности, а для Синана — лишь способ сгущения тумана.
Ненависть Ахмада к ассассинам имела примерно те же основания, но была к тому же очень личным чувством. Эти богомерзские твари столько лет калечили его душу, уводя всё дальше и дальше от Аллаха, а он-то, наивный глупец, полагал, что постепенно приближается к истине. Почему же он не обращал внимания на тревожную смуту, всё нараставшую в душе? Окрутили, обольстили. Ахмад никогда не простит им этого коварного обольщения, этой легкомысленной игры с человеческой душой. Раны на его теле зажили давно и бесследно, но покалеченная ассассинами душа всё время болела — тоскливо и жалобно. Разве можно забыть, как преданность Аллаху на его глазах обернулась омерзительным развратом?
Теперь Ахмад полной грудью вдыхал чистый воздух суннизма. Он наслаждался простотой и ясностью классического ислама. Тут на всё были ответы, тут не надо было лишних вопросов. Воистину, вера суннитов покоилась на твёрдом основании. После изнурительной путаницы измаилизма, когда сам не понимаешь, во что веришь, простота суннизма были для Ахмада живительной и спасительной. Есть пять столпов ислама, а больше ничего не надо. Ни-че-го.
И в Нур ад-Дина Ахмад столь трепетно влюбился именно потому, что атабек стал для него символом этой простоты и ясности суннизма. Благородство и справедливость, разумная уравновешенность и понятность всех действий Нур ад-Дина резко контрастировали с вечными лукавыми недомолвками Хасана II, любое действие которого можно было понимать как угодно. Всё что делал Хасан II было направлено скорее на создание видимости, чем на реальную пользу для подданных. Дела же Нур ад-Дина были очень конкретны — мечети, училища, больницы. В Нур ад-Дине всё было просто: и мысли, и одежда, и поступки. Хасан II вечно изображал из себя вселенскую загадку, разгадка которой выше звёзд, а оказалось, что все его тайны — грязнее тайн борделя. Ещё одного правителя-загадку Ахмад просто не выдержал бы, а Нур ад-Дин был понятен и доступен, он был исполнен благородной простоты. Ахмад понял, что истина — в простоте. Надо лишь следовать предписаниям пророка Мухаммада, немногочисленным и понятным для всех, и тогда в своё время откроются двери рая.
Усама однажды строго сказал Ахмаду, что недопустимо боготворить даже великого человека, но Ахмад не боготворил Нур ад-Дина, он просто очень полюбил его и хотел быть во всём на него похожим. Нур ад-Дин, воплотивший в себе мудрую ясность суннизма, был идеальным примером для подражания.
А в суннизме главным для Ахмада являлось даже не то, чем он был, а то, чем он не был. Здесь не было изнурительного и изматывающего ожидания имама. Суннизм после измаилизма — обретение после ожидания. Хорошо, что Ахмад не пошёл в Исфахан к шиитам-двунадесятникам. Разве ждать 12-го имама легче, чем 7-го? Двунадесятники так же живут без имама, то есть без истины, как и седмеричники. Ну их всех.
Ахмад очень помог Усаме, представив внутреннюю информацию об ассассинах, которую иным образом было бы затруднительно получить. На основе детальной информации Ахмада, а так же глубоких теоретических познаний Усамы, они предоставили Нур ад-Дину очень серьёзное обоснование того, что ассассины должны быть стёрты с лица земли. Атабек полностью с ними согласился, но сказал, что надо подождать. Они не спорили, гениальному правителю виднее, когда время для одного, а когда время для другого.
Ассассинов можно было раздавить, но десятки их крепостей были расположены столь удобно, что на полномасштабную войну с этими отщепенцами требовались немалые силы, а результат на выходе представлялся не столь уж значительным. Задействовав ресурсы, необходимые для того, чтобы полностью уничтожить ассассинов, можно было надеяться на результат и покрупнее.
Нур ад-Дина всё больше привлекал Египет. Покорение этой страны было задачей первоочередной по множеству причин. Во-первых, фатимидский халифат слабел на глазах и взять его становилось всё легче. Во-вторых, на Египет явно претендовали франки — небольшие экспедиции короля Амори самых очевидным образом носили характер подготовки к полному завоеванию. Следовательно, не взять Египет сейчас, означало отдать его франкам. В-третьих, с точки зрения войны с франками, Египет был очень выгодным приобретением — завладев этой страной, можно было взять западных пришельцев в железные клещи с двух сторон. А, в-четвёртых, даже с точки зрения войны с ассассинами, завоевание Египта было полезным ходом — разорить главное гнездо измаилитов, значит подрубить корни всех их нечестивых ответвлений. Пусть Синан сейчас с Египтом не дружит, однако, следует помнить, что египетские измаилиты и сирийские ассассины — плоды одного дерева.
Усама ибн Мункыз полностью поддерживал египетскую политику Нур ад-Дина и помогал ему эту политику развивать, благо знал Египет, лучше, чем собственный дом. Таким образом, Старец Горы получал отсрочку — не до него пока было. А, решив египетскую проблему, Нур ад-Дин, конечно, не станет терпеть у себя под боком этого злостного богохульника.
Эмир Ширку с малыми силами железным вихрем обрушился на египетского визиря Шавара и разбил его на голову. Вроде бы это было сделано даже по просьбе каирского халифа, которого Шавар предал. И вот тут началось самое интересное — Ширку, эмир Нур ад-Дина, стал визирем халифа. Получалось, что он не покорил главного фатимида, а сам покорился ему. При этом Ширку слал Нур ад-Дину заверения, что остался его верным подданным и полное покорение Египта вскоре не замедлит быть.
Нур ад-Дин, узнав египетские новости, побледнел и посмотрел на Усаму, а тот откровенно растерялся — едва ли не первый раз в жизни. Объявить Ширку изменником означало собственными руками создать себе ещё одного врага, возможно, довольно сильного. А если Ширку действительно покоряет Египет для Нур ад-Дина, не помышляя об измене? Не хотелось бы самим же поломать такую красивую и тонкую игру. Но если Ширку так и останется на службе у фатимида или, того смешнее, завоюет Египет для себя, всё это время пользуясь благосклонной поддержкой атабека? Будет, мягко говоря, обидно. И если Нур ад-Дин прикажет отрубить голову творцу египетской интриги, Усаме ибн Мункызу, последнему останется лишь поблагодарить атабека за самое мягкое из всех возможных наказаний.
— Что молчишь, Усама? — зловеще улыбнулся Нур ад-Дин. — Ведь это ты предложил послать в Египет не кого-нибудь, а именно Ширку. Уж не в сговоре ли ты с ним?
Усама грустно улыбнулся. Такое обвинение не имело смысла даже опровергать. И что он мог объяснить атабеку, если сам ничего не понимал? Усама решил просто думать вслух:
— Я предложил для египетской экспедиции именно Ширку, потому что сей храбрый воин, по моему суждению, совершенно не способен на самостоятельную политику — для этого он слишком глуп. Ширку — вор и грубиян, но этих качеств недостаточно, чтобы совершить изощрённое предательство.
— Значит, мы по-прежнему можем доверять этому глупому и грубому вору, которого мой мудрый советник Усама избрал для великих свершений?
— Если честно, то не уверен. Ни в том, что Ширку можно по-прежнему доверять, ни в собственной мудрости. Кажется, я что-то не учёл, не доглядел.
— А я скажу тебе, многоопытный Усама, что, или точнее кого, ты не доглядел. Мальчика Юсуфа, племянника Ширку. Теперь этого мальчика всё чаще называют Салах ад-Дином.
Усама закатил глаза и дернул себя за бороду. В крепко сжатом кулаке остался клок седых волос, но он даже не обратил на это внимания:
— О, горе мне, тупому и слепому! Щенка не доглядел! Безобидного щенка, который ничем, кроме книжек, не интересовался. Ах, Юсуф, ах, мальчик!.. Да это же его интрига — хитроподлая, как и всё, что он отныне будет совершать в своей мерзкой жизни, — Усама совершенно забыл про повелителя, настолько он был поражён этим открытием. — Ну, конечно же, Ширку был саблей Юсуфа, Юсуф был умом Ширку. Ах, парочка. Глупость моя воистину безмерна.
— К слову сказать, юный Салах ад-Дин уже и сам неплохо владеет саблей, он успел доказать свою способность командовать войсками. Скоро дядя Ширку станет ему не нужен, — Нур ад-Дин по-прежнему зловеще улыбался. Он не допускал и мысли о предательстве Усамы, в чём был совершенно прав — атабек хорошо разбирался в людях. Сейчас он совершенно не думал о наказании ибн Мункыза. Что толку срывать на нём свою досаду, если надо было принимать решение?
— Ну так что будем делать, мой мудрый и глупый эмир?
— Делать. — растерянно протянул Усама и почти сразу же твёрдо заключил — Делать! Что угодно, но надо что-то сделать. И не в связи с Египтом. Что бы мы не предприняли по отношению к Салах ад-Дину — это может оказаться нам во вред. Но и ничего не делать мы тоже не можем, потому что этим покажем свою растерянность, а значит — слабость. Следовательно, надо серьёзно озаботить себя чем-то другим, пусть Салах ад-Дин думает, что нам пока не до него. Ассассины! Я уверен, мой повелитель, что голова Старца Горы непозволительно долго остаётся у него на плечах. Пусть уже завтра на всех площадях Дамаска говорят о том, что великий атабек идёт на ассассинов. Так мы выиграем время и сохраним достоинство. Даже если Салах ад-Дин готовит предательство, мы не будем выглядеть слишком доверчивыми — просто у нас были другие дела. А когда покончим с Синаном, египетская ситуация уже должна проясниться и тогда наше слово, обращённое к Салах ад-Дину, прозвучит по существу.
— Дело говоришь, Усама. Завтра же все узнают, что мы готовим войско против ассассинов. А вот на кого пойдёт это войско — на Синана или на Салах ад-Дина — это мы ещё посмотрим. Если мальчик Юсуф остаётся нам верен — наши военные приготовления отнюдь его не оскорбит — ведь не на него же собираемся. Если же он замыслил предательство, пусть ещё раз подумает, узнав о том, что войско уже готово. Очень хорошо. А всё же, как ты думаешь, Усама, что будет делать Юсуф?
— Некоторое время он будет изображать верность и перед халифом, и перед атабеком, а потом попытается устранить первого и добиться независимости от второго.
Нур ад-Дин вдруг жизнерадостно расхохотался:
— Ты знаешь, а я и сам, на его месте, поступил бы именно так. Но вот что ещё интересно: какой религии будет тогда придерживаться Салах ад-Дин? Останется ли он правоверным суннитом, или решит унаследовать от каирского халифа не только трон, но и его измаилитские убеждения?
— Мой повелитель — мастер хороших вопросов. Всё зависит от того, как высоко намерен взлететь мальчик Юсуф. Если он захочет немедленной и абсолютной самостоятельности, тогда у него есть резон принять измаилизм, но в этом случае он никогда не сможет претендовать ни на что, кроме Египта. Если же он хочет взлететь повыше и со временем подчинить себе весь исламский мир, тогда ему надо остаться суннитом. К тому же в этом случае он сможет изображать из себя если не подданного, то хотя бы союзника атабека — это даст ему некоторый шанс избежать немедленной войны с Дамаском. Юсуф уже доказал, что он не идиот, а значит он останется суннитом.
— Какой же ты циник, Усама. Ты действительно считаешь религию лишь разменной монетой в борьбе за власть?
— Я так не считаю, но я вижу, что все вокруг, кроме моего повелителя, считают именно так. Да есть ведь ещё и сам Ширку, которого рано полностью сбрасывать со счетов. А уж этот-то — законченный властолюбец и сластолюбец, на вопросы веры ему совершенно наплевать. Он будет молиться так, как ему будет выгоднее.
— А я разве не сказал тебе, что Ширку умер 3 дня назад? Объелся ворованных абрикосов и умер.
Ахмад считал Усаму ибн Мункыза не просто покровителем, но и вторым отцом. Бывший низарит преклонялся перед широчайшей учёностью дамасского эмира, перед его политической мудростью и искренней религиозностью. Но одного Ахмад никак не мог понять — дружбы Усамы с тамплиерами. Как можно дружить с врагами, уничтожение которых — дело всей твоей жизни? К тому же, эту дружбу приходилось скрывать от великого атабека, как нечто нечистое. Конечно, Ахмад ни на секунду не подозревал Усаму в предательстве, не сомневаясь, что эмир верен исламу и верен атабеку, но тогда вообще ничего не понятно. Впрочем, Ахмад доверял своему второму отцу — если эмир изредка тайком встречается с тамплиерами, значит так надо ради славы Аллаха. Усама не скрывал от Ахмада этих встреч, но и пояснений по этому поводу не давал и уж тем более не предлагал Ахмаду принять участие в разговоре. Но сегодня, когда в дом Усамы тайно пожаловал какой-то высокий тамплиерский чин, эмир сказал, что Ахмаду надлежит присутствовать при разговоре. Ахмад обрадовался — увидеть живого тамплиера — таинственное и зловещее чудовище — это было очень интересно.
Тамплиер был одет, как мусульманин, но — во всё белое, по своему обычаю. Он распахнул объятия на встречу Усаме и широко улыбнулся:
— Сколько лет мы не виделись, мой дорогой Усама?
— Да с тех самых пор, как я обменял тебя на своего брата, мой дорогой Жан.
— Надеюсь, что твой брат жив и здоров?
— К сожалению, он умер 2 года назад.
— Мне искренне жаль. Твой брат был настоящим воином. У нас в плену он вёл себя самым достойным образом.
— Да. да. в этой жизни много достойного сожаления. То вы у нас в плену, то мы у вас в плену, а потом, глядишь, и все поумирали.
— Что же делать, все мы смертны. Но дни славного Дамаска да продлятся до скончания времён.
— И дни вашего Ордена так же — во славу чистейшей Мариам.
— Да будет так, мой прекрасный друг Усама.
— Но пусть Аллах сократит дни ассассинов, которые оскверняют землю своим смрадом. Пусть они исчезнут ради славы Дамаска и ради славы Ордена.
Улыбка медленно, неторопливо и спокойно исчезла с лица сенешаля храмовников. Его лицо стало теперь любезно жёстким:
— Я очень внимательно слушаю тебя, Усама.
— Говорят, ассассины вместе со своим Старцем Горы решили принять христианство?
— Похоже, они и правда имеют такое намерение, — сенешаль развёл руками, дескать, что же я-то тут могу поделать.
— Но ты же хорошо понимаешь, Жан, что этого никогда не будет. Скорее уж все демоны преисподней станут христианами.
— Аллах знает об этом лучше, Усама.
— Значит, тамплиеры не обольщаются на счёт ассассинов?
— Когда это мы давали повод считать себя идиотами?
— Так почему же вы потворствуете этому недостойному балагану?
— Мы не потворствуем. Мы наблюдаем. И пока не усматриваем повода для вмешательства в ситуацию. Король Амори, похоже, и правда верит в то, что ассассины могут стать христианами. Разубеждать его бесполезно. Синан, конечно, обманет короля, но, по большому счёту, королевству это никакого ущерба не причинит. Зачем Ордену во всё это вмешиваться?
— Но ассассины — данники Ордена. Когда они обманут короля, разве тамплиеры не будут испытывать в этой связи хотя бы некоторой неловкости?
— Ассассины всего лишь платят нам дань. Они не друзья, не союзники и не вассалы Ордена. Всем известно, что Синан не обязан согласовывать с тамплиерами свои действия, и он не делает этого.
— Но, взимая с ассассинов дань, тамплиеры уже тем самым признают за ассассинами право на существование.
— Что ты хочешь, Усама?
— Нур ад-Дин намерен уничтожить ассассинов. Не мешайте ему.
— Ты полагаешь, тамплиерам доставит удовольствие увидеть Нуреддина нависающим над своими владениями?
— Да пойми же ты, Жан, что ассассины — богомерзские твари, которые ни вам, ни нам не могут быть союзниками. Мы с вами верим в Бога по-разному, но мы верим в Бога, а ассассины не верят ни во что, кроме своих подлых кинжалов. Ни вам, ни нам эти твари не нужны. Пусть они исчезнут.
— Нам стало трудно разговаривать, Усама. Сегодня ты служишь господину, который спит и видит сбросить всех крестоносцев в море. Нуреддин не признаёт за нами права ни на одну пядь Святой Земли. По-твоему, мы сейчас должны любезно предоставить Нуреддину возможность уничтожить ассассинов, а потом столь же любезно подставить свои шеи под его саблю?
— Я понимаю тебя, Жан. Но и ты пойми, нет, не меня, а характер ситуации. У Нуреддина на одну возможность больше, чем у Ордена. Нуреддин может попытаться полностью уничтожить вас, а может согласиться делить с вами Святую Землю. У него есть выбор. А у вас выбора нет. Вы не можете даже попытаться совершенно уничтожить Нуреддина, потому что за ним весь Восток. Сегодня Нуреддин действительно не сильно расположен договариваться с вами, но вам-то ничего другого не остаётся, кроме как стремиться к равновесию с Нуреддином.
— И ты готов помочь нам в установлении этого равновесия?
— Вот именно! Орден не мешает Нуреддину раздавить ассассинов, а я в свою очередь сделаю всё для того, чтобы атабек не покушался на Кастель-Блан и другие ваши замки.
— Всерьёз ли ты говоришь об этом, Усама? Мы же не будем иметь никаких гарантий, кроме твоего обещания похлопотать за нас. А потом ты разведёшь руками — похлопотал, но, извините, ничего не получилось.
— Я не просто обещаю похлопотать. У меня есть козырь — Египет. Когда Нур ад-Дин разделается с ассассинами, его внимание нетрудно будет переключить с тамплиеров на египетского баловника Салах ад-Дина.
Тамплиер сухо хохотнул:
— О да, Юсуф — большой баловник. Далеко пойдёт этот мальчик, если ему ноги не перебьют. И у нас ещё будут с ним проблемы.
— Так вот и пусть Нур ад-Дин займётся ногами Салах ад-Дина. Разве вам это не выгодно?
— А тебе не кажется, Усама, что ты сейчас работаешь против своего повелителя Нуреддина?
— Никогда, Жан. Как ты никогда не предашь короля, так и я никогда не предам атабека. Я просто считаю, что мой повелитель кое в чём не прав, например, когда желает полностью истребить крестоносцев. Так же и ваш король не прав, желая видеть ассассинов своими союзниками.
Они замолчали. Через некоторое время тамплиер продолжил:
— Ты знаешь, Усама, мне однажды в бою так здорово заехали палицей по шлему. С тех пор я плохо соображаю. Прояви снисходительность и объясни мне то, до чего я никак не могу дойти своим умом. Какая польза Ордену в том, чтобы отдать ассассинов на съедение Нуреддину? Ты пытался доказать мне, что Орден в этом случае не подвергает себя опасности. Но польза-то в чём?
— Та палица, Жан, не сыграла в твоей судьбе никакой зловещей роли, и ты всё очень хорошо понимаешь. Я считаю, что Нур ад-Дину надо прежде всего разобраться с теми, кто позорит ислам — сирийскими ассассинами и египетскими измаилитами. Разве не польза для тамплиеров, если атабек все свои силы бросит не на вас, а на изменников ислама? К тому же, отдав Нур ад-Дину ассассинов, вы продемонстрируете, что с вами лучше не драться, а договариваться.
— Конечно же, конечно. Нур ад-Дин при нашем попустительстве подчинит исламских отщепенцев багдадскому халифу, объединит большую часть исламского мира, и тогда, обеспечив себе тылы, всей своей мощью обрушится на нас. Так мы сначала выиграем передышку, а потом потеряем всё.
Усама тяжело вздохнул и грустно улыбнулся:
— Куда подевался юный рыцарь, который хотел показать мне Бога-Ребёнка?
— Ты помнишь, Усама?
— Я всё помню, Жан.
— Но я и сейчас такой же.
— Да не такой ты. Все мы не такие. Все мы погрязли в политических интригах, разделе сфер влияния и так далее. Заботимся только о власти, о территории. А я вот подумал: если Салах ад-Дин уничтожит в Египте измаилитскую скверну, утвердит чистый суннизм и покорит Каир халифу багдадскому, но не признает над собой власть Нур ад-Дина, это как — хорошо или плохо? Если мы с атабеком действительно сражаемся за веру, а не за удовлетворение собственного властолюбия, значит это хорошо. Какая разница, кто главный в Каире, лишь бы намаз совершался правильно. Но кто же так будет думать в этом мире? Вот и мы с тобой сейчас. О чём мы говорим? Кто кому полезен в удержании или распространении власти. Мы же о главном забываем — о религии.
— В чём-то ты прав, Усама. Орден, к сожалению, по уши в политике. Такова реальность. Но тамплиеры сражаются только за веру и умирают только за Христа.
— Тамплиерам отдают приказы иерархи Ордена, один из которых — ты. Ты отдал бы приказ своим тамплиерам идти вместе с ассассинами против Дамаска? Вместе с омерзительными богохульниками против людей, которые чтут Творца?
— Не хотелось бы.
— Не хотелось бы или никогда?
— Я — ещё не Орден.
— Жан, кто из нас франк? Где твоё прямодушие? Ответь, не виляя, какова твоя личная позиция?
— Храни тебя Бог, Усама, ты — хороший друг. Кто бы мог подумать, что мусульманин будет учить меня религиозной честности. Ты прав, Усама — нельзя забывать о главном.
— А теперь вернёмся к нашим баранам. Ассассины — позор ислама. Заимствуя некоторые ваши идеи, они на глазах превращаются в позор христианства. Разве люди джихада и крестоносцы не должны объединить свои усилия для того, чтобы очистить землю от этой скверны?
— Но, ни король Амори, ни атабек Нур ад-Дин так не думают.
— Позиция атабека — моя печаль, а ты озаботь себя позицией короля.
— Король радуется новым союзникам, как ребёнок новой игрушке. Наши священники пляшут от счастья, ожидая крещение ассассинов. С ними невозможно разговаривать, они ничего не хотят слышать.
— А знаешь, что будет дальше?
— Да, знаю!.. С обращением ассассины будут тянуть. Мы поможем им против Нуреддина. Никакого обращения не будет. И мы на веки вечные запятнаем себя этим богомерзким союзом.
— А ведь ты начал с того, что вы ничего на этой ситуации не теряете?
— Усама!
— Молчу. Но не хочешь ли послушать бывшего ассассина? Это Ахмад, теперь он — правоверный суннит.
Тамплиер, с начала разговора не обращавший на Ахмада никакого внимания, теперь отвесил уважительный полупоклон и спросил:
— Откуда?
— Из Аламута.
— Знал Хасана II?
— Лично — не особо, но присутствовал на провозглашении Кийямы, после чего чудом остался жив.
— Расскажи.
Ахмад рассказал тамплиеру обо всех мерзостях аламутских низаритов, о характере Хасана II и Синана. Кроме того, Ахмад, когда уже был на службе у ибн Мункыза, постоянно собирал информацию о сирийских ассассинах, не раз под видом своего проникая в их крепости. Обо всём, что ему удалось таким образом выведать, Ахмад так же рассказал тамплиеру. Храмовник слушал его очень внимательно, не перебивая. Он побледнел, как полотно, на его лице отражалось теперь уже не отвращение, а боль. Когда Ахмад закончил, Усама сказал:
— Прости монах, что мы погрузили твою душу в зловонную жижу подробностей быта ассассинов, но ты лучше меня понимаешь, что всё это тебе необходимо знать.
— Да, конечно. Спасибо, Усама, спасибо, Ахмад. Многое из того, что я сейчас услышал, мы и раньше знали, но некоторые факты были открытием даже для меня.
— Мы поняли друг друга, Жан?
— Мы поняли друг друга, Усама. Позволишь ли иногда обращаться с вопросами напрямую к Ахмаду?
— Без проблем. Только помни о том, что Ахмад не слуга мне, а приёмный сын.
— Мы всегда стараемся очень бережно обращаться с людьми, которые нам помогают.
— Думаю, мы закончили.
Но тут вмешался Ахмад:
— Позволит ли господин тамплиер задать ему один вопрос?
Жан кивнул.
— Говорят, что христиане, так же как и низариты считают, что рай возможен уже на земле?
— Это не совсем так, — тамплиер был обескуражен богословским вопросом, но быстро собрался. — Тут главное надо понять, мой драгоценный Ахмад: рай — это состояние души. Здесь, на земле, мы должны работать над своей душой, менять её с тем, чтобы приготовить к райскому блаженству. Иные избранники Божии, преуспевшие в этом, уже на земле могут переживать состояние души чем-то подобное райскому. Но не надо к этому стремиться.
— Что же надо?
— Если ты идёшь к господину, ты перед этим чистишь свои одежды. Если идёшь к Богу — очисти свою душу. Старайся и не жди награды.
— Но как очистить душу?
— Действительно. Как очистить душу, если мы только и делаем, что купаемся в нечистотах?
После разговора с Усамой брат Жан долго ещё пребывал в состоянии тоскливой подавленности. Эмир прав — от его чистой детской веры почти ничего не осталось. Хотя, не так. За 30 лет, которые протекли со времени его первой встречи с ибн Мункызом, его вера окрепла, возмужала и закалилась. Детская вера потому и чиста, что слепа, она не видит грязи вокруг себя, а его вера теперь зрячая, он верит не потому что не видит, а вопреки тому, что видит. Разве он сейчас меньше любит Христа, чем тогда? Разве не одному только Христу он служит? Да так ли?.. Не всегда и не во всём так. И всё-таки, пусть его душа утратила нечто очень важное, но нечто другое, не менее важное перед Богом, приобрела. Может, так? «Господи, исцели!» — взмолился брат Жан и повторил по-гречески: «Кирие элеисон!».
Брат Жан возглавлял секретную службу Ордена и о мерзостях, творившихся на Святой Земле, в том числе и творимых крестоносцами, знал больше, чем кто-либо. Его вера в Христа подвергалась таким испытаниям, какие выпадают на долю немногих тамплиеров. Не раз ему казалось, что его душа начинает гнить, словно труп, отравленная ядом страшной и омерзительной правды о подковёрных интригах Палестины. Знать то, что знал он и не сойти с ума, порою, казалось ему просто невозможным. Тайные сговоры с врагами Христа, которые иные бароны совершали против верных слуг Христовых, разврат, келейно творимый священниками, изуверская жестокость, с которой, порою, обращались крестоносцы с мусульманами.
Необходимость самому иной раз вести тайные переговоры с редкостной мразью, с теми же ассассинами, и улыбаться им при этом. А друзей, таких как Усама, быть готовым в любой момент изрубить на куски, потому что они не только друзья, но и враги. «Так надо», — говорил себе Жан и лечил душу молитвой. И Господь помогал ему, он не сошёл с ума от жестокой правды жизни, он научился переваривать эту правду, он теперь умел из любой мерзости делать выводы, подтверждающие чистоту и святость учения Христова. И он не разуверился в том, что крестоносное дело — святое дело, хотя большинство крестоносцев — отнюдь не святые. О, на этой земле далеко не рай, все тут в грехах, как прокажённые в коросте. Но, либо человек пытается удержать в своей душе хотя бы тень рая, либо не понятно, зачем он вообще живёт.
Тяжелее всего было осознавать, что многие мусульмане — хорошие люди, исполненные возвышенной религиозности, но всё же давить ислам, обламывать, рубить и колоть. Он не усомнился в том, что так надо, потому что если этого не делать, тогда не только в Палестине, но и во всём мире не останется христианства.
Труднее всего было именно это — рубить одних, не переставая их уважать, и поддерживать других, не переставая их презирать. Что делать, если на стороне добра сражались, порою, мерзавцы, а на стороне зла — хорошие люди. Естественно было поддерживать не хороших людей, а добро, кто бы за него не сражался. Это было естественно, но невыносимо. Уже привыкнув к нравственной ущербности обычных политических постановок, брат Жан и не заметил, что ситуация с ассассинами — несколько иная. Сначала всё показалось просто: если союз с ассассинами послужит благому делу укрепления крестоносных государств, значит этот союз есть благо, а иметь дело с мерзавцами — не привыкать. Но Усама обнажил перед Жаном самую суть этой проблемы — поддержав ассассинов, крестоносцы не просто поддерживают мерзавцев, но и носителей мерзкой веры. Значит, они поддерживают распространение мерзости по Святой Земле, а это уже отнюдь не вопрос о личных качествах союзников.
Вот когда политика и религия пришли в противоречие абсолютно непримиримое. С политической точки зрения, приобретение нового союзника — бесспорное благо, а с религиозной точки зрения, поддержка носителей богохульной доктрины — бесспорное зло. Король Амори имеет ввиду снять это противоречие через крещение ассассинов. На нём и греха нет, поскольку он не понимает, что крещения не будет. И говорить с ним бесполезно, потому что прямых доказательств грядущего обмана со стороны ассассинов нет. Значит, весь грех на тамплиерах, которые всё прекрасно понимают и без доказательств. В такую дерьмовую ситуацию Орден не попадал ещё никогда. В этих политических игрищах на кону оказались вера и честь храмовников.
Брат Жан изложил своё понимание проблемы великому магистру Одону де Сент-Аману. Магистр слушал, всё больше мрачнея, потом долго молча расхаживая по комнате, и, наконец, обронил:
— Ты прав во всём, брат Жан, но это ничего не меняет. Мы не можем предать короля. Переговоры с послом ассассинов уже идут полным ходом. Король возлагает большие надежды на этот союз. Если Орден проявит открытую враждебность по отношению к ассассинам — это будет государственной изменой.
— А что для нас важнее, мессир — честь или вера?
— До сих пор тамплиерам не приходилось разделять эти понятия. Наша честь в том, чтобы верой и правдой служить помазаннику Божьему.
— Слова, мессир, слова. Король в делах веры — ребёнок, вся ответственность на тамплиерах — на взрослых людях.
— Так, может быть, нашлёпаем ребёнка по попе и оставим без сладкого? Я же во всём согласился с тобой, брат Жан. Легче стало?
— Вы правы, мессир, я ничего конкретного не могу предложить. Но вопрос не в том, что мы сделаем, а в том, чего мы хотим.
— Не понял. Поясни.
— Ведь мы же говорим о вере, то есть об ответственности перед Богом. А Бога не обманешь, он видит наше сердце. Мы, может быть, только успокаиваем свою совесть неизбежностью союза, который не в силах предотвратить, а на самом деле весьма этого союза хотим и уже облизываемся, прикидывая в уме, какие выгоды он нам принесёт? Или мы, напротив, всеми силами души хотели бы избежать этого греховного союза и не хотим от греха никаких выгод? Тогда мы будем молить Господа о том, чтобы Он взял это дело в свои руки и избавил нас от греха. В этом случае, мы, действительно, будем чисты перед Богом, хотя жестокого суда людского, конечно, не избежим, но разве это главное?
— Мой милый Жан. Ты всё такой же возвышенный мальчишка.
— А мне недавно сказали, что от того мальчишки не осталось и следа.
— Не знаю, кто это сказал, но то был настоящий друг. Он хотел, чтобы ты остался верен самому себе.
— Я хочу быть верным только Христу.
— Для тамплиера быть верным себе и быть верным Христу — одно и тоже. Ты знаешь это, Жан. Помолимся же Господу, чтобы он уберёг святое наше королевство и святой наш Орден от греха богомерзкого союза. И Орден будет настолько чист от греха, насколько будут чисты наши молитвы, — суровое лицо магистра прояснилось, в уголке глаза обозначилась слезинка.
— И ещё, мессир.
— Что-то всё же надо сделать посущественнее? — радостный магистр чуть ли не смеялся.
— Мы не должны делать ничего, что поспособствовало бы этому союзу, должны отменить любые меры, направленные на то, чтобы он состоялся. Да свершится Божья воля.
— Я верю в тебя, Жан. Верю в твою веру.
Сенешаль зашёл к командору, который со стороны Ордена обеспечивал техническую сторону переговоров.
— Когда посол ассассинов отбудет к себе?
— Завтра, мессир.
— Кто из тамплиеров будет его сопровождать?
— Брат Пьер, мессир.
— Что за человек?
— Очень спокойный, выдержка — идеальная, хладнокровие — позавидуешь.
— А религиозность?
— Претензий нет. Все богослужения посещает самым безупречным образом.
— Богослужения, командор, не посещают. В них участвуют.
— Вот и я о том. Мне кажется, брат Пьер не участвует в богослужениях, а просто посещает их. Какой-то он… теплохладный.
— И ты считаешь это нормальным?
— А кто я такой, чтобы судить брата? Дисциплина у него на уровне, храбрость отменная, а об остальном пусть судит Бог.
— А почему ты для этого дела выбрал именно Пьера?
— Потому и выбрал. Провести в обществе ассассинов пару дней и не свихнуться от отвращения — задача не каждому по силам.
— А нет ли у тебя на примете брата, который являл бы собой прямую противоположность сему Пьеру?
Командор широко и сладко улыбнулся:
— Есть такой. Брат Вальтер. Его называют Вальтер Одноглазый. Он в сражении глаз потерял. А видели бы вы как Вальтер молится.
— И как?
— Словно ребёнок. Искренне, горячо. Опять же, не мне судить, но думаю, что он очень чист душой. Вся наша грязь к нему словно не пристаёт. Он всех вокруг любит, как самых родных людей.
— Значит любит Христа.
— Истинно так, мессир.
— Сведущ в вопросах веры?
— Да не особо. Он неграмотный. Некоторые считают его тупым, но это не так. У него разум не сильно развит, но душа — мудрая. Всё, к чему может привести христианина богословие, Господь и так даровал Вальтеру за его чистоту.
— А в бою?
— Сущий зверь. Дерётся самозабвенно, жизнью не дорожит.
— Он способен нарушить приказ?
— Вообще-то за ним не водилось, но, мне кажется, Вальтер подчиняется только Христу. Избави Господи приказать ему нечто хоть на волосок расходящееся с самыми безупречными представлениями о христианстве.
— Настоящий тамплиер, — задумчиво протянул сенешаль и тут же решительно отрезал: Ассассина будет сопровождать не Пьер, а Вальтер.
— Именем Господа, мессир, — командор кивнул, попытавшись изобразить на своём лице понимание. Это не понравилось Жану, он слегка поморщился, командор это заметил и решил на всякий случай уточнить:
— Как проинструктировать Вальтера?
— Никак! — жёстко отрезал сенешаль. — Никаких инструкций. Впрочем… скажи, чтобы он поусерднее помолился перед дорогой. Его об этом, наверное, и просить не надо, но всё же скажи.
Несколько потухший командор кивнул:
— Именем Господа, мессир.
— Ты пойми, командор, — сенешаль решил всё же прояснить свою позицию, хотя и не собирался этого делать. — Мы хотим только того, что хочет Бог. А иначе мы не тамплиеры.
Брат Вальтер был счастлив. Впервые в жизни ему доверили такое важное и ответственное дело — сопровождать посла великого восточного владыки, душа которого устремилась ко Христу. Вальтер никогда не понимал, почему мусульмане не хотят принять Христа. Каждый человек должен чувствовать, что Христос прекрасен и мусульмане (порою ведь — неплохие ребята) так же должны это чувствовать, а они почему-то — ни в какую. И вот свершилось — сам Горный Старец познал, наконец, величие Христово, а вскоре и Нуреддин, не надо сомневаться, так же придёт ко Христу. И они все вместе будут молиться — и бывшие ассассины, и бывшие мусульмане — все станут христианами и вместе с франками построят такие замечательные храмы, каких ещё не было на земле. Ведь только за этим и нужен крестовый поход — чтобы все пришли ко Христу.
В рассказы об ассассинских мерзостях Вальтер никогда не верил, потому что вообще не считал такие мерзости возможными. Когда братья начинали говорить о том, что позволяют себе ассассины, он просто вставал и уходил, как человек, который не желает окунаться в нечистоты. Братьев Вальтер не осуждал, полагая, что они устраивают испытание его вере, он, осуждал, напротив, самого себя, чувствуя, что это испытание ему не по силам.
И вот теперь все испытания позади — ассассны принимают христианство, а скоро и войне конец. Ни войны, ни смерти, ни страданий Вальтер не боялся, но очень боялся греха, а на войне совсем без греха невозможно.
Посольство неспешно двигалось на север, уже приближались пределы триполийские. Вальтер старался держаться поближе к послу, потому что он здесь олицетворял весь Орден. но заговорить с послом, конечно же, не решался, стесняясь своей неучёности, а посол, он — вон какой, по всему видно, что мудрец. Вальтер бегло поглядывал на посла, проникаясь всё большим к нему уважением — какие строгие черты лица, какая глубина в глазах.
Посол заметил, что одноглазый рыцарь всё время на него восхищённо поглядывает и решил с ним заговорить, желая ещё больше усилить это восхищение:
— Не в тягость ли тебе, рыцарь, дальняя дорога? Всегда удивлялся, как это франки могут носить на такой жаре кольчуги.
— Ради святого дела — никакая дорога не в тягость, а кольчуга, это ведь очень хорошее средство для смирения плоти, — Вальтер, весьма смущенный тем, что посол к нему обратился, всё же остался доволен собой — хорошо ответил.
— Ты не прав, рыцарь, плоть — свята. Что угодно для плоти, то и для души хорошо.
Вальтер растерялся. Он ничего не понял, хотя почувствовал, что в словах посла что-то не так. Но не мог же он позорить Орден глупым молчанием и решил изречь нечто из разряда простых и очевидных истин:
— Весьма замечательно, что все ваши братья решили принять Христа.
— А ведь мы, рыцарь, всегда принимали Христа, всегда высоко его чтили. Как же иначе? Братство низаритов создано самим Христом, который пришёл к нам во плоти.
— Как это? — Вальтер опешил и почувствовал, что в его голове что-то начало ломаться.
— Да, да, не удивляйся. Всем известно, что братство низаритов создал великий Хасан ас-Саббах, но не многие знают, что в облике Хасана ас-Саббаха возродился сам Иисус Христос. Это великая тайна, но для наших новых друзей она теперь открыта, как и многие другие тайны.
Вальтеру стало плохо. Физически плохо — болезненная слабость разлилась по всему телу. Он даже не почувствовал гнева, лишь пустоту, в которой сразу же стало накапливаться что-то мутное, липкое, вязкое. Перед страшным богохульством, которое только что изрыгнул ассассин, простодушный рыцарь был совершенно беспомощен и беззащитен. С трудом ворочая языком, он смог выговорить лишь несколько слов:
— Не богохульствуй. Не надо. Нельзя.
— Вот в этом-то и беда христиан, — оживлённо затараторил ничего не почувствовавший ассассин. — Любую новую богословскую мысль вы сразу же объявляете богохульством. Но мы поможем вам раздвинуть границы религиозного мышления. Мы-то уже давно христиане, причём самые передовые христиане. Дело ведь не в обрядах. Хотя я, например, ни сколько не против того, чтобы пройти обряд крещения. Это нечто новое. Вы тоже сможете принять от нас много нового и куда более важного. Взять хотя бы отношение к телесным удовольствиям, на которые вы смотрите с испугом. Тело — замечательный инструмент, на котором можно исполнять самые разнообразные мелодии, несущие наслаждение. И чем больше таких мелодий, тем лучше, потому что разнообразие — от Бога. Вино, гашиш, утончённая еда, прекрасные женщины — годится всё. Бог хочет, чтобы мы наслаждались, это и есть рай на земле. Когда ты спишь с женщиной — это тоже одна из форм богослужения, и тут никакие ограничения не годятся. Можно это делать с самыми близкими родственницами, с сёстрами, например. Древние египтяне хорошо это понимали, есть и другие примеры.
С какого-то момента Вальтер перестал слышать ассассина, но липкая чернота всё больше и больше накапливалась в душе. Он почему-то не мог оторвать глаз от лица богохульника, ему стало казаться, что это уже не лицо, а какая-то бесовская маска, и вот, наконец, он явственно увидел перед собой омерзительную гогочущую дьявольскую харю. Сатанинское отродье, беззвучно шевеля губами, глумилось над бедным рыцарем.
Позднее Вальтер с трудом припоминал, как выхватил меч и раскроил ассассину череп. Словно со стороны смотрел он на то, как к нему бегут, потом скручивают руки за спиной и, кажется, что-то кричат. Побелевшие губы несчастного рыцаря шептали: «Погиб Вальтер. Нет больше Одноглазого».
Ахмад не любил Саладина, хотя и служил ему верой и правдой вот уже 12 лет. И про себя он всегда называл великого султана Салах ад-Дина Юсуфа ибн Айюба именно так, по-франкски — Саладин. Конечно, Ахмад уважал Султана, да ведь и было за что, но всю свою любовь он отдал давно умершему атабеку Нур ад-Дину, которого никогда не называл в подражание франкам Нуреддином. При всех достоинствах Саладина сравнение с Нур ад-Дином было для ныне здравствующего султана очень невыгодным. Нур ад-Дин был проще. Даже вспышки атабекова гнева, смотревшиеся не особо привлекательно, всё же показывали человека открытого, искреннего, не желающего выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Нур ад-Дин вообще никогда не думал о том, как он смотрится со стороны. Саладин, напротив, словно постоянно сам себя рассматривал. Он-то как раз никогда не срывался на подчинённых, точнее, он всегда рассчитывал момент, когда надлежит «неожиданного сорваться», так чтобы его гнев выглядел красиво и благородно, и летописцы за спиной султана усердно скрипели каламами, с восхищением записывая слова, якобы случайно вырвавшиеся из уст великого человека. Саладин, казалось, не столько делает джихад, сколько пишет историю великого джихада, то есть в общем-то историю собственного величия. Казалось, он не был ни добр, ни жесток, он просто знал, когда надлежит быть добрым, когда жестоким, с тем чтобы и то и другое смотрелось максимально эффектно, чтобы это был жест, который переживёт века. В итоге не только Восток, но и Запад восхищается Саладином, своим злейшим врагом. Поэты франков — глупцы, не способные отличить фальшивые бриллианты от настоящих, им лишь бы было побольше блеска в стихах. Про Нур ад-Дина они не поют, потому что не способны оценить подлинного величия простоты. Про Нур ад-Дина все забыли. Атабеку это, конечно, всё равно, он давно уже в раю. Не всё равно Ахмаду.
Почему Аллах не даровал атабеку ещё хотя бы пару лет жизни? Ведь, когда из-за убийства посла ассассинов, рухнули переговоры между ассассинами и франками, ничто не могло спасти Синана от благородного гнева Нур ад-Дина. Атабек в два счёта разобрался бы со щенком Юсуфом, который в своём Египте весь изошёл на лукавство, а после этого стёр бы в пыль все крепости Старца Горы. И Синана, и Саладина спасла только неожиданно последовавшая смерть атабека. Смерть, положившая конец ослабевшей династии Зенгидов. Саладин очень шустро подобрал под себя и Алеппо, и Дамаск.
Старый Усама ибн Мункыз не пошёл на службу к Саладину, сказав Ахмаду: «Мне поздно подстраиваться под нового правителя, да и не моя это уже эпоха. А ты иди к Юсуфу. Он умный, он тебя оценит. Служи ему. Больше никого нет». Усама вскоре умер, а Ахмад пошёл на службу к Юсуфу ибн Айюбу и ни разу об этом не пожалел, потому что ни разу не появилось ни одного более предпочтительного хозяина. Вскоре Юсуф стал султаном, а потом и Саладином, то есть легендой. Ахмад знал цену этой легенды, потому что сам её и творил — без удовольствия, но добросовестно.
Дважды Ахмад спас Саладина от убийц, посланных Синаном. Бывший ассассин, хорошо знавший тактику мастеров кинжала, без труда разрабатывал меры безопасности, вполне достаточные для того, чтобы успешно противостоять ассассинским проискам. Приёмы фидаев были довольно однообразны, они казались неотразимыми только тем, кого впечатляла зловещая театральность, которую они нагнетали вокруг своих акций. А уж Ахмад-то умел отличать, где реальное мастерство, а где дешёвая показуха — он мог гарантировать безопасность султана.
И всё-таки покушения, даже неудачные, утомляют, на чём и сыграл Ахмад, убедив Саладина в том, что с ассассинами надо покончить раз и навсегда. Ахмад хорошо знал самые надёжные и безопасные дороги, ведущие к Масиафу — резиденции Старца Горы. Войско султана, обложив ассассинов, имело все возможности уничтожить их. И вот тут произошло нечто совершенно неожиданное и для Ахмада, и для всех остальных. Саладин тайно встретился с Синаном, после чего осада была снята без объяснения причин и ассассины, стоявшие на пороге абсолютного разгрома, не претерпели никакого ущерба. Многие шушукались по углам о том, что за изменением воли султана стоит некая зловещая мистическая тайна. Ахмаду было смешно. Тоже мне — теорема Пифагора. Да всё там было очень просто. Встретившись, Саладин и Синан не только очень хорошо друг друга поняли, но и понравились друг другу. Они были во многом очень похожи, эти два великих лицедея. Саладин понял, что уничтожение Старца Горы не принесёт славы предводителю джихада, поскольку на Востоке было достаточно глупцов, которые считали Синана мусульманином. А вот, оставленный в неприкосновенности, Синан мог в подходящий момент стать хорошим оружием против франков, в первую очередь — тамплиеров — с позиций Синана было весьма удобно атаковать Кастель-Блан.
Саладин прекрасно знал, в том числе и от Ахмада, что Синан — никакой не мусульманин и даже более того — позор ислама. Для защитника ислама, если бы султан был таковым, казалось весьма логичным уничтожить богохульника, который считал себя выше пророка Мухаммада. Но Саладину было наплевать на ислам, он играл роль. И это была роль борца с крестоносцами. Всё, что не вписывалось в эту роль, всё, что не работало на развитие образа истребителя франков, по большому счёту, не интересовало султана.
Ахмад не раз спрашивал себя, действительно ли Саладин так ненавидит франков, крестоносцев, христиан, как любит об этом говорить? И Ахмад, наконец, понял — султан совершенно равнодушен к христианам, не испытывая к ним ни любви ни ненависти — вообще никаких сильных чувств. Джихад был ролью Саладина, но не был его душой.
Именно поэтому, а вовсе не из-за присущего ему благородства и великодушия султан с такой лёгкостью миловал и даже награждал христиан. Ахмад был поражён, когда Саладин подарил князю Антиохии Боэмунду несколько деревень в награду за его почтительность. Не правда ли, забавно — предводитель джихада, поклявшийся освободить земли Сирии от христиан, дарит сирийским христианам новые земли. Но перед рыцарями Саладин любил поиграть в рыцаря — тут он работал на западную составляющую своей легенды.
А можно бы вспомнить о том, что творил с христианами Юсуф ибн Айюб, когда захватил Египет. Он тут же возобновил все древние указы против христиан — приказал им носить особую одежду и пояс, запретил им ездить на лошадях и даже на мулах — только на ослах. Христиане не допускались ни к какой общественной должности, не могли громко молиться в церквях и употреблять колокола, не могли совершать крестные ходы. Стены церквей были обляпаны грязью, кресты сбивались с куполов.
Ахмад не то чтобы считал всё это совершенно неправильным. Тут можно бы и поспорить, но активная антихристианская позиция безусловно имеет право на существование в исламе. Ахмаду, однако, было смешно, когда сейчас, после взятия Иерусалима, он слышал, как франки начинают говорить, что Саладин всегда милостив к христианам после победы над ними. Ведь в Египте-то он глумился над христианами и втаптывал их в грязь уже после победы, когда они не представляли для ислама никакой опасности. И ладно бы ещё он, действительно, был приверженцем древних антихристианских законов, так нет ведь — сыграл роль и ему тут же стало наплевать — он с лёгкостью брал христиан к себе на службу, похоже, просто не интересуясь вероисповеданием новых подданных.
Сейчас, взяв Иерусалим, он благородно и великодушно дарует христианам свободу направо и налево — красуется перед Западом. А за несколько месяцев до этого, после Хаттина, он рубил головы сотням пленных христиан и с удовольствием наблюдал, как истязают связанных рыцарей. Тогда он красовался перед Востоком.
Ахмад спрашивал себя, есть ли в душе Саладина хоть одно настоящее сильное чувство — не на публику, не ради создания образа, а настоящее? Ахмад вскоре понял, что есть. Это ненависть к тамплиерам. Не к христианам вообще, а именно к тамплиерам. Рыцарей Храма он ненавидел всеми силами души, без показухи. Тамплиерам он рубил головы с искренним остервенением, даже не думая о том, что это несколько искажает благородный образ великодушного «рыцаря Востока». Тамплиерам, попавшим в лапы султана, пощады не было никогда и ни при каких обстоятельствах.
Почему? Ахмад долго не мог этого понять и, наконец, понял. Саладин не мог примириться с тамплиерами, не мог найти с ними общий язык именно по той самой причине, по которой он столь быстро примирился с Синаном и даже проникся симпатией к нему. И Саладин, и Синан, оба весьма любившие поразглагольствовать о религии, на самом деле были весьма равнодушны к вере, легко превращая религиозные убеждения в разменную монету политических игр, а чаще всего — в орудие личной славы, когда трудились над созданием образа борца за веру. Тамплиеры были тому прямой противоположностью. Не претендуя на личную славу, они безвестными умирали во славу своего Бога. Саладин и Синан никогда не пошли бы на смерть за веру. Нур ад-Дин искренне хотел умереть во славу Аллаха, тамплиеры столь же искренне умирали за Христа, всю свою жизнь, безо всякого желания покрасоваться, посвящая своим религиозным убеждениям. Этого Саладин простить тамаплиерам не мог, он знал, что они никогда и ни о чём не договорятся, при этом Саладин легко договаривался с такими христианами, как тот же антиохийский князь Боэмунд или иерусалимский король Лузиньян. Конечно же, и Синан, и Боэмунд, и Саладин, и Лузиньян были людьми искренне верующими, но не ради веры они жили.
Ахмад же, как и тамплиеры, полагал религию единственным смыслом жизни. Однажды Ахмад присутствовал при казни трёх пленных рыцарей-храмовников. Тогда он увидел рай. Тот самый «рай уже на земле». В глазах храмовников, когда они подняли их, помолившись перед смертью, стояло Небо — Царство Небесное, как называют рай христиане. Это было настоящее чудо. Говори после этого, что рай на земле невозможен, потому что наша жизнь несовершенна и греховна. Что же видели тамплиеры перед смертью, если в их глазах отражался рай? Смертники не обращали внимания на страшные приготовления к казни, они, казалось, не слышали грубых оскорбительных окриков палачей. Их лица были просветлёнными, радостными, спокойными. Рыцари, потерпевшие поражение, выглядели победителями рядом с суетливыми палачами, которые торопились прикончить их, только бы не видеть этих глаз. Тогда Ахмад понял, что рай должен начинаться здесь, на земле, а иначе и на Небе его не будет.
Суннизм сначала радовал Ахмада своей простотой и ясностью, а потом перестал удовлетворять — не было в нём глубины. И всё-таки Ахмад твёрдо держался суннизма. Он боялся сойти с этого незыблемого берега, зная, что самостоятельные поиски волнующих глубин погубят его, а не спасут. Он очень хотел дружить с тамплиерами, как и его покойный покровитель ибн Мункыз, но эмир был мудрым политиком, а Ахмад — всего лишь бродягой-богоискателем — так он себя понимал. Ему казалось, что дружба с тамплиерами весьма для него опасна. Может быть, и спасительна, но страх опять, как в молодости, заблудиться в тёмных религиозных лабиринтах перевешивал. Он не искал встречи с тамплиерами.
Впрочем, однажды Ахмад сделал робкий шаг в этом направлении. Ко двору султана прибыл посол тамплиеров. Не задержался — передав письмо и обменявшись несколькими фразами с султаном, сразу же отправился обратно. Не то было время для тамплиеров, чтобы пить щербет с эмирами. Когда храмовник уже готов был сесть на коня, Ахмад, преодолевая робость, решился:
— Господин.
— Да, — тамплиер спокойно, без высокомерия, достаточно дружелюбно, но всё же не улыбаясь посмотрел на Ахмада.
— Не знаете ли вы тамплиера, которого зовут брат Жан?
У нас в Ордене каждый третий — «брат Жан».
— Нет, такой у вас только один. Он занимается… особыми делами.
— А… это, должно быть, наш сенешаль. Он убит два года назад ассассинским кинжалом. Добрый был рыцарь.
— Но ведь ассассины не убивают тамплиеров.
— Как видишь, для сенешаля они сделали исключение. А ты был знаком с ним?
— Так, один раз видел. Хотел поговорить.
Тамплиер был удивлён расстроенным и, пожалуй, даже убитым видом этого странного мусульманина. Рыцарь хорошо знал сенешаля, и в глазах советника султана он увидел нечто напомнившее ему брата Жана. Что надо этому человеку? На всякий случай тамплиер спросил:
— Я могу чем-нибудь помочь?
— Нет, благородный рыцарь, вы ничем не можете мне помочь.
Сбылась мечта Усамы ибн Мункыза — в освобождённом Иерусалиме на Храмовой горе вновь совершается намаз. Протяжные крики муэдзина вновь призывают правоверных в мечеть Аль-Акса, уже очищенную розовой водой от христианской скверны. От тамплиерской скверны. На Харам эш-Шериф больше не мелькают белые плащи. Отныне хозяева здесь — мусульмане. Отныне и вовеки.
Ахмад, покинувший Аль-Аксу после намаза, подумал о том, как счастлив был бы Усама, увидев это торжество ислама. Да, ибн Мункыз очень хотел увидеть освобождённую мечеть Аль-Акса, но, может быть сейчас в душе Усамы творилось бы нечто подобное тому, что творилось в душе Ахмада — какая-то смутная тревога, неудовлетворённость, ощущение того, что всё идёт не так.
Ахмаду вдруг очень захотелось, чтобы на Харам эш-Шериф промелькнул белый плащ. Зачем? Христиане — враги! Поверженные враги. «Не знаю зачем, не знаю!» — молча закричал Ахмад в ответ одёрнувшему его внутреннему голосу. Он напряжённо смотрел на вход в Аль-Аксу. И вдруг явственно представил себе, как из мечети вышел брат Жан. Он посмотрел на Ахмада, дружелюбно улыбнулся и сказал: «Рад встрече. Поговорим? Не волнуйся, Усама не будет против».
Саладин доверял Ахмаду. Султан постоянно видел в глазах бывшего ассассина напряжённое недоверие, порою даже осуждение, но именно поэтому он понимал — этот парень не любит и не умеет лгать. Льстецов и подхалимов, готовых в любой момент переметнуться к врагу, и так уже было достаточно вокруг султана, а вот таких — строптивых, непокорных, но искренних и честных — не лишка. Такие если уж служат, то служат и никогда и не предадут.
Султан не ошибался. Ахмад никогда не предал бы своего повелителя. В его душе попросту отсутствовало то, что делает возможным предательство. К тому же, несмотря на все противоречия, Ахмад уважал султана. Было в душе Салах ад-Дина нечто возвышающее его над массой заурядных людей, нечто совершенно чуждое мелочным и ничтожным устремлениям толпы. Салах ад-Дин жаждал великого и явно был к нему способен. Вот только что это за величие, какова его природа? Любая попытка ответить на этот вопрос причиняла Ахмаду душевную боль.
Отшумели праздничные торжества после взятия Иерусалима. Султан с малой свитой отправился в Яффу, взяв с собой Ахмада. Ахмад обрадовался — он вырос в горах и видел море только дважды, причём мельком, а сейчас представился случай получше рассмотреть эту фантастическую стихию.
Раньше Ахмад видел море только спокойным, он не знал, что такое шторм и представить себе не мог, настолько это ужасно, а сейчас штормило. Это был ещё не настоящий шторм, так, волнение средней силы, но Ахмаду и этого было лишка.
— Пойдём на море? — запросто сказал султан Ахмаду.
— Море сейчас ужасно. Может быть, подождём хорошей погоды? — удивлённо ответил Ахмад.
— Боишься? — хитро и добродушно улыбнулся султан.
— С вами, мой повелитель, я не боюсь ничего, — в такие минуты Ахмад чувствовал, что султан очень дорог ему.
Салах ад-Дин заметил его искренность и оценил её. Они отправились к морю.
Огромные волны вздымались и ревели, словно сказочные чудовища. Ахмад, по натуре очень впечатлительный, сейчас почувствовал нечто большее, чем страх — мистический трепет. Он посмотрел на султана и увидел на его лице дикую радость, страшное перевозбуждение. Султан зловеще улыбался, вперив взгляд в бушующие волны. Казалось, таким взглядом можно было укротить море.
— Страшно?! — громче шума волн прокричал Саладин и дико расхохотался.
— Любому станет страшно. Неужели по морю можно путешествовать?
— Нисколько не страшно! И мы отправимся туда, в это бушующее море.
Ахмад растерянно и восхищённо посмотрел на султана. Ещё более возбуждённый восхищением слуги, султан продолжил:
— Я хочу сообщить тебе то, что у меня на душе. Когда Аллах передаст в мои руки все царства Востока, я разделю их между моими сыновьями, а сам с лучшими войсками отправлюсь через эту ревущую пучину на завоевание западных стран и островов. Я не сложу оружие, пока останется хотя бы один христианин на земле. Мы покорим весь христианский мир — Францию, Италию, Германию. Да поможет нам Аллах скорее овладеть ими!
Ахмад перестал видеть море, оно больше не пугало его. Даже сумасшедший замысел султана не сильно его испугал, к тому же из-за рева моря он половины не расслышал. А вот лицо Саладина. Ахмад не мог оторвать глаз от демонической маски злобной радости, в которую превратилось лицо его повелителя. И глаза. чёрное пламя полыхало в глазах великого султана Салах ад-Дина Юсуфа ибн Айюба.
— Ну вот и всё, Андрюшенька, надо нам с тобой прощаться, — ласково и грустно улыбнувшись, сказал Сиверцеву Шах.
— Надоел я вам? — Андрей улыбнулся широко и немного нахал— ьно.
Ну что ты, дорогой. Мы всегда будем помнить, что ты спас нашу деревню. И за Саида тебе спасибо. Нашего Сашку-Саида. Ты вернул его к жизни. Из этого ассассина получится добрый христианипн. Вам бы и ещё неплохо было пообщаться с ним, обоим вышла бы польза, однако — увы, тебя призывает твой начальник, командор Князев, — Шах протянул Андрею конверт.
Раскрыв конверт, Сиверцев обнаружил там какой-то странный паспорт. Паспорт был на его имя и с его фотографией. Повертев в руках сей документ, Андрей понял — паспорт ооновский.
— Без меня меня женили, — добродушно усмехнулся Сиверцев.
— Ну так там у вас в Ордене, наверное, дисциплина, — развёл руками Шах.
— Не без этого. И куда же надлежит отбыть новоиспечённому гражданину мира?
— Ты посмотри, там в конверте ещё билет на самолёт «Тегеран-Иерусалим». И немного долларов.
— А на словах Дмитрий ничего не просил передать мне?
— Только то, что тебя встретят в аэропорту. А до Тегерана мы проводим тебя.
В конце декабря 1991 года самолёт, на котором летел Андрей Сиверцев, приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Едва он миновал все надлежащие контроли, как к нему подошёл молодой мужчина, имеющий наружность охранника солидного банка — костюм с галстуком, широкие плечи и невозмутимая физиономия.
— Здравствуйте, господин Сиверцев, — мужчина сдержанно улыбнулся.
Андрей всмотрелся в черты его лица и изумлённо воскликнул:
— Саша!
Это был оруженосец Дмитрия, первый человек Ордена, которого в своё время встретил Андрей, тот самый Саша, вместе с которым Князев покинул Афган. Сиверцев готов был броситься к нему в объятия, но Саша спокойно заключил:
— Он самый. Пройдите в машину.
Они ехали молча, потом Андрей усмехнулся от неожиданной мысли:
— Насколько мне известно, Александр, ты уже рыцарь. Кажется, послушнику не по чину, чтобы его встречал рыцарь в качестве личного шофёра?
— Вы совершенно адекватно оценили ситуацию, господин Сиверцев. Вам действительно не по чину встреча на таком уровне. Послали меня, потому что мы знаем друг друга в лицо. Другие люди Ордена из тех, кто сейчас в Иерусалиме, либо вам не знакомы, либо рангом ещё выше меня. Так что пришлось мне смирить мою рыцарскую гордыню, — Александр едва заметно улыбнулся.
Сиверцев помнил, что Саша — человек очень замкнутый, закрытый. С ним не могло быть типичной «встречи двух русских на чужбине». Впрочем, сейчас Андрей был этому рад, болтать ему и самому не хотелось, он чувствовал себя очень напряжённо. Не случайно же Дмитрий вызвал его и не куда-нибудь, а в Иерусалим. Было от чего нервничать.
Они подъехали к небольшой гостинице на окраине города. В коридоре Саша жестом указал Андрею на одну из дверей и сразу же исчез. «Господи, помоги», — прошептал Сиверцев и открыл дверь.
В небольшом, но уютном номере сидел в кресле респектабельный джентльмен в тройке и читал газету. На маленьком столике рядом с креслом стояла изящная кофейная чашечка. Джентльмен, казалось, излучал самодовольство, всё в нём было исполнено претензии на аристократизм — и дорогой элегантный костюм благородного серого цвета, и непринуждённая, несколько манерная поза, и небрежность, с которой он держит в руках свежую израильскую газету.
Роль. Это была одна из тех ролей, которые так любил примерять на себя командор Князев. Играл Дмитрий чисто, без напряжения, но Андрей знал, какой он на самом деле. А может, не знал?
— Ну здравствуй, бродяга, — Дмитрий отбросил газету и поднялся из кресла навстречу Андрею. Сейчас своей хищной улыбкой, порывистым жестом и демонстративной грубостью обращения он больше напоминал какого-нибудь уголовного авторитета.
— Здравствуйте, мессир, — просто сказал Андрей.
— Добрался без проблем?
— Всё нормально.
— Наслышан о твоих подвигах в Персии.
— Да какие подвиги, Пара удачных выстрелов.
— Иногда одного выстрела достаточно для того, чтобы спасти мир. Надо только знать время и место.
— А мне не надо знать. Я всегда буду там, куда меня именем Господа пошлёт мессир.
Дмитрий одобрительно кивнул. Взгляд Андрея упал на газету:
— Вы владеете ивритом, мессир?
— Слабо, но достаточно для того, чтобы понять основное содержание газетной статьи.
— Что пишут?
— Израильтяне и палестинцы всё никак не могут поделить тамплиерскую Газу. И не поделят никогда, потому что ни тем, ни другим Бог не отдаст Газу. Бог навеки отдал её тамплиерам.
— Вы думаете, тамплиеры смогут когда-нибудь вернуться в Газу?
— Я христианин, Андрюша, к тому же — разведчик, а потому знаю — может быть всё. Вот, к примеру, думал ли ты когда-нибудь, что наш «Союз нерушимый» может рухнуть за несколько дней, словно карточный домик?
— А разве Союзу грозит крушение?
— Уже не грозит, потому что Советского Союза больше не существует.
— Не может быть!
— Вот видишь. Оказывается, всё может быть. Сошлось в одной точке действие нескольких факторов, о существовании которых обыватели даже не подозревали, и Нерушимый разрушился.
— А что вместо Союза?
— Пятнадцать суверенных государств.
— Как ты к этому относишься?
— Противоречиво. Долгий разговор. В любом случае, больно от мысли о том, что великая Российская империя, созидавшаяся десять веков, приказала долго жить.
Дмитрий так и не предложил Андрею сесть, забыл, наверное. Андрей сам, без приглашения плюхнулся на кровать, на что командор обратил мало внимания. Кое-как оправившись от шока, Сиверцев нашёл в себе силы говорить:
— Я помню о том, что Орден вне политики, но определённые последствия для тамплиеров крушение Союза всё же будет иметь?
— В политике для Ордена имеет значение всё, что содержит религиозную составляющую. А тут самое первое и очевидное последствие — появление на карте новых исламских государств — Таджикистан, Узбекистан, Туркмения и так далее. А ведь никто не знает, закончился ли распад?
— Чему ещё распадаться?
— А ты думаешь, РСФСР — принципиально неделима? Есть весьма серьёзные силы, которые попытаются отломить от неё приличные куски. Чечено-Ингушетия, Дагестан, Татарстан — как бы они тоже не стали суверенными исламскими государствами. Ты понимаешь, о чём речь?
— Резко возросла роль исламского фактора в мире и эта роль, похоже, и дальше будет возрастать.
— Так и есть. А про Эфиопию ты тоже не знаешь?
— Откуда? Я в начале года покинул Эфиопию и с тех пор газет не читал и радио не слушал.
— Возрадуйся и возвеселися. Режим Менгисту Хайле Мариама рухнул ещё в мае.
— А зачем столько иронии? Мерзкий режим и, слава Богу, что он рухнул.
Князев тяжело вздохнул:
— Мариам, конечно, не был подарком, и хорошо, наверное, что в Эфиопии объявлены демократические преобразования. Но знаешь, к чему всё сводится на практике? Вместо диктатуры амхара — диктатура тиграев, а тиграи, как тебе известно, мусульмане. И тут мы имеем дело с усилением исламского фактора. Африка вообще стремительно исламизируется. В конце 80-х на одного обращающегося в христианство африканца приходилось 3 обращающихся в ислам. И в США огромное количество негров принимают ислам. Африка, Америка, Европа — исламизируется весь мир.
Теперь уже Андрей тяжело вздохнул:
— Знаешь, Дмитрий, в Персии у меня было время, решил продолжить свои опусы. Хотелось разобраться со всеми этими ассассинами, нурединами, саладинами. До сих пор в голове звон стоит: дин-дин-дин. Так вот, Боаэддин писал, что в 1188 году, вскоре после взятия Иерусалима, Саладин всерьёз планировал отправиться за море покорять христианскую Европу. Этот бодрый старик никак не желал успокоиться вплоть до полного уничтожения всех христиан. А что получилось? Не успел Саладин отправиться за море, как из-за моря хлынули на Саладина армады Ричарда Львиное Сердце. Поход Ричарда часто называют неудачным, потому что он не сумел отбить Иерусалим, но это поверхностная оценка. На самом деле Ричард отбил половину Сааладиновых завоеваний — Акру, Яффу и множество крепостей побережья. Благодаря победам Ричарда крестоносцы смогли ещё сто лет продержаться на Святой Земле, а бодрый старик Саладин изнемог-таки и умер. Накрылся медным тазом его поход за освобождение Европы от христианства.
— Это ты к чему?
— Да к тому, что на всякого Саладина найдётся свой Ричард.
— Дай Бог, дай Бог. Вот только я пока довольно смутно представляю, как должен выглядеть современный Ричард, если учесть характер современного Саладина.
— И каков его характер?
— Дело в том, что саладинова паранойя давно уже свила себе гнездо в сердцах европейцев.
— Сами европейцы столь охотно и стремительно освобождают Европу от христианства, как это не сумел бы сделать ни один исламский завоеватель. В Европе каждый год закрываются всё новые и новые христианские храмы — они просто не нужны больше, туда никто не ходит. Никакой джихад не смог бы сокрушить такого количества христианских храмов. Зачем исламистам уничтожать христиан? Да они их скоро днём с огнём найти не смогут. Разрозненные христианские общины тонут не в море ислама, а в море безбожия. Одновременно с этим набирает силу ползучая, вялотекущая миграция мусульманских народов в Европу. У них рождаемость растёт, а у постхристианских народов падает.
— Потому и падает, что «пост…».
— Так, но и это ещё не всё. Тысячи европейцев принимают ислам во Франции, Италии, Англии, Дании, Германии. Тебе не кажется, что саладинова мечта осуществляется полным ходом? Европа исламизируется. Помнишь, Фридрих Барбаросса отравился одновременно с Ричардом Львиное Сердце бить Саладина, но по дороге глупо погиб, и почти все его немцы были рассеяны. Они погибли, но не проиграли, потому что умерли христианами. А сейчас? В рядах бундесвера с каждым годом увеличивается количество мусульман, как из числа этнических, так и европейцев, принявших ислам. Саладину столько счастья и не снилось. Представь себе, что воины Барбароссы приняли бы ислам и вместе с Саладином вдарили бы Ричарду. А что по-твоему будет делать исламизированный бундесвер?
— Но Орден!
— А что — Орден? Увеличить в Европе рождаемость мы не можем. Монахи как ни как. Затащить большинство европейцев в храмы тоже не можем. Палкой в рай не загоняют. Снизить миграцию из стран ислама в Европу — задача, которую могут ставить перед собой только фантазёры. А всё это по совокупности — лицо современного Саладина. И как перед лицом такого врага ты представляешь современного Ричарда?
— Мессир, вы же знаете в сто раз больше меня. Вы же давно сделали все необходимые выводы и прекрасно знаете, что надо делать.
— Мало ли, что я знаю. Ты хочешь быть тамплиером или тупым бездумным салдафоном? Выпить, кстати, хочешь?
— От коньяка бы не отказался. А лучше — кофе с коньяком.
— Губа не дура.
Дмитрий разогрел на плитке в турке остатки кофе, который варил для себя, извлёк из бара бутылку «Камю», смешал кофе с коньяком в своей чашке и проворчал:
— Чистую чашку ради тебя пачкать не стану. Довольно с послушника того, что за ним ухаживает командор.
— Видимо, сегодня мой день. Я даже кофе буду пить из грязной чашки командора — ещё одна честь, так же не заслуженная мною, как и всё остальное.
— Наслаждайся. Не долго тебе осталось.
С удовольствием сделав несколько глотков, Сиверцев задумчиво начал:
— Ричард Львиное Сердце не только спас крестоносное государство, но и заметно укрепил Орден Храма, кроме прочего подарив тамплиерам Кипр, который, после падения Акры, стал главной резиденцией храмовников. Ричард фактически обеспечил Ордену продолжение бытия после разгрома. В уцелевшем благодаря нему Ордене Ричард продлил себя, свою суть — крестовый поход. Орден жив, значит жив и Ричард.
Андрей допил кофе, неторопливо поставил чашечку на столик и продолжил:
— Каким должен быть современный Ричард? Что может Орден сегодня? Прежде всего — объединить, консолидировать всех европейцев, готовых отдать за Христа жизнь, готовых для защиты христианства взять в руки оружие.
— В основном, примерно так, — заключил Князев.
— Вот только, когда я думаю об этом, мессир, меня не покидает чувство бессилия. Океан безбожия, море ислама, а рядом — тоненький ручеёк Ордена. Что мы можем в этом мире?
— То, что мы можем, зависит от того, что мы хотим. Исламу нужны миллионные армии, потому что он стремится подчинить себе весь мир — и безбожный, и христианский, и любой. Геостратегическая цель ислама — мировое господство. У христианства такой цели никогда не было, и уж тем более — нет сейчас. Даже первый крестовый поход был направлен на освобождение Иерусалима, а не на разгром Мекки и Медины. Христиане никогда не претендовали на собственно исламские территории. Зачем нам силы, равновеликие исламским? Для того, чтобы защищать христианство и христиан в очагах религиозного напряжения, где ситуация время от времени обостряется, нужны немногочисленные, мобильные, высокопрофессиональные боевые подразделения, элитные группы, каковыми Орден и располагает.
— Вы думаете, нам придётся защищать христиан и христианские святыни от исламистов?
— Мы не прогнозируем тотальной, общемировой угрозы такого рода. Разве что на пространстве бывшего СССР, на Кавказе, например, или в Средней Азии, могут вспыхнуть конфликты исламистов с собственно христианами, а не с европейцами вообще. Но это будут локальные проблемы, порешать которые вполне возможно малыми силами. В глобальном плане Ордену вряд ли предстоит затяжная война с исламом. Первоначальная задача Ордена в отношениях с исламским миром — наглядно продемонстрировать, что крестоносцы существуют, и в случае необходимости в некоторых точках они вполне способны оставить исламистов без зубов, а надо будет — и без голов. Это надо не для того, чтобы начать вселенский крестовый поход против ислама, а, напротив, для того, чтобы сделать возможным конструктивный диалог между исламом и христианством. Не диалог ислама с безбожной Европой — это вообще не наша тема, пусть разбираются, как хотят. Диалог именно с христианством — реальным, жертвенным, героическим, а другого христианства и нет. Ислам по природе своей может разговаривать только с силой, Орден покажет ему силу, и тогда мы будем разговаривать.
— Извините, мессир, что прерываю, — Сиверцев улыбнулся, — недавно услышал хороший анекдот. Перед богослужением в церковь врываются двое в масках с автоматами и дико орут: «Ну, кто хочет получить пулю за Христа? Может остаться. Остальные — вон отсюда!». Толпа «верующих» мгновенно разбежалась, в храме остались несколько человек. Тогда «террористы» спокойно снимаю маски, из алтаря выходит священник и, мило улыбнувшись, говорит: «Насколько я понимаю, все верующие в сборе? Тогда начинаем богослужение».
Князев улыбнулся:
— Да, я именно об этом. Сила христиан — не в готовности и способности убивать, а в готовности и способности умирать. Задача Ордена — собрать и сплотить героическую элиту христианства. Неважно, сколько нас будет. Ты увидишь, что нас будет немало, но это не важно.
— Нужна ли большая группа для того, чтобы умереть за Христа? Но с представителями такой христианской группы исламская героическая элита будет разговаривать на равных. У них-то элита тоже не велика, ещё надо посмотреть, чего стоит массовость, которую демонстрирует ислам. А с настоящими мусульманами мы не только сможем дружить, но даже и определим некоторые общие задачи.
— Какие это могут быть задачи?
— Связанные с главной целью существования Ордена Христа и Храма. Эта цель станет известна тебе через несколько дней. Послезавтра мы намерены принять тебя в Орден. Ты готов?
Андрей встал, весь подобрался и, почти не изменившись в лице, пристально посмотрел в глаза командору:
— Риторический вопрос, мессир.
— Это не риторический вопрос, а исполнение формальности. Итак?
— Если это будет угодно Господу, мессир.
— Добро, — Дмитрий подошёл к Андрею и сдержанно обнял его за плечи. — Напутствия и пожелания ещё впереди. Пока не будем ничего говорить. Кстати, сейчас в Иерусалиме — и Лоуренс, и отец Августин — все твои наставники. Облачим тебя в тамплиерский плащ и ответим на все твои вопросы. Понимаю твоё состояние, но пока постарайся расслабиться. Может быть, ещё кофейку с коньячком?
— Не откажусь.
— Давай, я свежего заварю.
Командор вертелся с кофе, Сиверцев, снова присев на кровать, молчал. Подав Андрею чашку, источавшую чудный аромат и отхлебнув из своей, Дмитрий очень спокойно сказал:
— Да, ведь ещё одна новость есть. Великий адмирал отдал Богу душу. Ушёл наш летучий храмовник. Я присутствовал при его кончине. Он просил тебе письмо передать.
— Мне?! Да он и видел-то меня один раз мельком.
— Я помню этот один раз. Он несколько секунд очень внимательно смотрел тебе в глаза. Для него это очень много. Тебе трудно даже представить, насколько это необычный человек. Вот письмо.
— Можно читать?
— Да, конечно. Я не смотрел, но уверен, что там лишь несколько строк.
Андрей развернул лист бумаги. Письмо было на русском:
«У меня к тебе просьба, Андрей. Когда Бог приведёт тебя на Святую гору Афон, найди скит <…> и спроси там монаха <…>. Покажи ему это письмо и он передаст тебе нечто от меня. Что с этим делать, помолившись, реши сам. Это не срочно. Специально ради этого на Афон не рвись. Придёт время — поймёшь, что пора».
И всё. Что называется, ни «здравствуй», ни «до свидания». Андрей был поражён тем, что адмирал обратился к нему, как к хорошо знакомому человеку. С недоумением он протянул письмо Дмитрию. Тот прочитал и грустно улыбнулся:
— Его стиль. Он никогда и ничего не объясняет, но действует безошибочно, поверь мне. А комментировать его действия — занятие бессмысленное. Пусть всё будет так, как он написал, а он написал — это не срочно. Давай озаботимся твоим завтрашним днём. День накануне вступления в Орден Христа и Храма — особый день. Организуем для тебя любую программу, какую пожелаешь.
— С утра, конечно — в храм Гроба Господня. Побуду там, сколько побудется. Потом — на Храмовую гору. И всё. Больше ничего не надо.
— Здраво. Но Храмовая гора. Уже восьмое столетие это самая страшное место на земле для каждого храмовника. Ты ведь понимаешь.
— Да. Мне нужна эта боль. Может быть, я увижу, как у входа в Аль-Аксу промелькнёт белый плащ тамплиера.
Книга вторая
Сержант Ордена
События, которых очень долго ждёшь, когда происходят — не радуют. Цель, к которой идёшь многие годы, по достижении редко бывает похожа сама на себя. Странная опустошённость заполняет душу путника, достигшего, наконец, заветных рубежей. Андрей Сиверцев хорошо помнил об этом, а потому и не ждал от вступления в Орден никаких особых ощущений, отнюдь не полагая, что за пару часов из него сделают нового человека.
Он стал тамплиером, но что это значит? Может быть, он уже был тамплиером задолго до вступления в Орден, а, может быть, и сейчас ещё не стал настоящим храмовником. Стать настоящим воином-монахом — это очень много. Как и когда это совершается? Можно сколько угодно трогать свои руки и дёргать себя за уши, при этом неизбежно убеждаясь, что они у тамплиера такие же, как и у любого обычного человека. Ритуал посвящения означает лишь одно — требования к нему теперь будут предъявлять, как к настоящему, полноценному члену Ордена, а вопрос его внутреннего соответствия этим требованиям, может быть, навсегда останется открытым. Андрей с грустью смотрел на новенький чёрный плащ сержанта Ордена. Примет ли его когда-нибудь Христос в Своё Небесное воинство? Только это имеет значение.
Его посвящение в Орден прошло в небольшом православном храме на окраине Иерусалима. Здесь всё было таким трогательно русским, что душу Андрея невольно защемило от неожиданно нахлынувшей тоски по Родине. Все последние годы он упорно не желал признать, что испытывает гнетущую ностальгию, старательно внушая себе, что его Родина — там, где Орден, там, где братья, там, где честь и вера. В значительной мере это так и было, но России ему всё-таки не хватало, и сейчас это чувство стремительно вырвалось на поверхность, не оставляя никаких сомнений в своей подлинности. Ностальгия захлестнула его именно тогда, когда он окончательно связал свою судьбу с наднациональным Орденом. Если бы его посвящение проходило в Секретум Темпли — всё было бы по-другому, а здесь, посреди этой фактически русской церквушки. Орден очень мудр. Иерархи ничего не делают случайно. Видимо, сейчас очень важно напомнить о том, что достоинство русского офицера — неотчуждаемо. Что ж, его самопознание через Орден ещё только начинается, сейчас в его душе, по всей видимости, вызревает некое новое качество, надо лишь проявить осторожную чуткость, не дёргаться, не суетиться, не рвать в душе то, что начинает срастаться само по себе и спокойно наблюдать со стороны за изменениями внутри себя. Всё хорошо. Да, конечно же, всё весьма неплохо.
На его посвящении присутствовали и отец Августин, и сэр Эдвард Лоуренс. Андрей был счастлив видеть своих дорогих учителей. На следующий день Дмитрий, Августин и Лоуренс намерены были рассказать Андрею про Орден всё, что ему теперь надлежало знать. Но, когда Сиверцев на завтра пришёл в храм, застал там только сэра Эдварда, который пояснил:
— У отца Августина дела в патриархии, а Дмитрий не пришёл потому, что об Ордене мы должны рассказать, только когда соберёмся все вместе.
— Тогда, может быть, сэр Эдвард, вы расскажете о себе? Я ведь до сих пор ничего про вас не знаю.
— Да было бы, что рассказывать.
— Лучше вы не смогли бы начать.
Ещё через день история повторилась — Андрей увидел в храме только отца Августина, даже обрадовавшись этому — всё происходило в своё время.
— У Лоуренса дела в местном банке, — сказал священник.
— Тогда, может быть…
— Конечно же, мой друг.
А ещё через день куда-то исчезли уже все иерархи. Алтарник уведомил Сиверцева, что никого из них не будет неделю. Ни чуть не опечаленный, Андрей вернулся в гостиницу и извлёк заготовленную на всякий случай тетрадку.
— Придёт конец владычеству саксов, — сказал суровый воин-кельт могильным голосом.
— Вернётся король Артур, и бритты вновь восторжествуют, — прошипела рыжеволосая девушка с глазами потусторонними, как у древней прорицательницы.
— Эскалибур разящей молнией сверкнёт над головами захватчиков, — подхватил эстафету седовласый старик, весьма похожий на друида.
— Британия для бриттов! — сильным, упругим шёпотом провозгласили два десятка решительных и неустрашимых кельтов, плотным кольцом стоявших вокруг небольшого костра, разведённого в руинах древнего замка.
Замок возвышался на скале, обрывающейся в море. Стояла мрачная ночь, даже луна не смела заглядывать в руины, где собрались последние кельты XX века. Словно ожившие древние герои, в величественных синих одеяниях, они стояли, опираясь на огромные мечи. Отсветы пламени играли на их мужественных и вдохновенных лицах.
Как мы уже сказали, луна заглядывать сюда не смела, хотя и могла бы, потому что от древнего замка остались одни стены. А, может быть, ночному светилу, за века повидавшему немало всякого шутовства, было просто неинтересно сюда заглядывать. Даже если бы сюда заглянул режиссер не самого продвинутого провинциального театра, он и то вряд ли заинтересовался бы этим довольно фальшивым действом, которое устроили респектабельные британцы, изображая из себя древних кельтов. Впрочем, нет, подождите-ка, С некоторого момента режиссёру, возможно, стало бы не скучно.
В проёме стены смутно обозначилась фигура рыцаря в длинном плаще неразличимого цвета и цилиндрическом шлеме, закрывавшем всё лицо. Длинный двуручный меч рыцарь держал в одной правой, спокойно направив клинок острием в землю. Должно быть, «кельты», увлечённые собой, и внимания не обратили бы на появление этого персонажа — свет костра едва достигал до пролома в стене, а, может быть, его приняли бы за одного из своих, опоздавшего к началу действа. Но рыцарь вдруг дико расхохотался. И было в этом смехе столько натуральнейшего ледяного презрения, что предполагаемый режиссёр мол бы задать себе только один вопрос: «Почему сей дивный драматический талант до сих пор не в моей труппе?». О, не знал тот режиссёр, что вовсе не было тут никакой игры, и в поведении рыцаря проявили себя таланты отнюдь не театрального свойства. Но кто же предполагает увидеть на сборище ряженных настоящего рыцаря?
На лицах «кельтов» отразились крайняя растерянность.
— Кто вы, мистер, и что вам здесь нужно? — стараясь держаться как можно спокойнее, спросил старенький «друид». От неожиданности старичок перепутал роли, изображая теперь непроницаемость офисного клерка, да и это у него не очень получалось.
— Сакс!!! — дико заорал незнакомец. От такого голоса, пожалуй, даже рыцарям короля Артура стало бы не по себе, что уж говорить про добропорядочных обывателей, решивших поиграть в древность. — Я вызываю на бой презренных кельтов, всех сразу, — продолжал рычать рыцарь. — Вы при мечах, так попытайтесь же прикончить столь ненавистного вам сакса!
— Мистер, здесь проходит мероприятие, разрешённое мэрией. Немедленно уходите. Мы сейчас полицию позовём, — друид окончательно превратился в заурядного представителя отнюдь не героического офисного племени. Он словно пытался выставить за дверь клиента, беспардонно заявившегося в обеденный перерыв.
— Бритты позовут англосаксонскую полицию? — рыцарь опять презрительно расхохотался и сделал несколько ловких и красноречивых взмахов мечом.
И тут на встречу возмутителю спокойствия шагнул крепкий «кельт» лет сорока, сделав несколько таких же ловких взмахов. Все ожидали, что непрошеный гость сейчас засыплет его оскорблениями, но тот не проронил ни слова, сразу же встав в боевую позицию. Первый удар «кельта» был явно рассчитан на то, чтобы выбить меч из рук незнакомца, но тот красиво ушёл из-под удара, не позволив чужому железу коснуться своего клинка. Раздухарившийся «кельт» нанёс ещё один удар, незнакомец опять уклонился. «Кельт» пришёл в бешенство, кажется, позабыв, что мэрия не выдавала ему лицензии на убийство — он начал бить по-настоящему, явно пытаясь прикончить незнакомца. Другие кельты окаменели от ужаса.
Эти люди не были ни ролевиками, ни историческими реконструкторами, они действительно являли собой патриотов кельтской Британии, но предпочитали ограничиваться такими вот театрализованными представлениями, мало чем отличаясь от поклонников Толкиена. Теперь в воздухе запахло реальной кровью, и тут уж им было даже не важно, кто победит — если прольётся кровь, тогда конец всей их обывательской респектабельности, кельтский клуб потеряет доверие властей, их возьмут на заметку, как экстремистов, а никто из них не был готов ради «кельтской идеи» пожертвовать хотя бы малой толикой своего благополучия.
Таинственный рыцарь, казалось, специально затягивал поединок, он уходил из-под ударов, уворачивался, даже не пытаясь поразить «кельта», а последний давно уже сбил дыхание, его удары становились всё более нелепыми и неуклюжими. Наконец, это надоело незнакомцу, и он просто поставил противнику подножку. Кельт грузно плюхнулся на живот, и тот час железная ступня впечатала его в землю. Рыцарь, во время поединка не проронивший ни слова, вновь дико заорал:
— Ну что, ничтожные кельты? Кто ещё хочет покушать родной землицы?
Несколько «кельтов» сразу же выскользнули из руин, спасаясь бегством, старый «друид» ещё пытался поправить ситуацию:
— Немедленно прекратите это безобразие!
Но рыцарь не удостоил его ответом, обращаясь сразу ко всем:
— Теперь вы поняли, как мы завоевали вашу землю? Один против двадцати! Вон отсюда все!
Рыцарь сделал несколько коротких взмахов мечом, медленно наступая на сбившихся в кучу «кельтов». Те, словно только этого и ждали, толкаясь, бросились в проём. Вскоре у догоравшего костра осталась только рыжая «прорицательница», она словно окаменела. Рыцарь надвинулся на неё и, слегка кольнув в плечо мечом, с хамской развязностью обронил:
— Женщины достаются победителям?
— Ты не посмеешь, — еле выдавила из себя рыжая.
— Не посмею? Не захочу. Пошла отсюда, дура, — последние слова рыцарь произнёс уже ледяным шёпотом.
Красотка, кажется, мучительно пытаясь вспомнить правила управления собственными ногами, странно вихляясь, покинула руины. Рыцарь, оставшись один, постоял немного в полной неподвижности и снял шлем. Это был мужчина лет тридцати, белокурый, голубоглазый. Тонкие черты его благородного лица не выражали ни усталости, ни радости победителя. Он выглядел, скорее, печальным и даже обиженным, как будто это его только что побили. Костёр уже совершенно догорел, но начало светать, и руины понемногу прорисовывались в полумраке. Он обошёл их, по-деловому рассматривая, но в его беглых взглядах на древние камни не было ни подлинного интереса, ни любопытства. Так он бродил по «завоёванному замку» минут двадцать, явно выжидая время, потом шагнул к проёму, осмотрелся и быстро, энергично зашагал к машине, оставленной неподалёку.
Открыв первым делом заднюю дверцу, он небрежно швырнул на сидение меч. От истопника можно было бы ожидать большего почтения к кочерге. Туда же полетел шлем, словно дырявая и больше не нужная кастрюля. Потом рыцарь сел за руль и замер. Его сознание словно выключалось время от времени, но он возвращался к действительности, как ни в чём не бывало. Вскоре машина уже неслась по шоссе, на максимально разрешённой скорости, но без превышения.
Оказавшись в своей небольшой квартире, Эдвард Лоуренс присел на диван и, наконец, от души разрыдался. Его тело долго содрогалось в конвульсиях, из гортани не вырвалось ни одного членораздельного звука. Потом он весь как-то притих и начал бормотать себе под нос: «Кельты не любят саксов, саксы не любят кельтов. Идиоты… Какие же они все идиоты — и кельты, и саксы…»
Ему на самом деле было совершенно наплевать и на кельтов, и на саксов, а если бы вдруг объявились норманы, то и на них тоже.
По утру в туалетной комнате у зеркала можно было наблюдать совершенно другого человека. Высокомерный лорд приводил в порядок своё лицо элегантной бритвой. Закончив бритьё и освежившись дорогим одеколоном, он некоторое время самодовольно себя разглядывал. Презрительная улыбка уверенного в себе денди играла на его губах. Затем он прошёл в комнату и, поправив шикарный, весь в пёстрых узорах, халат, уселся за компьютер.
Эдвард Лоуренс был рантье. Рано лишившись родителей и получив по наследству солидный капитал, он мог до конца своих дней жить на проценты — без лишнего шика, но безбедно. Финансовый факультет Оксфорда он закончил скорее для удовольствия, чем преследуя какую-то конкретную цель. Эдвард любил финансовое искусство, воспринимая его, как математику, помноженную на человечески фактор. По убеждению молодого Лоуренса, ни в чём так хорошо не раскрывается внутренняя сущность человека, как в манипуляциях с цифрами, особенно, если речь идёт о деньгах. Поведение человека на бирже, его финансовый почерк высвечивает всю натуру, вплоть до самых потаённых уголков.
Но прошло вот уже пять лет с тех пор, как Эдвард получил диплом финансиста, а он всё так и занимался бесплодным «высвечиванием натур», наблюдая за поведением различных субъектов на финансовых рынках. Он не пошёл на работу ни в государственное финансовое учреждение, ни в какой-либо коммерческий банк. Сначала он хотел хорошо изучить рынки, чтобы безошибочно выбрать стартовую позицию. Виртуальное пространство Интернета давало к тому достаточные возможности, во всяком случае для него, и он не вылезал из-за компьютера. Через пару лет Эдвард обрёл настолько хорошее знание не только британской, но и мировой финансовой реальности, что мог бы на этом озолотиться, но он не попытался извлечь из своих знаний ни пенса прибыли. Стартовую позицию для карьеры финансиста давно уже можно было выбрать, но это постепенно перестало его интересовать. Он понял, что ему не нужна карьера в мире ограниченных интеллектуалов, изощрённых мошенников, удачливых обманщиков, а деньги сами по себе его никогда не интересовали. Он мог их всех обвести вокруг пальца, но не видел интереса в том, чтобы стать представителем высшего слоя плутов. «Я — финансист, а не фокусник», — не раз говорил он сам себе, но все финансисты, насколько он мог охватить взглядом их мир, были именно фокусниками — торговцами воздухом.
Был ли потомок рода Лоуренсов кристально честным и высоконравственным человеком? В общем-то — да, хотя высота его нравственности строилась в большей степени на высокомерии, чем на человечности. Он презирал торговцев пустотой не потому что их обманы несли людям горе, а потому что они были ничтожны. Олимпом финансового мира управляли духовные импотенты, убогие и жалкие, не смотря на всю изощрённость своего интеллекта. Это были люди, не способные на поступок, достойный настоящего мужчины, и он не хотел становиться одним из них.
Эдвард никогда не занимался хакерством, используя исключительно открытую информацию. Он не то что бы полагал компьютерные взломы чем-то низким и недостойным джентльмена, он скорее брезговал ими, как хороший аналитик, которому всегда достаточно открытой информации. Так хорошему детективу не надо похищать секретные документы из сейфа, ему достаточно следов, пребывающих на всеобщем обозрении, но ничего не говорящих никому, кроме него. Самые казалось бы, незначительные и непримечательные факты Эдвард умел выстраивать в такие цепочки, которые вскрывали всю подноготную финансового мира.
Итак, ещё три года он потратил на то, что условно называл «опытами над финансовыми мышами». Они всё более и более поражали его своим убожеством. Последнее время он очень обострённо ощущал потребность вырваться в некий иной мир — героический, мужественный, суровый. Он был уверен, что мир финансистов тоже может быть таким, но в реальности он таким не являлся, и в этом уже больше не было сомнений.
На какое-то время Эдвард увлёкся историей Великобритании. Вторжение англов и саксов он теперь представлял себе не хуже, чем изнанку лондонской биржи. Он почувствовал в этом вторжении некую древнюю стихийную мощь, тупую и жестокую, однако, дышавшую подлинной глубинной реальностью, тем великолепием природной силы, которого он не находил в мире финансов. Он заказал себе меч — настоящий, боевой, а отнюдь не бутафорский, какими довольствовались большинство исторических клубов. Потом обзавёлся кольчугой и шлемом — прочными, надёжными, какие древним саксам и не снились. Начал брать уроки исторического фехтования и быстро понял, что большинство современных мечников затачивают свои навыки под эффект во время зрелищных мероприятий, а не под победу в реальном бою на мечах. В мире британцев, увлечённых историей и любивших покрасоваться с древним оружием в руках, всё дышало такой же иллюзорностью, как и в мире финансов. Оказалось, что и романтики ничем не лучше прагматиков, они так же озабочены лишь созданием видимости, каковая постепенно стала их единственной реальностью.
Он всё же овладел довольно сносной техникой боя на мечах, с трудом отыскивая хоть на что-то годных учителей, впрочем, и сам не совсем понимая, зачем ему это надо. Хотел прикоснуться к чему-то настоящему? Но современный мир, полностью построенный на иллюзиях, на имитации, то есть на лжи, ни в чём настоящем не нуждается. Мир, превративший видимость в реальность, превращает реальность в видимость. В таком мире настоящие мечники, как и настоящие финансисты, просто не нужны.
Зачем он разогнал этих жалких обывателей, играющих в последних кельтов? Хотел доказать, что меч это меч, а не символ, и бой это бой, а не игра? Но с иллюзией бороться бесполезно, пустоту невозможно поразить. Можно содрать с фальшивых кельтов их бутафорские плащи, но невозможно сделать из них достойных противников. Иллюзию можно вытеснить только при помощи другой, более удачной иллюзии, надо придумать фокус, способный ещё сильнее заворожить публику. И он смог бы это сделать, но, превратившись в творца виртуальной реальности, он убил бы свою душу, окончательно отказавшись от попыток приблизиться к реальности подлинной. Так Эдвард встал на грань крушения личности. Что пока спасало его? То, что каждое утро он тщательно брился и был совершенно равнодушен к спиртному.
Эдвард и сам не смог бы сказать, зачем продолжает тщательным образом отслеживать всё, что происходит в мире финансов, он уже не надеялся открыть здесь для себя что-то новое. Разве не известно, что все мыльные пузыри похожи друг на друга? Рано или поздно появляется пузырь существенно больше других, но своими качественными характеристиками он ничем от прочих не отличается. Эдвард видел, как доллар окончательно освободился сначала от золотого, а затем и от какого бы то ни было материального обеспечения, и весь мир с удивительной покорностью сделал вид, что поверил в реальность доллара. Он прекрасно различал фокусы, при помощи которых вдруг резко начинали расти акции чуть живых фирм, видел, как при помощи других фокусов неожиданно лопались крепкие и жизнеспособные банки. В каждом случае он мог чётко и безошибочно проследить, кто именно сделал при этом огромное состояние — буквально из воздуха и за несколько дней. Он испытывал сначала негодование, потом — отвращение, ведь состояния, сколоченные при помощи искусственных манипуляций, при полном отсутствии какой бы то ни было связи с реальным производством, тем не менее дают почти неограниченный доступ к ценностям, появлением своим обязанным тому самому производству. Человек, заработавший на разорении хлебопёков, имеет хлеба больше всех. Он видел, как совершаются биржевые атаки на национальные валюты — тут посеяли панические слухи, там заставили поверить в несбыточные надежды, повыкрикивали какие-то цифры, погоняли взад-вперёд ничего не значащую бумагу, а в итоге, к примеру, рис становится доступным по цене кому угодно, только не производителям риса, при этом в сфере производства риса ровным счётом ничего не изменилось.
Он давно уже понял, что субъекты, занимающиеся этими недостойными трюками, несамостоятельны; они даже не фокусники, а скорее марионетки в руках настоящих фокусников, каковых в мире лишь несколько, и главный из них — Дом Красного Щита. Глава этого Дома делал миллиардеров из кого хотел, потом превращал этих миллиардеров в шестёрок, послушно выполнявших его волю, не из благодарности, конечно, а потому что Красный Щит в любой момент мог сделать их обратно нищими. Но кто был ничем, тот и останется ничем. Эдвард прекрасно видел, что воротилы Красного Щита, фактические хозяева мира, продолжают оставаться ничтожествами — убогими, жалкими, мелочными, как карманные воришки, каковыми они по сути и являются, только в мировом масштабе. Стоит ли стремится к финансовой власти, если в итоге лишь станешь одним из этих ничтожеств?
И вот однажды Эдвард обнаружил на рынке некий странный субъект. Эти парни продавали тогда, когда принято покупать и покупали, когда принято продавать. Биржа довлеет, а потому делать то, что не принято — путь к разорению. А ребята держались. Прибыли, судя по всему, имели небольшие, но в минусы не уходили. А иногда и уходили, судя по всему — вполне сознательно, но компенсировали убытки за счёт других операций. Самым странным было то, что они вообще не работали с долларом, предпочитая пару-тройку крепких европейских валют. Сначала Эдвард усмехнулся: «Тоже мне — догадались. Самые умные. Да и никто бы не хотел работать с долларом, но невозможно игнорировать жестоко навязанные правила. Неужели не ясно, что пренебрегать валютным фаворитом, значит, отказываться от самых прибыльных операций? Это путь в никуда». Эдвард пробил дополнительную информацию и убедился, что сей субъект пребывает на рынке невообразимо долго. Как? За счёт чего? Невероятно. И вот тут ему стало по-настоящему интересно.
Основной характеристикой этого субъекта была крепкая прочная связь с реальным сектором экономики. Эти парни вообще не торговали воздухом, они осуществляли финансовое обеспечение производства вполне материальных и очень нужных людям вещей. На такой политике никогда сильно не разбогатеешь, никогда за неделю не взлетишь на самую вершину финансового мира, но и нищим за неделю никогда не станешь. Так прорисовывался их основной принцип — довольствоваться небольшой, но стабильной прибылью. И тогда можно плыть против течения, потому что это течение существует в мире фикций и абстракций, а они-то действуют в мире реальных ценностей.
Лоуренс видел, как сей субъект иной раз играет на укрепление акций загибающихся предприятий, вкладывая в это дело чуть ли не все свои активы — шальные, безумные операции. Но в восьми случаях из десяти они оказывались успешными. Почему? Лоуренс пробил информацию по тем предприятиям и убедился, что каждое из них в основе было очень крепким, но искусственно ослабленным чьей-то игрой на понижение акций. Значит, надо было просто выдержать в течение некоторого времени очень жёсткий, но виртуальный натиск, после чего безумные инвестиции начинали приносить реальную прибыль. О, тут было над чем подумать. Но Лоуренса сразу же заинтересовало другое — один ли такой субъект на финансовом рынке? Вскоре ему удалось обнаружить ещё несколько таких же финансовых безумцев, существовавших на рынке, судя по всему, уже не первое столетие. Почему же раньше он их не замечал? Да потому что сам себя уже давно убедил в том, что так не бывает. Человеку свойственно в упор не видеть того, что, по его суждению, не может существовать.
Лоуренс вновь почувствовал вкус жизни. Теперь ему предстояло самое интересное — установить связь между этими субъектами. Формально её не существовало, безумные финансы работали совершенно самостоятельно, причём в разных частях мира, но не могло не быть между ними связи.
Эдвард теперь почти не выходил из дома, он перелопачивал огромные объёмы информации с увлечением золотоискателя. Через некоторое время ему удалось по очень длинным цепочкам проследить связи между заинтересовавшими его субъектами. Он начал последовательно, технично, с большим терпением отрабатывать каждое из звеньев этих цепочек. И вот свершилось — он мог с абсолютной уверенностью утверждать, что выявил финансовую сеть, о существовании которой никто в мире даже не догадывался, хотя эта сеть опутала весь мир тонкими, но чрезвычайно прочными нитями.
Эдвард не смог бы сказать, зачем ему это надо и как он намерен использовать уникальную информацию, которой теперь обладал. Через некоторое время он, наверное, задумался бы об этом, но пока его интересовало лишь одно — он обнаружил людей в мире финансовых насекомых. Даже более того — настоящих мужчин. И ещё более того — не разрозненное количество одиночек-романтиков, а сплочённую группу. При этом он отнюдь не считал свою работу законченной — теперь он решил узнать об этой группе как можно больше — лез всюду, до куда мог дотянуться, слал запросы, делал обобщения. Картина вырисовывалась весьма впечатляющая, но закончить свою работу он не успел.
Едва проснувшись, Эдвард, как всегда, резким движением сел в постели, чётко вставив ноги в тапочки, которые неизменно стояли на одном и том же месте — ни на дюйм в сторону. Привычно приложил ладони к лицу, помассировал глаза и, едва оторвав ладони, увидел в кресле напротив кровати респектабельного джентльмена, который с любопытством его рассматривал.
Что должен был спросить человек в положении Эдварда? «Кто вы такой?». «Что вам нужно?». «Как вы сюда попали?». Конечно, это были бы вполне логичные, хотя и довольно бессмысленные вопросы. Но Эдвард ничего не говорил, наверное, минуты две. Он не менял позы, внимательно рассматривая неожиданного гостя. Гость тихо и доброжелательно улыбался, излучая вежливое внимание к хозяину, так же не говоря ни слова. Наконец, Лоуренс непринуждённо спросил:
— Ничего, что я в пижаме?
— Пустяки, мистер Лоуренс, — обронил гость, всем своим видом давая понять, что не склонен придавать никакого значения столь явному отступлению от этикета.
Лоуренс ещё помолчал, казалось, пытаясь разложить на составляющие каждую нотку в интонации гостя. Последний так же продолжал молчать и доброжелательно улыбаться.
— Надеюсь, я не заставил вас слишком долго ожидать моего пробуждения?
— Нет, нисколько. Вы всегда просыпаетесь ровно в семь, я пришёл за 15 минут, так что вовсе не успел заскучать.
— Вот и хорошо, — Лоуренс как бы успокоился, но по его лицу тут же вновь пробежала тень обеспокоенности: — Ваш покорный слуга имеет навязчивую привычку начинать каждый свой день с бритья. Надеюсь, мистер, вас не очень опечалит, если и сегодня я поступлю в точности так же?
— Конечно же, мистер Лоуренс, — гость даже развёл руками, показывая, насколько приятно ему откликнуться на просьбу хозяина. — У вас нет ни одной причины изменять своей привычке, которая, к тому же заслуживает всяческого уважения.
Лоуренс небрежно накинул халат и проследовал в туалетную комнату. Бритьё доставило привычное удовольствие. Очищая своё лицо от аккуратно нанесённой пены, он, как и всегда в эти минуты, ни о чём не думал. Он не считал нужным готовиться к предстоящему разговору, хотя было ясно, что этот разговор может закончиться чем угодно вплоть до перехода в мир иной. Эдвард был уверен, что понимает смысл происходящего, недаром же он целых две минуты рассматривал непрошеного гостя. Даже если он принёс смерть — это в высшей степени логично, а у Лоуренса только абсурд вызывал дискомфорт и беспокойство, так что сейчас, чувствуя, как ровно пульсирует в его сознании безупречная логическая схема, он был вполне спокоен.
Заканчивая бритьё, он громко сказал:
— Если мистер не откажется подождать ещё немного, я сварю кофе.
— Буду очень вам признателен, мистер Лоуренс.
Сделав два маленьких глотка ароматного напитка, гость благодарно улыбнулся:
— Отменный кофе.
— Я варю его по своему собственному рецепту.
— О, не сомневаюсь, что мистер Лоуренс никогда не стал бы варить кофе по рецепту, который известен всем.
— Итак, я весь к вашим услугам, мистер.
Гость не торопясь сделал ещё один глоток, и, не меняя интонации светской вежливости, спросил:
— Скажите, мистер Лоуренс, вы верите в Бога?
— Как и любой джентльмен я, конечно же, верю в Бога. Вот только я не знаю, верит ли Бог в меня? Впрочем, до сих пор я не усматривал необходимости в том, чтобы получить ответ на этот вопрос.
— А ведь это проблема, — гость, уже допивший кофе, сокрушённо развёл руками. — Это главная ваша проблема, мистер Лоуренс.
— Неужели вы пришли для того, чтобы помочь мне решить эту проблему?
— Именно так, мистер Лоуренс, и никак иначе.
— Следует ли из этого, что я, как таковой, для вас проблемы не представляю?
— Ну что вы, мистер Лоуренс, конечно же нет. А иначе разве я стал бы пить ваш кофе? Вы сделали то, что пока не удавалось ни одному человеку в мире — вы выявили нашу финансовую сеть. Надеюсь вы не думали, что ваши действия в информационном пространстве останутся незамеченными?
— Я вообще об этом не думал, а по здравому размышлению, ни сколько не удивлён. Любой путь можно проделать в обратном направлении. Если из этой комнаты я добрался до вас, так почему бы и вам не добраться до этой комнаты?
— С вами очень приятно беседовать. Не надо тратить время на пустопорожнюю болтовню. Итак, вы сделали то, что пока не смог сделать ни один человек в мире. Отсюда логически следует, что ни один человек в мире не поверит вам, если вы попытаетесь обнародовать свои выводы. Да ведь вы и не станете ничего обнародовать — не для того трудились.
— А для чего я, по-вашему, трудился?
— Вот тут-то мы и возвращаемся к вашей главной проблеме. Вы не верите в то, что Бог верит в вас. Следовательно, вы не имеете цели. Вы сами не знаете ответа на вопрос, зачем вы трудитесь. Разве это не прискорбно?
— Я слушаю вас внимательно.
— Наш разговор будет разговором о целях. С чего бы мне начать? Да, наверное, с Красного Щита. Как вы думаете, какую цель они перед собой ставят?
— Заработать как можно больше денег, — усмехнулся Лоуренс.
— А им, по-вашему, не хватает денег? Вы полагаете, состояние в двести миллиардов даёт некие дополнительные возможности по сравнению с состоянием в сто миллиардов? Люди, оперирующие такими цифрами, давно уже не могут повысить свой уровень жизни. Они имеют всё, что в силах предложить им земная цивилизация. Зачем же они трудятся в поте лица?
— Это просто, мой друг. Финансист, удвоивший стомиллиардное состояние, удвоил свою власть над миром.
— Это так, но зачем им удваивать свою власть, и так уже почти абсолютную?
— Власть — самоцель. Стремление к власти — всепоглощающая страсть. Эта страсть управляет человеком даже независимо от того, что он на сей счёт думает. Эти люди — рабы своего властолюбия. Они не смогут остановиться, даже если не захотят двигаться.
— Браво, мистер Лоуренс. Наш разговор будет вдвое короче, чем я предполагал. Вы почти всё понимаете, вам не хватает лишь окончательны выводов. Вы решительно правы в том, что властолюбие — самодовлеющая страсть, которая движет людьми Красного Щита, давно уже независимо от их желания. Но трудно представить себе людей, которые, удвоив объёмы власти, никак не употребляют новые возможности. Власть такая знаете ли штука, Если её не употреблять, так её и не почувствовать — считай, что её и нет. А, по-вашему, Дом Красного Щита, всё увеличивая и увеличивая свою власть над миром, никак её не использует, ни на что не употребляет? Но ведь таким образом решительно невозможно утолить жажду власти. Алкоголик, когда приобретает бутылку, тем самым отнюдь не удовлетворяет свою страсть. Он удовлетворит её, когда выпьет. Так же и власть. Её имеют, только когда употребляют.
— Значит, у Красного Щита есть некие глобальные тайны цели, на которые и направлена его бурная деятельность? — Лоуренс улыбнулся иронично и язвительно.
Незнакомец тяжело вздохнул и продолжил несколько даже печально:
— Ах, мистер Лоуренс, вы, очевидно, полагаете, что я расскажу вам про всемирный заговор, а вы потом будете долго надо мной смеяться. Вынужден вас разочаровать. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что Дом Красного Щита осознанно и целенаправленно преследует некую тайную цель. Мы не знаем, способны ли эти люди, даже оставшись в своём очень узком кругу, в точных формулировках выразить высший смысл своей деятельности. Нам не известно, задумываются ли они вообще о конечном пункте своего движения. Как они представляют себе ту реальность, увидев которую смогут с облегчением выдохнуть: «Свершилось»? Может быть, и никак не представляют. И тогда ведь ни о каком всемирном заговоре говорить уже невозможно? Заговорщики всегда имеют чётко выраженную программу переустройства мира. Но в мире вообще очень мало людей, которые целенаправленно двигаются к чётко сформулированной цели. Взять, к примеру, вас. Зачем вы затратили титанические усилия на то, чтобы выявить нашу финансовую сеть? Вы же никакой конкретной цели перед собой не ставили, а ведь — умнейший человек, и я отнюдь не думаю, что воротилы Красного Щита умнее вас. Так что же вами двигало?
— Ненависть! Точнее даже — презрение.
— Вот! Презрение к чужим заставило вас искать своих. Не у каждого человека есть цель, но у каждого есть суть. И какие бы ресурсы не оказались в распоряжении человека, он всегда будет использовать их на реализацию своей сути, даже если не имеет чётких представлений о том, куда и зачем движется. Ресурс Красного Щита — фактическая власть теперь уже почти надо всем миром. И люди Красного Щита вполне естественно используют свою власть для реализации своей сути. Они, так же как и все люди, хотят жить в том мире, который им нравится.
— Так что же составляет их подлинную суть?
— Ненависть ко Христу. Патологическая, животная, утробная ненависть ко Христу и христианству. Это может быть даже не на уровне убеждений, а на уровне простейших рефлексов. Вот увидели вы человека на улице, и он вызвал у вас глубокое, органическое отвращение. Вы почувствовали, что вам стало плохо от одного только взгляда на него. Вы, наверное, и ходить не станете по той улице, где подобных людей много? А если вам дать реальную возможность влиять на положение дел во всём мире? Не удивлюсь, если вы захотите сделать так, чтобы подобных людей вообще не стало. Вот что движет людьми Красного Щита — желание избавить мир от христиан, ведь им становится дурно от одной только мысли о том, что они существуют. Не могу судить, насколько это стремление является осознанным. Вполне допускаю, что никакой программы уничтожения христианства вообще не существует, то есть нет никакого всемирного антихристианского заговора. Но это ровным счётом ничего не меняет. Осознают они эту цель или нет, но они её преследуют, даже если сами себе в этом никогда не признаются.
— А доказательства?
— Ах, мистер Лоуренс, мне даже неловко слышать этот вопрос от такого серьёзного аналитика, как вы. Множество тому доказательств вы обнаружите в собственной памяти, вам достаточно их систематизировать. Вы, очевидно, очень хорошо знакомы с деятельностью некоего мистера Россо? Человек, которого Дом Красного Щита фактически назначил миллиардером. Россо по всему миру реализует самые разнообразные благотворительные проекты в различных сферах. Проанализируйте эти проекты, и вы без труда убедитесь, что за каждым из ним стоит антихристианская инициатива. Это скучно даже доказывать.
— Доказывать что-либо вообще очень скучно, потому что доказать можно всё что угодно. Например то, что мистер Россо более всего на свете озабочен реализацией прав и свобод человека во всём мире, о чём не устаёт повторять.
— Да без проблем, — гость тихо хихикнул. — Вы знаете, мистер Лоуренс, мне иногда кажется, что Россо и сам верит в то, о чём говорит. Так долго врал, что и сам поверил. Эти люди вообще очень не любят даже самим себе признаваться в ненависти к христианству. Их навязчивая идея во всех мировых процессах видеть лишь экономическую основу. И это тоже можно без труда доказать — миром движет стремление к личной материальной выгоде. Да всё уже давно доказано. Жил в XIX веке в Германии один весьма серьёзный теоретик, про которого Бисмарк сказал: «С этим бухгалтером Европа ещё наплачется». И Европа действительно наплакалась от его теорий, но не потому, что он был бухгалтером, а потому, что он был сатанистом.
— Карл Маркс был сатанистом?
— А вы не знали? А эти чудные стихи молодого Маркса: «Адские испарения наполняют мой мозг. Видишь этот меч? Князь тьмы дал мне его».
— Ну мало ли кто чем в молодости увлекался.
— А вы думаете, такие увлечения проходят бесследно? Да вы же знаете марксизм, и сами вполне убедительно способны доказать, что весь он выстроен на отрицании христианства. После этого неужели имеет значение то, что Маркс не был главой секты сатанистов и не имел ввиду покорить весь мир сатане? Какая разница, насколько осознанно он действовал? Оставить Европу без Христа, это и значит подчинить её Сатане. Вот создал наш бухгалтер теорию классовой борьбы, дескать, именно она и является движущей силой истории. Что это означает? Да то, что Бог в истории не действует, а действуют лишь классы, и даже сама идея Бога — лишь инструмент класса эксплуататоров. И сатанинские стихи юного Маркса, и его фундаментальный «Капитал» вызваны к жизни единым психологическим мотивом — животной ненавистью к христианству. Именно эта ненависть и являлась его личной движущей силой, а экономика тут за уши притянута.
— Что же, по-вашему, является движущей силой истории?
— А по-вашему?
— Не знаю, — Эдвард улыбнулся и развёл руками, всем своим видом показав, что он и не обязан знать ответы на такие вопросы.
— Вот в этом-то и главное отличие между нами — мы знаем, а вы не знаете. Мы уверены, что движущей силой истории является борьба религиозных идей. Это если говорить в широком смысле, а про последние две тысячи лет можно сказать конкретнее — весь ход истории определяется борьбой тех, кто без Христа, против тех, кто со Христом. Не наоборот, заметьте — это дьявол борется с Богом, а Бог с дьяволом никогда не борется, ибо это просто смешно — слишком неравновеликие величины. Так же и христиане никогда не борются за полное или хотя бы частичное истребление безбожников. А вот безбожники всегда хотят видеть христиан либо в ослабленном, либо в нулевом варианте.
— Это вы про религиозные воины?
— О, нет, совершенно не так. То есть, конечно, и религиозные воины — проявления именно этой тенденции, но я не про них, я хочу сказать, что нерелигиозных войн не бывает вообще. В основе любой войны, революции, экономической теории всегда находится движение религиозных идей, а вовсе не борьба классов, не борьба за рынки, не борьба за энергетические ресурсы. Это всё на поверхности, а, едва копнув поглубже, вы увидите борьбу христоненавистников против христианства. Это не всегда осознают даже сами политические лидеры и творцы мировых катаклизмов. Они могут не только с трибун говорить, но и совершенно искренне полагать, что борются за демократию, за победу коммунизма, за власть, за нефть, но на самом деле они всегда борются против Христа. Возьмите хотя бы историю лидера русской революции господина Ленина. Мальчик вырос в интеллигентной и хорошо обеспеченной семье царского чиновника. Получил неплохое образование, был интеллектуально развит. И вдруг ни с того, ни с сего он решает посвятить свою жизнь делу борьбы за освобождение рабочего класса. Мне кажется, комичность этой ситуации до сих пор недостаточно оценена. Юноша на момент принятия судьбоносного решения живых рабочих и видел-то в лучшем случае издали, он никогда не соприкасался с рабочей средой, совершенно не знал этих людей и не мог испытывать к ним никаких чувств. С чего это он решил им жизнь отдать?
— Вы полагаете, что Лениным двигала религиозная идея?
— Чуть сложнее. Лениным двигала ненависть к тому миру, который он видел вокруг себя, а этот мир был построен на христианских ценностях. Им двигало жгучее стремление уничтожить этот мир, уничтожить храмы и священников, увести народ от Бога. Кажется, большевистская практика достаточно доказала, что на рабочих этим деятелям было решительно наплевать, а вот за уничтожение христианства они действительно готовы были бороться до последнего издыхания. Дом Красного Щита идёт в том же направлении, хотя и совершенно другим путём. Эти белые воротнички совершили мировую революцию так, что никто и не заметил. И всю власть над миром они всегда будут использовать только с целью разрушения христианства, теперь уже — остатков христианства.
— Интересные мысли, хотя звучат несколько голословно.
— А, по-вашему, у нас богословский семинар? Разве я пытаюсь вам что-то доказать или в чём-то убедить? Да ведь мы с вами уже договорились относительно невысокой ценности любых доказательств. В мире борьбы идей убеждение всегда предшествует доказыванию. Сначала сильная эмоция — потом её обоснование, сначала любовь к идее — потом теоретический фундамент.
— Никакая логика, никакие аргументы и факты ещё никого не привели ко Христу, ровно как и не увели в обратном направлении.
— Я полагаю, теперь самое время обозначить цель вашего визита?
— Охотно. Мне поручено в общих чертах рассказать вам, что являет собой выявленная вами финансовая сеть. Мы, если угодно — банкиры Христа. Конечно, наша организация занимается не только финансами. Наша общая цель — защита христианства и христиан. Подчёркиваю — только защита. Мы не нападаем на безбожный мир, не стремимся его уничтожить, нам вообще не нужна власть в каких бы то ни было формах и объёмах. Эту тему мы оставляем для разработки господам политикам, к каковым, как вы, должно быть, уже поняли, не принадлежим. Дальше уже следуют детали.
— Я очень благодарен вам, любезный господин, за то, что вы удовлетворили моё любопытство.
Лоуренс постарался придать своей улыбке выражение несколько вопросительное.
— Незнакомец, так же вежливо улыбаясь, понимающе кивнул:
— Вы можете стать одним из нас. Если хотите. Подумайте.
— О чём тут думать? Я и так уже один из вас. Буду рад поработать с благородными людьми.
— Браво, мистер Лоуренс. Мне очень нравятся ваша искренность и открытость. Но есть тут одно маленькое затруднение. Мы — свои, да не совсем. Вот заказали вы как-то себе для ваших рыцарских забав белый щит. Получилось очень красиво и даже весьма символично. И у нас тоже белый щит. Но у нас на белом поле — красный крест. А у вас на белом поле, извините, ничего.
— Да, вы правы, я всегда был довольно равнодушен к религии. Мои отношения с Богом. Вы знаете, ведь они есть, эти отношения. Хотя…
— Они не составляют доминанту вашей личности.
— Да, вы решительно правы.
— А я вам больше того скажу: доминанту вашей личности составляет ненависть. И это уж совсем нехорошо. Вы ненавидите Красный Щит, потому что интуитивно чувствуете в его практике проявление антихристианской стихии, совершенно чуждой вашему духу. И нам эта стихия чужда, но мы полагаем, что на ненависти ничего приличного не построить.
— На чём же вы строите?
— На любви ко Христу. Не к некому абстрактному Богу, а именно ко Христу.
Лоуренс закрыл лицо ладонями. Что-то очень сладко таяло в его душе. Такого светлого и радостного чувства он никогда в своей жизни не переживал. Неужели это сам Христос сошёл во ад его души? Как сладко ни о чём не думать. Он оторвал ладони от лица. Теперь это было лицо ребёнка на дне рождения, в нём не осталось ничего от респектабельного джентльмена. Он тихо спросил:
— А хотите ещё кофе?
Сиверцев отложил авторучку. Сердце тревожно щемило. Он остался очень недоволен своим опусом. Понял ли он хоть в малой степени душу сэра Эдварда? Дурак, если и пытался. Вот дураком-то он теперь себя и чувствовал. Кажется, есть тропинки, по которым он пока совершенно не умеет ходить. Но тут же возникла встречная мысль: а надо ли ему вообще ходить по ним? Пусть кто-нибудь другой напишет роман «Странная история сэра Эдварда Лоуренса, финансиста и тамплиера». Это, наверное, будет добротная проза, исполненная глубокого психологизма, и автору, возможно, пригодится его беглый набросок. Этот автор покажет. А он, Сиверцев, не показывает, а просто рассказывает. Он лишь выписывает фрагменты реальности Ордена Храма. Пусть люди хотя бы узнают, как это может быть в современном мире. Однако, эти рассуждения показались ему ещё более беспомощными, чем опус. Он не хотел больше писать. Но отец Августин. Августину, конечно, наплевать напишет про него Сиверцев или нет. «Стоп. Всё. Хватит. Я не буду больше писать», — сказал себе Сиверцев, потом взял авторучку и аккуратно вывел на чистом листе:
Ансельм не любил Достоевского. Это было очень странно для молодого француза, который увлекается русской литературой. Ведь Достоевский — вершина русской классики. Увлечение Достоевским было бы тем более естественно для религиозного француза, душу которого так и не смог озарить католицизм и который всё больше и больше склонялся к православию. Как тут не полюбить князя Мышкина? А вот не любил и всё.
Он прочитал Достоевского полностью, до единой строчки, в объёме академического собрания сочинений, которое с большим трудом раздобыл. И теперь эти аккуратные томики занимали самое почётное место на его книжной полке. Но стоило ему на них взглянуть, как он тут же начинал спорить с Фёдором Михайловичем. Ругался даже.
Ещё мальчонкой Ансельм познакомился во дворе с сыном русских эмигрантов — Володей. Они играли во всякую мальчишескую ерунду и через некоторое время Ансельм заметил, что общается с Володей на ломаном русском. Володина мама, услышав однажды русский щебет французского мальчонки, спросила его: «А хочешь русские сказки почитать?». Ну, конечно же, он хотел. Так сказки Пушкина открыли для него мир русской литературы. Ансельма всегда тянуло куда-то за предел реальности, в некий волшебный мир. Таковым стал для него сначала остров Буян, а потом Русская империя — могучее царство, от крушения которого содрогнулся весь мир. Это царство жило в книгах, которые и стали для него «страной в шкафу», где он так любил исчезать.
Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Блок и Бунин появились в его жизни позже, а пока Володина мама объясняла ему непонятные слова и обороты из сказок, а так же из речи собственного сына. Володя любил иногда завернуть что-нибудь этакое, чему и сам затруднялся дать вразумительное толкование. «Не в зуб ногой», — Ансельм с удовольствием перекатывал во рту странные камушки русских слов.
Как-то Володина мама рассказала Ансельму о том, что коронационное Евангелие королей Франции было написано на церковно-славянском языке. Ансельм представил себе, как могучие Капетинги преклоняют колена перед славянским Евангелием. Это поразило его до чрезвычайности. Русские предстали перед ним уже не просто, как волшебный народ, а как носители высшей сакральной реальности.
Володя, конечно, был обыкновенным мальчишкой и ничего волшебного в нём не наблюдалось, и всё-таки он был не таким, как маленькие французы. Если маленькому хулигану из парижского предместья в драке расквасить нос, так он в силу этого уже полагает драку законченной своим поражением. Володя не так. Разбитый нос был для него лишь сигналом к началу настоящей драки, увидев кровь, он свирепел и сыпал тумаками направо и налево, пока не оставался во дворе один. Русскому гаврошу ничего не стоило в одиночку наброситься на десятерых. Потом он усмехался и говорил Ансельму: «А как ты думаешь, мы били красных? Вот так и били. Один против десяти. Только их оказалось не в десять раз больше, а в сто».
Как-то они вдвоём пошли «в поход» — побродить по окрестному лесу. В самом начале Володя поранил ногу — сморщился от боли, но не проронил ни звука.
— Сможешь сам дойти до дома, или я за врачом сбегаю? — спросил Ансельм.
— Зачем — домой? — усмехнулся Володя. — Погуляем ещё.
— Но твоя рана?
— Ерунда. Ты неженка, Ансельм. Если вы, французы, будете такими, у вас никогда больше не будет короля.
Ансельм прикусил губу. Ни один известный ему француз не горевал по поводу отсутствия короля, а большинство так и прямо гордились тем, что когда-то они прогнали Бурбонов. Русский учит его быть французом? Выходит, что так. Но это значит — быть непохожим на современных французов и даже на своих родителей — добропорядочных мелких буржуа, людей, кстати, очень добрых.
Как-то Володя спросил его:
— Скажи, Ансельм, кого ты считаешь самым лучшим французом за последние лет триста?
Ансельм растерялся. Он знал, что если назвать Робеспьера или даже Наполеона — драка неизбежна, причём Володя обязательно возьмёт верх, и это послужит лучшим доказательством того, что Ансельм дал неправильный ответ. Подумав, он неуверенно сказал:
— Может быть, генерал де Голль?
— Ничего особенного в твоём де Голле нет. А вот Жорж Кадудаль! Монархист и христианин. Человек беспримерной храбрости и глубочайшей религиозности. Кадудаль — словно древний рыцарь. Восхищаюсь. А вы забыли. Вы, французы, сами себя недостойны, — русский мальчишка 12-и лет говорил совершенно, как взрослый, так, во всяком случае, казалось тогда его ровеснику-французу.
Ансельм почувствовал себя бесконечно униженным. Он подумал о том, что не хочет больше дружить с Володей. Но на следующий же день бросился по книжным лавкам и среди огромного количества книг о деятелях французской революции и Эдит Пиаф с большим трудом откопал книгу про Жоржа Кадудаля и непокорную роялистскую Бретань.
А вопрос о дружбе с Володей отпал сам собой, они с мамой уехали то ли в Болгарию, то ли в Сербию: «Дороговато нам тут жить». Прощание получилось скомканным и суетливым. Ансельму жаль было терять своего ершистого русского друга, но при этом он испытывал некоторое даже облегчение — Володя слишком давил на него. Через много лет Ансельм пытался и всё никак не мог вспомнить, какие же слова они сказали друг другу на прощание.
Ансельм теперь свободно читал русские книги, но ему не хватало живого общения с русскими. А они, эти русские, были вокруг, в небольшом, но заметном количестве. Познакомиться с детьми русских эмигрантов не составляло никакой проблемы, но Ансельм чувствовал, что одна только мысль об этом вызывает в нём внутреннее напряжение и дискомфорт. Что-то тянуло его к ним, а что-то отталкивало. Отталкивало, кажется, сильнее, чем тянуло. А Володю он вспоминал всё более тепло — детские обиды быстро испарились. «Он помогал мне стать французом, он не пытался сделать из меня русского», — подумал Ансельм и успокоился, не пытаясь больше соприкасаться с русской средой.
Однажды, ему было тогда лет 13, он зашёл в русский храм. Его опять охватило смешанное ощущение чего-то родного, близкого и в то же время — отталкивающего, чужого. Может быть, дело было в том, что он поддался соблазну подольше поспать в воскресенье и на службу не успел, а попал сразу на отпевание. Посреди храма стоял гроб. В нём лежал труп мужчины лет 50-и с торжественным лицом. В этом лице не было жизни. Казалось бы, что странного — в лице трупа жизни нет, но Ансельму почему-то показалось, что этот человек и по улицам ходил с таким же лицом. Не мёртвую жизнь он увидел в гробу, а живую смерть. Он думал об этом и десять, и двадцать лет спустя, лицо того мужчины сопровождало его всю жизнь. А тогда он удостоил его лишь нескольких беглых взглядов. Сразу же обратившись к иконам — волшебным русским иконам, на которых до невозможности реально отражался мир иной — живой мир. Он не успел потонуть в иконной реальности, какая-то старушка довольно грубо толкнула его в бок и, указав на гроб, прошептала: «Сюда смотри. Больше не увидишь». Ансельм сразу понял, что она приняла его за родственника покойного, даже не предполагая, что подросток мог придти в храм по какой-то иной причине. Говорить со старушкой не хотелось. «Смотреть сюда» он тоже не испытывал никакого желания. Лёгкий трупный запах перемешивался с запахом ладана и цветов. Было душновато. Он быстро покинул храм, так и не увидев православного богослужения. Много лет потом он не был в православном храме.
Обучение на филологическом факультете Сорбонны давалось Ансельму до неприличия легко. Русский язык он знал куда лучше иных преподавателей. Русская классика была его повседневностью, ему было даже неловко считать за труд её изучение. Вот тогда-то он и прочитал Достоевского целиком, тогда-то он и невзлюбил его. В героях Фёдора Михайловича он не чувствовал силы и мужества, той самой жёсткой русской беспредельности, которая не только позволяет, но и заставляет идти одному против ста. Ансельм уже считал себя христианином, безотносительным таким христианином — не католиком и не православным, а «вообще», хотя православию весьма симпатизировал. Вот с этих-то безотносительно-православных позиций он Достоевского и не хотел. Почему его герои вечно «размазывают сопли по тарелке», вечно погружены в бессмысленное самокопание? Это-то в первую очередь и не нравилось — любимые герои Достоевского, хорошие, вроде бы, христиане, были «больными на всю голову», жалкими и совершенно не приспособленными к жизни. Вечно они плакали, кого-то жалели, бегали взад-вперёд, улаживая мелочные житейские дрязги, да и это-то у них толком не получалось, и тогда уже все жалели их — таких добрых и великодушных, но таких беспомощных и убогих.
Разве это настоящее христианство? Нет, настоящее христианство — сильное и здоровое, как Жорж Кадудаль и белогвардейцы. Про них-то уж никто бы не сказал: «Бедненькие». Их никто не жалел, а они имели право жалеть поверженного врага, потому что прежде доказали свою силу. И в бой они шли, как на крест — приносили себя в жертву. А герои Достоевского способны были только нюни распускать, да суесловить, рассуждая о судьбах России. И тогда пришли большевики — люди действия. Своей решительностью они загипнотизировали весь русский народ. Что такое князь Мышкин перед большевиками, этот добрейший человек перед кровавыми извергами? Он же их жалеть будет, на грудь им бросится, окропя её слезами — ведь у них же, у этих извергов, души тоже покалеченные, как же их не пожалеть, этих «рогожиных», да зараз уж и полюбить. Болыпивики, однако, не расчувствовались и без всякой сентиментальности перетопили всех «мышкиных», как слепых котят, а потом уж, не торопясь, разделались с горсткой белых героев, не заражённых достоевщиной.
Ансельм закипал, а потом опять поддавался обаянию Федора Михайловича. Да любил он его на самом-то деле, потому и прочитал до строчки. И старца Зосиму очень даже чтил. И Алёша Карамазов был ему симпатичен, хотя и мелковат, по его суждению. Но вот кого он никак не мог простить Достоевскому, так это князя Мышкина. Простил бы, наверное, и Мышкина, ведь замечательный же человек — чуткий к ближнему, с удивительным талантом неосуждения, способный любить грешников не потому что не видит, каковы они, а несмотря на то, что видит их насквозь, со всеми чёрными глубинами. Но примирению с Мышкиным препятствовало одно обстоятельство. В черновиках Достоевский, когда ещё не придумал имя своему герою, называл его «князь Христос». И вот это уже было совершенно нестерпимо. Да разве же Христос — больной и жалкий? Спаситель наш бесконечно любвеобилен, но и суров, и твёрд, и совершенно не сентиментален. Он не бросался на грудь иудейским «рогожиным» и «настасьям филипповнам», сопли не распускал, да и не вытирал. Он любил грешников, но не потакал их грехам, и в любви Своей был очень сдержан и немногословен. О Христе говорить трудно, тут все слова получаются какими-то блёклыми, неточными и фальшивыми, но вот это-то и задача для христианского гения — насколько возможно точно выразит в словах невыразимо прекрасный образ Христа. И если князь Мышкин — именно такая попытка, то хорошо же Фёдор Михайлович чувствовал нашего Спасителя, можно поздравить. Христос есть идеал духовного здоровья, а князь Мышкин — воплощённая болезнь. Как же можно было совершенно больного, беспомощного и жалкого человека хоть на секунду уподобить Христу, представить чуть ли не образцовым христианином?
Ансельм сначала не понимал, почему многочисленные французы-русофилы так превозносят Достоевского. Ведь Фёдор Михайлович всё-таки убеждённый христианин, а его западные почитатели — совершенно не христиане. Для них христианство — антиквариат — милый и трогательный, но совершенно непригодный к употреблению в повседневной жизни. В их жизни нет Христа и быть не может, по их же собственному глубочайшему убеждению, так почему же они восхищаются Достоевским, который буквально дышал Христом, как воздухом? Потом Ансельм понял — их в высшей степени устраивает такой вот «князь Христос-Мышкин» — милый и трогательный, но совершенно жалкий и неприспособленный к жизни. Им такой «Христос» удобен, для них этот образ — оправдание того, что они сами не христиане. Ведь получается, что в реальности быть христианином невозможно, это путь к Шнейдеру в дурдом, откуда вышел и куда потом вновь отправился Мышкин. Они не хотят быть христианами, потому что они психически здоровы, и Достоевский — лучшее подтверждение этой логики, за что они его и любят.
Потом Ансельм заметил, что почти все почитатели Достоевского так же и поклонники Фрейда — любители покопаться в болезненных глубинах психических отклонений. Тут уж он понял всё. Их тянет к Достоевскому, потому что тянет ко всему психически нездоровому, они обожают, как и отец их Фрейд, посмаковать всевозможные формы душевной извращённости. Ну вот и пусть они это делают без него.
Ансельм всё же начал понемногу ходить в православных храм и всей душой полюбил православное богослужение. Он чувствовал в православной литургии отражение древнего сакрального мира — настолько же французского, насколько и русского. Это была подлинная духовная реальность, которой древние франки отнюдь не были чужды. А на католической мессе он не чувствовал ничего — только зябкую пустоту. И он знал, что эта пустота — отнюдь не зеркало его родины. Сердце Франции здесь не билось. Как-то он сказал себе: «Я не француз и не русской. Я — франк». Это была весьма красивая, отчасти верная, но и довольно трагическая сентенция. Ведь он не знал ни одного франка, кроме самого себя. Его одиночество перешло в хроническую фазу.
Среди прихожан русского храма он чувствовал себя очень неуютно и дискомфортно, желая лишь одного — чтобы на него обращали поменьше внимания, но внимание, обращённое к нему, было всеобщим. Его приняли здесь очень дружелюбно, с ним чинно раскланивались, за его спиной шептались: «Это наш Ансельм». Ещё бы — молодой француз, влюбившийся в Православие — это же была настоящая сенсация в среде русских эмигрантов второго и третьего поколения. Именно так — он стал сенсацией, некой местной достопримечательностью, каковую не забывают в первую очередь продемонстрировать всем гостям. Слащаво улыбавшиеся бабушки на него нарадоваться не могли, их совершенно уже офранцузившиеся сыновья одобрительно кивали, и даже дети жизнерадостно щебетали: «Ансельм, Ансельм». Игрушка он им что ли?
Дело было далеко не только в том, что всеобщее внимание его тяготило. Этот мир казался ему каким-то фальшивым, искусственным, ненастоящим, как берёзы в кадушках по русским кабакам Парижа. Эмигрантские косоворотки и сапоги отдавали игрой в патриотизм. Их костюмы элегантного французского покроя отдавали, напротив, забвением патриотизма подлинного. Наверное, он просто придирался к ним и был совершенно несправедлив, за что постоянно себя корил, но была тут и объективная сторона: эти люди неизбежно впитали в себя столько современной Франции, что вряд ли уже были носителями исконной русской духовности, отнюдь при этом не обратившись в французов. Они либо играли русских, либо играли французов. Они обречены были играть. Вот это-то и отталкивало от них Ансельма, душа которого стремилась обрести нечто подлинное, но не находила, да, кажется, и не могла найти. Он и сам-то, оставаясь на своей родной земле, превращался в эмигранта, непонятно только из какой страны.
Потом он встретил Глеба и эта встреча перевернула всю его жизнь. В храм на богослужение пришёл непривычно и непонятно одетый молодой человек с глазами ясными, лицом мечтательным, но, вместе с тем — решительным и жёстким. Ансельм постоянно отвлекался от Литургии, бегло поглядывая на молодого человека, который явно пришёл сюда впервые. Приложившись ко кресту, Ансельм вышел на улицу, как всегда постаравшись ускользнуть поскорее, чтобы избежать участия в «братском общении». Юноша вышел за ним и без всяких психологических сложностей сразу же обратился к французу по-русски:
— Позвольте представиться, месье, меня зовут Глеб.
— А меня — Ансельм, — он пожал протянутую руку и постарался улыбнуться так же открыто, как и незнакомец. Всё это произошло почему-то очень естественно и совершенно без напряжения.
— А ведь вы не из эмигрантов, Ансельм.
— Я француз и русских корней не имею. Это заметно?
— Да как сказать. Если бы я встретил вас на Красной Площади — ни за что не признал бы француза.
— Так вы из Советской России?
— Ну да. Всего с месяц, — Глеб сказал об этом так же легко и непринуждённо, как если бы назвал свой адрес в Париже.
По лицу Ансельма пробежала тень недоброжелательства.
— Не любите советских людей? — так же легко и непринуждённо полюбопытствовал Глеб.
— Не жалую, — отчётливо выговорил Ансельм.
— Вот и я тоже их не жалую, — развёл руками ни чуть не обескураженный Глеб. — Советские люди — народ весьма специфический. В них русского — не более, чем на треть.
— А в вас?
— Да и во мне тоже. Но для меня это — проблема, а для них — нет.
— Какими же судьбами здесь?
— А у меня дед был белогвардейским офицером, бежал за границу, осел в Париже. Жену с новорождённым сыном, моим отцом, оставил под Калугой — такая кутерьма была тогда, что вывести их не смог, хотя и очень хотел. Так, во всяком случае, считала моя бабушка.
— Как же чекисты не расстреляли жену белого офицера-эмигранта?
— Не доглядели. Чека работала хорошо, но не безупречно. Бабушка воспитала моего отца в белогвардейском духе, и он меня — так же. Отец всегда говорил мне: «Помни, Глеб, мы — последние русские. Твой дед жизни своей не щадил, сражаясь с красной нечистью, и ты когда-нибудь продолжишь его дело». Я и комсомольцем никогда не был, не приняли, потому что крест отказался снять.
— Как это замечательно! — воодушевился Ансельм.
— Ах, mon ami, знал бы ты, какая гнетущая атмосфера царила в нашей семье. Всегда и во всём — только ненависть и никакого позитива. Да и тягостно это, когда в школе говорят одно, а дома — другое. Верный путь к шизофрении.
— А почему столько иронии? Ты как будто рассказываешь очень смешную историю.
— А разве это не смешно, когда в Москве при Брежневе растёт юный белогвардеец? Да если бы я, Ансельм, не научился смотреть на наши игры с изрядной долей иронии, так непременно попытался бы или Мавзолей взорвать, или ещё что-нибудь в этом роде учудить. А была бы хоть капля смысла. Мы — последние калеки гражданской войны. В нас нет духовного здоровья. И эмигранты наши — такие же калеки. Кривляются, пыжатся, что-то такое из себя изображают.
Ансельму стало тяжело. Он был согласен с Глебом, но поддакивать не хотел. Из таких откровений невозможно выбраться ни к чему здравому. Некоторое время они молча шли по улице, потом Ансельм спросил:
— Ты так и не сказал, как здесь оказался.
— Да куда проще. Взял туристическую путёвку и в Париже оторвался от группы. Год назад отец умер. Он завещал мне найти в Париже могилу деда. Передал фамильные драгоценности. Диссиденты научили, как их через границу провести. И вот я здесь. Драгоценности загнал, денег хватит ещё на несколько месяцев.
— А могилу деда нашёл?
— Пока не смог.
— Хочешь вместе поедем на Сен-Женевьев-деБуа?
— Да я ведь об этом и хотел попросить.
— Глеб, иди сюда!
— Неужели нашёл?
— Не знаю, не уверен. Вот смотри: слово «colonel» — полковник — отчётливо, а фамилию совершенно не разобрать. Удивительно. Могила неизвестного полковника. Может быть, это и есть твой дед? Ты, во всяком случае, имеешь полное право так считать. Мы всё очень тщательно прочесали. Других вариантов нет. Тут даже есть некий символизм. Поминая над этим камнем своего деда, ты, вместе с тем, будешь поминать всех безвестных белых полковников.
Глеб вытер ладонью пот со лба и перекрестился. Налёт ироничного легкомыслия как ветром сдуло с его лица. Оно стало сосредоточенным и серьёзным, на переносице чётко обозначилась морщина — словно шрам.
— Посидим здесь? — тихо попросил Глеб.
— Да, конечно.
Они сидели молча, казалось, бесконечно долго, с каждой минутой становясь всё ближе и роднее. Потом Глеб заговорил упругим шёпотом:
— Знаешь, Ансельм, почему наши, то есть белые, проиграли?
— Их было мало.
— А почему их было мало? Почему Россия не пошла за ними? Да потому что белые сами не знали, куда вести Россия. Против большевиков — это понятно, а куда, с какой целью, во имя каких идеалов? Белые не знали. Чем же они могли воодушевить народ? В Деникинской армии офицеров арестовывали за исполнение «Боже, царя храни», при этом «Марсельезу» распевали беспрепятственно. У Колчака один полк воевал под красным знаменем, это были эсеры, которые и предали адмирала в конечном итоге. Врангель в своём воззвании заявил, что их трудами на Руси снова будет Хозяин — с большой буквы. Может быть он и имел ввиду царя, но когда белые либералы выразили ему неудовольствие, он тут же сказал, что под Хозяином разумел народ. При этом так и осталось непонятным, что же он сразу-то постеснялся назвать народ народом. Ну куда, вот так виляя и лукавствуя, можно было придти? Один врангелевский юнкер как-то сказал митрополиту Вениамину: «Да какие мы белые, мы — серые». Вот в чём беда-то была: у белых перемешались все — монархисты, социалисты, либералы — все политические течения России. Разве это пёстрое сборище могло победить? Да они бы первым делом меж собой перегрызлись, если бы вошли в Москву.
— Глеб, ты всё прекрасно понимаешь. И Деникин, и Колчак, и Врангель хотели объединить под своими знамёнами все антибольшевистские силы, не время было делиться на партии.
— Ты сейчас говоришь, как мой отец. Мы с ним всё время спорили. Вот и он тоже говорил: «Надо было сначала прогнать большевиков, а потом уже и заняться вопросами политического устройства России. Исходя из этого, Добровольческая армия правильно определила свой основной лозунг: «За единую и неделимую Россию». Этот призыв объединил всех белых, независимо от политической ориентации». А я ему: «Папа, ты что не видишь, что эту главную белую цель весьма успешно осуществили сами большевики? И потеряли-то лишь Польшу и Финляндию, часть которых к тому же вернули, да ещё добавили пол-Сахалина и Кенигсберг. Вот тебе, пожалуйста, «Единая и неделимая Россия» — страна, в которой мы живём. Чем же она тебе не нравится?». А он мне: «Тебя, Глеб, там не было. Легко быть умным на чужом месте. Ты суесловишь, а они сражались и гибли».
— А, правда, Глеб, если бы ты был там, то как бы разрубил этот «гордиев узел»?
— Очень просто. Создал бы монархический батальон, призвав под своё знамя всех, кто сохранил верность присяге Государю Императору. Уверяю тебя, что вскоре у нас уже был бы монархический полк, а там и дивизия.
— И вы вступили бы в бой с деникинцами, воевавшими под звуки «Марсельезы»?
— Нет, мы постарались бы установить ними союзнические отношения. Но мы — это были бы мы, а они — это они. И мы начертали бы на своих белых знамёнах простые, всем понятные и ещё не забытые русским народом слова: «За веру, царя и Отечество». Вера — понятно, царь — понятно, а с ними и Отечество тоже становится понятным. Оно уже не какое-то там абстрактно неделимое, ибо неделимого-то как раз и нет ничего в природе. Отечество наше — управляемое царём именем Бога. Мне рычать хочется, когда я вспоминаю большевистскую песню: «Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон». Если бы это было правдой, если бы «чёрный барон» действительно готовил для России царский трон, так мы бы победили. Мы пели бы, бросаясь на большевиков: «Царствуй на страх врагам, царь православный». И страх наших врагов был бы воистину велик. И русский народ пошёл бы за нами, потому что он царелюбив, наш народ. Но этого уже не будет. Мой отец не завещал мне ничего, кроме ненависти. И вот теперь какую клятву я должен принести на могиле своего деда? Сражаться до смерти? Да не проблема. Я всё равно погибну на гражданской войне, для меня эта война не закончится, пока я жив. Но во имя чего я погибну? Не знаю.
— Тогда поклянись, что узнаешь это раньше, чем погибнешь.
Глеб с удивлением посмотрел на Ансельма:
— Может быть… Дело говоришь. Ты со мной, Ансельм?
— Конечно, — юный француз улыбнулся столь непринуждённо, как будто они договорились пойти в кино.
Ансельм и Глеб стали неразлучны, встречаясь почти каждый день. Они гуляли, спорили, чуть ли не ссорились, потом мирились и уже не могли друг без друга жить. Ансельм помог Глебу устроиться на работу в русское издательство. Глебу не понравилась псевдорусская среда, но это был для него твёрдый кусок хлеба, к тому же он там получил доступ к таким книгам, к каким и прикоснуться не мечтал в Союзе. Иногда они ходили на богослужение в православный храм, но не часто, спорить было интереснее.
— Ансельм, да ты и представить себе не можешь, насколько ты любишь Достоевского.
— А за что мне любить этого в высшей степени вредного писателя, с таким блестящим талантом насаждавшего ложные представления о христианстве?
— Да за то, что вы с ним — родственные души. Ты смотришься в Достоевского, как в зеркало, узнаёшь самого себя и злишься на собственное отражение.
— Спасибо, утешил. Во мне, должно быть, и правда мало духовного здоровья и внутренней силы настоящего христианина, но мой идеал именно таков, и он ни мало не похож на князя Мышкина.
— А ты встречал таких вот — внутренне сильных и духовно здоровых христиан?
— Боюсь, что нет.
— А вот если бы встретил, тогда вам было бы о чём поговорить с Фёдором Михайловичем в тонах куда более дружелюбных. Пойми же ты, Ансельм, что князь Мышкин — реальность, а твой идеал — абстракция. Конечно, реальность всегда проигрывает идеалу в непогрешимой безупречности, но воплотись твой идеал, он, может быть, побежал бы к князю Мышкину за советом и правильно сделал бы. Да и ты ещё побежишь, благо это будет несложно, ведь ты же с Мышкиным ни днём, ни ночью не расстаёшься — споришь с ним, как со мной.
— Ну не мой это писатель.
— Ладно, уймись. Все хорошие писатели — твои. Они друг друга объясняют. На чём ты там у себя в Сорбоне защищаться намерен?
— Моя работа имеет пока рабочее название «Антидостоевский».
— Да глупее ничего и представить себе невозможно. Ну почему мы все, едва у нас душа загорается, тут же становимся какими-нибудь «анти». «Антибольшевизм», «Антидостоевский».
— Потому что у нас нет позитивной программы.
— Красиво сказал. Умно и элегантно. Так мы и потонем в своей бесплодной интеллектуальности. Мы ведь даже не хотим выгребать ни к какому твёрдому берегу.
— Что-нибудь посоветуешь? — раздражённо буркнул Ансельм.
— Ну почитай вот хотя бы Ивана Шмелёва. Только не «Солнце мёртвых», не надо. Возьми «Лето Господне» — это позитив.
— Шмелёв? Я и не слышал про такого.
— Ещё бы тебе в Сорбоне про Шмелёва рассказали. Можно подумать, твоя alma mater очень сильно отличается от МГУ.
Иван Шмелёв очаровал Ансельма. Глеб был прав, именно такой вот кристальной и прозрачной, здоровой и здравой ясности так жаждала его душа. Мир Шмелёва — мир бытовой и волшебный, приземлённый и возвышенный, близкий и недоступный, был тем миром, в котором Ансельм хотел жить. Здесь сам воздух был пронизан чудным православным духом, а ведь это не жития святых, это повседневность подлинного русского мира.
— Разве не за этот мир должны быть сражаться белые? — спросил Ансельм Глеба.
— Надгробия Сен-Женевьев-де Буа нам ничего не должны. Ту фазу гражданской войны мы давно проиграли. И сегодня мы не можем сражаться за тот мир, потому что его нет и никогда не будет.
— Почему же не будет?
— Да потому что русских больше нет. И французов тоже нет. Кругом сплошная «Марсельеза» — и в России, и во Франции. Ты посмотри во что выродились твои соотечественники безо всякого большевизма.
— Я не француз. Я франк.
— Всё это игра словами. Забудь, Ансельм. Франков тоже больше нет.
— Но мы-то с тобой — есть!
— А я и в этом не уверен.
— Я ушёл из университета, Глеб. Я больше не специалист по русской литературе, — на лице Ансельма застыло удивление, как будто он и сам не верил в то, о чём говорил.
— Рассказывай, горемыка ты мой парижский, — Глеб, кажется, нисколько не был расположен жалеть своего друга.
— Мой руководитель наотрез отказал мне в том, чтобы я делал работу по Шмелёву.
— И у тебя, как всегда, вся русская литература свелась к одному имени?
— Нет, Глеб, дело даже не в Шмелёве. Я просто окончательно понял, что являет собой наша профессура, и не могу больше работать вместе с ними. Знаешь, что сказал мне шеф?
— И что же он, жестокий, тебе сказал?
— Если, говорит, тебя, Ансельм, так заинтересовал мир русского купечества, так писал бы ты по Александру Островскому, разоблачал бы тёмное русское царство, развивал бы гениальные мысли Белинского. Тогда, дескать, и наши русские друзья окажут нам финансовую поддержку. А Шмелёв? Никому это не надо ни в России, ни во Франции. Всех только разозлим.
Глеб жизнерадостно расхохотался:
— Молодцы, чекисты, красиво работают. Никогда не сомневался в их способностях, но такой прыти, откровенно говоря, не ожидал. КГБ контролирует Сорбону. Что может быть изящнее?
— Мне не смешно, Глеб, у меня жизнь обрушилась.
— Не соглашусь, — Глеб стал серьёзным. — Обрушились твои представления о жизни, а жизнь сама по себе какой была, такой и осталась, не получив ни малейших повреждений. Жизнь не любит, когда её строят на самообмане. И для тебя пришло время посмотреть правде в глаза.
— Глеб, это даже не большевизанство, им просто на всё наплевать — и на Шмелёва, и на Островского, и на Советскую власть, и на Парижскую коммуну. Они хотят только устроиться комфортнее и если знают к тому средства, так ни одним из них не побрезгуют.
— Это так, mon ami, это истинно так, — Глеб грустно улыбнулся. — И что ты теперь будешь делать?
— Жить есть на что, родители давно уже подарили мне небольшую ренту. Непонятно только, зачем жить?
— Есть у меня одна мысль, Ансельм. Давно вынашиваю, а сейчас, кажется, время пришло. Давай съездим в Нормандию, в Провемон.
— А что там?
— Женский православный монастырь. Я бы в издательстве тоже долго не проработал. Сейчас скопил деньжат, собирался уйти, а тут и ты освободился.
— Откуда вы, такие благочестивые? — спросила Глеба и Ансельма игуменья, грузная пожилая женщина с тихим спокойным лицом.
Друзья охотно рассказала о себе. Мать игуменья не выразила ни удивления, ни восхищения, ни сомнения. Она помолчала немного, казалось, глядя куда-то вдаль, а потом мирно и дружелюбно сказала:
— Ну что ж, ребята, становитесь на послушание. Поживите у нас, сколько поживётся. Богослужений старайтесь не пропускать.
Ребята охотно делали всё, о чём их просили, в основном — в саду и на грядках, а порою и просто на побегушках. Уставали очень сильно и не столько даже из-за работы, сколько из-за богослужений. Раньше им казалось, что в Церкви они — свои люди, но на деле оказалось не так. Они и представления не имели о том, что такое жизнь церковного человека, тем более монастырского трудника. Духовник монастыря, старенький иеромонах, многое им объяснил, велел кое-что почитать и принял первые в их жизни сознательные исповеди. Они с увлечением погрузились в трудный и радостный мир настоящего православия. Поселили их на некотором удалении от монастыря, и с монашками, кроме благочинной, они, конечно, почти не общались, но постоянно видели их в храме и иногда обменивались короткими репликами.
Монахини были удивительны. Все они говорили по-русски, хотя, порою, уже с выраженным акцентом — большинство из них родилось во Франции. Впрочем, это ничего не меняло, да и вообще ничего не значило. Они были настоящими. Русских из себя не изображали, в «исконность и посконность» не играли, акцента совершенно не стеснялись. Держали себя очень ровно, доброжелательность выражали в основном глазами и всё время тихо улыбались. Для монахинь явно не имело никакого значения, что один из трудников — русский, а второй — француз. Таков был дух монастыря — национальность здесь растворялась в религиозности.
Как-то перед сном Глеб, в изнеможении упавший на койку, сказал:
— Я всё думаю про нашу белую эмиграцию. Нельзя без слёз смотреть на их потуги остаться русскими. И православие для них — лишь некий элемент национального самосознания. Они держатся храма, как островка Родины, они и православные только потому, что русским так положено. А вот ты, Ансельм, если бы тебя судьба забросила в Россию, стал бы держаться католицизма, только потому, что ты француз?
— Я франк. Я держусь веры Меровингов и Каролингов, а таковая есть православие.
— Ну-ну-ну… Не кипятись. Никто у тебя Родину не отнимает. Хочешь считать себя франком на здоровье, только подумай о том, много ли это тебе даёт? Может быть, твои предки были галлами, которые держались религии друидов, а, может быть, готами, исповедовавшими арианство, да ведь и франки до крещения Хлодвига были арианами. Если для тебя очень важно, что твоя вера вера твоих предков, так это значит, что для тебя вера вообще не очень важна, ты, скорее всего, предкам и поклоняешься. А в моём роду, наверное, можно отыскать и татарина-мусульманина, и поляка-католика, и немца-протестанта, не говоря уже о предках — язычниках. И какой же веры мне теперь придерживаться, если я буду ориентироваться на свою национальность, каковую и установить-то толком невозможно?
— По-твоему, это имеет отношение к трагедии белогвардейцев?
— Вот именно! Боюсь, что для большинства белогвардейцев православие отнюдь не являлось внутренним стержнем, а лишь производной от национальности. Если они за Русь, значит они православные. Такая религиозность не дорого стоит, она очень поверхностна. И выходит, что Белое дело не имело крепкой духовной основы. Потому и проиграли, потому и не завещали нам ничего, кроме ненависти. Мой отец очень любил порассуждать о необходимости «хранить веру православную» и не отказывался порою «пройти сторонкой в Божий храм», но я вот вспоминаю… православие не так уж много для него значило. Это была лишь составляющая его оппозиционности большевизму. А вот когда он говорил: «Мы — русские», его глаза загорались. Только узнать бы ещё, что это такое — русские. Нет больше русских, Ансельм, и франков тоже нет. Но теперь эта мысль уже не приводит меня в отчаяние. Ты посмотри на наших монахинь — для них не имеет никакого значения, кто тут настоящий русский, кто вконец офранцузился, а кто и вовсе француз, прошу пардона. Главное, что православные. Национальность — категория весьма относительная, мы своей национальности никогда толком не знаем, но мы твёрдо знаем, что мы — православные. Это категория абсолютная. Что изменится, если ты завтра узнаешь, что в тебе франкской крови полпроцента? Да ничего. А вот если ты вдруг перестанешь быть православным, тут же изменится решительно всё.
Ансельм начал тихо светиться:
— Ты знаешь, Глеб, у меня тоже мысли где-то около этого бродили. Но, мне кажется, нельзя вот так легко отрекаться от своего национального лица.
— Да не отрекаюсь я, ты пойми. Ещё раз прошу, посмотри на наших монахинь — они-то и есть настоящие русские, именно потому что православные. Они совершенно не похожи ни на советских русских, ни на основную массу эмиграции. И красные, и белые сегодня заражены стихиями, совершенно чуждыми русскому национальному духу. А если сохранить веру, то и останешься русским. Здесь, в Провемоне — исконная, корневая Святая Русь. И это, может быть, именно потому, что никто тут её не пытается возрождать, просто хранят веру православную и всё. Так же и с тобой. Вот ты говоришь, что ты франк. Допустим. Но можешь ты мне объяснить, что это значит?
— Ну это в двух словах не объяснить.
— А надо — в двух словах, потому что размытое понятие лишено смысла. В тебе, может быть, смесь кельтской и готской крови с примесью романской, и всё-таки ты можешь быть настоящим франком, если поймёшь, что это значит. Известно ли тебе, что здесь, в Провемоне, в Средние века было командорство тамплиеров — рыцарей Христа и Храма?
— Я очень мало знаю о тамплиерах.
— Напрасно, mon ami. История храмовников — история героического духа франков. Храмовники хранили безграничную верность Христу, готовы были в любой момент отдать за Него жизнь. Думаю, не случайно именно Провемон стал убежищем русского православного монастыря. Монахини сохранили верность Христу среду тяжелейших гонений, страданий, скитаний. Эту землю Господь давно уже отдал верным своим слугам, потому она и досталась православным. Здесь, в Провемоне, мы с тобой Ансельм по-настоящему встретились — русский и франк.
— Как это замечательно, Глеб, как это возвышенно! Теперь ты, наверное, знаешь, какую клятву принести на могиле своего деда-белогвардейца?
— Да, знаю. Белогвардейцы, сохранившие верность присяге Государю Императору, сражались за Веру, Царя и Отечество. Мы начнём с первого и с самого главного — с Веры. На могиле своего деда я дам обет продолжить Белое дело, возрождая Православие. В первую очередь — в своей душе.
Глеб и Ансельм решили стать монахами и создать мужской православный монастырь, о чем тут же уведомили провемонского духовника. Седой иеромонах посмотрел на них очень тихо и печально, пожалуй, даже скорбно:
— Живите, как живёте, ребята. Молитесь, воцерковляйтесь. Вы же в Церкви-то ещё не дальше порога стоите, а уже на небо в сапогах лезете.
Ребята, молча, встали и поклонились духовнику, разговор был исчерпан. Но через неделю они опять пришли к нему:
— Батюшка, мы думаем, что уже злоупотребили монастырским гостеприимством, но не хотим отрываться от вашего храма. Благословите арендовать комнату где-нибудь в посёлке и остаться вашими чадами.
— Это можно. Бог в помощь.
— А ещё… не посоветуете ли какое-нибудь рукоделие? Мы пока живём на ренту Ансельма, но, когда станем монахами, откажемся от неё и будем зарабатывать на жизнь своими руками. Только мы ничего не умеем.
— Можно чётки плести. Есть у нас одна старушка-монахиня, большая по этой части мастерица. Обучит, если хотите. Можно по дереву резать, этому и я бы обучил, если способности проявите. А на счёт монашества — не хотите выбросить из головы?
— Никак невозможно. Тогда головы опустеют. Но мы не торопимся. Испытайте нас.
— Из меня-то какой испытатель. Бог испытает. А я помолюсь за вас.
Прошёл год. Ансельм и Глеб жили по-монашески. Неплохо научились плести чётки, а с резьбой по дереву получилось только у Глеба — ложки с крестиками, рамки для иконок выходили всё интереснее. Их изделия в монастырской лавке стали неожиданно хорошо разбирать. Они очень удивились тому, что эти несовершенные пробы пользуются таким спросом. Потом им объяснили, что любая ручная работа в современной Франции — большая редкость и весьма высоко ценится. Юные подвижники за работу свою денег не брали, оставляя выручку монастырю, но не скрывали счастливых улыбок — кажется, они вполне смогут жить трудами рук своих. В духовной жизни неукоснительно выполняли все требования духовника, который частенько их поругивал и никогда не хвалил, но был с ними по-отечески добродушен.
— Так вот насчёт монашества, отче…
— Вижу, вас не свернуть. Мне страшно за вас, ребята. Миряне вы добрые, а вот какими будете монахами — неизвестно. Где подвижничать решили?
— В горах Лангедока. Где-нибудь под Монсегюром.
— Орлы… А катаров не боитесь?
— Неужели там в наше время могут быть катары? — удивился Глеб.
— Толком не знаю. Что-то такое рассказывали. Скорее всего, это просто бандиты, считающие себя катарами. Не собираюсь вас пугать, но всякое там может быть, в этих горах. А вы же у меня ещё совсем жёлторотые.
— Мы с Богом, чего нам бояться?
— В первую очередь — самих себя, своих страстей. Да вы и сами всё знаете, только знания ваши — теоретические, а что выйдет на деле — ведомо лишь Богу. Может, что и выйдет? Если бы действительно в горах Лангедока появился православный мужской монастырь. Короче, отговаривать не стану, но и пострига пока не дам. Поезжайте, осмотритесь, постарайтесь там закрепиться. Наставника бы вам туда настоящего, у меня-то уже годы не те, а то бы тоже, рясу подоткнул и в горы. Подумаем и об этом. А пока поживите там пару-тройку месяцев и обратно ко мне. Тогда и решим — и с наставником, и с монашеством.
Тишина звенела в ушах. Вот уже второй месяц друзья не слышали ничего, кроме звуков природы и собственных голосов. Раньше они и представить себе не могли, что им будет настолько не хватать городского шума, а испытание тишиной окажется одним из самых тяжёлых. Меж собой они говорили теперь очень мало, неделя за неделей проходили в тяжёлой работе и молитве.
Побродив по горам, они вскоре отказались от первоначального романтического замысла поселиться в пещере — испугались, что не выдержат первобытной жизни, да и хорошей пещеры не нашли. Зато обнаружили на склоне горы небольшую полуразрушенную хижину километрах в десяти от деревни. Относительная близость человеческого жилья тоже повлияла на их выбор, совсем оторваться от людей они пока не были готовы. Поговорили с горцами и убедились, что к ним никто не предъявит претензий, если они займут никому не нужную хижину, где когда-то жил пастух-бобыль. Горцы покачали головами, не понимая намерения молодых людей, Глеб бодро и весело заявил: «Тишину очень любим, городского шума не переносим». Потом, когда тишина превратилась в пытку, он не раз вспомнил эти свои слова.
Они запаслись плотницким инструментом, едой на первое время и получили заверение, что могут безнаказанно срубить в лесу несколько деревьев. Только теперь Ансельму стало по-настоящему страшно (как они тут смогут всё обустроить своими руками?), но неунывающий Глеб заверил его: «Не переживай, брат, мы с отцом под Москвой дачу ставили, там я всему научился. Если рука топор держит, будут и стены и всё остальное». Работа закипела, Ансельм был в основном на подхвате, а Глеб за мастера. Раз в несколько дней ходили в деревню — то гвозди нужны, то кровельный материал, опять же — еда. Они брали у горцев хлеб, сыр, овощи — деньги пока были.
Вскоре хижина обрела жилой вид. Надо было ещё многое доделать, но с основным они справились. Справились! Ребята были счастливы. Своими руками они создали очаг новой жизни в глухом и заброшенном месте. Каждый день они неукоснительно вычитывали молитвенное правило, какое благословил духовник, старались непрерывно творить Иисусову молитву, прекрасно понимая, что молитвенники из них — никакие, хотя именно за этим они сюда и пришли. Они стояли пока только на первой ступеньке своего фантастического замысла, но ведь не струсили же, не убежали, пока выдерживают. А тишина. Да скоро они без неё и жить не смогут. В горах было очень тяжело, но чрезвычайно просто, их жизнь теперь стала реальной, настоящей, основанной на вечных ценностях.
— Надо будет на следующий год огород разбить, — деловито молвил Глеб, когда они отдыхали от трудов праведных.
— Да ведь здесь и земли почти нет.
— Не переживай, Ансельмушка, в карманах натаскаем. И козу свою заведём, сыр научимся делать.
Ансельм, улыбнувшись, покачал головой. Его русский друг брался за всё, и всё у него получалось.
— Часовню ещё надо будет поставить, — Глеб продолжал разворачивать свои замыслы. — Вот только строевого леса здесь почти нет, да и этот нам не позволят рубить в больших количествах. Кажется, придётся овладеть мастерством камнетёса.
— Неужели, Глеб, здесь и правда когда-то будет монастырь?
— Если Бог благословит. Главная проблема, конечно, не в брёвнах и не в камнях, это всё порешаем. А вот настоящего духовного наставника нам своими руками не создать. И без него — никак. Иначе мы с тобой не иноки, а бомжи.
— Батюшка говорил, что у него есть знакомый монах в Каркасоне. Может быть, удастся его увлечь нашим замыслом?
— В этом-то и основа всего, — едва вступая на почву духовных вопросов, Глеб сразу же терял самоуверенность, и это тоже нравилось Ансельму.
— Когда наш батюшка поймёт, что мы не просто фантазёры, он подскажет, как тут быть, познакомит, с кем надо. Есть ещё во Франции настоящие православные, это только мы с тобой их не видим, а батюшка — видит, — попытался ободрить друга Ансельм.
— Скоро уж надо к нему отправляться. С месяцок ещё тут провозимся и — в Провемон, — Глеб тяжело вздохнул, как студент перед экзаменом.
Посреди ночи Ансельма разбудил дикий дьявольский хохот. «Страхования!» — подумал Ансельм и тут же одёрнул себя: «Не такие уж мы подвижники, чтобы нам бесы являлись». Потом последовал сильный удар в дверь. Он соскочил с лежанки и увидел, что Глеб уже сидит, хлопая глазами, и так же ничего не понимает. От следующего удара хлипкая дверь соскочила с петель, и в хижину зашли два человека дикого вида — одеты, как горцы, бороды нечёсаны, а глаза… нет, не страшные, скорее подлые. Увидев друзей, дикари ощерились в гнилых улыбках, а потом опять дико расхохотались. Ансельма и Глеба, ещё не успевших проснуться, грубо вытолкали на улицу. Там стоял третий, он отличался от первых двух — борода поровнее и лицо поумнее, но улыбочка такая же гнилая. Смерив ребят высокомерным взглядом, он спокойно спросил:
— Кто это тут поганит наши горы?
Друзья, не успев собраться, промолчали. Тогда главарь разбойников не торопясь достал кинжал и, слегка уперев его в грудь Глеба, жёстко спросил:
— Ты кто?
— Белогвардеец, — Глеб окончательно пришёл в себя.
— А что это за зверь — белогвардеец?
— Православный. Ортодоксальный христианин, чтобы вам было понятно.
— Значит, мы не ошиблись, наши горы поганят христианские псы. А ты? — главарь упёр кинжал в грудь Ансельма и слегка проколол кожу. Чувствительная боль отрезвила юношу, он твёрдо прошептал:
— Я тоже христианский пёс.
— Знаешь своё место? — слегка усмехнулся главарь.
— Моё место — со Христом.
Едва Ансельм проговорил эти слова, как один из бандитов нанёс ему сильный удар в висок. Мир исчез.
Ансельм очнулся на своей лежанке. Всё тело страшно болело. Кажется, его ещё долго били после того, как он потерял сознание. Скосив глаза, он увидел, что и Глеб лежит на своей лежанке. Он почему-то сразу же понял, что Глеб мёртв. Такая неподвижность была в его теле, какой не может быть у человека, находящегося без сознания. Откуда он знает это, много ли мёртвых он видел в своей жизни? Знает и всё. Какая тишина. Теперь она радостна, эта тишина, теперь она — лекарство. Ансельм почему-то нисколько не опечалился смертью друга, он знал, что Глеб вышел победителем из смертельной схватки — умер христианином. Глеб так переживал, кто будет его наставником, а теперь сам Христос взял его к Себе. А как же он, Ансельм? Его глаза невольно скользнули к иконе — единственной в их хижине. И тут он увидел, что перед иконой на коленях стоит человек в старинном белом плаще, молитвенно сложив руки на груди. От этого человека исходил мир и покой, Ансельм сразу же почувствовал, что он — не из бандитов. Юноша попытался сесть, чем привлёк внимание незнакомца, который сразу же подошёл к нему и по-отцовски тепло прошептал:
— Лежи, лежи.
Теперь Ансельм заметил красный крест на левом плече его плаща. Он хотел спросить: «Вы — тамплиер?», но мысли путались, и он почему-то спросил:
— Вы — белогвардеец?
— Можно и так сказать, — незнакомец, тихо улыбнувшись, ответил по-французски, хотя слово «белогвардеец» Ансельм сказал по-русски.
Ансельм хотел ещё что-то спросить, но вместо этого его лицо исказила болезненная гримаса.
— Тебе бы поспать, мой прекрасный брат, а я пока помолюсь о твоём здравии, об упокоении твоего друга и об отпущении моих грехов.
Странно, но Ансельм действительно тут же уснул.
Когда он проснулся, тело болело по-прежнему, но голова прояснилась, одури не было. Незнакомец в белом плаще всё так же молился на коленях перед иконой.
— Ну как ты? — спросил его незнакомец.
— Не так хорошо, как мой друг, но терпимо.
— Незнакомец молча перекрестился.
— Как вас зовут? — спросил Ансельм.
— Брат Жан.
— Значит вы — тамплиер?
— Представь себе — живой настоящий тамплиер.
— А почему согласились с тем, что белогвардеец?
— Думаю, мой белый плащ даёт мне на это право. К тому же мы высоко чтим русских белых героев.
— Глеб был бы счастлив.
— Почему «был бы»? Глеб счастлив.
— А где разбойники?
— Мертвы. Я сбросил их тела в пропасть.
— Вы их убили?
— Нет, мой прекрасный брат, они сами умерли — от страха. Меня увидели и тут же умерли.
Ансельм попытался изобразить на своём лице понимание, потом спросил:
— Вы знаете, кто они были?
— Ещё бы мне не знать. Катары. Настоящие катары. Я их целую неделю выслеживал. А вот сюда опоздал на пару минут. Они успели вас избить. Один из ударов, полученных твоим другом, оказался смертельным.
— Зачем вы их выслеживали?
— Они — христоненавистники. Убийцы христиан. Полагают, что все христиане повинны в кровавых деяниях Симона де Монфора.
— При чём тут мы? Это же католики.
— Так ты — православный?
Ансельм молча кивнул. Тамплиер, улыбнувшись, заверил:
— Мы тоже православные.
Ансельм опять молча кивнул, словно и не ждал другого.
— Мы не тронули бы катаров, — продолжил брат Жан, — пусть бы верили во что хотели. Но они начали убивать христиан, а в этих горах, сам понимаешь, власти нет. Орден решил вмешаться. Теперь мы знаем, где их основная база. Один из них, перед тем, как умереть, всё мне рассказал.
— Вы пытали его, а потом убили, — равнодушно заключил Ансельм.
— А потом убил, — жёстко согласился тамплиер, явно не собираясь оправдываться, впрочем, подумав, добавил: — Это война, сынок.
Ансельму повезло, он не получил сколько-нибудь серьёзных травм — только сильные ушибы, через сутки он уже ходил. Они с братом Жаном похоронили Глеба, помолились на его могиле.
— Тебе не стоит здесь оставаться, — сказал тамплиер.
— А можно — к вам?
— Думаю, что можно. Раз уж так вышло.
Ансельм принял монашество через год, как попал в Орден тамплиеров. Он взял имя Августин. Это имя много значило для него. Блаженный Августин, равно чтимый и Западом, и Востоком, представлялся ему мостиком между ними.
Брат Августин не испытывал стремления к рыцарству, рассудив, что путь меча — не для него. Он решил стать священником. Так в Ордене появился отец Августин. Здесь он обрёл себя.
В горы Лангедока никогда больше не возвращался. Только изредка снился отцу Августину сон. Будто бы вокруг хищины, где они жили с другом, выросла обширная лавра, и игуменом в этой лавре, конечно же, был Глеб. Он видел, как выходит из прекрасного храма после богослужения игумен Глеб — приосанившийся и седобородый, а лицо его было по-прежнему молодым.
— Мир тебе, брат Андрэ, — на пороге комнаты Сиверцева торжественно и неуклюже вырос Зигфрид. Тевтон был в европейском костюме, который ему совершенно не шёл, он выглядел растерянным и явно не знал, куда деть руки.
— Зигфрид! Как я рад, что ты здесь, прекрасный брат Зигфрид, — Сиверцев был сама непринуждённость. Он подошёл к тевтону и сдержанно, но тепло обнял его, чем, кажется, немало помог гостю преодолеть смущение. — Проходи, дорогой. Кофе будешь?
— Не употребляю. Ни кофе, ни чая.
— Значит, про спиртное и спрашивать не надо. Чем же тебя угостить?
— Если есть, минеральная вода или сок.
— Не проблема — Сиверцев достал бутылку минералки и разлил её по двум высоким стаканам.
Ждать от Зигфрида, что он будет, отдавая дань вежливости, начинать разговор с ничего не значащих фраз, не стоило. Андрей доброжелательно посмотрел на германца и молча кивнул в знак своего внимания.
— Брат Андрэ, я слышал, что ты пишешь про наших?
— Сразу же спешу разочаровать тебя, брат Зигфрид. Я не писатель. Обратить судьбу в роман или в элегантную новеллу — задача для меня совершенно непосильная. Я лишь выписываю схемы. Как бы это объяснить. Намечаю основные вехи тех путей, которыми люди приходят в Орден. Они очень разные, эти схемы и пути. У меня одна задача — не позволить забвению поглотить ни один из них, обозначить векторы, направления.
— Это дело. Это правильно. Это и надо. Я хочу рассказать про свой путь. Не обо мне речь. Но немцы должны кое-что узнать. Узнать и понять.
Отец Зигфрида очень любил, когда напьётся, распевать нацистские песни, а поскольку пил он много и часто, звуки «Хорста Весселя» оглашали их дом регулярно. Мать Зигфрида не раз говорила своему мужу: «Перестань, глупая голова, пока тебя не посадили. В наше время такие песни до добра не доведут». У Зигфрида отцовские вокальные упражнения никакого страха не вызывали, он скорее чувствовал отвращение. Героические марши в исполнении пьяного убожества звучали, как чудовищная профанация высших идеалов. Зигфрид считал себя нацистом. Не каким-то там неонацистом или скинхедом, а настоящим нацистом, может быть, последним, потому что других, таких же, как он, Зигфрид не знал.
Однажды, в поисках родственных душ Зигфрид пошёл к скинхедам, но вскоре почувствовал к ним такое же отвращение, как и к отцу. Вечно грязные, неряшливо одетые, тупые и совершенно бессмысленные скины не имели за душой ничего, кроме желания подраться с «чёрными» и другими «неполноценными», при этом собственную полноценность ничем не могли подтвердить. Однажды он сказал знакомым скинхедам: «Да вы сами — быдло, вы панки, а не нацисты. Отбросы. Настоящие нацисты таких, как вы, в первую очередь отправили бы в концлагерь, чтобы не позорили великую германскую нацию». Скины жестоко избили Зигфрида, на том их знакомство и завершилось.
Зигфрид, однако, решил не оставлять свой поиск настоящих нацистов, твёрдо зная, какими они должны быть: суровыми и бесстрашными, подтянутыми и аккуратными, готовыми в любой момент пойти на бой за возрождение Великой Германии и отдать за неё жизнь. Однажды его привели в некую военно-спортивную группу, прозрачно намекнув, что здесь он найдёт тех, кого ищет. Сначала Зигфриду понравилось: ребята здесь подобрались боевые. Непрерывные тренировки до изнеможения, обучение бою на ножах и кулачному бою — это было то, что надо. Не раз, приходя домой с разбитым лицом, он чувствовал себя счастливым. Их наставник, которого принято было называть «господин Курт», производил впечатление человека с реальным боевым опытом. Спрашивать Курта о его прошлом было строжайше запрещено, за самым невинным вопросом, например, о том, где он так научился драться на ножах, как правило, следовал удар в челюсть. О нацизме здесь тоже не рекомендовалось говорить. Курт часто повторял, что они должны быть сильными, нечувствительными к боли и готовыми выполнить любой приказ руководства. Иногда он намекал на то, что получает распоряжения «сверху», от тайной нацистской организации, но ни разу ничем это не подтвердил.
Занятия в военно-спортивной группе Курта очень много дали Зигфриду — он теперь неплохо дрался на ножах, весьма сносно стрелял из учебного оружия, был способен к многодневным пешим переходам, научился терпеть боль и беспрекословно подчиняться. Так прошёл год, и Зигфрид начал сомневаться в том, что их группа имеет хотя бы малейшее отношение к настоящим нацистам. Он заметил, что глаза Курта загораются лишь когда речь заходит о своевременной плате за обучение. Платить здесь приходилось немало, гораздо больше, чем в обычной спортивной секции. Зигфрид уже закончил школу и работал на стройке помощником каменьщика, деньги у него были, он без сожаления отдавал за эти занятия чуть ли не треть зарплаты. Но его смущало полное отсутствие идеологической подготовки в их группе. Несколько раз ему зловещим шёпотом намекнули на то, что о нацизме нельзя говорить из соображений конспирации. Он это понял, как недоверие к нему и даже как доказательство серьёзности их организации. Естественно, основательные люди не станут доверять парню, который пришёл с улицы. Но время шло, а доверие не возрастало, и тогда за уклончивостью намёков на волю высшего руководства Зигфрид начал явственно различать фальшь — им, похоже, нечего сказать, и они делают вид, что им есть о чём молчать. А что если Курт приобрёл боевые навыки, наёмничая где-нибудь в Азии, и никогда не был связан с настоящими нацистами? Может быть, для него эта группа — просто способ заработать на доверчивости пацанов?
Однажды, Зигфрид без задней мысли процитировал одно из самых известных высказываний фюрера. Курт усмехнулся и обронил: «Полная чушь». Зигфрид понял, что Курт не знает наследия фюрера. Тогда он сознательно решил проверить своего наставника, как бы невзначай обронив при нём, что евреям Гейдриху и Кальтенбрунеру лишь случайно удалось избежать концлагеря. Курт тоже как бы невзначай заметил: «Им было бы там самое место». Зигфрид окончательно понял: Курт ничего не знает ни о рейхе, ни о нацизме. Он ушёл из его группы.
Чем был нацизм для Зигфрида? Победой высокого над низменным, торжеством идеалов над повседневностью, героическим прорывом в лучшим мир. Тогда любой мальчишка с улицы мог вступить в СС рядовым и через пару лет уже командовать штандартом — были бы только сила, храбрость, воля и верность. А сейчас всё решают деньги. Рейхом правили герои, современным миром — торгаши. Сейчас и бедняки ни о чём не мечтают, кроме денег. Дай германским рабочим побольше пива и сосисок, и они будут счастливы. Уж Зигфрид-то хорошо знал рабочую среду, в которой вырос. А фюрер подарил простым рабочим мечту о величии нации и указал способы для осуществления этой мечты. Надо взять в руки оружие и, не испытывая страха, подчинить себе трусливых торгашей, ничтожных толстосумов. Так Зигфрид понимал нацизм. И искал единомышленников, чтобы вместе с ними вырваться из тусклого убожества повседневности.
Симпатии к нацизму начали нарастать в нём ещё в средних классах школы под влиянием антинацистской пропаганды. Учителя постоянно внушали им, что все немцы несут коллективную ответственность за зверства нацистов и должны каяться за них перед всем миром. Зигфрид рос мальчонкой простым и бесхитростным, однако, фальшь хорошо чувствовал, а потому вся его натура восставала против этой теории коллективной вины. Почему он должен у кого-то просить прощения, если он не сделал ничего плохого? Он мог бы ещё попросить прощения за своего деда, капитана вермахта, который сражался на Восточном фронте, но и за дедом своим он не знал никаких дурных поступков. С пожелтевшей фотографии на него смотрел бравый офицер с честным открытым лицом. Его улыбка была очень доброй и светлой. Неужели он мог совершить какие-то там военные преступления? Зигфрид хотел гордиться своим добрым и храбрым дедом, хотел быть на него похожим и не имел ни малейшего желания его осуждать. Вот потому-то он так радостно и быстро поверил словам, которые сказал старый рабочий, друг его отца, заглянувший к ним в гости: «Не верь, парень, всей этой брехне про зверства нацистов. Наши сражались честно, а вот англосаксы, действительно, совершили множество военных преступлений, только их почему-то никто не судил, и они ни у кого прощения не просили».
Юный Зигфрид слушал старого рабочего, как заворожённый. Так нежелание просить прощения за чужую вину переросло в стремление доказать, что и вины-то никакой не было, и даже более того — переложить вину на союзников. Но, к сожалению, те, кто так думал, не могли ничего обосновать, имели мало фактов. И тогда Зигфрид набросился на книги, какие только смог найти.
Мемуары полководцев вроде Гудериана и Манштейна мало понравились Зигфриду. Эти вояки пытались доказать, что лично они ни в чём не виноваты, а в зверствах повинны эсэсовцы и лично Гитлер. Когда служили фюреру, он не казался им плохим, а на мёртвого вождя стали валить всю вину. Больше понравились юноше воспоминания таких лихих орлов, как диверсант Отто Скорцени и подводник Гюнтер Прин. Вот это были настоящие герои — ничего не боялись и фюреру не изменили до последнего своего вздоха.
Огромное впечатление на Зигфрида произвело то обстоятельство, что американский суд три года пытался найти в действиях Скорцени какие-то «военные преступления», да только так ничего и не отыскал, потому что Большой Отто был героем, а не палачом. И даже американский полковник в конечном счёте сказал: «Мне остаётся лишь сожалеть, что такой офицер, как мистер Скорцени не служил в моей части». Вот она — правда! Вот оно — оправдание штандартенфюрера СС! А капитан Прин, сражавшийся с англичанами? Он спасал английских моряков, которых свои же командиры-подлецы бросали тонуть в открытом море. Вот они-то и были извергами, эти английские офицеры, относившиеся к своим же матросам хуже, чем немецкий капитан, настоящий рыцарь, великодушно спасавший врагов.
Потом Зигфрид узнал ещё немало подобных фактов. Как, например, англичане сбивали над Ла-Маншем немецкие санитарные самолёты. Вот где настоящие военные преступления. А бомбардировки Дрездена? Эти нелюди англосаксы с непостижимым дьявольским остервенением бомбили город, в котором не было ни одного военного объекта, ни одной воинской части. Они уничтожили 200 тысяч человек мирного населения. Зачем? Во имя чего? Армия должна сражаться с армией, а не с мирными жителями. Это ли не самый вопиющий пример военного преступления, но за него почему-то никто у немцев прощения не просил и никто этих нелюдей не судил. Зигфрид понял: всё, что им рассказывают про войну построено на лжи, а потому, когда ему что-то говорили про зверства СС или про ужасы концлагерей, он автоматически воспринимал это, как очередную ложь. Ну, может быть, что-то такое немцы себе и позволяли, но как можно верить англосаксам — палачам Дрездена и Хиросимы, как можно верить пропаганде большевистских комиссаров — палачей собственного народа? Про ужасы большевизма Зигфрид так же немало читал. Он узнал, что на фронте большевики совершенно не щадили своих солдат, тысячи посылая их на убой безо всякого смысла. И эти-то изверги что-то ещё смеют говорить про ужасы нацизма.
Зигфриду казалось, что он понял наконец правду о нацизме и вообще — правду истории, и вот тогда-то он обострённо ощутил своё одиночество. Большинство немцев, которых он видел вокруг себя, втихаря уважали Гитлера, но о нацизме говорить не любили. Каяться им ни в чём не хотелось, но бороться за правду — тем более, они просто предпочитали уходить от этой темы. Отдельные группы неонацистов выглядели полными придурками и ничтожествами, они только позорили боевую память третьего рейха. И вот теперь оказалось, что военно-спортивная группа Курта — тоже никакие не нацисты, просто спортсмены-коммерсанты и не более того. Тогда Зигфрид сказал себе: «Настоящих немцев больше нет». Он пережил это открытие, как личную трагедию.
Некоторое время он пребывал в прострации отчаяния, но его активная натура требовала действия, не такой это был человек, чтобы вечно лить слёзы по безвозвратному величию минувшего. И вот он узнал про «Одессу» — организацию бывших эсэсовцев, которые после войны создали секретные базы в Латинской Америке и Африке. Там-то и надо искать настоящих ветеранов СС, которые, конечно, уже воспитали настоящую смену. Вот к кому следует примкнуть, да только как их найти? Никто не скажет. Не многие эсэсовцы жили открыто. Отто Скорцени, который никогда ни от кого не прятался, уже умер. И тут Зигфрид узнал про штандартенфюрера СС Леона Дегрелля, командира бельгийского легиона СС «Валлония». Было досадно, что Дегрелль не немец, а бельгиец, но перед немецкими эсэсовцами он имел одно преимущество — был всё ещё жив.
У Зигфрида вновь появилась цель — встретиться с этим славным штандартенфюрером, который, как и его дед, сражался на восточном фронте. Зигфрид накопил денег и отправился к Дегреллю в Испанию. Он чувствовал, что домой уже не вернётся.
Леон Дегрелль возглавлял крупную строительную компанию, и Зигфрид понимал, что ему будет не так просто пробраться к такому большому человеку, но это оказалось на удивление легко.
— Юноша, если вам нужна работа, для этого вовсе не обязательно тревожить шефа. Обратитесь в кадровую службу, — сказала в меру симпатичная строгая секретарша.
— Мне не нужна работа. Во всяком случае — пока. Не об этом я намерен говорить с господином Дегреллем.
— Что же вы хотите?
— Правды.
— Мне так и доложить?
— Так и доложите. Молодой немец ищет правду и надеется на содействие господина Дегрелля.
Через минуту секретарша вернулась от шефа в приёмную и обескураженно сообщила:
— Вам назначено на завтра на 18 часов.
Суровое, почти неподвижное лицо старика тронула едва заметная улыбка, когда он протянул Зигфриду руку:
— Что ты хочешь знать? — его голос прозвучал доброжелательно и устало.
— Я хочу найти настоящих нацистов.
— С тобой говорит штандартенфюрер СС.
— Господин штандартенфюрер, вы не обидитесь, если я выражу сомнение в том, что вы настоящий нацист? — Зигфрид постарался придать своему голосу как можно больше почтительности.
Где-то в самой глубине глаз Дегрелля засветился огонёк настоящей заинтересованности:
— Давай, парень, со мной можно.
— Я прочитал о вас всё, что смог найти. Я восхищаюсь вами. Вы 75 раз ходили в рукопашную. Рыцарский крест с дубовыми листьями вам вручил сам фюрер. И всё-таки я не понимаю. Говорят, вы были христианином.
— Почему «был»? Я остаюсь христианином.
— Но важно, что было тогда. Я читал, что членство в СС и христианское мировоззрение несовместимы.
— Это Борман как-то брякнул. Мартин Борман. До сих пор не могу понять, кто дал право этому бухгалтеру определять, что совместимо с членством в СС? Сам он эсэсовцем не был и в рукопашную не ходил.
— Но ведь известно, что Третий Рейх возрождал древнегерманское язычество, которое и было его духовной основой. Воины Рейха стремились в Валгаллу.
— Чушь. Полная чушь, — прохрипел эсэсовец. — Впрочем, ты затронул очень больной и чрезвычайно сложный вопрос. Действительно, языческие тенденции в Третьем Рейхе были, но не более, чем тенденции наряду с другими. Ты, конечно, помнишь, какой девиз был выбит на пряжках ремней солдат вермахта?
— С нами Бог.
— Вот именно. Бог, а не боги. Не правда ли, это несколько странно для армии язычников? А тебе известно, что Церковь в Третьем Рейхе получала государственную субсидию? С чего бы это государство, духовной основой которого было язычество, столь явно и открыто поддерживало христиан? И на освобождённых от большевиков русских территориях мы всюду открывали христианские храмы. А твой покорный слуга дослужился в СС до чина полковника и при этом всеми своими силами и каждым своим шагом утверждал христианские убеждения.
— Но ведь рейхсфюрер СС Генрих Гимлер был язычником.
Дегрелль устало улыбнулся:
— Он, действительно, увлекался язычеством. К слову сказать, его увлечение раздражало фюрера. Вообще, у нашего Гимлера в голове была настоящая религиозная каша.
— Вот я и не могу никак эту кашу расхлебать.
— Правда заключается в следующем. Государственная политика Третьего Рейха не была основана на какой-либо конкретной религиозной доктрине. Процветала религиозная свобода. Достаточно посмотреть на религиозные убеждения высших руководителей рейха. Гимлер, действительно, был этаким языческим романтиком, но это были его личные убеждения, отнюдь не обязательные для всех эсэсовцев. Геббельс, напротив, не уставая, говорил о себе, как о католике. Лично я полагаю, что доктор Геббельс был не лучшим христианином, однако, не сомневаюсь — вполне искренним. Мартин Борман всюду твердил про свой атеизм. К слову сказать, я никогда не любил этого жирного хитреца. Он был человеком мелким и мутным. Так вот эти тенденции — языческая, христианская, атеистическая и другие помельче в Рейхе противоборствовали, и ни одна из них не успела победить.
— А вы полагали, что настоящие нацисты должны быть христианами?
— Да, я так полагал и не уставал говорить об этом. В Рейхе возрождали староевропейские консервативные ценности — всячески поддерживали институт семьи, материнство, твёрдые нравственные устои, прививали молодым идеалы жертвенного служения и так далее. Все эти ценности по происхождению своему — христианские, абсурдно было развивать и утверждать достижения христианства на основе язычества и атеизма. Впрочем, такого абсурда в Рейхе было немало, но мы развивались и шли в правильном направлении.
— Чем же тогда был нацизм? Во имя чего вы вели свою борьбу?
— Это была борьба идеалистов и романтиком против двух типов материализма — либерального и марксистского. Мы сражались за Красоту, Гармонию, Духовность, Справедливость. Мы сражались за нечто Великое, а разве это возможно без Христа? Ты посмотри какой мир построили победители. Это царство денег и низменных инстинктов. Всё кругом продажно, низко и материально. Нет никакой высшей Идеи. Это и есть язычество. И против этого язычества мы сражались.
— Для меня всё это совершенно неожиданно, господин штандартенфюрер. Я думал, всё проще — мы сражались за торжество арийской расы, за то чтобы вернуть мир его подлинным хозяевам — арийцам.
— А ты полагаешь, достаточно быть голубоглазым блондином и уже в силу одной только окраски ты будешь человеком, достойным подлинной власти? Где ты найдёшь сейчас чистокровных арийцев? Надо возрождать арийский дух, а он-то и есть дух христианский. Настоящее национальное возрождение народов Европы возможно только через возрождение христианское. Ты ищешь правду? Христос есть Солнце Правды. Именно христианство воплощает в себе высокие мужественные идеалы благородства, великодушия, справедливости. Ты ищешь настоящих нацистов? Ты не найдёшь их. Какой народ Европы пойдёт сегодня за Солнцем правды? Разве что русские. У них, пожалуй, наилучшие шансы на национальное возрождение через возрождение христианское. Русские — единственный молодой народ Европы, ещё сохранивший в себе остатки Духовности, хотя и в искажённом варианте.
— Но вы сражались с русскими, для того, чтобы их покорить.
— Я никогда не сражался с русскими, я сражался с большевиками, а точнее — с большевизмом, который отрицает Дух, Религию, Традицию. Мы были последними крестоносцами Европы, поднявшими знамя веры против знамён безбожия.
У Зигфрида вдруг невыносимо заболела голова, он почувствовал себя совершенно разбитым. Дегрелль постоянно сбивал его с мысли своими рассуждениями о христианстве. Юноша был равнодушен к религии: христианства сторонился, язычеством не увлекался, к атеистам себя не относил. Его сосредоточенность на величии Третьего Рейха не оставила в душе никакого места для религиозных убеждений и переживаний. Глубокая религиозность героического штандартенфюрера его не отталкивала, но и усвоить, переварить её он был пока решительно не в состоянии. Сам по себе Дегрелль очаровал его и заворожил, но как трудно оказалось говорить с человеком такого масштаба. «Всё по-другому, всё не так», — стучал молоточек в голове Зигфрида. Он перевёл дух и постарался перевести разговор в привычную плоскость.
— Господин штандартенфюрер. — Одна только возможность обратиться к живому человеку по эсэсовскому чину пьянила Зигфрида. — Я никак не мог разобраться с русскими. В одних книгах написано, что они унтерменши, а в других, что русские — арийцы, хотя, конечно, не самые лучшие. Но не могут же унтерменши быть арийцами.
— А мы искали ответ на этот вопрос на поле боя. Когда мы пришли в Россию, то были уверены, что встретимся с унтерменшами азиатского типа и варварской культуры. Так нам внушала наша пропаганда, идиотские брошюрки, которые меня ещё и распространять заставляли. Как-то на фронт прибыла тыловая партийная крыса и попыталась выругать меня за то, что я не распространяю брошюры об унтерменшах. Я просто послал его подальше, едва удержался, чтобы не пристрелить. Столкнувшись с русскими, мы очень быстро поняли, что вся наша пропаганда об унтерменшах — грязная ложь. Русские люди — мужественные, благородные и великодушные, мы восхищались ими. Это великий народ. Тогда я понял, что идея колонизации России — опасная иллюзия. Уже через год сражений на Восточном фронте, я был убеждён, что русские должны войти в состав Рейха на равных основаниях. Как только смог, я высказал эту точку зрения Гимлеру и Гитлеру.
— А они?
— Мою идею не отвергли, ведь я не один так думал, но и не поддержали — слишком многие думали иначе. Пангерманские предрассудки были очень сильны. Да это и не удивительно. Ведь нацистская партия поднялась на идее возрождения Германии и только Германии. Гитлер первоначально был узконациональным, чисто германским лидером, но он развивался, постепенно учился мыслить общеевропейскими категориями. К сожалению, процесс осознания общеевропейского единства шёл очень медленно, и во многом его тормозил Гимлер. Мне стоило огромного труда убедить Гимлера даже в необходимости предоставления равных прав валлонцам, французам и другим европейцам негерманского происхождения. Впрочем, реальность убеждала лучше меня — немцы не могли воевать без нас. В итоге миллионные Ваффен-СС лишь на 400 тысяч состояли из немцев. Среди «зелёных СС» немцы оказались в меньшинстве.
— Да, я читал, что Ваффен-СС стали первой общеевропейской армией.
— А ты знаешь, мой мальчик, не первой. В средние века существовал Орден тамплиеров. Это были воины-монахи. Они-то и создали первую общеевропейскую армию. Костяк Ордена составляли французы, но туда входили так же англичане, немцы, испанцы, итальянцы.
Дегрелль встал, сделал несколько шагов по кабинету. Он, кажется, о чём-то напряжённо думал, хотел сказать нечто очень важное про тамплиеров, но вдруг усмехнулся и пошептал.
— Тамплиеры были такими же разбойниками, как и мы.
Зигфрида совершенно не интересовали тамплиеры, его заботила исключительно честь СС, а потому он обиженно заявил:
— Я убеждён, что все рассказы о зверствах СС — грязная клевета.
— Ах, мой мальчик. Если бы всё было так просто. Эта война сделала всех нас невероятно жестокими. Невозможно 4 года купаться в крови и остаться эталоном гуманизма. Конечно, мы старались воевать по-рыцарски, но если человек постоянно убивает, он поневоле становится нечувствительным к чужой боли. Мы не били рекордов по жестокости, но, во многом, были такими же бесчеловечными, как и любая долго воюющая армия. А после войны вытащили на свел всю эсэсовскую грязь, ни слова не сказав про жестокость и бесчеловечность союзников.
— Но рассказы про ужасы концлагерей — точно клевета.
— Тут мне трудно что-либо сказать. Я сражался на фронте и мне было не до того, чтобы проводить инспекции в концлагерях. Впрочем, мне известно, что коменданта Бухенвальда, заслуженного штандартенфюрера СС, по личному приказу фюрера расстреляли за издевательства над заключёнными. Издевательства, конечно, были, но за это в Рейхе карали. Вообще, в СС не любили садистов. Садизм — верный признак разбалансированной, ущербной психики, и мы полагали, что людям с такой психикой не место в СС, у нас ценили уравновешенных людей. После войны я не мало почитал про ужасы сталинских лагерей. Думаю, в Бухенвальде было не страшнее, чем на Колыме. А про секретные тюрьмы ЦРУ в Европе ты знаешь? Когда падёт США, этот колосс на глиняных ногах, о них узнают все, и тогда Бухенвальд многим покажется санаторием. Мы старались быть честными христианами, во всяком случае — мои парни из легиона СС «Валлония». Это у нас плохо получалось, но мы сражались за Высшую идею, за наше Солнце Правды. Для узколобых германских националистов мы были чужими, а потом для всего мира стали извергами-нацистами. Но у наших клеветников нет Веры, а нашу Веру у нас никто не отнимет.
Зигфрид встал и покачнулся, ноги едва держали его. Неожиданно для самого себя он сказал:
— Пусть Бог хранит вас, господин штандартенфюрер.
Старик глянул на него исподлобья. В его колючих глазах можно было уловить благодарность.
Откровения старого эсэсовца потрясли Зигфрида, но, конечно, не сделали из него нового человека. Его цель осталась прежней — войти в братство нацистов. На следующий день он спросил Дегрелля напрямик:
— Господин штандартенфюрер, вы не могли бы вывести меня на «Одессу»?
— Зачем тебе «Одесса», мой мальчик?
— Хочу быть среди своих.
— Значит, ты ничего не понял. Организация бывших эсэсовцев после войны сыграла свою роль, но сейчас не представляет из себя ничего стоящего. Это маргиналы, играющие в истинных арийцев и совершенно не представляющие, что это значит.
— Но они — настоящие нацисты, прямые наследники последних выживших героев.
— А что такое настоящие нацисты? Наши секретные базы давно уже служат лишь перевалочными пунктами для криминального бизнеса. К тому же, насколько мне известно, там взяли верх тёмные, языческие тенденции, которые всегда присутствовали в нашей среде. Там нет Солнца.
— И всё же.
— Ты упорный мальчик. Я дам тебе номер телефона. Но потом — не ищи виноватых.
— Яволь, господин штурмфюрер, — бодро и радостно выпалил Зигфрид и молодцевато щёлкнул каблуками.
Он был совершенно счастлив. На нём была новенькая чёрная форма рядового СС, он наконец-то был среди камрадов. Дегрелль — старик-одиночка и вскоре уйдёт из жизни, а здесь все свои — и молодой штурмфюрер с жёстким лицом, и весь их взвод — весёлые, решительные парни. А говорят, что где-то в глубине базы живёт группенфюрер, сражавшийся ещё под знамёнами Рейха. Не многие удостаивались чести увидеть его, но он, конечно, видит всех.
В пустыне на юге Египта, километрах в пяти от оазиса, стояла прямо посреди песков заброшенная руина, вряд ли способная заинтересовать кого-либо, кроме скорпионов. Ни один нормальный человек ни за что не приблизился бы к этому месту. Да и не появлялось тут никаких людей — пустыня вдали от караванных путей никого не интересовала, так что некому было обратить внимание на тех странных субъектов, которые время от времени выходили из руин, а потом опять там исчезали. Феллахи, населявшие оазис, были немногочисленны, абсолютно безграмотны и совершенно нелюбопытны. Они давали субъектам воду, продавали зерно, финики, иногда предоставляли верблюдов, но никому не смогли бы объяснить, где живут и чем занимаются их странные партнёры.
Если бы кто-то захотел найти объяснение всем этим странностям, его следовало искать не в руинах, а под ними, где располагался обширный подземный бункер. Он был вырыт и благоустроен ещё в 50-е годы XX века, сначала просто ради убежища — здесь коротали свои безрадостные дни бывшие эсэсовцы, скрывавшиеся от суда. Золото НСДАП и благосклонность египетских властей к нацистам сделали своё тихое и незаметное дело — среди пустыни возник очаг жизни, если это можно было назвать жизнью. Со временем здесь закипел бизнес, так же тихо и незаметно, но активно и прибыльно. Нелегальная торговля оружием — один из самых выгодных видов чёрного бизнеса, и кому ещё было этим заниматься, если не остаткам Чёрного Ордена? В оружии эти парни знали толк, и рисковать им было — не привыкать, и под землёю жить они были вполне согласны. Они лишь не соглашались считать себя заурядными бандитами, а потому сохраняли эсэсовскую иерархию, обращались друг к другу по чинам, внутри бункера носили чёрную форму, проводили ритуалы и даже устроили небольшой, но впечатляющий зал славы СС.
Когда Зигфрид впервые попал в этот зал, дыхание перехватило от счастья, наконец-то он там, где всегда хотел оказаться. Вот чёрное эсэсовское знамя со сдвоенной руной «зиг» — настоящее боевое знамя, спасённое с полей сражений. Вот знамя Рейха — чёрная свастика в белом круге на красном поле. Бронзовые бюсты Гитлера и Гимлера. Несколько портретов суровых эсэсовцев в чёрной форме. Одного из них Зигфрид узнал — это Зепп Дитрих, обергруппенфюрер СС, командир дивизии «Мёртвая голова». И всюду — таблички с названиями эсэсовких частей в обрамлении искусственных венков. А белого металла череп и кости на плите чёрного мрамора! Сколько мрачного, леденящего душу величия было во всём этом антураже!
Зигфрид попал сюда не сразу, его целый год проверяли, посылая то к одному загадочному человеку, то к другому. И вот наконец свершилось — он одел чёрную форму. Дни полетели однообразно, ему поручали в основном работу грузчика и экспедитора, он таскал и сопровождал тяжёлые деревянные ящики с оружием. Штурмфюрер, почему-то всегда смотревший в сторону, по поводу этих ящиков дал пояснение исключительно прямое: «Мы поставляем оружие для уничтожения недочеловеков». У Зигфрида холодок пробежал по спине, но он понимал, что серьёзные люди, естественно, не в игрушки играют.
Он сопровождал караваны по пустыне, автомобили по дорогам Египта и грузил, грузил, грузил. Африканская жара ни сколько не угнетала его, а постепенно начала даже нравиться. Такое яркое солнце в пустыне! Иногда в памяти всплывали слова Дегрелля: «Солнце Правды». Так просто всплывали и всё, не воскрешая того смысла, который вкладывал в них валлонский католик.
Так он вкалывал несколько месяцев за одну кормёжку, и наконец, штурмфюрер сказал, что ему положена увольнительная в город — выдадут деньги достаточные для того, чтобы погулять в ресторане среднего уровня и посетить вполне приличный бордель. Денег Зигфрид не взял, от ресторана и борделя отказался. Он попросил разрешения провести увольнение в зале славы СС — в уединении. Штурмфюрер криво усмехнулся и, как всегда глядя куда-то в сторону, разрешил.
Мрачное, могильное очарование эсэсовского мемориала вновь захватило душу Зигфрида. Он ни о чём не думал, а только упивался жутковатым колоритом подземелья, надеясь впитать в себя дух СС и почерпнуть в этом внутреннюю силу. Произошло, однако, то, чего он совершенно не ожидал — душу наполнил леденящий ужас. Он смотрел на бюсты Гитлера, Гимлера, на портреты знаменитых эсэсовцев и всем сердцем ощутил, что они. мертвы. Он долго не мог понять, что это значит — понятно, что все они давно умерли, и их неодушевлённые изображения тоже не могут быть живыми. Что же тогда значит «мертвы»? Он ощущал присутствие некой мистической смерти, ужасающего духовного небытия. Он хотел провести в этом зале сутки, но вдруг понял, что не сможет вынести и часа. Вдруг так захотелось помолиться, то есть обратиться к кому-то, рассказать о себе, излить душу. Но ведь это же не храм, тут некому молиться, все они мертвы, мертвы, мертвы. Всех этих людей не существует в каком-то очень глубоком внутреннем смысле.
Зигфрид закрыл глаза и увидел лицо Дегрелля. Это было живое лицо. И он стал разговаривать с ним, вспоминая слова валлонца, спорил, даже кричал на него, потом соглашался, и вот старик, наконец, убедил юношу. «Вы правы, штандартенфюрер, Бог — это Вечная Жизнь, вне Бога — Вечная Смерть, а они — вне Бога. И я — вне Бога». Он осознал эту истину, как смертный приговор своей душе.
Зигфрид покинул могильный мемориал в состоянии близком к безумию. Сразу же вышел на улицу. Всё кругом было залито белым солнечным светом. Так ли сияет Солнце Правды? Видимо, ему не дано это узнать.
С того страшного дня он выполнял свои обязанности механически. Присутствие камрадов, с которыми он жил в одной комнате, стало совершенно нестерпимым. Их глупые разговоры были посвящены в основном ресторанам и борделям. Они вечно ныли по поводу качества еды в убежище, ругали штурмфюрера, ссорились из-за пачки сигарет, рассказывали похабные анекдоты и дико ржали. Иногда смеялись над своей принадлежностью к СС, за что Зигфрид раньше пришиб бы любого, а сейчас ему стало всё равно. Он научился терпеть этих придурков, потому что смирился со смертью своей души. Как-то он подумал о том, что Бог укажет ему выход из безвыходной ситуации, и ему стало легче. Не то, чтобы совсем легко, но на какое-то время терпимо. Зигфрид почувствовал стремительное приближение развязки.
— Ты удостоился большой чести, камрад. Завтра мы проведём ритуал твоего посвящения в СС, — насколько мог торжественно сказал Зигфриду штурмфюрер.
— А разве до сих пор.
— Это была разминка, — усмехнулся штурмфюрер. — мы пока только присматривались к тебе, а вот завтра всё будет по-настоящему, придёт сам группенфюрер.
Зигфрид воспринял это известие довольно равнодушно, без радости, но и для возражений у него не было ни одной причины. В назначенный срок он одел эсэсовскую форму и спустился в зал славы. Здесь уже находились несколько эсэсовцев, двое из них принадлежали к старшему поколению и, возможно, служили под знамёнами Рейха. Зигфрид никогда раньше их не видел. До сих пор он общался только с молодой порослью, мальчишками, для которых нацизм был легендой. А эти были матёрые, из боевых. На Зигфрида, когда он зашёл, никто не обратил внимания, он лишь поймал на себе несколько косых взглядов. На лицах собравшихся отражалось суетливое беспокойство, все были возбуждёнными и немного нервными. Друг с другом никто не разговаривал, и никто не стоял на месте.
Наконец, Зигфрид услышал выкрик: «Камрады!». Все обернулись лицом к выходу и встали по стойке смирно. В зал неторопливо зашёл старик в форме группенфюрера СС, при нём был молодой адъютант — гауптштурмфюрер. Семь рук взметнулись в нацистском приветствии, семь глоток издали дружный вопль: «Хайль Гитлер!». Группенфюрер вяло поднял левую руку.
Сердце Зигфрида защемило немного даже радостно. А всё-таки здорово находится в иерархической среде боевого братства. Этих ощущений сплоченности, принадлежности к единому организму не даст больше ничто. В этих щелчках каблуками и коротких энергичных выкриках — душа солдата. В какой-то момент Зигфриду показалось, что волна героической романтики СС сейчас опять захватит его и понесёт, но стоило ему взглянуть на лицо группенфюрера, как ранее настигшее его ощущение липкого ужаса вновь захлестнуло душу. Лицо старого генерала СС более напоминало маску смерти. В нём не было ничего героического, не чувствовалось глубины, которую сообщает хорошим лицам возраст, не отражалась боль, за которой стоит множество испытаний долгой жизни. В этом лице вообще ничего не было, только пустота и всё, брезгливая, равнодушная пустота. Теперь Зигфрид понял, почему лица на портретах эсэсовцев показались ему мёртвыми. Этот-то был из плоти и крови, но он являл собой такое же воплощение живой смерти. Дело было в пустоте.
Группенфюрер взглянул на Зигфрида, юноша, кажется, тоже не очень понравился старику, Зигфриду даже показалось, что в глубине блёклых глаз промелькнул испуг. Впрочем, они не долго рассматривали друг друга. В зал ввели юного араба. Голый по пояс, с руками, связанными за спиной и заклеенным ртом, он бросал на всех умоляющие взгляды, но встречал только ехидные гаденькие улыбочки. Зигфрид был единственным, кто посмотрел на араба с сочувствием, хотя и не догадывался, зачем его сюда привели, и араб теперь смотрел только на Зигфрида, словно только они были живыми в этом царстве мертвецов. Всё это продолжалось не больше минуты, к Зигфриду подошёл гауптштурмфюрер и сказал:
— Сегодня мы принимаем тебя в наше братство. Ты получишь кинжал СС. Это новый кинжал. Он не станет настоящим оружием до тех пор, пока не отведает свежей крови. Прирежешь этого скота, — гауптштурмфюрер кивнул на араба. — Принесёшь кровавую жертву нашим нордическим богам. И все мы с удовольствием отведаем свежей крови на нашем празднике смерти. Вот чаша, в которую.
— Я не режу безоружных. И я плевал на ваших богов, — Зигфрид произнёс эти слова очень спокойно, без вызова и без нажима. Тихая радость коснулась его сердца, словно он увидел выход из могилы, где его заживо погребли.
— Что ты сказал? — скривился гауптштурмфюрер.
— Я не палач. И я не пью человеческую кровь.
— Ну тогда мы выпьем твою, — заявил гауптштурмфюрер едва ли не игриво.
— Я знаю. Но вам это не поможет. Вы мёртвые, и даже живая кровь не оживит вас, — Зигфрид говорил по-прежнему спокойно и вообще не думая. В его душе сами по себе рождались слова и чувства, которых там никогда не было. Ему вдруг очень захотелось вырваться из электрического полумрака подземелья и увидеть солнце. Солнце Правды. Он знал, что живым отсюда не выйдет, но он понял и то, что увидит солнце после смерти. И это будет Солнце живых. Это был хороший выход, даже самый лучший. Он совершенно не испытывал страха.
Между тем, гауптштурмфюрер подошёл к своему шефу и прошептал ему на ухо несколько фраз. Тот вяло кивнул, брезгливо скривившись. Зигфрид прямо и открыто посмотрел в глаза старика и теперь уже явственно увидел в них страх. В этот момент два эсэсовца резко заломили ему руки за спину. Зигфрид прошептал: «Бог, прости, что я не верил. Возьми меня к Себе».
Вдруг наверху послышались звуки выстрелов, выкрики, которых невозможно было разобрать, потом — треск ломающихся перегородок. Хватка, с которой Зигфриду заломили руки, ослабла. Он услышал глухую команду группенфюрера: «Все наверх, двое — останьтесь, прикончите этого выродка». Зигфрид понял, что это — про него. Воспользовавшись ослаблением хватки, он вывернулся и сразу же нанёс сильный удар в челюсть одному из эсэсовцев. Потом резко отскочил к стене и осмотрелся. Камрады выбегали наверх отражать чьё-то нападение, сбитый с ног его кулаком эсэсовец медленно поднимался, тогда Зигфрид нанёс сокрушительный удар ногой в живот второму из тех, кому велено было его прикончить. Остальные, не обращая внимания на эту маленькую схватку, уже выбежали — опасность извне была явно серьёзнее. Зигфрид подобрал с пола кинжал, обронённый одним из тех, кто нападал на него. Тот, пошатываясь, со сжатыми кулаками уже надвигался на Зигфрида, но тут же получил отключающий удар в солнечное сплетение. Всё-таки неплохо учили рукопашному бою в военно-спортивной группе Курта. Теперь в зале остались пятеро. Араб в суматохе отполз в угол, про него все забыли. Двое корчились на полу, Зигфрид стоял с кинжалом у стены, а группенфюрер остался в одиночестве. Старик не сошёл с места. Его глаза были прикрыты. Должно быть, молился своим нордическим богам. «Спасибо, Бог», — с искренним простодушием прошептал Зигфрид.
Звуки схватки приближались. Потом всё стихло. Вскоре в зал зашли три молодца в пустынном камуфляже. На их рукавах Зигфрид сразу увидел шевроны — красные кресты на белом поле и чёрная полоса сверху. Молодцы остановились у входа, оценивая ситуацию. Зигфрид, не теряя собранности, поглядывал то на них, то на группенфюрера. Последний, ни на кого не глядя, медленно достал из ножен кинжал и вдруг резким точным движением вонзил его себе в сердце. Он словно всю жизнь репетировал этот удар. Вот и пригодилось. Один из молодцов приблизился к Зигфриду и, широко улыбнувшись, весело спросил:
— Да ты, кажется, наш?
— А вы — с Богом?
— Конечно, — жизнерадостно заверил тамплиер.
— Значит, я — ваш, — деловито заключил Зигфрид.
Закончив свои опусы, Андрей потом долго вздыхал. Как мало мы ценим наше православие. Вечно ищем заморской экзотики, не обращая внимания на веру, которая вокруг нас. А между тем, лучшие люди Запада, самые чистые, живые и возвышенные, тянутся к православию, как к единственному спасению. Через гибельные заблуждения, через немыслимые страдания, весьма окольными путями они приходят к тому, что у нас — через дорогу. Не к нам они приходят, а к Истине. И не к нашей Истине, а ко вселенской. Порою, они смотрят на нас, как на учителей, но на самом деле это они учат нас своим примером. Учат любить Истину независимо от того, через дорогу она или за тридевять земель.
Но только ли любви к православию они учат нас? Нищими ли они приходят с Запада на Восток или всё же имеют при себе нечто такое, что и нам стоило бы позаимствовать? Сиверцев даже усмехнулся этому вопросу. Ну а сам-то он сейчас где, как не в Ордене, который рождён Западом? Западом рождён, но одухотворён верой чистой и неповреждённой — православием. Исторические тамплиеры XII–XIII веков были ещё очень близки к православию Карла Великого и вдохновлялись ещё довольно чистым христианством. Жива ещё была в душе Запада вера таких людей, как, например, православный римский папа святой Лев Великий. И страшные догматические отступления, которые уже совершил католицизм, ещё не успели произвести в душах франков гибельные духовные искажения. Вот потому-то настоящие тамплиеры, которые уцелели после разгрома, и пришли к православию — таков был единственный способ сохранить своё подлинное духовное лицо.
Рыцарство было порождено Западом, и с этим своим драгоценным достоянием они приходят к нам, взыскуя православия. Орден Христа и Храма — сплав самого чистого рыцарства с самым чистым христианством. Андрей вдруг очень глубоко и обострённо осознал, почему выживший после разгрома Орден пришёл к православию. Да потому что не было другого способа остаться рыцарями. Только благодаря православию они смогли сохранить своё рыцарское достоинство. Обезумевшая и духовно ослепшая Европа чем дальше уходила от святоотеческого христианства, тем больше утрачивала свою рыцарскую доминанту. Перестав быть настоящими христианами, европейцы перестали быть настоящими рыцарями. Так Европа, постепенно превратившись в пародию на саму себя, погрязла в ничтожности. И европейское «храмовничество» XIX–XX веков — лучшее тому подтверждение.
Современный французский исследователь Жан Маркаль пишет: «Во всём мире существует несчётное количество групп, причисляющих себя к тамплиерской традиции и претендующих на право законных наследников. Эти «ордена» по большей части прекрасно известны и носят вполне официальный характер. Помнят ли члены этих тамплиерских «орденов», по большей части принадлежащие к хорошему обществу, что их предшественники «никогда не причёсывались, редко умывались и предпочитали ходить со спутанными волосами, с запылёнными лицами». Будем серьёзными людьми. Если в наши дни ещё и есть настоящие тамплиеры, то они стараются не привлекать к себе внимания».
По поводу последней фразы Сиверцев удовлетворённо усмехнулся: «Это так. Мы действительно стараемся не привлекать к себе внимания». Значит, месье Маркаль вполне допускает, что в наше время есть не только тамплиерские клоуны, но и настоящие храмовники?
А вот что пишет наш старый знакомый Луи Шарпантье: «Американские рыцари-храмовники носят роскошные плащи и шлемы с пышными султанами, а так же проводят тайные собрания под объективами журналистских фотокамер. И все прочие «храмы из песка», один другого секретнее, имеющие свои печатные бюллетени и официально зарегистрированную ассоциацию. Среди них встречаются даже протестанты. Все эти «храмы» чертовски эзотеричны и до ужаса таинственны».
Хотя Маркаля и Шарпантье трудно отнести к людям, которым дано почувствовать исконный рыцарский дух, но они, во всяком случае, обладают хорошим вкусом, а потому чувствуют, что современные подражания тамплиерам — вопиющая безвкусица. Это просто ряженные.
Откуда они взялись, эти современные тамплиеры? В середине XVIII века масонам взбрело в голову привязать свою традицию к храмовникам. Так имя Ордена Храма вышло из забвения. Оно бы и не плохо, но память об Ордене вернулась в Европу в очень нехорошей компании — рука об руку с масонами — заклятыми врагами Церкви. Да и вообще XVIII столетие стало для Европы в духовном плане роковым. Так называемое «просвещение» оторвало европейцев от их духовных корней — от христианства, от рыцарства. А где-то в конце XVIII века была предпринята попытка возродить Орден Храма как таковой — вне масонских лож. Но эта попытка была явно спровоцирована масонами и пронизана масонским, то есть антихристианским духом, отсюда и рыцарями новоявленные тамплиеры были, мягко говоря, никакими.
У истоков этого возрождения стоит некий Бернар-Раймон Фабре-Палапра. Вероятно — врач, но скорее — шарлатан. Он объявил себя наследником Жака де Моле и преобразовал клуб, в котором был председателем, в тамплиерскую организацию. Типа Орден. Палапра вытащил на свет или попросту сочинил довольно пошлую легенду. Якобы, Жак де Моле перед смертью вступил в контакт с графом де Боже, указав ему местонахождение некоторых реликвий. Де Боже с 9-ю тамплиерами нашёл эти реликвии. Его единодушно избрали великим магистром. Преемником де Боже был Жак д'Омон, от которого пошла череда великих магистров, очередным из которых и объявил себя Фабре-Палопра.
Трудно было придумать нечто более фальшивое и откровенно пошлое. Кто хоть немного знает о Жаке де Моле и о том, как он вёл себя в заключении, конечно, поймёт, что этот человек меньше всего подходил на роль носителя эзотерических знаний, и в тюрьме он думал о чём угодно, только не о продолжении традиции. И, кстати, что это за де Боже? Уж не тот ли, который погиб за 23 года до казни де Моле?
Только очень глупый человек мог поверить в подлинность сфабрикованного Палапра списка великих магистров Ордена после Жака де Моле. И всё же в эпоху первой империи фальсификация Палапра имела шумный успех. Фальшивый Орден благосклонно принимал дары и даже торговал дворянскими титулами, что было уже и вовсе смешно — настоящий Орден Храма никогда и никому не мог даровать титул, поскольку не мог наделить земельным владением, которое бы этому титулу соответствовало. Об этом, конечно, не думали, отдавшись тамплиеромании без малейшего представления о том, кем были настоящие тамплиеры. Видимо, Франция, истерзанная революцией, измученная долгой властью плебеев, истосковалась по древнему очарованию аристократии и легковерно отдала свои симпатии не весть каким образом возродившемуся рыцарскому Ордену.
Говорят, что «в эту ловушку попал сам Наполеон». О, нет, это совершеннейшая чушь. Уж кто-кто, а император Франции обладал достаточным чутьём, чтобы отличить фальшивый блеск от подлинного величия, и он, конечно, прекрасно понимал, что Палапра — просто шут. Однако, Наполеон был искренне и очень серьёзно увлечён историей Ордена Христа и Храма, потому как раз, что чувствовал в средневековых тамплиерах подлинное величие. Он не стал развенчивать начинание Палапра, одобрив и поддержав стремление своих подданных к возрождению рыцарского духа.
28 марта 1808 года в парижской церкви святых Павла и Людовика состоялась торжественная церемония, посвящённая памяти Жака де Моле. Для проведения церемонии Наполеон предоставил свою личную гвардию. Мессу служил аббат Клуэ, каноник Нотр-Дам де Пари, который в проповеди превознёс благочестие и воинские добродетели тамплиеров, защитников Святой Земли.
Свершилось! Через 500 лет после арестов и казней тамплиеров, после грязных обвинений в богоотступничестве, храмовники были реабилитированы и прославлены, как лучшие христиане своего времени. За тамплиеров-мучеников молились, наконец, в христианским храме. Императорская гвардия салютовала рыцарям Христа и Храма! В такой момент насквозь фальшивому Палапра оставалось нервно стоять в сторонке. Он тут был не при делах, это гений императора Франции прославил рыцарей Храма. Это была последняя вспышка величия франков.
А Палапра и после Наполеона носился со своим фальшивым «Орденом». В 1833 году его «Орден» организовал большую церемонию во Дворце чудес. Молились за короля, собирали пожертвования, одним словом — вели светскую жизнь. Вскоре Палапра стал проявлять признака умственного расстройства и умер в 1838 году. Его преемником на посту «великого магистра» стал англичанин — адмирал Смит. В этой фигуре ещё чувствуется некоторая подлинность, во всяком случае, магистр-адмирал погиб в Алжире в 1840 году, где на стороне французов сражался с неверными. Смерть достойная тамплиера, но после его кончины и сам новоявленный «Орден» скончался в атмосфере полного безразличия.
Говорят, что «Орден», созданный Палапра, мог «возродится из пепла». Нечему там было возрождаться, да и зачем? Пошлость и так бессмертна.
А ещё говорят, что в России времён Фабре-Палапра тоже был свой Орден тамплиеров. Однако, не факт. Как в XIX веке мифологизировали историю Ордена Храма, так и сейчас мифологизируют события XIX века. Некая Оксана Гор пишет о том, что граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790–1863) был магистром русских тамплиеров. Бесспорно лишь то, что Мамонов, действительно, был личностью весьма незаурядной. Он вёл свой род по прямой линии от Владимира Мономаха и был очень богат. Участвовал в Бородинском сражении, сформировав за свой счёт полк «русских рыцарей». Полк прославился храбростью. Во время заграничного похода русской армии Мамонов искал в Париже «документы, связанные с Орденом Храма». Это вполне могло быть. Впрочем, в Париже той поры было куда легче обнаружить не исторические документы, а самих «тамплиеров» Фабре-Палапра, а ещё легче — тамплиерствующих масонов, которые вполне способны были снабдить простодушного русского графа такими «документами», что обхохочешься.
После войны жизнь Мамонова потекла странно. У себя в поместье в Дубровицах он соорудил крепость с довольно-таки высокой и толстой каменной стеной и башнями. Жил совершеннейшим затворником. Судя по всему, рассудок его начал вредиться. В 1823 году Мамонова объявили буйным, препроводили в Москву, где заключили в арестном доме на Яузе. Его лечили от сумасшествия, причём довольно варварскими методами. Было ли от чего лечить? Трудно сказать, но некоторые его идеи были, действительно. не очень. Говорят, он предлагал правительству Александра I проект присоединения к России Индии и Эфиопии. Тут и правда усомнишься, в своём ли уме человек? К тому же Оксана Гор утверждает, будто бы Мамонову прекрасно было известно о том, что настоящая Святая Земля — не в Палестине, а в Эфиопии. Как, кстати, надлежит относиться к состоянию рассудка самой Оксаны Гор? Если человек, действительно, считает, что земная жизнь Христа протекала в Эфиопии, то это может быть интересно уже не историку, а психиатру. А если дама просто озвучила коммерческий миф, то психиатру это, конечно, не будет интересно, но и историку тоже.
Андрея несколько напрягло, что речь тут зашла об Эфиопии. Может быть, глупая баба просто «слышала звон, да не знает, где он»? Значит, «звон» всё-таки идёт? Как знать. Вполне можно допустить, что реальная информация об исходе тамплиеров в Эфиопию в процессе передачи подверглась искажениям и теперь презентуется читателям в виде полной паранойи. Впрочем, то что касается тамплиеров в Эфиопии — огромная тема, которой Андрей предполагал заняться отдельно.
А что до графа Матвея Дмитриева-Мамонова, нельзя быть полностью уверенным даже в том, что он сам себя считал тамплиером. В цитированных госпожой Гор документах, принадлежащих графу, слово «тамплиер» ни разу не упоминается, фигурирует только слово «рыцарь». Например, Мамонов подготовил брошюру «Краткое наставление русскому рыцарю». И общество своё именовал: «Орден чёрных крестовых рыцарей совершенного союза молчания и Святого Гроба». Надо ли объяснять, что человек, возводящий свою традицию к храмовникам, никогда не назовёт своих единомышленников «чёрными рыцарями», помня о белых плащах тамплиеров. Тут скорее вспомнишь про госпитальеров, которые носили чёрные плащи. К тому же госпитальеров в России насаждал Павел I, как раз, когда Мамонов был ребёнком.
А вот госпожа Гор пишет: «В 1807 году он уже в качестве великого магистра подписал и скрепил печатью «Обряды принятия в ученическую, товарищескую и мастерскую степень»». Это название не оставляет ни малейших сомнений в том, что мысли графа развивались в рамках масонской традиции, после чего не столь уж важно, считал ли он себя тамплиером, или госпитальером, или ещё каким «рыцарем Гроба».
К слову сказать, Оксана Гор утверждает: «Русские тамплиеры существовали со времён Андрея Боголюбского». Может быть всё-таки к психиатру? Вряд ли стоит. Дело в том, что, озвучив столько шикарную байку, «эта русская» её совершенно не развивает, а была бы тут её собственная паранойя, так она бы не поскупилась по подробности. Видимо, она просто воспроизвела чей-то миф из книжки, до которой Сиверцев не докопался, а сама она — не более чем автор пошлых сенсаций.
Впрочем, не надо смешивать отношение к госпоже Гор и к графу Мамонову. В фигуре Мамонова есть что-то щемящее, что-то болезненно-подлинное. Он храбро сражался и хотя бы просто рыцарем, должно быть, имел моральное право себя именовать. Он стал затворником, решительно избегающим общения с людьми, а это уже не может быть позой. Вероятнее всего, рассудок графа расстроился по причине увлечения эзотерикой — к бесовским глубинам нельзя прикасаться безнаказанно. Показательно, что современник Дмитриева-Мамонова тамплиерствующий француз Фабре-Палапра тоже закончил расстройством психики.
И всё-таки дивная была эпоха. Императорская гвардия отдавала воинские почести Жаку де Моле и героям-храмовникам. Полк «русских рыцарей» сражался с войсками Франции. Во что всё выродилось в XX веке.
В 20-е годы в Советской России опять завелись «тамплиеры». Эти уже не имели претензии возводить себя к Андрею Боголюбскому. Основателем оного «Ордена» стал А. А. Карелин — сначала народоволец, потом — эсер, а с 1903 года — анархист. Карелин эмигрировал во Францию, видимо, нахватался там всякого разного, а в августе 1917 года вернулся в Россию, «имея тамплиерское посвящение», то есть понятно, что посвящение масонское или во всяком случает — парамасонское. В России Карелин основал «Восточный отряд ордена тамплиеров». Он предложил использовать «формы орденской организации для распространения идей анархизма». А известно ли было господину Карелину, что даже само слово «орден» происходит от слова «порядок», что, кажется, слабо сочетается с «идеями анархизма»? Поневоле вспомнишь слова незабвенного Павла Петровича Кирсанова: «Раньше он был просто болван, а теперь — нигилист». А теперь, стало быть, тамплиер.
Чем же занимались советские «тамплиеры»? Это был нелегальный кружёк, где читались лекции по философии и политэкономии, критиковался материализм, утверждалось идеалистическое мировоззрение, раскрывалось мистическое понимание мира и человека, излагались философские системы Востока и т. д., и т. п.
А вот как проводилось посвящение в «Орден тамплиеров»: «Кандидат прослушивал цикл лекций по истории и философии, несколько основополагающих орденских легенд (о сотворении мира, об Атлантиде и Египте), а затем в присутствии старших рыцарей, одним из которых была женщина (?!), он приносил клятву верности и выслушивал формулу посвящения в первую степень. При посвящении во вторую степень он получал белую розу, с которой теперь должен был являться на собрания».
Ах, эти белые розы. Неужели не противно? Горстка ничтожных и беспомощных, жалких и прекраснодушных интеллигентов-мечтателей вдруг возомнила себя наследниками древних рыцарей-героев. Неужели им ни на одну минуту не было стыдно друг перед другом? Пишут, что «они были убеждены, что являются членами восточного отряда древнего рыцарского Ордена, чьё начало восходит к незапамятным временам. Существующая же на Западе организация, посланцем которой явился А. А. Карелин, опирается на непрерывную историческую традицию, идущую от самого Жака де Моле». Нет, им не было стыдно.
А что же тем временем на Западе? Хорошо известен так называемый «Орден новых тамплиеров», созданный Йоргом Ланцем фон Либенвалем. В 1907 году Ланц приобрёл, как штаб-квартиру для своего Ордена, замок в Верхней Австрии — романтические руины, расположенные на краю отвесной скалы над самым Дунаем. Если есть деньги, так почему бы и не на краю скалы? А что ещё, кроме денег, было у этих «тамплиеров»? Ланц намеревался создать аристократическую организацию, которая должна была объединить науку, искусство и этику в единой гностической религии при помощи которой надлежало способствовать укреплению арийской расы во всех странах мира. Забавный сплав масонства и нацизма.
В 20-е годы Ланц составил несколько ритуальных книг, в которых отражались католические, в частности — цистерианские, источники, а так же оккультизм, астрология, кабалла. Ещё более забавный сплав католицизма и магии. Надо признать, что Ланц мудрил очень по-своему, креативно, как никто до него, но это мало что меняло — суть всё равно сводилась к созданию синтетической религии, то есть ничего тут не было кроме вариаций на тему масонства — никакого реального рыцарства.
Кстати, советские «тамплиеры» Карелина и австрийские «тамплиеры» Ланца много интересного рассказали о своих «Орденах» соответственно в НКВД и в гестапо. Диктаторские режимы очень не любят, когда кто-то задергивает занавески и в мистическом полумраке выдумывает всякую фигню. Все эти таинственные сумерки, понимаешь, диктаторов напрягают, хотя безусловно, ни Карелин, ни Ланц не составляли реальной оппозиции своим режимам. Оппозиционны они были только христианству, но не с того бока, с какого хотелось бы Сталину и Гитлеру.
Ещё более известен «Орден восточных тамплиеров» (ОТО), доживший до наших дней. А это уже попросту сатанисты. Изначально, возникнув в 1902 году, ОТО, по замыслу создателей, должен был явить собой некую масонскую академию, которая соединит в себе мудрость всех масонских степеней, но ОТО так и не стал частью регулярного масонства. В 1922 году «Орден восточных тамплиеров» возглавил известный сатанист Алистер Кроули, придав Ордену соответствующее направление. Кроули возглавлял ОТО вплоть до своей смерти в 1947 году. Возникнув в Германии, «Орден» позднее перебрался в США. Сейчас главный офис ОТО расположен в Калифорнии. Есть представительства в России. «Восточные тамплиеры» ведут активную издательскую работу, очень увлекаются магией и каббалой безо всяких там цистерианских вкраплений мечтателя Ланца. ОТО потому и пережил ОНТ, что являет собой нечто куда более внятное, а именно — лишь слегка задрапированный сатанизм. И если мечтателей Карелина и Ланца было достаточно разогнать пинками, то кроулианцев лучше бы поголовно вырезать. Да, может, ещё и придётся.
А вот ещё случилась некая несообразность. На Украине под Киевом в православной Китаевской пустыни окопались какие-то непонятные «тамплиеры» возглавляемые «великим приором» Александром Яблонским. Сих неопознанных «тамплиеров» вскоре с треском изгнали из пустыни. Что в этой связи заинтересовало журналистов? Первое. Тамплиеров Яблонского подозревали в увлечении сатанизмом. Второе. В офисе «Ордена» найдены документы, свидетельствующие о связях в украинском военном ведомстве. Похоже, этих дивных «храмовников» интересовала торговля военной техникой и металлом. Третье. Документы свидетельствуют, что «с ведома Папы Римского иерархи греко-католической и римско-католической церквей являются покровителями тамплиеров-сатанистов. На видеозаписи можно видеть, как католические кардиналы радушно принимают в своём храме представителей Ордена».
Вот тут уже нарисовалось нечто нестандартное. Эти ребята явно не похожи на интеллигентов мечтателей или заурядных сектантов, свихнувшихся на почве эзотерики. Относительно их «сатанизма», разумеется, нет никаких доказательств. Вероятнее всего, журналисты просто вспомнили про кроулианский ОТО и по аналогии записали «рыцарей» Яблонского в сатанисты. Можно очень плохо относится к католическом кардиналам, но надо понимать, что вести дела с сатанистами они никогда бы не стали. Больше всего, конечно, удивляют серьёзные коммерческие интересы, да ещё связи с министерством обороны. Не пишется это в схему заурядно-шутовского храмовничества. А если это, действительно, серьёзные коммерсанты или криминально-коммерческая структура, то среди таковых не легко отыскать людей, которые будут давать интервью, опираясь на огромный двуручник, да ещё поднимут над своим офисом босеан.
Что же это? Очень похоже на проект западных спецслужб. Ох, не случайно здесь промелькнули униатские кардиналы. В Галиции униаты ведут самую настоящую религиозную войну с православными. Им была бы очень кстати религиозная военизированная группа с хорошей материальной базой. С высокой степенью вероятности можно предположить, что речь идёт о христианской, но антиправославной организации, за которой стоит Ватикан и западные спецслужбы, в данном случае имеющие общую цель — духовно оторвать Украину от России.
Ещё одна характерная деталь — украинские храмовники явно не имеют никакого отношения к масонству. За этим фактом стоит целая тенденция. Сближение храмовничества с Католической Церковью наметилось во Франции с конца XIX века. В 1892 году магистром одного из «Орденов храма» был избран писатель Жозеф Пеладан. Раньше он был членом каббалистического Ордена Розы и Креста, но впоследствии перешёл на католические позиции. Вскоре в Брюсселе был создан «Международный секретариат тамплиеров». В 1937 году этот «Орден» переехал в Португалию. Теперь это «Верховный военный Орден Иерусалимского храма». Солидно, основательно, жёстко. Совершенно не по-масонски.
Отдельная тема — связь храмовничества с нацизмом. Неонацист Жюльен Оригас создал «Обновлённый Орден Храма», из которого в 1980-е годы по инициативе Люка Жюре выделился «Храм Солнца». Организация была замечена в связях с секретными службами различных стран, в подрывной деятельности правых, торговле оружием, отмывании грязных денег. В 1994 году среди членов этой организации произошёл ряд самоубийств в Швейцарии и в Канаде. Тут о религиозной составляющей трудно сказать что-то определённое, хотя она безусловно есть. Бесспорно лишь отсутствие аналогий с либерально-экуменическим масонством. И от украинских «тамплиеров» ниточки тянутся вот к чему-то подобному.
А вот ещё весьма своеобразные «тамплиеры», которые совершенно не вписываются ни в какие схемы храмовничества. В 1845 году немецкий теолог Кристиан Хофман организовал христианское движение «тамплиеров», которое основывалось на вере, что христиане унаследуют Святую Землю. «Тамплиеров» Хофмана преследовали власти Германии, они переехали в Палестину, приобрели землю и построили дома. Они вели обособленный образ жизни, не допускали смешанных браков и не позволяли чужакам селиться в своих деревнях. В 1871 году ими было создано поселение Шарона, к 1914 году в нём жило 225 человек. Это очень похоже на русские старообрядческие поселения. Твёрдые христиане с психологией «осаждённой крепости», ревниво оберегающие чистоту своей веры. В период расцвета в Шароне жили 2200 «тамплиеров», они славились своим трудолюбием, моральными устоями и религиозностью. Применяли передовые методы ведения сельского хозяйства, познакомили местных жителей с основами виноделия и садоводства, наладили экспорт сельхозпродукции в Германию.
Эти странные «тамплиеры» явно не были связаны с нацистами генетически, но с приходом к власти Гитлера Шарона превратилась в центр нацизма в Палестине. Там был создан «коричневый дом», который занимался нацистской пропагандой внутри страны и пытался оказывать влияние на соседние государства. Главой общины «тамплиеров» стал нацист Корнелиус Шварц. Его сторонники наводили ужас на местных евреев, травили кур в сельхозпоселениях, били стёкла в окнах, обмазывали стены домов испражнениями, то есть вели себя как-то уж совсем не по-рыцарски.
В 1936–39 годах жители Шароны помогали арабам в их борьбе с евреями, внедряли в их среде нацистские идеи. Около 400 членов общины «тамплиеров» служили в вермахте и воевали на фронтах второй мировой. С началом войны британские власти стали видеть в «тамплиерах» представителей враждебной стороны. В 1941 году 536 «тамплиеров» изгнали из Палестины в Австралию, где они существуют и по сей день.
Есть что-то очень милое в истории этой «тамплиерской» общины. Во-первых, эти ребята были убеждёнными христианами. Во-вторых, они не пустопорожней болтовнёй занимались, а отправились за море, в крайне неспокойный регион, и упорным трудом утверждались на Святой Земле. Они не устраивали балы с фуршетами, не занимались эзотерическими изысканиями. Они просто связали свою жизнь с той самой землёй, с которой и тамплиеры были связаны до смерти. И всё-таки не понятно, почему они именовали себя именно тамплиерами, фактически не пытаясь воссоздать Орден Христа и Храма. Если бы называли себя крестоносцами, то, конечно, имели бы на это полное моральное право, потому что, действительно, пришли с крестом на Святую Землю и утвердились на ней — не войной, а героическим трудом — это даже лучше. Они создали маленькое, но вполне настоящее государство крестоносцев. Но причём здесь тамплиеры?
Просмотрев историю храмовничества XIX–XX веков, Сиверцев сокрушённо развёл руками. Кто только не пытался за 200 лет принять на себя красивое имя тамплиеров! Воистину, в этом бестиарии было всякой твари по паре. И масоны, и сатанисты, и каббалисты, и католики, и протестанты. Откровенные мошенники, интеллигенты-мечтатели, трудолюбивые аграрии, профессиональные военные, религиозные сектанты, исторические реконструкторы, креатуры спецслужб — все, все, все готовы были из кожи вон выскочить, только бы залезть в белый плащ с красным крестом. И никто, никто, никто не имел на это ни малейшего морального права.
Очарование имени тамплиерского выглядит просто фантастическим. Люди всех религиозных убеждений, всего политического спектра, всех социальных групп очень хотят считать себя тамплиерами — само это слово пленяет, завораживает, воодушевляет, призывает, вселяет надежду. Весь мир от тамплиеров без ума. Но разве не стыдно носить боевые ордена, если вы никогда не воевали? Разве не отвратительно именовать себя монахами, если ваша жить проходит в ублажении плоти? Разве не пошло, сидя в тёплой комнате, в уютном кресле и попыхивая дорогой сигаретой, изображать из себя несгибаемого борца, которого не остановят никакие препятствия? Стыдно, отвратительно, пошло. Когда средневековая Европа с восхищением смотрела на белые плащи тамплиеров, последние платили за это восхищение нечеловеческими страданиями, немыслимыми лишениями и готовностью отдать свою жизнь в любой момент. Восхитительный романтический ореол тамплиеров — это ореол смертников. Если большинству современных людей непонятно слово «мученик», то, может быть, слово «смертник» они способны прочувствовать? Пусть они подержат это слово во рту, ощутят его вкус, и вот тогда можно будет спросить, на самом ли деле они готовы стать настоящими тамплиерами?
Что же такое настоящий тамплиер? Об этом написана целая библиотека, идут бесконечные споры о том, какими на самом деле были убеждения тамплиеров, и все, кому не лень, говорят: убеждения тамплиеров были вот такие, у меня — такие же, значит, я тоже тамплиер. Но если тамплиеры были христианами, а ты тоже христианин, это ещё не значит, что ты — тамплиер.
Давайте четко выразим, что нового принесли тамплиеры в этот мир, каким было их главное изобретение? Да просто же — они придумали совместить воинские труды с монашеским подвигом. Тамплиер — монах-военный. Только так и никак иначе. Разные направления храмовничества нового времени в разной степени заслуживают или не заслуживают уважения, но настоящих тамплиеров среди них нет ни одного, потому что среди них нет монахов. Военные — редко, но встречаются, а монахов — нет. Все хотят быть тамплиерами, но никто не хочет быть монахом. Никто не желает накладывать на себя жёсткие ограничения иноческих обетов. Все хотят иметь вкусную пищу, счёт в банке, женщину на ночь и никакого беспрекословного подчинения. Хотят белого плаща без целомудрия, без нестяжания, без послушания.
Настоящих тамплиеров в наше время нет не потому, что невозможно в новых исторических условиях возродить средневековую корпорацию. Возможно! Если группа военных примет монашеские обеты — это будут настоящие тамплиеры. Что тут невозможного? Вот только тяжеловато. Но без монашеских обетов, господа, не тамплиеры вы, а просто ряженные.
— Рыцарей в белых плащах всегда ровно девять. Ни на одного больше, ни на одного меньше. Умирает тамплиер — мы тут же даруем белый плащ с красным крестом кандидату, который уже готов заступить на его место. Даже если разом погибнут пять белых рыцарей — их место тут же займут пятеро других. Достойные всегда есть. Такой порядок соблюдается вот уже 400 лет. Только эти девять рыцарей в белых плащах и есть собственно Орден Христа и Храма.
Командор Дмитрий Князев рассказывал сержанту Андрею Сиверцеву об Ордене. Наконец-то они собрались все вместе в опустевшем после службы и запертом изнутри храме — Сиверцев, Князев, Лоуренс и отец Августин. Последние двое пока молчали.
Андрею мысль о том, что «тамплиеров всегда девять» показалась почти волшебной:
— Получается, что вы сделали храмовников бессмертными? Столетие за столетием 9 рыцарей словно не умирают. Их не может стать меньше, их не становится больше.
— Сама по себе мысль — не наша. Мы позаимствовали её на Афоне. Про семерых отшельников слышал?
— Что-то такое.
— Вот уже не первое столетие на Афоне живут, скрываясь ото всех в горных ущельях, семь отшельников. Умирает один — они приглашают на его место другого. Их редко кто видит, никто не может познакомится с ними по своему желанию, тот монах, которого они приглашают к себе на место умершего, должен тут же последовать за ними, ни о чём не уведомляя монастырское начальство. От них никто ни разу не ушёл.
— Не отпускают?
— К ним, по Божьей воле, попадают только такие монахи, которые потом не хотят уходить. Это невидимая гвардия Афона, мистическое сердце Святой горы.
— А эти семеро — не выдумка?
— Если бы это была выдумка, то она столь прекрасна и возвышенна, что её давно бы уже кто-нибудь реализовал на практике, — подал реплику светло улыбнувшийся отец Августин.
— Так вот, мы позаимствовали у афонцев их идею. Ты ведь знаешь, насколько Орден переимчив до чужих изобретений, — тоже улыбнувшись, продолжил Дмитрий. — И теперь Орден Храма — это 9 никогда не убывающих рыцарей.
— Позвольте-ка, позвольте-ка, если Орден — только 9 рыцарей, значит я — не тамплиер?
— В строгом смысле — нет. В широком смысле — да. Структура Ордена в целом такова. Каждому рыцарю в белом плаще подчиняются по 3 рыцаря в коричневых плащах, каковых — не трудно сосчитать — 27 человек. Коричневые плащи, ты помнишь из истории, носили рыцари, временно служившие с тамплиерами, не принимая обетов. Тут мы внесли изменения — наши рыцари второго разряда принимают обеты. По своим личным и боевым качествам практически никто из них не уступает белым рыцарям. Они есть резерв, из которого пополняются ряды белых рыцарей, когда кто-то из последних переходит в мир иной. Они уже имеют и рыцарское, и монашеское посвящение, им просто даруют белые плащи. Итак, в Ордене всего 36 рыцарей. Каждому из них, независимо от цвета плаща, подчинено по 3 сержанта. Значит, сержантов — 108 человек. Всего рыцарей и сержантов получается 144 человека.
— А послушники?
— Количество послушников строго не регламентировано, их может быть больше или меньше, но их число никогда не должно превышать 144 человека. На практике же число послушников редко превышает сотню. Послушник это уже член братии. Послушниками становятся далеко не все из тех, кто попадает в орбиту Ордена. Помнишь, ты был гостем Ордена, и вопрос о том, чтобы тебе стать послушником, решили далеко не сразу. Итак, всё наше братство — где-то две с половиной сотни человек.
— Теперь понял, почему решение о моём приёме в Орден уже состоялось, а принимать не торопились.
— Совершенно верно. Мест не было. Мест никогда нет. Пока кто-нибудь из наших не отойдёт в мир иной. Умер великий адмирал. Один из подчинённых ему рыцарей занял его место, получив белый плащ. К слову сказать, великим адмиралом стал брат Жан, известный тебе по операции в Индии.
— Дождался-таки Жан белого плаща, — широко улыбнулся Андрей.
— Бог даст — и ты дождёшься, — спокойно констатировал Дмитрий. — Так вот, на место Жана в рыцари посвятили одного сержанта, а на место сержанта в Орден приняли одного послушника, то есть тебя.
— Стройная, элегантная система, но смысл её мне пока не очень понятен. Почему белых плащей всегда только девять?
— Ты по поводу самого числа? Нет, мы не придаём девятке никакого мистического значения. Мы же не каббалисты и не нумерологии. Это просто дань исторической памяти. Девять первых тамплиеров Гуго де Пейна — наш образец до скончания века.
— А почему так мало? Насколько я понимаю, в нашем Ордене рыцарей, достойных белого плаща — гораздо больше девяти.
— Мы умеем извлекать уроки из истории. Орден дважды на одни и те же грабли не наступает. Закон перехода количества в качество тебе известен. Чем больше количество, тем ниже качество. Появляется, например, в иной армии элитная рота. Бойцы отменные, все в восторге. От восторга реорганизуют роту в батальон — ведь хочется же иметь элиты побольше, но средний уровень бойцов тут же падает — откуда героев-то наберёшься? Однако, не унимаются, разворачивая элитную часть и в полк, и в дивизию. Но дивизия является элитной уже только по названию — довольно средние бойцы размахивают знамёнами, овеянными былой славой, от которой мало что осталось. Пытаются ужесточить отбор, но это бесполезно — на практике формально жёсткие требования к кандидатам всегда смягчают. В элитную часть тут же стремится проникнуть великое множество «сынков» и карьеристов, которым хочется пощеголять элитными шевронами, к славе которых они сами ничего прибавить не способны.
Нечто подобное произошло и со средневековым Орденом Христа и Храма. Тамплиеры так прославились, что очень многим захотелось стать тамплиерами. Принимали, конечно, не всех подряд, но ограничения по приёму отсутствовали, и постоянно разраставшийся Орден уже составляли далеко не лучшие из лучших. Ещё в Святой Земле встречались тамплиеры, опозорившие свои белые плащи. В семье не без урода. А позднее кому-то стало удобно по этим уродам судить обо всем Ордене. Когда же потеряли Святую Землю, и все подразделения Ордена стали по сути тыловыми, тогда о чистоте рядов стало ещё труднее говорить — всё больше появлялось ничтожеств в белых плащах, и вот такой Орден было уже не многим жалко. Это одна из причин падения Ордена. Горстку героев-смертников никто не посмел бы тронуть, а если бы и тронули, то показания на процессе были бы совсем иными. А ведь общая численность Ордена Христа и Храма к моменту разгрома достигала 30 тысяч человек, то есть только рыцарей было 2–3 тысячи. Это противоестественно много. Столько героев не бывает.
— Господин командор, насколько могу судить, говорит не только о падении уровня боевой подготовки непомерно разросшегося Ордена, — вставил слово отец Августин. — Самое-то страшное было в том, что падал средний уровень религиозности тамплиеров. Не может быть такого большого количества хороших монахов, тем более — среди военных. Прошу прощения у господ офицеров, — отец Августин легко и церемонно поклонился Сиверцеву и Князеву, на что те улыбнулись. — Нечто подобное произошло с монастырями у вас в России накануне революции. Их стало слишком много, никто не пытался определить, сколько монастырей надо на епархию — два или двадцать? Когда стало 20 — в монастырях начали преобладать заурядные тунеядцы. Потому что земля, даже святая русская земля, не может родить такого большого количества хороших монахов. В итоге русское монашество себя опозорило — в толпах бездельников и пьяниц никто уже не мог рассмотреть добрых монахов, каковые по-прежнему были, но кто их видел в этой малопочтенной массе? А ведь на два-то монастыря в епархии и в эти скверные времена всё же набралось бы добрых монахов, и монашество по-прежнему оставалось бы светом миру. То же произошло и с тамплиерами к началу XIV века. Их тало так много, что, конечно, уже не любой из них был готов в любую минуту умереть за Христа, не каждый был хотя бы просто ревностным христианином, а думаю, что и монашеские обеты уже далеко не все соблюдали. Настоящих тамплиеров много не бывает. Разве может существовать целая тысяча таких орлов небесных, каковые сидят сейчас передо мной? — Все опять улыбнулись. — Это как с воздушным шариком. У каждого есть свой предельный размер, хотя это и не сразу очевидно, но если попытаться надуть его больше, чем надо — он просто лопнет, вот и всё, — отец Августин печально развёл руками, как тот ребёнок, у которого лопнул шарик.
— Батюшка совершенно прав, — продолжил почему-то повеселевший Дмитрий. — Итак, когда в Эфиопии собрались уцелевшие от разгрома тамплиеры, они решили на веки вечные ограничить численный рост Ордена первоначальным числом — 9 рыцарей. В Лалибеле тогда оказалось несколько десятков рыцарей, но они решили не принимать в Орден ни одного нового, до тех пор пока их ввиду естественной убыли не останется 8 человек. Тогда принять одного. Постепенно сложилась структура, которая существует сейчас и будет существовать, с Божьей помощью, до скончания времён.
— И всё-таки обидно, что многие рыцари, вполне достойные стать полноценными тамплиерами, так и не получают белого плаща. Несправедливо, — заметил Сиверцев.
— Во все века у всех народов такие обиды приводили к размыванию и исчезновению элит. Мы не стремимся быть справедливым, мы стремимся сохранить Орден, и нам это вот уже пятый век удаётся. Тамплиеры остаются людьми особыми, уникальными. Прошу прощения за то, что вынужден говорить в том числе и про самого себя, — жёстко заключил Князев.
— Но не маловато ли нас для осуществления сколько-нибудь серьёзных задач?
— Человечество, Андрей, входит в век спецназа. Грандиозных столкновений миллионных солдатских масс больше не будет. В наше время почти любая задача на карте мира может быть решена несколькими группами хорошего спецназа, после чего остаются лишь полицейские задачи.
— Которые будут непосильны для Ордена.
— Так ведь мы и не боремся за власть над всем миром или над какой-либо конкретной страной. Кроме того, в случае необходимости, мы сможем поднять не одну сотню человек, а это уже страшная сила. В ряде стран существуют национальные подразделения, не принадлежащие к Ордену, но связанные с нами некоторыми ниточками, порою незримыми для них самих. Это, например, православные самураи Японии — прекрасные воины, хорошие христиане, не всегда монахи, но есть и монахи среди них, хотя рыцарей, конечно, нет. А посмотрел бы ты на эфиопских белых монахов-воинов. Боевые монахи — это национальная традиция Эфиопской Церкви. Люди не совсем нашего духа, поэтому они и не тамплиеры, но придёт день, когда будет не до нюансов, и тогда они будут с нами. С персидскими «тиграми» Шаха ты лично знаком. А есть ещё Арабский православный легион. Это, в известном смысле, тамплиерские туркополы — не совсем наши, но близкие нам, в определённый момент готовые действовать единым фронтом с Орденом Христа и Храма. Мы помогаем им организоваться, иногда даём оружие, порою ставим задачи или, напротив, предостерегаем от некоторых действий.
— А в Европе есть группы, связанные с нашим Орденом?
— Нет. Ни одной. Ты знаешь, у нас в Ордене все — европейцы, но это отдельные свободные личности, которые теми или иными путями вышли на Орден, или мы на них вышли, но в самой Европе нет ни одной организованной группы, которая сплотилась бы вокруг военно-монашеского идеала, при этом продолжая твёрдо стоять в христианской вере.
— Да я уж посмотрел историю храмовничества.
— Вот-вот. Под названием «храмовников» Европа в изобилии порождает группы интеллигентов-мистиков, злобных неонацистов, сатанистов-головорезов. Если и появляется организованная христианская инициатива, то это нечто вроде «Опус Деи» — структура деятельно-активная, но решительно далёкая от воплощения военно-аскетических христианских идеалов. Старушку через дорогу они, ради Христа, конечно, переведут, но готовы ли они умереть за Христа? Слишком комфортно устроились в этой жизни. Воинские добродетели в современной Европе — самые непопулярные. Нечто хотя бы отдалённо напоминающие Орден Храма там сейчас не может родится, а искусственно насаждать такие вещи нельзя, если не хочешь получить на выходе клоунаду. В Европе всё ещё есть настоящие христиане, но там больше нет рыцарей, точнее — последние весьма немногочисленные рыцари Европы не проявляют способности к самоорганизации. Враждебная рыцарско-христианским идеалам общественная атмосфера не позволяет им не только сплотиться, но даже и реализоваться на уровне личности, не позволяет в достаточной мере познать свою рыцарскую суть. Только, попадая в наш Орден, они начинают понимать самих себя. Так было с любым из нас, да и на собственном примере ты это хорошо знаешь.
— Но почему же рыцарско-монашеский идеал в Европе заглох при наличии хороших христиан, а порою и не плохих воинов?
Сэр Эдвард Лоуренс, во всё время разговора слушавший братьев с таким живым интересом, как будто все это объясняли ему, но не проронивший ни слова, подал, наконец, голос:
— Солдатчина, мой друг. Последних рыцарей Европы добивает солдатчина.
— Но разве солдат не может быть хорошим христианином, а христианин — хорошим солдатом?
— Да сколько угодно, — сэр Эдвард невозмутимо поднял бровь. — Солдат только рыцарем стать не может, а Европа уже не в состоянии представить себе военного в ином образе кроме солдатского.
— Да, мы как-то говорили об этом с командором Князевым, но я до сих пор достаточно смутно представляю себе принципиальную разницу между рыцарем и солдатом.
— Это просто. Когда-то власть в Европе принадлежала военной аристократии, сейчас она принадлежит торговой олигархии. Военная аристократия, одухотворённая христианством, выработала идеал благородного и великодушного «защитника вдов и сирот». Это и есть рыцарский идеал, в основе которого — готовность принести себя в жертву, защищая слабых. Торгашам это, мягко говоря, не близко.
— Но торгаши были всегда.
— Безусловно. Только раньше они были подчинены военным, игра в целом шла по благородным воинским правилам. Потом буржуазия захватила власть и теперь военные ей подчинены. Игра идёт по правилам торгашей, первейшее из которых: «Не обманешь — не продашь». Если идеал рыцарской аристократии — защита вдов и сирот, то идеал буржуазии — выжимание из вдов и сирот последних соков с целью личного обогащения. А военные, теперь подчинённые буржуазии, обслуживают её интересы. Вот это и есть солдаты. Не случайно даже слово «солдат» происходит от названия монеты — «сольдо», то есть это человек, воюющий за деньги. Буржуазия платит солдату за то, чтобы он силой оружия обогащал своих хозяев.
— А нам-то всё внушали, что солдат должен Родину защищать, — несколько язвительно заметил Сиверцев.
— А как же иначе, друг мой? Кто же скажет солдату: «Идите и умирайте, чтобы мы стали богаче». Солдатам скажут: «Идите и защищайте Родину». Забудут, правда, объяснить что это такое.
— Но есть же национальные интересы.
— Неужели непонятно, что национальные интересы — это интересы национальной буржуазии? Само понятие «Родина» появилось только в буржуазную эпоху. Сформировав большую армию, буржуазия не может всем хорошо заплатить, тогда надо же чем-то воодушевить посылаемых на бойню. Раньше защищали вдов и сирот, а потом стали защищать Родину, делая вдовами и сиротами женщин и детей. Вам, очевидно, известна чудная шутка американских банкиров: «Война — это ужасная вещь, но это ужасно выгодная вещь». Вот так в процессе войн за обогащение горстки торгашей и вырабатывалась солдатская психология, представления об идеальном солдате. Это человек исполнительный и ограниченный, готовый выполнить любой приказ и не способный самостоятельно оценивать смысл войны. Недостаток жалования всегда готовый восполнить нерассуждающей верой в лживую пропаганду. Солдаты впитывают качества правящего сословия, то есть торгашей, и становятся воплощением хамства, ограниченности и жестокости.
— А как должно быть?
— Позволю себе цитату: «Мир традиции толкует жизнь, как извечную борьбу метафизических сил: небесных сил света, порядка с одной стороны и тёмных, подземных сил хаоса и материи с другой стороны. Традиционный человек должен был вступить в эту битву и одержать победу одновременно и на внешнем, и на внутреннем уровне. Внешняя война считалась подлинной и справедливой, если она отражала борьбу, идущую в мире внутреннем. Это была битва против тех сил и людей, которые во внешнем мире имели те же черты, которые необходимо было подавить и обуздать внутри себя».
— Что-то медленно въезжаю.
— Поясню. Изнутри человека разрушают грехи, и любой человек обязан бороться, сражаться в первую очередь с собственными грехами.
— А во внешнем мире он должен сражаться с носителями греха?
— Совершенно не так! — Лоуренс неожиданно жёстко взвился. — Такое понимание принципиально недопустимо и даже порочно. Вы поймите, мистер Сиверцев — все люди до единого в той или иной мере — носители греха. При этом определять, какой человек более греховен, и в какой группе таких великих грешников больше — само по себе грех. Об этом может судить только Бог. Мы сами великие грешники, и если мы обнажаем меч против тех, кого считаем худшими христианами, чем мы, значит, мы уже перестаём быть христианами. Но! Есть сторонники и распространители таких мировоззренческих и государственных систем, в основе которых лежит зло, грех, как норма жизни. Например, русский большевизм. В основе большевизма лежит воинствующий атеизм, отвержение любой религии и в первую очередь — христианства, изгнание Бога из человеческой жизни. Поэтому война Белой Гвардии с большевизмом была священной, оправданной войной. Дело не в том, что красные были бо льшими грешниками, чем белые. Иной красный романтик мог быть духовно чище, чем иной белый головорез. Но большевизм, как система, был духовно погибелен для миллионов людей, а потому война с большевизмом была правильной с нашей точки зрения.
— То есть правильная война ведётся не с носителями греха, а с его распространителями, ради того, чтобы уберечь людей от влияния духовно погибельных систем?
— Совершенно верно. Когда вы говорите такие слова, мистер Сиверцев, мне кажется, что я люблю вас, — Лоуренс улыбнулся иронично-доброжелательно, но почему-то очень грустно. Андрей ответил ему такой же улыбкой.
— Теперь я окончательно понял, почему белые проиграли, — сказал Андрей. — Они не осознавали свою борьбу, как священную войну ради защиты христианства. Белые в большинстве своём были носителями либерального, то есть так же безбожного мировоззрения. Невозможно без Бога выиграть войну с безбожниками.
— Вполне возможно, что и так, мой друг, — вставил слово отец Августин. — Но пути Господни неисповедимы. Белые могли проиграть, даже сражаясь во славу Христову. Господь не обещал своим слугам, что они всегда будут побеждать на земле, Господь обещал им Царство Небесное.
— Значит, мы всегда побеждаем! — заключил Андрей.
— Если мы успешно ведём внутреннюю войну с собственными грехами, и если наша внешняя война действительно является, отражением внутренней, её продолжением.
— Сейчас вспомнил, как Зигфрид цитировал мне бельгийского эсэсовца Леона Дегрелля: «Это была война романтиков и идеалистов с двумя типами материализма: либеральным и марксистским». Если так, значит это тоже была правильная война со стороны немцев?
— Ах, если бы так, — тяжело вздохнул Князев. — Вторая мировая война на самом деле была вызвана столкновением интересов трёх крупнейших европейских хищников: Великобритании, Германии и Советского Союза. Из трёх этих хищников разве что СССР вёл войну из соображений не материальных — ради распространения своей идеологии, основанной на безбожии. Но, если Германия сражалась с безбожниками, это ещё не значит, что она сражалась ради Бога. На самом деле рассуждения о «битве с большевиками» были для немцев не более, чем политической картой. Со стороны Британии и Германии это была чисто буржуазная война за передел сфер экономического влияния. Вот если бы война на самом деле была такой, как видел её Дегрелль, это, действительно, была бы священная война. И если лично Дегрелль вёл именно такую войну, значит он один из последних рыцарей Европы. Рыцарь молится не фюреру, а Христу. Рыцарю нельзя отдать приказ, который противоречит его убеждениям. Если вождь отдаёт такой приказ, рыцарь автоматически перестаёт считать его вождём. В этом главное отличие рыцаря от солдата. Идеальный солдат должен выполнить любой приказ — слепо и не рассуждая. Буржуазии нужны только такие вояки — способные рвать глотки кому угодно лишь ради того, чтобы слой масла на бутерброде был толще. Французам сказали: «Немцы — враги, из-за них вы живёте хуже». Немцам сказали тоже самое про французов. И они истребляли друг друга, не рассуждая, в двух мировых войнах, доходя при этом до крайних форм национальной ненависти. Средний француз верил, что немец плох уже потому, что он немец, и это вдолбили ему в голову, потому что французская буржуазия хотела отобрать кусок пирога у немецкой буржуазии. Это и есть война за национальные интересы, то есть за интересы торгашей.
— Где-то я это уже слышал, — язвительно улыбнулся Сиверцев. — Да нам же в школе это 10 лет вдалбливали — критика буржуазных войн с позиций ленинизма.
— Рыцарь подрастает, — добродушно усмехнулся Князев. — Подозревает своего командора в скрытом ленинизме. Правильно, Андрюха, и впредь не позволяй вешать себе лапшу на уши. Однако, отвечу. Ленинизм критикует третье сословие — буржуазию с позиций четвёртого сословия — пролетариата. Мы критикуем третье сословие с позиций первого и второго — военной аристократии и духовенства.
— А в чём разница?
— Уже хотя бы в том, что большевизм — за уничтожение третьего сословия и вообще за общество без сословий. Мы — за сохранение сословий, но за подчинение третьего сословия первому и второму, как это и было в традиционном обществе. Мы за то, чтобы общество строилось не на основе буржуазных ценностей, а на основе ценностей, которые выработала военная аристократия. Впрочем, сегодня Орден не борется за преобразование общества и в политической борьбе не участвует.
— В чём тогда смысл нашего Ордена?
— Смыслов несколько. Об этом мы и намерены были говорить, только от темы уклонились. Лирическое отступление началось с того момента, когда я сказал, что Европа сегодня уже не способна породить рыцарско-христианскую конгрегацию, а потому у нашего Ордена нет в Европе командорств. Но в Европе всё ещё есть отдельные люди, которые принадлежат к рыцарскому психотипу. Их-то наш Орден и принимает к себе, помогает им реализовать свой потенциал. В Европе они никогда не найдут друг друга, никогда не смогут объединиться, не смогут познать себя. Рыцарь может быть только рыцарем. Будучи лишённым такой возможности, он обязательно переживёт крах личности. Европу уже не спасти, как не спасти было «Титаник», но можно было спасти отдельных людей с «Титаника», вот мы и спасаем последних рыцарей Европы, которые тонут в либеральном море, даём им место в нашей небольшой, но очень крепкой лодке.
— Ты не слишком мрачно оцениваешь перспективы Европы? Про «Закат Европы» уже сто лет говорят.
— Так вот мы и видим сейчас закат. Красота этого зрелища может заворожить только очень наивных людей. За закатом следует ночь. Грядущий XXI век станет веком исчезновения Европы, как этнокультурной общности. Идут два параллельных процесса. Процесс духовного оскудения Европы, разорвавшей свою внутреннюю связь с христианством, и процесс всё нарастающего преобладания в Европе ислама, этнокультурной общности в духовном плане более сильной, чем убогие остатки Европы. К тому же в Европе рождаемость падает, европейцев всё меньше, а этнических мусульман всё больше — миграция в Европу нарастает, и рождаемость не снижается. Но дело не только в количестве, мусульмане в духовном, идейном плане неизмеримо сильнее, чем безыдейные и бездуховные европейцы. Значит, власть скоро будет принадлежать мусульманам.
— Мы ведь уже говорили об этом — власть, во всяком случае, будет принадлежать людям, которые верят в Бога.
— Да, но в этом верующем мире христианским воинам-монахам места уже не будет. Кого наш Орден не спасёт — те погибнут. Итак, одна из главных задач Ордена — консолидация остатков европейско-христианской героической элиты.
— Христианская героическая элита? Звучит несколько непривычно и, пожалуй, даже шокирующее.
— Ну ещё бы. — подхватил разговор Лоуренс. — Знаешь, кого я цитировал по поводу внутренней войны и проецирования её целей на внешнюю? Барона Юлиуса Эволу, который позиционировал себя в качестве язычника. Отсюда, кажется, не трудно сделать вывод о том, что создание собственной героической элиты — идея чисто языческая, чуждая христианству. На самом деле Эвола — язычник довольно искусственный. В известном смысле его можно назвать интуитивным христианином. Мышление, ментальность, мироощущение представителя старой европейской аристократии полностью основаны на христианских принципах, несмотря на то, что он этого не осознаёт. Он, например, считает, что язычество — солнечная религия, а христианство — лунная, лишённая активного мужского начала. Однако, именно христианство является солнечной мужской религией (Христос — Солнце Правды), а крайние формы язычества (сатанизм) сами себя возводят к традиции лунной и всеми способами опираются на женское начало. Этот тезис можно развить в красивейшую теорию, но нам пока важно уяснить одно: Эвола, как носитель солнечной религиозной традиции, является носителем традиции христианской.
— А почему это важно?
— Мы во многом опираемся на мысли родственные тем, которые высказывал Эвола, а потому очень важно подчеркнуть, что это мысли отнюдь не языческие. Эвола воспевает «мир традиций», почему-то не думая о том, что староевропейская традиция является христианской. Он пытается аппелировать к дохристианскому прошлому Европы, но при этом не учитывает одно крайне важное обстоятельство — далеко не любая дохристианская религия уже обязательно язычество. Наивно полагать, что Авраам был первым монотеистом на земле. Была ведь религия Адама, религия Ноя, являвшая собой чистый монотеизм, правильное богопочитание. И на момент познания Бога Авраамом на земле жил царь-священник Мелхиседек, носитель чистого монотеизма. Этот монотеизм постепенно замутнялся и искажался, трансформируясь в различные языческие культы, но монотеистическая традиция, берущая начало от Адама, никогда не исчезала совершенно, энергетика чистого монотеизма сохранялась порою даже в некоторых наиболее вменяемых языческих культах. Утверждать обратное, значит кощунствовать, поскольку получится, что от Ноя до Авраама человечество Бога не интересовало. С удовольствием написал бы на эту тему диссертацию, но нам сейчас важно следующее. Эвола в своих построениях опирается на традиции, связанные с чистым монотеизмом, правильным Богопочитанием, каковые присутствовали и в дохристианском мире, и вне традиции Авраама, и которые получили максимально полное и адекватное развитие в христианстве.
Итак, барон Эвола пишет, что необходимо признать «за воинскими добродетелями и чувствами высшее достоинство по сравнению с буржуазными». Это наша, чисто орденская идея, ведь, перечисляя лучшие качества носителя воинской традиции, Эвола фактически пишет портрет христианского рыцаря-монаха: «Живые и характерные ценности, за которыми эта концепция признаёт преимущественное право — любовь к иерархии, умение повелевать и подчинятся, храбрость, чувство чести и верности, готовность к самопожертвованию даже в тех случаях, когда подвиг останется безымянным, ясные и открытые отношения между товарищами, между командиром и подчинённым». Как видишь, тут нет ничего языческого. Эвола продолжает: «Вопреки буржуазно-либеральному утверждению, воинская идея не сводится к грубому материализму и не является синонимом превознесения грубого использования силы и разрушительного насилия. Основными чертами этого стиля является любовь к дистанции, иерархии, порядку, способность подчинять свои индивидуальные интересы высшим принципам и целям».
— Где вы теперь найдёте таких военных?.. — грустно улыбнулся Сиверцев.
— Только среди орденских рыцарей, — уверенно констатировал Лоуренс. — Эвола ни разу не употребляет слово «рыцарь», но он рисует портрет именно рыцаря, и чем дальше, тем больше этот портрет приобретает религиозные черты, причём, собственно христианские: «Этому стилю свойственны твёрдость в поступках и отсутствие красивых жестов, идеал ясности, внутренняя уравновешенность, недоверие к экстатическим состояниям и смутному мистицизму, чувство меры, способность объединятся, не смешиваясь, как свободные люди, ради достижения высшей цели или во имя идеи».
Лицо Андрея озарила улыбка:
— А ведь тут есть не просто христианские, но и чисто православные мысли. Например «недоверие к экстатическим состояниям» — черта собственно православная, католицизму-то как раз не свойственная.
— Умница, Андрюшка, — отец Августин даже хлопнул себя ладонями по коленям. — И недоверие к «смутному мистицизму» — чисто православная черта.
— А «способность объединяться, не смешиваясь», — продолжил невозмутимый Лоуренс, — характернейшая черта рыцарства, порождённая ментальностью франков. Далее Эвола, продолжая воспевать некую абстрактную традицию, отражает традицию чисто христианскую: «Воинской традиции неведома ненависть, как основа войны. Ненависть, ярость, злоба, презрение в глазах истинного воина являются ублюдочными чувствами, он не нуждается в разжигании столь низменных чувств, в экзальтации. В традиционных государствах война велась с холодной головой, безо всякой ненависти или презрения между противниками». То что Эвола называет «ублюдочными чувствами» есть, по-нашему говоря, греховные страсти, от которых воин никогда не сможет освободить своё сердце без Христа. Очень важно, что здесь Эвола говорит о возможности избежать характерных «профессиональных заболеваний» военных. Можно воевать без злобы и ненависти. Так воюют христианские рыцари. Ещё Эвола указывает на то, что идеалы истинных воинов в чём-то смыкаются с монашескими идеалами: «Воинская идея определённым образом пересекалась с идеей особой аскезы, то есть внутренней дисциплины, контроля над собой». Вот это очень важно: как военным, так и монахам свойственен аскетизм — система жёстких самоограничений, необходимых для достижения высших целей. Тут военная и монашеская ментальности пересекаются, и в точке этого пересечения рождается Орден Христа и Храма.
— Эвола упоминает в этой связи тамплиеров?
— Парадоксально, но не упоминает. Впрочем, его можно понять — человеку, который наивно считает себя язычником, неловко обращаться к опыту христианских воинов-монахов. Эвола отразил тамплиерский идеал (во всяком случае — многие его черты), кажется, даже не подозревая об этом. Впрочем, он называет в качестве перспективы идею некоего абстрактного Ордена ради создания не менее абстрактного «европейского единства». И вот тут наш барон, порою поднимающийся до понимания высочайших истин, вдруг проявляет поразительную близорукость и духовную беспомощность. Мог бы он и принять в расчёт, что сама идея Ордена родилась в недрах христианства и вне христианства не встречается — язычество ничего подобного не знает. Странно выглядит и непонимание того, что «европейское единство» может возникнуть лишь на базе некой идеи. В качестве объединяющего начала Эвола выдвигает набор добродетелей истинного воина. Но нельзя рассматривать добродетели в отрыве от идеи, которая их породила. Абсурдно утверждать: мы не нуждаемся в солнце, нам достаточно солнечных лучей. Но идеи у Эволы нет. Не приняв христианства, он не предложил и никакой языческой религиозной системы. Идея есть у нас — рыцарей Храма.
— А для нас так уж важно возится с теориями этого барона?
— Очень важно. Эвола блестяще прославил рыцарский психотип, его книги имеют огромное влияния на значительное количество людей. Это влияние вызвано тем, что в писаниях Эволы истинно, его глупости никакого очарования не имеют. Мы не можем допустить, чтобы наши современники, восхищённые фактически христианскими идеями Эволы, уходили вслед за ним из христианства. Это просто нонсенс.
— А может, Эвола отрицательно относится к христианству, потому что видел вокруг себя искажённые его проявления?
— Вполне возможно. Во-первых, он вырос в католическом мире, а потому у него были причины ошибочно полагать, что католицизм — это и есть христианство. Во-вторых, он видел вокруг себя христианство уже размягчённое либерализмом, ослабленное идеологией прав человека. Вообще, мне кажется, что разговоры о правах идут от женского начала. Это у женщин права, а у мужчин обязанности. А христианство — религия мужского начала. В христианстве очень важны такие понятия, как долг, защита слабых, готовность к жертве, мужество и твёрдая воля, без которых невозможна непрерывная борьба со страстями, самоотречение. Это же всё мужские добродетели, и христианство требует их даже от женщин. Не случайно в одной из молитв саму Богородицу называют Воеводой. И монашеский путь борьбы с греховными страстями христианская аскетика описывает в военных терминах: «невидимая брань», «меч духовный» и т. д.
— Но это же всё аллегории, иносказания.
— Конечно, иносказания. Но если монашеская аскеза использует военную терминологию, значит есть всё же нечто родственное между духовным деланием монаха и служением воина. Ни одна система не станет использовать терминологию чуждой ей по духу корпорации. Итак, появление в недрах христианства воинов-монахов не есть нечто случайное или искажающее идеалы христианства. Напротив, идея Ордена развивает идеалы христианства, он органичен и закономерен в рамках Церкви. Идеология корпорации воинов-монахов — естественное развитие мужского начала, которое лежит в основе нашей религии. Вот этого-то и не понимал Эвола, полагая, что христианство — религия слабых, а язычество — религия сильных. Между тем, большинство языческих систем, несмотря на культ тупой и грубой силы, являются развитием именно женского начала, не несут в себе подлинной мужественности. Так что идея героической элиты — чисто христианская, но в современном мире эту идею разрабатывает кто угодно, только не христиане.
Уже известный тебе Гейдар Джемаль пишет: «Основной задачей исламского общества является возрождение героической элиты, могущей стать костяком будущего правящего класса». Джемаль понимает героическую элиту, как «братство через смерть», которое строится на осознании того, что «ты являешься братом себе подобных людей, потому что вы вместе стоите перед лицом смерти. Для братства смерть является освобождающим началом». Тебе не кажется, что это очень близко к идее Ордена Христа и Храма?
— Мусульмане научились у крестоносцев?
— Вот именно. Они своим языком излагают наши идеи, а мы потом думаем, что это идеи не христианские. Глупо же. А вот ещё прелюбопытная мысль Джемаля, источником своим имеющая явно не ислам: «Джихад — борьба с ничтожным внутри себя и агрессей ничтожного снаружи. Великий джихад — внутренняя священная война в Духе, малый джихад — священная война в физическом мире». Помнишь у Эволы почти в точности такая мысль: «Внешняя война считается подлинной и справедливой, если она отражает борьбу, идущую в мире внутреннем. Это битва против тех сил и людей, которые во внешнем мире имеют те же черты, что и те силы которые необходимо подавить внутри себя». Поразительный факт: язычник и мусульманин фактически пишут об одном и том же, а между тем ни язычество, ни ислам никогда не предъявляли никаких требований к внутреннему миру человека, никогда не призывали к «внутренней войне», которую христиане называют «невидимой бранью». Эвола и Джемаль излагают христианские мысли, близкие к тому, о чём писал Бернар Клервосский, изображавший храмовников, как людей, которые ведут войну и на «внутреннем», и на «внешнем» фронте.
— А вот позвольте-ка проэкзаменовать нашего юного друга, — вставил слово отец Августин. — Джемаль излагает христианские мысли, искажая их. В чём именно?
— Он говорит про «борьбу с ничтожным внутри себя», а не про борьбу с греховным. Я это сразу заметил. Под «ничтожным» можно понимать просто трусость, страх смерти или привязанность к материальным благам. И с этим внутри себя надо бороться, но понятие греха куда глубже. Следуя рецепту Джемаля, можно победить внутри себя трусость или склонность к обжорству при помощи тщеславия или гордыни, полагая, что одержана большая победа на «внутреннем фронте», а с христианской точки зрения это будет поражение.
— Правильно, — добродушно улыбнулся отец Августин. — А Эвола?
— А он и вовсе ничего конкретного не говорит про «те силы, которые необходимо подавить внутри себя». Мне кажется, воруя христианские идеи, они просто не способны понять их глубину.
— Всё правильно, — кивнул батюшка, — идея религиозной героической элиты была сформулирована теоретиками крестовых походов, о чём ты в своё время немало читал, беседовал, думал.
— Итак, — резюмировал Лоуренс, — наша задача — вернуть украденную у нас идею героической элиты и очистить её от искажений. По-нашему это будет выглядеть так: христианская героическая элита, основу которой составляют рыцари-монахи, это люди, которые в любой момент готовы умереть, защищая ближних, а так же защищая христианство от любых агрессивных посягательств.
— Одно только непонятно, — развёл руками Сиверцев. — Почему современные христианские мыслители не выдвигают идею создания собственной героической элиты, считают эту идею чуждой христианству и отдают её для разработки язычниками и мусульманами?
— А ты сам-то как думаешь? — усмехнулся долго молчавший Князев.
— Да уж, думаю. В основе профессии воина лежит неизбежный грех — убийство. Церковь не может позволить себе создать корпорацию убийц, даже очень набожных.
— Ну и как ты выходишь из этого умственного тупика?
— На языке много красивых слов, но мне самому не кажется убедительным собственное оправдание Ордена. Очень путано выходит.
— Сейчас распутаем по-простому. В основе профессии воина — готовность убивать и готовность умереть. Мы переносим акцент с первого на второе. Рыцарь-монах всегда готов умереть и всегда предпочитает не убивать. Если духовно-боевую задачу можно решить двумя способами на выбор — либо убить, либо умереть, рыцарь всегда предпочтёт умереть, а не убить. Рыцарь умеет убивать, но умение умирать для него на первом месте. Христианская героическая элита — жертвенная элита.
— Но ведь всё равно же убиваем.
— Мне сейчас просто скучно полемизировать с пацифизмом толстовского типа. На эту тему написана целая библиотека. Просто прими во внимание, что Православная Церковь причислила к лику святых многих людей, всю свою жизнь убивавших и отдававших приказы убивать. Это князья Александр Невский и Дмитрий Донской, адмирал Фёдор Ушаков и многие другие. А почему не может существовать специализированная корпорация христиан, делающих то же самое?
— Да, я знаю, что христианство не имеет ничего общего с примитивным пацифизмом. Часто вспоминают о том, что Господь велел Петру вложить меч в ножны, но не любят цитировать другие слова Господа нашего Иисуса Христа, сказанные в тот же день, накануне ареста: «Продай одежду свою и купи меч». Просто есть время обнажать мечи, а есть время вкладывать их в ножны. Это понятно. Но мы — не просто корпорация воинов-христиан, мы — корпорация воинов-монахов. И тут уж скажут, что если простому христианину ещё допустимо браться за оружие, то монаху это никак не пристало.
— Это тоже просто. Если монах берёт в руки оружие, он становится худшим монахом, чем был до этого, но если христианский воин-мирянин начинает соблюдать монашеские обеты, он становится лучшим воином, чем был до этого. Итак, воины-монахи — самые худшие из монахов, но самые лучшие из воинов. Орден Христа и Храма — это понижение монашеского идеала, но это возвышение идеала воинского. Монаха вряд ли благословят на войну, но воина, пожалуй, благословят соблюдать монашеские обеты. Кому плохо от того, что воин-христианин станет придерживаться целомудрия, нестяжания и монашеского послушания? Вот с этого бока и надо подходить.
— Да. пожалуй. Но есть ещё момент. Мы не просто защищаем ближних силой меча, мы защищаем христианство. Скажут, как же можно распространять христианство силой оружия?
— А ты не путай два понятия: «защищать» и «распространять». Религию, действительно, нельзя распространять силой оружия, как это делает ислам. Но защищать христианские святыни, защищать право христиан оставаться таковыми возможно и при помощи меча в случае вооружённой религиозной агрессии. Образно говоря, мы не будем при помощи меча расчищать площадку под строительство храма, но уже построенный храм защитим и мечём, если его захотят снести.
— Православные скажут ещё, что идея Ордена — чисто католическая и зародиться могла только в недрах католицизма.
— И будут до известной степени правы, — сказал отец Августин. — Видишь ли в чём дело, Андрюшенька. Католицизм всегда тяготел к власти, всегда стремился созидать «царство от мира сего», не случайно ведь римский папа является не только духовным лидером, но и главой государства. Католицизм политичен, не в той, конечно, мере, как ислам, но это черта их сходства. Римские первосвященники всегда претендовали на власть над царями земными, править всем миром из Ватикана — это их любимая идея. Соответственно, папы вовсе не чужды порочного стремления распространять христианство силой оружия. Но природа нашей веры такова, что мечём её не утвердить — результат будет обратный. Потому и власть христианству не нужна — это нам ничем не поможет. А римские папы так не считают. Они всегда претендовали на власть, а отсюда вполне логично вытекает мысль о том, чтобы иметь собственную армию. Поэтому римские папы и благословили Орден Христа и Храма, поэтому и подчинили его себе. Ни одному православному патриарху такая мысль и в голову не пришла бы. Зачем патриарху личная армия, если он не претендует на власть и не имеет ввиду распространять христианство силою оружия? А святыни и христиан защитят войска православных императоров.
— Значит, идея Ордена Храма по сути всё-таки католическая?
— Не так радикально, но надо признать — идея нашего Ордена генетически связана с католицизмом. Уже средневековые тамплиеры пытались эту связь преодолеть. Во-первых, де-факто они никогда не были личной армией папы римского и никогда не обслуживали его притязания на власть. Во-вторых, они никогда не участвовали в вооружённой борьбе за власть на территории Европы — Устав запрещал им поднимать оружие на христиан. В-третьих, на Востоке тамплиеры всегда ограничивались только защитой христиан и христианских святынь, никогда не имея замыслов распространить христианство на собственно исламские земли. И всё-таки в Средние века Орден оказался по уши втянут в политику. Это было неизбежно — Орден являл собой столь значительную материальную силу, что помимо собственного желания стал мощным политическим фактором. Католицизм породил наш Орден, но он же его и убил, потому что дитя оказалось непослушным. Дитя хотело служить только Христу, а не римским папам и королям.
— Но сегодня наш Орден — православный. Может, только по названию?
— Правомерная постановка вопроса. Если бы мы просто переименовали Орден из католического в православный, переподчинив себя восточному духовенству, от этого ничего не изменилось бы — мы так и остались бы фактическими католиками в недрах православия. Но мы на самом глубинном духовном уровне оборвали связь с католицизмом. Это выражается в том, что Орден сейчас совершенно вне политики. В мире, очевидно, нет ни одной корпорации, которая находилась бы на таком удалении от каких бы то ни было форм политической борьбы. Мы не претендуем ни на один грамм власти в этом мире, никак не связаны с материальными интересами каких-либо государственных и церковных структур.
— Про поводу церковных структур хотелось бы уточнить. Мы, часом, не раскольники?
— Нет. Мы связаны с Иерусалимской Патриархией, там для нас рукополагают священников. В Ордене примерно один священник на 20 человек личного состава — рыцарей, сержантов и послушников. Впрочем, в Иерусалимской патриархии о нашем Ордене знают на настоящий момент лишь два епископа и те благоразумно не проявляют лишнего любопытства. Они знают, что мы строго православные люди, которые не любят афишировать свою деятельность. Наше духовенство фактически не подчиняется Иерусалимской патриархии. В Ордене есть протопресвитер, который и руководит священством храмовников.
— А своих епископов в Ордене нет?
— Ни в коем случае. Если у нас появится своей епископат, то мы фактически превратимся в поместную Церковь, но мы не можем таковой являться, потому что не имеем своей канонической территории. Если заведём своих епископов, утратим связь с Иерусалимской патриархией и, действительно, обретём черты раскольнической группировки. А так, мы хоть и существуем на правах полной автономии и организационно не зависим от Иерусалимской патриархии, но имеем полное право считать себя принадлежащими к священству Святой земли, что для Ордена храма, согласись, немаловажно.
— А вот что касается нашего правового статуса в этом мире. Мессир, вы как-то говорили, что Орден является структурой ООН? — Сиверцев обратился к Князеву.
— Это и так, и не так. При ООН зарегистрировано некое «Общество возрождения европейского рыцарства». Нам это необходимо для того, чтобы наши люди имели нормальные международные паспорта, чтобы иногда можно было на законных основаниях приобретать недвижимость или в качестве юридического лица делать заказы на некоторых предприятиях. У нас есть официальные офисы, что тоже иногда необходимо, но по сути наш Орден не является структурой ООН, там не имеют никакого реального представления об Ордене.
— Я всё-таки до сих пор не понимаю, зачем столько секретности?
— Если Орден в его реальных объёмах полностью выйдет на поверхность и выставит всему миру на обозрение свои реальные ресурсы, мы тут же, помимо своей воли, станем одной из политических сил. Мы просто не сможем этого избежать, либо нас уничтожат, как это уже было. Мы абсолютно автономны и не подчинены ни одному государству, но нас это не спасёт. Во всём мире идёт непрерывная борьба за власть, фактически все материальные ресурсы планеты задействованы в этой борьбе. И вдруг на шахматной доске появится игрок, который не желает играть ни на чьей стороне. Ну, если мы не захотим играть, тогда нас «сыграют». Для Ордена единственный способ не оказаться втянутым в политическую борьбу — сделать так, чтобы про Орден ничего не знали. До сих пор это удаётся, столетия нелегального существования сделали нас, пожалуй, лучшими в мире конспираторами.
— Но почему для нас так важно держаться вне политики?
— Это не просто важно, а судьбоносно. Ни одно государство планеты не служит и даже теоретически не может служить Добру в высшем, надмировом смысле. Государства существуют для того, чтобы обслуживать свой и только свой народ. То есть, в самом идеальном случае, когда правительство иного государства, действительно, служит благу своего народа, основываясь при этом на самых гуманных принципах, оно не может служить Добру, как таковому. Ведь есть только один способ дать своим — отобрать у чужих — кусок территории, нефтяные скважины, контроль за проливами, доступ на чужие рынки. В итоге — чем лучше для одних, тем хуже для других. Любое государство просто вынуждено, заботясь о своём народе, ущемлять интересы других народов. То есть ни одно государство не заинтересовано в борьбе со злом, как таковым, при этом имеет прямой интерес в том, чтобы всё зло происходило у других — чем слабее наши соседи, тем сильнее наша страна. Все разговоры о гармонизации интересов разных стран — демагогия, не имеющая реального содержания. На политической арене сильный всегда будет действовать в ущерб интересам слабого, и стремиться ещё больше его ослабить. Следовательно, какую бы самую замечательную страну или группу стран не поддерживал наш Орден, мы всё равно будем вынуждены нести зло другим странам, то есть фактически будем способствовать распространению зла. Простой пример. Никто не станет спорить с тем, что наркомания — безусловное зло. Но ни одна страна в мире не заинтересована в том, что бы производство наркотиков полностью прекратилось. Если, скажем, правительства центрально американских стран уничтожат плантации коки на своих территориях, они обрекут свои народы на голод — там экономика полностью держится на производстве кокаина. А ведь правительства не имеют права действовать в ущерб интересам собственного народа, следовательно, они, пусть негласно, но поощряют производство кокаина. При этом, правительство США не может допустить массового потребления кокаина на своей территории — это ослабляет народ, но не хочет прекращения производства кокаина, а иначе Штаты давно бы уже напалмом выжгли все плантации коки в Центральной Америке — им это вполне по силам, но не выгодно. Штатам выгодно зарабатывать на поставках кокаина в Европу — и деньги хорошие, и Европу ослабляют, и от себя зло отводят. Так же с производством героина в Центральной Азии. Афганистану выгодно производить кокаин, потому что весь афганский народ с этого кормится. Если правительство Афганистана уничтожит маковые поля, оно поступит в ущерб интересам собственного народа. Штатам выгодно, чтобы весь героин шёл в Россию, превращая русских в тупое быдло. А России выгодно, чтобы весь героин транзитом проваливался в Европу. И свой народ будет в безопасности, и на транзите можно заработать, и Европу без войны ослабить. В итоге ни одной стране не выгодно прекращение производства героина.
Никому не выгодно бороться со злом, выгодно всё зло спихнуть соседям. То же самое и с размещением грязных производств в других странах, и с захоронением атомных отходов, и с ограблением других народов в интересах своего народа. Итак, любое участие в политике — объективное служение злу. А Орден борется со злом, независимо от того, кому оно выгодно, а кому — нет. Выгода нас вообще не интересует. Мы боремся со злом, потому что оно враждебно Христу, а мы — рыцари Христа. Вспомни ситуацию в Индии. В мире нет ни одного государства заинтересованного в том, чтобы запретить шиваистам убивать христиан. Это зло, которое не мешает ни одной стране. И подавляющему большинству граждан Индии совершенно не мешает истребление христиан. Тогда за дело берётся Орден.
— Неужели мы своими малыми силами считаем возможным уничтожить зло в этом мире?
— Мы не ставим перед собой столь идиотской задачи. Источник зла — повреждённая грехом природа человека. Не исправив природу человека, невозможно истребить зло. Полностью избавить души людей от зла, то есть от греха, невозможно в условиях этого мира. Дядька с мечём, который рубит головы, не избавит мир от зла. То, что делает Орден ни сколько не похоже на голливудский боевик — мы не сражаемся за окончательную победу добра на земле, потому что это невозможно. Мы знаем, что в масштабах истории человечества зло в конечном итоге победит, а победа Добра произойдёт уже за пределами истории.
— Зачем тогда мы сражаемся?
— Для того, чтобы исполнить заповедь Христову: любите друг друга. А, как известно, нет выше той любви, чем когда кто-то «положит душу свою за други своя». Если Бог дал нам воинские таланты, мы должны использовать их, защищая людей, препятствуя распространению зла и поменьше думая о конечном результате. Господь не велел «зарывать таланты в землю». По сути своей, наша служба — проявление любви к людям на тот манер, который нам доступен. По большому счёту, наша задача в том, чтобы уберечь христианство от уничтожения, а вовсе не в том, что доставить ему военную победу. Христиане будут на земле до конца времён, но ведь это же не само собой, а благодаря кому-то. В том числе, и благодаря нам. Нельзя просто говорить: «Христиан сбережёт Бог». Да, сбережёт, но чьими-то руками. А почему не нашими?
— Но Бог может и без нас сберечь, кого захочет.
— Да, может, но Бог хочет, чтобы мы проявляли свою любовь друг к другу, защищая друг друга. Деус вульт.
— Насколько я понял, мы сражаемся с таким злом, с каким на станет бороться ни одно государство в мире?
— Истинно так.
— И кто наши главные противники?
— Сатанисты. Мы сражаемся с мировым сатанизмом.
— Даже и не думал, что таковой существует.
— Ещё как существует. О том, что такое сатанизм и в каких формах он себя проявляет надо говорить отдельно. Пока скажу, что именно сатанизм ведёт крайне агрессивную и кровавую войну за уничтожение христианства.
— Значит, наша задача — уничтожить сатанистов?
— Да ни в коем случае. Нельзя убивать человека только за убеждения.
— А почему нельзя, если эти убеждения омерзительны до чрезвычайности?
— Да потому, что Бог каждому человеку даровал свободу выбора, и не нам убивать человека только за то, что он этой свободой воспользовался не лучшим образом. Сатанизм бесполезно пытаться уничтожить физически, абсурдно стремиться вырезать их всех поголовно. По капле сатанизма есть в каждом из нас. А у кого-то — по кружке. Всех что ли вырезать? Но тогда мы сами станем сатанистами, хоть с ног до головы крестами увешаемся. Рыцарь, который сражается с драконом, должен помнить: главная опасность в том, что, одержав победу, рыцарь сам может стать драконом. Мы, порою, убиваем сатанистов, не потому что они сатанисты, а потому что никаким иным образом в конкретной ситуации оказывается невозможно защищать христиан.
— А, между прочим, мои «финики» тоже борются с сатанизмом, — неожиданно заверил Лоуренс благосклонно-простодушным тоном.
— А кто такие «финики»? — неловко улыбнулся Андрей.
— Так мистер Князев по своей советской привычке называет финансистов Ордена. А мне понравилось — «финики», — мечтательно протянул Лоуренс. — Это же спасение среди пустыни. Дело вот в чём, мой друг. Орден Христа и Храма в наши дни создал альтернативную финансовую систему, которая очень тонкими, но весьма надёжными нитями опутывает весь мир.
— Систему альтернативную кому?
— Почти вся мировая финансовая система находится в руках людей, которых с известной долей условности можно назвать сатанистами, потому что они крайне враждебны христианству. Эти люди могут не считать себя сатанистами, но это ничего не меняет, потому что они являются таковыми по сути. В сфере финансов сатанизм сегодня уже почти победил в мировом масштабе, создав единую финансовую глобальную сеть. «Почти», потому что Орден жив. Мы создали альтернативную финансовую сеть, неизмеримо меньшую по масштабам, но так же обладающую немалыми ресурсами, вполне достаточными для поддержки некоторых христианских инициатив, а так же для финансового противодействия некоторым уж слишком циничным сатанинским инициативам.
— То есть вы сражаетесь с сатанистами в сфере финансов?
— Имеем к этому склонность. Вот, к примеру, до недавнего времени существовала очень мощная, действующая по всеми миру, фирма. Мне нравится называть эту фирму «Проктолог», поскольку по сути своей она весьма напоминает продукт той части человеческого тела, которая интересует врачей-проктологов. Так вот, руководители «Проктолога» публично похвалялись, что являются сатанистами и оказывают финансовую поддержку «Церкви Сатаны». Нам это не понравилось. Мы стали играть на бирже на понижение акций «Проктолога», вложив в эту игру очень большие средства. «Проктолог» такой финансовой агрессии совершенно не ожидал, потому что знал, что это никому не выгодно, тут никто не заработает. А мы и правда не заработали. Провернув очень сложную, многоступенчатую финансовую схему, направленную на разорение «Проктолога», мы получили на выходе одни убытки, но кроме того — большое моральное удовлетворение. Эти люди больше не будут пропагандировать сатанизм в прямом эфире — им больше нечем заплатить за эфир. К тому же целый ряд сатанинских сект по всему миру лишились финансовой поддержки.
— В мире стало меньше зла?
— Не знаю, — Лоуренс развёл руками. — Это такой метафизический вопрос. А я — «финик» — существо примитивное. Однако, мне известно, что сатанинские секты имеют теперь меньше возможности влиять на людей, соответственно люди, которые могли попасть в сферу влияния сатанистов, имеют больше возможностей сделать правильный духовный выбор.
— А вот мы говорили про наркобизнес. Это зло в чистом виде, но сатанизм тут, кажется, ни при чём?
— Ошибаешься, — продолжил Князев, — сатанизм тут очень даже при чём. Наркоторговля является одним из основных источников финансирования сатанинских сект. Мы несколько раз сбивали самолёты, гружённые тоннами кокаина, выжигали маковые поля и вскоре убеждались, что сатанинская пропаганда в разных точках мира ослабевает. Всё зло в этом мире взаимосвязано. Сатанисты, например, хорошо зарабатывают на незаконной торговле оружием, и с этим так же, кроме нас, никто не станет бороться.
— Зигфрид рассказывал, — Кивнул Андрей, — как Орден уничтожил организацию эсэсовцев-сатанистов, торговавших оружием.
— Было дело. Нарушили покой пустыни.
— Но если зло неистребимо в принципе, значит, конечной цели у Ордена нет?
— Есть у нас конечная цель. Она связана с завершением мировой истории. Орден полностью и окончательно реализует себя, когда власть над миром захватит Антихрист.
— Тогда не будет слишком поздно?
— Тогда-то и будет самое время. Все, кто не признает власть Антихриста и не примет его печать, не будет иметь возможности купить еду. Но, как говорит нам Библия, христиане выживут. А каким образом? Их накормит Орден. Богатства тамплиеров, которые мы сберегли во время средневекового разгрома Ордена и с тех пор не мало приумножили, будут полностью обращены в продовольствие, благодаря которому выживут последние христиане. Христианам тогда потребуется силовая защита, уже хотя бы для того, чтобы переправиться в безопасные места — этому послужат наши мечи. Семь отшельников Афона, которые пребудут до скончания века, перед вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа отслужат последнюю на Земле Божественную Литургию. Но слуги Антихриста будут охотиться на этих отшельников, их защитят мечи девяти тамплиеров, которые так же пребудут до скончания века. Последние наши братья-тамплиеры в своих белых плащах не познают смерти и встретят Господа, когда он придёт во славе Своей.
— Впрочем, про царство Антихриста и про роль Ордена Христа и Храма в завершении мировой истории — разговор особый и отдельный, так же как и про современный мировой сатанизм — движение предтеч антихристовых. Полагаю, отец Августин не откажется позднее составить с тобой этот разговор.
Батюшка вежливо поклонился.
— Сегодня у нас была одна цель — рассказать, что являет собой современный Орден Христа и Храма. Разговор получился несколько хаотичный, что, наверное, было неизбежно, так что давай ещё раз проговорим основные моменты, а за одно вспомним о том, о чём забыли сказать.
Современные тамплиеры являются героической, жертвенной элитой христианства. Это воины-монахи, которые готовы в любой момент отдать жизнь за Христа, с оружием в руках защищая христиан и христианство.
Одна из основных задач Ордена — консолидация в своих рядах христианской военно-монашеской элиты. Мы собираем информацию о людях рыцарского психологического склада, склонных к монашеству, даже если они не считают себя христианами. (Помнишь, Андрей, когда ты к нам попал, мы уже очень много про тебя знали). Иногда люди попадают в Орден без нашей воли, но по воле Божией, иногда мы приглашаем в свои ряды, делая это с большой осторожностью, лишь когда удостоверимся, что на то есть воля Божия.
В Ордене существует строгий запрет на увеличение численности выше раз и навсегда оговорённого числа. Рыцарей в белых плащах всегда только 9. Рыцарей в коричневых плащах — 27, по 3 на каждого рыцаря в белом плаще. Сержантов — 108, по 3 на каждого рыцаря. Число послушников не может превышать общее число рыцарей и сержантов, но может быть меньше.
Орден имеет в своём подчинении подразделения туркополов — православных воинов неевропейских национальностей. Это не рыцари и, чаще всего, не монахи. Это союзники.
Собственно Орден — только 9 рыцарей в белых плащах, они же высшее руководство Ордена, а именно:
Великий магистр — высший руководитель.
Сенешаль — второе лицо в Ордене, по распоряжению великого магистра может принимать на себя часть его функций.
Маршал — руководит сухопутными силами Ордена.
Великий адмирал — руководит морскими силами Ордена.
Великий командор Иерусалима — руководит финансовой деятельностью Ордена.
Командор разведки и контрразведки.
Туркопольер — руководит туркополами.
Командор-наставник — руководит подготовкой послушников.
Комендант Секретум Темпли.
Главная резиденция Ордена — Секретум Темпли — подземный бункер, расположенный в Лалибеле, Эфиопия. Орден имеет так же официальную резиденцию — замок в Гондере, Эфиопия.
Орден зарегистрирован при ООН в качестве организации, выступающей за возрождение европейского рыцарства, но структурой ООН де-факто не является и ничего о себе этой организации не сообщает. Деятельность Ордена в основной части носит секретный характер.
Орден владеет недвижимость в разных странах мира, но структурных подразделений — командорств — нигде не имеет. Впрочем, современный Устав Ордена не содержит запрета на создание командорств.
Рыцарями и сержантами Ордена могут быть только лица европейских национальностей.
Орден имеет своих священников, но не имеет епископов. Число священников в Ордене строго не регламентировано и зависит от количества послушников, численный состав которых может колебаться. В Ордене, как правило, около 10-и священников, из расчёта 1 священник на 20 рыцарей, сержантов и послушников. В составе духовенства Ордена есть диаконы, любой из которых достоин священного сана, но не получает такового, пока в этом нет необходимости (рост количества послушников, смерть одного из священников). Духовенство Ордена — духовенство Иерусалимского патриархата. Доверенные епископы Иерусалимского патриархата рукополагают для Ордена диаконов и священников — только из кандидатов, представленных Орденом. Церковная структура Ордена находится в духовном подчинении у иерусалимских епископов, но в административном отношении полностью автономна. Духовенством тамплиеров руководит протопресвитер Ордена — священник-монах в сане архимандрита. Всё духовенство Ордена — монашеское.
Орден имеет 4 своих храма: 2 в Лалибеле, 1 в Гондере и подворье в Иерусалиме.
Орден располагает значительными финансовыми ресурсами, основу которых составила казна тамплиеров, спасённая в XIV веке. Орден контролирует глобальную финансовую сеть, значительная часть звеньев которой и не догадывается о существовании Ордена. Финансовая деятельность Ордена направлена на поддержку христианских инициатив и на подавление инициатив антихристианских. Финансовые структуры Ордена не преследуют цель извлечения максимальной прибыли. Их цель, кроме уже названных текущих задач — сохранение материальных ресурсов Ордена до «часа икс».
Орден не претендует на власть и не участвует в чьей бы то ни было борьбе за власть. Интересы Ордена никак не связаны с национальными интересами какого-либо государства или группы государств. Ни одно государство мира Орден не считает ни своим противником, ни своим союзником. Орден не может выступать на стороне одних государств против других.
Основным противником Ордена являются агрессивные антихритианские силы — сатанисты, включая те случаи, когда эти силы сами себя не считают сатанинскими, но по сути таковыми являются, например, поклонники богини Кали. В отношении сатанистов Орден проводит боевые операции, не останавливаясь перед их физическим уничтожением, однако Орден не ставит перед собой цель полного уничтожения сатанинских культов. Главная цель Ордена — защита христиан и христианства.
Окончательная цель Ордена будет реализована в период всемирной диктатуры Антихриста. В этот завершающий период мировой истории Орден Христа и Храма задействует все свои боевые и материальные ресурсы для обеспечения безопасности последних христиан.
Вот так, в общих чертах.
Блуждая по улочкам старого Иерусалима, можно потерять время. И не потерять бы самого себя. А, впрочем, это ведь одно и тоже. Андрею казалось, что он блуждает в ожившей картинке, которую долго рассматривал, очень желая туда попасть, и вот он наконец там, внутри — может трогать руками стены домов, слышит звуки собственных шагов по гулким камням, вдыхает тёплый воздух древности. И всё-таки картинка словно не до конца ожила. Андрея не покидало ощущение собственной непричастности к этому, как будто не вполне реальному, миру. «Близок локоть, да не укусишь». Ему не соединиться со старым городом и не стать его частью никогда. Эти улочки помнят железную поступь средневековых тамплиеров, а он не слышит их шагов. Королевство Иерусалимское здесь, в старом городе, реальнее, чем современность, но эта реальность ускользает, не даёт к себе прикоснуться.
Андрей всматривался в лица — арабы, евреи, европейцы. Праздных легкомысленных туристов он не видел в упор. Эти бессмысленные толпы всё здесь заполонили, но на самом деле их не существует — мираж в пустыне реальнее, чем они. Андрей искал «корневые» лица, стараясь уловить выражения, которые откроют перед ним глубь веков. Иногда это удавалось — от иных персонажей веяло древней тайной. Израильские солдаты — спокойные и самоуверенные. На их лицах — боль и равнодушие. Религиозные евреи в чёрных лапсердаках — взгляды искоса, в них — страх и высокомерие. Странные улыбки торговцев словно намекают, что вы ни за что не догадаетесь, что они на самом деле продают. Европейцы, для которых Иерусалим стал родным городом, если, конечно, стал. Чтобы слиться с душой Иерусалима недостаточно научиться не вертеть головой, когда идёшь по улице, и морщиться, глядя на туристов.
Лица. Много лиц. И вот одно из них вдруг ошеломило по-настоящему. Молодая женщина с удивительно белой кожей, такой белой, какую и на севере не встретишь, а здесь, в стране загара, это совершенно белое лицо заставило остановиться и замереть. И черты лица очень тонкие, какие бывают только у потомственных аристократов. Это лицо словно было создано для того, чтобы отражать самый возвышенный настрой души. С него, казалось, можно написать Мадонну, но так казалось недолго. В зелёных глазах стояла болотная муть. Тонкие губы кривились удивлённой брезгливостью, как при неожиданной встрече с чем-то крайне неприятным, но не опасным и недостойным внимания. Сиверцев почувствовал, что это выражение на её лице — постоянное. Весь мир, вся жизнь, все люди вызывали у этой женщины удивление и брезгливость. Она держалась так обособленно и отстранённо, словно боялась умереть от отвращения, если к ней кто-нибудь прикоснётся.
Потом он ещё раз встретил её на улице — тонкая и звонкая фигурка в белых одеждах скользила между людьми так, что никто и никогда не смог бы случайно её коснуться — вся её кошачья грация была ориентирована на уклонение, на окружение себя прозрачной, но непроницаемой оболочкой. В этой изумительно женственной фигурке было что-то совершенно не женственное. Не мужское, а скорее бесполое, а потому — нечеловеческое. Сиверцев почувствовал, что это не женщина. Это очень странное существо.
Как-то у себя в комнате около полуночи, уже помолившись перед сном, Сиверцев вспомнил это существо, влекущее и отталкивающее, изысканно-утончённое и отвратительное, презирающее всё живое, а потому вызывающее презрение. Он не хотел о ней думать, но он не мог не думать о ней.
Вдруг в комнату стремительно и бесшумно вошёл Князев, твёрдым шёпотом отчеканивший:
— К бою. При себе иметь пистолет и кинжал. Через две минуты я увижу тебя на крыльце.
Лилит испытывала отвращение к родителям. Когда-то очень давно ей казалось, что она очень любит маму и папу, и жить без них не может, и никогда-никогда не расстанется с ними, но это было целую вечность назад, а сейчас ей уже 6 лет и она чувствует себя хорошо, только когда не видит их. Время, проведённое рядом с родителями, казалось ей вычеркнутым из жизни, глупо и бессмысленно потерянным. Суетливая и вечно не к месту смеющаяся мать чуть ли не заставляла Лилит играть в куклы, а ей не нравились эти глупые маленькие человечки. Ей нравились кубики. У кубика ровные грани, и он всегда какого-нибудь одного цвета. А пластмассовые человечки — корявые, безобразные. Ими нельзя любоваться, как она любуется кубиками. А мать навязывала ей кукол, это было невыносимо.
Отец был очень важным, самоуверенным и самодовольным, он работал на какой-то очень серьёзной работе и приносил домой много денег. Мать хвалила его за это, и он очень любил, когда его хвалят. Он хотел, чтобы Лилит тоже его хвалила, а она не хотела. Однажды, он купил ей большую куклу, думал, что дочка будет его за это любить. Она сразу отломала кукле руки, бросила ему под ноги, рассмеялась и убежала. За это отец избил её. Было очень больно, но Лилит ни сколько не удивилась, даже не почувствовала себя обиженной. Отец — отвратительный, чужой, а потому нет ничего странного в том, что он её избил. Мать долго её ругала, а потом успокаивала, а потом плакала. Мать была ещё отвратительнее. Лилит никогда не плакала, даже когда было очень больно.
Однажды она увидела, как отец и мать обнимаются и целуются. Лилит сразу же побежала в туалет — её вырвало. Когда два гадких и противных существа прижимаются друг к другу — это уже совершенно невыносимо. Раньше мать любила обнимать и целовать Лилит, как куклу. Это заставляло её страдать гораздо больше, чем побои отца. Она устранялась от объятий и вообще от прикосновений, мать этого не понимала, обижалась. Однажды она укусила мать за руку, когда та хотела её обнять. Мать дико завизжала, а Лилит опять вырвало — вкус живого человека был омерзителен. С этого дня она не прикасалась ни к одному живому человеку и к себе прикасаться не позволяла. Это было целую вечность назад, ей было тогда 5 лет.
Потом у матери безобразно вырос живот и вскоре у них дома появилось маленькое омерзительное существо. Это существо воняло и верещало. Тогда Лилит поняла, что куклы — не самое худшее, что есть на свете. Наиболее отвратительны дети. Она не хотела, чтобы в мире были дети, ей было противно от мысли, что и сама она — ребёнок, а ей нравилось представлять себя в каком-нибудь совершенно нечеловеческом виде — иногда кубиком, иногда кувшином, а иногда машиной.
Маленький вонючий ребёнок вечно орал и мешал спать, но даже не это было самым страшным. Страшнее всего было то, что этот ребёнок существует, да ещё так близко от Лилит. Ей вдруг захотелось причинить ему очень сильную боль — пусть тогда орёт, тогда его даже приятно будет послушать. Она стащила у матери длинную иглу и, дождавшись, когда родителей не будет рядом с ребёнком, подошла к его кроватке. Он спал, выпростав из пелёнок ручку — отвратительный отросток живой плоти. Она стала медленно пронзать иглой его ручку. Никогда раньше она не испытывала такого наслаждения. По мере того, как игла входила в трепетную плоть, Лилит казалось, что в неё тоже что-то входит — что-то чужое, причиняющее боль, но вместе с тем — удовольствие. Лилит почувствовала, что она — уже не она. Лилит даже не слышала, как кричал ребёнок, смутно помнила, как в комнате появились взрослые. Её куда-то тащили, потом куда-то везли на машине.
В психиатрической больнице было плохо, потому что здесь до неё все дотрагивались, но теперь она чувствовала в себе силы всё это выдержать. Ведь она — это не она, а Лилит. На самом деле её когда-то звали по-другому, но она уже не помнила как. Лилит знала, что она больше не ребёнок. Однажды в кабинете у врача она увидела себя в зеркале, и это впервые доставило ей удовольствие. Она не увидела в своём лице ничего детского, особенно ей понравились новые глаза — в них тускло светилась древность.
С врачами и медсёстрами вскоре стало легко, потому что они были глупыми. Лилит очень быстро поняла, что надо говорить и как себя вести, чтобы они поменьше ей докучали. Она не знала, сколько времени она провела в больнице. Научившись уходить в себя, отстраняться, обосабливаться от всего окружающего мира, она перестала чувствовать время. Ей казалось, что она учится. Учится у того, что живёт теперь внутри неё.
Ей стало многое известно без книг, без общения с людьми. Она знала теперь, что Лилит — первая жена Адама, которая не захотела быть его женой. Лилит была самодостаточна и обособленна — не из ребра Адама сотворённая, а совершенно отдельная от него сущность. Она не захотела подчиняться мужчине и была изгнана из рая. И проклята. Так началась её вечная жизнь. Точнее — вечная смерть, потому что только смерть прекрасна, а жизнь отвратительна. Адаму была дана Ева, они стали «плодиться и размножаться». От их союза начали появляться дети — маленькие носители жизни — самое отвратительное из того, что может быть на земле. И Лилит стала вечным врагом детей. И это она — Лилит, та, которая сейчас находится в этой глупой психиатрической больнице. Эти дураки думают, что вылечат Лилит от неё самой. Почему они так глупы? Потому что они выросли из детей.
Из больницы Лилит убежала, как только захотела — перехитрить этих дураков было совсем не трудно. О родителях она и не вспомнила, Лилит почему-то была уверена, что ей надо идти на юг, в Иерусалим. Тёплый палестинский климат позволял ей без труда находить ночлег, с едой тоже не было никаких проблем — Лилит обнаружила, что умеет виртуозно воровать. Она оказалась очень неприхотлива — почти не чувствовала усталости, шла целыми днями, надолго забывала про еду и легко довольствовалась одним хлебом, а спать могла на голой земле.
По улицам Иерусалима она долго бродила, твёрдо зная, что ей здесь что-то надо, только она всё никак не могла понять, что именно. Она поняла это, когда случайно забрела в гончарную мастерскую. Лилит, притаившись в уголке, стала наблюдать, как под руками мастера на гончарном круге из куска глины вырастает кувшин. Когда мастер закончил и хотел начать следующее изделие, Лилит подошла к нему и твёрдым недетским голосом сказала: «Пусти, я сама сделаю». Мастер растерялся и уступил ей место за гончарным кругом. Лилит, избегавшая прикасаться к живым существам, сейчас с удовольствием удовлетворяла тоску по прикосновению — в глине не было даже намёка на жизнь, её хорошо было ласкать, наблюдая, как из-под рук выходит совершенная форма. Вскоре кувшин Лилит был готов. Мастер, внимательно следивший за её работой, стоял, как громом поражённый. Кувшин был совершенно не похож на то, что он делал или когда-либо видел. Этот кувшин завораживал, манил к себе и, вместе с тем, вызывал страх и даже отвращение, но от него всё равно невозможно было оторвать глаза. Гончар прошептал:
— Древняя финикийская форма. Эту форму давно забыли. Она поразительна.
Дальше всё было просто. Гончар взял Лилит к себе. Она делала для него кувшины, которые получались только у неё. Работала она много, без напряжения, казалось, совсем не уставая. Брака не допускала никогда, все кувшины получались. Работала она с лицом совершенно каменным, с остекленевшими глазами, руки словно жили отдельно от неё. Мастер ясно видел, что эта девочка — ненормальная, может быть — бесноватая, но ему не хотелось задумываться об этом — работа Лилит сразу же стала пользоваться огромным спросом, его мастерская начала подниматься, как на дрожжах, при этом расходы на мастерицу были минимальны — она ела очень мало, довольствовалась самой простой пищей, её вполне устраивало спальное место в кладовке, и вообще она не создавала никаких проблем — не путалась у семьи под ногами, что-то говорила только в случае крайней необходимости, закончив работу, надолго уходила из дома и, бесшумно возвращаясь, сразу же исчезала в своей кладовке. Про оплату никогда не заводила речи, довольствуясь питанием и несколькими платьями, которые купил ей хозяин. Однажды он, в порыве благодарности, хотел по-отцовски погладить её по голове, но она отпрянула, как дикий зверь, молча оскалила зубы и обожгла его ядовитой зеленью своих глаз. Мастер всё понял. Перед ним был не ребёнок, а древний финикийский демон. И этот демон почему-то работает на него — решил сделать безвестного мастера богатым. И он принял услуги демона, ничего не просившего за них. Мастер понял, что эта маленькая девочка — теперь хозяин в его мастерской, но хозяин не ставил условий, выполнял работу и не пытался командовать. Сделка была заключена.
Лилит жила, как в тумане, не вполне осознавая своё существование. Работа не казалась ей однообразной, не утомляла. Она не любила работу, она просто ей отдавалась. Никаких творческих мук Лилит не испытывала, под её руками рождались всё новые и новые формы — страшные и манящие — всё это было само собой. Иногда ей казалось, что от её сознания ускользает что-то очень важное, некая неосознанная мысль, которая крутится в её голове, но никак не может быть уловлена в сети слов. Вскоре она вышла на эту мысль.
К хозяину пришёл заказчик, и они вместе наблюдали за работой девочки. Заказчик смотрел за её руками, как заворожённый, и наконец, вымолвил: «Если не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное». Лилит показалось, что всё её существо наполнил испепеляющий огонь, она испытала такую боль, какой раньше не знала. Впервые она испортила работу, стиснув руками уже почти законченный кувшин. «Дети! Дети! Дети!» — стучали в её голове страшные молоты. Она поняла, что её призвание — убивать детей, уничтожать их, освобождать от них землю, создавать мир без детей.
Вскоре она вышла на свою первую охоту. Бродила по улицам города, пока не обнаружила цель — на улице стояла коляска, видимо, мать зашла в магазин. Лилит, не задумываясь, извлекла из коляски маленькое пищащее существо и сразу же, быстро и спокойно, скрылась за поворотом улицы. Держать на руках ребёнка было невыносимо, но она знала, что это ненадолго, скоро станет хорошо. Лилит зашла в глухой двор, расчётливо и хладнокровно выбрала место, не видное ни из одного окна, положила ребёнка на землю и что было силы наступила ему ногой на горло, потом, как ни в чём не бывало, неспешно удалилась. Никто из прохожих не смог бы увидеть в этой странной девочке ни излишнего волнения, ни торопливости, ни страха преследования. Она твёрдо знала, что останется безнаказанной.
Потом она ещё много раз время от времени похищала и убивала детей, испытывая при этом жуткое сладострастное наслаждение, ставшее смыслом её жизни. Похищения и убийства она каждый раз совершала по-разному, полиция не видела в этих преступлениях единого почерка, никакие ниточки к Лилит не вели, и она совершенно не боялась разоблачения. Она не планировала преступления, некая нечеловеческая сила делала всё за неё, с непостижимой изощрённостью заметая следы.
Прошли годы, Лилит стала совершеннолетней. Она почувствовала, что пора покидать эту мастерскую. Лилит хорошо знала, что её хозяин обращает заработанные благодаря ей деньги в золото и хранит своё богатство в укромном месте, которое она давно уже выследила. Однажды ночью она бесшумно прокралась к тайнику и загрузила в кожаную сумку несколько килограммов золота. Потом очень тщательно заперла снаружи все двери дома, где спал хозяин со своей семьёй, и подожгла дом.
Последние годы, когда Лилит выросла, хозяин никому её не показывал, теперь её никто не знал в лицо. Жила она без регистрации, в юридическом смысле её вообще не существовало. Теперь она без большого труда купила документы, приобрела дом на другом конце города и открыла свою мастерскую.
Лилит нужны были подручные. Тут она всё продумала, отправилась в самое страшное для неё место — детский дом. Лилит давно уже поняла, что ребёнок — это не возраст. Некоторые дети, в которых она не чувствовала никакого детства, были ей очень близки. Ей достаточно было взглянуть в глаза такого ребёнка и почувствовать исходящий от его души холод, древний холод преисподней, как она сразу же узнавала в нём своего. Она, конечно, не любила и таких детей, потому что не могла любить никого, но с ними она вполне могла находиться рядом, потому что в них было очень мало человеческого, и они понимали друг друга без слов. Такие дети были очень редки, но они были.
Молодая респектабельная предпринимательница умела производить хорошее впечатление. Всегда спокойная и уравновешенная, элегантно одетая, с хорошими манерами (и откуда у неё только хорошие манеры?), она держала себя дружелюбно и немногословно, постоянно сдержанно улыбалась. Постепенно ей удалось добиться опекунства над двумя девочками-подростками, закрепив хорошее впечатление немалыми взятками. Так у Лилит появилась свита — лилин. Через несколько лет лилин было уже около десятка.
Все эти девочки с ледяными глазами оказались странным образом восприимчивы к гончарному ремеслу. Лилит больше не сидела за гончарным кругом, отдавшись делам организаторским. А дела эти были разными. Сначала они только производили и продавали самые разнообразные гончарные изделия, ничем другим не занимались, меж собой почти не разговаривали, никаких потусторонних целей не обсуждали. Каждой из этих особей было по началу довольно того, что они живут теперь среди подобных, в маленьком мире, где почти нет жизни, нет человеческих контактов и ни перед кем не надо отстаивать своё право на абсолютную обособленность.
Производство и сбыт были отлажены, как часы. Лилит уже знала, что делать дальше. Она наняла группу рабочих, которые вырыли под её домом обширное подземелье, облицевав стены камнем. Вскоре все эти рабочие странным образом погибли при самых разных обстоятельствах. Про этот маленький подземный мир теперь не знала ни одна живая душа — их души трудно было считать живыми. Пришло время наполнить этот мир реальной смертью.
Лилит приказала двоим лилин похитить на улице маленького ребёнка. Те нисколько не удивились, как будто давно уже ждали этого приказа. Вечером доставили малыша, и все они собрались в подземелье. Здесь не было никакой обстановки — голые каменные стены, а пол — земляной, его оставили таким сознательно. Впрочем, на стенах висели несколько керамических масок древних финикийских божеств. Их сделала одна из лилин и показала хозяйке, ничего не объясняя. Лилит понравились маски. Не яростью или ненавистью, которые отражали грубые черты. Отсутствием жизни. Безобразные личины, вариации на тему человеческого лица, казалось бы призванные отражать максимальную концентрацию злобы, на самом деле вообще ничего не выражали, и это было не бесстрастие, а именно безжизненность. Тусклое, белое, какое-то химическое освещение ещё более усиливало это ощущение антижизни.
Посредине подземелья стоял кувшин средних размеров. Вокруг него стояли лилин в просторных белых одеждах. Одна из них внесла ребёнка и передала Лилит. На губах хозяйки заиграла гримаса брезгливости — лёгкие судороги забегали по её лицу. Лилит поднесла ребёнка к кувшину и медленно отпустила в широкое горлышко. Потом, словно с трудом, отвела руку в сторону, в неё положили крышку кувшина. Лилит так же медленно опустила крышку на кувшин, словно боясь разбить. Маленькие лилин тут же начали замазывать щель свежей глиной. Теперь кувшин был закрыт абсолютно герметично.
Лилит смотрела на кувшин тупым сверлящим взглядом, её зрачки дико расширились, лицо помертвело, напоминая теперь маски на стенах. Но за этой безмолвной мертвенностью чувствовалось сильное возбуждение. Она испытывала невероятное сладострастное наслаждение от мысли о том, что внутри кувшина сейчас медленно, но совершенно неотвратимо прекращается жизнь — ребёнок, задыхаясь, корчится, но не оскорбляет её взгляда этими последними проявлениями жизни. Ребёнок стал кувшином. Мерзкое, мягкое, тленное стало стройным, твёрдым и нетленным.
Одна из лилин вдруг задёргалась в каком-то экстатическом танце, напоминавшем относительно упорядоченные судороги. Она пошла в этом танце вокруг кувшина, остальные — за ней, точно и легко повторяя её движения. Их явно никто не учил этому танцу, он как будто был известен им от рождения. Лилит, стоявшая поодаль, не стала сливаться с конвульсивными движениями вокруг кувшина, но тоже задёргалась в танце. Все её движения были обращены внутрь самой себя, как будто она танцевала с кем-то находившимся внутри неё.
Так родился культ.
Лилин ещё некоторое время похищали детей, но детей для жертвоприношений требовалось всё больше — кувшины выстраивались в подземелье вдоль стен стройными рядами, так что места посредине почти не осталось. Они стали закапывать кувшины под земляной пол и вскоре уже совершали свои пляски на костях младенцев. Лилит поняла, что похищать детей больше нельзя — до сих пор демоны хранили лилин, но рано или поздно их схватят за руку, и тогда им всем конец. Они стали покупать детей у матерей, готовых оставить их в роддоме, у беременных, уже решивших избавиться от ребёнка. Всё это было очень хлопотно и довольно расходно, но совершенно безопасно, а деньги у них были. Мастерская Лилит приносила хороший доход, при этом на себя они тратили очень мало. Лилин трудились в мастерской часов по 12 — это их совершенно не утомляло, они проявляли необычную способность к долгому непрерывному механическому труду. А всё свободное время они проводили в тупом оцепенении, словно электрические игрушки, из которых достали батарейки. Они существовали ради жертвоприношений, ради постоянной и непрерывной победы смерти над жизнью — смертью они заряжались, напитывались, дышали, смерть была для них источником неиссякаемой энергии.
Сказать, что Лилит была счастлива, создав свой, родственный и близкий ей мир — значит, не сказать ничего. Она не знала, что такое счастье, радость, покой. Она искала только выносимости бытия, непрерывное убийство детей стало для неё наркотиком, облегчавшим существование среди жизни, столь для неё ненавистной. И, как любой наркотик, убийство сначала приносило наслаждение, а потом стало лишь снижать интенсивность страдания, и наркотика требовалось всё больше, и он сам уже становился ненавистным, потому что всё совершаемое Лилит было действием — проявлением жизни. И сама она была проявлением жизни, потому что дышала, к чему-то стремилась, что-то создавала. Она не думала о том, что каждым новым убийством она разрушает себя и не стремилась к саморазрушению, в ней не было презрения к собственному существованию, она вообще не пыталась осмысливать свой образ жизни — никаких теорий, никаких целей, никаких планов и прогнозов, она действовала, подчиняясь интуиции, ощущениям, просто совершая то, чего не могла не совершать, она никогда не пыталась осмыслить тот непреложный факт, что внутри неё существует некое иное сознание, некий центр антижизни, который управляет всеми её поступками. Она никак не пыталась выстроить отношения с этим другим и, судя по всему, довольно древним существом, обитавшим внутри неё. Она ничего не знала и не пыталась знать, но чувствовала, что внутри неё усиливается страшное напряжение, и надо найти способ его снять. Она нашла способ. Они совершат большое жертвоприношение, какого ещё не было. Они разом замуруют в кувшинах 10 детей! Они сделают это!
«Какой аккуратный, можно даже сказать, элегантный домик, — подумал Сиверцев. — Вот бы пожить в таком. Ровные белые стены, замечательные пропорции, и внутри, должно быть, очень уютно». Но внутри, едва вступив за порог, они сразу же почувствовали странную, мертвящую пустоту, словно оказались в вестибюле морга. Ровные пустые белые стены небольшого коридорчика производили впечатление полной стерильности, они не несли на себе отпечатка человеческой личности, словно не людьми и не для людей они были так выровнены.
Князев, Сиверцев и Зигфрид посреди ночи сели в автомобиль и понеслись на окраину Иерусалима. По дороге Князев пояснил:
— Сатанинская секта готовит массовое жертвоприношение. Вообще-то мы стараемся не вмешиваться в такие дела, потому что речь идёт о преступлении, носящем общеуголовный характер, хоть и с выраженной религиозной составляющей. По таким-то делам и полиция работает, в любом ином случае мы просто слили бы информацию через третьих лиц в местный уголовный розыск, но сейчас на это просто нет времени. Информация поступила только что, обращаться в полицию напрямую мы не можем, и речь идёт не о раскрытии, а о предотвращении преступления, так что придётся действовать самим.
— В чём задача, мессир? — спросил Сиверцев.
— Детей спасти и вывести в какой-нибудь приют, а сатанистов… нейтрализовать.
— То есть без крови?
— Это исключительно девушки, Андрей. Тебе охота их резать? Впрочем, будем действовать по обстоятельствам.
Стерильный коридор вывел их в небольшую комнату. Здесь на полу были разложены в ряд слабо попискивающие маленькие свёртки — новорождённые дети. Рядом с ними стояла девушка в белом балахоне. Она стояла спиной к вошедшим, но сразу же стало понятно, что это девушка. Обернуться она не успела, Андрей без приказа бросился к ней, одной рукой зажав рот, а другой — жёстко сцепив обе её тонких руки. Девушка неожиданно проявила огромную силу и, освободив одну руку, попыталась вцепиться Сиверцеву в лицо. Пришлось применить болевой приём. Девушка извивалась в руках, как упругая стальная пружина, с большим трудом ей заклеили рот и связали руки.
Осмотрев помещение, они обнаружили вход в подвал. Князев знаками велел Зигфриду контролировать ситуацию наверху, а Сиверцеву вместе с ним спускаться вниз. То, что они увидели было. очень красиво. Десять симпатичных, совсем юных девушек в элегантных белых одеждах стояли кругом посреди просторного чистого помещения. Поодаль на резном деревянном стуле с высокой спинкой восседала та самая необычная женщина, которую Сиверцев дважды видел на улице. Андрей нисколько не удивился, увидев её здесь, он знал, что третьей встречи не миновать. Ещё тогда, на улице, между ними проскочил некий энергетический импульс, словно установилась связь, которая обязательно потребует развязки. Её лицо в мертвенном электрическом освещении казалось ещё белее, на нём, как на древней маске, застыло удивлённое, несколько брезгливое выражение. Поразительный утончённый аристократизм сквозил во всех её чертах, и вместе с тем — столь же редкостная отстранённость от всего окружающего, словно она находится внутри хрустального футляра, где дышит каким-то другим воздухом и обязательно погибнет, если этот футляр разбить. Потом Сиверцев много раз вспоминал эту безмолвную встречу, но тогда они с Князевым не могли потратить на осмотр помещения больше двух секунд: лидер слева, группа в центре, внутри группы — несколько глиняных кувшинов.
— Всем на пол! — страшно заорал Князев. Его голос прозвучал так грозно и повелительно, что застигнутые врасплох противники, будь они лучшими в мире спецназовцами, обязательно выполнили бы приказ. Но сейчас в помещении лишь сгустилась тишина, ни одна из юных дев даже не вздрогнула, а стоявшие спиной к неожиданно появившимся мужчинам повернуться не соизволили, лишь бросили на них через плечо равнодушные ледяные взгляды. Королева на троне так же и мизинцем не шевельнула, и бровью не повела. Её губы тронула лёгкая насмешливая улыбка — ни страха, ни гнева, ни злости — только насмешка. Лица девушек тоже тронуло тихое безмолвное презрение. Ни по чему не было похоже, что мужчин здесь ждали, но эти странные существа, кажется, вообще не были способны чему-либо удивляться. На лицах девушек, по большей части явно несовершеннолетних, кроме тихой усмешки читалась безмерная усталость, словно каждой из них шла уже не первая тысяча лет, и бояться было уже нечего, и говорить бессмысленно, и удивляться глупо.
Немая сцена тянулась несколько бесконечных секунд. Сиверцев чувствовал, что его матёрый командор, так же как и он, шокирован этой неожиданной реальностью, но воля его не парализована, и вот прямо сейчас он найдёт решение. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных», — взмолился Сиверцев и увидел, что Князев жёстко и неотступно смотрит в глаза королеве — в этом взгляде не было ни злобы, ни враждебности, но была горечь, была живая человеческая боль и сожаление, столь же необычные в этой ситуации, как и безмолвное презрение лилин. Боль и сожаление во взгляде командора были настолько человечными и по-своему даже тёплыми, что хрустальная оболочка, внутри которой обитала Лилит, кажется, дала трещину. Королева медленно, с усилием начала поднимать правую руку, словно вдавленную в подлокотник перегрузкой. В тяжёлом усилии этого заторможенного жеста уже чувствовалось явное желание защититься. Лилин увидели этот жест, почувствовали его, прочитали. Ситуация хрустнула, надломилась и рассыпалась. Ангел молитвы одержал безмолвную победу над равнодушным оцепенением духов древней злобы. Лилин вспыхнули, начался кошмар.
Одна из лилин взвилась дикой белой пантерой и, оторвавшись от пола, ногами ударила Сиверцева в грудь. Удар был страшной силы, его впечатало в стену, на него тут же набросились ещё три таких же бешенных белых кошки, они явно хотели вырвать ему глаза. Андрей наклонил голову и постарался прикрыть глаза левой рукой, а правой выхватил кинжал и полоснул вокруг себя. Из клубка тел брызнула кровь, но натиск не ослаб. Здесь больше не было девушек, только стая диких бешенных кошек, хлеставших его упругими жёсткими ударами. Всё переплелось в каком-то дьявольском клубке, душа ушла в боевой ад. Андрей пытался молиться и бить. «Господи Иисусе Христе.» — удар кинжалом наотмашь. «Помилуй нас, грешных» — колющий удар кинжалом в извивающийся клубок. Сиверцеву казалось, что все демоны преисподней разом набросились на него. Он бил и молился, молился и бил. Потом Андрей не раз удивится тому, что в этом аду не потерял молитвы. Он знал, что, утратив молитву, потерял бы жизнь. По силе каждая лилин была равна нескольким мужчинам. Их руки впивались в него, словно стальные абордажные крючья, казалось, они голыми руками вполне могли вырвать у него сердце и, будь он безоружен, без сомнения порвали бы его на части, но отточенная дамасская сталь кинжала полосовала живую плоть, как она обычно полосует любую плоть — трепетную, мягкую и совершенно беззащитную перед сталью.
Андрей обнаружил себя уткнувшимся лбом в стену и рыдающим навзрыд. Командор стоял посреди зала, широко расставив ноги и глядя в пол перед собой. Весь пол бы завален окровавленными телами, кое-где валялись руки, отсечённые отточенной сталью. Андрей дико огляделся и стал оттаскивать мёртвых девушек к стене, укладывая их в ряд. Раненных здесь не было. Даже смертельно раненные лилин продолжали бросаться на них, пока не получали несовместимый с жизнью удар. Андрей посмотрел на лица покойниц и на многих увидел что-то очень человеческое и даже трогательное. В мёртвых лицах девушек было куда больше жизни, чем во время их биологической активности. Сиверцев глянул на Князева и прошипел: «Гнусная победа, омерзительная победа».
Командор оторвал от пола совершенно убитые глаза и, не глядя на Андрея, горячо взмолился: «Господи, прости нас, грешных». Потом повернулся к Сиверцеву: «Прости, Андрюха». Андрей почувствовал, что жизнь вместе со страшной душевной болью возвращается в него. «Бог простит, мессир, а вы меня простите», — прохрипел он. Теперь он узнал свой голос, значит что-то живое в нём ещё осталось.
Лилит всё так же неподвижно сидела в кресле, но в ней появилось нечто человеческое. Князев подошёл к ней и взял за запястье, пытаясь обнаружить пульс. Она была мертва. «Очевидно инфаркт, — бросил Князев. — Отмучилась». Андрей тоже подошёл к Лилит. Утончённая гармония её аристократических черт совершенно исчезла. Теперь это была маска страдания и ужаса. Вполне человеческого страдания и немного даже детского ужаса
Сиверцев с удивлением рассматривал в зеркале свои совершенно седые виски. Он не испытывал по этому поводу никаких чувств. Было лишь странно, что виски — белые. Он только что вымыл голову, и теперь ему казалось, что он перепутал шампунь с краской для волос. И в своём лице, и в своей душе он чувствовал что-то очень чужое, холодное, зловещее. Впрочем, он был совершенно спокоен. Пожалуй, даже слишком спокоен. Не торопясь, побрился. Потом надел камуфляж. Надо было надеть цивильный костюм, но костюм вчера в подземелье решительно погиб, превратившись в кровавые лохмотья. А камуфляж выглядел вполне прилично. Он пошёл в комнату Князева.
— Я не могу быть рыцарем Христа и Храма, мессир. Не получится из меня рыцарь. Никогда не получится. Уйду в какой-нибудь глухой горный монастырь и буду до конца дней замаливать свои тяжкие грехи.
Сидевший в кресле Князев, молча выслушал его, встал и подошёл к окну, повернувшись спиной к Андрею. Что он там хотел увидеть в окне? Ничего. Ровным счётом ничего. Князев размеренно и сухо заговорил:
— С израильской полицией я уже всё уладил. Они адекватно оценили ситуацию. Были нам очень благодарны и пообещали, что наши фамилии не будут фигурировать в сводках. Официальная версия — девушки погибли в ходе полицейской операции.
— Вы слышали меня, мессир? Я ухожу из Ордена.
— Полицейские раскопали земляной пол в подземелье. Там нашли больше двухсот герметично запечатанных кувшинов. В каждом — детский скелетик. А в некоторых — совершенно не тронутые тлением тела — святые мощи невинно убиенных младенцев. Обязательно пойди и посмотри на эти святые детские лики. В них больше жизни, чем во всех нас вместе взятых.
— Я больше не тамплиер, мессир. Вас это разве не касается?
— Знаешь, о чём я подумал, Андрюха? В каждой из этих женских особей сидел сильнейший демон. Их использовали не какие-то мелкие бесы, а князья преисподней. Когда мы разрушали их тела, демоны лишались своих жилищ, значит, они вполне могли войти в нас, тем более, что мы — убийцы — неплохие убежища для демонов. Но вот мы сейчас говорим с тобой, и я понимаю — мы оба всё те же, демоны в нас не вошли. А почему? Мы молились во время боя. Наши молитвы были не просто слабы и несовершенны, они звучали почти кощунственно посреди этой бойни. И всё-таки Господь принял наши молитвы. Демоны опоганили души грешных бойцов, но внутрь наших душ не вошли. Господь запретил.
Андрей бухнулся в кресло и неожиданно разрыдался. Князев по-прежнему смотрел в окно. Рыдал Андрей недолго, но ему сразу стало легче. Когда он успокоился, Князев вновь заговорил:
— В твоих слезах, Андрей, было куда больше смысла, чем в твоих словах. Хорошо, что поплакал. Душа размякла, значит отходишь. Мне труднее. Все слёзы давно уже выплакал, и теперь в груди как будто деревяшка, а не душа. Но ничего, и я отойду. Не может же человек жить с поленом вместо души. Говоришь, в монастырь собрался?
— Да, не вижу другого выхода.
— Это хорошо, что тебя потянуло в монастырь, а не в Иностранный легион. Значит, ты по-прежнему с Богом и желаешь быть только с Богом. Хотя ни в какой монастырь ты, конечно, не уйдёшь, забудь. Выбрось из головы и всё. Если демон не смог войти в твою душу посреди этой кровавой мерзости, значит, ты выстоял и победил. Значит, ты настоящий тамплиер.
— Вам, мессир, нужны парни покрепче меня.
— Хотелось бы. Но я нигде не найду покрепче. Придётся тебя укреплять. И не кокетничай, Андрей. Это пошло. Слёзы — это честно, а рассуждения по поводу собственной слабости — пошло. Сейчас пойдём к отцу Августину на исповедь. Господь укрепит.
— Да, конечно. Но у меня ощущение полного тупика. Разве это выход — убивать девочек-подростков?
— А ты не ищи выход. Выхода нет. Ты что думал, что теперь станешь неустрашимым борцом со злом на манер голливудских героев? Ты думал, что после боя с сатанистами будешь счастливым? Почувствуешь глубокое удовлетворение? А вот хрен тебе. Наш путь ужасен именно тем, что мы осознаём — никакого зла мы никогда не победим, и дай Бог нам самим не стать носителями зла. Но сегодня ночью мы спасли жизни десяти невинных младенцев. Мы могли сидеть, сложа руки, зная, что рядом с нами убивают детей? Откровенно говоря, я надеялся, что убивать этих демонопоклонниц не придётся. Думал, повяжем и сдадим в полицию. Кто же знал, что такое начнётся? Но тут уже — Божий приговор. Не мы их приговорили. Обязательно сходи в приют, посмотри на детишек, которых мы спасли от удушения в кувшинах. И на скелетики посмотри, и на святые мощи. И ничего больше не говори. Сейчас не до теорий. Мы бойцы. Мы нищие рыцари Христа и Храма.
— Именем Господа, мессир.
— Тяжело мне, батюшка, — Сиверцев сидел перед отцом Августином, облокотившись на колени и опустив голову. — Собрался было вообще из Ордена уходить. Дурак, конечно. Кто я без Ордена? Вопрос ведь не в том, где мне будет лучше. Вопрос в том, где я буду самим собой. Если я не тамплиер, значит я никто. Но я не могу. После Индии еле в себя пришёл. Но там были ещё цветочки — относительно нормальный, правильный бой. А сейчас столкнулись с каким-то уж совсем запредельным инферналом. Дело даже не в том, что девочек резать пришлось, хотя и это, конечно, ужасно. Но куда ужаснее прикасаться душой к этой мерзости. Мне кажется, ещё одного раза я не выдержу. Тупик во мне.
— Это хорошо, Андрюшенька, что тупик. И больше того скажу: ни аз многогрешный, ни командор Князев, и никто в Ордене ничем не сможет тебе помочь. И утешить мне тебя нечем — рад бы сказать тебе какое-нибудь мудрое целительное слово, а нет его у меня. Могу изречь только что-нибудь очень банальное и фальшивое, но фальшь не люблю, да и тебе не понравится. Да, Андрюшенька, это так — ни один человек на свете не может тебе помочь. И это хорошо. Ведь только в таких тупиковых, безвыходных и безнадёжных ситуациях человек начинает по-настоящему понимать, что у него есть только одна надежда — на Бога. Пока наша жизнь идёт по накатанной колее, мы больше надеемся на себя и на других. А когда упрёмся головой в стену поднимаем глаза к Богу. Потому что больше некуда. Это очень полезно для укрепления нашей веры.
— Но я даже не знаю, что мне просить у Бога.
— Прошение у нас всегда одно и тоже: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».
— Всё так, батюшка, всё так. Мы с вами должны были про сатанизм поговорить, а мне теперь кажется — я не могу. Такое отвращение — боюсь, вытошнит. А раньше даже интересно было покопаться во всех этих «глубинах сатанинских». Не понимал, к чему прикасаюсь.
— Значит, ты созрел для разговора о сатанизме. К нему нельзя прикасаться «с интересом» — это плохой знак. Я, знаешь, иногда встречал таких «борцов с развратом», которые любили детально и подробно поговорить о блудных грехах, то есть, конечно же, о том, как эти грехи отвратительны. Но если бы они, действительно, испытывали отвращение к блуду — старались бы вовсе об этом не говорить, или только в случае крайней необходимости, для чьей-то пользы, как можно реже и короче. Так же иные «борцы с сатанизмом» — уж очень любят посмаковать детали сатанинских практик. Нездоровый это интерес, не полезны для души такие разговоры. А если ты не хочешь говорить о сатанизме, значит с тобой можно о нём говорить. Вытошнит — не переживай. Подотрём.
— С чем мы столкнулись? Что это за Лилит? Она и её лилин, кажется, не считали себя сатанистами?
— Не считали, но являлись таковыми. Тут надо начинать с начала и понять главное: сатанизм есть далеко не только то, что называет себя сатанизмом. Сам по себе термин появился весьма недавно. В 1966 году венгерский еврей Антон ЛаВей объявил себя создателем «Церкви Сатаны». Он составил две книги: «Сатанинская библия» и «Сатанинский ритуал». Эти книги легли в основу вновь созданного вероучения. Только с этих пор и говорят про сатанизм, как таковой. Но это очень наивно и примитивно. Ведь нетрудно догадаться, что реальный сатанизм под другими названиями существует ровно столько, сколько времени прошло с момента падения Люцифера и обращения его в Сатану. Этот деятель не любит называться собственным именем, но он всегда под разными именами создавал или поддерживал религиозные культы, которые по сути своей являются сатанинскими.
— Кто-то даже сказал, что любая языческая религия — в той или иной степени завуалированный сатанизм.
— Такие обобщения мне как раз не очень нравятся. Ну да: «в той или иной степени». Но очень важно — в какой именно степени. Дико и абсурдно полагать, что до Авраама все религии были языческими, а любое язычество — сатанизм. Если так, то что получается: на протяжении многих тысяч лет все народы служили Сатане, и никто на Земле не знал истинного Бога? Грех даже думать такое.
— А как на самом деле?
— На самом деле Адам вынес из рая традицию поклонения Богу истинному, то есть чистый монотеизм. Эта традиция никогда, вплоть до Христа, полностью не исчезала. Искажалась, но не исчезала. Мы очень мало знаем о религиозных традициях древности, однако можем утверждать, что иные из них являли собой отнюдь не язычество, а искажённый монотеизм, и то — в разной степени искажённый. Есть, например, серьёзные исследования, доказывающие, что религия древних абхазов была не языческой, а монотеистической. И древнегреческая, и древнеегипетская религии несут в себе явные черты поклонения Богу-Творцу, культ которого едва различим, но всё же различим под позднейшими напластованиями, превратившими эти традиции в политеистические. Но эти искажения шли очень по-разному и, собственно, эти традиции в разной степени удалены от Бога, а значит — в разной степени приближены к Сатане.
— А чем принципиально отличается древнегреческое язычество от древнеегипетского?
— Тем, что древние греки не создали культа злого бога, то есть бога — покровителя зла. А египтяне создали такой культ. Это культ бога Сета. Сет изначально был богом пустыни, богом войны, и в конечном итоге стал богом зла. Этот фрагмент древнеегипетской религии — поклонение Сету — фактически чистый сатанизм. В древнегреческой религии тоже было много мерзости, что весьма далеко уводило от Бога истинного, но богу зла, разрушения и смерти греки не поклонялись никогда, то есть их нельзя считать сатанистами. И у египтян всё же сохранялись элементы подлинного Богопочитания в культе других богов, например, Амона-Ра. Фараон Эхнатон к культе бога Атона очень близко подошёл к чистому монотеизму. У египтян религиозные традиции Света боролись с традициями Тьмы, а были в древности религии, полностью основанные на поклонении Тьме, то есть фактически — Сатане. Например, финикийский культ бога Ваала — настоящий, неприкрытый сатанизм. Финикийская религия основана на человеческих, причём — детских жертвоприношениях. Финикийцы регулярно приносили своих детей в жертву Ваалу. На раскопках в Карфагене археологи обнаружили огромное количество детских скелетиков.
— Значит, Катон был прав: «Карфаген должен быть разрушен»?
— Да, у римлян были основания испытывать отвращение к Карфагену, причём, по религиозным мотивам. Разумеется, древнегреческое язычество не надо считать религией Света, и всё-таки это относительно респектабельное язычество. Достаточно вспомнить, какие добродетели выше всего почитались в Риме: верность долгу, готовность к самопожертвованию, целомудрие, любовь к дисциплине и порядку. Такие нравственные качества могут иметь источником только истинное Богопочитание, которое со временем фактически исчезло, но люди ещё оставались такими, какими их сделало поклонение Истине и Свету. Неудивительно, что римляне испытывали отвращение к откровенно сатанинской религии финикийцев.
— А культ Лилит?
— Так же один из древних ближневосточных культов, основанный на детских жертвоприношениях — фактический сатанизм. Такая беспредельная ненависть к детству и к детям может иметь источником только Сатану. Не имеет значения то, что культ Лилит гораздо древнее христианства и не полемизирует с нами. Важно лишь то, что культ Лилит основан на ценностях, диаметральных христианству. Дети духовно чище взрослых, и потому ближе к Богу, а задача любого христианина — приближение к Богу, поэтому дети так ненавистны сатанистам, и древним, и современным. Здесь, в Израиле, есть сатанинские, в собственном смысле, секты, которые во время своих чёрных месс приносят в жертву младенцев. Появился даже свой способ поставки младенцев на чёрные мессы — сатанистка заводит ребёнка от адепта своей секты, вынашивает его и отдаёт на растерзание жрецам.
— Нелюди. Неужели эта практика существует до сих пор?
— Если Ордену стал известен конкретный факт подобного рода, то считай, что это уже не факт, а тенденция.
— В итоге получается прополка сорняков. Сколько бы мы их не вырывали, они всё равно вырастут, потому что корни сохраняются. А удалить корни сатанизма мы не в силах, потому что они — в сердцах человеческих.
— Ты, Андрюша, грамотный стал. Почти мудрый. Но тамплиеры по простоте души не могут равнодушно смотреть на то, что рядом с ними процветает такое зло. Любая прополка, пусть и не искореняет сорняки, но всё же ослабляет их и даёт возможность вырасти добрым растениям. А если мы махнём рукой и скажем: всё бесполезно, пусть царит зло, поскольку оно всё равно неистребимо, значит, наши собственные сердца уже заполонили сорняки. Ты это хотел от меня услышать?
— Да, отче, — грустно улыбнулся Андрей.
— Итак, напомню, о чём мы говорили. Сатанизм — ровесник Сатаны, а не Ла Вея, то есть фактически сатанизм существовал всегда под видом различных языческих систем. Но не любая религия до Авраама уже обязательно язычество, и не любая языческая система уже обязательно сатанизм. Конечно, в языческом мире границы между относительно добрыми и откровенно злыми традициями размыты. Мы же склонны работать по явным, бесспорным случаям. К явно сатанинским можно отнести культы Ваала, Лилит, Сета, Шивы, Кали. Это не исчерпывающий перечень, для того, чтобы его привести потребовалась бы целая монография по истории религии, а я сейчас лишь пытаюсь сформулировать общие принципы.
— Так по каким признакам можно выделить из общей массы язычества сатанинские культы?
— Первый признак — человеческие и уж тем более детские жертвоприношения. Где существует ритуальное употребление крови людей и животных, там тоже явный сатанизм. Ещё один признак — наличие сексуальных ритуалов. Где секс существует в форме религиозного культа, там — сатанизм. Так что поклонение, например, Астарте — сатанизм явный. К слову можно вспомнить древнеримский культ богини Весты и её служительниц — весталок, которые давали обет целомудрия. Конечно, весталок не надо считать почти монахинями, и всё-таки это культ целомудрия и чистоты, а на другом конце — культовая проституция в храмах Астарты, разнузданный разврат, принимающий формы религии. Не надо и объяснять, какая из религиозных традиций стоит ближе к Богу, а какая — ближе к Сатане. Ещё один признак — любая религиозная традиция, основанная на представлении о вечном противоборстве добра и зла, которые представлены двумя различными богами, уже несёт в себе начала сатанизма. Вишну и Шива, Осирис и Сет, Ормузд и Ариман — где есть подобная бинарность, там уже сатанизм.
— Но ведь действительно, добро и зло вечно борются.
— Так да не так. Бог не борется с Люцифером. Они решительно несопоставимы. Это Творец и творение. Бог может без большого труда полностью нейтрализовать Сатану, а Сатана при всём желании не может причинить Богу ни малейшего вреда. Представление о том, что Бог борется с Сатаной — уже сатанизм, потому что позиционирует их, как двух равноправных противников. Собственно, именно из этого, из желания быть равным Богу, и вырос бунт Люцифера. Но никакой войны между Богом и Люцифером никогда не было. Война была между ангелами, сохранившими верность Богу, и теми, что отпали вместе с Люцифером. Не надо только думать, что архангел Михаил с верными ангелами «защищали Бога». Бог в защите не нуждается, и никакая опасность Ему не угрожала. Небесное воинство сражалось, можно сказать, за своё право остаться с Богом. Бог хотел, чтобы они отстояли это право в битве. И наша тамплиерская война — аналог и продолжение той ангельской войны.
— Тут поневоле вспоминается вечный вопрос: если Бог несопоставимо сильнее Сатаны, почему Он не уничтожит Сатану, почему не уничтожит зло?
— Это просто. Бог создал наш мир для любви. Любовь невозможна без свободы, а зло — неизбежное следствие свободы.
— Очень просто, но не очень понятно.
— Любовь, Андрюша, может быть только добровольной. Это разумеешь?
— Безусловно.
— Вот почему Бог создал ангелов и людей свободными. Без свободы не может быть любви. Без свободы даже человека не может быть. Без свободы мы были бы не людьми, а биороботами — бессмысленными существами. Но, поскольку мы свободны, то можем выбрать не любовь, а ненависть, не добро, а зло. Запретить зло можно только одним способом — лишив человека свободы, но тогда в нашем мире не будет любви, а значит — не будет смысла.
— Понял. Свобода — условие любви, а зло — следствие свободы.
— Теперь до тебя, наконец, дошло, почему тамплиеры сражаются со злом, хотя и не имеют надежды его победить? Наша война — проявление нашей любви. Если мы любим Бога, значит, мы любим людей, а если мы любим людей, значит, мы не можем равнодушно смотреть на их страдания. Если кто-то думает, что в тамплиерской войне нет смысла, тогда и в ангельской войне тоже смысла не было. Бог мог и без архангела Михаила нейтрализовать Люцифера. Но Бог даёт нам возможность проявить свою любовь, возможность не щадить себя ради любви, как когда-то Он дал такую возможность ангелам.
— Значит, мы можем выбирать между добром и злом, как между двумя путями?
— Это не два разных пути. Это один путь, по которому мы можем двигаться в двух разных направлениях, либо приближаясь к Богу, либо удаляясь от Него. Не существует «пути зла», существует направление движения удаляющее нас от добра. Так же, как тень не существует, это лишь отсутствие Света.
— Помню, у Булгакова. Воланд рассуждает, что свет невозможен без теней.
— Вот это и есть настоящий сатанизм — объявление тьмы субстанцией равноправной со Светом. Тьма как бы объявляется вторым богом — необходимым началом мироздания. Выходит, что служить злу ничуть не хуже, чем служить добру. Но это ложь. Зла не существует, это лишь отсутствие добра. Выбирающий зло, выбирает пустоту. Злу и служить-то невозможно. Можно не служить добру и получить в награду ничто. Это путаница в терминах. Добро и зло — два равноправных слова, но за ними не стоят два равноправных понятия. Отсутствие чего-либо не есть реальность.
— А ведь, на первый взгляд, идея гармоничного равновесия между двумя взаимодействующими началами выглядит вполне пристойно и респектабельно.
— Таков наш мир — пустота, желая выглядеть респектабельно, одевается в красивые слова. Как человек-невидимка в романе Уэллса должен был во что-то одеться, чтобы его увидели. Современный сатанизм вообще очень хочет выглядеть пристойно. Вот, например, московский сатанист Отари Кондауров утверждает, что «Добро и зло — это два проявления единого мирового начала. Христос и Сатана связаны в одно целое, они делают одно дело. Христос — учитель человечества, а Сатана — экзаменатор».
— На умников-интеллигентов эти слова, может быть, и произведут впечатление, но у меня после встреч с поклонниками Кали и Лилит нет ощущения, что мы с ними делаем одно дело. Кто видел реальную смерть, тот не станет утверждать её равноправие с жизнью.
— Так, мой воин, — виновато кивнул отец Августин.
— А в современном мире много ещё культов, которые не называют себя сатанистами, но таковыми являются?
— Мы очень осторожны с ярлыками, но есть немало явных случаев. Например, культ вуду. В основе вероучения вуду уверенность в том, что от действия злой силы может защитить только ещё более могущественная злая сила. Тут уж без комментариев. Культ вуду знает человеческие жертвоприношения. Этот культ исповедуют более 90 % населения Гаити, а группы есть много где, в том числе и в Москве. К слову сказать, в Москве появились уже и поклонницы Лилит. Некоторые формы шаманизма приобретают отчётливо сатанинские очертания. Есть, например, якутское сказание, согласно которому первый Великий Шаман был противником Бога. Очень характерно в этом смысле выглядит организация «Храм Сета», которая обособилась в 1975 году от лавеевской «Церкви Сатаны». Основатели этой организации предложили называть Сатану «его истинным и древним именем — Сет». Этому утверждению не откажешь в логике.
— Расскажите о тех, кто не только является сатанистами, но и называется таковыми.
— До недавнего времени таких было немного, при этом понятно, что в христианском мире поклонники Сатаны вынуждены были скрываться, и наши представления о них очень неполные. Но кое-что известно. Жила на рубеже XVI–XVII венгерская графиня Элизабет Батори, принимавшая ванны человеческой крови, питавшаяся преимущественно человеческим мясом. В своём родовом замке она была безраздельной хозяйкой и творила, что хотела, но информация о её образе жизни всё же просочилась во внешний мир. Когда стражи порядка проникли в её замок, она как раз пытала своих слуг. Умерла графиня Батори в тюрьме в 1614 году.
К середине XVII века сатанизм стал активно распространяться в Европе, преимущественно — в светских кругах. Тогда и были детально разработаны сатанинские ритуалы. На чёрные мессы сатанистов поставлялись сотни, если не тысячи младенцев. Антон Ла Вей ничего не изобрёл, просто с его именем связан выход сатанизма из подполья. Видимо, во второй половине XX века слуги дьявола решили, что мир вполне созрел для их открытого выступления. Теперь они получили возможность, не скрываясь, называть вещи своими именами, ведь христиан в этом мире почти не осталось.
Итак, в 1966 году бывший циркач Антон Ла Вей заявил о создании «Церкви Сатаны». Он, как и его учитель Алистер Кроули, считал своей главной миссией уничтожение христианства, точнее, того, что от него осталось. Так началось триумфальное шествие сатанизма по Америке и Европе. Вскоре «Церковь Сатаны» прошла официальную регистрацию, уже в марте 1970 года она была принята в национальный совет церквей США. В Пентагоне, наряду с представителями других религий, был представлен главный капеллан «Церкви Сатаны», под руководством которого служили около сотни капелланов-сатанистов, которые обслуживали нужды Вооружённых сил США.
— Вот не знал. Это же просто какая-то шизофрения.
— А в чём тут, Андрюша, собственно говоря, шизофрения? Вспомни «вполне респектабельную» идею о гармоничном равновесии двух противоположных мировых начал. Это наглядное её воплощение: священники Сатаны и христианские священники заседают в американском национальном совете церквей на соседних стульях. Никаких теорий не надо, чтобы понять, что христианин, обсуждающий совместные действия с сатанистами — уже не христианин. И только поэтому сатанист в состоянии выдерживать присутствие рядом с собой этого «христианина». Они, так сказать, сливаются в совместном поклонении пустоте.
— Но неужели массы простых американцев не заявили свой протест?
— А с чего бы? Массы простых американцев воспитаны на незыблемости права каждого человека «исповедовать любую религию или не исповедовать никакой». Исходя из какой идеи они должны заключить, что сатанизм хоть чем-то хуже любой другой религии? Нет у них такой идеи. Время он времени маленькие группы визгливых протестантов закатывают истерики по поводу распространения сатанизма, но американцам свойственно воспринимать это, как естественное проявление конкуренции в религиозной среде.
— Но дело ведь не только в американской идеологии. Неужели не действует чувство здоровой брезгливости по отношению к отвратительной мрази?
— Хорошая постановка вопроса. Может быть, нам ответит сам Ла Вей? Он утверждает: «Сатанизм — это реальная, хотя пока не признанная религия нашего общества. Собственно говоря, мы проповедуем то, что давно стало американским образом жизни. Просто не все обладают мужеством называть вещи своими именами».
— Весьма радикальное утверждение. Вы с ним согласны?
— В принципе — согласен. Модель американского образа жизни — это и есть сатанизм. Вспомним то, о чём говорили выше — зло не есть нечто субстанциональное и самодостаточное, это просто отсутствие добра. Соответственно, реальный сатанизм строится не на поклонении Сатане, а на отрицании Бога. Если же мы исследуем основной набор постулатов американского образа жизни, то станет понятно, что там нет места Богу. Американец может и не отрицать существования Бога, но в его жизни места Всевышнему не находится, вся система ценностей выстроена таким образом, что Бог оказывается просто не нужен. На месте Бога у них пустота — это и есть сатанизм. Поэтому никакого «чувства здоровой брезгливости» у американцев и не возникает, когда они видят, как сатанизм набирает обороты. Среднему американцу может быть решительно наплевать на Сатану, но если в его жизни совершенно нет Бога — он уже сатанист.
— Но это, кажется, не сатанизм, а атеизм.
— А вот, ты знаешь — между реальным сатанизмом и реальным атеизмом фактически нет разницы. И то, и другое — полное отвержение Бога. Сатана — дух отрицания, а потому его вполне устраивает, что его самого тоже отрицают. Не верящий «ни в Бога, ни в чёрта» — на стороне чёрта.
— Но многие ли американцы являются активными сатанистами?
— По меньшей мере 3 млн американцев увлечены культом дьявола. Это, так сказать, «попутчики». Активных адептов «Церкви Сатаны» в США — несколько тысяч. Тут, безусловно, не может быть точных цифр, да и не так уж много значения имеет то, сколько человек участвует в чёрных мессах, страшнее то, что большинство американцев заражено сатанинским мироощущением, даже если не подозревает об этом, но в силу этого не испытывает к сатанизму никакого отвращения. В марте 1990 года на телешоу Фила Донахью выступали руководители корпорации «Проктер энд Гембел». Они сообщили телезрителям, что являются последователями «Церкви Сатаны» и отчисляют на её поддержку часть своей прибыли. На вопрос Донахью, не боятся ли руководители корпорации повредить таким признанием своему бизнесу, сатанисты ответили: «В США нет столько христиан, чтобы причинить нам вред». Они уверены, что большая часть населения США так или иначе симпатизируют сатанизму. Этот простейший факт на самом деле куда ужаснее, чем те кровавые кошмары, которые любят смаковать, рассказывая о сатанизме. Надеюсь, ты избавишь меня от пересказа зверств сатанистов. Для нас куда важнее, что сатанизм вышел из подполья и получает массовую поддержку.
— Мы всё про США, а Европа?
— Европа консервативнее и сколько бы она не заражалась сатанинским духом, ей труднее открыто признать это. В Европе ситуация не лучше, но она носит более завуалированный характер. Мировые центры сатанизма кроме США находятся в Англии. Довольно-таки развит сатанизм в скандинавских странах. Сильны сатанинские традиции в некоторых странах Восточной Европы, например, в Румынии. У вас в Москве уже более 30-и организованных сатанинских групп.
— Да группы-то, вероятнее всего, карликовые, и вряд ли они имеют сколько-нибудь значительное влияние на общество. Я тут почитал кое-что о сатанизме, и у меня возникло такое ощущение, что нас намеренно кошмарят не очень реальной угрозой — бесконечные описания кровавых безумств идиотов-одиночек, а то и вовсе детского эпатажа пацанов-кошкодавов, увлекающихся зловещей романтикой. То есть, либо кровавый криминал, который и без сатанизма выглядел бы так же, либо безумства психов, а сумасшедшие были и будут всегда, либо детские игры — ничего серьёзного.
— Предлагаю тебе, Андрюша, раз и навсегда впечатать в своё сознание одну непреложную истину: несерьёзного сатанизма не бывает. К христианству можно относится несерьёзно, можно «играть в христианина», на самом деле таковым не являясь. Эти игры не приблизят людей к Богу. Бог хочет, чтобы мы подарили Ему своё сердце, а не просто пожертвовали некоторое время на исполнение ритуалов. Бог никого не тянет к себе насильно, уважая нашу свободную волю, и если наша воля пока не направлена к Богу — ритуалы ничего не дадут. С поклонением Сатане всё наоборот. С ним всегда всё наоборот. Можно в шутку призвать Бога, и эта шутка не будет иметь последствий, но стоит в шутку призвать Сатану, как шутка тут же начнёт оборачиваться реальностью — Сатана потянет к себе уже насильно. Стоит только ради озорства зарезать кошку на кладбище «во славу Сатаны» или осквернить крест «как бы резвяся и играя» — и тут же наступят жуткие духовные последствия, и человека уже несёт в пропасть с такой скоростью, что вряд ли он остановится. Бог уважает нашу свободу, потому что Он хочет, чтобы мы его любили. Сатане наплевать на нашу свободу, потому что ему не нужна наша любовь. Стоит лишь дать ему формальный повод, призвав его в помощники, как он тут же употребляет насилие по отношению к душе, порабощая её, используя для этого тысячу отработанных способов.
— И Бог уже не поможет?
— Да, конечно же, поможет, но только если человек искренне Его призовёт, а это будет очень нелегко. Едва лишь начав сатанинские игры, будет невероятно трудно обнаружить в своей душе хоть чуточку надежды на Бога, а насильно Бог не спасает. Сатанистов нельзя делить на серьёзных и несерьёзных, на играющих и реальных. В сатанизм невозможно играть. Любой дурачок-кошкодав уже стоит на краю пропасти. Кто-то скажет: «перебесится». Но бесы — древние преступники. С ними нельзя поиграть, сколько захочешь, а потом вернуться к папочке. Не отпустят.
— Н-да. Чувствую, что вы правы. Но мне интересно ваше мнение по поводу следующей классификации сатанизма:
Первый уровень. Самостоятельно изучающий любитель. Как правило, не связан с группой или культом, хотя могут существовать и группы любителей. Изучает открытые популярные источники.
Второй уровень. Психопатические сатанисты. Психически больные, которых сатанизм привлекает, поскольку облагораживает патологические побуждения, которые у них уже существуют.
Третий уровень. Религиозный сатанизм. Организованные группы, порою легальные, порою тайные. Легальные занимаются пиаром и пропагандой. Имеют разработанный культ, ритуалы.
Четвёртый уровень. Чёрные сатанисты. Как правило, потомственные сатанисты, представители «чёрных родов». Строго засекречены, о себе ничего не рассказывают и прозелитизмом не занимаются. Практикуют самые отталкивающие формы оккультизма.
— Я в основном согласен с этой классификацией, хотя любая классификация очень условна. Это накладывание жёсткой схемы на бесконечно разнообразную реальность. В жизни мы сталкиваемся с явлениями, которые не вписываются ни в одну из этих ячеек. Некоторые представления о реальности эта схема даёт, однако, позволю себе несколько замечаний. «Любители», как я уже говорил, явление отнюдь не безобидное, хотя внешне почти комичное. Тут ведь речь идёт об удалении от Бога, и любители могут быть ничуть не ближе к Богу, чем чёрные сатанисты.
Касаемо второго уровня. Речь, как правило, идёт не о психических больных, а о бесноватых. Больные — люди с повреждённой психикой, их болезнь может вообще не иметь духовной составляющей. Это просто инвалиды, они не ближе и не дальше от Бога, чем, например, глухонемые. А бесноватые — люди, в которых вселился бес. Внешне их поведение порою очень похоже на психических больных, но психиатрия бессильна объяснить их отклонения. Это может сделать только религия.
Между третьим и четвёртым уровнем грань фактически отсутствует. Они отличаются преимущественно уровнем амбиций. «Чёрные роды» существуют, и это действительно предельная жуть, но о них почти ничего не известно.
В третьем уровне можно выделить две подгруппы: мистические сатанисты и материалисты. Первые делают акцент на культе, ритуале, поклонении Сатане, вторые — на мировоззрении близком к социал-дарвинизму, ритуалов не любят, Сатане почти не поклоняются.
— Последние, по сути — атеисты?
— Атеизм неоднороден. Есть люди равнодушные к религии, а потому считающие, что Бога нет — им просто лень всерьёз об этом думать. А есть другие атеисты — воинствующие безбожники. Они, может быть, и не верят в существование Сатаны, но он для них — очень удачный символ. Такие атеисты — ничуть не менее реальные сатанисты, чем те, которые служат чёрные мессы — по удалённости от Бога они друг другу не уступают, а только это и важно.
— И всё-таки всех сатанистов объединяется общее мировоззрение?
— Их объединяет степень враждебности к христианству, а мировоззрение очень размыто и не имеет чётких очертаний. Не существует доктрины или письменного источника, с которыми было бы согласно большинство сатанистов. Впрочем, несколько обобщений можно сделать: средний сатанист не согласен с большинством положений христианства, полагает, что не существует абсолютного морального мерила и делает акцент на индивидуальности. Христианские добродетели они рассматривают как пороки, а пороки, как добродетели.
Слышал такую поговорку: «Сатана — обезьяна Бога», то есть он лишь передразнивает то, что есть в христианстве.
Действительно, и Сатана, и его последователи совершенно лишены творческого начала ничего своего они создать не могут, лишь переиначивая то, что есть у нас. Все христианские таинства, обряды, молитвы имеют у сатанистов варианты, противоположные по смыслу и сходные по форме. Отсюда и «чёрная месса» — месса наоборот. Сатанисты очень любят читать задом наперёд отдельные слова и целые молитвы.
— И эти-то люди изображают из себя носителей жизненной мощи? Вот сказал человек слово. А другой повторил это слово наоборот. Неужели считать, что они совершили равноценные действия? Ведь второй не сказал ничего своего. Вот вам и всё равноправие Света и Тьмы. Что же они всё-таки утверждают?
— Культ плотских удовольствий. Дескать, христианство запрещает получать удовольствия, а сатанизм — разрешает. Но на самом деле христианство ничего не запрещает. Мы лишь предупреждаем, что злоупотребление удовольствиями приводит к страданиям. Приверженность к удовольствиям обращается в страсть, а слово «страсть» и означает «страдание». Проповедуя «раскрепощение страстей» сатанисты отстаивают своё право мучиться.
Действительно, всё в нашей жизни так: получил удовольствие — расплатился болью. Пьянство, блуд, месть — всё, несущее удовольствие, заканчивается болью.
Вот это и есть в их понимании, свет и тень — удовольствие и мучение. А Христос вместо удовольствия предлагает нам радость. Радость не заканчивается страданием. Это Свет без Тени. Так будет в Царстве Небесном. Если Свет вокруг тебя и не имеет источника в конкретной точке теней не будет. Эту реальность радости мы должны развивать уже на земле. Путь к чистой радости лежит через ограничение удовольствий.
Удивительно, что сатанисты, враждуя на Бога, противоречат именно христианству, а не другим монотеистическим традициям. Ведь Сатана известен и исламу, и иудаизму, но антиисламского и антииудейского сатанизма почему-то нет, хотя эти религии так же распространены во всему миру.
Это хорошее доказательство того, что христианство ближе к Богу, чем другие религии, а потому и злоба сатанинская направлена именно на христианство. Впрочем, сейчас мы занимаемся одной группой, которую условно можно отнести к антиисламскому сатанизму. Но сразу могу сказать — не было бы антихристианского сатанизма — не было бы и этой группы. Антиисламские сатанисты лишь подражают антихристианским.
— Вообще, это показывает крайнюю степень скудоумия — выстраивать мировоззрение не на собственном учении, а на противоречии другому учению. И проповедовать «море кайфа» — это вообще маловато для мировоззрения. Как детишки в детском саду — не важно, что делать, лишь бы взрослых не слушаться.
— В основном это так и есть, но сатанизм нельзя оглуплять. Сатанизм лишён творческого начала, потому что настоящее творчество возможно лишь в соавторстве с Богом, но среди сатанистов есть свои интеллектуалы, которые очень чётко осознают глубинную, корневую суть сатанизма, которая, безусловно, не сводится к теоретическому обоснованию пьяных оргий и осквернения могил. К сожалению, эту суть не всегда осознают наши «борцы с сатанизмом».
— Внимательно слушаю.
— Я уже говорил, что в 1975 году от лавеевской «Церкви Сатаны» отделился «Храм Сета». Основатель этой организации якобы получил «послание от Сатаны» и предложил называть Сатану «его подлинным и древним именем — Сет». Небезосновательное утверждение, под именем Сета и правда действовал Люцифер. Современные поклонники Сета-Сатаны так понимают его суть: «Сет — архетип обособленного сознания. Мы поклоняемся не Сету, но индивидуальному потенциалу, заложенному внутри нас». Сетианцы не любят «Церковь Сатаны» и потешаются над нею, но последователи ЛаВея развивают те же мысли. Один из них, Питер Гилмор, пишет: «Мы — закрытое объединение людей, чрезвычайно обособленных друг друга». «Бог для сатаниста — он сам». «Сатана — не сознательное существо, которому нужно поклоняться, а резервуар мощи внутри каждого человека». Гилмору вторит «боевая подруга» ЛаВея Бланш Бартон: «Ваши демоны внутри вас — не ищите снаружи. Вы просто должны найти эту часть себя и прислушаться к ней».
— Значит, сатанисты не верят в личностное существование Сатаны и демонов?
— И верят, и не верят. В этом вопросе они постоянно противоречат сами себе. Та же Бланш Бартон учит, как надо молиться Сатане: «Я готов, о, Тёмный Бог. Я чувствую твою силу и готов призвать тебя в свою жизнь». Это самым очевидным образом обращение к реально существующей личности, что плохо согласуется с утверждением: «не ищите демонов снаружи».
— Значит, они всё-таки идиоты, если обращаются к тому существу, которое по их же мнению не существуют. Если же одни сатанисты признают существование Сатаны, как личности, а для других Сатана — не более, чем символ, значит они тем более идиоты, если считают друг друга единомышленниками. Не может же существовать единой системы, объединяющей верующих и неверующих.
— Здесь то, о чём мы говорили: нельзя быть с Богом, если ты отрицаешь Бога, но отрицая Сатану, можно быть с Сатаной. Сатанисты, безусловно, не способны создать единого и последовательного мировоззрения, но в их противоречивых установках есть своя логика. Не столь уж важно, существует Сатана или не существует, если в любом случае ты должен поклоняться не ему, а самому себе. Вот она, корневая суть сатанизма — крайняя степень индивидуализма, крайняя степень обособленности от других людей. Это логично. Бунт Люцифера — желание обособится от Бога, жить без Него. Но, обособившись от Бога, демоны и друг от друга тоже обособились. Они уже не только Богу, но и друг другу враги, потому что ненависть не может быть объединяющим началом. Объединить в единое целое может только Любовь. Чем большее люди приближаются к Богу, тем больше они приближаются друг к другу. Справедливо и обратное — чем больше люди удаляются от Бога, тем больше они удаляются друг от друга, поэтому сатанисты крайне друг от друга удалены, обособлены. Обособлены они и от духа обособления — Сатаны. Они не любят Сатану и не служат ему, потому что вообще не способны ни служить, ни любить. И друг друга сатанисты тоже не любят, потому что каждый из них влюблён лишь в самого себя. Сатанисты, способные смотреть в корень, прекрасно это понимают: сатанизм — это служение лишь самому себе, что вполне соответствует духу Люцифера — духу крайней гордыни, самовлюблённости, самообожания.
— Удивительно после этого, как сатанисты вообще способны держаться вместе.
— Да, я думал об этом. Дело в том, Андрюша, что благодать Божия полностью не оставляет даже тех, кто совершенно отрёкся от Бога, даже самых страшных богоборцев Бог до некоторой степени хранит. Даже в сатанистах пребывает некоторая остаточная благодать, хотя они и отпали от источника благодати. И только благодаря этой остаточной благодати сатанисты способны хоть как-то держаться вместе, хоть и с трудом, но всё же выносить друг друга, а иначе бы они порвали друг друга на части.
— Кажется, я начинаю понимать, почему Ла Вей назвал американский образ жизни сатанинским. В США господствует либеральная экономическая модель, а либерализм — крайняя степень индивидуализма — каждый выживает в одиночку, каждый сам за себя. А это и есть сатанизм. И в Европе индивидуализм процветает, но не в такой мере, как в США. Штаты вообще созидались на «праве сильного». И силы-то в них теперь уже нет почти никакой, однако осталось пренебрежение к другим людям. Я смог, я добился, я пробился — на остальных наплевать. Остальным можно бросить косточку поглодать через какой-нибудь благотворительный фонд, и то больше для того, чтобы потешить своё тщеславие.
— Улавливаешь. Мало толку в том, что многие американцы до сих пор считают себя христианами. Сатанист Питер Гилмор не без оснований пишет: «Множество людей сегодня называют себя христианами, но реально не имеют никакой ясной концепции относительно того, что эта философия влечёт за собой, так что они в общем целом ведут себя согласно сатанинским правилам». Боюсь, что он прав. Удаляясь и обосабливаясь друг от друга, делая собственные желания мерилом всех вещей, мы удаляемся от Бога и тогда уже мало толку в соблюдении христианских ритуалов, мы начинаем жить, как сатанисты. Таковы прямые следствия господства третьего сословия — буржуазии. Буржуазность — это прежде всего индивидуализм. А сатанизм — концентрированная форма выражения буржуазности. США в развитии буржуазного мироощущения продвинулись дальше, чем любая страна, и вот сегодня сатанисты хлопают в ладоши — это наша страна.
— Вы знаете, отец Августин, тут напрашивается одна очень неприятная для нас параллель. Рыцарство тоже выстроено на развитии индивидуального начала, на некоторой обособленности от всех остальных. Рыцари строем не ходят. Они сражаются и умирают в одиночку.
— «Индивидуализм» — такое хитрое слово, что его можно налепить в качестве ярлыка на едва ли не противоположные понятия. Давай разберёмся с рыцарским «индивидуализмом». Классический рыцарь — органичная часть иерархической структуры. Да, рыцарь очень одинок и по-своему обособлен, но во все стороны тянутся прочнейшие нити, которые неразрывно связывают его с обществом. На своей земле рыцарь одинок, потому что окружён крестьянами представителями низшего сословия. Общаться с ними на равных он не может — рыцарский замок возвышается над крестьянскими хижинами, как явление иного мира. Но настоящий рыцарь всегда помнит — Бог доверил ему защищать этих людей и, если понадобится, отдать за них жизнь. Рыцарь связан с массами простого люда узами любви, потому что сама его суть в их защите. Кверху от рыцаря тянется ниточка к барону, с которым он связан вассальной присягой — так же незримо, но не менее прочно. Казалось бы, рыцарь очень обособлен от своего сеньора, но настаёт момент, и по слову сеньора, рыцарь берёт в руки оружие для защиты общих интересов, и не щадит себя. От барона такая же ниточка тянется к графу, от графа к королю, от короля — к Богу, потому что он — помазанник Божий. Так иерархическая структура связывает всех своих членов друг с другом и с Богом. Это воистину богоданная структура, потому что все её члены связаны узами священного долга по отношению друг к другу, в идеале — узами любви. А сатанист — всегда сам по себе, он никому ничего не должен. Он никакими узами не может быть связан ни с «сатанинским начальством», ни с самим Сатаной. Сатанист не может быть частью иерархии, потому что его бог он сам. Его обособленность абсолютна.
— Но почему всё-таки в рыцарском сознании такой акцент делается на индивидуальности, на отдельности?
— Тут вот какая штука: растворение в безликой массе тоже не есть большое благо, это другая крайность того процесса, о котором мы говорим. Всегда прятаться за толпу, ни за что не нести личной ответственности и усиленно настаивать на том, что все люди одинаковые — ещё одна из дьявольских придумок. Вспомним, как любят поговорить марксисты о «роли масс в истории». Безбожникам нравится, когда люди являют собой биомассу. А рыцарская обособленность — как раз нечто среднее между крайним индивидуализмом и слиянием в биомассу. На богоданном принципе иерархии строится сословность общества, а представители любого сословия всегда подчёркивают свою непринадлежность к другим сословиям, свою отдельность.
— Но рыцари и между собой не сливаются, хотя принадлежат к одному сословию.
— Это просто. У себя в поместье каждый рыцарь — полноправный, самодостаточный и единственный хозяин. А потому, даже объединённые в отряд, рыцари являют собой сумму самостоятельных боевых единиц. У них просто нет привычки ни с кем сливаться. И это не плохо, когда человек не прячется ни за чью спину и считает лично себя ответственным за всё.
— А у нас очень любят противопоставлять западный индивидуализм и русскую соборность.
— Соборность есть благо, данное от Бога. Но убери из соборности Бога, и ты получишь колхоз. Точно так же с рыцарским индивидуализмом. Убери из него Бога и ты получишь сатаниста. Рыцарь-безбожник — чудовище. И таких чудовищ история знала не мало.
— Значит, рыцарский принцип всё же содержит в себе соблазн?
— Безусловно. Орден как раз и даёт возможность рыцарю избежать этого соблазна. К подчёркнутому личному достоинству свободного воина Орден добавляет принцип соборности. Орденский рыцарь уже не обособлен в своём поместье за стенами замка. В Ордене рыцари привыкают есть из одной тарелки. Они объединяются в единый организм, но при этом не сливаются, не теряют индивидуальности. Орденское рыцарство — союз свободных и равноправных. А сатанинские псевдоордена — это вообще не союзы. Если каждый молится лишь самому себе, значит у них нет объединяющего начала. Их держит вместе ненависть к христианству, но ненависть не может создать органичное единство.
— Будет бойня, Андрей, — тихо и мрачно сказал Князев Сиверцеву. — Ты знаешь, мы никогда не ведём войны на истребление, но на сей раз будет именно так — мы должны убить всех до одного. Готов выполнить работу карателя?
— Если это будет угодно Господу, мессир, — сухо обронил Сиверцев. — А в чём интрига?
— В Египте вот уже несколько лет действует некий «Орден Иблиса». Сатанисты от ислама. Отъявленные нелюди и садисты. На их счету уже десятки смертей и завершения этому не предвидится.
— А полиция?
— А без толку. Вот в этом-то и интрига. Через своих людей мы представили в полицию исчерпывающую информацию более чем по десяти убийствам с очень хорошей доказательной базой. Полиция редко получает такие подарки, но на сей раз копы не обрадовались. Дело в том, что убийцы сатанисты принадлежат к сливкам местного общества — сынки генералов, министров, крупных бизнесменов. Арестовать их всех, означает полностью сменить власть в Египте. Полиция таких решений не принимает, а власть фактически должна вынести приговор сама себе. В нашем мире так не бывает, и мы на это не надеялись, но информацию всё-таки представили, скорее, чтобы очистить совесть. Реакция была нулевой, и теперь возможны два варианта развития событий: либо за этими сатанюгами и дальше потянется шлейф из десятков трупов, либо мы вырежем их всех до единого. Мы не мстим за то, что они уже сделали, если бы нам дали гарантии того, что убийства прекратятся, мы устранились бы от ситуации. Но реальность такова, что единственной гарантией прекращения убийств является уничтожение убийц.
— Именем Господа, мессир, — кивнул Андрей. Он совершенно не почувствовал гнева. Только боль и скорбь.
— Нам помогают наши друзья-мусульмане. Пойдём, представлю тебе одного очень интересного человека.
Они прошли в соседний номер гостиницы. Номер не был заперт, они вошли без стука. У окна спиной к вошедшим стоял человек, одетый в зелёный камуфляж с мусульманским платком на плечах. Его прямая спина и широкие плечи выдавали настоящего воина. При появлении гостей он обернулся не сразу, но что-то едва уловимо изменилось в постановке корпуса. «Да, это настоящий воин, — подумал Сиверцев. — Хладнокровие, выдержка, никакой суеты, но готовность к прыжку постоянная. Сейчас он, даже не видя меня, знает, где я стою и, если выстрелит — не промахнётся».
Гость тем временем спокойно обернулся, и тогда Андрей удивился уже по-настоящему. Он только и смог тихо выдохнуть:
— Ходжа?
— Русский воин знает моё прозвище? — Ходжа тонко и дружелюбно улыбнулся.
— Не знал. Догадался. Трудно объяснить.
На помощь Сиверцеву пришёл Князев, обратившийся к Ходже:
— Андрей пишет исторические рассказы. Герой одного из его рассказов — мусульманин Ходжа. Очевидно, ты напомнил ему плод собственного вымысла.
— Не было вымысла. И не просто напомнил. Одно лицо. Впрочем, не поймите превратно, в реинкарнацию я не верю.
— Надеюсь, твой Ходжа был хорошим воином? — ничему не удивляясь, Ходжа по-прежнему легко улыбался.
— Да, он был настоящим воином. Он сражался с крестоносцами. Был бой в пустыне по Иерусалимом. Я убил тебя, Ходжа.
— Что-то такое припоминаю, — улыбка Ходжи стала немного хищной, но по-прежнему излучала дружелюбие.
Все трое хорошо чувствовали, что это странное объяснение — не шутка, не игра. Было тут что-то от постижения глубинной сути происходящего. Нечто подаренное им Богом. Не случайно ведь Андрей, когда выписывал того своего Ходжу, видел перед собой именно это лицо. А тут ещё и прозвище совпало. Да и совпало ли?
— Аллах подарил нам встречу, — сказал Ходжа, распахнув объятия. — Буду рад сражаться теперь рука об руку с храбрым крестоносцем.
— Прославим Всевышнего, — Андрей заключил обретённого друга в объятия.
— Жизнь — лотерея! — весело щебетала симпатичная блондинка, оживлённо жестикулируя. — Я всегда верила в то, что мне достанется крупный выигрыш! Я знала, что я этого достойна! Главное — верить в себя, и тогда всё будет в полном шоколаде. Хочешь всю жизнь чахнуть на кухне, готовить еду для мужа-алкаша — будет тебе и кухня, и алкаш. Хочешь праздника — будет праздник. Жизнь должна быть непрерывным праздником, а иначе, зачем она вообще нужна? — блондинка жизнерадостно расхохоталась.
Пять симпатичных русских девушек летели бизнес-классом комфортабельного «Боинга» на встречу со своей мечтой. Там будет всё. Богатые, элегантные, обходительные мужчины в смокингах на шикарных фуршетах. Великолепные виллы, мраморно-лазурные бассейны, дорогие наряды, которые они будут менять по несколько раз в день. В качестве самой сладкой перспективы — замужество за миллионером, и тогда всё это — не на месяц, а навсегда.
— Ой, девчонки, а мне до сих пор как-то страшно. Вдруг всё это не по-настоящему? Продадут нас там в какой-нибудь гарем, — вторая девушка тоже улыбалась, хотя и несколько напряжённо.
— Ты чего, вообще дура? Приглашение от министерства культуры Египта — на официальном бланке — печать, подпись. Ты когда-нибудь видела такие документы? — жёстко отреагировала третья, очень серьёзная особа.
— Ну, откуда.
— А я видела. Приглашение — настоящее, можешь не сомневаться. Если сомневаешься, так зачем тогда и летишь?
— Ну не хотелось свой шанс упускать.
— Вот и не каркай.
— А я всё-таки не понимаю, они что, все наши конкурсы красоты смотрят?
— Нет, только те, в которых ты участвуешь.
— А что мы там будем делать?
— Грузчиками в порту работать. Дура ты всё-таки. Понятно же написано: «Участие в днях российской культуры». Презентации, приёмы, вечеринки. Тебе кто приглашение вручил? Атташе по культуре посольства Египта в России. А там нас встретят наши дипломаты.
— Всё будет в полном шоколаде! — опять защебетала первая блондинка, которая даже не пыталась вникнуть в разговор подруг. Ещё две их спутницы мирно и безмятежно дремали.
Девушки не могли, конечно, знать, что человек, вручивший им приглашение, не был атташе посольства Египта по культуре. И хотя бланк министерства культуры был подлинный, и даже печать подлинная (впрочем — не министерская), но подпись министра — поддельная. А в Российском МИДе даже не догадывались, что в Египте будут проходить дни российский культуры. И человек, который встретил девушек в аэропорту, не был российским дипломатом.
Подумать только — в их честь давали торжественный приём. В шикарном банкетном зале был накрыт роскошный стол, ломившийся от всевозможных изысканных блюд. Элегантные молодые мужчины в чёрных смокингах галантно целовали им руки. Разве такие могут позволить себе что-то лишнее? Холёные лица, тонкие улыбки, томные взгляды — настоящие аристократы. Просто какой-то клуб восточных принцев. А может так оно и есть? И с ними здесь обращаются, как с принцессами — кланяются, берут за ручку, подводят к месту.
Совершенно очарованные девушки не обратили внимания на то, что банкетный зал несколько мрачноват. Потолок низкий, стены под дикий камень, ни одного окна, тусклые электрические факелы. И лица «принцев», если бы взглянуть на них повнимательнее, тоже должны были насторожить. Неживые, малоподвижные лица с глазами не столько даже холодным, сколько пустыми. Их неестественные улыбки выглядели приклеенными и плохо скрывали постоянно пробегавшие по лицам нервные судороги.
«Принцы» почти не говорили, лишь время от времени обменивались друг с другом короткими фразами на арабском, которого никто из девушек не знал. Казалось, они совершенно не расположены веселиться и лишь отбывают тягостную повинность — каждый смотрел в свою тарелку и неторопливо смаковал мясо, словно этих богачей обычно кормили гораздо хуже. Когда они приступили к еде, и заиграла тихая, но какая-то нервная музыка, на девушек они, казалось, перестали обращать внимание. Зато тамада, легко болтавший по-русски, веселился вовсю. Стол стоял буквой «п», и во главе его сидели пятеро девушек — это было единственным, что их удивило — вопреки обыкновению, их не рассадили посреди кавалеров. Впрочем, они решили, что поскольку банкет в их честь — они занимают самые почётные места. И вот тамада непрерывно вертелся внутри буквы «п» и провозглашал тост за тостом, обращаясь в основном к девушкам. «За русских красавиц!», «За великую русскую культуру!», «За египетско-российскую дружбу!» — всё достаточно банально и дежурно — никаких двусмысленностей, ничего особенного, разве что его ужимки и нелепые картинные жесты несколько забавляли. В перерывах между тостами он расхваливал эксклюзивную кухню и особенно — главное мясное блюдо, приготовленное специально для русских красавиц. При этом он постоянно говорил про какой-то сюрприз, обещая раскрыть «утончённую и поразительную тайну специальной кулинарии, какой нет нигде в мире». И вот, наконец, он сказал:
— Мы очень рады, что наши прекрасные гостьи получили возможность по достоинству оценить наше угощение. Оно ведь понравилось вам, не правда ли? — тамада подмигнул по очереди каждой из девушек, встречая благодарные улыбки. — Так вот, милые дамы, пришло, наконец, время объяснить, почему вам было так вкусно. Наше блюдо приготовлено из мяса некрещёных и необрезанных младенцев. Ни одному из этих невероятно вкусных созданий не было и месяца от роду. Но главное, что они — некрещеные и необрезанные — вот почему они такие вкусные. Поблагодарим же отца нашего Иблиса, которого ещё называют Сатаной. И поаплодируем нашим славным кулинарам! — тамада картинно и бурно зааплодировал.
В этот момент хозяева праздника оторвались от своих опустевших тарелок и впились глазами в девушек, казалось, слизывая с их лиц эмоции. Но никаких особенных эмоций им слизнуть не удалось, на лицах девушек застыли глупые растерянные улыбки. Наконец, одна из них с трудом выдавила из себя:
— Что это за могильный юмор, господин тамада?
— Юмор? — тамада скроил обиженную гримасу. — неужели вы решили оскорбить наших хозяев недоверием? Мы, конечно, будем шутить, и, я вас уверяю, будет очень смешно, но пока я вполне серьёзен. И у меня есть замечательный способ развеять ваше недоверие. Наш десерт снимет все вопросы! — тамада провозгласил это, как обычно объявляют появление на сцене знаменитого артиста.
Слуга в чёрном кителе поставил внутри буквы «п» маленький столик и установил на нём большую серебряную чашу. Второй слуга внёс голого визжащего младенца. Первый взмахнул кривым ятаганом, и кровь младенца хлынула в чашу. Одна из девушек пронзительно завизжала, две потеряли сознание, ещё две, казалось, окаменели, впрочем, у одной из них в глазах заметались дьявольские огоньки. Хозяева смотрели на них непрерывно, их лица начали расплываться в неком подобии омерзительных улыбок. Тамада подошёл к хозяину праздника, тот сказал ему несколько слов, и тамада продолжил свою игру:
— К сожалению, милые дамы, нам удалось порадовать не всех из вас. А ведь мы очень старались. Но некоторые оказались такими неблагодарными. — говорил он под непрекращающийся визг одной из девушек. — Итак, наш предводитель уже выбрал королеву праздника, который ещё только набирает обороты.
Тамада взял чашу с кровью младенца и поднёс девушке с дьявольскими огоньками в глазах. Та неловко встала, угловатыми движениями робота поправила платье и, приняв чашу, осушила её до половины. «Принцы» оживлённо зааплодировали. Дьяволица с окровавленным ртом дико сверкала глазами, казалось, никого вокруг себя не замечая.
— Да здравствует королева! — торжественно провозгласил тамада по-русски и по-арабски.
— А вот что нам делать с этой неблагодарной девицей? — он грубо ткнул пальцем в особу, продолжавшую непрерывно визжать. — Понял! Это же наш десерт! А то ведь крови младенца на всех не хватит. Это, конечно, нашему уважаемому предводителю, — он поднёс остаток крови в чаше главному, который начал смаковать её маленькими глотками, как дорогой коньяк. Тем временем двое слуг грубо вытащили из-за стола визжащую особу и сорвали с неё всю одежду. С потолка, туда где стоял столик, спустилась ржавая цепь. Слуги защёлкнули на ноге девушки стальной зажим и так — за одну ногу подняли её к потолку. Голова её теперь болталась прямо над столиком, на который теперь водрузили чашу побольше — литра на три.
— Итак, ваше величество, помогите нам организовать десерт, — тамада протянул «королеве» кривой кинжал, жестом объяснив, что она должна перерезать горло своей подвешенной подруге, что и было исполнено. Из большой серебряной чаши слуги ловко разлили кровь по хрустальным бокалам хозяев.
— А теперь любезная королева должна совершить ритуальное осквернение двух нехороших книжек.
На столик вместо чаши положили Библию и Коран.
Праздник продолжался ещё несколько часов. К его исходу ещё одна девушка была посажена на кол, другая изрублена на куски, третья вся изрезана затейливыми узорами. По залитому кровью полу как сонные мухи бродили уже почти невменяемые хозяева и «королева» — голая и с ног до головы покрытая кровью.
Примерно через пару месяцев из России в Египет вновь летел самолёт с пятью русскими девушками. Они так же всю дорогу щебетали, радовались и делились сомнениями, которые дружно признали совершенно напрасными. В аэропорту их так же должен был встретить представитель «Ордена Иблиса» под видом российского дипломата. Но вместо сатаниста их встретил тамплиер, который повёз девушек в Российское посольство. Остановив машину у дверей посольства, тамплиер предложил им выйти и сказал:
— Вы попали в очень неприятную историю. Вас пригласили в Египет люди, имевшие по отношению к вам намерения крайне недружелюбные. Сейчас я уйду, а вы спросите секретаря посольства. Он уже предупрежден. Сам я не дипломат, и я вам больше не нужен. На прощанье могу сказать только одно: «Дуры вы, девчонки».
В мрачном зале уже собирались «принцы». Пол был тщательно вымыт, но тяжелый, застоявшийся запах крови едва способны были заглушить сильные ароматы. Хозяева, как всегда, были угрюмы и меж собой почти не разговаривали. С минуты на минуту должны были привезти девушек. И вдруг один из «принцев» упал. Остальные, не сильно встревожившись, перевернули его на спину и увидели торчащую из груди рукоятку кинжала. Их взгляды затравленно заметались, и они, наконец, увидели, что во всех трех дверях стоят незнакомцы в старинных белых плащах, с мечами в руках. На левом плече плащей пламенели красные кресты. Впрочем, один из незнакомцев был в плаще без креста и в каждой руке держал по сабле. Они стояли молча, с суровыми лицами, напоминая ангелов мщения. Служители Иблиса сгрудились растерянной кучей, так и не проронив ни слова. Всё было до боли понятно — надо платить по счетам — о чём тут говорить?
Ходжа первый устал разыгрывать немую сцену. Спокойно и не торопясь он начал надвигаться на дьяволопоклонников. Сабли в его руках стали почти невидимы, мелькая, как два пропеллера. С двух других сторон взмахнули мечами Князев и Сиверцев. Хозяева тоже оказались вооружены, хотя и были при полном параде. Выхватив непонятно откуда довольно длинные кинжалы, они пытались оказать сопротивление — дрались с отчаянной храбростью обреченных. На их лицах не читались ни гнев, ни ненависть — только страх, один только всепоглощающий ужас. Тамплиеры и Ходжа кромсали клинками эту мразь, почти не получая ранений. Сатанистов было в несколько раз больше, но вооружены они были хуже и дрались довольно бестолково, ужас — плохой помощник в бою. Они падали один за другим.
Неожиданно в тыл Сиверцеву ударил предводитель сатанистов, перед этим куда-то на минуту исчезнувший. Андрей почувствовал за спиной взмах огромного двуручника и мгновенно рванул из-под удара. Это спасло ему жизнь, такой удар раскроил бы человека без доспехов надвое. Но меч врага все-таки достал Андрея, он упал на пол с рассеченным плечом. Противник — огромный бородатый мужчина лет сорока быстро занёс меч для второго удара теперь уже неизбежно смертельного, но тут произошло невозможное. Ходжа, которого отделяли от этого поединка несколько противников, смёл их вихрем в доли секунды, обрушив на предводителя свои смертельные сабли.
Бой закончился. За всё время боя ни воины Всевышнего, ни служители Иблиса так и не сказали ни слова. Звучали только лязг железа, стоны раненных и хрипы умирающих. Пол жуткого зала опять был залит кровью… Почему всегда только кровь и ничего больше?
Тамплиеры исчезли из Египта на следующий день. За собой не убирали, демонстративно оставив гору трупов в подвальном помещении дворца, принадлежащего весьма высокопоставленному лицу. На месте казни Ходжа оставил надпись на арабском языке: «Дело в неверии во Всевышнего и обожествлении дьявола».
Ночью в маленьком православном храме на окраине Иерусалима горели лишь несколько лампад перед иконами, почти не рассеивая мрак, но сообщая ему мистический колорит. Двери храма как и всегда по ночам, были заперты, но на сей раз — изнутри. Перед большой иконой Спасителя стоял мужчина лет тридцати. Во мраке едва угадывалось сосредоточенное выражение его лица. Мужчина с болью в голосе непрерывно шептал: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Иногда он добавлял: «Грешного и кровавого».
— Как твоя рана Андрюша? — отец Августин был невесел, его грустная улыбка сегодня была виноватой.
— Ничего трагического, — Сиверцев попытался ответить как можно более небрежно. — Кость цела, сустав не задет, рассечены только мышцы, да и те хорошо срастаются. Думаю, рука восстановится полностью.
— Ну и слава Богу, — отец Августин почему-то не повеселел.
— Вас что-то гнетет, батюшка?
— Человека гнетет всегда одно и то же — он сам. Вы сражаетесь, а я… Никогда к этому не привыкну. Я — не человек меча. Моё дело — ваши души. Но какое я имею право? Способности мои в деле врачевания ваших душ можно поставить под большое сомнение. Лекарь у нас один, а я — лишь ученик Лекаря, и далеко не самый способный ученик.
— Благословите, отче, — Андрей постарался сказать это как можно теплее.
Отец Августин благословил его дрожащей рукой и прошептал:
— Ваши погружения во мрак ужасны. Боюсь, когда-нибудь кто-то из вас не вынырнет обратно на Свет. И перед Богом отвечаю за это я.
— Служение тамплиера трагично. О чём говорить?
— Да, ты прав, — отец Августин тихо кивнул. — А тебе ведь скоро — в Москву. Знаешь об этом?
— От вас узнал. В Москву так в Москву.
— Тебе — всё равно?
— Не знаю… мне последнее время не до ностальгии. Хотя, конечно, буду рад вдохнуть воздух Родины.
— У нас еще одна тяжелая тема осталось.
— Да, про Антихриста. Я постарался все узнать про тех выродков, которых мы перебили. Они утверждали, что «дьявол, будучи изгнанным из рая, подвергся несправедливым притеснениям, и грядёт пришествие его сына, который будет править миром». Выходит, они готовили приход Антихриста?
— Выходит, что так… Господи, благослови нас, грешных и немощных. Из тьмы да во тьму. Помоги нам, Господи. Итак. Впервые термин «антихрист» появился в послании апостола Иоанна: «И вы слышали, как придёт антихрист» (1 Ин; 16). Впрочем, по Иоанну, антихрист — понятие собирательное. «И теперь появилось много антихристов», — говорит он.
— А я слышал, что и в Ветхом Завете есть упоминания об Антихристе.
— Да, есть, в книге пророка Даниила но там ещё нет, разумеется, этого термина. Пророк Даниил говорит про «четвёртого зверя» и «нечестивого царя». Ветхозаветная религия не имела сколько-нибудь разработанных представлений об этой персоне. И упомянутый апостолом Иоанном «антихрист» еще не ассоциируется с «нечестивым царём» пророка Даниила. Взгляд на Антихриста, как мы его понимаем, раскрыт в Апокалипсисе — Откровении Иоанна Богослова. Это «зверь, выходящий из бездны», и он наделён уже теми же чертами и качествами, что и «нечестивый царь» пророка Даниила.
— Пророк Даниил и апостол Иоанн описывают Антихриста символически, через туманные образы. А есть ли в «Новом Завете» не символическое, а прямое описание Антихриста?
— Да, есть, во 2-ом послании апостола Павла фессалоникийцам: «…Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так как в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога… Тайна беззакония уже в действии… Откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих, и истребит явлением пришествия Своего. Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи…».
— А потом эти фрагменты сводились в единое учение?
— Да, уже во II веке учителя Церкви определили «зверя» «Откровения», как Антихриста и стали уверенно говорить о «человеке греха», которого называет апостол Павел, и «звере» «Откровения», как об одном человеке.
— Сейчас учение Церкви об Антихристе носит законченный характер?
— Не совсем. Некоторые фрагменты этого учения до сих пор являются предметом полемики. Есть, например, основанное на «Откровении» утверждение, что Антихрист воцарится в Римской империи. Вопрос только, что надо будет понимать под Римской империей на момент окончания земной истории? Может быть, весь мир? Вполне вероятно. В современной литературе по эсхатологии не раз встречается утверждение, что Антихрист будет «президентом всей планеты». А есть утверждения, что Россия так и не покорится Антихристу до скончания века.
— А ваше мнение?
— А нет у меня на сей счёт мнения. Мы многого не знаем о том, что будет являть собой царство Антихриста. Мне не нравится, когда всё это расписывают в деталях, словно будущее видят. Пророчества открывают нам не всё, и не все толкования пророчеств представляются мне безупречными. К примеру, есть основанное на книге пророка Даниила утверждение, что Антихрист победит трёх царей: египетского, ливийского, эфиопского. Но надо ли тут понимать правителей Египта, Ливии и Эфиопии в их современных границах? В древности понятие «ливийский» и «эфиопский» означали совсем другие вещи, а что эти слова будут означать на момент окончания истории вообще трудно сказать. Или утверждение, что Антихрист будет евреем из колена Данова. Это основано на книге пророка Иеремии. Но мне, например, толкование соответствующего фрагмента у Иеремии представляется довольно произвольным, хотя дело даже не в этом. Дело в том, что принадлежность к колену Данову не является идентифицирующим признаком. Как известно, все современные евреи принадлежат к двум коленам — Иудину и Вениаминову, а остальные 10 колен сгинули после вавилонского плена. Соответственно, сейчас ни про одного человека на земле нельзя утверждать, что он принадлежит к колену Данову. Значит, по этому признаку мы не узнаем Антихриста, так что вопрос о его принадлежности к колену Данову представляется праздным.
— А я слышал, что утраченные 10 колен вернутся из небытия в последние времена и примут участие в последней битве с Антихристом. Они будут на стороне Бога, потому что на них не лежит клеймо богоубийства, ведь евангельские события происходили без них.
— Это легенда. Красивая, надо сказать, легенда. Мне только не понятно, откуда эти 10 колен возьмутся? Современным мир достаточно хорошо изучен, в нём затруднительно спрятаться целому народу, а чтобы этот народ на протяжении нескольких тысяч лет сохранял свою идентичность, это уже и вовсе невероятно. Понятно, что 10 колен израилевых давным-давно растворились среди других народов.
— А наши эфиопские «Бэта Израэль»?
— Бэта Израэль — это, действительно, очень интересно. Они ведь и правда являются носителями ветхозаветного а не талмудического иудаизма. Однако, нет никаких подтверждённых данных о том, когда они появились в Эфиопии. Может быть, действительно, как они утверждают, во времена царя Соломона, то есть задолго до вавилонского плена? Во всяком случае, ни на чём не будет основанным утверждение, что Бэта Израэль — это и есть 10 колен. Задумаемся ещё о том, что про Бэта Израэль знают все, кому интересно. И если бы где-то ещё существовали 10 колен — о них бы тоже знали.
— А правда, что евреи признают Антихриста своим Мессией?
— Решил меня, старика, в антисемитизм затянуть?
— Так я ж известный провокатор.
— Наконец-то всё раскрылось. А если серьёзно… Часть евреев признает Антихриста Мессией. Это логично — в их учении о Мессии слишком много сходных черт с нашим учением об Антихристе. Но часть евреев, вне всякого сомнения, будут на стороне Бога вместе с христианами, а часть евреев и является христианами. То есть еврейский народ разделился на сторонников и противников Антихриста, так же, как и все народы. Нелепо говорить: «Евреи признают…». Есть отдельные люди, каждый из которых будет делать выбор самостоятельно.
— Но ведь Антихрист восстановит иерусалимский храм?
— Это утверждение основано на послании апостола Павла. Надо только уточнить, что в Павловы времена на всей земле был лишь один храм Творца-Вседержителя, а сейчас таких храмов много. Павел пишет: «В храме Божьем сядет…». Не факт, что именно в Иерусалимском, хотя Павел не мог иметь ввиду никакой иной храм. Да ведь это и не принципиально. Если антихрист воссядет в храме Нью-Йорка или Брюсселя, ты думаешь от этого многое изменится?
— Каковы же тогда принципиальные, самые важные черты Антихриста?
— Позволь, я приведу обширную цитату из преподобного Ефрема Сирина, горячо мною любимого. Я книжечку захватил. Вот что он пишет про времена Антихриста: «Все должны будут носить на себе печать зверя… и в таком только случае можно будет им покупать себе снедь и всё потребное. Заметьте, братья мои, чрезмерную злокозненность зверя и ухищрения его в лукавстве: таким образом начинает он с чрева, чтобы человек, когда приведён будет в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать… не на каком-либо члене, но на правой руке, а так же на челе, что бы человеку не было уже возможности правою рукою начертать крестное знамение, а так же на челе изобразить… славный и честный крест Христа и Спасителя нашего… Господь наш во истине придёт ко всем нам, отразит ради нас ухищрения зверя. В чистоте соблюдая веру Христову, сделаем шаткой силу мучителя… И с великой радостью провозгласят его царём, говоря друг другу: найдётся ли человек столь добрый и праведный? И скоро утвердится царство его и поразит он трёх царей…».
Потом прп. Ефрем пишет о том, что благоденствие при Антихристе будет недолгим: «Страх внутри, трепет извне, день и ночь трупы на улицах… все же поверившие лютому зверю и принявшие на себя печать его… приступят к нему вдруг и с болезнью скажут: «Дай нам есть и пить, потому что мы истаиваем, томимые голодом». И этот бедный, не имея к тому средств, с великой жестокостью даст ответ, говоря: «Откуда, люди, дам вам есть и пить? Небо не хочет дать земле дождя, и земля так же не даёт ни жатвы, ни плодов…». Многие из святых… с великой поспешностью побегут в пустыни и со страхом будут укрываться в горах и пещерах, и посыплют землю и пепел на головы свои, в великом смирении молясь день и ночь… Все, не принявшие печать Антихриста, и все, скрывающиеся в пещерах, возвеселятся с Женихом в вечном небесном чертоге со всеми святыми в беспредельные века…».
Отец Августин перевёл дух и продолжил:
— Я цитировал фрагментами, но, думаю, общая картина ясна. Святитель Иоанн Златоуст, говоря об Антихристе, предлагает «отстать от детских сказок и болтовни старух», так что давай последуем этому совету. Оставим в покое 10 колен израилевых, включая Даново, не будем гадать ни о «трёх царях», ни о судьбе иерусалимского храма, ни о будущем еврейского народа — это только раздувает политические страсти. А нам надлежит знать немногое, но главное. Итак, обобщим. Антихрист — правитель, которому покорится весь или почти весь мир. Он утвердит в качестве обязательной религию, которая по сути будет сатанинской. Все, кто не примет религию Антихриста и его печать, не будут иметь возможности купить пищу, но малое число верных Христовых, несмотря на это, выживет. В последний период своего правления Антихрист уже не сможет контролировать ситуацию — голодать и умирать будут все, включая принявших печать. Правление Антихриcта закончится вторым пришествием Христа. Это всё.
— А печать Антихриста? Что значит число 666?
На эту тему существует немало «детских сказок и болтовни старух», но гадать об этом не полезно, а главное — бессмысленно. Определённо можно сказать только одно: во времена Антихриста всем будет понятно, что означает число 666, а сейчас это для нас не актуально. И вообще, когда придёт Антихрист, у христиан не будет возможности усомнится, что это именно Антихрист, а не кто-нибудь иной.
— А какие у нас основания полагать, что Орден Христа и Храма будет играть активную роль в завершении истории человечества?
— Историю, Андрюша, делают люди. Так хочет Бог. Бог может спасти верных Христовых во времена Антихриста самыми разными способами, но почему бы и не с помощью тамплиеров, если последние готовят себя к тому, чтобы эту помощь оказать? Христиане — не фаталисты. Пусть мы не можем изменить общий ход истории и её результат, но свою роль в истории мы определяем сами.
— А мне кажется и в пророчествах есть некоторые косвенные указания на роль нашего Ордена в завершении мировой истории. Главная резиденция Ордена — в Эфиопии, а ведь среди тех царей, которых победит Антихрист, назван эфиопский. Значит один из фронтов сопротивления Антихристу будет именно там, где тамплиеры. То, что в христианской эсхатологии постоянно фигурирует 10 утраченных колен Израилевых, косвенно указывает на Бэта Израэль, которые опять же там, в Эфиопии — где тамплиеры.
— И постоянные указания на то, что последние христиане будут скрываться в горах и пещерах. В Иудее горы — не горы. Вот эфиопские горы могут по-настоящему укрыть. Эфиопия — сокровенное царство, о которое веками обламывали зубы все завоеватели. Опять же, пресвитер Иоанн. Ведь некоторые исследователи локализуют его в Эфиопии. А некоторые идентифицируют пресвитера Иоанна, как апостола Иоанна Богослова, который не умер и примет участие в последних судьбах мира. И это будет там, где тамплиеры.
— В том, что ты говоришь есть свои резоны. Не собираюсь ничего опровергать, однако предупреждаю — не увлекайся такими построениями. Это не полезно.
— Но это интересно.
— Копания в пророчествах ни на что не направлены, и ни к чему не ведут, а интересна тебе должна быть собственная посмертная судьба. Говорю это как духовник. Может быть, когда-то эта тема и станет актуальна лично для тебя, но не сейчас.
— А что для меня актуально сейчас?
— Москва. Имею ввиду не встречу с Родиной, а встречу со страшной, огромной и разветвлённой организацией сатанистов. Вы обнажите свои мечи во славу Божию. А ты можешь сколь угодно безупречно доказать себе, что имеешь на это моральное право, но вопрос всё равно останется — имеем ли мы право проливать кровь ради Христа? На этот вопрос надо отвечать всю жизнь. И этот вопрос так же связан с последними временами. Мы знаем, что царству Антихриста положит конец второе пришествие Христа. Но как это будет? А будет страшная и кровавая битва.
Вот что сказано в заключительной части Откровения Иоанна Богослова: «И увидел я отверстое небо, и вот — конь белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует… И воинства небесные следовали на Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и чистый…».
Архиепископ Аверкий, комментируя этот фрагмент, пишет, «Святой Иоанн увидел отверстое небо, откуда сошёл в виде всадника на белом коне Иисус Христос, за которым следовали так же на белых конях небесные воинства». Вот видишь: даже Сам наш Господь изображается, как рыцарь. Ведь слово «всадник» и означает «рыцарь». А сопровождавшие Его воинственные всадники, облечённые в белый виссон? Разве это не символическое изображение тамплиеров?
— Это, однако, ангелы, батюшка.
— Конечно, ангелы, а не мы грешные. Но плохо ли подражать ангелам? Не такова ли и задача наша — уподобление ангелам? К тому же, душа святого человека после смерти ничем принципиально от ангела не отличается. А, может быть, среди этих небесных всадников в белых одеждах будут так же и тамплиеры-мученники, которые приняли смерть, но не отреклись от Христа? А если небесных всадников поддержат всадники земные, так же облечённые в белые одежды — последние рыцари Христа и Храма? Это, наверное, не будет странно, ведь битва предстоит в самом что ни на есть земном смысле. Святой апостол пишет: «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные чтобы сразится с Сидящим на коне и воинством Его». Заметь, это будет войско из людей, а не из демонов. И эти люди, слуги Антихриста, будут истреблены небесным воинством. Апостол пишет: «Все птицы напитались их трупами». Эта страшная картина поля битвы совершенно не похожа на символическую.
— Батюшка, а ведь известно, что малое число последних христиан встретит Господа во плоти, не познав телесной смерти. Где же они будут во время этой последней битвы?
— Вот в этом-то и весь вопрос. Скажем, среди последних христиан будут профессиональные военные. А почему им не быть? Господь военную профессию не отменял. Тогда, очевидно, их священный долг будет присоединится к последней битве с Антихристом. Они облачатся в белые одежды, возьмут в руки оружие и ударят по «воинствам царей земных». Должно быть, так?
— Так, батюшка. Деус вульт. Но до этого мы вряд ли доживём. Это будут последние времена. Не надлежит ли нам озаботить себя днём сегодняшним, как вы к этому только что призывали?
— Для христианина все времена — последние. И каждый день своей жизни он должен жить, как последний. Наша битва — вечная, она вне времени. И если ты погибнешь в бою с сатанистами, считай, что ты пал в этой самой последней битве с воинством Антихриста. Мы ожидаем пришествия Христа, которое лишь условно называем вторым, а на самом деле оно — вечное. И если ты падёшь в бою с именем Христовым на устах, разве не встретят тебя небесные святые храмовники? Разве не проводят ко Господу нашему? Всегда последняя битва и всегда пришествие Христово. Так стань же, Андрюша, «всадником, облечённым в виссон белый и чистый».
По тихому московскому переулку к незаметному православному храму на раннюю литургию шла группа мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Они были одеты в камуфляж, но чем-то неуловимо отличались от военных. Держали себя свободно, раскованно, на глаз их невозможно было разделить на солдат и офицеров, словно каждый из них был сам себе командиром. Короткими стрижками и суровыми лицами они отдалённо напоминали братву, но присмотревшись, не трудно было убедится, что это не так. Не было в их походке блатной расхлябанности, а на лицах — ни тени наглой самоуверенности, которая всегда отличает бандитов. Шли они скорее по-военному, хотя и не по-армейски — девять человек в шеренгу по три — не в ногу, строй явно не пытались держать, они похоже, просто не умели ходить иначе. Впрочем, ответ на вопрос, кто они такие, не трудно было получить, заметив шевроны на рукавах, где красовалась надпись: «Пересвет. Охранное предприятие». Хотя на обычных охранников они тоже не походили, равно как и обычных прихожан православного храма не сильно напоминали.
Великолепная девятка приблизилась к двери храма. По одному спокойно и без суеты, но не секунды не мешкая, они трижды крестились и заходили в храм. Мужчины пришли с идеальной точностью, одновременно с их появлением начали читать «часы». К самому началу ранней литургии приходит обычно лишь горстка бабушек, и мужчинам не трудно было найти место в почти пустом храме. Они встали перед большой иконой Георгия Победоносца так же, как шли — в три шеренги по три, установив дистанцию, позволявшую каждому свободно сделать земной поклон. Четко, слаженно и строго одновременно кланялись. С места не сходили, головами не вертели, ни на кого внимания не обращали. А вот на них, напротив, было обращено всеобщее внимание.
С их появлением бабушки не усомнились, что мужики сейчас поставят свечи и сразу же исчезнут, однако, мужики установкой свечек пренебрегли и до самого окончания литургии стояли, как вкопанные. Бабушки поглядывали на них, кто с умилением, а кто и настороженно. Мужики вели себя по всем правилам, и упрекнуть их было не в чем, хотя очень хотелось. Детишки, которые пришли в храм с мамами, смотрели на крепких мужчин в камуфляже с восхищением. Их мамы в «ту сторону» старались не смотреть, как будто сегодня на правой стороне происходило нечто не вполне приличное. Несколько одиноких интеллигентных мужчин и пара простоватых старичков постарались перебраться поближе к «славной когорте», получив долгожданную возможность не смешиваться во время богослужения с женщинами.
Старенький отец Пётр тоже был озадачен появлением на богослужении сплочённой и явно военизированной мужской группы. Когда они подходили ко кресту, он каждому постарался улыбнуться как можно дружелюбнее, чем, по-видимому, не произвёл на них никакого впечатления. Отец Пётр не сомневался, что после службы мужчины останутся и будут задавать ему вопросы, не понятно только какие, а, может быть, что-то предложат или о чём-то попросят, но он ошибся. Приложившись ко кресту, мужчины тот час исчезли из храма, так же слаженно и безмолвно, как и появились. Батюшка пожал плечами. Сегодня ему суждено было ещё раз очень сильно увидится. Отперев маленький замочек на ящичке с надписью «Пожертвование на храм», он обнаружил внутри сумму, существенно превышавшую кружечный сбор за месяц. Он даже рот ладонью прикрыл, словно желая избежать неуместного возгласа.
Вечером этого же дня отец Пётр, попивая чаёк в трапезной, думал про себя: «Вот что такое произошло? Мужчины пришли в храм. Вроде охранники какие-то, может, бывшие военные. Ну и что? Мужчины и должны ходить в храм. Самое нормальное дело. А мы удивляемся, словно к нам пожаловали гости из средневековья. До чего дошла Святая Русь».
Стоял тёплый афганский март 1988 года. Капитан Владимир Ставров смотрел на горы и мурлыкал себе под нос: «Прощайте горы, вам видней, кем были мы в краю далёком». Ставров прощался с Афганистаном. Три бесконечно долгих года отдал он этим горам — целая жизнь. Рейды, зачистки аулов, душманские караваны и горы, горы, горы — ущелья, перевалы, козьи тропы, зелёнка. Всё это опостылело так, что уже сил не было терпеть. До возвращения в Союз оставалась всего неделя. И вдруг Ставров всем своим существом почувствовал, как он сжился с этим миром, как будет ему не хватать Афгана. Эта чужая страна стала ему родной, хотя и осталась непонятной. Ставров даже вздохнул, хотя никогда не был особо сентиментальным.
— Товарищ капитан, вас вызывает товарищ майор, — выпалил запыхавшийся солдат.
Ставров молча усмехнулся. Он понимал, что комбат не станет так срочно звать ротного, если не случилось ничего особенного. Видимо, батя хочет предложить ему какую-то гадость под занавес. Кажется, рановато он с горами прощался.
Ставров не ошибся. Комбат, глядя в сторону, для приличия посопел, всем своим видом изображая, что ему очень неловко, и наконец, выдал:
— Тут такое дело, Володя. Я понимаю, что ты уже чемоданы упаковал, но кроме тебя некому. У меня все ротные кроме тебя — зелень, только что из-за речки. А дело ответственное.
— Раз надо, значит надо.
— Вот и хорошо. Ситуация такая. Недавно на сторону народной власти перешёл один аул здесь неподалёку. Сразу было понятно, что душманы это так не оставят, захотят отомстить. А час назад поступила оперативная информация — они попрут сегодня ночью через ущелье. Их надо остановить.
— Они точно пойдут этим ущельем?
— К аулу нет других подходов.
— Сколько их может быть?
— Полсотни, не больше. Они на карательные акции значительных сил не бросают. Да если их и будет больше — твоя рота справится. У тебя бойцы обстрелянные, каждый троих стоит. К тому же нет задачи уничтожения противника. Шуганёшь их хорошенько и достаточно. Ты лучше меня знаешь — духи не станут упорствовать, если натолкнутся на организованное сопротивление.
— За 3 года в Афгане я узнал про духов только одно: они ничего нам не должны и ничем не обязаны. У них есть своя логика, но мы так и не научились её понимать. Духи для нас всегда непредсказуемы.
— Ну, конечно, как карта ляжет.
— Разрешите выполнять?
— Володя, я обещаю тебе, что это твой последний бой.
— Последняя у попа жена была, товарищ майор.
Ставров вывел роту сразу же, хотя времени в запасе было ещё много. Пока-то дотащатся до ущелья, да найдут хорошую позицию, а ребятам надо ещё отдохнуть перед боем, хорошо бы и поспать хотя бы пару часов. Духи могут нагрянуть, едва стемнеет, а могут и ближе к утру. Значит, надо быть готовым ко всему.
Хорошую позицию нашли быстро. Ущелье здесь сужалось, так что держать оборону будет легко. Большие камни на дне ущелья были разбросаны так удачно, словно кто-то их специально расставил, чтобы сделать оборону максимально удобной. Пожалуй, даже слишком удобной. У Ставрова заныла душа. Ох, не к добру это, не к добру, когда всё так хорошо складывается. Приказ они получили не в последний момент, им дали достаточно времени на подготовку, чем баловали далеко не всегда. Они легко дошли, не сбив ноги. Они не мучились в поисках хорошей позиции. Им не придётся вжиматься в камень на открытом пространстве. Что же не хорошо? Что-то должно быть не хорошо. Ну да, конечно, ущелье очень глубокое и узкое, из-за нависающих уступов им не смогут оказать поддержку с воздуха, вертушки сюда даже не сунутся. И хотя ущелье не так уж далеко от места дислокации их части, но оно очень изолированно. Он и сам-то, зная в округе каждый камень, с трудом нашёл дорогу сюда, два раза чуть не потерял направление. Значит, если что-то пойдёт не по сценарию — помощи ждать не стоит.
Духи попёрли, когда ещё солнце не зашло. «Совсем обнаглела душманская нечисть», — подумал Ставров, снимая подползающего душмана спокойным одиночным выстрелом из «калаша». Его ребята работали по противникам так же спокойно, технично и грамотно. Это обстрелянные бойцы, много раз принимавшие участие в подобных горных операциях. Никто из них не вскочит с перепуга в полный рост, не будет метаться, как заяц на мушке у противника, никто не закричит «За Родину!», никто не станет истерично матерится. Говорить сегодня будут только АКМы, душманы так и не услышат, да и не увидят ни одного русского бойца, получая из-за камней пулю за пулей. Началась работа не столько даже тяжёлая, сколько сложная — требующая точности, сосредоточенности и предельной концентрации внимания.
В горах, особенно в ущельях, не стоит много стрелять. Дурацкие длинные очереди порождают столько рикошетов и смертоносной каменной крошки, что ещё неизвестно, для кого такая стрельба опаснее — для своих, или для чужих, особенно при сокращении дистанции боя. Душманы понимали это так же хорошо, как и русские бойцы — лишних патронов не тратили, толпой не пёрли, просачиваясь меж камней, словно змеи.
Дуэль профессионалов длилась уже второй час, от напряжения Ставров взмок, хотя в ущелье было довольно прохладно. Он понял — что-то идёт не так. Сколько духов они уже положили? По самым скромным оценкам — не меньше трёх десятков. Банда из полусотни человек уже должна была отступить, да пожалуй, и сотня отступила бы, наткнувшись на такую упёртую оборону. Сколько бы их не было, но шурави в ущелье явно не стали для них очень большой неожиданностью. А если они ожидали встретить здесь сотню русских, значит их не меньше полутысячи. Вот потому-то и попёрли ещё до заката — решили сначала уничтожить шурави, а ночью спокойно войти в аул и вырезать своих предателей всех до единого. Значит, бой по-настоящему ещё и не начинался, они лишь проверяют оборону шурави на крепость. И вот всё стихло, душманы перестали просачиваться.
— Передай ребятам по цепочке, чтобы готовились к рукопашной, — тихо сказал Ставров лейтенанту — взводному, который залёг в позиции неподалёку.
Вскоре всё началось по-настоящему. Душманы попёрли несколькими упругими потоками, почти не разгибаясь, прыжками от камня к камню, один за другим, непрерывно, волнами. Прыгая, перекатываясь, позволяя себе лишь короткие перебежки под градом пуль, они сами непрерывно стреляли и не наобум, а прицельно. За какие-то десять минут душманы уложили сотни две своих, но и русские падали один за другим — от роты осталось меньше половины. И вот уже первый русский солдат поражал штык-ножом первого душмана — началась рукопашная.
«Аллах акбар», — раздался дикий рык. «Как жаль, что моим парням и заорать-то нечего. «За Родину» — как-то фальшиво, да и какая тут на хрен Родина, а в Бога они не верят», — подумал Ставров, поражая огромного душмана, который вырос буквально из-под земли.
Началось безумие рукопашного боя. «Аллах акбар», — орали моджахеды. Русские парни изредка коротко матерились, орудуя прикладами, примкнутыми штык-ножами, а порою уже и камнями. Вскоре от роты осталось лишь несколько последних ожесточённо сопротивляющихся бойцов. Ставров не знал этого, давно уже сражаясь, как рядовой боец. Он уже терял последние силы, когда увидел перед собой сразу трёх душманов. «Ну вот и всё», — подумал русский офицер. Он направил примкнутый штык-нож в грудь одному из врагов, приготовившись нанести последний в своей жизни удар, но в этот момент почувствовал справа от себя нечто белое. Белого человека. Рыцаря в белом плаще с обнажённым мечём. Ставров не обернулся к нему, он тупо смотрел в изменившиеся лица душманов — куда подевалась наглая самоуверенность. Рыцарь сделал выпад — голова одного из душманов шмякнулась на камни, тут же второй, падая, схватился за грудь, а третий так и не смог удержать руками выпущенные кишки.
Ставров впал в ступор. Он неподвижно замер в той позе, в которой застал его рыцарь, сжимая в руках автомат, готовый нанести удар, но поражать было уже некого. Ставров остекленелыми глазами смотрел, как рыцарь ринулся в бой, поражая окровавленным мечем душманов одного за другим. Его белый плащ красиво развевался, покрываясь красными пятнами, а на левом плече пламенел красный крест — не такой по цвету, как пятна крови. Крест был словно из пламени — переливался, пылал, жил.
За пару минут стремительный рыцарь поразил, наверное, не менее сотни душманов. Остальные бежали — не прячась, в полный рост. Ставров без удивления смотрел на то, что рыцарь идёт к нему. Лицо суровое, но не жестокое, а, напротив, очень доброе. Ясные голубые глаза излучали мир, покой и любовь. «Не бывает таких лиц после боя», — вяло подумал офицер и тупо уставился на бороду рыцаря. Короткая русая борода, казалось бы, ничего особенного, но очень уж она была аккуратная, волосочек к волосочку, словно на картинке — чтобы иметь такую бороду, за ней надо день и ночь ухаживать. Ставров рассматривал удивительную бороду и молчал. Рыцарь улыбнулся тихой детской улыбкой.
— Серьёзных ранений нет? — спросил, наконец, рыцарь.
— Не знаю, — пожал плечам Ставров.
— Позволь, я посмотрю.
— Рыцарь внимательно осмотрел раны офицера на левом плече и в боку.
— Пустяки, — удовлетворительно заключил он. — Только кожа разрезана. Чем бы перевязать?
— В сумке, — равнодушно обронил офицер.
Рыцарь порылся в сумке Ставрова, извлёк бинт, распаковал, удивлённо повертел в руках и восхищённо покачал головой:
— Какой удивительный перевязочный материал.
— Обычный бинт.
— Для вас, может быть, и обычный, а у нас такого не было — тонкий, прочный, ложится, наверное, хорошо. Сейчас попробуем, — рыцарь начал перевязывать Ставрова. — Да, замечательно ложится, — рыцарь опять улыбнулся очаровательной детской улыбкой. Он закончил перевязку в считанные минуты. Его пальцы орудовали так ловко, быстро и сноровисто, как будто он всю жизнь только и делал, что перевязывал раненных бойцов.
Они присели рядом на тёплые камни. Ставров обернулся к рыцарю и глухо спросил:
— Водки хочешь? Возьми у меня в сумке фляжку.
— Водки? Что это?
— Ты, вроде, по-русски говоришь, а что такое водка не знаешь? — Ставров усмехнулся не особо вежливо.
— Я говорю по-русски первый раз в жизни.
— Неплохо у тебя получается для первого раза — чисто, без акцента, — Ставров почему-то ничему не удивлялся. — И какой язык для тебя родной?
— Лингва франка. Прости, брат, я не представился. Командор тамплиеров Эмери д Арвиль. Погиб в битве под Ла-Форби в 1244 году.
— Вона как. Значит, ты — призрак?
— Сам ты призрак. Может быть, хочешь вложить персты в мои раны?
— Персты? В раны? Водки хочу.
— А кто тебе запрещает? Доставай свою водку. Да объясни, что это такое.
— Водка, брат, — Ставров достал флягу, — наиполезнейший продукт. Национальный русский напиток. Душу лечит, мозги на место ставит, если, конечно, употреблять её с осторожностью.
— Понял, — широко улыбнулся рыцарь. — Водка — это ваше вино.
— Только раза в три покрепче вина.
— Да ты что? Вот это пойло!
Они дружно рассмеялись, словно старые друзья. Ставров налил себе стаканчик и опрокинул. Налил рыцарю. И тот опрокинул.
— Ну как? — поинтересовался Ставров.
— Вкус непривычный. А как действует — не знаю. На меня это теперь не действует.
Ставров опрокинул ещё полсотни грамм. Тепло разлилось по всему телу, напряжение схлынуло. В ущелье пришла ночь, но темнота была ласковой и уютной. Рядом с таинственным гостем было хорошо и спокойно на душе. Выдержав паузу, Ставров размеренно спросил:
— Ну рассказывай, дорогой, кто ты есть и как сюда попал. А то я что-то не въехал насчёт тамплиеров. Насчёт того, что ты давно погиб, тоже не вполне понятно.
— Когда-то очень давно я был командором Ордена рыцарей Христа и Храма. Мы сражались с неверными в Палестине, защищали Гроб Господень. Потом мне покалечили в бою правую руку, я вернулся на Родину, во Францию. Занимался финансами Ордена и по финансовым делам вскоре вновь отправился в Иерусалим. Как раз в это время на Иерусалим нагрянули хорезмийцы — мы вновь потеряли Святой Град. Палестинские бароны и рыцарские Ордена собирали все возможные силы, чтобы дать отпор хорезмийцам. Тут уж и я, калека, вновь взялся за меч, я не так уж плохо держал его в левой руке. Под Ла-Форби крестоносцы потерпели страшное поражение, почти все рыцари-тамплиеры были убиты, и я в том числе. При жизни у меня было много грехов, и я не считал себя достойным Царства Небесного, но Господь всё-таки взял меня к себе. На Небесах много воинов, и тамплиеры тоже есть. Теперь мы служим Господу нашему Иисусу Христу вместе с ангелами. С некоторыми ангелами я очень подружился. Они рассказали мне про древнюю битву с полчищами Люцифера, с теми ангелами, которые изменили Богу и стали демонами. Это было страшное побоище. Наши во главе с Архангелом Михаилом победили. А теперь мы вместе — и ангелы, и люди, которые сражались во славу Божию.
Ставров почему-то не усомнился ни в одном слове из того, что услышал. Это было странно для человека, равнодушного к религии. Ему помогло то, что он всегда ненавидел ложь и безошибочно определял даже малейшие её проявления, а в словах небесного рыцаря он не почувствовал ни тени лжи, каждое тамплиерское слово дышало подлинностью, высшей правдой, в которой невозможно было усомнится.
— Значит, это всё правда, что говорят про загробную жизнь, — задумчиво заключил Ставров.
— А разве в этом кто-то сомневается? — удивился Эмери.
— В нашем мире многие не верят в загробную жизнь и в Бога тоже не верят. В моей стране религиозность, мягко говоря, не поощряется.
— Ваши правители отреклись от Бога?
— Да.
— Как же вы с этим живёте? Ведь существование без Бога — это и есть ад.
— Большинству из нас это совершенно безразлично.
Они замолчали. На лице Эмери Ставров даже в темноте различал нечеловеческое страдание. Ангельское страдание. Потом командор начал ронять, казалось бы, спокойные, но очень тяжёлые слова:
— У нас на Небе — иерархия. Мы не можем, когда захотим, приходить к людям. Это возможно, но редко, в особых случаях, если Бог благословит. А я долго-долго молил Бога о том, чтобы он отпустил меня на землю, помочь сражающимся братьям, но ангел-командор всегда говорил мне, что Бог не благословляет, а я по неразумию своему продолжал молить Бога: «Господи, мы здесь блаженствуем, а братья по-прежнему сражаются, они — в крови и грязи, они посреди страданий. Позволь мне, Господи, хоть раз придти к ним на помощь». Я не знал, о чём прошу. У нас на Небе про вашу жизнь, конечно же, хорошо известно, но не всем известно всё, Бог каждому открывает только то, что ему будет полезно. Я, например, не знал, что вы погрязли в безбожии. И вот ангел сказал мне: «Если желаешь — иди, помоги». Я пришёл и теперь не понимаю, зачем. Объясни мне, Владимир, за что вы сражаетесь?
— За народную власть.
— Значит, вы отрицаете власть Бога и утверждаете, что власть должна принадлежать народу?
— Примерно так.
— А за что сражаются ваши противники?
— Они сражаются и умирают во славу Аллаха.
— Но лучше уж поклонятся Богу так, как это делают мусульмане, чем вообще отрицать Бога. Уж лучше бы мне тогда помочь мусульманам, а не вам.
— Ещё не поздно. Прикончи меня и ступай к душманам.
— Кто такие душманы?
— На языке фарси слово «душман» означает «враг». А я думал, ты все земные языки знаешь так же хорошо, как и русский.
— Нет, я вообще не знаю земных языков. Когда меня отправляли на землю, знание русского языка мне сообщили так, как выдают оружие. А знание фарси не сообщили. Значит, я должен сражаться именно на вашей стороне.
— Ну, слава Богу, значит ты меня не зарежешь, — Ставров усмехнулся очень горько и вместе с тем настолько равнодушно, что это, кажется, потрясло Эмери. Небесный рыцарь очень проникновенно сказал:
— Я чувствую, Владимир, что и от тебя исходит это неверие. Я ощущаю неверие так, как на земле ощущал тепло или холод. Но я чувствую и то, что ты не враг Богу. Ты даже очень хотел бы полюбить Бога, но не можешь, не умеешь, что-то тебе мешает. Капризничаешь, как ребёнок.
Ставров внимательно посмотрел в глаза Эмери. Они лучились искренней любовью, небесный гость так переживал за его судьбу, как редко переживают даже за самых близких родственников.
— Наверное, ты прав, Эмери. Сегодня, когда бой начался, слышу, душманы кричат привычное: «Аллах акбар». И так это у них получается мощно, убедительно. А что нам крикнуть в ответ? Неужели «слава КПСС»? Или «за Горбачева»? Не могу даже объяснить, насколько это было бы смешно. Почему-то именно сегодня я обострённо почувствовал нелепость нашего положения. Мы же сами не знаем, за что воюем. Вот вы, тамплиеры, что кричали, когда шли в бой?
— Деус вульт — так хочет Бог. Или тамплиерский девиз: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Ещё был хороший клич: «Здравствуй, Бог — святая любовь».
— Замечательно. С такими словами и умирать легко. А то, знаешь, крайне неприятно чувствовать себя беспомощной жертвой идиотской политической ошибки.
— Значит, ты хотел бы от сердца крикнуть: «Здравствуй, Бог — святая любовь»?
— Хотел бы. Жаль даже, что бой на сегодня закончился. А то бы мы с тобой.
— Бой не закончился, Владимир. Ты знаешь, сколько душманов попёрли сегодня на вашу сотню?
— Не меньше полутысячи.
— Больше тысячи. И половина из них ещё вполне боеспособны. Моё появление заставило их сильно растеряться, но это настоящие бойцы, они уже пришли в себя, перегруппировались и сейчас пойдут на прорыв.
— С тобой — разведки не надо.
— Со мной — ничего не надо. Ты посиди за камнем, а я с ними быстро разберусь.
— Шутишь, брат? Ты будешь сражаться, а я за камнем сидеть?
— Ты пойми, что меня не убьют. В моей жизни это уже было.
— И в моей будет. Почему не сегодня? Отведёшь мою душу к Богу.
— Ты не понимаешь, о чём говоришь. А если твоя душа достанется люциферовой своре? И отведут они тебя туда, где тебе не понравится?
— Думаешь, всё так мрачно?
— Да в том-то и дело, что не знаю. Однако, сам рассуди: ты всю жизнь без Бога прожил, а после смерти хочешь прямо к Богу?
— Да, конечно, я понимаю, что не достоин. Но, может, всё-таки. Ты ведь уйдёшь после боя, со мной не останешься, это понятно. А я-то с чем останусь? И зачем? Может, лучше для меня рядом с тобой умереть? Может быть, это мой шанс умереть за Христа?
— Зачем тебе убивать душманов?
— Да затем, что они идут резать сонных женщин, стариков и детей. Их надо остановить любой ценой. Так хочет Бог.
Эмери улыбнулся так нежно, слово услышал признание в любви. Казалось, он многое хочет сказать своему брату глазами, но вслух он произнёс лишь несколько твёрдых слов:
— Дело говоришь. К тому же, признаюсь, Бог не дал мне права что-либо запрещать тебе. Ты сделал свой выбор, воин. Да свершится воля Божия.
— Они стояли в полный рост перед надвигающимися моджахедами — рыцарь-франк в белом плаще и русский офицер в рваном хэбэ. Рыцарь сжимал в руках меч, офицер — автомат с примкнутым штык-ножом. Ущелье наполнилось возгласами: «Аллах акбар!» — «Деус вульт!». И ещё по-русски: «Так хочет Бог!».
— Я сегодня замучился бинтовать тебя, Володька.
— Не очень-то и хотелось. Я мог бы и сам себя перевязать.
— «Сам». Лежи уж, вояка. Чудом жив остался, а надо повыделываться.
— А ты, Эмери, я смотрю, не слабо по-русски заговорил.
— С кем поведёшься. Не знаю, как теперь и на Небо возвращаться с такими грубыми манерами.
— А ваши тамплиеры всегда такие вежливые были? Ну ты честно-то сознайся.
— Да всякое бывало, — Эмери жизнерадостно расхохотался. — На войне грубеешь, конечно. Но за сквернословие в Ордене строго наказывали.
— Ты ещё не слышал настоящего русского сквернословия.
— Надеюсь, что и не услышу, — Эмери немного стыдливо улыбнулся. — Бог сегодня хранил тебя, все раны — поверхностные. А болеть они должны довольно сильно. Ты неплохо держишься. Тебе бы сейчас нашего тамплиерского отварчика — боль унять. А нету.
— У меня есть кое-что получше. Дай-ка сумку.
— Что это?
— Шприц-тюбик с промедолом. Применяется вот так, — Ставров вколол себе промедол.
Эмери смотрел на процедуру удивлёнными глазами ребёнка, а потом погрустнел:
— Много тут у вас удивительного, а если задумаешься, так и ничего нового. Если же ещё подумать — гораздо хуже стало. Придумали новые способы обезболивания, а Бога потеряли. Изобрели эту погань летающую — пули, а за что сражаетесь — окончательно перестали понимать.
— Одни сражаются за коммунизм, это теория такая, как на земле без Бога рай построить. Другие — ради личного обогащения, а большинство — ради обогащения властителей.
— Наши бароны в Палестине тоже были далеко не святые. Слишком много думали о стяжании земных богатств. Но большинство из них были вполне способны хотя бы изредка испытывать высокие порывы и жертвовать собой ради Бога, ради ближних. Обычный человек всегда мечется между высоким и низким, но чтобы вовсе не знать высокого и даже отрицать его существование. Не могу представить себе такой мир. Я видел ад, мне показывали. Думаю, что ваш мир похож на него. И в земной жизни я видел несколько человек, полностью отрицающих Бога. Это были настоящие чудовища, их за людей-то никто не считал, все шарахались от безбожников, как от прокажённых. А у вас, значит, эти люди власть захватили.
— Так почему же, Эмери, Бог послал тебя на помощь нам, безбожникам? Только потому что в земной жизни ты так же воевал с мусульманами, как и мы сейчас?
— Нет, конечно, не поэтому. Я сначала и сам не понимал, а теперь Бог дал мне это понять. Русский народ заставили отречься от Бога, и многие погубили свои души, поддавшись дьявольскому соблазну, но многие всё же сохранили Бога в своей душе, порою даже неосознанно, но всё-таки сохранили. Я видел, как погибали твои ребята, когда ещё не имел возможность вмешаться в ситуацию. Это же настоящие герои. Люди не могут погибать так жертвенно и самоотверженно, если они совсем без Бога.
— Вся рота полегла. Ты думаешь, души моих ребят пошли в рай?
— Не знаю. Думаю, что далеко не все — в рай. Но некоторые, я уверен, спасли в этом бою свои души, потому что отдали жизнь «за други своя». Не каждому Бог дарует такую прекрасную смерть. И если среди вас есть такие замечательные люди, значит, ваш народ вернётся к Богу, обязательно вернётся. И, может быть, русский народ ещё станет самым верным Богу из всех народов Европы, которые некогда были христианами. Потому, наверное, Бог послал меня на помощь вам — не ради вашего настоящего, а ради вашего будущего. Мне даже кажется, что в этой войне Высшая Правда всё же на стороне русских. Правда, искажённая подлыми политическими теориями, но всё же продолжающая теплиться, как уголёк под толстым слоем пепла. Русский народ ещё станет народом подлинно рыцарским. Не случайно ведь Бог послал к тебе не кого-нибудь, а рыцаря Христа и Храма.
— А я ведь, действительно, хотел погибнуть в этом бою. Но Бог не дал мне смерти. Странно, но я даже не очень этому рад. Роту погубил, а сам, видишь ли, целёхонек. Ты мог бы спасти всю нашу роту, если бы прибыл к началу боя.
— Я ничего не мог без Бога. А почему Бог попустил твоей роте погибнуть, а тебе выжить — мне неизвестно. Но не сомневайся — так лучше для каждого из твоих бойцов и для тебя тоже. Бог каждому даёт то, что для него лучше всего. Помни об этом всю жизнь, Володя.
— Ты сейчас уйдёшь, Эмери?
— Да, мне уже пора.
— Расскажи хоть немного, как там у вас, в Царстве Небесном.
— Не могу.
— Запрещено?
— Нет, ангел-командор не запрещал мне рассказывать. Но это невозможно. Опираясь на земные аналогии, используя земной язык, невозможно сообщить хотя бы некоторое представление о Царстве Небесном. Но поверь — там очень хорошо. Там все очень любят друг друга. Потому и хорошо. Там только те, кто умеет любить. Но тебе надо думать не о том, как там, а о том, как туда попасть.
— Буду думать. А может водочки на посошок?
— Ничего умнее русский офицер, конечно, не мог предложить. Ну давай, накатим по стольнику, если тебе так хочется.
Они выпили. Эмери — с явным неудовольствием, которое, впрочем, постарался скрыть от Ставрова.
— А не досадно тебе, Эмери, что на тебя теперь спиртное не действует в положительном, так сказать, аспекте?
— Дурак ты, Володя, — тепло и добродушно сказал Эмери. — По сравнению с радостью Царства Небесного, удовольствие от спиртного похоже, скорее, на пытку. Да я и при жизни вино не очень любил, и ты не привыкай. Учись радоваться чистой радостью, которая невозможна без Бога. Тогда и после смерти всё будет хорошо. Научись радоваться.
«Научись радоваться» — Ставров потом всю жизнь помнил эти слова Эмери д'Арвиля, командора Ордена тамплиеров.
— Поздравляю вас, капитан Ставров, — лысый полковник источал самодовольство. — Вы представлены к званию героя Советского Союза.
— Отзовите представление, товарищ полковник, — устало и равнодушно попросил Ставров. — Я не приму этого звания.
— А разжалование и дисбат — примешь? — злобно прошипел полковник.
— Приму, — тихо и всё так же равнодушно заключил Ставров.
— Борзой ты, капитан. Ты что, не понимаешь, что на твой дурацкий подвиг можно было совсем по-другому посмотреть? Роту погубил, без цели и без смысла. Возможно, снюхался с душманами. Не случайно ведь сам-то в живых остался. Но генерал захотел сделать из тебя героя. Это потому, что ему так выгодно, а не потому что ты такой красивый. А ты ещё и выдрючиваешься. Но смотри, всё можно ещё и перерешить. Если ты, и правда, очень хочешь в дисбат — не проблема.
— Если честно, товарищ полковник, я не хочу быть штрафником. И героем тоже не хочу быть.
— Чего же ты хочешь, чудило?
— Отставки.
— Ну тогда моли Бога о том, чтобы без проблем уйти в отставку.
— Буду молить Бога.
Что такое отставной офицер с нищенской пенсией посреди Москвы? Его будущее стоит не дороже, чем пустая жестянка из-под пива. Пока он пластался в Афгане, жена ушла к богатенькому кооператору, да ещё каким-то хитрым образом завладела квартирой, в которой теперь жили другие люди. Узнав, что ни жены, ни жилья у него теперь нет, он не пытался вернуть ни того, ни другого. В Афгане он почти не тратил зарплату, скопив весьма приличную сумму — хотел купить жене какой-нибудь ошеломляющий подарок. Теперь ему было на что снять комнату в коммунальной квартире.
Утрата всего, что он имел в этой жизни, кажется, совершенно не тронула душу Ставрова. Ему даже казалось, что так и надо — потерять разом всё, чем он когда-то дорожил, потому что жить по-прежнему теперь уже всё равно невозможно. После встречи с Эмери ничто уже не могло быть так, как было. Он стал другим. Но каким? Ставров не чувствовал в себе ни отрешённости, ни опустошённости, ни отторжения от мира. Он, напротив, сильнее прежнего рвался навстречу жизни, отнюдь не пытаясь от неё спрятаться. Он лишь понимал, что его место в этой жизни не может быть прежним, а каким оно должно быть, его место, он не знал. Он испытывал огромный прилив энергии, не представляя на что её употребить. Впрочем, это не была растерянность, ведь главное было ему известно — он хочет быть с Богом.
Прежде всего Ставров накупил православной литературы и за пару месяцев на одном дыхании проглотил целую библиотеку. Перед ним открылся огромный сияющий мир, к которому принадлежал Эмери, и к которому он тоже хотел принадлежать. Ставров начал ходить в храм, регулярно исповедуясь и причащаясь. Но он не пытался познакомиться ни со священником, ни с кем-либо из прихожан. Мысль о том, чтобы как-нибудь пристроиться при храме, даже не посетила его. Не потому, что здесь ему не нравилось, очень даже нравилось, но он чувствовал, что его путь пролегает среди бурного мира, а сюда, в эту тихую обитель, он должен приходить лишь время от времени.
Ставров гулял по улицам новой Москвы, которая принадлежала теперь племени ранее не ведомому — кооператорам. Странное племя советских бизнесменов вскоре перестало быть для него загадкой. Он любил накупить свежих газет и пристроиться где-нибудь в недорогом кафе, постигая жизнь через колонки новостей и всматриваясь в лица. Лица рассказывали даже больше, чем газеты.
Он не хотел жить одной жизнью с этими людьми, совершенно не разделял их ценности и устремления, но вместе с тем он не испытывал ни капли презрения к ним и даже хотел быть среди них, оставаясь при этом самим собой.
Ставров часто вспоминал Эмери. Иногда ему казалось, что небесный рыцарь просто пригрезился ему в отключке. Был страшный бой, а через сутки после боя его нашли в ущелье — единственного живого среди русских и афганских трупов. Он был весь изранен, но тщательно перевязан, хотя мог и сам себя перевязать уже почти в беспамятстве, перед тем, как отключиться. Душманских мертвяков никто особо не рассматривал, и позднее уже трудно было сказать не было ли на них ран, нанесённых старинным мечём. Рота солдат с большим боевым опытом, да на хороших позициях вполне могла остановить несколько сотен душманов. Не было ни одного материального подтверждения того, что русским кто-то помог. Вот только лицо Эмери постоянно стояло перед глазами — очень живое, реальное, вплоть до мельчайших черточек. Образы из снов так не запоминаются. И почти все слова Эмери он помнил едва ли не дословно. Таких длинных и так детально запомнившихся снов он не видел никогда в жизни.
В конечном итоге Ставров решил, что вопрос о степени реальности Эмери просто не имеет никакого значения. Было ли это явление из мира иного потерявшему сознание раненному, или это явление произошло раньше, когда раненный был ещё в сознании — так ли важно? В любом случае, он не сомневался, что это было явление из иного мира. Уже хотя бы потому, что раньше знал о тамплиерах только из романов Вальтера Скотта, то есть ничего хорошего он о них не знал, а Эмери был прекрасен.
Ставрова даже мысль не посетила о том, чтобы стать каким-нибудь современным тамплиером. Он просто хотел стать похожим на Эмери. Таким же сильным и добрым, мужественным и чутким, решительным и возвышенным. Такова была цель. И сейчас он смотрел на москвичей, торговавших и плутовавших, веселящихся не по делу и рыдающих от всякой ерунды, так, как мог бы смотреть Эмери, то есть добрыми глазами, без гнева и презрения, с грустной и светлой улыбкой.
Задача была понятна — защищать простых людей, как защищали их тамплиеры, но каков путь? Что тут может придумать современный боевой офицер? Наконец, он придумал.
— Хочу предложить вам свои услуги в качестве начальника охраны, — Ставров немного хищно улыбнулся и пристально посмотрел в глаза хозяину небольшого магазинчика на вокзальной площади. Он зашёл далеко не к первому попавшемуся кооператору, выбирая потенциального нанимателя долго и тщательно. Выбрал именно этого, потому что у него, в отличие от других, были глаза мужчины.
— Мой кооператив не имеет проблем с обеспечением безопасности, — предприниматель твёрдо и немного насмешливо глянул на странного посетителя.
«Не рассмеялся и не послал куда подальше, — подумал Ставров, — значит, чувствует тему».
— Не проблема, конечно, отдавать за безопасность 15 процентов с прибыли. А завтра, может, станет 25? И никаких гарантий. Ты думаешь, что имеешь крышу? Это крыша имеет тебя.
— Ты кто такой, мужик?
— Офицер. Афганец. Трёхлетний опыт непрерывных боевых действий. Могу подтянуть для твоей охраны таких же боевых мужиков. Мы не предлагаем себя в качестве крыши. Мы будем охраной в штате твоего предприятия. Работать будем за зарплату. Твои расходы на безопасность снизятся минимум в 10 раз.
— Пойдём-ка в подсобку. Примем по коньячку.
В подсобке кооператор извлёк из сейфа бутылку коньяка и с насмешкой сказал:
— «Хенесси». Пробовал такой?
— Не приходилось, — по-детски улыбнулся Ставров.
— Тебе не стоит привыкать к такому коньяку, но с одной дозы не подсядешь, так что давай.
Выпили. Присели. Хозяин закурил.
— Ты знаешь, кто меня крышует?
— Шерхан, — Ставров опять улыбнулся.
— И ты думаешь устоять против пацанов Шерхана? Они покромсают твоих вояк в лапшу, а меня обложат дополнительной данью, а то и вовсе точку сожгут, чтобы другим не повадно было рыпаться.
— Блатные — не бойцы против людей с реальным боевым опытом. У нас очень хорошие шансы на то, чтобы смять пацанов Шерхана. И ещё вот что учти — Шерхан сам по себе, если его смять — никто не заступится. И тогда ты сможешь стать реальным хозяином своего дела.
— Заманчиво, — опять усмехнулся кооператор, — только ставка очень большая. Вы проиграете — мне конец. К тому же Шерхан — пацан правильный. Его быки не беспредельничают, грех жаловаться. А от добра добра не ищут.
— Одна только маленькая деталь. Ты для Шерхана не только не мужчина, но и вообще не человек, потому что ты — барыга. У тебя дети есть?
— Двое.
— Жаль, что у твоих детей нет отца. Отцом может быть только мужчина.
Кооператор побледнел, на его скулах заходили желваки. Он молчал, понимая, что вполне заслужил оскорбление и крыть ему нечем. Потом всё же заговорил:
— А почему ты не хочешь создать свою бригаду? Многие афганцы так и делают. Зачем тебе горбатиться за зарплату? Ты какой-то непонятный, а от всего непонятного я стараюсь держаться подальше.
— А мне не нравится бандитский порядок. Плохой порядок. Неправильный. Нельзя относиться к людям, как к баранам. Я хочу работать на человека, которого уважаю. На равных — без «барыг» и без «быков». А много денег не надо. Они ничего не дают. В жизни есть вещи куда получше твоего дорогого коньяка, причём — совершенно бесплатно. Но это долгий разговор. Ты принимаешь моё предложение?
— Приходи завтра в это же время. Обсудим детали.
Ставров не мало узнал о Шерхане, но никогда раньше не видел его. Сейчас его поразило лицо этого человека. Совершенно не бандитское лицо, без тени наглого тупого высокомерия, без гнилой улыбочки, столь свойственной блатным. Очень спокойное лицо совершенно бесстрашного воина. В глазах — сталь, а на губах — грустная улыбка.
Ставров с пятью афганцами перегородили вход в магазин. Шерхан подтянулся так же с пятью быками. Лидеры сделали по несколько шагов навстречу друг другу.
— Ты кто? — равнодушно спросил Шерхан.
— Ставров, — офицер слегка пожал плечами.
— Неплохо для начала, — Шерхан тяжело вздохнул. — Хочешь взять эту точку под себя?
— Уже взял.
— Сильно сказано. А чем за базар ответишь?
— Кровью. Или своей, или твоей.
— Уважаю, — так же равнодушно обронил Шерхан и подал знак своим. С двух сторон одновременно щелкнули затворы пистолетов и блеснула сталь ножей.
Такое погоняло просто так не получить. Шурка стал Шерханом после охоты, на которую они отправились с пацанами. Охотиться всерьёз никто не собирался, больше дурачились. И надо же так было случится, что эта почти бессмысленная забава превратилась в реальное дело.
Пацаны травили анекдоты и ржали, Шурка больше молчал, вяло прочёсывая взглядом лес. И вот увидел, что на него большими упругими прыжками несётся огромный волк. Волк нёсся именно на него, словно выбрал единственного достойного противника. Шурка даже не вздрогнул, его губы медленно растянулись в улыбке, словно он всю жизнь ждал этой встречи. Ружьё он держал на изготовку, оставалось лишь взвести курки и вмазать дуплетом по волку, но это ему и в голову не пришло. Он отбросил ружьё, как ненужный предмет, который будет мешать ему в единоборстве, и рефлекторно принял стойку. Шурка почему-то знал, как держать руки и что надо делать, чтобы победить волка. Хищник прыгнул, оскалив пасть, приготовившись сомкнуть челюсти на горле человека. Как изумительны были жёлтые глаза могучего животного… Пальцы человека сомкнулись на мощной шее волка. Правильная стойка помогла Шурке почти полностью погасить силу прыжка, но он всё-таки не удержался на ногах, и они упали на землю. Волк так и не смог дотянуться зубами до человеческого горла. Железные пальцы сокрушили волчью дыхалку. Через минуту всё было кончено.
Шурка поднялся на ноги и, не отрываясь, смотрел на поверженного противника. Волчья туша выглядела теперь какой-то бессмысленной, а мёртвый оскал — глупым. Только что в этом благородном звере было всё, а теперь ничего нет. Шурка всем нутром ощутил, как отвратительно убийство. В те несколько секунд, когда волк летел на него, Шурка успел его полюбить. Но у них не было шансов подружиться. Кто-то должен был умереть. От этой мысли стало невыносимо тошно, хоть волком вой. И завыл бы, обязательно завыл бы, если бы не пацаны, которые оцепенели неподалёку.
Пацаны, все, как один — ребята очень смелые, явно были в шоке и не знали, что сказать. Наконец, один из них выдавил из себя:
— Ну ты… Шерхан.
Шурка молча глянул на товарища, на губах победителя играла недобрая волчья улыбка, словно в него вошла душа поверженного зверя. Всем было не по себе, но пацаны чувствовали, что молчать нельзя. Один из них брякнул:
— Щас шкуру снимем, классный у тебя будет трофей.
— Толян, а ты хотел бы, чтобы с тебя, с мёртвого, после разборки шкуру сняли?
Пацаны напряжённо хихикнули.
— А чё делать будем, Шерхан?
— Похороним. Ройте яму. Сил моих нет смотреть на мёртвого волка.
Вот так Шурка и стал Шерханом.
Его отец погиб, когда ему было 6 лет. Отец был офицером, кажется, какого-то спецназа и погиб где-то в Африке. Шурка толком ничего про отца не знал и помнил его лишь по двум коротким отпускам между длительными командировками. Помнил, например, как они вместе ходили в зоопарк, и отец с детским восхищение смотрел на зверей, рассказывая сыну про характер каждого зверя.
— Папа, а мне их жалко. Мы их как будто в плен взяли, и они мучаются.
— Ты прав, сынок, — отец тяжело вздохнул. — Сильного и вольного зверя горько видеть в плену. Но они и в плену остаются собой. Мы многому можем у них научиться. Только надо уметь видеть.
Потом, уже взрослым, Шерхан любил бывать в зоопарке. Он учился у зверей, внимательно наблюдая на их поведением, и вспоминал отца.
Отец учил его: будь сильным, будь храбрым, будь справедливым, никогда не ври.
— Совсем-совсем никогда? А я сделаю что-нибудь неправильно, скажу тебе правду, и ты меня накажешь.
— Накажу, — вздохнув, согласился отец. — А ты боишься наказания? Запомни, сынок, врут только трусы.
— А быть справедливым — это как?
— Это когда всё по заслугам. За хороший поступок — награда, за плохой — наказание. Если кто-то страдает без вины — это несправедливо. Или, например, человек ничего хорошего не сделал, а ему — бочку варенья и корзину печенья. Тоже несправедливо.
Так мало было этих разговоров с отцом, а потому память о каждом из них стала драгоценной. Отец погиб, мать, страдавшая врождённой болезнью сердца, не выдержала горя и вскоре умерла. Шурка попал в детский дом.
Здесь всё было несправедливо. Старшие ребята били младших, издевались над ними, отбирали немногочисленные и убогие ценности. Воспитатели были равнодушны и грубы. Шурка покорялся до времени и тем, и другим, но твёрдо знал, что когда вырастет и накопит силу — всё будет по-другому. Он не обидит и не унизит никого из тех, кто слабее его, он будет их защищать, и воспитатели тоже узнают, что несправедливость по отношению к детям не останется безнаказанной.
Так и вышло. К 14-и годам он обладал среди воспитанников детского дома непререкаемым авторитетом. Для младших Шурка стал олицетворением высшей правды. Он не только никого из них не обижал, но и помогал разруливать конфликты, постоянно возникавшие в детской среде. Все знали, что Шурка не только справедлив, но и жесток. К жестокости он привык, будучи неоднократно и бесчеловечно битым старшими ребятами, когда ещё был маленьким. Жестокость казалось ему нормой, он лишь полагал, что она должна быть справедливой. Однажды к нему притащили десятилетнего мальчонку, который что-то украл у своего товарища. Шурка помрачнел, как грозовая туча и начал медленно ронять увесистые слова:
— Что же ты, гнида, у своих крадёшь, товарищей обижаешь? Украл бы у Кабана — он всё равно не человек, у него можно. Но ты боишься Кабана, а друзей, значит, не боишься? Снимайте с него штаны.
Шурка достал из-под подушки солдатский ремень, намотал его на руку и начал охаживать наказуемого металлической бляхой по голой заднице. Бил в полную силу, долго, явно не получая от этого никакого удовольствия, но что поделаешь — работа есть работа. На дикие вопли не обращал внимания. Наказанный пацанёнок потом очень долго не только сидеть не мог, но даже ходил с трудом. После нескольких подобных экзекуций мелкие кражи в детском доме полностью прекратились.
Кабан, про которого вспомнил Шурка, был воспитателем — самым грубым и бессердечным из всех. Однажды при Шурке он отвесил затрещину мальчонке только за то, что тот не успел вовремя уйти с его дороги. Сбитый с ног мальчонка при падении сильно ударился головой о железную кровать.
— Что же ты, Кабан, малышей обижаешь? — сквозь зубы процедил Шурка.
— Кто тут Кабан?!
— Это ты. Жирная дикая свинья.
— Я доберусь до тебя, щенок!
— Добиралка у тебя слабовата. Ты за всё заплатишь.
Дождавшись ночной смены Кабана, ему устроили тёмную. Навалились гурьбой, связали полотенцами, одно полотенце затолкали в рот.
— Слушай меня внимательно, мразь, — холодно и спокойно начал Шурка. — Малышей ты больше обижать не будешь, — он достал заточку и медленно начал протыкать ею скрещенные ладони связанных рук. Кабан сильно трепыхался, но на нём сидели двое, а кляп во рту позволял только мычать. — Для начала с тебя хватит, — сказал Шурка, спокойно вытирая заточку о штаны Кабана. — В следующий раз, если ты ничего не понял, проткну что-нибудь посущественнее. А если попытаешься на нас стукнуть — тебе не жить. Лучше бы тебе уволиться, а то противно на твою рожу смотреть.
На следующий день Кабан уволился, никому ни о чём не рассказав. Другие воспитатели догадывались о том, что произошло, но доказать ничего не могли. И теперь уже все, включая взрослых, смотрели на юного волчонка с уважением и страхом.
— А я знаю, что сегодня на обед будет, — мечтательно протянул один детдомовец, но, не сумев заинтриговать этим заявлением своих друзей, выдал щемящую тайну, — что-нибудь такое с тушёнкой.
— Ты думаешь, твои сны всегда сбываются? — иронично бросил Шурка.
— Если честно, то мои сны вообще никогда не сбываются, — грустно признался пацан, но, тут же повеселев, продолжил, — Я своими глазами видел, как на наш склад завезли несколько ящиков тушёнки.
Теперь уже повеселели все, не часто им доводилось лакомиться этим советским деликатесом. Но ни на обед, ни на ужин ничего из тушёнки не подали, так же как и всю ближайшую неделю. Их продолжали кормить супом из пакетов и кашей, изредка радуя рожками с хлебной котлетой. Над пацаном, наблюдавшими разгрузку тушёнки, все смеялись. Поверил ему только Шурка, он чувствовал, что парень не врёт.
— Значит так, бродяги, — Шурка по-деловому открыл заседание своего высшего совета. — С хавкой у нас что-то не так. С завтрашнего дня устанавливаем непрерывное дежурство у склада. Внимательно следим, что разгружают из машин, всё записываем. О результатах докладывать мне каждый день перед отбоем.
Вскоре они уже твёрдо знали, что в детдом регулярно поступает не только тушёнка, но и свежее мясо, а так же сгущёнка и даже вишнёвый компот, которого они и в кино не видели. Шурка строго-настрого приказал всем молчать о результатах расследования, заверив общественность, что разберётся с этой проблемой.
— Трудно будет разобраться, Шура, — сказал авторитету его ближайший помощник, когда они остались вдвоём. Директор — не Кабан, ему тёмную не устроишь. И разберётся он с нами покруче Кабана, если что. Может, ментам стукнуть?
— Западло. Да и не в том дело, что западло. Они ведь все — одна компания. Ты думаешь, наш директор в одиночку деликатесами обжирается? Он и ментов подкармливает, можешь быть спокоен. Я эту гнусную породу знаю.
— Но сами мы ничего не сделаем.
— У тебя кореша среди беспризорников есть?
— Не то что кореша. так, встречаемся.
— Где ошиваются?
— На привокзальной площади.
— Чем промышляют?
— Карманники и попрошайки.
— Кому дань платят?
— Вот ты куда загнул. Говорили что-то такое. Бизон вроде бы.
— А под кем Бизон ходит?
— Ну это уж ты, Шура не у меня спроси.
— У Бизона и спрошу.
— Он же с тобой разговаривать не станет.
— Ещё как станет.
С ним стали разговаривать. Стальной блеск в глазах, спокойная и твёрдая уверенность в себе, жёсткая деловая манера общения, помогли Шурке по цепочке выйти на реального вора — Квадрата.
— С чем пожаловал, малец? — снисходительно и жёстко улыбнулся Квадрат. Широкие плечи и низкий рост делали его и впрямь почти квадратным.
— Тема есть. Директор детдома детскую хавку зажиливает. Жрёт нашу тушёнку, сгущёнку и даже не делится.
— Серьёзная предъява. Чем докажешь?
Шурка извлёк тетрадь в клеточку:
— Здесь всё расписано. Слева в графе — какая хавка поступила на склад за месяц, а справа — что было в меню.
Вопреки шуркиному ожиданию, вор очень внимательно прочитал все записи и с удивлением посмотрел на собеседника.
— За месяц — это только для примера. Могу представить данные за несколько месяцев, — решил добавить Шурка, ёжась под тяжёлым воровским взглядом.
— Конкретно поработали, пацаны, — рассудительно проговорил Квадрат. — Сука ваш директор. Но что если в этой тетрадке фуфло? — вор повысил голос, его глаза, острые, как две заточки, впились в шуркину душу.
— Отвечу по понятиям, — сказал Шурка, не дрогнув.
— Тебе сколько лет?
— Пятнадцать.
— И что ты хочешь, пятнадцатилетний капитан?
— Нам сейчас достаётся где-то процентов 20 нормальных продуктов. Остальное берёт себе сука. Я предлагаю так: вы с ним поработаете и за это будете брать 20 процентов продуктов. Остальная хавка пойдёт в нашу столовую. А сука перетопчется.
— Ты за кого меня держишь, пацан? — усмехнулся Квадрат. — Что же я, по-твоему, буду у детишек пайку отбирать?
— Но мы сами предлагаем. Мы просим — возьмите нас под себя. Это ж просто так не бывает.
— Хорошо говоришь, — протянул Квадрат задумчиво и несколько даже сентиментально. — Такая смена подрастает, просто удивляюсь. Тебя как зовут?
— Шура.
— Значит так, Шура. Мы эту тему пробьём. Я тебе верю, но порядок есть порядок. Если всё так, как ты говоришь — вопрос решим. С вас ничего не возьмём, вся хавка пойдёт на вашу кухню. А за работу с нами ваш начальник рассчитается.
Директор детского дома лежал в углу гаража с окровавленным лицом. Сильно его не били, только нос расквасили, да пару раз врезали под дых, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы привести трусливую жирную мразь в состояние совершенно исступлённое. Квадрат привёл Шурку в гараж, где с директором работали двое блатных.
— Мы, Шура, поговорили с этим человеком, — рассудительно начал Квадрат, — и вот что нам удалось выяснить. Всё дело в том, что он не любит детей. А это очень плохо, когда директор детского дома не любит детей. Я правильно говорю, бродяги? — блатные оскалились и закивали, а Квадрат продолжил: — Душа у него гнилая, и тут уж ничего не поделаешь. Но он обещал нам изменить своё отношение к работе. Сказал, что больше не будет жрать детскую тушёнку, а если будет, то обязательно вместе с жестянкой, — блатные сдержанно хихикнули. — Ты доволен, Шура, или ещё есть вопросы?
— Нет. Благодарю.
— Может быть, хочешь пнуть эту мразь пару раз?
— Не вижу смысла.
— Хорошо говоришь, пацан. Никогда не надо делать того, в чём нет смысла. Учитесь, бродяги.
Квадрат поставил Шурку смотрящим за детдомом. Это отнюдь не было потешным или почётным назначением. Шурка вполне осознавал, что на него легла полная ответственность за всё, что происходит в этих стенах. Завоз продуктов они контролировали, теперь всё шло на кухню. Ни один воспитатель теперь не мог обидеть ни одного воспитанника. За этим следили строго. Одного педагога уличили в приставании к юным воспитанницам. По рекомендации Шурки люди Квадрата кастрировали этого «педагога», чтобы избавить его от соблазнов и всем прочим преподать урок нравственности. А вскоре в детском доме сделали ремонт. Деньги, и раньше на ремонт выделявшиеся, на сей раз украсть не удалось.
Прошло 3 года, покидая детдом, Шурка напутствовал директора: «Тревожно мне оставлять вас без присмотра, Николай Николаевич. Нет уверенности, что честность уже вошла у вас в привычку. Так что я буду иногда заходить. Не расслабляйся, сука», — Шурка очаровательно улыбнулся. Директор молчал, мрачно и сосредоточенно глядя в стол.
Квадрат отдал Шурке, вскоре ставшему Шерханом, привокзальную, площадь. Пришлось немало попотеть, выкорчёвывая здесь беспредел, в первую очередь — ментовской. Беспредельных ментов сливали в ментовскую же ССБ или прокуратуру, а если не помогало — в прессу. Постепенно на площади остались только честные менты, которым служилось здесь очень легко — порядок был и без них. Они, правда, не могли заработать здесь ничего, кроме зарплаты, но Шерхан время от времени баловал мусорню премиями за честность: то ящик водки выставит, то подарит всем по блоку дорогих сигарет, а иногда и деньжат подбросит, особенно многодетным ментам, которым реально трудно было выживать на зарплату.
— С мусорнёй дружбу ведёшь, Шерхан, — напрягся Квадрат, — не по понятиям.
— Всё по понятиям, Квадрат. Это они у меня с руки едят, не я же у них. Моих барыг никто не может иметь кроме меня, и если я сумел мусорню укоротить, так кому от этого плохо? А барыги мои платят исправно, и в общаг я отстёгиваю не слабо.
— И барыг ты, говорят, жалеешь, — кряхтел Квадрат, — они могли бы больше платить.
— Как положено платят, 15 процентов с оборота. А больше — это уже беспредел.
— Ты что, Шерхан, решил мне беспредел предъявить?
— Никаких предъяв. Ты спросил — я ответил. Если у тебя сомнения — подними вопрос на сходняке.
— А девочек почему на площадь не пускаешь?
— Мне смотреть на них противно. И ты знаешь, Квадрат, что по понятиям с девочек хавать стрёмно.
— Ладно, Шерхан, не будем ссориться. Только дивлюсь я на тебя. Вроде бы ты правильный пацан, а если присмотреться — мужик.
Шерхан молча пожал плечами и улыбнулся.
— А как ты думаешь, Шерханушка, почему я тебе тогда помог с детским домом?
— Разве ты помог мне? Ты за детей заступился. Поступил, как честный вор. А я с этого навара не имел — одни хлопоты.
— А то, что площадь под тебя отдал? За это ты тоже не хочешь старика поблагодарить?
— Ты знаешь, Квадрат, что не прогадал. Ты очень хорошо знаешь, что я никогда не буду крысятничать и никогда тебя не подставлю, не кину. Кто-то может быть, и больше отстегнул бы тебе с площади, а ты бы постоянно ждал ножа в спину. А со мной ты спокоен.
— Согласен, Шерхан, уверенность в друге, спокойствие — дорого стоят. Я ведь старый уже, не такой шустрый, как раньше был, а ты мне спину прикрываешь. Ты не кинешь, я знаю. А вот смотрю на тебя и напрягаюсь. Не могу понять почему.
Шерхан всегда был сам по себе, но понятия уважал и воров чтил. Воровская идея казалась ему выражением природной глубинной справедливости, которой он за всю жизнь ни у кого больше не нашёл. Детдомовское детство твёрдо убедило его, что любой представитель государства — враг. Государство для того только и существует, чтобы паразитировать на людях, выжимать из них все соки, унижать и топтать ногами. Все эти ничтожества от мента до министра только и делали, что хапали и наслаждались своим превосходством над простыми людьми. Сейчас государство провозгласило новую политику и стало поощрять частную инициативу. Может быть, честным людям стало от этого лучше? Ничего подобного. Новыми хозяевами жизни на глазах становились барыги — ничтожные, трусливые, жадные, такие же, как и власть их породившая. Воры презирали и государство, и барыг. Воры ничего не боялись и ни перед чем не останавливались, отстаивая свои представления о чести и справедливости. Это очень нравилось Шерхану.
Вор не работает не потому что ленив. На самом деле управление арестантским миром одной только Москвы требует куда больше сил и способностей, чем управление всей милицией Союза. Любой вор мог, не напрягаясь, заменить любого министра, при этом дел у него поубавилось бы и жилось бы ему полегче. Воровской отказ от работы вызван вовсе не желанием облегчить свою жизнь, а пониманием того, что государство у нас — поганое, нечеловеческое, и пахать на него могут только дураки, трусы и подлецы. Вор идёт на постоянный риск, претерпевает порой невероятные лишения, отказывается от многих человеческих радостей и берёт на себя бесчисленные заботы только для того, чтобы не замарать себя сотрудничеством с этим государством. И простых людей вор никогда не обижает, а, напротив, заботиться о них куда больше, чем ментура. Как сказал один законник: «Мы воры, а не крадуны, нам красть некогда, у нас на груди крест, а за спиной — мужики-горемыки».
Вор ворует не для того, чтобы быть богатым и купаться в роскоши. Настоящий вор богатством пренебрегает и роскошью брезгует. Вор вообще не имеет собственности, всё необходимое для жизни получая из общака. На сходняках воры пьют из стальных кружек, хотя могли бы пить из золотых кубков. Контролируя огромные капиталы, воры не считают эти деньги своими. Общак идёт на поддержку честных арестантов, на адвокатов, на грев зон, на помощь родственникам, на поддержку тех, кто недавно откинулся с кичи. Вор не имеет семьи. Ему некогда заботиться о жене и детях, он всю свою жизнь отдаёт блатному миру. А кроме того, женщины размягчают душу. Мужчина начинает думать о том, как угодить своей красавице и постепенно всё меньше думает о братьях, которые на него полагаются.
Вор по сути своей — судья. Он судит не по личному произволу, а по воровскому закону. Если один вор не может развести тему по понятиям, вопрос выносят на воровской сходняк, там все имеют право на защиту, и приговор выносят только на основании бесспорных доказательств. Действие воровской справедливости неотвратимо. Любой осуждённый ворами уже мёртв. Но вор не любит убивать. Правильный вор не только сам не возьмёт в руки оружие, кроме случаев крайней необходимости, но и других на убийство не подпишет, если речь не идёт об исполнении решения сходняка, а тут уж не вор убивает, а закон.
Конечно, Шерхан прекрасно видел, что большинство воров живут не понятиям. И в роскоши они купаются, и думают о себе гораздо больше, чем о братве, и убивают без приговора сходняка, и мужиков обижают. Это не нравилось Шерхану, но он понимал, что есть идея, а есть люди. Идея сильна, а люди слабы. Менты, можно подумать, все как один верны своей «ментовской идее» — защищать трудящихся. Трудящиеся давно уже видят в ментах не защитников, а источник опасности. Неправильные воры встречаются куда реже, чем неправильные менты. И у вора мужик найдёт справедливость гораздо быстрее, чем у мента. Воровской закон сильнее закона государственного, потому что воровской — рождён народом, а государственный народу навязан.
И всё-таки Шерхан не хотел воровской короны, хотя очень уважал коронованных воров, и о том, чтобы брезговать короной с его стороны и речи не шло. Он, однако, считал, что никакая корона не сделает его тем, кем он не является, не поднимет его на новую высоту. И на высоте уже достигнутой не удержит. Братва и так его уважала. Конечно, корона была не только признанием заслуг, она давала новые права вместе с новыми обязанностями, но этого он хотел ещё меньше. Если он удержит площадь на высоте того порядка, который смог навести — и то будет немало, а расширяться, грести под себя всё больше и больше — это тупиковый путь. Чем больше у тебя власти, тем слабже твоя власть. Так он считал.
Шерхан лежал на козырной шконке в камере СИЗО и думал. Спокойно думал, без напряжения, без нервов. Времени у него было предостаточно, помешать его размышлениям никто не посмеет — наилучшие условия для того, чтобы чётко разложить по косточкам всё, что ему известно.
Менты повязали его в тот самый момент, когда он получал с коммерса деньги. Секунда в секунду подошли, значит, всё знали заранее. Кто его слил? Каждому из своих пацанов он верил безусловно. И ни одному из них не было смысла рыпаться на Шерхана, они знали, что без него им будет хуже, чем с ним. Кто-то из них захотел встать на его место? Ни один не имел для этого достаточной силы. Он поочерёдно вспомнил лица всех своих пацанов, какие они были последнее время, и понял — не они. Вокзальные менты? Это уж и вовсе смешно. Они слабые. И резона у них тоже нет. Но слабый может трусливо из-за угла нанести удар сильному. Конечно, может. Только сильный всегда чувствует рядом с собой того, кто может осмелеть с перепуга. Он вспомнил лица ментов. Не они. И вдруг перед ним встало лицо Квадрата. Вот это уже теплее. Нехорошее лицо у него было последнее время. Квадрат перестал предъявлять Шерхану претензии по поводу порядков на привокзальной площади и даже стал подчёркнуто ласковым, а в глазах появилась угроза. Квадрат — сильный и очень осторожный человек, но недостаточно тонкий, чтобы скрыть угрозу, появившуюся в его глазах. Шерхан прокрутил в памяти все их встречи за последнее время, стараясь припомнить все жесты, взгляды, мимолётные выражения лица. Он понял, что Квадрат держал себя неестественно. Постепенно пришла уверенность, что именно старый вор его и слил.
Действовал, наверное, через кого-нибудь из пацанов Шерхана, но это не имеет значения — сломать можно любого. Значит, Квадрат. Но зачем? Старый дурак под собой сук рубит. Но ведь Квадрат умный, он понимает это. Так зачем же? Шерхан долго думал и понял, что вопрос надо ставить иначе. Не «зачем?», а «почему?». Потому что Шерхан — чужой. Правильный, но чужой. Квадрату было тяжело, почти невыносимо рядом с Шерханом, и он решил избавиться от этой тяготы. Вор слил ментам правильного пацана. Если это доказать, сходняк приговорит Квадрата к смерти. А доказать это можно. Даже, пожалуй, нужно.
Размышления Шерхана прервал лязг дверей. Но пороге камеры выросла удивительная фигура. Маленький сухонький священник в рясе стоял и тихо по-детски улыбался, оглядывая камеру.
— Здравствуйте, — сказал священник, и его лицо озарилось ещё более светлой улыбкой.
— Вот это явление! — взвился со шконки один блатной и, растопырив пальцы, подрулил к священнику. — Какими судьбами, батя?
— Обвинён в краже икон. К разбойникам сопричислен, — продолжал по-детски улыбаться священник.
— Но ты же не крал икон, батя? — издевательски испугался блатной.
— Нет, конечно же. Я ни в чём не виноват.
— Так вот почему тебя к нам в камеру определили! Мы же тут все ни в чём не виноваты. Это специальная камера — для невиновных.
— Да, я знаю, — улыбка неторопливо исчезла с лица священника.
— Слышали, бродяги? — блатной весь расплавился. — Батя в курсе. Толковый поп.
Вся камера, как заворожённая, уставилась на священника. Наконец, подал голос Шерхан:
— Что же ты, Болт, человека на ногах держишь, с расспросами пристаёшь. Дай сначала пройти, устроиться.
— Так это я от изумления. Растерялся малость. Проходи, батя, вот и шконку мы для тебя приберегли, — шутовски раскланялся Болт.
Когда священник присел на шконку, Шерхан прошёл к столу и хозяйским жестом пригласил священника:
— Может, чайку с дорожки, батюшка?
— Мне за чаёк ответить нечем, — спокойно и вежливо, но очень твёрдо сказал священник.
— А батя-то наш — тёртый калач, — уже без шуток изумился Болт.
— Идите к столу, батюшка, за чаёк, если что, я сам отвечу, — сдержанно улыбнулся Шерхан. — Все слышали? — он обвёл взглядом камеру. — Если что — отвечу я.
— Предложил бы тебе бараночек, батя, да у тебя, наверное, зубки уже не те, — продолжал Болт.
— Мои зубки, чадо, на Колыме остались. Я по молодости десять лет зону топтал.
— Пятьдесят восьмая? — осведомился Шерхан.
— Она самая, — подтвердил священник.
— Ну, батя, — не унимался Болт, — чайку мы отведали, а теперь доставай свой марафет.
— Шутишь, чадо? — вдруг жёстко усмехнулся священник.
— Да какие шутки? Умный человек сказал: «Религия — опиум для народа». А ты ж религию в массы несёшь, значит — наркотики распространяешь. У кого же ещё марафет спрашивать, как не у тебя?
— Твой «умный человек» — дурак и сволочь. А религия — не опиум. Это лекарство.
— И от каких же болезней лекарство?
— В основном — от сердца.
— Типа валидол?
— Вроде того.
— Ну, отец Валидол, если что — мы к тебе.
Так и закрепилось за священником погоняло: «отец Валидол». Он не возражал, ему похоже даже нравилось.
Шерхан приготовился к тому, что ему теперь придётся защищать отца Валидола от издевательств братвы, но он ошибся — никто и не думал над батюшкой издеваться, изредка подшучивали, но добродушно, а в общем относились вполне уважительно. Батюшка ни к кому не приставал с разговорами о Боге, но если спрашивали — отвечал охотно. С ним постоянно шушукался кто-нибудь из арестантов, особенно на прогулке, когда была возможность отойти ото всех в сторону. Большой популярностью пользовались его рассказы о колымских лагерях. Батюшка рассказывал без лишних подробностей, очень кратко, но ярко и совершенно без назидательности, он никогда не пытался вывести из своих рассказов какую-либо мораль. Батюшка со всеми без различия говорил уважительно и даже тепло, но с большим достоинством и ни перед кем не заискивал. Он ни разу не вмешался в разговор арестантов, если не обращались к нему лично. Всех поддерживал, но никого не напрягал. Шерхан наблюдал за лицом Валидола очень пристально, и тот ему всё больше нравился, но он ни разу не пытался поговорить со священником по душам. Один раз только спросил:
— А воров вы, батюшка, знали на Колыме?
— Знал, как не знать.
— И как они вам?
Священник вздохнул:
— Сильные люди. По-своему справедливые. Но очень жестокие. Никому ничего не прощали. К ним можно было обратиться за помощью, за поддержкой, воры вели себя куда честнее, чем вертухаи. Но ворами всегда двигала только ненависть. А это плохо.
— А сталинский режим был, по-вашему, хорошим?
— Наисквернейшим.
— Так вот воры и ненавидели этот режим. Не сотрудничали с ним никогда. Честно себя держали. А ведь попы сотрудничали с наисквернейшим режимом, хотя прекрасно понимали, с какой нечистью знаются. Получается, воры были честнее попов.
— Разные были попы, так же, как и воры. Каждый за себя отвечает. Вот я, к примеру, когда с зоны откинулся, поехал к себе в деревню служить. Храм мне давать не хотели. Знаешь, скольким христопродавцам мне пришлось низко в ножки поклониться, чтобы мне всё-таки дали храм? И упрашивал, и унижался. И перед кем? Перед врагами Божьми, перед самой скверной породой. Но зачем я это делал? Ради людей, чтобы людям слово Божие нести. А мог бы и не унижаться. Ушёл бы куда-нибудь в горы Абхазии пустынножительствовать. И люди остались бы без храма. Без валидола.
— Но разве воры не заботились на зоне о мужиках?
— Заботились. Этого не отнимешь. Но они больше заботились о своей воровской чести. В этом была их большая слабость. Вора уничтожить — легче лёгкого, достаточно унизить его при всех, и нет больше вора, и для всех честных арестантов он уже никто, пустое место. Вором правит страх. Страх перед унижением. Чтобы избежать унижения, вор легко предаст не только мужиков, но и блатных, и саму воровскую идею, и мать родную.
— Не много берёшь на себя, отец Валидол? Смотри, как бы мы от теории к практике не перешли. Ты унижения не боишься? А может проверить?
— Боюсь и я унижения, потому что гордый. Но для воров гордость — самая большая ценность, а я понимаю, что гордость — грех. Ты можешь затолкать меня головой в парашу, но перед Богом я от этого меньше не стану, и Бог поможет мне пережить унижение, не утратив человеческого достоинства. Слуг Христовых унижением не уничтожить, получается, мы сильнее воров.
Сознание Шерхана погрузилось в мир представлений настолько для него непривычных, что он долго не мог прийти в себя после этого разговора. Он чувствовал в словах отца Валидола некую высшую правду, и было в этой правде нечто манящее, но и отталкивающее одновременно. Он не видел и не представлял себе ничего крепче, честнее и достойнее, чем арестантский мир. Утратить к этому миру уважение было очень легко. Но тогда Шерхан оставался ни на чём и уже не знал, как жить дальше. Валидол выглядел человеком достойным, но он был не более чем одним-единственным человеком. Из какого он мира, как там живут, по каким понятиям? Шерхан совершенно не представлял этого. И думать бы он об этом не стал, если бы Квадрат не ссучился.
Сначала ситуация с Квадратом казалась ему очень простой — суку надо раздавить по понятиям. Шерхан откинется, выкатит Квадрату предъяву, решение сходняка будет вполне предсказуемо, и ссучившийся вор повиснет не заточке, чтобы никому не повадно было сливать ментам правильных пацанов. Но после разговора с отцом Валидолом Шерхан почувствовал, что тут всё куда сложнее. Если старый вор всеми фибрами своей квадратной души почувствовал в Шерхане чужого, то почему Шерхан думает, что все другие воры будут на его стороне? Он и для них такой же чужой, он никогда не искал случая лишний раз оказать им почтение, и короны не хотел. Не слышал что ли у себя за спиной шепоток: «Шерхан в полярники заделался, типа один на льдине».
Дело было совсем не в том, что он боялся остаться без поддержки воров на сходняке. Он умеет доказывать, и воры просто вынуждены будут принять его правоту. Но что дальше? Он так и останется для них чужим. Но что же в нём такого чужого для них, если он за всю свою блатную жизнь не запорол ни одного косяка и во всём живёт по понятиям? И почему его тянет к отцу Валидолу? А вот тут-то и объяснение. Что роднит его с Валидолом, то делает его чужим для воров. Надо бы с батюшкой перетереть.
Батюшка охотно согласился на разговор, Шерхан сунул на лапу кому надо и после прогулки, когда все арестанты пошли в камеры, Шерхана с Валидолом оставили во дворике одних на два
— Ты, отец Валидол, правильный поп, под краснопёрых не прогибаешься, хотя по вашим понятиям, это вроде и не западло?
— По нашим понятиям человек должен прогибаться под Бога, а с остальными — как получится. Если будет надо — прогнусь и под краснопёрых.
— Ради чего?
— Ради людей. Если таким образом людям смогу помочь.
— Но краснопёрые Бога отрицают. Как же можно с ними сотрудничать?
— Смотря в чём сотрудничать. В отрицании Бога — никогда. А в остальном — по ситуации. Краснопёрые — тоже люди. И люди в основном несчастные. Как же я могу людьми брезговать? Тогда ведь и Бог мною побрезгует.
— А если я сейчас сознаюсь, что готовлю убийство? Побежишь стучать? Ведь надо же спасать человека, которому я смерть готовлю.
— Не побегу стучать. Постараюсь до твоего сердца достучаться.
— Ну что ж, попытайся. Дело вот какое. Меня предал человек, который был мне, как отец. Я очень уважал этого человека, очень им дорожил, он от меня плохого не видел. А он меня предал, это по его милости я здесь. Он как, по вашим понятиям, большой грех совершил?
— Очень большой.
— И какое наказание он заслужил?
— Не знаю.
— Типа, его Бог накажет?
— Бог — не каратель. А этот человек уже сам себя наказал. Ведь грех — это причинение вреда самому себе.
— А мне он, по-вашему, вреда не причинил?
— В аду хуже, чем в крытке.
— Да не в крытке дело. Я отсюда скоро выйду — не проблема. Но он мне своим предательством душу растерзал. Я теперь не знаю, как дальше жить.
— Это очень хорошо, что не знаешь. Ведь по понятиям всё просто — ты должен его замочить, ни сколько не терзаясь сомнениями. А ты сомневаешься. Значит, начал догадываться, что есть правда выше воровского закона.
— Я всё равно его замочу. Выхода нет. Тут ни в право, ни в лево не рыпнешься.
— Рыпнись к верху. К Богу.
— Поясни.
— Человек предал тебя, то есть причинил своей душе большой вред. Ты отомстишь ему и этим так же причинишь своей душе большой вред. Ты думаешь, почему на Руси убийц называли душегубами? Кажется, убийца убивает тело, он не может погубить душу того, кого убивает. А душу-то он губит свою собственную. Вот и ты — покалечишь местью собственную душу — кому хорошо-то станет? А ты прости обидчика. Ему зла не причинишь — себе зла не причинишь. Ты же не станешь отрубать себе руку, чтобы ему отомстить? Ещё более нелепо ради этого калечить свою душу.
— Значит, эта гнида так и должна остаться безнаказанной?
— Так я ж тебе говорю, что он уже сам себя наказал.
— А перед людьми? Люди-то что увидят? Совершил человек подлость и живёт себе, как ни в чём не бывало. Какой там вред он своей душе причинил — никто не увидит. Люди поймут одно — можно творить что угодно, всё с рук сходит.
— Обязательно так и поймут, не все, конечно, но очень многие. Говорят, что каждый человек всё понимает в меру своей испорченности. А другие иначе поймут: если уж сам Шерхан простил обидчика, значит прощать не западло. Кто-то пример с тебя возьмёт, и меньше будет в мире искалеченных душ. На людское понимание ориентироваться — дело бесполезное. Ты никогда не можешь знать заранее, какое воздействие на людей произведёт твой поступок, так что ориентируйся на Бога и не ошибёшься.
— Что-то я тебя, батюшка, не пойму. То ты говоришь, что надо под Бога прогибаться, потом доказываешь, что надо прежде всего о людях думать, и, наконец, выводишь — нельзя самому себе вред причинять.
— Вот тут-то и высшая мудрость — хороший правильный поступок и тебе самому вреда не причинит, и людям будет полезен, и Богу угоден.
— Надо же… Красиво. Неужели это возможно?
— Да только так и возможно, а иначе-то никак.
— Значит, прощать надо?
— Обязательно. Простил врага — и себе на пользу, и людям не во вред, и Бога порадовал.
— Но ведь не будет справедливо.
— Есть вещи повыше справедливости. Ведь и Бог не справедлив. По справедливости нам всем за наши грехи надо в аду гореть, а Бог многих в рай берёт. Это совершенно не справедливо. Но любовь выше справедливости.
— Люди не могут так жить.
— Люди должны пытаться так жить. Выхода другого нет. Я ведь, Шерхан, ваших воров хорошо знаю. Все они — очень тяжело искалеченные люди. А почему? Да потому что держаться на том, что не прощают. Это их основная идея — никогда не прощать. Я видел на Колыме первых воров, какие вам теперь и не снятся. Это были железные люди с обострённым чувством справедливости. В нравственном отношении любой из них был неизмеримо выше любого краснопёрого. И они очень дорожили этим своим чувством нравственного превосходства. Когда сталинское государство окончательно распоясалось, растоптав даже малейший намёк на справедливость, воры решили создать свою систему — справедливую. Казалось бы — доброе дело, а вышло уродство. Воры безжалостно карали любого, кто, по их мнению, заслуживал кары. Воры не прощали никого, ни за что и никогда. И каждый раз, не простив, они наносили своим душам тяжкий вред. Внешне они оставались всё такими же — сильными и справедливыми, но души их становились всё более искалеченными, ущербными, неполноценными. Таков результат неразумного стремления к примитивной справедливости. А современные воры и вовсе выродились, унаследовав от прежних лишь духовную ущербность, но не имея их силы и нравственной высоты. Ты загляни Квадрату в душу поглубже, и ты увидишь, что он убогий и жалкий, очень несчастный человек. Ты думаешь, почему Квадрат тебя предал? Да потому что он не смог вынести твоего духовного превосходства. Хотя ты, Шерхан, духовно превосходишь разве что Квадрата. И у тебя тоже душа искалечена, и ты чувствуешь это, и никто, кроме Бога, тебя не вылечит.
Шерхан был потрясён:
— Ты знаешь про Квадрата?
— Я, мил человек, знаю гораздо больше, чем мне самому хотелось бы, но таков уж мой крест.
Шерхан посмотрел в глаза отцу Валидолу, и ему показалось, что он сейчас потеряет сознание. Глаза батюшки излучали удивительный свет — чистый и добрый, но вместе с тем — невероятно сильный, проникающий, палящий. И само лицо батюшки словно светилось. Это был уже не добродушный и немощный старичок, а словно грозный воитель, перед которым любая сила — ничто. Шерхан, пожалуй, и половины не понял из того, что говорил батюшка, но это лицо… В нём была высшая правда, и Шерхан захотел этой правды, и готов был склониться перед ней, и понимал, что для этого надо стать другим человеком.
Хорошо проплаченные адвокаты сделали своё дело, и Шерхан вскоре покинул СИЗО. Квадрата он простил легко, без напряжения, для этого не пришлось себя ломать и пересиливать. Он просто перестал чувствовать к нему ненависть, точно так же, как незадолго до этого перестал уважать. Он видел, что Квадрата всего ломает и корёжит, было его жалко, как мальчишку, который нашкодил, напакостил, и теперь сам не знает, что делать. При этом Шерхан не испытывал никакого чувства превосходства над Квадратом. Они болели одной болезнью, и вся-то разница между ними была лишь в том, что Шерхан теперь это чувствовал, а Квадрат не оставлял попыток изображать призрачное здоровье. Всё стало так понятно, что даже не интересно.
Непонятно только было, как жить дальше. Шерхан вернулся к прежним трудам по стрижке баранов-барыг. Он собирался уйти с площади, но не знал куда, некоторое время всё катилось по инерции. И вот Шерхану доложили, что какой-то борзой афганец решил взять по себя одну из его точек. Ему стало смешно и очень грустно. Ещё один дурачок решил поизображать из себя крутого, как будто можно что-то в жизни изменить, хотя бы даже взяв под себя всю Москву, а тут какая-то паршивая точка. Шерхан отдал бы без сожаления всё, что имел — пусть кто хочет, тот и зажрётся, но он по-прежнему нёс ответственность перед пацанами, к тому же сработали рефлексы профессионального рекетира: мужик попросил — мужик получит.
Воинственный титул «афганец» не произвёл на Шерхана никакого впечатления. Среди московской братвы было немало афганцев. Что они из себя представляли? Много жестокости, много понтов, злые улыбки и ледяные гляделки. Нечто подобное Шерхан предполагал увидеть и в этот раз, но он ошибся. Лицо офицера было очень спокойным и беспонтовым. Он ничего из себя не изображал, да как будто ничего и не хотел. Пришёл туда, куда должен был прийти и сейчас начнёт делать то, что надо делать. В глазах — ни злости, ни высокомерия. Светлые глаза, почти как у отца Валидола. Откуда у вояки глаза священника? А может быть это просто нормальные глаза, какие и должны быть у любого человека, если он не барыга? Шерхан почувствовал, что не сможет убить этого афганца. Но крови уже не избежать.
Пацаны Шерхана и афганцы Ставрова стояли, наставив друг на друга стволы и поигрывая ножичками.
— Ты не оставил мне выбора, Ставров. Хочешь бойни — получишь бойню.
— Выбор есть всегда, Шерхан. Зачем ребят гробить? Давай — один на один. Без пальбы — на ножах. Точка достанется победителю.
— Хорошая мысль. Пусть твои и мои поставят оцепление. Ментов предупредим, чтобы не вмешивались.
Теперь Шерхан уже твёрдо знал, что не убьёт Ставрова. Порежет, хорошо порежет, но не убьёт. В кои-то веки встретил нормального мужика. Но победить надо во что бы то ни стало. Только победитель имеет возможность простить. Слабый простить не может. У слабого нет выбора. Выбор есть только у сильного. Шерхан был бы очень удивлён, если бы узнал, что Ставров в эту же минуту думает примерно то же самое.
Круг, который образовали пацаны Шерхана и ребята Ставрова вскоре уже был залит кровью. Шерхан сумел серьёзно задеть правую руку Ставрова, но оказалось, что афганец держит нож в левой ничуть не хуже. Это даже создало проблему для Шерхана — уходить от ударов слева было не столь привычно. Вскоре Ставров сумел хорошо порезать противнику бок. Каждый получил ещё по несколько менее значительных порезов. Они истекали кровью. Оба уже с трудом держались на ногах, у обоих всё плыло перед глазами. Продолжать поединок было бессмысленно, каждый из них уже едва видел противника, но ни один не сдавался. Они упали одновременно, потеряв сознание. Для того, чтобы установить победителя, потребовался бы фотофиниш.
Шерхан очнулся в шикарной двухместной палате, куда его доставили пацаны. Вторая койка пустовала. Она и должна пустовать. Авторитет ни с кем не может делить палату. Видимо, просто не нашлось одноместной палаты, когда его сюда доставили.
— Эй! — позвал Шерхан.
Из коридора тут же появился браток, стоявший на посту.
— Где афганец? — спросил Шерхан.
— Не знаю, — растерялся браток.
— Как всё было?
— Мы сразу скорую вызвали. Лепилы взяли вас обоих. Мы для тебя нормальные апартаменты арендовали, а куда его поволокли — не в курсах.
— Найдёшь его, перенесёшь ко мне в палату. Если в сознании, скажешь: «Шерхан приглашает в гости. Отказ не принимается». Если без сознания — тащи так, потом сам ему всё объясню. С этой минуты отвечаешь за его жизнь, как за мою.
— Без базара, Шерхан. Афганец — пацан правильный.
Браток ушёл, Шерхан отдался боли. Пока он один — может уделить боли должное внимание. Потом пришла медсестра и вколола ему обезболивающее со снотворным. Когда Шерхан проснулся, койка рядом с ним была уже занята.
— Ты как, вояка? — вяло спросил Шерхан.
— Бывало хуже. А ты?
— Бывало лучше.
— Ты не помнишь, кто из нас победил?
— Не помню. Отключился.
— Аналогично. Что с точкой делать будем? — немного криво, но довольно жизнерадостно улыбнулся Ставров.
— Проблема, блин, — морщась от боли, рассмеялся Шерхан. — Как всё это глупо, братан.
— Глупее, брат, некуда.
Сутки они почти не разговаривали. Спали и думали, понимая, что запутка, кроме смеха, никуда не делась и распутать её ещё предстоит. Пришли братки Шерхана и афганцы Ставрова. Братки принесли пять пакетов самых разнообразных деликатесов. Афганцы — три апельсина. Кажется, они уже подружились, во всяком случае взаимной враждебности между ними не наблюдалось.
— Всем, кто был на стрелке, от меня премия — по штуке баксов, — сказал Шерхан и на всякий случай уточнил, — и афганцам — тоже.
— Шерхан, значит мы теперь вместе? — обрадовался его заместитель, и все остальные братки тоже заулыбались.
— Не так всё просто. Мы тут с командиром порешаем наши вопросы, к концу недели выйдем, и вы всё узнаете. А вы там пока не ссорьтесь без нас.
— Ну что, командир, — сказал Шерхан Ставрову, когда они остались одни, — люди ждут нашего решения. Ты, конечно, пронимаешь, что я не могу просто так отдать тебе эту точку. После этого меня остальные барыги под презрительное ржание с рынка выгонят. Или придётся кровью доказывать им, что я ещё в силе.
— И ты, Шерхан, понимаешь, что мы не можем просто влиться в твою бригаду. Мы не блатные и не рекетиры и никогда ими не станем.
— Понимаю… Ты на чём с этим барыгой сошёлся?
— Что будем работать на него за зарплату.
— Стрёмно.
— Да и я думал это сделать только для начала. А вообще была мысль создать своё охранное предприятие. Давай вместе?
— Мне — в барыги заделаться?
— Какие барыги, Шерхан? Союз свободных бойцов.
— Что-то тут такое есть. Прокачать бы эту тему с Валидолом.
Ранним воскресным утром, когда родители ещё спали, он соскочил с постели, наспех позавтракал и выскользнул из дома. Надо было успеть исчезнуть, пока родители не встали, чтобы не пришлось объяснять, куда он пошёл. Что может заставить мальчишку 13-и лет встать в выходной в 7 утра? Папа с мамой не поверили бы никаким объяснениям, а правда показалась бы им абсурднее, чем любая самая глупая выдумка. Он пошёл в церковь.
В Бога Серёга не верил, но, как ни странно, очень завидовал верующим. Вот собираются они в своём храме, молятся и пребывают в уверенности, что их в этот момент слышит высшая сила мироздания. Ведь это такая же фантастика, как если бы кто-нибудь нашёл способ связи с неземной цивилизацией, которая в миллион раз выше землян по развитию. И теперь можно в любое время обращаться к этим высшим существам и даже к их лидеру, пребывая в уверенности, что он всё слышит, хотя и ничего не отвечает. К этому космическому лидеру можно даже обращаться с просьбами, но дело даже не в этом, а в том, что он тебя слышит. Серёга очень любил научную фантастику и, конечно же, мечтал о контакте с высшим разумом. И вот оказывается, прямо посреди Москвы живут люди, уверенные, что они установили этот контакт. Конечно, они ошибаются, но разве эта уверенность не делает их счастливыми?
Кроме научно-фантастической литературы, он очень любил исторические романы. Если задуматься, так ведь это то же самое, потому что минувшие эпохи — мир столь же для нас недоступный, как и цивилизация Альфы Центавра. Разве не было бы здорово оказаться хоть на час среди наших далёких предков, про которых мы знаем, конечно, больше, чем про инопланетян, но с которыми мы точно так же не можем поговорить, или хотя бы посмотреть на них. А церковь была живым фрагментом давно ушедших эпох. Когда-то давно все люди верили в Бога, а в наше время это уже невозможно — наука слишком далеко шагнула, и потому верующие сейчас — своего рода гости из прошлого, и взглянуть на них прелюбопытно.
Но в церкви всё оказалось не так — никакой фантастики, никакой ожившей истории. Народу было мало, а потому каждое лицо приобретало большое значение, и вот несколько лиц обратили на себя внимание своим болезненным выражением. Они ни мало не напоминали гостей из прошлого или людей, которые умеют разговаривать с высшим разумом. Они куда больше походили на душевнобольных — какие-то пришибленные, словно в любой момент ожидающие удара палкой по голове и не раз по голове получавшие. Они смотрели искоса, недобро и болезненно кривились. Таковы были женщины лет 50-и, да ещё злобные старухи, время от времени шипевшие на вертлявых детей, которых притащили в свой старушечий мир — убогий и неполноценный. Мужик в церкви был только один — безногий инвалид с редкой, неопрятной бородкой.
Священник выглядел весьма высокомерно и казался чуждым это миру. Короткая элегантная бородка — это чтобы его на улице, когда переоденется, за священника не принимали. Хитрые цепкие глазки, сразу видно — не дурак. Из-под рясы выглядывают безупречно отутюженные брюки. Ряженый.
Серёге стало в церкви тяжело, почти невыносимо. Его буквально вытолкнуло на улицу, где он сразу же с удовольствием вздохнул полной грудью. Хотелось никогда больше не вспоминать про эту психбольницу и про этих сумасшедших. Он ни сколько не расстроился, полагая, что лишь убедился в том, в чём и так не сомневался: в наше время могут верить в Бога только душевнобольные. Для умного образованного человека этот путь закрыт. Вот только другой путь всё никак не прорисовывался.
На первый взгляд, в его жизни всё было очень даже нормально: хорошие родители, неплохие друзья, интересные книги, увлекательный спорт — без больших усилий он выполнил первый разряд по биатлону. Поступив на истфак МГУ, он обеспечил себе вполне респектабельное будущее. Не было в его жизни только одного — смысла. Во всяком случае, он его не видел, причём не только в своей жизни, но и в жизни, как таковой.
Смотрит на дерево и думает: «Растёт дерево. А зачем? Могло бы и не расти. Когда-нибудь дерево умрёт, и ничего не изменится. Всё будет точно так же, как было до него и как было бы без него». Логично было тоже самое думать о себе самом: «Если я умру, и от этого ничего не изменится, значит, в моей жизни нет смысла. Что бы я ни делал, я мог бы этого и не делать примерно с тем же результатом, да с тем же результатом я мог бы и вовсе не рождаться. И зачем тогда я живу?».
Иногда ему казалось, что он видит землю из космоса. Планета покрыта тонким слоем плесени. Эту плесень именуют жизнью — особой формой существования белковой материи, разумея под этим человечество вместе с флорой и фауной. А другие планеты не покрыты плёнкой плесени-жизни, и Земля могла быть свободна от этой плесени, и ничего бы в космосе не изменилось, да и сам-то космос на хрен нужен? Он был уверен, что ответов на эти вопросы нет, и искать их не надо, и понимать тут ничего не надо, потому что нечего понимать. Просто большинство людей не задумываются над отсутствием смысла, а некоторые, немногие, задумываются. Последние весьма несчастны, и он к ним принадлежит.
Выход из этой ситуации представлялся ему понятным, как дважды два: надо себя обмануть, то есть придумать некий смысл и поверить в него, и тогда появятся силы жить. Понятно, что любой смысл — ложь, потому что на самом деле нет никакого смысла в «особой форме существования белковой материи». Но если правда невыносима, а ложь спасительна, значит иначе — никак. Значит, нужна вера. Не важно, во что верить — лишь бы верить. В деньги, в любовь, в коммунизм, в Бога. Если человек в нечто верит, у него возникает ощущение, что он живёт не напрасно, и не важно, что это самообман, лишь бы помогало.
Но вот ведь беда. Серёга не верил в то, что «за деньги можно купить всё». Он не верил в то, что «ради любви к женщине стоит жить». Он не верил в то, что «коммунизм — будущее человечества». В Бога он тоже не верил. При этом он считал, что если уж во что-то верить, то лучше всего в Бога. Это наиболее универсальная вера, разом отвечающая на все вопросы бытия и ни в чём не оставляющая никаких сомнений. Но именно в Бога он был меньше всего способен поверить. Объективные данные современной науки не оставляли для Бога никакого места в мире. И тогда он возненавидел науку за то, что она отняла у него Бога, ничего не предложив взамен. Он готов был своими руками душить учёных-материалистов, несмотря на свое полное теоретическое с ними согласие. Он вдруг понял, что если бы не гнусные материалисты со своей подлой правдой, люди верили бы в Бога и были бы гораздо счастливее.
Но в Бога он по-прежнему не верил. Прочитал все романы Достоевского и весьма зауважал его верующих героев, но не верил. Писал религиозные стихи, но не верил. С увлечением собирал репродукции икон, но не верил. Уже вроде бы и верил, но не верил.
Второй раз в церкви он побывал уже студентом, лет через 7 после первого посещения. Одна икона Богородицы произвела на него очень большое впечатление. Хотелось стоять перед этой иконой и молиться. Конечно, разговаривать с доской может только сумасшедший, а женщина, изображённая на этой доске, давным-давно умерла, да, вероятнее всего, её никогда и не было на свете. Но лик этой женщины был столь возвышенно прекрасен, что поневоле захотелось сыграть роль счастливого человека, то есть человека, который верит в то, что эта женщина — на Небесах, и если к ней обратиться — она услышит.
И священник ему на сей раз понравился — основательный такой батюшка, натуральный, с большой нестриженной бородой. Батюшка бегло, но очень тепло глянул на Серёгу. Ему это было приятно, но он не знал, как ответить. Стало неловко. И среди прихожан он по-прежнему чувствовал себя крайне неловко. На сей раз он заметил, что далеко не все они убогие и ущербные, встречались очень даже хорошие лица, но это были в основном всё те же пожилые женщины. Здесь он не мог быть своим. Теперь их общество уже не казалось ему настолько уж неприятным, но ведь понятно, что он при всём своём желании не может стать одним из них. В любом случае, появляясь в храме, он попадал в совершенно чужеродную для себя среду. Не хотелось лишний раз идти в храм. Не хотелось быть похожим на женщину с елейно-умильным лицом.
Серёга был, можно сказать, верующим атеистом или неверующим православным. Это состояние не казалось ему странным, представляясь, напротив, неким достижением просвещенного разума. Дескать, в религиозной сфере всё не так просто, как представляется церковным бабушкам. Образованный, интеллектуально развитый человек должен искать новые пути в понимании Евангелия. Он даже как-то написал некий опус, в подражание Толстому названный: «В чём моя вера». Там Серёга доказывал, что евангельских чудес на самом деле не было, но это отнюдь не ложь, а притчи. Хождение по водам, воскрешение мёртвых и тому подобное следует понимать иносказательно, и тогда Евангелие станет кладезем мудрости. Этакая апология псевдорелигиозного неверия, каковыми нередко балуются люди, нарезающие круги вокруг храма и отнюдь не желающие удалиться от святыни, но и припадать к святыне полагающее невозможным для просвещенного человека.
Таковы признаки мироощущения интеллигенции, но самое удивительное в том, что Серёга отнюдь не принадлежат к интеллигентскому психотипу. Он стремился всё в себе и вокруг себя структурировать — чётко, жёстко, логично и однозначно. Он любил иерархию, субординацию, беспрекословное подчинение и смертную силу приказов. После университета он решил пойти в армию, хотя мог бы, не напрягаясь, откосить. Зачем солдатчина столичному интеллигенту? Но интеллигент, в его понимании — почти женщина. Серёгу тянуло в суровый мужской коллектив.
Он знал, что будет тяжело, но не думал, что настолько. Как спортсмен, он относительно легко выдерживал армейские физические перегрузки. Мало спать и вставать по тревоге было труднее, но и к этому он привык. Но он не мог, да и не собирался привыкать к постоянным унижениям, которым с удовольствием подвергали молодых солдат. При этом он вполне принимал традицию, согласно которой молодые должны делать за стариков всю грязную и тяжёлую работу. Ему это казалось даже справедливым: старик отдыхает, молодой вкалывает. Старики ведь тоже были молодыми, и молодые станут стариками. Если дедушка предлагал ему вымыть за него пол в казарме — без проблем. Дедушка через многое прошёл и заслужил послабление, и никто ему послабление не обеспечит, кроме салаги. Но он не понимал, а унижать-то зачем?
Молодой встаёт на четвереньки, его бьют ремнем по заднице, а он при каждом ударе тявкает под радостное ржание дедов. Это называлось «бобик». Серёга никак не мог понять, в чём тут кайф для дедов? Человек, получающий удовольствие от унижения другого человека, сам лишён человеческого достоинства. Это плебей, которому нельзя давать в руки оружие, потому что вооружённый плебей — это уже маньяк. Конечно, всё будет нормально, если офицер по духу — аристократ. Но с молчаливого согласия офицеров армия была отдана в распоряжение дедов, плебеев-маньяков. Вся армейская жизнь строилась на унижении человеческого достоинства, солдату постоянно внушали, что он дерьмо, пустое место, он для того и существует, чтобы ноги о него вытирать. И не только солдату. Однажды он случайно стал свидетелем того, как капитан осыпал грязным матом лейтенанта, с удовольствием упражняясь в самых изощренных оскорблениях. Серёга подумал: «Так же генерал унижает и оскорбляет полковника, а маршал — генерала, потому что все они вышли из этих капитанов и лейтенантов. Это армия плебеев. Только в кошмарном сне можно представить себе эту армию воюющей. Если этим ничтожествам разрешить нажимать на спусковой крючок по их усмотрению, они будут унижать уже целые народы, не забывая унижать друг друга, а во время боевых действий к тому открывается немало новых возможностей».
«Бобиком» Серёга не тявкал. Ему предложили, он вежливо отказался. Его избили, хотя это оказалось нелегко. Двоим из пятерых он капитально подправил физиономии, пока его не сбили с ног. Больше ему тявкать «бобиком» не предлагали, осознав, что возни с ним много, а спектакля всё равно не получается.
Однажды его разбудили среди ночи, уведомив, что сейчас он будет мыть пол. Вымыть пол Серёга был готов, но его попросили об этом в крайне оскорбительной форме, а потому он опять же отказался. Его опять избили, но на сей раз он продал себя еще дороже, успев капитально врезать троим по самым чувствительным местам. Ему разбили лицо до полного безобразия. Он пошёл в туалет, смыл кровь и лёг спать. Пол так и не вымыл, то есть победил. В другой раз ему предложили вымыть пол пусть и очень грубо, но без оскорблений. Он подчинился. Так Серёга научил дедов с собой разговаривать.
Прошёл год. Серёга получил лычки сержанта и стал командовать отделением. Молодых дрючил нещадно, если надо было, и по морде бил, но ни разу ни одного молодого не оскорбил и не унизил. Дедам давал существенное послабление, уважая армейские понятия, но борзеть дедам не позволял. Сам для себя он сформулировал это правило так: «Дед может ходить в тапочках, но он не может заставлять молодого приносить ему тапочки в зубах». Дедам сильно не нравился этот новый порядок, и они бы с удовольствием проучили борзого сержанта, которого считали выскочкой, но за Серёгу, как один, встало бы всё его отделение, а такие полномасштабные войны в логику дедовщины уже не вписывались. Дедов останавливало то, что они понимали: Серёга и все, кто за ним, ни перед чем не остановятся, будут драться до последнего и скорее дадут убить себя, чем унизить. От них отступились. Вокруг Серёги очень чётко прорисовался фрагмент новой реальности — сержант становился круче дела, хотя дедовское достоинство по-прежнему учитывали и уважали. Офицеры добродушно усмехались, наблюдая за этим процессом, и ни во что не вмешивались. А Серёга теперь осознавал себя человеком, который устанавливает правила.
Служил он под Киевом, о чём в первый год службы вообще не приходилось задумываться — он словно находился вне времени и пространства, единственной его реальностью была казарма, которая с таким же успехом могла находиться хоть на Марсе — ничего бы не изменилось. Только теперь он вспомнил, что рядом — древний, очень интересный город. Как-то в увольнительной он решил побывать в пещерах Киево-Печёрской Лавры.
Тогда-то и произошёл в его религиозном сознании радикальный перелом. Спустился под землю интеллигент, философствующий на религиозные темы, а вернулся — православный человек.
Когда-то, ещё ребёнком, Серёга пришёл в храм, надеясь почувствовать там дыхание русской истории. И ничего не почувствовал. И сам он, конечно, был к этому ещё не готов, и простенький приходской храм мало к этому располагал. Дыхание древности он ощутил здесь, в киевских пещерах. Как заворожённый, бродил он по узким белёным проходам со сводчатыми потолками, даже и не пытаясь ориентироваться в этих катакомбах, просто бродил и всё. Заглядывал в ниши, где стояли гробы с мощами угодников, прочитывал таблички с их именами. Он чувствовал, что находится посреди Святой Руси, в самом что ни на есть Киеве XII века. Серёга очень глубоко пережил встречи со «старыми знакомыми». Вот он лежит — Нестор Летописец. А вот — Илья Муромец. Разве это не чудо, и разве нужны какие-то еще чудеса? Самым потрясающим было то, что Серёга всем своим сердцем ощутил — и Нестор Летописец, и Илья Муромец, и все другие киевские угодники — живые. Впервые в своей жизни он попал в царство настоящей, реальной жизни, куда более реальной, чем та, которая бушует на поверхности. Там — царство химер, миражей, имитаций. Здесь — жизнь, здесь подлинные ценности, здесь — смысл, здесь — всё.
Потом уже, пытаясь осмыслить свои ощущения, он понял, что попал тогда вовсе не в древний Киев. У Бога нет ничего древнего. Это был вечный Киев. Это была вечно молодая Святая Русь, принадлежащая современности ничуть не в меньшей степени, чем истории. Но это он понял потом, а тогда погружение в Киевскую древность странным образом сообщило ему ощущение того, что Бог — реален и очень близок. Он почувствовал в душе удивительную тишину и спокойствие. Медленно, словно в невесомости, он ходил от мощей к мощам и к каждым прикладывался, произнося имя святого. Тогда он осознал смысл жизни, который столь долго и тщетно искал в теории. Он приблизился душой к святым угодникам, а угодники приблизили его к Богу. В этом бесконечном приближении и был смысл жизни. Он уже чувствовал, что приближение к Богу бесконечно, как бесконечно Божие совершенство, его никогда не постичь и уж тем более не вместить человеку, но как радостно идти по этому пути! Смысл как раз и был в достижении радости, и становилось понятно, в чём она, эта радость, и как её достичь. Он почувствовал, чем радость реальная отличается от земных заменителей радости. Навсегда сохранить в душе то умиротворённое состояние, которое он испытывал сейчас — вот и весь смысл, а никакого другого не надо. Пока, конечно, ещё не понятно, как этого добиться, и по-прежнему нет ответов на большинство вопросов, но он уже знает, о чём спрашивать и уж, конечно, найдёт у кого спросить.
Когда Серёга решил покинуть пещеры, выяснилось, что он совершенно потерял ориентацию в пространстве. Он ходил по кругу и всё никак не мог найти выход, нисколько по этому поводу не досадуя и улыбаясь сам себе — век бы ходил по такому кругу.
Выбравшись на воздух, присел на скамейку. Долго сидел без движения, словно боясь расплескать то благодатное состояние, которое наполнило душу. Потом увидел невдалеке колодец и решил освежиться. Энергично выкрутил оцинкованное ведро, напился из ладоней, потом умылся. И тут в нём проснулась удивительная радостная энергия. Захотелось куда-то быстро идти, что-то для кого-то сделать, всех обнять и всем рассказать, что жизнь прекрасна. Сумрак пещер стал для него словно бы мёртвой водой, уничтожившей в нём прежнего человека, а вода из монастырского колодца — живой водой, возродившей его для новой жизни. Жизни радостной, деятельной, осмысленной.
Покидая Лавру, он остановил взгляд на стареньком монахе, который шёл ему навстречу. Высокий, худощавый, в выцветшем чёрном подряснике, с совершенно белой длинной бородой, которая развевалась по ветру, монах напоминал древнего старца. Лицо его было очень суровым и немного скорбным, как бывает у людей, прошедших через тяжелейшие житейские испытания. Серёга почувствовал в этом лице такую глубину, какой ещё никогда не встречал ни в одном человеке. Монах вызвал у него восхищение. А ведь это всего лишь один монах из многочисленных насельников Лавры. Жить рядом с такими людьми, это, наверное, большое счастье, не говоря уже о том, чтобы быть одним из них. Серёга нескромно в упор смотрел на монаха, тот тоже бегло глянул на молодого солдата и едва заметно улыбнулся. Серёге показалось, что в этой улыбке он прочитал одобрение.
С трудом дождавшись следующей увольнительной, Серёга опять устремился в Лавру. Хотел поговорить с кем-нибудь из монахов. У него не было никаких конкретных вопросов, он просто хотел прикоснуться к монашескому миру и побольше о нём узнать. Прогуливаясь по Лавре, он надеялся кого-нибудь встретить, и тут произошло маленькое чудо — навстречу ему опять шёл тот самый древний старец.
— Благословите, батюшка, — Серёга с нарочитой твёрдостью проговорил заранее заготовленную фразу.
— Я не батюшка, а простой монах и благословить никого не могу, — старец посмотрел на юношу с некоторым удивлением.
— А вы не найдёте для меня немного времени? Хотел бы поговорить.
Монах молчал, казалось о чём-то напряжённо размышляя, и вдруг очень непринуждённо и дружелюбно сказал:
— У меня есть минут 10. Давайте присядем, — он указал на скамейку. — Я слушаю вас, молодой человек, — выговор монаха был очень чистый и правильный, словно у дореволюционного профессора, что приятно поразило выпускника МГУ, но вместе с тем в нём чувствовалась такая суровость, какая может быть присуща разве что боевому офицеру. Серёга был совершенно не готов к разговору, а потому неожиданно для себя спросил:
— Вы воевали?
— Нет. Даже в армии не служил. Врождённый порок сердца.
— Вы похожи на профессионального военного.
— Это, пожалуй, не удивительно. Монах ведёт непрерывную невидимую брань, наша жизнь — настоящая война.
— С кем же сражается монах?
— С самим собой, точнее — со своими греховными страстями. С демонами, которые стараются разжечь в человеке страсти.
— Монахи умерщвляют плоть?
— Умерщвление плоти — одна из духовных практик. Об этом пришлось бы говорить много и отдельно. А если коротко — монах занимается духовным самосовершенствованием, стараясь подражать Христу.
— Мне казалось, что подражать надо святым, а самому Христу — это как-то нескромно.
— Святые тоже подражали Христу. Все мы имеем одного Учителя. — и те, чьи мощи покоятся в наших пещерах, и те грешные иноки, которые сейчас населяют Лавру.
— Не думал, что монахи — грешные.
— Без греха один Бог, молодой человек. Впрочем, все грешат, но не все каются.
Они говорили, наверное, полчаса. Позднее, вспоминая этот разговор, Серёга испытывал неловкость от мысли о том, насколько глупые и наивные, а пророю и бессмысленные вопросы он задавал. Монах на всё отвечал дружелюбно, точно, с удивительной интеллектуальной элегантностью. Серёга, слушавший не столь давно блестящих московских профессоров, чувствовал, что сравнение с этим простым монахам будет не в их пользу. Монах имел ответы на самые главные вопросы жизни, при этом он совершенно не мудрил, не пытался блистать эрудицией, отвечал очень просто и коротко, порою, даже афористично и, чаще всего, исчерпывающе. Мудрецы века сего очень много знают, но редко что-либо понимают. Они способны говорить часами, вываливая горы сведений, но так ничего и не сказав по существу, а потом ещё и бравируя своим незнанием: «Истина недостижима». Эта интеллигентская аксиома всегда раздражала Сергея. «Зачем вы все нужны, если истина для вас недостижима? Какой тогда смысл в вашем словоблудии?» — не раз думал он. А этот монах говорил об окончательных ответах на последние вопросы бытия, как о прописных и очевидных истинах, которые не известны разве что его собеседнику. Монах — знал. За какие-то полчаса он открыл перед Серёгой огромный мир совершенно новых понятий и представлений. Монах говорил столь концентрированно, что их короткую беседу, если бы детализировать каждый тезис, можно было без труда развернуть в монографию. Наконец монах закончил:
— Я не должен был говорить с вами. Мне не по чину, к тому же — без благословения. Но я почувствовал, что сегодня Бог благословил нашу встречу и беседу. А в дальнейшем вам, конечно, надо говорить с просвещенными иноками, а не со мной, скудоумным. На уровне азбуки и я могу что-то объяснить, а наставить на путь веры — это уж увольте моё недостоинство. Есть у нас один чудный старец, иеромонах. Я вас познакомлю.
«Чудный старец», отец Иоиль, не пожалел для Серёги времени. Его первый знакомец — монах Ириней так же никогда не отказывал ему в общении — в истинах веры вроде бы и не наставлял, но рассказывал немало весьма полезного из книг, а читал он их очень много. Все увольнительные Серёга теперь проводил в Лавре и думал только о вере. Служба шла по накатанному, он сам уже стал дедушкой, армейские дела больше не отнимали у него душевных сил, которые он все без остатка отдал вопросам духовным. Сияющий мир православия, мир высшего смысла, стал теперь его миром.
Он быстро понял, что постижение православия невозможно через усвоение абстрактных истин. Тут всё передаётся только через постижение личности. Он очень полюбил монахов, всеми силами стараясь постичь глубины их духовного опыта, хотя ни разу не спросил об их жизни до монастыря — это не имело значения. Теперь он видел в монахах настоящих мужчин, суровых и добрых воинов. Монашеский мир — мир мужества, и православие — мужская вера, она требует мужества даже от женщин, а иначе — никак.
Ещё до армии Серёга поступил в аспирантуру и, демобилизовавшись, сразу ушёл в науку. Он долго не мог выбрать тему для диссертации и вдруг неожиданно понял, что может заниматься только историей Ордена тамплиеров и ничем больше. В отличие от большинства коллег, он не воспринимал историческую науку как «искусство для искусства», полагая, что историк должен разрабатывать только такие темы, которые имеют выходы на современность, затрагивают в современниках некоторые струны души и в той или иной мере опираются на личный жизненный опыт автора. А в его жизни единственным серьёзным делом до настоящего времени была военная служба, и серьёзно влюбиться он успел пока только в монашество. Он твёрдо знал, каким должен быть настоящий воин и очень хотел поглубже узнать, что есть настоящий монах. А что такое воины-монахи? Какие ценности они провозглашали? Какими они были на самом деле? Как они вообще могли появится? Эти вопросы показались Серёге столь волнующими и животрепещущими, настолько живо связанными с его личной судьбой, что если бы его заставили заниматься чем-либо другим, он просто ушёл бы из аспирантуры.
Тему диссертации утвердили с большим трудом. Дело было даже не в том, что советский аспирант вдруг решил копаться в религиозных предрассудках средневековья. Это, конечно, позволили бы с целью разоблачения и осуждения этих предрассудков. К тому же на дворе бушевала перестройка, и интерес к религиозным вопросам уже не казался столь предосудительным. Основная загвоздка была в том, что ни один настоящий учёный не желал всерьёз воспринимать никакую работу о тамплиерах, которые давно уже стали предметом смехотворных псевдонаучных спекуляций. Заниматься тамплиерами было всё равно что заниматься инопланетянами, то есть прежде всего предстояло разгребание фантазий психических больных, а для начала ещё надо было доказать, что ты — не один из них. Огромная литература по тамплиерам на три четверти была совершенно антинаучна и состояла из идиотических легенд, параноидальных гипотез и ни на чём не основанных утверждений шизофреников, которым собственный бред представляется фактом, не нуждающимся в доказательствах. Разгребание тамплиерского бреда даст куда больше пищи психиатру, чем историку, а потому серьёзному человеку, который решил заниматься тамплиерами, предстоит доказать, что он не только не псих, но и не психиатр. А ведь по тамплиерам вышло немало серьёзных научных работ, при чём не только на западе, но и у нас, и в конечном итоге Серёга смог убедить научного руководителя в том, что намерен опираться на основательную научную традицию, вполне достойную развития.
Теперь Серёга дни напролёт не вылезал из библиотеки, начитывая материал по теме. Он достаточно легко владел английским и французским, одну за другой заказывал в Англии и Франции работы не переведённые на русский язык. Усовершенствовал знание латыни, с которой раньше был знаком весьма поверхностно, навалился на лингва франка, которого до этого не знал совершенно. Вскоре он уже думал, как франк, чувствовал, как франк и жил только тем, чем жили средневековые франки. Серёга исчез из Советской России, да так виртуозно, что никто и не заметил. Впрочем, постепенно начали замечать. На вопрос о том, что он делает в выходные, Серёга мог с отсутствующим видом ответить что-то на лингва франка. Если его спрашивали, чем он вообще питается, он вполне серьёзно говорил: «Орден не обещал мне ничего, кроме хлеба и воды», при этом по его впавшим щекам можно было сделать вывод, что Орден, действительно, не предоставил ему ничего сверх обещанного. Как-то научный руководитель спросил у него, успеет ли он в срок подготовить статью для сборника, а он ответил: «Если это будет угодно Господу, мессир». Сурово так ответил, без намёка на улыбку.
Вскоре уже никто не сомневался, что Серёга слегка подвинулся рассудком на почве тамплиеромании. Впрочем, некоторые сомневались в том, что «слегка», полагая его «соскочившим с катушек» окончательно и бесповоротно. Но это было совсем не так. Он был совершенно чужд фанатизма, тем более — научного фанатизма. Серёга влюбился в тамплиеров искренне и по-настоящему, а настоящая любовь ещё никого не сделала сумасшедшем. Все видели в нём романтика-идеалиста, совершенно оторванного от жизни, но мало кто замечал хладнокровного и расчётливого прагматика, а он таким и был — романтичным прагматиком и прагматичным романтиком. Серёга спокойно знал, что ему на некоторое время необходимо исчезнуть из Москвы, посвятив себя непрерывным перемещениям из Парижа в Иерусалим и обратно. Но он знал, что вернётся в Москву, что вся его длительная командировка в средневековую Европу только ради Москвы и нужна. Надлежало принести русскому миру новое слово, а отыскать это слово возможно было только за тридевять земель, за тридевять времён.
Прошло два года работы над темой. Он всё меньше читал и всё чаще ходил в храм. Меньше читал, потому что основное ему теперь стало известно, а чаще ходил в храм, потому что тамплиеры научили его любить и ценить Божественную литургию. Ради Крови Христовой они готовы были пролить всю свою кровь до капли, а мы не всегда готовы пожертвовать воскресеньем. А если жертвуем, то понимаем это как исполнение долга, а не как бесценный дар. По духовному развитию тамплиеры стояли неизмеримо выше современных христиан. Они жили только ради Христа и во Христе. Они Ему ничего не жертвовали, и никакие, даже самые немыслимые свои лишения и страдания они отнюдь не понимали, как исполнение долга. Они просто очень любили Христа, и всем своим существом стремились ко Христу, и жили тем единственным способом, который был им доступен. Тамплиеры восхищались Христом, а потому они были восхитительны. А стоило ли заниматься историей Ордена человеку, который ничему не способен научится у рыцарей Храма? Он оказался способен очень многому научиться у своих друзей-тамплиеров.
Рыцари Храма помогли ему гармонизировать весь его жизненный опыт, выстроить всё, что он пережил и узнал в этой жизни, в цельную и стройную систему. Теперь его уже совершенно перестало смущать преобладание женщин в православных храмах. Конечно, превращение храмов в настоящее бабье царство по-прежнему не радовало, но теперь он понимал, что это отнюдь не есть лицо христианства, не есть производная от христианской доминанты, а лишь нечто преходящее, производное скорее от советской эпохи, от ослабления Церкви, от оскудения веры в душах русских людей. Если вера в Бога станет в России таким же естественным проявлением общественного сознания, каким была на Святой Руси, каким была для тамплиеров — храмы наполнятся мужчинами. А пока во время Божественной Литургии Серёга чувствовал себя не в бабьем царстве, а в обществе Ильи Муромца и Гуго де Пейна, вместе с его первыми наставниками в вере — киевскими монахами.
Вскоре он понял, что не будет защищать диссертацию и даже дописывать не будет, уже хотя бы потому, что всё до настоящего момента написанное отнюдь не достойно молодого советского учёного и никакой защите не подлежит. «Развёл тут, понимаешь, мракобесие, — сказал Серёга самому себе и горько усмехнулся. — Вместо того, чтобы разоблачить эксплуататорскую сущность кровавых монахов, ударился в пропаганду религиозных пережитков. Нет, батенька, это решительно не соответствует духу перестройки, советские люди не позволят отбросить себя обратно во мрак средневековья и скажут своё твердое «нет» свихнувшемуся прихвостню буржуазии, который окопался в МГУ по недосмотру партийных органов.
Ну как, скажите, можно было написать к его работе предисловие с обязательными цитатами из Маркса, Энгельса и Ленина? Серёга легко бы отдал сто Марксов, двести Энгельсов и триста Ленинов за одного рядового и безвестного тамплиера. «Пора сматываться из МГУ, пока в психушку не упекли», — подумал он.
Вот только куда было сматываться? Уходить в монастырь он не имел намерения, понимая, что не таков его путь. Монашество было близко его душе, и он вполне видел себя монахом, но не созерцательным, а деятельным. Таким как тамплиеры. Теперь он вполне их понял, он видел свой путь, пролегающим через бурлящее людское море, а в монастырское уединение его тянуло только, как гостя, чтобы набраться сил. При этом он вполне чувствовал себя способным соблюдать монашеские обеты, да только кто их примет?
Пойти в семинарию? Он не видел себя священником. Стоять у престола дело великое и страшное. Он не считал себя достойным этой миссии. К тому же священник должен окормлять и наставлять духовных чад, а куда уж ему. Если человек пребывает в полной растерянности относительно избрания жизненного пути, то было бы весьма нелепо пытаться других наставлять на путь.
Оставалась проторённая дорога всех невостребованных интеллектуалов. Карьера сторожа или охранника. Не попытаться ли получить лицензию на охранную деятельность? Биатлон, хоть и давно заброшенный, успел сделать из него неплохого стрелка. Армия сообщила опыт караульной службы. Что-то тут такое есть. Но он не отдаст души работе охранника, и зачем ему тогда такая работа?
Неожиданно пришедшая в голову мысль показалась забавной — тамплиеры, по сути, тоже были охранниками. Но у них было братство, созданное ради служения Христу, а охранная работа была лишь способом этого служения. Он же, став охранником, будет тем служить лишь своему желудку, добывая пропитание. «Хоть Орден создавай», — горько усмехнулся Серёга. Да куда уж. Не потянет он на Гуго де Пейна. У него нет ни духовного опыта, ни военной доблести, ни организаторских способностей первого тамплиера. Да и какой в наше время может быть Орден? Он отбросил эту мысль без больших рассуждений. Поиграл, как игрушкой, и забыл.
А потом опять вспомнил. Почему, собственно, в наше время не может существовать Орден? Надо абстрагироваться от средневекового антуража и вычленить самую суть Ордена тамплиеров. Это братство воинов-монахов. Воины в наше время есть. Монахи есть. Почему не может быть воинов-монахов? Потому что их не признают ни государство, ни общество, ни церковные структуры. Но признание — это следующий вопрос. Парни Гуго де Пейна тоже много лет не имели признания, да, похоже, не сильно его и добивались, Орден жил сам по себе. Итак, прежний вопрос: могут ли в наше время существовать воины-монахи? А что они будут делать? Что и раньше — охранять христиан с оружием в руках. Но разве государство не охраняет христиан, как и всех остальных граждан? Вроде бы так — на Пасху менты у храмов дежурят, за порядком следят, к верующим относятся уважительно. Вот именно — они верующих со стороны уважают, они — представители безбожного государства — сила, по отношению к православным, внешняя, чужеродная. Атеисты защищают христиан, которых ещё вчера резали и завтра, может быть, опять начнут. Те же самые «уважительные» менты будут хватать, тащить и стрелять как всегда беззащитных христиан. Христиане, как стадо баранов, по отношению к государству всегда пребывают только в двух позициях — или их режут, или пасут. Они всегда беспомощные, беззащитные и жалкие. Конечно, каждый христианин в любой момент должен быть готов отдать жизнь за Христа. Стать мучеником — лучше всего на свете. Но это, когда ты сам за себя решаешь. А если на твоих глазах истязают детей только за то, что они христиане? Мужчина-христианин должен подползти к ним и сказать: «Детишки, как я вам завидую, вы станете мучениками. Спасать вас нельзя, потому что вы лишитесь мученического венца. Да и не могу я вас спасти, христианин не может оказывать сопротивление».
Мысль о том, зачем может быть нужен Орден, надо ещё додумать, а пока остаётся первый вопрос: может ли Орден быть? Если найдутся люди, которые утвердительно ответят на этот вопрос — Орден будет. Цели и задачи, как ни странно — вопрос второстепенный. Главный смысл в самом факте существования братства вооружённых монахов. Это братство самоцельно, как некая духовная реальность, как уникальный образ жизни. А дело для уникальных людей найдётся всегда. Для начала можно хоть рынки охранять, тамплиеры, во всяком случае, этим не брезговали.
И всё-таки мысль о создании Ордена Серёга оставил по двум вполне практическим причинам. Он не видел себя в роли лидера такой структуры, и он не знал людей, которые могли бы стать первыми тамплиерами. Это должны быть люди оружия, иначе братство просто превратится в клуб юных ботаников. Но Серёга, вращаясь исключительно в среде столичной интеллигенции, не был знаком ни с одним человеком оружия.
Итак, он оставил мысль о создании Ордена. Но мысль эта не оставила его, не отпустила, продолжая терзать растерянную душу. По ночам он просыпался и думал: «А что если…». Потом: «Может быть, так…». Варианты, подходы, схемы… ему стало казаться, что его душой овладела химера, что он попал в плен к некой иллюзии, которая разрушит его душу, потому что не имеет ничего общего не только с его жизнью, но и с жизнью, как таковой.
Серёга решил поговорить с настоятелем храма, который посещал, сам не усматривая ни малейшего практического смысла в этом разговоре. Наверное, он просто надеялся, что разговор с умным и здравомыслящим человеком освободит его из плена иллюзии, химерической мысли, которую он уже начал воспринимать, как проклятие.
Отец Владимир был действительно не только умным и здравомыслящим, но и весьма широко образованным человеком. Выпускник журфака МГУ, он позднее закончил Загорскую духовную семинарию и считался священником современным, вполне открытым для новых идей, а потому способным решительно и активно действовать в обществе, которое менялось буквально на глазах. Относительно молодой для священника, лет, наверное, 35-и, этот батюшка располагал к себе своим умением разговаривать с самыми разными людьми.
Отец Владимир выслушал Серёгу очень внимательно и, изобразив на умном лице сомнение, начал размышлять вслух:
— Не знаю, не знаю… Духовно-рыцарские Ордена — это ведь изобретение католическое. Католики претендуют на светскую власть, а потому им, конечно, нужна вооружённая сила, а нам, православным, это зачем?
— Вооружённая сила может быть нужна не только для реализации властных амбиций, но и для простейшей защиты. Да ведь тамплиеры никогда по существу и не служили папскому престолу, а именно защищали христиан.
— Возможно… Но нельзя просто так взять и пересадить католическое растение на православную грядку. В лучшем случае — не приживётся, а в худшем — как бы наша грядка не стала католической.
— Логично. Над этим надо думать. Но для начала ответим на вопрос: Орден Храма — чисто католическое изобретение или просто христианское?
— В смысле?
— Мы помним о том, как много у католиков своих специфических ересей. Но ведь мы признаём их христианами, признаём их священство и таинства. Существует целый ряд общехристианских признаков, которые есть и у нас, и у них. И тогда вопрос: тамплиеры — порождение католических ересей или общехристианской доминанты? Если справедливо второе, тогда в Ордене Храма нет ничего специфически неправославного.
— Хорошая постановка вопроса. Грамотная. Ответ, мне кажется, надо искать не в области теории, а с опорой на практику. Почему ни в одной православной стране никогда не появлялось ничего похожего на Орден тамплиеров? Значит, православные никогда не считали это изобретение общехристианским и усматривали в нём нечто чуждое православию.
— Не обязательно. Православные не заимствовали духовно-рыцарские Ордена, потому что в странах греческой и славянской культуры не было рыцарства. То есть причина, почему у православных не было тамплиеров, лежит в сфере культурной и ментальной, а не религиозной.
— А сейчас что изменилось?
— Ментальность переменчива, только православие неизменно. Предположим, кое-что изменилось, и сегодня на Руси уже есть люди специфически рыцарского психологического склада. И тогда мы возвращаемся к прежнему вопросу: содержит ли православие некие препятствия к появлению тамплиеров? Не национальные традиции православных стран, а именно само православие, как сумма религиозных убеждений, препятствует ли каким-то образом учреждению православного ордена воинов-монахов?
— Давай подумаем. Согласно святым канонам, священник не имеет права брать в руки оружие. Если священник убьёт кого-нибудь даже случайно, без вины, не нарушив гражданского закона, его всё равно лишат сана. Но на монахов это не распространяется. В теории, казалось бы, нет запретов на вооружение монахов, но в практике нет прецедентов — не на что опереться. Православие — штука тонкая. Здесь судят не только по букве канона. Если не сложилась традиция, если нет обычая, если мы не можем опереться на суждение кого-либо из святых отцов или почтенных старцев — такое учреждение в православии вряд ли можно будет признать законным.
— Есть прецедент! Один из самых почитаемых на Руси святых признал за православными монахами право на оружие. Преподобный Сергий Радонежский благословил монахов Пересвета и Ослябю на битву под знамёнами князя Московского Димитрия.
Отец Владимир крепко задумался, а потом неуверенно продолжил:
— Это было в экстремальной ситуации и лишь однажды. Если бы Псресвет и Ослябя не погибли в Куликовой битве, они, надо полагать, вернулись бы в монастырь, а вовсе не остались бы при князе Димитрии в качестве вооружённых монахов.
— Что возможно в экстремальной ситуации, то возможно в принципе. Что было однажды, то может быть дважды. А говорить, что было бы, если бы Пересвет и Ослябя не погибли — это уже, извините, гадания, а не факт. Впрочем, тут чутьё историка подсказывает мне, что вы правы — вероятнее всего, наши иноки действительно сложили бы оружие и вернулись в монастырь. Но остаётся вопрос — почему? Почему Пересвет и Ослябя, первые русские тамплиеры, всё же не могли создать военно-духовный Орден? Да потому что на Руси не было сильной военной аристократии, которая только и может стать базой возникновения Ордена. А вовсе не потому, что в православном вероучении есть нечто препятствующее учреждению Ордена.
— Можно подумать, сейчас появилась военная аристократия.
— Это другой вопрос. Вы, батюшка, в сторону не уводите. Мы сейчас говорим о православии, а не о структуре современного российского общества.
— Жёстко ты меня экзаменуешь, чадо Сергие, на сан совсем не оглядываешься.
— Искренне прошу прощения, ваше высокопреподобие, но я способен говорить только на равных, если, конечно, речь не идёт об исповеди.
— Да ладно уж, смирю свою гордыню, — отец Владимир тяжело вздохнул, легко улыбнулся, помолчал и продолжил. — Видишь ли, какая штука, Серёжа. Дело ведь не только в существовании запретов, отсутствии прецедентов и опоре на авторитеты. Дело в тонком чувстве духа православного монашества. Монах уходит от мира ради борьбы с греховными страстями, а какое может быть монашество посреди бурления мирских страстей, в военной среде?
— А городское, тем более — столичное монашество? Мы же видим, что тут наши иноки буквально на торжище живут, посреди того самого бурления страстей. А монахи, управляющие церковной собственностью за пределами монастыря? В их послушании куда больше мирских страстей, чем в жизни иного мирянина, работающего где-нибудь в тихом учреждении. А епископы, которые все — монахи? Это администраторы, управляющие огромными территориями. И рассказывать не надо, какое это бурление страстей. Но никто ведь не считает, что монах не может быть епископом, напротив, епископ обязан быть монахом, хотя архиерею явно не до тихих созерцаний. Не в осуждение им говорю, только подчёркиваю: православие традиционно вполне допускает существование монашества в самой гуще мирской круговерти. А в военной среде куда больше монашеской аскезы, чем в архиерейских палатах. И не думаю, что дело монаха, идущего на кровавый бой, менее молитвенно, чем труды монастырского эконома.
— Ты хорошо подготовился, Серёжа, а для меня эта тема совершенно неожиданна. Тебе очень надо посадить меня на мою толстую протоиерейскую задницу?
— Простите, отче, но если такие обвинения пошли, тогда я не знаю, как разговаривать.
— Да какие обвинения, — раздражённо отмахнулся отец Владимир. — Ты скажи, чего хочешь?
— Правды.
— А нет у меня твоей правды, если вообще какая-нибудь есть.
— Надеюсь, что мы её вместе ищем. Хочу понять, что хочет Бог от конкретного человека, то есть не вообще, а в частности. Каким путём лично мне допустимо идти, а каким идти не допустимо? Разве для меня, как для православного, это не самый важный вопрос? Вы скажете — живи по-нормальному, а если я решительно не соответствую установившимся представлениям о норме? Вот я и спрашиваю: эти представления о норме даны свыше, или они есть измышления людские? Я, батюшка, академической полемикой ещё в универе объелся, больше не хочу. Мне не интересно кого-то переспорить, тем более вас. Мне интересно, как жить дальше.
— Коньяка хочешь?
— Только если у вас — хороший.
— «Наполеон» устроит?
— Настоящий?
— Лично из Парижа привёз. Забавлялся там экуменизмом, но в коньяке-то смысла больше, чем в экуменизме.
Они жизнерадостно рассмеялись. Батюшка извлёк из своих закромов бутылку чёрного матового стекла и две рюмки богемского хрусталя. Выпили.
— Хорошо, — изрёк Серёга. — Не резон мне, батюшка, с вами ссориться, кроме вас мне такого коньячка никто не нальёт.
— Если ты это понял, наконец, значит, мой коньяк не без пользы сгинул в твоём грешном чреве. Давай ещё по одной. Бог с нами, и хрен с ними.
— С кем — хрен?
— С экуменистами, среди которых я блистаю во всём своём неземном величии. Не люблю я их. Они не Божьей правды ищут, а человеческой. Типа, мира хотят. Комфорта они хотят, а не мира. Пацифисты хреновы.
— Вы отрицаете пацифизм?
— Разумеется. Я же не толстовец. Толстовство с его «непротивлением злу насилием» — крайность, доведение христианства до абсурда. Но мне всё кажется, что твои вооружённые монахи — другая крайность. А православие, оно всегда и во всём — золотая середина.
— Но дело ведь, батюшка, не только в праве монахов на оружие, но и шире — в праве любого христианина сражаться за веру с оружием в руках.
— И я о том же. Неужели в вопросах веры можно что-то доказать при помощи меча?
— А не надо ничего доказывать. Если вооружённые безбожники хотят разрушить Божий храм, а старого священника замучить до смерти, почему мы не можем защищать храм и священника силой оружия?
— Христиане обычно безропотно умирают за веру.
— Так это я свою жизнь должен безропотно отдать за веру, не пытаясь защитить её силой оружия. А жизнь моих ближних я тоже не должен защищать? Вот я приду к вам и скажу: батюшка, там христиан хотят перерезать, причём именно за то, что они — христиане. Я могу их защитить, только для этого кое-кого из бандитов, возможно, придётся убить. Благословите?
— Благословлю.
— А если я монах — не благословите?
— Не знаю.
— А если бандиты никого не собираются убивать, но намерены храм осквернить, в алтаре нагадить, а я могу защитить алтарь от осквернения, но и в этом случае я, возможно, буду вынужден кого-то из них убить. Ведь они вооружены, и я смогу противодействовать им только силой оружия. Смертоносного оружия. Благословите?
— Не знаю. Как видишь, я с тобой честен.
— Батюшка, мне трудно даже выразить, насколько я вас уважаю, хоть и говорю, может быть, без надлежащего почтения. Но ведь очевидно же, что тут в церковной позиции — явное противоречие. Если завтра на Россию нападут враги, все священники дружно благословят военных встать на защиту Родины. На убийство благословят. И вы благословите меня убивать, возможно, ни в чём не повинных людей только за то, что они одеты в шинели другого цвета. Но вот я говорю вам: благословите меня взять в руки оружие для защиты наших святынь, наших алтарей, для защиты права христиан оставаться христианами. Благословите меня на войну за веру. И вы откажете мне в благословении. Убивать невиновных, всего лишь выполняющих приказ, священник благословит. А истреблять сатанинскую нечисть и защищать христианство — священник не благословит.
— Да, это реальное противоречие. Благословлять обычную войну священноначалие вынуждено, потому что христиане должны быть лояльными гражданами. А благословлять войну за веру нас никто не вынуждает, это уже наш внутренний вопрос, и тут уж мы не идём на компромисс.
— Всё вроде бы правильно, а как-то не очень. Давай так. Мы закончим этот разговор через неделю.
Через неделю отец Владимир встретил Серёгу мрачнее тучи:
— Я много думал и в итоге ничем не могу тебя обнадёжить. Чтобы стало понятно, о чём речь, приведу такой пример. В начале XX века великая княгиня Елизавета решила создать в Москве Марфо-Мариинскую обитель, где жили бы не монахини, а диакониссы.
— Жёны диаконов что ли?
— Нет. Диакониссы — древний институт Православной Церкви — женщины, посвятившие себя служению ближним, по-нашему говоря, социальному служению. Позднее диакониссы по неведомым причинам исчезли, хотя никто этот вид служения не запрещал. И вот великая княгиня Елизавета решила порадовать православный мир возвращением диаконисс. На свои деньги она отстроила помещение и создала общину. Это были сёстры во Христе, вели полумонашеский образ жизни, ходили в особой одежде, напоминающей монашескую, но не были монахинями. Работали в больницах и другое в том же роде. Сама великая княгиня исполняла роль игуменьи, носила деревянный крест, напоминающий игуменский. В общине у неё были в основном вдовы, то есть всем было хорошо — вдовы получали твёрдый кусок хлеба и возможность вести благочестивую жизнь, множество людей вокруг получали их заботу, а главное — всё это во Христе, с молитвой.
— Раз она смогла исполнить свой замысел, значит её благословили?
— Благословили. А знаешь почему? Потому что она принадлежала к правящему императорскому дому. Не так-то легко было её не благословить. Но даже то, что она входила в круг ближайших родственников государя-императора не уберегло её начинание от неприятия со стороны значительной части иерархии. Что это такое? Вроде бы обитель, а не монастырь. Вроде бы сестры во Христе, а не монахини, вроде бы игуменья, но и сама монашеских обетов не давала. Многим всё это очень не нравилось, и если бы подобную общину диаконисс решила создать безвестная дворяночка или купчиха — никто бы не позволил. Ты понял, куда я клоню?
— Да уж как не понять. Никаких внятных вероучительных препятствий к возрождению института диаконисс не было.
— …И даже более того — существование диаконисс — древняя, исконно православная традиция, освящённая авторитетом святых отцов. Тут, казалось бы, и спорить не о чем, а не приняли, исходя из простой логики: сомнительно нам всё это, не было такого на нашей памяти. Хочешь быть монахиней — иди в монастырь, не хочешь идти в монастырь — оставайся мирянкой, а это что ещё за диаконисса? Давайте, бабоньки, как-нибудь по-нормальному. А теперь прикинь, что ты предлагаешь. Во-первых, тамплиеры — изобретение католическое. Во-вторых, само слово «тамплиер» ныне охотно используют масоны и даже сатанисты. В-третьих, тут затрагивается один из очень болезненных нервов православия — право на применение силы в интересах веры. Сие есть предмет бесконечной полемики, и никто не захочет переводить эту полемику в практическую плоскость. А, кроме того, насколько мне известно, ты не являешься племянником Горбачева. Итак, очень простой вывод: никогда ни один православный священник или епископ не благословит создание русского ордена воинов-монахов. Никакие аргументы из области канонического права или нравственного богословия, никакие ссылки на преподобного Сергия Радонежского не только не помогут, но и вообще не понадобятся. Никто с тобой полемику на эту тему вести не станет, тебе просто скажут: это всё не наше, нам это не надо, и разговор на этом закончится.
— И вы тоже не благословите?
— Разумеется, не благословлю.
— Боитесь начальства?
— Дурак ты, Серёга. При чём тут «боюсь»? Неловко даже слышать такую чушь от умного вроде бы человека. Я — представитель иерархии. Для того, чтобы благословить начинание даже куда более традиционное, я должен сам испросить благословение. Иерархия — от Бога, а без послушания иерархии не существует. Не из страха земного, а из страха Божьего я не считаю себя вправе таким образом своевольничать.
— Батюшка, почему иерархия такая косная?
— Не косная. Консервативная. И это не зло, а благо. Тебе кажется странным, почему это ленивые и ограниченные попы не хотят принять твою замечательную мысль? Но Церковь вот уже две тысячи лет переживает непрерывные атаки реформаторов. То хотят вероучение реформировать, то новые институты учреждать, то обряды изменить. Если бы мы каждый раз шли на поводу у таких реформаторов, от Церкви и вовсе бы ничего не осталось. Вот скажи, почему бы сейчас священникам не служить в костюмчиках с галстучками? Ведь никаких канонических препятствий к этому нет. А может богослужение на русский язык перевести? К этому тоже нет канонических препятствий. Тебе этого хочется?
— Нет.
— А многим хочется. И как быть? А сохраняем всё пока, как есть. Потому что мы ленивые и косные. И слава Богу. Или вот иные говорят, что в Русской Православной Церкви решительно необходимо учредить святейшую инквизицию. Требуют, добиваются, богословскими обоснованиями фонтанируют. Хочешь инквизицию?
— Нет.
— Надо же. А другие твоего Ордена не захотят. И почему же инквизиция не нужна, а Орден нужен? Потому что ты такой красивый? Ты в Церкви — без году неделя, а уже норовишь священноначалие учить. Ничего, впрочем, удивительного — обычная болезнь неофита. У нас таких «учителей вселенских» — каждый третий. Некоторые в раскол уходят, потому что «попы тупые». Хочешь в раскол?
— Я нашу Церковь никогда не оставлю.
— Слава Богу. Значит ты не безнадёжен. Учись, чадо Сергие. Учись думать, чувствовать, жить, дышать, как чадо церковное. Тогда тебе многое станет понятно в церковной жизни. Иерархия — священна, но она состоит из людей, а люди несовершенны. Иные иерархи проявляют спасительный консерватизм, а иные — губительную косность. Внешне это почти неотличимо. Так как же быть? Как мы с тобой рассудим, какой иерарх прав, а какой — не прав? Богословские аргументы можно подтянуть под что угодно. Вот так и родились все ереси и расколы.
— Так как же на самом-то деле быть?
— Торопиться не спеша. Никогда ничего не проламывать нахрапом. Воздух нюхать, землю слушать. Самое главное — ни в коем случае не отрываться от Церкви. Это путь всяких Лютеров и Аввакумов, а не наш. Если останешься в Церкви, если твоё начинание благое — Бог благословит, и всё устроится. А, может быть, оно и благое, да время не пришло, и тогда твоих правнуков Бог благословит.
— А мне показалось, вам обидно, что многие иерархи враждебно отнеслись к возрождению института диаконисс.
— По-человечески — обидно. Вроде бы начинание исключительно благое и совершенно бесспорное. Но почему же диакониссы в Русской Церкви так и не прижились? Я ведь не знаю. Может быть, были в этом деле некие соблазны, которых я не чувствую? Мне, конечно, очень хочется, чтобы воля Божия в точности совпадала с моим представлением о том, что есть благо, но я понимаю, что такое совпадение — отнюдь не обязательно.
— А как лично вы относитесь к идее Ордена? Не как представитель иерархии, а просто как мыслящий христианин?
— В чём-то эта идея мне даже симпатична, во всяком случае, не стал бы с порога её отвергать. Мне кажется, в церковной жизни надо развивать нечто такое, на что может опереться мужская душа. И всё-таки идея Ордена представляется мне весьма соблазнительной. Боюсь, если в православии появятся воины-монахи — многие соблазнятся и вреда может выйти куда больше, чем пользы.
— Значит, мне надо об этом забыть?
— Я этого не сказал. Не уверен, что ты пришёл по адресу. Конечно, грешному попу Владимиру Бог дал кой какой умишко и некоторые знания, а может быть и талант проповедника, полемиста, о чём с удовольствием тебе сообщаю. Но иногда мне кажется, что я очень неглубокий, немудрый человек. Мыслю вроде бы не слабо, а как-то линейно, поверхностно, схемами. Наверное, это потому, что я слишком мирской человек. Люблю хороший коньячок, по разным симпозиумам таскаюсь. Блистаю в свете, одним словом. А вопросы, подробные тому, какой ты поставил, надо прозревать духовно, надо чувствовать волю Божию. Моё недостоинство на это не дерзает. А вот знаю я одного священника. Дивный старец. Человек очень сложной, трагической судьбы. Вроде бы и грамоты не великой, а только начнешь с ним говорить, и такая глубина чувствуется, такая мудрость богоданная! Я с ним советуюсь иногда. Ты, конечно, сам смотри, но если он мне говорит «нет», я уже не рыпаюсь. К тому же он недавно ушёл на покой, за штат, может говорить свободнее, без большой оглядки на священноначалие, хотя, конечно, сильно своевольничать он тебе никогда не посоветует. А ты помолись хорошенько о том, чтобы через старца тебе открылась Божья воля.
Серёга встал, и молча поклонился отцу Владимиру в пояс.
От электрички до деревни Потеряевка надо было идти 5 километров по лесной дороге. Так Серёге объяснили. Вот только лесных дорог тут просматривалось как минимум две, если не считать таковыми ещё несколько основательных тропинок. Серёга в растерянности выглядывал, у кого бы уточнить дорогу. И тут он увидел, что к нему приближаются два здоровых, крепких мужика, один — в камуфляже, другой — в чёрной кожаной куртке.
— Ты не знаешь, какая дорога на Потеряевку? — спросил у Серёги мужик в камуфляже.
— Об этом же я хотел спросить у вас.
— Приехали. И что за места такие безлюдные? А самим выбирать дорогу — лучше не рисковать, — спокойно и задумчиво подвёл итог мужик в кожанке.
— Это точно, — лениво согласился Серёга.
И тут они заметили что к ним неспешно приближается старичок, который, видимо, сошёл с электрички вместе с ними. Указав дорогу на Потеряевку, старичок пошёл своей дорогой, а они втроём бодро зашагали к искомому населённому пункту.
— Вы не к отцу Иоанну? — спросил Серёга своих попутчиков.
— Так точно, — ответил мужик в камуфляже.
— Сергей.
— Владимир.
— Александр.
Познакомившись, они, тем не менее, всю дорогу шагали молча.
— Что за гости ко мне пожаловали! Три богатыря! — радостно улыбался старый священник, встречая их на крылечке убогого домишки.
— Здравствуйте, отец Валидол.
— Здравствуй, Шерханушка. Что, сердечко стало пошаливать, валидол потребовался?
— Вроде того, — сдержанно улыбнулся Шерхан. — Познакомьтесь, это мой друг Владимир, боевой офицер.
— Рад приветствовать славного афганского героя.
«Откуда он знает, что я служил в Афганистане? — подумал Ставров. — Впрочем, не трудно догадаться».
Тем временем Серёга хотел представиться, но отец Иоанн сказал вместо него:
— А это наш молодой учёный. Серёжа его зовут.
«Откуда он меня знает? — удивился Серёга. — Значит и правда настоящий старец».
— Как поживаете, отец Иоанн? — Шерхан наконец перешёл с тюремного погоняла священника на его настоящее имя.
— На покое поживаю. Почислен за штат по состоянию здоровья.
— А как то дело о краже икон?
— С меня обвинения сняли, хотя иконы, конечно, не вернули и никогда не вернут, потому что они уже заграницей.
— Крадуна хотя бы ищут?
— Зачем его искать, если он хорошо известен? И когда меня к вам на крытку отправили, он уже был известен. Просто захотели от меня, старого, избавится. Неудобен стал. Избавились и успокоились.
Шерхан ничего не понял, но чутьё арестанта подсказало ему, что спрашивать ни о чём не надо. Скорее для закругления разговора, чем для его продолжения, он спросил:
— Могу я чем-то помочь?
— Нет, Шерхан. Помогать не надо, потому что у меня всё нормально. Вот кто бы нашему крадуну помог. Но тут мы бессильны. Говори, зачем пожаловал?
— Хотим поговорить.
— Серёжа не помешает?
— Хотелось бы наедине.
Серёга встал из-за стола:
— Не проблема. Я подожду на улице. Сколько надо, столько и подожду.
— Сиди-ка, прыткий. Здесь я хозяин, — с шутливой строгостью отрезал батюшка. — Серёжа нам не помешает, Шерхан. Поверь старику.
— Как скажете. Вопрос вот какой. Решил я, батюшка, соскочить. Мы со Ставровым хотим создать охранное предприятие и предложить свои услуги коммерсантам на привокзальной площади, которую я сейчас крышую. Но я больше не хочу никого крышевать. Коммерсы работают на себя, мы работаем на себя, мы сотрудничаем с коммерсами на взаимовыгодной основе. И ничего больше.
— Устал, Шерханушка?
— Очень устал. Я всю жизнь среди блатных, я — один из них. Но я для них чужой. Последнее время это стало как-то уж очень заметно. Захотелось нормальной жизнью пожить, с нормальными людьми поработать. Бог мне Ставрова послал. Для начала мы с ним друг друга основательно порезали, а теперь хотим общее дело начать.
— Доброе дело. Рад вашей дружбе. А в чём вопрос? Вы всё хорошо решили.
— Всё не так просто, батюшка. Если делать так, как мы решили — будет большая кровь. Мы ведь Квадрату больше отстёгивать не станем, а это его территория, и он её так просто не отдаст. Пацанов положим — без числа.
— Чем ты готов заплатить за новую жизнь, Шерхан?
— Так кровью. У меня больше ничего нет. Только ведь кровью-то придётся платить не только своей. Греха боюсь.
— Сильно боишься?
— Не понял.
— Греха сильно боишься?
Шерхан развёл руками.
— А в этом-то и весь вопрос. Если ты по-настоящему, очень сильно, до глубины души возненавидишь грех — не будет греха. Люди оружия не могут полностью избежать крови. Но ты будешь ровно настолько чист от греха, насколько сильно возненавидишь грех.
— Это мудрёно, батюшка. Я подумаю, конечно. Тут есть о чём подумать. Но у меня сейчас вопрос конкретный: или мы не начинаем нашего дела, или будет серьёзное столкновение с Квадратом. Что выбрать?
— Бойся греха, а не Квадрата. Тогда Бог избавит тебя и от греха, и от Квадрата. Положись на Бога, Шерхан. Поверь, что Бог всё устроит. И чем больше будет в тебе веры, тем меньше будет крови на площади.
Шерхан радостно улыбнулся и кивнул, было похоже, что он понял о чём речь. Тогда батюшка обратился к Ставрову:
— А ты, герой, в Бога веришь?
— Да, я христианин.
— Разбойник ты, а не христианин! Вот твой друг — бандит, а ты знаешь, что он за всю свою жизнь не убил ни одного человека? А ты сколько народу положил?
— Без счёту, — глухо прошептал Ставров.
— Каешься?! — голос батюшки неожиданно загремел.
— Каюсь, — так же глухо прошептал Ставров.
— А что же ты не ссылаешься на то, что мол приказы выполнял?
— Приказом задницу можно прикрыть… а не душу.
— Надо же… Похоже, ты и правда христианин, — уже тепло и дружелюбно сказал отец Иоанн. — Так вот тебе мой наказ на всю жизнь: никогда не превозносись перед своим другом, бывшим бандитом. Для людей ты — герой, а он — криминальщик, ты заслужил почёт, а он — позор. Только Бог на людские почести не смотрит. Бог душу видит. И ещё не известно, у кого из вас душа чище. Так пусть это вам самим никогда не будет известно.
Ставров сокрушённо кивнул. Шерхан сморщился, как от зубной боли. Серёга всем своим видом изображал, что его здесь нет. Тем временем заварился батюшкин травяной чаёк, который они некоторое время молча прихлёбывали. Потом Ставров нерешительно начал:
— Отец Иоанн, когда я заканчивал службу в Афганистане, со мной произошла одна история… А может и не было ничего. Сам не знаю. Это не даёт мне покоя. До сих пор никому не рассказывал, а с вами считаю необходимым поделиться.
Ставров в деталях рассказал историю своего знакомства с командором Ордена тамплиеров Эмери дхАрвилем, который был убит в битве под Ла-Форби в 1244 году. Закончил, тяжело вздохнул и спросил:
— Как вы думаете, это было на самом деле?
— Пусть наш молодой учёный слово скажет, — кивнул отец Иоанн на Серёгу.
Серёга, слушая рассказ Ставрова, приобрёл выражение лица совершенно ошалелое. Казалось, он сейчас способен изъясняться только междометиями, но, собравшись. он спросил максимально по-деловому:
— Вы раньше интересовались историей Ордена тамплиеров? Что-то читали по этой теме?
— Разве что Вальтера Скотта когда-то в детстве.
— В романах Вальтера Скотта о тамплиерах — только чушь и блажь, если не назвать это откровенной клеветой. Из «Айвенго» и «Талисмана» невозможно почерпнуть никаких достоверных исторических сведений об ордене. А между тем, ваш рассказ воспроизводит множество абсолютно достоверных исторических деталей, которые вы не могли придумать сами, и если вы не почерпнули их в книгах, значит… Боюсь продолжать, — Серёга посмотрел на батюшку.
Отец Иоанн покряхтел и начал:
— Вот какое благоразумное чадо. Не торопится с выводами. Однако, ключик к этой ситуации Серёжа нам предоставил, и вот что моя мудрость может теперь сказать храброму воину. То, что ты рассказал, было с тобой на самом деле, но во сне или наяву — не известно, и ты этот вопрос себе даже не задавай — не имеет значения. Судя по всему, это подлинное проявление духовной реальности, а не плод твоих мечтаний. Но дальше следует самый важный вопрос: от Бога это явление или с противоположной стороны? Иные, даже весьма просвещённые, подвижники ошибались, отвечая на подобные вопросы. Ведь демон может принять вид ангела. Как тут разобраться? Золотое правило аскетики гласит: не отвергай и не принимай. У тебя есть твёрдая уверенность в том, что это был ангел, а не демон?
— Нет никакой уверенности.
— А если я тебе скажу, что это был демон… поверишь?
— Поверю. Вы ведь разбираетесь.
— Это хорошо. Очень хорошо. Значит, сей рыцарь души твой не поработил. А потянуло ли тебя после этого посещения в церковь или, напротив, стало казаться, что ходить туда ни к чему?
— Потянуло. Я теперь хожу в церковь, а раньше не ходил. Эмери подарил мне веру, я почувствовал, что верить в Бога очень радостно. Вы знаете, батюшка, я человек неучёный, книжек читал мало. В вопросах веры я сам никогда не разберусь и пытаться не стану. Я просто верю всему, чему учат в Церкви и готов выполнять всё так, как мне скажут.
— Доброе говоришь. А на счёт видения… Никогда не жди подобных видений и уж тем более не мечтай о них. Было и было, а больше не надо. И оставайся в послушании у Святой Матери-Церкви.
— Я понял, батюшка. Я где-то так и настроен. Но если это посещение от Бога, то это, может быть, некий призыв?
— Безусловно. Бог — не фокусник. Он послал тебе такого гостя явно не для того, чтобы развлечь. Но давай-ка мы пока оставим этот вопрос и послушаем, с чем к нам Серёжа пожаловал.
— После всего, что я услышал, не знаю, как и начать. Я без малого 3 года занимался историей тамплиеров, только о них и думал, прорабатывал теоретическую вероятность создания аналога Ордена Храма в наши дни. И вот, оказывается, тамплиеры — среди нас. Я думал о том, что создание братства воинов-монахов возможно в форме охранного предприятия, и вот, оказывается, господа тоже решили создать охранное предприятие.
— Господа все в Париже, — язвительно заметил Шерхан.
— Вынужден разочаровать товарища Шерхана, — Серёга не менее язвительно сделал акцент на слове «товарищ». — В Париже господ уже тоже не осталось. И если мы где-нибудь увидим настоящих господ, так разве что в Москве.
Шерхан на эти слова хохотнул, причём довольно дружелюбно.
— Итак, я продолжу с разрешения всех собравшихся граждан, — Серёга сделал акцент на слове «граждан», чем окончательно устранил желание класть ему палец в рот. — Мой вопрос — чисто теоретический. Я не могу быть лидером русского православного братства воинов-монахов. Я не знаю людей, которые могли бы составить такое братство. Но если предположить, что такие люди найдутся, и у них будет лидер, как отнесётся к этому Церковь? Найдётся ли хоть один священник, готовый благословить столь странное дело? С этим вопросом я и пришёл.
— Что ж, давай этот вопрос по порядку разберём. Тут главное, чтобы всё было по порядочку. Скажем, группа православных мужчин решила создать охранное предприятие. Так?
— Так.
— А почему же на это чад церковных не благословить? Только что благословил. Обычная мужская работа, нисколько не хуже, чем в армии служить или в милиции. Ничего такого православным людям не возбраняется. Пошли дальше. Допустим, эти православные охранники спрашивают батюшку, дозволено ли им вести чистую жизнь, целомудрие соблюдать. Так?
— Так.
— А что я тут могу не благословить? Я что скажу этим людям: или в брак вступайте, или блудите, но только ни в коем случае не соблюдайте целомудрие? Это было бы странно. Я, конечно, спрошу, а по силам ли тебе целомудрие, чадо, но если увижу, что по силам, так какие к тому препятствия? Тут и благословения особого не требуется. Разве надо брать благословение на то, чтобы не грешить? Так?
— Так.
— Пошли дальше. Допустим, эти люди не хотят иметь собственности, а желают вести жизнь нестяжательную, и во всём находиться в послушании у своего духовника. Опять же, на что я тут могу не благословить? Нет уж, скажу, копите деньги, стяжайте блага земные, что есть сил, и ни в коем случае не слушайтесь вашего духовника, а лучше вовсе его не имейте. Надеюсь, всем смешно?
Все коротко и деловито улыбнулись.
— Итак, — рассудительно продолжил отец Иоанн, — мы и сами не заметили, как получили воина-монаха. Это вооружённый человек, соблюдающие три монашеских обета — целомудрие, нестяжание и послушание. Кажется, такого человека не за что анафематствовать? Что в его жизни не церковного? Его остаётся только похвалить за то, что пытается жить чище, чем большинство вояк. Церковь не найдёт, что возразить и не найдёт, что запретить.
Архимед, воскликнувший: «Эврика!», вряд ли выглядел счастливее, чем Серёга, когда отец Иоанн закончил.
— Блестящее богословское обоснование, — радостно провозгласил он. Батюшка при этих словах шутливо склонил голову в поклоне. — Просто, как всё гениальное. Принципиально неоспоримо. Но., — по лицу юноши пробежала тень, — Церковь никогда не признает этих людей монахами.
— А зачем тебе это? Ты хочешь быть монахом перед людьми или перед Богом? Если Бог увидит в тебе монаха (если увидит, конечно) неужели тебе этого не достаточно? Смотрю вокруг и вижу: иной монах — и не монах вовсе, а человек в чёрной одежде. Обеты свои презрел, живёт для себя, а не для Бога. А иной старичок-мирянин, никогда о монашестве не помышлявший, по жизни, по душе — настоящий инок. Спрашиваю себя: кто из них перед Богом предстанет монахом? Правильный ответ: неизвестно. Это тайна, которую ведает лишь Бог.
— Значит, Церковь всё-таки не даст воинам монашеского пострига?
— Пока — точно не даст. Церковь, видишь ли, ничего не изобретает и не выдаёт патенты на изобретения. В Церкви всё происходит по-другому. Скажем, появилось в жизни что-то новое. Церковь ничего по этому поводу не говорит, потому что и говорить тут, может быть, не о чем — завтра это новое исчезнет, не приживётся и не будет темы для обсуждения. Но, предположим, это новое проходит проверку временем, крепнет, разрастается, овладевает умами и душами. Тогда Церковь говорит: «Это наше» или «Это не наше». Так ведь было и с самим монашеством. Ранняя Церковь монашества не знала, и преподобный Антоний Великий, когда решил жить в пустыне уединённо, проводя свои дни в молитве, не побежал в патриархию, чтобы запатентовать новый способ христианской жизни. Он в пустыню и побежал. Потом Фиваида наполнилась его последователями, такой образ жизни стал чрезвычайно популярен среди христиан. И только потом Церковь сказала: монашеский образ жизни есть подлинно христианский. А ведь по началу тут были немалые сомнения. Церковь не торопится благословлять, потому что сразу не может быть известно, благословит ли Господь? А ты иди своей дорогой, главное церковным установлениям не противоречь, но и на одобрение не напрашивайся.
— Значит, пострига искать не надо?
— Пока — точно не надо. Пойми главное: монашество — дело очень личное, это дело между человеком и Богом. Церковь может, например, лишить священника сана, но она никогда не лишит монашества, ибо монашеские обеты приносятся Богу, и не человекам этот союз расторгать. Ты можешь и без пострига дать Богу обещание соблюдать три монашеских обета, только помни, что такое обещание не менее ответственно, чем постриг. Может, лучше для начала пообещать Богу постараться жить по-монашески? И это будет воин, ведущий монашеский образ жизни. И это будет полумонах. А надо ли это? Откуда мне знать? Не торопись, не делай резких движений, обдумай всё хорошенько, постарайся услышать в своём сердце голос Бога.
— Батюшка, я прошу вас стать моим духовником.
— О-хо-хо… Ты не думай, что мы с тобой сейчас договор подпишем. Хотя я не запрещаю тебе смотреть на меня, как на своего духовника. Это скорее твой вопрос, чем мой. Приезжай, если хочешь. В духовном совете, в исповеди не откажу.
Ставров и Шерхан слушали этот разговор с вниманием столь напряжённым, как если бы каждое слово отца Иоанна было обращено к ним, хотя батюшка, казалось, вообще про них позабыл и обращался только к Серёге. Но вот батюшка неожиданно метнул цепкий взгляд в Ставрова и спросил:
— Ты хочешь стать таким, как командор тамплиеров Эмери д'Арвиль, погибший под Ла-Форби в 1244 году?
— Хочу, — просто ответил Ставров.
— Предполагаю, что сей рыцарь явился тебе, чтобы указать путь твоей жизни, подать пример. Серёжка ведь ни в чём бы не смог тебя убедить. Как может какой-то сержантишка в чём-то убедить капитана? Впрочем, ты подумай. Никто тебе не скажет, что ты должен делать и как жить. Ты умеешь принимать решения, и ты примешь решение. А ещё у меня вопрос к нашему братку, типа бригадиру, сиречь лидеру организованной преступной группы. Любишь ли ты Христа всем сердцем?
— Батюшка, я ведь всегда верил в Бога, — несколько растерянно сказал Шерхан.
— Ну да, верил. Перед каждой стрелкой свечки в церкви ставил. Самые дорогие свечки. Если бы в церкви продавали пудовые свечки, ты бы ставил пудовые.
— А разве это плохо? — Шерхан растерялся ещё больше.
— Плохо ли, хорошо ли? Откуда я знаю? Не надо так много ждать от убогого Валидола. Ты не ответил на мой вопрос: любишь ли ты Христа?
Шурка смотрел в стол, наверное, целую минуту, а потом растерянно и прочувствованно сказал:
— Я бы очень хотел любить Христа.
— А вот теперь ты ответил на мой вопрос. Бог в помощь, чадо Александре. И вот что я скажу вам всем троим. Держитесь вместе, как братья. Вы трое нужны друг другу.
Они по очереди подошли к батюшке под благословение и попрощались. Обратно на электричку шли втроём, но молчали. Потом Серёга без предисловий сказал:
— Возьмите меня в своё охранное предприятие.
— Ботаник, ты когда-нибудь оружие в руках держал? Только не рассказывай, что в армии тебе пару раз разрешили «калаш» потрогать, — усмехнулся Шерхан, впрочем добродушно и беспонтово.
— У меня первый разряд по биатлону, — не обиделся Серёга.
— Вона как. Увидимся в тире, стрелок.
Серёгина мысль фонтанировала теперь в плоскости практической. Он разрабатывал принципы, на которых будет основано военно-монашеское братство, в истории России небывалое и практически ничем не отличающееся от Ордена тамплиеров. Основная проблемы была в том, чтобы увязать монашескую реальность, совершенно чуждую современности, с экономическими, юридическими и социальными реалиями постсоветской России. Начало их эксперимента пришлось как раз на судьбоносный для страны 1992 год.
Орден рождался не сразу, а постепенно. Для начала Ставров и Шерхан должны были решить самый неотложный вопрос. Они собрали афганцев и братков, заявив, что намерены создать охранное предприятие, то есть выскочить из-под Квадрата. Народ собрался опытный, никому не пришлось объяснять, что это неизбежная война с людьми Квадрата, и шансов победить в такой войне немного. Противопоставить себя всей блатной Москве и остаться в живых, не говоря уже о том, чтобы добиться своего — это была, мягко говоря, авантюра.
Ставров и Шерхан никого не уговаривали и не агитировали. Шерхан просто сказал: «Кому жизнь не дорога — валяйте к нам. А кто за свою шкуру сильно трясётся, тем лучше поискать другие варианты». Ставров добавил: «Если кто в Бога не верит, тем будет с нами трудно. Есть тут такие идиоты, которые не верят в Бога?». Со всех сторон понеслось: «Мы чё, не русские?», «Верим», «Мы — православные», «Кто воевал — тот в Бога верит», «Это менты без Бога, а мы — с Богом». Ставров не ожидал такого религиозного единодушия. Впрочем, он заметил, что несколько человек молча напряжённо сопят. С тех пор он уже никогда не видел этих людей.
И тут произошло нечто совершенно неожиданное. В подсобку одного из привокзальных коммерсов, где проходило собрание, вошли два молодых милиционера — лейтенант и сержант. Они были из тех, кто дежурил на площади и держал контакт с Шерханом.
— Это чё, наблюдатели от ментовки? — хихикнул один из братков.
— С правом совещательного голоса, — хихикнул другой.
Лейтенант подошёл к Шерхану, что-то шепнул ему на ухо, Шерхан иронично улыбнулся и кивнул в знак согласия. Лейтенант обратился к собравшимся:
— Мы в курсе, что у вас готовится. Просим взять нас к себе.
— Мусорня за нас, братва! Победа обеспечена! — торжественно провозгласил весёлый браток и дико заржал. Этот хохот поддержали на удивление не многие.
— Мы больше не служим в милиции, — спокойно сказал лейтенант. — Только что написали рапорты об отставке, — в подтверждение своих слов бывший мент снял китель, достал перочинный ножик и аккуратно срезал погоны, которые положил в карман брюк, а китель снова надел.
— Растопчи погоны, тогда поверим! — крикнул тот же весёлый браток.
— Это, конечно, не боевые погоны, но я их ни разу не опозорил и топтать не стану.
— И что ты с ними сделать? В музей отдашь?
— Нет, зачем. Похороню у себя на даче с отданием воинских почестей.
Теперь уже захохотали все, причём довольно дружелюбно. Шерхан, на время сознательно выпустивший вожжи, теперь жёстко резюмировал:
— Кто пойдёт с нами, тот должен знать: среди нас больше не будет ни братков, ни афганцев, ни ментов. Всем мы будем братьями. А не братанами! — рыкнул он, глядя на своих. — Сейчас все разойдёмся. По мороженному съедим. Через час сюда вернутся только те, кому жизнь не дорога.
Через час собралась примерно половина тех, кто был вначале. Вместе с двумя бывшими милиционерами набралось 15 человек.
Квадрат привёл на площадь 20 самых крутых бандитов. Они остановились поодаль от нового братства, так же собравшегося в полном составе. Старый вор шагнул вперёд вместе с двумя пристяжными. Ему навстречу шагнули четверо — Шерхан, Ставров, Серёга и Кирилл — бывший лейтенант милиции. Кирилл демонстративно одел на стрелку милицейскую форму, полностью удалив с неё все знаки различия.
— У тебя, Шерхан, уже и краснопёрые завелись, — тихо и печально сказал Квадрат. — Ссучился ты, Шерхан, а с суками ты знаешь, что делают.
— Убивают, — так же тихо и печально ответил Шерхан. — Только посмотри сначала на тех ребят у нас за спиной. Ты на лица их посмотри. Видишь, да? Вам придётся убить их всех до единого. Ты хорошо знаешь людей, Квадрат, ты видишь, что из наших не побежит ни один. А как ты думаешь, многие из твоих братков покинут площадь на своих ногах? Ты положишь всю свою гвардию, и уже через неделю эту площадь приберут к рукам твои конкуренты. Не факт, что сам останешься в живых. Победителей всё равно не будет.
Старый вор тяжело вздохнул:
— А варианты? Ну, допустим, отдам я тебе эту площадь «без аннексий и контрибуций», как учил товарищ Ленин. Ты же завтра дальше пойдёшь, ничего старику не оставишь, последнюю корку хлеба отберёшь, сука ты беспредельная.
— Обещаю — только эта площадь и ничего больше. Ни на один квадратный (хм!) метр твоей территории мы больше не покушаемся.
— Что стоит слово беспредельщика?
— У нас волыны не горохом заряжены. Не поверишь слову — поверишь волынам. Ты знаешь, что такой (!) крови эта площадь не выдержит. А мы готовы к любой крови. Либо мы останемся здесь хозяевами, либо нас унесут отсюда вперёд ногами. Ты веришь мне, Квадрат, по глазам вижу, что веришь.
— Не пойму я, Шерхан, что у тебя теперь за крыша?
— У меня теперь Небо вместо крыши.
— Не по-нашему говоришь. Чужой стал, — Квадрат опять печально вздохнул. — Ну, хорошо. Допустим, я понял тебя. А что я братве скажу? С чего это я стал такой добрый, что подарил Шерхану площадь?
— Скажи, что Шерхан обещал никогда не поддерживать ваших врагов. И никогда на вашу территорию не зариться. Им это понравится. Они знают, что Шерхана лучше врагом не иметь.
— А как на это сходняк посмотрит?
— А как сходняк посмотрит на то, что ты слил ментам правильного пацана? Доказательства я представлю. Тогда получится, что ты сам толкнул Шерхана на беспредел. И кто там будет сукой на этом сходняке?
— Лишнее говоришь, — Квадрат покосился на свою пристяжь. — Сходняк беру на себя. Типа твоим адвокатом поработаю. Но ты хоть для порядка отступное в общак заплати. Совсем-то не обижай старика.
— Заплатим, Квадрат. Деньги — навоз. Кровь дороже.
На первое время после судьбоносной стрелки с Квадратом всё оставили, как было — коммерсы по-прежнему платили 15 процентов с оборота чёрным налом, для них вообще ничего не изменилось — как держал Шерхан площадь, так и продолжал это делать, изменился только состав его бригады.
— Я теперь типа братан, да? — ехидно усмехнулся Серёга.
— Нет, ты типа фраер в натуре, — огрызнулся Шерхан. — Ты думай, как там и какое предприятие создать, хотя пока всё равно не до этого. Надо Квадрату хорошие отступные заплатить. Себе из крышевых будем брать только на хлеб, никакой доли прибыли, наши парни будут получать зарплату примерно такую же, как в частных охранных предприятиях. Парни будут довольны, а нам для жизни одной такой зарплаты на троих хватит.
— Погано начинаем, — поморщился Ставров, — для вора деньги копим, на криминальную кассу пашем.
— Ставров, ты реальный мужик, — так же поморщился Шерхан, — ты понимаешь, что мы и так уже совершили невозможное, когда выломились из системы, да ещё совершенно без крови. Мы не с Квадратом вопросы решаем, а с системой, которая рулит Квадратом. Если бы мы не дали ему возможности сохранить лицо, мы не оставили бы ему выбора, и тогда он вынужден был бы пойти на любую кровь, хотя ему и не хотелось. Этими деньгами мы выкупаем кровь наших парней — пойми это, и тебе сразу станет легче.
— Да понимаю я, — тяжело вздохнул Ставров.
— Не знаю, кто где живёт, — продолжил Шерхан. — У меня есть однокомнатная квартира, кто хочет, может ко мне перебраться.
— Предложение очень кстати, — улыбнулся Серёга. — Надоело с родителями жить. Сегодня же пакую вещи и к тебе.
— С вещами только сильно не увлекайся, у меня места не лишка. Книжные стеллажи во всю стену я тебе точно не дам поставить. А ты, Володя?
— Да я бы тоже к тебе. Влезем?
— Без базара.
Они продали большую, основательную кровать Шерхана и бросили на пол три тюфяка. Получилось импровизированное мужское общежитие. А на кухне — офис. В духе лучших традиций Советской России — судьбы страны решались на кухне.
Где-то через месяц Серёга собрал совещание на кухне.
— Я проработал все детали по созданию предприятия. Но для начала, братья, нам надо решить самый главный вопрос: мы встаём на путь монашества?
— Я, конечно, мало в этом понимаю, — развёл руками Шерхан. — В Бога верю, но по-простому, без тонкостей. Раньше думал, этого достаточно, но как Валидола послушал, так начал понимать, что православие — это целая наука или даже искусство, в котором я ничего не смыслю. Что значит стать монахом я, наверное, не очень понимаю, — всегда такой уверенный в себе Шерхан, сейчас напоминал большого ребёнка и не знал, куда деть руки, нервно поигрывая кухонным ножом.
— Настоящих монахов из нас не получится ни сейчас, ни потом, как мне кажется, — обстоятельно начал Серёга. — Речь идёт скорее о том, чтобы жить по-монашески, подражать монахам, впрочем, в самом главном, то есть соблюдать монашеские обеты — целомудрие, нестяжание, послушание.
— Расшифруй.
— По-простому говоря — не спать с женщинами, не иметь ничего в частной собственности, вообще ничего не считать своим, и беспрекословно выполнять все распоряжения командира и духовника. Монаху в этом мире ничто не принадлежит, а главное — он сам себе не принадлежит, отрекается от собственной воли.
— Ну тут в общем нет ничего нереального, — чуть более уверенно заговорил Шерхан. — Своего-то я никогда ничего не имел — сначала в детдоме на всём казённом, потом всё что зарабатывал — отдавал в общак, и всё, что необходимо для жизни, получал из общака. Эта квартира, если честно, тоже не моя. Ну то есть она на меня оформлена, но куплена на общаковые деньги, и я не считаю её своей. Жениться никогда не собирался, честному арестанту нельзя иметь семью. С девочками. это дело. ну в общем это не моя тема. Мальчиками тоже не интересуюсь, так что не вздрагивайте. Послушание. Я очень зауважал Валидола, он так много для меня значит, что я готов выполнять всё, что он скажет, если, конечно, будет по силам, но он мудрый, ничего непосильного и не прикажет. Если всё это вместе взятое — подражание монашеству, то я готов монашествовать и даже очень этого хочу. Хороший путь. А ты, Ставров?
— Очень хочу стать таким, как Эмери. Мне трудно объяснить, чем была для меня встреча с ним. Словно в тёмной комнате свет включили. Оказалось, что в жизни столько всего ценного, о чём раньше и не догадывался. Только ничего не понятно. Я чувствовал, что по-прежнему жить уже не могу, потому и из армии уволился, но как жить дальше представлял довольно смутно, на что-то такое нормальное интуитивно пытался выйти. Уверен, что вас мне Бог послал. Сначала послал Эмери, а потом — вас. И отца Иоанна. Своего мне ничего не надо, жена от меня ушла, а другую искать я и не собирался — всё перегорело. А тут такое братство. У меня и вариантов нет.
— За себя могу то же сказать, — резюмировал Серёга. — Я когда в армии служил, познакомился с монахами Киево-Печерской Лавры. Такие удивительные, солнечные люди. Тогда ещё в монашество влюбился и хотел бы встать на этот путь, но чувствовал, что монастырь — не для меня. Когда писал диссертацию по тамплиерам, забродили мысли о том, чтобы создать некий аналог Ордена. Я уже сам себя начал идиотом считать. Ведь нет же людей, которые могли бы составить Орден. А тут вы. Мне кажется, Бог благословляет создание православного военно-монашеского Ордена.
— Но нас, таких ненормальных, только трое, — усомнился Ставров. — Остальным нашим ребятам эти мысли покажутся, мягко говоря, странными.
— А тут не стоит гнать коней, — уверенно продолжил Серёга. — Для начала трёх человек достаточно, да если нас и всегда будет только трое — не беда, это уже братство, а мир переворачивать мы не собираемся. Остальные парни будут у нас работать по найму за зарплату. Лишь бы не были атеистами, иноверцами и никакого криминала. Если кто-нибудь из них захочет встать на наш путь — примем, как соучредителей нашего предприятия, а нет, так пусть и дальше за зарплату работают. Если же захотят войти в наш круг, в круг хозяев предприятия, тогда останутся и без зарплаты. «Орден обещает вам хлеб, воду, бедную одежду и множество страданий».
— Это ты сам такой садизм придумал? — весело улыбнулся Ставров.
— Нет, это из устава Ордена Христа и Храма. Братья, это надо чётко осознать — если мы создаём братство тамплиерского типа, значит, ни один из нас не будет иметь даже зарплаты, всё необходимое для жизни получая от предприятия, и это необходимое должно составлять аскетический минимум.
— Да без базара, Серёга, договорились уже, выкладывай дальше, что это будет за предприятие, — поторопил Шерхан.
— Я долго искал организационно-правовую форму, оптимальную для нашего замысла. Вы знаете, что советский бизнес периода перезрелой перестройки протекал в форме кооперативов. А сейчас разрешили частную собственность, можно создать ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью, АООТ — акционерное общество открытого типа, АОЗТ — акционерное общество закрытого типа, ИЧП — индивидуальное частное предприятие. Все эти типы предприятий основаны уже не на кооперативной, а на частной собственности. Разумеется, все кооператоры резко бросились переделываться в частников.
— Я легальным бизнесом никогда не занимался, поясни, в чём тут кайф для кооператоров? — попросил Шерхан.
— Кооперативная собственность — коллективная. Объединились, скажем, несколько человек для того, чтобы вместе делать деньги. И все деньги, которые они заработали, всё имущество, которое они приобрели, ни одному из них юридически не принадлежит, а принадлежит кооперативу. Конечно, при желании всем этим можно пользоваться, как своим, там есть куча всяких увёрток, но если создать ТОО, то и увёрток никаких не надо. Это уже конкретно ваше — частная собственность, которой любой собственник может распоряжаться. Вообще-то, кооперативная собственность — лукавое и несколько подловатое советское изобретение. Покупаешь, например, кооперативную квартиру или вступаешь в гаражный кооператив и строишь гараж на свои личные деньги, а в итоге ни квартира, ни гараж тебе не принадлежат, хотя ты оплатил полную их стоимость. Они принадлежат кооперативу, ты даже продать их не можешь за сколько хочешь, можешь только сдать кооперативу и получить компенсацию — уж сколько дадут. Разумеется, любому бизнесмену удобнее всем, что он купил на свои деньги, и распоряжается, как своим. Сейчас это можно. Если действуешь в одиночку, создал ИЧП — там один учредитель. Собственность ИЧП и собственность его учредителя — не одно и то же, но по сути всё что принадлежит предприятию, принадлежит лично тебе. Если несколько человек объединяются, чтобы вместе заниматься бизнесом, они создают ТОО. Вносят доли в уставной капитал и затем владеют имуществом товарищества пропорционально доле в уставном капитале. Из ТОО любой учредитель может в любой момент выйти, забрав долю в имуществе и в уставном капитале. В акционерном обществе доля каждого участника обозначена ещё более отчётливо — через акции, которыми он владеет. Можно в любой момент продать акции либо часть акций и сделать это куда проще, чем истребовать выделения доли в ТОО.
— Это, очевидно, очень полезная информация, — пожал плечами Ставров, — но пока непонятно, зачем нам это знать.
— А мы как обет нестяжания соблюдать будем? Гражданское законодательство не учитывает необходимость в ряде случаев соблюдать нормы церковного канонического права. Эти две правовых системы никак не приспособлены друг к другу. Мы живём в светском государстве, это вам не православная Российская империя, где власть приспосабливала гражданское законодательство к церковному. А нам и в православной империи не было бы легче, потому что мы не есть структура церковная. Если бы мы принадлежали к Церкви — было бы проще. Ушёл монах в монастырь и ничем не владеет, всем владеет сам монастырь, а уж на каких правах и в каких формах монастырь владеет своим имуществом, это вопрос, который давным-давно порешали между собой митрополиты и министры — им виднее, а монах спокоен. За нас же Церковь ничего не решит, потому что юридически мы церковной структурой не являемся. Мы считаем свою организацию религиозной, но ни Церковь, ни государство нас в качестве таковой не признают. Итак, перед нами вопрос, на который кроме нас никто не ответит: какая организационно-правовая форма позволит нам соблюдать обет нестяжания?
— Не думал, что всё так сложно, — развёл руками Шерхан, — хорошо, что ты в этих вопросах пендришь. Ладно, говори, какой расклад.
— Расклад такой. ИЧП отметаем сразу, потому что там один учредитель, а нас уже трое. Если создать АООТ или АОЗТ — каждый из нас будет владеть пакетом акций предприятия. Пакет акций есть собственность. Это прямое нарушение обета нестяжания. С ТОО всё сложнее. Я сначала думал, что ТОО и надо создать. Ведь никто из нас лично ничем не будет владеть, всем имуществом, которое мы приобретём, будет владеть товарищество, как юридическое лицо. Но потом понял, что это лукавство. Каждый из нас будет совладельцем ТОО, то есть владельцем части его имущества. Скажем, купили мы на предприятие три машины. Я могу кивнуть на них и сказать, что они не мои, они принадлежат предприятию. Но ведь на самом-то деле одна из этих тачек фактически — моя. Будучи владельцем третьей доли в предприятии, я в любой момент могу потребовать выделения доли и забрать одну из машин себе.
— А разве мы не доверяем друг другу?
— Конечно, доверяем, но речь совершенно не об этом. Настоящий монах на самом деле не должен ничем владеть, не должен иметь никакой собственности. Нам хорошо бы избежать даже намёка на то, что кому-то из нас что-либо принадлежит. Нам лично не должна принадлежать даже одежда, в которой мы будем ходить. Всё должно принадлежать Ордену и только Ордену. Однако, вы понимаете, что мы не можем зарегистрировать Орден.
— Что ты предлагаешь?
— Я предлагаю, как ни странно, создать кооператив. Это лукавое советское изобретение как нельзя лучше отвечает нашим целям. Советская власть запретила частную собственность, но она нуждалась в том, чтобы люди иногда кое-что покупали за свои личные деньги. Ты купил квартиру, ты думаешь, что она твоя. Но на самом деле она принадлежит кооперативу, и ты никогда не сможешь распоряжаться этой квартирой, как своей. Это не просто другая организационно-правовая форма, это другая форма собственности — не частная, а кооперативная. А нам того и надо!
— Да, квартиру стоило бы купить, — задумчиво сказал Шерхан. — Двухкомнатную. А лучше сразу трёхкомнатную. А эту в общак вернём. Кстати, общак — это какая форма собственности?
— Типа, тоже — кооперативная. Никому в отдельности общак не принадлежит, но принадлежит всем вместе. Только ворам это никак оформлять не надо. Они для себя — «в законе», а для государства — вне закона. Мы же предполагаем заниматься легальной деятельностью, то есть наши действия должны чётко укладываться в рамки гражданского законодательства. И церковного — тоже.
— Ладно, Серёга, сам понимаешь, что полемики не будет. Из нас троих в этом крючкотворстве разбираешься только ты. Если по-простому рассудить, ты вроде всё нормально придумал. Итак, создаём кооператив? — Шерхан посмотрел на Ставрова.
— Не усматриваю препятствий, — офицер улыбнулся и развёл руками.
— И сразу можем приступать к легальной деятельности? — спросил Шерхан у Серёги.
— Ничего подобного. Охранная действительность подлежит обязательному лицензированию. Надо ещё лицензию получить. И надо юриста нанять. А то я ведь любитель. Общую схему вижу, а нюансов не знаю.
— Всё, Серёга, я запарился, — Шерхан махнул рукой. — Только сейчас понял, как легко жить по понятиям. А по этим вашим законам. Давай, рули. Нанимай юриста, пробивай регистрацию, лицензию, всё, что положено. Делай быстро. Нас со Ставровым без крайней необходимости не тереби.
— Ещё два вопроса. Первый — кто будет председателем нашего кооператива.
— Это вообще не вопрос. Ставров, конечно. Только, Володя, я тебя умоляю, давай обойдёмся без обязательного ритуала: типа ты отказывался, а мы тебя уговорили. Такое предприятие может возглавить только боевой офицер, а уж никак не бывший бандит.
— Вынужден подчиниться, — кивнул Ставров.
— Второй вопрос — название предприятия. Предлагаю «Пересвет».
— Это который Челубея замочил? — уточнил Шерхан. — Помню, в учебнике картинка была: «Поединок Пересвета и Челубея».
— Только на картине, репродукцию которой поместили в учебнике, допущена существенная историческая неточность. Инок Пересвет на поле боя был не в боевых доспехах, а в одежде схимника. Пересвет — монах-воин. Наш пример для подражания.
— Хорошо придумал, — кивнул Ставров. — И пример достойный, и из русской истории, а то подражания тамплиерам нам патриоты не простят.
— Всё, не могу больше, — взмолился Шерхан. — Командир, благослови стаканчик водки.
Кирилл, бывший лейтенант милиции, подошёл к Шерхану во время дежурства на площади:
— Александр, — он всегда называл Шерхана только по имени, — у меня к тебе просьба. Я от жены ушёл, жить негде, вы не могли бы меня на время у себя приютить хотя бы в прихожей на коврике.
— Не вопрос. Приютим. Но насчёт коврика, боюсь, что будет в самом прямом смысле. Мы и так втроём живём в однокомнатной.
— Я неприхотлив. Лишь бы крыша над головой. Спасибо, — счастливо улыбнулся Кирилл.
— А от жены-то зачем ушёл? Мириться надо.
— Нет, не буду мириться. Её интересуют только деньги. Когда в милиции работал — постоянно пилила, что взяток не беру. Когда узнала, что стал частным охранником — обрадовалась, решила, что денег будет много. Теперь опять разочарование.
— Мы что тебе мало платим?
— Для неё — мало. Ей всегда будет мало. Я бы с ней помирился, но она никогда не смирится со скромным достатком.
— Тебе, возможно, у нас не понравится. Мы живём немного необычно. Как бы по-монашески. Утром — совместная молитва, перед сном — совместная молитва. Строго соблюдаем посты. Разговоры на некоторые темы запрещены и ещё ряд ограничений. Конечно, мы не заставим тебя жить так же, как мы, но тебе самому могут не понравиться такие соседи, особенно, если к вере равнодушен.
— А, может быть, так и надо жить, как вы живёте? Не знаю. Мало понимаю в этом. Но почему-то такая жизнь меня не пугает. Даже интересно.
Кирилл переселился в братское общежитие. На молитву вставал вместе со всеми — невозможно же было лежать у братьев под ногами, когда они стояли перед иконой. Первое время он просто стоял у братьев за спиной, а потом начал молиться, как и они. Это произошло само собой и, пожалуй, даже для него самого неожиданно. От зарплаты он отказался сразу же — не держать в руках ненавистных ему денег было для Кирилла очень приятно — довольствовался пропитанием и бесплатно выдаваемым добротным камуфляжем. Посты явно не тяготили его — молодой здоровый желудок быстро освоился с простой грубой пищей. Свободное время предпочитал проводить за чтением книг, преимущественно — православных, какие обнаружил в своём новом жилище. Мнением о прочитанном не делился.
Кирилла никто ни разу не спросил, каково его отношение к православию и к тому образу жизни, посреди которого он оказался. Сам он тоже ничего не комментировал, оказавшись на редкость молчаливым, но порою его молчание звучало очень красноречиво и многозначительно, было похоже, что в парне идёт сложная внутренняя работа. Через месяц совместной жизни Кирилл обратился к Ставрову:
— Можно мне с вами в церковь пойти?
— Да кому же церковь нельзя? — улыбнулся командир. — Но сразу предупреждаю — на руках не понесём.
Из церкви Кирилл вышел задумчивее обычного, и только через сутки он обратился к Ставрову:
— Мне очень понравилось в церкви, но я там ничего не понял. Вы не могли бы мне объяснить, что там вообще происходит?
— Это тебе к Серёге. Он у нас мастер объяснять. Сергей, можно сказать, идеолог нашего братства.
Серёга ответил на все вопросы Кирилла, но ничего не предложил и не посоветовал. Кирилл молчал ещё неделю, потом сказал:
— Мне надо на исповедь и причастие. Помоги подготовиться.
После исповеди и причастия Кирилл светился от счастья, но опять же молчал. Ещё через некоторое время он попросил подробнее рассказать ему о братстве и, на сей раз, уже не раздумывая, сказал: «Я хочу стать одним из вас. Примете?». Приняли.
Отступное для Квадрата собрали за три месяца, вышла весьма приличная сумма, которой вор был вполне доволен и вопросов к Шерхану больше не имел. Другие воры и авторитеты так же порешили на сходняке оставить Шерхана в покое. Он явно не был ни для кого опасен и его соскок никак не разрушал раскладов воровской жизни, при этом всем было понятно, что отнять у Шерхана площадь можно только через море крови — одно другого не стоило.
Изредка на площадь наезжали спортсмены-беспредельщики, не признававшие, да и не знавшие никаких договорённостей. Беспредельщиков приводили в чувство очень жёстко, ломая руки и ноги — иначе тут было никак.
Ещё через месяц предприятие «Пересвет» было зарегистрировано и лицензия на охранную деятельность получена. Со всеми коммерсами на площади заключили нормальные правильные договора на оказание охранных услуг. Суммы в договорах ставили не маленькие, но они были в два раза меньше бандитской дани. Коммерсы были счастливы. Охрана, предоставляемая предприятием «Пересвет», была реальной и эффективной, в отличие от бандитской крыши, которая давала, порою, лишь иллюзию безопасности. Некоторые плутоватые коммерсы время от времени пытались обжулить предприятие, ссылаясь на финансовые трудности, задержать оплату, а то и вовсе не заплатить. Они раскумекали, что теперь имеют дело не с бандитами, то есть не с хозяевами, а с охранниками, то есть с наёмной рабочей силой, с партнёрами, а какой же коммерс не пытается время от времени обмануть партнёров? С такими плутами тоже разбирались довольно жёстко, но жестокости тут уже не требовалось. Просто приходили к концу рабочего дня, всем заламывали руки и брали из выручки сумму долга — ни на копейку больше, при этом тут же оформляли все финансовые документы о том, что задолженность погашена. А иногда, зная, что у некоторых коммерсов вполне реальные трудности, входили в положение, соглашались подождать с оплатой и ни разу на этом не прогорели.
Деньги полноводной рекой хлынули на счета предприятия «Пересвет». Миллионы, которые бандиты пропивали по кабакам, тратили на шикарных девочек и дорогие иномарки, распыляли на Канарах и Багамах, у «Пересвета» ровным и всё более толстым слоем оседали на счетах. На себя они почти ничего не тратили, жили как аскеты, ездили на старенькой «Ниве». Вскоре без напряжения купили трёхкомнатную квартиру, куда и переехали вчетвером. Приобрели минимум мебели — кровати, столы, шкафы — всё очень добротное, но безо всякого шика. Стали жить в двух комнатах по двое. Третья комната тоже недолго пустовала.
Перед наёмными работниками «Пересвета», которые не входили в братство, они свой образ жизни никогда на пропагандировали, да и вообще не распространялись о том, как живут, хотя и не скрывали ничего. Иногда у некоторых охранников возникали вопросы — легенды-то ходили о том, что хозяева предприятия живут не вполне обычно. От праздного любопытства отмахивались, на проявление живой заинтересованности отвечали подробно. Так они вызвали у некоторых парней желание жить такой же жизнью, подчиняясь железной военно-монашеской дисциплине, не имея никакой собственности и даже зарплаты, но, вместе с тем, никогда не испытывая ни малейших материальных затруднений — братство гарантировало всё необходимое для жизни в пределах аскетического минимума. Теперь все знали — стать в этом предприятии одним их хозяев, значит стать навсегда нищим, и более того — полностью отказаться от личной жизни, да и от личной воли тоже, принимая приказы командира и благословения священника, как проявление высшей воли.
И всё-таки желающие жить такой жизнью появлялись регулярно — один, второй, третий. Что же привлекало молодых мужчин в братство? Почему эта жизнь, на первый взгляд совершенно невыносимая, так их манила? На этот вопрос ни Ставров, ни Шерхан не могли бы ответить исчерпывающе, да, пожалуй, и великий теоретик Серёга затруднился бы с формулировками. А дело, наверное было в том, что душа мужчины требует романтики, а романтика мужской души строится на преодолении препятствий. Настоящего мужчину всегда тянет к трудностям, к лишениям, потому что, только совершая невозможное, мужчина утверждает своё право считать себя таковым. А если Бог подарил мужчине веру, его уже не потянет к покорению Северного полюса или Эвереста, потому что душа, познавшая Христа, а значит — обретшая смысл и цель существования, становится совершенно чужда какой бы то ни было бессмыслицы. Но мужчине мало сказать — борись со своими грехами — это теперь твоя война. Бороться с грехами — само собой, но что делать, если он чувствует себя созданным для внешней активности? Мужчина по природе своей защитник, тем более, если он — христианин. При этом каждый свободный мужчина должен иметь право на оружие, потому что без этого права ему, порою, затруднительно выполнять свою главную обязанность — быть защитником. Монахи — самые ревностные христиане, но ревностные христиане, если они мужчины, должны быть лучшими защитниками, а не беспомощными людьми, которых самих надо защищать, в чём они уже уподоблялись бы женщинам. Мужчине можно долго рассказывать, что главная сила — внутренняя, духовная. Он охотно согласится, но при этом будет считать, что неплохо бы эту внутреннюю силу подкрепить так же и внешней, вооружённой силой — хуже-то не будет. И даже отказ от применения вооружённой силы, даже готовность безропотно страдать, должны вытекать из обладания этой силой. Невозможно отказаться от сопротивления, если ты к сопротивлению и не способен. Прокачай сначала мускулы, а потом — никого не бей, а иначе ты просто будешь прикрывать христианством свою дистрофию.
Так что же давало братство «Пересвет»? Возможность сочетать духовные идеалы христианства с чисто мужским образом жизни, монашеский аскетизм с аскетизмом военным. Братство давало возможность стать настоящим христианином, не теряя мужского лица, сложить воедино чисто христианскую жертвенность и право на оружие. Этот идеал, воплощённый в своё время тамплиерами, заставляет трепетать от восторга душу мужчины, если он идеалист.
Но не многим, особенно в наше развращённое комфортом время, по силам воплотить в своей судьбе тамплиерский идеал. Хозяева «Пересвета» это прекрасно понимали, проявляя естественное недоверие к возвышенным порывам тех, кто заявил о своём желании вступить в братство русских тамплиеров. Первая их четвёрка сложилась естественно и органично, а вот следующих принимали уже с годичным испытательным сроком. Кандидаты были в братстве чем-то вроде послушников, вели тот же образ жизни, что и братья, но не обладали правом голоса и по отношению к предприятию оставались вольнонаёмной рабочей силой.
Постепенно число братьев вместе с послушниками дошло до девяти и на этой цифре странным образом зафиксировалось. Они совершенно не пытались подогнать свою численность под первую тамплиерскую девятку, но так уж вышло. Так Бог благословил. Жить продолжали по двое в комнате, по-тамплиерски, прикупив ещё одну квартиру, двухкомнатную, на той же лестничной площадке.
Теперь вся девятка, едва ли не строем, ходила по воскресениям в храм. Выбрали маленькую церквушку в тихом московском переулке. Регулярно исповедовались и причащались, но вне исповеди к батюшке не подходили и о своём братстве ничего ему не рассказывали. Не потому что не доверяли священнику или что-то скрывали от него, а просто не видели необходимости грузить батюшку лишней информацией. Исповедь — дело индивидуальное, там каждый говорит о своих грехах, а не о том, где и на каких условиях работает. А если мужчина живёт целомудренно и нестяжательно, это, вроде, не повод для покаяния.
Духовником братства считали отца Иоанна, которого за глаза по-прежнему с лёгкой руки Шерхана именовали Валидолом. (Самого Шерхана тоже редко называли по имени). К Валидолу ездили иногда по одному, иногда по двое-трое, но каждый говорил с ним наедине, потому что говорил о личном. Вопросы, связанные с братством, батюшка обсуждал только с лидером — Ставровым, причём, тоже только наедине. Отец Иоанн по-прежнему избегал считать и называть себя духовником братства, и на предложение затвердить его в этой роли отвечал уклончиво: «Что вы хотите, ребята? Я всегда готов побеседовать с любым из вас, может, что и дельное посоветую. Если кто-то видит во мне духовника, так ведь я же не запрещаю. Да и не могу я кому-то запретить видеть во мне кого-то, а вы прямо готовы назначить меня на должность. И должность такую важную предлагаете — духовник целого братства. Не по чину это убогому иерею».
Ставрову сначала очень не нравилась эта позиция батюшки, ему казалось, что Валидол виляет и выкручивается, как политик перед избирателем, но потом командир начал что-то понимать. Отец Иоанн ещё не считает их родившимися, не знает по какому пути пойдёт эта группа вооружённых мужиков, и не хочет связывать ни их, ни себя какими-либо взаимными обещаниями, не хочет до времени даже намёка на превращение их братства в структуру церковную, и не потому что не верит в них, а потому что не хочет создавать им лишних проблем. Пока их братство есть охранное предприятие «Пересвет» — ни у кого нет вопросов. Но если это военно-монашеский Орден, духовное руководство которым осуществляет священник — раздавят сразу же и не задумываясь. Пусть уж лучше пока всё идёт, как идёт.
А дела «Пересвета», во всяком случае — финансовые, шли очень даже не плохо. Им не надо было искать заказы, их нельзя было кинуть и не заплатить, они не распределяли прибыль меж собой, а на личное потребление тратили столько, что даже нищие пенсионеры не позавидовали бы — деньги полностью оставались на счету предприятия, и предприятие теперь могло позволить себе очень многое. Купив две квартиры, они вскоре приобрели офис и пару крепких джипов. Спортзал для тренировок сначала арендовали, а потом выкупили в собственность предприятия. Пошили добротную полувоенную форму, закупили небольшую партию прекрасного стрелкового оружия. По настоянию Серёги, начали формировать библиотеку, где преобладали книги православные и исторические. Библиотеку они сделали доступной всем работникам предприятия. Нельзя сказать, что за книгами тут же выстроилась очередь, но наведывались сюда постоянно, то один, то другой охранник, а для членов братства Серёга даже составил списки литературы, обязательной для прочтения, да потом ещё и покрикивал, если видел, что кто-то из братьев подолгу не берёт книги в руки: «Я из вас библиофилов делать не собираюсь, диссертацию тут никому защищать не придётся, но элементарными сведениями из всемирной и русской истории каждый из вас обязан владеть, потому что иначе мы — не братство, а сброд. Мы не можем позволить себе быть тупыми и ограниченными солдафонами». Серёгино право делать такие внушения никто сомнению не подвергал.
Потом Серёга решил прочитать цикл лекций по истории Ордена Христа и Храма. Собравшиеся в спортзале охранники слушали его на удивление внимательно. Потом засыпали вопросами. В тамплиеров влюбились все. Были, конечно, среди охранников такие, которые не могли влюбиться в тамплиеров, но они поувольнялись ещё задолго до лекций — им в «Пересвете» атмосфера не понравилась. Остались только ребята хотя бы в некоторой степени религиозные и способные радоваться не только повышению зарплаты. После лекций на серёгино место обычно выходил Ставров и говорил: «А сейчас будем закреплять полученную информацию. Занятие по рукопашному бою». Из зала убирали стулья, расстилали маты и колотили друг друга до полного изнеможения.
Ставров не пытался научить ребят какой-то правильной борьбе, он показывал приёмы, рождённые жизнью в реальных рукопашных схватках. Вскоре выяснилось, что ножом Шерхан владеет лучше, чем Ставров, офицер больше привык орудовать автоматом с примкнутым штык-ножом. Ставров и Шерхан, носители очень разных боевых традиций, учились друг у друга, а все остальные учились у них обоих, постепенно становясь носителями уникального стиля армейско-бандитского рукопашного боя.
Тир по-прежнему арендовали, свой покупать не видели смысла, занятия по стрельбе проводили регулярно, патронов не жалели.
Серёга понимал, что надо бы ребят понатаскать в основах православия, но сам, хоть и обладал уже достаточными знаниями, не решался за это взяться, полагая, что тут нужен священник. Решил пригласить своего старого знакомого, отца Владимира, который охотно согласился провести ряд бесед.
Отец Владимир всех очаровал. Вполне современный человек, обращавшийся к аудитории на её языке, утончённый интеллектуал, блестящий оратор, умеющий и рассмешить и озадачить, отец Владимир для целей катехизации слаборазвитой мужской массы был то, что надо.
У Серёги от этого, как ни странно, защемило сердце: «До чего же отец Владимир не похож на отца Иоанна. Батюшку Иоанна здесь, наверное, не оценили бы. Он неброский немногословный и, на первый взгляд, невыразительный, как русская природа. Поразить воображение не пытается, рецептов не даёт, на вопросы отвечает уклончиво, всем своим видом давая понять, что сам ничего не понимает. А потом вспоминаешь его слова, и постепенно доходит, что он на все вопросы на самом деле ответил, только гораздо тоньше и глубже, чем можно было ожидать, а потому его ответы не сразу понятны. А у отца Владимира всё просто, ярко и впечатляюще. Быстро и выразительно, смелыми и элегантными мазками, словно модный художник, он создаёт картину православия. И картина получается вполне правдивой. Так плохо ли это? Конечно, хорошо. Глубины маловато, но если наших слепых щенков да сразу на глубину — потонут. Отец Владимир — умница, и не надо забывать, что именно он сосватал его с отцом Иоанном. Вот так бриллиант православия играет разными гранями. Отец Иоанн не хочет своего признания в качестве духовника братства. Он не принимает поспешность нашего выбора и не хочет, чтобы мы сразу же жёстко замкнулись на одну из граней, так же как отец Владимир не захотел тогда, чтобы я принял его личные выводы и оценки, как окончательные. Они оба очень мудры, и нашему братству чрезвычайно повезло, что они оба у нас есть».
— Основные материальные проблемы предприятия мы уже порешали, — начал Ставров. — Квартиры, офис, спортзал, автомобили, оружие, форма. Сейчас на счетах опять скопились приличные средства. Мы должны грамотно ими распорядиться.
— Можно охранникам зарплату повысить, — сказал Кирилл.
— Можно, но не уверен, что нужно, — парировал Шерхан. — Мы удерживаем зарплату на уровне средней по охранным предприятиям Москвы. Стоит ли ребят разбаловывать? Не хочу, чтобы к нам шли из-за высокой зарплаты.
— Но иногда кому-то из наших работников бывает срочно нужна большая сумма, — продолжил Кирилл. — Сыну моего бывшего сослуживца Николая требуется операция на сердце. Бегает, занимает, ко мне пришёл, а у меня ведь личных денег — ни копейки.
— Николаю денег дадим, просто подарим необходимую сумму, — кивнул Шерхан. — Во всех подобных случаях, я полагаю, мы должны оказывать своим работникам материальную помощь. Но это разовые мероприятия. Я вот тоже думал, что хорошо бы нам оказать материальную помощь детдому, в котором я воспитывался. А потом понял — не надо им денег давать. Дело не в том, что половину администрация разворует, за этим можно проследить. Дело в том, что основные проблемы детдомовских ребятишек — отнюдь не материальные, их вишнёвый компот счастливыми не сделает. Лучше бы для них организовать регулярные занятия в нашем спортзале — мускулы прокачают, а главное — будут расти в среде нормальных мужиков, иначе они потом обязательно окажутся под очередным Квадратом. А мы, занимаясь с ребятишками, будем рекрутировать в своё предприятие лучших из них.
— Дело говоришь. Принято, — удовлетворительно сказал Ставров. — Ещё предложения?
— Надо бы нам на Церковь пожертвовать, — задумчиво протянул Серёга.
— Не проблема, — улыбнулся Ставров, — но, кажется, ты сам не в восторге от собственного предложения.
— Да та же история, что и с детдомом. Тут деньги мало решают. Мы могли бы Валидолу пенсию удвоить, но ведь он не возьмёт. Разве что крышу на его избушке железом покрыть, не обращая внимания на его протесты. Дать отцу Владимиру на храм? Так у него спонсоры такие, что мы перед ними — нищие. И ни один московский храм не бедствует. В Подмосковье сейчас начинают храмы из руин поднимать, им порою имело бы смысл подбросить деньжат на кирпичи, а лучше — кирпичей и подбросить. Но не будем же мы постоянно рыскать по Подмосковью, выясняя, где без наших кирпичей храм не будет возрождён. Узнаем — поможем, но это в любом случае точечные мероприятия. У нас проблема, господа. Мы копим силы и сами не знаем, зачем они нужны. Сейчас мы начнём расточать свои силы в случайных, хаотических действиях, которые никак не складываются в единую осмысленную картину.
— Смысл братства в том, что оно существует, — отрезал Ставров. — Мы собрались вместе, чтобы вести тот образ жизни, который считаем для себя наилучшим.
— Это так, — охотно согласился Серёга. — Братство даёт нам кусок хлеба и возможность жить по-монашески. Но, мне кажется, это для нас лишь начальный этап. Никто ведь не считает охрану коммерсов смыслом своей жизни. Тамплиеры тоже охраняли рынки, и сам по себе Орден имел для них большое значение — они жили так, как считали для себя наилучшим, но кроме того у них была цель — защита Святой Земли, защита Гроба Господня. А у нас такой цели нет.
— Ты предлагаешь объявить войну Израилю? — осведомился Шерхан.
— Сегодня Гроб Господень вне опасности и доступен всем христианам, — вполне серьёзно ответил Серёга. — Повода для Священной войны в Палестине нет. А вот в Москве христианские святыни, храмы далеко не всегда находятся в безопасности. В последнее время сатанюги распоясались — валят кресты на кладбищах, оскверняют христианские могилы. Недавно стену одного храма испоганили всякими мерзкими надписями.
— Это тема, — кивнул Ставров. — Что конкретно предлагаешь?
— Предлагаю дать бесплатную охрану некоторым храмам и кладбищам, где максимально вероятны сатанинские акции. Тут возможны варианты и необходима проработка деталей. Для начала я предлагаю новую принципиальную схему, по которой будет существовать наше братство. Все наши навыки мы затачиваем под охранную функцию, так же, кстати, как и первые тамплиеры. Следовательно, высший смысл существования нашего братства должен быть так или иначе связан с охранной функцией. Зачем тамплиеры охраняли рынки? Для того, чтобы заработать деньги, а потом предоставить бесплатную охрану святыням и христианам. Вот и мы должны также. Нам не надо думать на что израсходовать заработанные деньги, не надо распылять средства. Деньги мы потратим на зарплату нашим парням, которые будут охранять религиозные объекты, с которых мы в свою очередь не возьмём за охрану ни копейки.
— Дело говоришь, — глаза Шерхана засветились. — А у меня — встречная мысль. В братстве сегодня 9 человек, остальные — наёмные работники. Предлагаю членам братства вообще устраниться от охраны коммерсов на площади и полностью отдать себя чисто религиозной охранной деятельности, а площадь будут охранять наёмные. Поскольку мы вдевятером на площади работать не будем, надо нанять ещё 9 человек — вот им-то на зарплату и уйдут деньги.
— Всё красиво, — буркнул Ставров, — только вот что, дорогие мечтатели. Площадь совсем-то из рук выпускать нельзя. Вам только кажется, что там всё отлажено, а на неделю оставь их без присмотра и всё рухнет. И тогда у нас больше не будет никаких дел — ни земных, ни возвышенных. Дойную корову кто-то пасти должен. Значит так. Назначаю Шерхана своим заместителем по охране коммерсов на площади. Ты, Шура, теперь там главный, как это, впрочем, и всегда было.
— Ты что же, командор, меня от братства отстраняешь? — пожал плечами Шерхан.
— Никто тебя не отстраняет. Поставишь рулить площадью самого надёжного из вольнонаёмных. Будешь спрашивать с него за порядок, контролировать заключение и исполнение договоров, сам будешь появляться на площади не реже раза в неделю, на твоём авторитете там всё и держится до сих пор. Этот контроль займет у тебя пару дней в неделю, а всё остальное время будешь участвовать в наших основных делах. Вариантов нет и полемики не будет. Это приказ.
— Именем Господа, мессир, — грустно улыбнулся Шерхан.
— Ну что, господа прозаседавшиеся! Совещаемся, деньги пилим, концепции вырабатываем! — Серёга вспылил так, как за ним не водилось. — а у сатанистов уже давным давно всё нормально с концепциями, и действуют они жёстко, решительно, наступательно. Не то, что мы. Сатанисты скоро станут хозяевами Москвы, а потом и всей России. И это нисколько не удивительно, если у христианства такие защитники, как мы — говорливые, но ничего не делающие. У сатанистов простая концепция: «Любой крест, встреченный на пути, должен быть повален». И они валят кресты. А мы всё рассуждаем, с какого бы бока к кресту подойти, чтобы его защитить.
Серёгу взорвало на третий день после судьбоносного разговора. Они прорабатывали детали новых принципов существования братства, всё шло по плану и не сказать, что очень медленно, но тут, видимо, произошло нечто весьма прогневавшее главного идеолога, только никто пока не знал, что именно.
— Уймись, чадо Сергие! — жёстко сказал Ставров.
— Кому я тут «чадо»? — огрызнулся идеолог.
Они сидели за столом, Ставров поднялся с места, навис над Серёгой и прорычал, тихо, но зловеще:
— С тобой говорит командир. Приказ — прекратить истерику и спокойно рассказать, что случилось.
— Прости, командир, — Серёга сразу же пришёл в себя.
— Итак?
— Помните, я рассказывал о том, что сатанисты испохабили стену храма гнусными надписями? Они этим не ограничились. Вчера ворвались на богослужение, выкрикивали непристойности в адрес Христа, оскорбляли верующих.
— А верующие как себя вели?
— В стенки вжались и глаза — в пол. Как ещё-то?
— А священник?
— В алтаре укрылся. Удивляюсь, почему эти нелюди в алтарь не ворвались. Видимо, это будет в следующий раз.
— Ещё что-то?
— Вокруг храма было несколько дореволюционных могил, прежних настоятелей хоронили рядом с храмом. Все могилы осквернены, надгробия повалены.
— Суть ясна, — сурово Заключил Ставров. — Александр, Сергей, Кирилл — в машину.
— Батюшка, мы предлагаем вашему храму бесплатную охрану, — Ставров сказал это, наверное, суровее, чем стоило.
— Мы — это кто? — тревожно спросил священник, дородный мужчина лет пятидесяти.
— Охранное предприятие «Пересвет». Храм будут охранять православные церковные люди.
— Священник тяжело вздохнул, судя по всему, его не очень обрадовало это предложение.
— Вы не считаете, что вашему храму нужна охрана? — всё так же сурово уточнил Ставров.
— Я уже сообщил в милицию, они обещали прислать двух сотрудников.
— Вы же понимаете, что это обещание ничего не стоит. Вряд ли они кого-нибудь пришлют, а если и пришлют, то вряд ли чем-нибудь помогут. Для государства православные и сатанисты равны. За матерную ругань во время богослужения сатанистов максимум — оштрафуют, если, конечно, личности установят, а в этом не переусердствуют. И никогда милиция не воспрепятствует проникновению сатанистов на богослужение — оснований не усмотрит.
— Но я не могу нанимать незнакомых людей.
— Батюшка, я мог бы вам назвать как минимум двух уважаемых священников, которые могут отрекомендовать наше предприятие и лично нас, — Ставров заиграл желваками, — но я не стану этого делать. Мы просто русские православные люди. Люди с улицы. И не надо нас нанимать. Вы нас не знаете, мы вас тоже. Когда у вас в храме очередное богослужение?
— Расписание — на дверях.
— Понял. Вопросов больше не имеем.
— Постойте, — неожиданно сказал священник.
— Все обернулись.
— Помоги вам Бог, — убитым голосом выдавил из себя батюшка.
— Оружие на дежурство не брать, — инструктировал Ставров.
— Но сатанисты точно будут вооружены, — выразил недоумение Шерхан.
— Командир прав, — мрачно заключил Серёга. — мы и так там не ко двору, а если ещё и с оружием придём.
— Я что-то не понял, — пожал плечами Шерхан. — Мы же помощь предложили. Безвозмездно.
— Это непросто, Шерхан, — Серёга поморщился. — Даже если сатанисты храм по кирпичику разнесут, начальство батюшку за это не накажет. А если православные окажут вооружённое сопротивление — батюшку сотрут в порошок. Никто и разбираться не станет, нанимал он нас или нет.
— Я всё-таки не понимаю.
— Не обижайся, Шерхан, но… обойдись на этот раз без понимания. Ты же не боишься без оружия. Говорят, ты как-то волка голыми руками задушил.
— Да не проблема, — буркнул Шерхан.
Он всё-таки обиделся. Но не сильно и ненадолго.
У входа в храм лениво прогуливались четверо молодых мужчин в хороших костюмах. Вид они имели скучающий, один из них держал в руках дорогой букет. По всему было понятно, что они пришли к другу на венчание, но, видимо, ошиблись со временем и пришли гораздо раньше. Никто на них внимания не обращал — картина обычная. Вскоре недалеко от храма дико завизжали тормоза, сообщив об экстремальной парковке. Из разбитой «Нивы» вывалили очень похожие друг на друга парни в чёрных кожанках, щедро усыпанных металлическими заклёпками. Волосы у всех были длинные, нечесаные и в целом вид они имели неряшливый. По мутным больным глазам без труда угадывались наркоманы. Расхлябанной походкой они направились ко входу в храм, всем своим видом пытаясь изобразить решительность.
Парни в костюмах сначала вроде бы и внимания не обратили на новых гостей, но когда «крутые» проходили мимо них, юноша с букетом игриво спросил:
— Девчонки, а девчонки, вас как зовут?
Неряхи в коже остановились, тупо уставившись на джентльменов. Никого кроме них у входа в храм не было.
— Я, кажется, к вам обращаюсь, девчонки. У вас что, имён нет? — продолжал заигрывать юноша с букетом.
Он подошёл к одному из сатанистов, переложил букет в левую руку, а указательным пальцем правой руки незаметно ткнул в солнечное сплетение. Сатанист рефлекторно согнулся, упав на грудь юноше.
— Господа, вы когда-нибудь видели такую любовь с первого взгляда? — легкомысленный юноша продолжал шутить. — Предлагаю вам познакомиться с её подружками.
Джентльмены сразу же полезли обниматься с остальными «девчонками», у которых тут же, видимо от волнения, подкосились ноги.
— Ну всё, поехали кататься! — радостно провозгласил юноша с букетом.
Сатанистов, так и не успевших сказать ни слова и едва стоящих на ногах, развели по двум машинам. Там ещё по разу хорошенько врезали и заклеили рты.
За городом, в безлюдном лесочке на уютной полянке четверо сатанистов вот уже полчаса копали себе могилу. Их рты были по прежнему заклеены, время от времени кто-то из них пытался мычать, за что сразу же получал удар палкой.
— Вы совершенно не умеете работать, мерзкие твари, — Серёга, расставшись, наконец с букетом, поменял тон и орал теперь на смертников, как заправский гестаповец. — Вы когда-нибудь лопаты в руках держали?! Картошку копали?! Вы не копали картошку! Вы неспособны ни на что полезное! Копайте, твари, копайте. Чем скорее закончите, тем скорее отмучаетесь. Мы избавим вас от страданий. Мы совершим акт величайшего гуманизма. По глазам вижу, что вы не любите жизнь. Уютная могила, что может быть лучше для вас? — Серёга наградил каждого серией палочных ударов.
Тем временем Ставров, Шерхан и Кирилл стояли метрах в ста от земляных работ и о чём-то шептались. Потом Шерхан подошёл к Серёге и мрачно сказал: «Отвори им хлебальники». Серёга жёсткими резкими движениями сорвал скотч со ртов смертников.
— Слушайте сюда, уроды, — зловеще зашипел Шерхан.
— Вы кто, братаны? — осмелился подать голос один из сатанистов.
— Черти в аду тебе братаны. Слушай молча. На первый раз мы вас отпускаем. Но вот эта яма — она ваша. Если кто-нибудь из вас приблизится к православному храму ближе, чем на километр, вы снова окажетесь здесь. Закопаем живьём. Всё поняли?
Сатанисты молча закивали. Теперь им стала понятна по крайней мере причина, по которой они здесь оказались. Один из низ неожиданно зарыдал, двое лихорадочно дрожали, четвёртый выдавил сквозь зубы: «Мы всё поняли». Помилованных грубо за шиворот вытащили из могилы. К Шерхану подошёл Кирилл:
— Давай-ка их сфотографируем.
— Зачем?
— Личности установим. Они навсегда останутся у нас на крючке.
— Давай.
Кирилл каждого сфотографировал в профиль и в фас. Сделал по несколько дублей. Сатанистов оставили в лесу. Всю дорогу до города братья молчали. На душе у всех было плохо.
— Заедем в храм, помолимся? — предложил Шерхан.
— Обязательно, — согласился Ставров. — Только давай туда, где нас не знают.
У храма установили непрерывное дежурство во время богослужений. Сцену с «друзьями жениха» больше, конечно, не разыгрывали, но и демонстративную охрану у входа не стали выставлять. Кирилл предложил установить незаметное наблюдение за подъездами и подходами к храму. Обзавелись рациями и дежурили теперь в разных точках по одному. Две недели сатанисты не появлялись, а потом подъехал джип, на номере которого красовались три шестёрки. Люди в джипе сидели другого уровня. Та же чёрная кожа, но дорогая и элегантная, те же длинные волосы, но аккуратно забранные в хвосты, и никаких стальных заклёпок на одежде, только на шеях толстые серебряные цепи. Эти люди явно не баловались наркотиками, но глаза у них были такие же пустые и мутные. Сатанистов в них распознать было не трудно, братья быстро подтянулись к их джипу.
— Вы не похожи на христиан, господа, — спокойно и рассудительно сказал Ставров, — вам явно нечего делать в христианском храме. Не изволите ли удалиться в любом удобном для вас направлении?
— Ты будешь мне указывать, христианская собака? — визгливо закричал один из сатанистов.
Ответом ему был сокрушительный удар в челюсть. Братья провели серию молниеносных атак, драки опять не получилось, менее, чем за минуту пятеро гостей были обезврежены. Ещё через час они со связанными руками валялись в яме, вырытой их младшими товарищами. Братья спокойно и хладнокровно бросили на них несколько лопат земли.
— Нет, только не это, любые деньги, возьмите наш джип, — наперебой визжали сатанисты, их рты на сей раз не были заклеены.
Братья кинули ещё несколько лопат земли. Из ямы теперь раздавался только нечленораздельный визг. Впрочем, жертвы были лишь слегка присыпаны землёй. По команде Ставрова братья воткнули лопаты в землю, молча отошли в сторону, погуляли, минут через десять вернулись.
— Хотите жить? — печально спросил Шерхан.
— Да, да, всё что угодно, — донеслось из ямы.
— Ничего нам от вас не надо, волки позорные. Пообещайте только никогда в жизни не подходить ни к одному христианскому храму.
— Обещаем, обещаем, — неслось из ямы.
Сатанистов вытащили, Кирилл опять сфотографировал каждого несколько раз. Ставров, морщась, как от боли, сказал:
— Я не верю вашим обещаниям. Но вы даже не представляете себе, на какую силу подняли свои поганые лапы. Приблизитесь к храму — вновь окажетесь в этой яме, но в следующий раз зароем уже окончательно. Звонить вашим покровителям — бесполезно. Они просто окажутся в соседней яме. У нас — лицензия на убийство. Мы закопаем любого министра.
Оставив сатанистов в лесу, в город возвращались ещё мрачнее, чем в прошлый раз.
— Тебе не кажется, что это погано, то, что мы делаем, — спросил Шерхан у Ставрова.
— Да, погано и грязно, — спокойно согласился Ставров.
— А разве мы этого хотели?
— Мы хотели дать защиту храму, и мы дали защиту храму. И никто из прихожан к нашей грязи отношения не имеет, а богослужения теперь будут проходить беспрепятственно.
— Вроде всё правильно. Почему же на душе так скверно?
— Да потому что мы не сатанисты, — сказал Серёга. — Мы не можем получать удовольствие от человеческой боли, страха, унижения.
Всё было понятно, все замолчали, суесловить никому не хотелось. Наконец, подал голос Кирилл:
— Командир, а ты мог бы, если бы потребовалось, на самом деле закопать их живьём?
— Нет, не мог бы, — глухо ответил Ставров. — Сначала прикончил бы, и только потом закопал.
— А про какую силу, которая стоит за нами, ты сказал этим уродам? — осведомился Кирилл.
— Я сказал про Бога.
Через неделю, во время дежурства на подступах к храму, к Ставрову подошла симпатичная девушка в платке и юбке до земли. Смущаясь и пряча глаза, она сказала:
— Батюшка приглашает вас, господа, после службы в трапезную, чайку попить.
— Спасибо. Мы придём, — тепло, по-отцовски улыбнулся Ставров.
В трапезной собралось человек 20 прихожан — в основном женщины, но было и несколько мужчин, включая молодых.
— Проходите, друзья мои, — батюшка, сидевший во главе стола, встал при появлении братьев. Они подошли к нему под благословение.
— Батюшка улыбался немного виновато и чувствовал себя несколько напряжённо, но его радушие было искренним. Он сказал:
— Присаживайтесь и давайте-ка по рюмочке кагорчика нашего церковного.
Всем налили по полстакана. Братья выпили залпом, мужчины-прихожане последовали их примеру, женщины — едва пригубили.
— Наши прихожане хотели познакомиться со своими защитниками, — батюшка преодолел скованность и искрился дружелюбием. — Расскажите о себе.
— Охранное предприятие «Пересвет», — по-военному чётко сказал Ставров. — Все — православные.
— Все до единого? — удивилась раскрасневшаяся дама средних лет.
— Да, только так.
Разговор постепенно пошёл непринуждённый. Говорили про разных замечательных московских батюшек и про старцев, с которыми кое-кто удостоился беседовать. Про паломнические поездки и про замечательные православные книги, которые кое-кому удалось приобрести, и они обязательно дадут их прочитать. Рассказывали про славную историю своего храма и про священников, служивших здесь до революции, из которых кое-кто вполне достоин канонизации. Рассуждали о возрождении Русской Православной Церкви, которое кое-кому не по нутру, и они препятствуют. Всё, как положено — обычные православные разговоры. Женщин, конечно, распирало любопытство, они желали как можно больше знать про таинственный и загадочный «Пересвет», но братья отвечали односложно и уклончиво: мы охранники, мы православные, ни в первом, ни во втором нет ничего удивительного. А духовник у нас — тот-то, а на службу мы ходим туда-то. Заинтриговали всех — дальше некуда. Девушки изредка украдкой бросали восхищённые взгляды на православных добрых молодцев, и, разумеется, ни с какими вопросами к ним не обращались.
— Позвольте-ка на минуточку украсть вашего командира. Посекретничать с ним хочу, — сказал, наконец, священник.
— Вы тогда обиделись на меня? — сразу же спросил батюшка, когда они вышли на воздух.
— Обиделись, — улыбнулся Ставров, — но потом всё поняли и перестали обижаться.
— Да, вы должны понимать. Над православными сначала смеются, считая нас баранами, не способными за себя постоять, а стоит нам кому-нибудь кулак показать, как тут же раздаются гневные вопли: «Вы не смеете! Церковь не имеет права!». А тут вы. Не в том ведь дело, что меня в порошок сотрут, но соблазна-то сколько, какой хороший повод для того, чтобы вылить очередной ушат грязи на Церковь.
— Вы всё-таки решили от нас избавиться?
— Нет, напротив. Во-первых, вы действуете очень деликатно, а, во-вторых, я уже устал бояться. Пусть говорят, что хотят, пусть хоть в запрет меня отправляют. Если в Церкви есть мужчины, защищающие храмы, то по большому счёту, что в этом плохого? Мы и заплатить вам готовы.
— Платить не надо. Это принципиально.
— Ну тут уж сами смотрите. Ещё вопрос. Двое наших ребят хотят дежурить вместе с вами. Возьмёте?
— Без вопросов. Но не факт, что им так сразу надо в наше предприятие. Мы можем просто организовать совместное дежурство с представителями вашего прихода. А там видно будет.
— Ну, это вы меж собой решите.
— Ещё такой деликатный вопрос, батюшка. Не смотрите на моих парней, как на женихов для ваших невест.
— А почему? — батюшка выглядел ребёнком, которому не дали конфету, на которую он имел полное право. — Девушки у нас замечательные. А вы думаете, им, по нашим временам, легко найти женихов?
— Да девушки-то и правда замечательные, но мы стараемся жить по-монашески, хотя и не давали монашеских обетов, но такие у нас правила.
— Чудо из чудес, — растерялся батюшка. — Ну ладно, я понял. Это дело ваше. Я позову парней, которые вместе с вами хотят храм охранять?
Ставров посмотрел на двух юных прихожан. Вроде, крепкие. Он обратился к ним по-командирски:
— Наше дежурство — не почётный караул. Дважды пришлось применять грубую силу. Спортом занимаетесь?
— Ходим в секцию бокса, — ответил один из них.
— Приходите к нам в спортзал, посмотрим, чему вас в вашей секции научили.
Храм охраняли теперь с приходскими ребятами, которые оказались весьма боевыми и неплохо подготовленными. Через пару дежурств Ставров решил, что на охране этого храма вместе с ребятами достаточно оставить одного Серёгу. Всё было тихо. Сатанистов они, видимо, напугали надолго. Это племя предпочитает действовать в условиях полной безнаказанности, не проявляя никакого интереса к силовым столкновениям.
— Высвобождаются силы, — сказал Ставров на очередном собрании «верховного капитула», — куда перебросим?
— Близится 6 июня, — сказал Серёга, — сатанисты в этот день празднуют рождение Сатаны, устраивают бесчинства на кладбищах. Хорошо бы организовать ночные дежурства на паре кладбищ. Можно к этому наших вольнонаёмных подтянуть, среди них есть неплохие церковные ребята.
Сформировали 2 патруля по три человека. Обоим патрулям довелось столкнуться на кладбищах с сатанистами. Это были жалкие мальчишки и девчонки в чёрной одежде, приготовившиеся резать котов на могилах. Котам вернули свободу, сатанинскую шантрапу разогнали пинками. Один не в меру крутой дьяволопоклонник пытался выделываться. С него сняли штаны и жестоко выпороли по голой заднице офицерским ремнём.
— Жалко юных придурков, — сказал Кирилл, — они же просто играют в сатанизм.
— Ошибаешься, брат, — сурово сказал Серёга. В сатанизм играть невозможно. Тут стоит только в шутку что-нибудь сделать, как тут же всё становится очень серьёзно — дьявол добычи не упустит. И эти жалкие ничтожные игры ни чуть не хуже доведут до преисподней, чем чёрные мессы продвинутых сатанистов.
— Как думаешь, из них кто-то ещё сможет вернуться к человеческой жизни?
— Не исключено. Некоторые ещё не до конца завязли в этой мерзости. Лишая их возможности тусоваться на кладбищах, мы, может быть, даём им шанс.
— А если педагогически поработать с этой средой? Не только ремнём, но и добрым словом?
— Надо подумать.
— Владимир Николаевич, задержитесь на минуту. Нам надо с вами поговорить, — Ставрова остановил на улице элегантный мужчина лет сорока.
— С кем имею честь? — жёстко спросил Ставров.
— Контора, — мужчина непринуждённо улыбнулся и развёл руками, словно извиняясь.
— Чем могу быть полезен? — в голосе Ставрова явственно читалась неприязнь.
— Это мы можем быть вам полезны, — непринуждённая улыбка неожиданно приобрела немного хищный оттенок. — Речь идёт о вашей борьбе с сатанистами. Может быть, пройдём в машину?
— Я никуда с вами не поеду.
— Не надо никуда ехать, — поморщился незнакомец. — Просто в машине посидим. Если хотите — в вашей. Она ведь тут неподалёку.
— Да, пойдём в мою.
В машине Ставров держался всё так же неприязненно:
— Итак?
— Итак, вы влипли по самые гланды сами не знаете во что. Вы и живы-то до сих пор лишь благодаря вашему необычайному везению и нашей помощи. Мы одобряем вашу борьбу с сатанистами, мы на вашей стороне. Но нельзя же, господа, не зная броду, лезть в воду.
— Вы укажете нам брод? — усмехнулся Ставров.
— Володя, расслабься, — сказал незнакомец тоном человека, который решил помириться со старым другом. — Меня, кстати, Сашей зовут. Этот разговор ни к чему тебя не обязывает, и никто тобой руководить не собирается. Но если мы поможем вам, для начала — дадим некоторую информацию, тебе от этого будет плохо?
— Извини, Саша, — Ставров едва заметно улыбнулся. — Знаешь ведь как в армии относятся к Конторе. А я и помру армейским сапогом.
— Да всё я знаю. Проехали. Так вот. Сатанизм в последнее время растёт и ширится, приобретая черты очень серьёзной угрозы, но явление это весьма неоднородное. Есть сатанисты, претендующие на легальность и респектабельность. Они добиваются государственной регистрации, начали уже издавать свои газеты, и вообще хотят, чтобы их признали в качестве одной из религиозных групп на равных правах с остальными. А есть совсем другие сатанисты, ни на какую легальность не претендующие и являющие собой органичную часть широкой международной сети организованной преступности. Это торговля оружием, наркотиками, живым товаром и так далее. Так вот! Вы совершенно случайно наехали на сатанистов первой категории. Они не так уж опасны. Им порою вполне достаточно морду набить, их можно закошмарить, что вы и сделали. Вы сделали, к слову сказать, очень полезное дело и, по большому счёту, можете ничего теперь не опасаться. Но ведь это чистая случайность, то, что вы вышли на этих слюнтяев. А теперь представь себе, что вы так же случайно наехали бы на сатанистов второй категории — ведь ни одного из вас уже и в живых бы не было. Представители международного криминального бизнеса, в котором крутятся миллиарды долларов, не прощают обид. Что против них группа в 10–20 человек? Они бы вырезали вас под корень просто на всякий случай. А сейчас у нас есть информация, что вы хотите рыпнуться на сатанистов второй категории, даже не зная, кто они такие. Так вот, при первой же попытке зароют уже вас. И не земелькой припорошат, а конкретно зароют в вашу же могилку.
— Ты думаешь, мы остановимся? Думаешь, нас можно смертью напугать? Что ты хочешь услышать? «Ну если там опасно, то мы туда, конечно, не полезем. Лучше будем кошкодавов по кладбищам гонять».
— Дурак ты, товарищ капитан. Ты бы изображал героя лучше перед своими прихожанками, а передо мной — не надо. Я весь Пандшер несколько раз вдоль и поперёк прошёл. И пугать тебя сейчас никто не собирается. Тебя предостерегают от бессмысленных трепыханий. Если вам так не терпится умереть, так умрите с максимальной пользой. А если командир взвода повёл своих ребят в бой против дивизии противника, так это кто по-твоему — герой или просто идиот? Давай говорить на чистоту. Нам интересны, в первую очередь, именно криминальные сатанисты. Мы их уже несколько лет очень серьёзно разрабатываем. И ваша группа нам тоже очень интересна, потому что иногда мы не можем действовать своими руками. Но удар по разветвленной сатанинской сети должен быть нанесён в точно рассчитанное время и в точно вычисленный болевой центр. Тогда разом рухнет вся их сеть. А вы тявкаете, как слепые щенки, сами не понимая, на кого и зачем, не чувствуя ни времени ни места.
— Значит, наша группа должна стать вашей группой?
— Ты, капитан, и правда сапог армейский. Да нафига вы нам сдались, такие корявые? Мы предлагаем союзнические отношения. Вам же лучше, если вы будете согласовывать с нами свои действия, потому что в этом случае вы сможете опираться на нашу оперативную информацию. А иначе вы так и останетесь любителями, смешными и жалкими.
— А ведь у нас в братстве протекло. Мне это не приятно.
— Не напрягайся. Предателя у вас в братстве нет. Любой из твоих парней тебе действительно брат. Никто из них не совершил по отношению к братству никаких враждебных действий. И не совершит.
— Но ведь течёт.
— Володя, пойми главное. Наши цели и задачи совпадают. Мы хотим одного и того же — разгромить сатанинскую сеть в Москве. Вас в большей степени интересует религиозный аспект, нас — государственный. Но на сегодня одно другому не противоречит.
— Саша, ты православный?
— Не только православный, но и церковный. Без веры не служу.
— Вот это действительно — главное. По рукам. И у меня сразу же вопрос. Мы хотим Пустынь защищать. Таможня даёт добро?
Саша задумался. Молчал он немного нервно. Потом сказал:
— Вокруг Пустыни роятся одиночки. Они не принадлежат ни к первой, ни ко второй категории сатанистов. Это третья категория — психопаты. Пусть это вас не расслабляет. Они очень опасны. Это не щенки, которые тусуются на кладбищах. Кошмарить их даже не пытайтесь. Мочите на месте. Впрочем, это не больше, чем совет. От ментуры прикроем, но старайтесь работать чисто, не расслабляйтесь, на полную безнаказанность не рассчитывайте. Если сильно наследите — прикрывать не станем. Вообще, вы должны больше проблем решать, чем создавать.
— Мы кажется, уже договорились, что мы вам ничего не должны. И в лицензии на убийство мы совершенно не нуждаемся.
— А никто вам её и не даст. Но относительно психопатических сатанистов должен пояснить следующее. Если вы такого отпустите, он обязательно кого-нибудь убьёт и, вероятнее всего, не одного человека. Если же сдадите его в ментуру, он отделается психушкой, потом выйдет и всё равно кого-нибудь убьёт. Это информация к сведению, а поступать будете по своему усмотрению. Вы нам действительно ничего не должны, но есть правила продиктованные жизнью, а не нами. Когда ты поймёшь эти правила, тебе самому понравится их соблюдать.
— Кирилл, а ведь ты служил не в милиции, — спокойно сказал Ставров, когда они остались наедине.
— Очень даже странное предположение. Шерхан, когда крышевал площадь, прекрасно знал, что я служу в милиции.
— Ты служил не только и не столько в милиции. А основное место работы у тебя было… фотоателье.
Кирилл тяжело вздохнул и грустно улыбнулся:
— Владимир, я всегда служил и буду служить Церкви и Отечеству. Тебе этого достаточно?
— Сашу знаешь?
— Я знаю очень многих людей с эти именем.
— Ещё раз спрашиваю: Сашу знаешь?
— Знаю.
— Неприятно мне это, Кирилл. Очень неприятно.
— Интеллигентщина всё это, Владимир. Пошлая интеллигентщина. Я ваш брат. Разве это не главное?
— Да, наверное, ты прав. А осадок всё равно остался.
— А ты хотел быть Робин Гудом? Но Москва — не Шервудский лес. Москва — сложное переплетение самых разнообразных систем. Здесь одиночка живёт от силы месяц, если пытается действовать.
— А сам ты не мог со мной поговорить?
— Ну, это не я решал. К тому же, ты просто набил бы мне морду.
— Да, я просто набил бы тебе морду.
— Брат? — улыбнулся Кирилл и протянул руку.
— Брат, — улыбнулся Ставров и пожал протянутую руку.
Ничто, наверное, не даёт такого ощущения чистоты и свежести, как сосновый бор. Воздух — ясный и отрезвляющий. Ковёр из пожухлой хвои как будто выстлан специально для человека. Тонкие и безупречно стройные стволы сосен кажутся порождением царства вечной гармонии. Сосновый бор — словно нерукотворный храм, для того и существующий, чтобы воздавать хвалу Творцу. Тёплым летним вечером полумрак здесь кажется мистическим. Это ощущение ещё более обостряется рядом с деревянным поклонным крестом, который высится среди сосен у чудотворного источника, заключённого в сруб из сосновых брёвен.
Почему лица двух молодых послушников, шагающих к поклонному кресту, такие серьёзные? Так ведь они идут заниматься самым серьёзным делом на земле — молиться. Ах, эта серьёзность юности. Всё-то мы делаем с такими серьёзными лицами, словно мир преобразуем. А, может, так и надо? Ведь молитва действительно преобразует мир. Если бы этих парнишек видели сейчас седовласые монахи, им, наверное, тоже захотелось бы помолиться, а не наставлять неразумную юность на путь истинный.
Сердце Ставрова, смотрящего на молодых послушников из укрытия, сжалось от тихой и нежной тоски. Наверное, эти ребята умрут за Христа спокойно и безропотно, с радостными улыбками на губах. Но думают ли они, что смерть поджидает их прямо посредине акафиста? Готовы ли они умереть вот так вдруг? Опасность, если она совершенно неожиданна, порою и храбрецов превращает в трусов. А эти ребята вряд ли привыкли видеть блеск оружейной стали у самого лица. Могут дрогнуть.
Ставров взял с собой под Пустынь только Серёгу. Сатанистов вряд ли будет больше двух, и братьям не стоило приходить сюда толпой, тем более, что в этом лесу так трудно спрятаться, а до времени их не должен видеть никто — не только сатанюги, но и их потенциальные жертвы. Вскоре послышался напряжённый шёпоток послушника, читающего акафист. Господи, какая тишина. Правильно, что они не взяли пистолеты, ими всё равно не пришлось бы воспользоваться — тут до Пустыни всего пара километров, а звуки в такой тишине разносятся на семь вёрст. Ставров вспомнил Высоцкого: «Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надёжней, да оно и тише». С собой у них были только кинжалы.
Всё, идут сатанюги. Трое. Ерунда. У них вряд ли есть огнестрельного оружие. Направляются к послушникам. Ставров и Серёга вышли из укрытия и шагнули навстречу непрошеным гостям.
— Не угодно ли вам будет, господа, покинуть этот лес: тут люди молятся, а вы топаете, как слоны.
Сатанисты, как ни странно, ни сколько не были обескуражены появлением третьей силы, на их лицах заиграли гаденькие улыбочки. Один из них, с красивым нервным лицом, усмехнулся:
— Христиане?
— Так точно.
Сатанисты без лишних слов, как по команде, выхватили из заплечных рюкзаков… мечи. Без малого метровые клинки. Ставров мог предположить что угодно, только не это. «Вот и конец, — подумал он, наши кинжалы против мечей — бессильны. Не достанем».
Сатанисты сделали по несколько взмахов мечами. Кажется, они обучены махаться этими железяками и взяли их в руки далеко не в первый раз. Ставров был удивлён ещё и тем, что эти твари не выделывались, не сыпали оскорблениями, как это обычно бывает свойственно сатанистам, то есть никак не пытались себя раскрутить и подогреть, действовали, не нарушая тишины. Не теряются, не боятся, готовы ко всему и уверены в себе — с такой породой они ещё не сталкивались. Ставров и Серёга выхватили кинжалы, вступив в совершенно безнадёжный бой.
Какое-то время им удавалось уходить от ударов, некоторые отбивая кинжалами, но это стоило им большого напряжения, а сатанисты совершенно не расходовали силы, делая лёгкие точные взмахи, каждый из которых мог стать смертельным. Наконец, Серёга упал с рассечённым плечом. «Господи, прими наши души», — взмолился Ставров. Взмолился молча, не проронив ни звука. Он должен умереть достойно, и он верит, что Бог даст ему на это силы. До этого момента он только оборонялся, а тут понял, что должен атаковать. Его проткнут, но он и умирая успеет нанести удар в сердце одному из этих нелюдей. Ставров уже собрал силы для последнего броска, как вдруг услышал с левого фланга властный повелительный голос: «Сюда!».
Сатанисты резко повернулись на голос, он тут же сделал от них несколько шагов назад и посмотрел в сторону своего спасения. Он увидел двух крепких бородатых мужчин с обнажёнными мечами. Одному из низ было, наверное, под пятьдесят, другому — за тридцать. «Натовский камуфляж», — намётанным взглядом военного определил Ставров. Старший незнакомец напряжённо выдохнул: «Нон нобис, Домине, нон нобис…». В мозгу Ставрова молниеносно сверкнуло: «Тамплиеры!». Голова закружилась, он чуть не упал и всё дальнейшее воспринимал, как сквозь туман.
Тамплиеры шагнули на сатанистов, завязался бой. «А техника боя у наших получше, чем у этих выродков. Ещё бы. Тамплиеры!». Бой был скоротечен, вскоре все три сатаниста валялись на земле, раненные, но живые. Молодой тамплиер принялся быстро-ловко их вязать и заклеивать рты, старший шагнул к Ставрову и протянул руку:
— Дмитрий.
— Владимир.
— Давайте посмотрим вашего товарища.
Серёга валялся без сознания, глянув на его плечо, Дмитрий покачал головой:
— Рана серьёзнее, чем я надеялся.
Тем временем подошёл молодой тамплиер. Старший обратился к нему:
— Андрей, вколи парню промедол и перевяжи. Сразу же дуй в райцентр, в больницу. Мы тут дела закончим. Увидимся в гостинице.
Андрей сразу же приступил к делу. Серёга очухался, начал что-то бормотать сквозь промедоловый кайф. Андрей легко подхватил его на руки и пошёл по направлению к дороге.
— Это вашу машину мы видели припаркованной на обочине? — спросил Дмитрий Ставрова.
— Нашу.
— Хорошо. Подбросишь меня до райцентра. А теперь надо с этими разобраться, — Дмитрий кивнул на связанных сатанистов.
— Их нельзя оставлять в живых, — устало выговорил Ставров.
— Согласен. Законченные бесноватые. Три совершенно безнадёжных случая.
— Рядом речка.
— Верно мыслишь.
Связанных сатанистов с заклеенными ртами перетащили к речке и побросали в воду, на это ушло полчаса.
— Надо отсюда сматываться, а то как бы убежавшие послушники с подмогой не вернулись, — сказал Ставров.
— Да, пошли, — кивнул Дмитрий.
Ставров сел за руль. Ехал медленно, руки тряслись. Молчал, не зная, как начать разговор, заметно нервничал. Дмитрий тоже молчал, хотя и был совершенно спокоен, но выглядел смертельно уставшим.
— К убийству невозможно привыкнуть, — наконец глухо выговорил Дмитрий.
— Пока не превратишься в маньяка, — кивнул Ставров.
— Сейчас поговорим или до завтра отложим? — спросил Дмитрий.
— Я в форме. Вы в районной гостинице остановились?
— В ней, родимой.
— А мы — прямо из Москвы. Давай — к вам в гостиницу?
— Давай.
В гостиничном номере выпили по полстакана водки, закусили яблоками. Дмитрий осторожно начал:
— Насколько понимаю, и вы, и мы появились в этом чудесном сосновом бору с одной и той же целью?
— По всей вероятности, да. Мы — охранное предприятие «Пересвет». Боремся, по мере сил, с сатанистами. Мочить их, впрочем, до сих пор не доводилось, но когда-то это должно было произойти. А вы действительно тамплиеры?
Дмитрий Князев удивлённо поднял бровь и ничего не ответил. Помолчав, сказал:
— Давай-ка ещё по стольничку.
Снова выпили и хрустнули яблоками. Подождав пока водочка уляжется и привьётся, Дмитрий размеренно заговорил:
— Понимаю, что рискую показаться невежливым, однако, убедительно прошу сначала рассказать о вашем предприятии.
Ставров без затей, максимально кратко рассказал про «Пересвет». И о том, как родилось братство, и о том, что они живут по-монашески, и о тех целях, которые перед собой ставят.
Он закончил:
— Нас тоже, в известном смысле, можно считать тамплиерами.
Дмитрий слушал молча, не перебивая, ответить он ничего не успел, на пороге появился Андрей, сразу же обратившийся к Ставрову:
— Вашего друга прооперировали. Рана серьёзная, но врачи надеются, что смогут сохранить руку.
— Познакомься, Владимир, — сказал Князев, — это Андрей Сиверцев, сержант Ордена Христа и храма. Русский офицер в звании капитана.
— Капитан Владимир Ставров, — представился Ставров, — ныне — предводитель шайки отморозков-беспредельщиков.
Все трое сдержанно рассмеялись. Ставров, ещё ничего не зная о новых знакомых, уже чувствовал, что он среди своих.
Дмитрий очень просто сказал:
— Мы представляем суверенный Орден нищих рыцарей Христа и Храма. Мы действительно тамплиеры. Так же, как и вы.
На следующий день с утра все трое отправились к Серёге в больницу. Раненный недоверчиво глянул на двух незнакомых ему мужчин, ведь вчера он упал раньше, чем появились тамплиеры. Ставров успокоил его:
— Это друзья. Вчера они спасли нам жизнь. Познакомься: Дмитрий, Андрей.
— Сергей, — сквозь боль улыбнулся юноша.
— Сильно болит? — спросил Ставров.
— Недавно сделали укол, теперь терпимо.
— Как на счёт того, чтобы слинять отсюда? — Дмитрий обратился к Серёге так, словно они были сто лет знакомы.
— Только «за».
Дмитрий вышел в коридор и нашёл врача:
— Его можно транспортировать?
— Крайне нежелательно, хотя в принципе можно, но только в лежачем положении и ехать советую предельно бережно.
— Поедем, как за гробом. И ещё, доктор. Этого парня преследуют очень нехорошие люди. Если вас будут спрашивать о нём, его здесь не было, — Дмитрий протянул врачу пачку долларов.
Для торжественной встречи двух Орденов арендовали маленькое кафе на окраине Москвы. Князев сказал Ставрову, что помещение кафе надо предварительно проверить на предмет наличия прослушивающих устройств:
— У меня есть оборудование, но для соблюдения паритетных начал, пошли и ты своего человека — вдвоём проверим. У тебя есть специалист?
— Обязательно, — улыбнулся Ставров.
Кафе уже с утра было закрыто не спецобслуживание, причём весь персонал отсюда удалили. Князеву не долго пришлось ждать человека Ставрова. Вскоре появившийся Кирилл приветствовал его:
— Здравствуйте, господин майор.
— Привет, старлей.
— Счастлив познакомиться с легендой Конторы.
— Рад взглянуть на молодую смену.
Они обменялись цепкими, немного насмешливыми взглядами.
— Непривычно чувствовать себя в качестве партнёра родной Конторы, — меланхолично заметил Дмитрий.
— Ну, какой вы партнёр. Вы по-прежнему наш.
— Нет, Кирилл, я не ваш, хотя и с вами. Но только в том, над чем нам предстоит совместно поработать. И ты уже принадлежишь не столько Конторе, сколько братству. Твоя душа уже в братстве, даже если ты сам этого до сих пор не понял.
— Не думаю, что это настолько принципиально. Ведь Контора сейчас за Церковь.
— Нет, сынок, это принципиально. Представь, что завтра власть в стране поменяется и тебе прикажут поддерживать сатанистов. Тогда настанет момент истины. Запомни, Кирилл: Контора — инструмент государства, политика которого всегда переменчива. Орден — инструмент Христа, а Он неизменен.
— Это, случайно, не вербовка?
— А тебя, случайно, Христос не завербовал?
— Было дело.
— А если ты завербован моим Хозяином, то что я могу к этому добавить?
— Наш разговор не кажется вам странным, Дмитрий Юрьевич?
— Действительно, странно обсуждать со старшим лейтенантом то, что в Конторе знает один-единственный генерал. И говорю я с тобой, как с младшим братом, а не как с младшим офицером. Судьба вашего братства предельно важна и для меня лично, и для Ордена, а потому всё же хочу немного сориентировать тебя во времени и пространстве. О существовании спецслужбы, которую я возглавляю, во всём мире знает от силы два десятка человек. Структура наша небольшая, но обладающая достаточно серьёзными возможностями, а потому негласно входит в джентльменский клуб ведущих мировых разведок, которые работают не только на свои страны, но и друг на друга, потому что иначе в нашем причудливом мире просто не выжить, а правительствам не обо всём и знать надо. В частном случае ситуация такая. Контора приняла решение как минимум ослабить сатанинскую сеть, которая в постсоветской России что-то уж очень быстро развивается. Но для этого у Конторы сегодня нет ни сил, ни средств. Силы и средства есть у Ордена тамплиеров, к тому же борьба с международным сатанизмом — основное направление деятельности Ордена. Но Орден не имеет достаточной и детальной информации по российским сатанинским структурам. Кроме того, действуя на территории чужой страны, Орден нуждается в оперативном прикрытии, конфликт с Кремлём нам решительно не нужен. Так обозначилась точка пересечения наших интересов. Мы наносим совместный удар по одному из нервных центров сатанинской сети. Для этого Орден предоставляет материальные и человеческие ресурсы. Контора даёт информацию и оперативное прикрытие. И тут вдруг нарисовалось братство «Пересвет». Не надо и объяснять, как хорошо оно монтируется в общую схему. С одной стороны, существует ниточка, которая связывает братство и Контору, с другой стороны, появилась ниточка, которая связывает братство и Орден. Братство обладает собственными материальными и людскими ресурсами, к тому же имеет привлекательные организационные возможности. А теперь скажи мне, Кирилл, есть у меня хоть капля смысла тебя вербовать? Ты занимаешь в этой схеме одну из ключевых позиций. Тебя крайне нежелательно сдвигать хотя бы на сантиметр в сторону от этой позиции.
Кирилл слушал Князева с напряжённым вниманием, хотя и старался придать себе вид несколько отрешённый. Когда Князев закончил, он сказал насколько смог степенно:
— Надеюсь, Дмитрий Юрьевич, когда-нибудь и я научусь так же виртуозно расставлять все точки на «i».
— Вот и я на это надеюсь. А пока тебе трудно даже представить, какие ошеломляющие перспективы, причём в мировом масштабе, открывает появление вашего братства. «Пересвет» рождён самой русской землёй, русским православным народом — из глубин национального духа. Ничего подобного на Руси никто и никогда не смог бы внедрить извне, да в Ордене и нет таких идиотов, которые стали бы пытаться это делать. У «Пересвета» есть шанс стать тем словом, которое Русь скажет всему миру в грядущем веке.
— Деус вульт, — улыбнулся Кирилл.
— А жучков в этом кафе нет. Точнее, не было, пока я их не поставил. Твоя задача — их найти. Хочу посмотреть, как вас теперь в Конторе учат.
В Москву Князев взял Сиверцева, Зигфрида и Милоша — восторженный черногорец всю жизнь мечтал побывать в России. Вечером в кафе они пришли в полном составе и при полном параде — в элегантных европейских костюмах, но без галстуков. От «Пересвета» пришли Ставров, Шерхан, Кирилл и почти уже поправившийся Серёга — он только левой рукой пока ещё не владел.
Решили обойтись без горячих блюд, чтобы на кухне не было поваров и не возникало необходимости в официантах. На столе красовались грубо нарезанные балыки, ветчины, сыры, хлеб. Особый упор сделали на икру, красную и чёрную, которая немалыми хрустальными бадейками украшала стол. Шерхан предложил вместо бокалов поставить на стол стальные эмалированные кружки, пояснив: «Это не воровская традиция, скорее армейская и очень хорошо подходящая для братства, как символ нашего нестяжания». Все согласились. Впрочем, из стальных кружек весь вечер пили «Нарзан». Водку подали только на посошок, когда уже расходились.
Князев довольно подробно рассказал про Орден и даже про «Секретум Темпли». Сиверцева сначала удивила такая откровенность, но он сразу понял, что командор решил играть ва-банк. И действительно, несколько дней напряжённо думая, Дмитрий связал с «Пересветом» такие планы, что уже не было смысла прятать карты.
Сиверцев сразу же очень легко сошёлся со Ставровым и, с лёгкой руки Шерхана, их начали называть «два капитана». Офицерам, прошагавшим дорогами третьей мировой, было что вспомнить.
Милош вскоре уже ни на шаг не отходил от Серёги, ошеломлённый блестящей эрудицией нового русского друга, который не только про Россию, но и про Черногорию рассказал черногорцу много нового.
Немногословному Зигфриду очень понравился Шерхан. Зигфрид сразу же решил, что такое прозвище может заслужить только настоящий мужчина, а когда узнал историю с волком, задушенным голыми руками, спокойно утвердился в первоначальном мнении.
Когда официальная часть была закончена, и все разошлись по углам, Ставров рассказал Сиверцеву о своей встрече с командором Ордена тамплиеров Эмери д'Арвилем, который погиб в битве под Ла-Форби в 1244 году. Сиверцев слушал молча, всё больше бледнея.
— Ты знаешь, Володя, — неторопливо начал Андрей, когда Ставров закончил, — я тут, было дело, написал опус про средневекового тамплиера. Взял лицо вымышленное, постаравшись сделать его максимально типичным. И назвал его — Эмери д'Арвиль. До настоящего момента был уверен, что я выдумал Эмери. А теперь мне начинает казаться, что это Эмери выдумал меня. Да и тебя тоже, брат Ставров. Именно так — если бы не Эмери д'Арвиль, нас с тобой и на свете бы не было, а были бы вместо нас какие-то совершенно другие люди.
Рома любил насвистывать себе под нос:
Дальше в «Балладе» Николая Гумилёва шла какая-то лабуда, которую Рома совершенно не воспринимал, а вот это первое четверостишие пьянило его и завораживало, заставляя душу сладостно сжиматься. Он даже заказал себе кольцо с рубином насыщенного кровавого цвета. Друзья недоумевали — им, сатанистам, запрещено носить золото. Рома тонко улыбался и говорил: «Тайна посвящённых». Не было никакой тайны, а была лишь дешёвая распальцовка, но Рома любил изображать из себя вселенскую загадку.
В школе Рома показывал неплохие успехи по математике, и все были уверены, что он выберет технический вуз, но Рома почему-то пошёл в медицинский и долго потом наслаждался всеобщим удивлением. Никто не видел в нём врача, который спешит на помощь людям, почему же он выбрал эту профессию? Рома загадочно улыбался. Однако, и этот ларчик открывался довольно просто. Ещё мальчишкой Рома очень любил вспарывать животы кошкам и собакам — хотел посмотреть, как они устроены изнутри. Так он сам себе говорил. На самом деле внутреннее устройство животных не так уж сильно его занимало — всё там у них у всех было одинаково, а вот то, что Рома потрошил не мёртвых, а живых кошек и собак, это его по-настоящему увлекало. Они так здорово визжали. Этот визг страшно страдающих животных ему почему-то никогда не надоедал — хотелось слышать его снова и снова.
Когда их, студентов, впервые привели в морг, Рома всех поразил своим улыбчивым хладнокровием. Конечно, сознание потеряли лишь пара хлипких девочек, а большинство студентов держались твёрдо и по-деловому, но только Рома улыбался так, словно его привели в Эрмитаж — ему здесь нравилось. Даже старые циничные патологоанатомы с брезгливым недоумением наблюдали тонкую улыбочку Ромы, кромсавшего трупы. Сразу было видно, что человек занимается любимым делом. Тогда ещё все были уверены, что Рома станет патологоанатомом, но он опять всех удивил, выбрав специализацию психиатра. И опять это всеобщее удивление доставило ему ни с чем не сравнимое удовольствие.
Рома — психиатр? Специалист по человеческой душе? Вот уж, казалось бы, материя, которая занимала Рому меньше всего. Но тут-то они и ошибались. Человеческая душа очень занимала Рому, прежде всего — своя собственная. На эту тему он имел один нешуточный секрет. Когда ему было 13 лет, он сказал своему пятилетнему соседу: «Пойдём в подвал, там кошка родила, котят покажу». Ребёнку, конечно, захотелось посмотреть на котят, а Рома, когда они оказались в полумраке подвала, накинул ему сзади на шею заранее заготовленный кусок бельевой верёвки и медленно-медленно задушил. Пол в подвале был земляной, Рома закопал детский труп в самом тёмном углу и аккуратно утрамбовал землю. Это захоронение так никто и не нашёл, ребёнка объявили пропавшим без вести. У ментов ведь как? Нет трупа — нет убийства, значит убийцу не ищут, ищут жертву, а жертву попробуй найди, если она мертва.
Зачем Рома сделал это? Причина была вот в чём. Он как-то прочитал в одной книжке, что убийц потом мучают кошмары, вот ему и захотелось проверить, будут ли его кошмары мучить?
Его никогда никакие кошмары не посещали, ни во сне, ни наяву, и он считал, что это должно быть интересно — новые острые ощущения. Однако, и на сей раз никаких кошмаров у него не было. Рома рассудил, что он, вероятнее всего — сверхчеловек, потому что не похож на остальных людей, а значит ему можно всё, чего нельзя им. Получалось, что его психика — загадка. Вот эту-то загадку он и хотел изучить, а значит, ему была прямая дорога в психиатрию. А трупы — что? С ними быстро наскучило. Они почти все одинаковые, в них нет никакой загадки, потому что у них нет психики. Только первое время нервы пощипывает от мысли, что кромсаешь плоть бывшего человека, но это быстро приедается, нервы не возбуждаются, остаётся одна рутина. А для рутины Рома не рождён, потому что он — сверхчеловек, это уже было ему понятно.
Как же Рома умудрился вырасти таким необычным человеком? Тут у него был ещё один секрет, о котором никто не знал. Дело в том, что его мать была христианкой. Точнее, она считала себя очень ревностной христианкой. Это потом уже, когда Рома вырос, он уяснил для себя, что никаких христиан на свете не существует, они сами себя выдумали, а в детстве Рома постоянно слышал о Боге и никогда не сомневался, что Бог существует. Бог — это боль, которую так любила причинять ему его чрезвычайно религиозная мать. Для его же пользы. Если матушке случалось уличить маленького сына в какой-нибудь незначительной лжи, она била его молотком, которым обычно отбивают мясо. Била по таким местам, которые редко кто видит, а потому никто и никогда не видел на Роме следов побоев. Мать говорила: «Лучше я тебя накажу за твой грех, а иначе Бог отправит тебя в ад, и там тебя будут жарить на сковородке». Однажды, когда он без разрешения съел конфеты, хранящиеся в шкафу, мать раскалила сковородку и приложила к ней его ладошку. Он страшно кричал, мать заботливо смазала ожёг заранее приготовленной мазью и перебинтовала руку. Потом она строго и назидательно сказала ему: «Понял теперь, что такое раскалённая сковородка? Не будешь больше совершать грехов?». Рома сказал, что не будет, хотя и знал, что это невозможно, потому что грехом было всё. Слово «грех» он слышал гораздо чаще, чем слово «бог». И сам-то он был «плодом греха». Мать родила его без мужа и вот теперь искупала этот грех правильным воспитанием сына.
В изобретении назидательных наказаний мать была неутомима. Как-то зимой выгнала его в одних трусах на лоджию, на мороз. Он подхватил воспаление лёгких, она заботливо за ним ухаживала и сыпала при этом нравоучительными сентенциями. Могла на неделю оставить его без ужина, могла заставить целый вечер простоять на коленях. И постоянно говорила: «Если не исправишься — попадёшь в ад, там будет гораздо хуже».
Самое удивительное было в том, что Рома никогда не обижался на мать и не чувствовал к ней ненависти. Он принял эти правила игры, он верил матери, он верил в Бога. Он быстро понял: Бог — это боль. Всё, что было связано с Богом, всегда заканчивалось болью, потому что Бог — это система запретов, а запрещено всё, и дышать-то можно только через раз, а за нарушение запрета всегда следует наказание. Такова схема, такова вообще технология жизни. В жизни нет ни тепла, ни света, ни сострадания, ни жалости. Сделал шаг — ударили, опять шагнул — опять ударили. Этим миром правит жестокий Бог-каратель, основная задача которого — бить, бить, бить.
Рома подрастал, и у него возник вопрос: и нельзя ли эту схему перевернуть — самому карать, самому бить, самому причинять боль? Раз уж этот мир — концлагерь, и его жестокие законы неизменны, то почему надо быть обязательно заключённым? Не попытаться ли стать надзирателем? Ему было 16 лет, когда он решил попробовать. Мать в очередной раз провозгласила наказание, которому он будет подвергнут за очередной грех, а в ответ получила жесткий удар кулаком в живот. Потом он несколько раз от души её пнул и, глядя как она корчится на полу, спокойно улыбнувшись, сказал: «Не правильно ты, мама, живёшь. Грешишь на каждом шагу, а наказания не несёшь никакого. Так ведь можно и в ад угодить. Но я тебе помогу. Теперь я буду тебя наказывать».
Мать не сказала в ответ ни слова и покорилась на удивление безропотно. Теперь всё в доме стало наоборот. Рома наказывал мать за всё, с удовольствием применяя всё новые и новые воспитательные меры из её же садистского арсенала. Домашний переворот произошёл так легко, что это навело Рому на мысль: а нельзя ли точно так же произвести и религиозный переворот, то есть грешить, делать всё, что хочешь, но при этом избегать наказания за грех и самому наказывать Бога-карателя? Любой плохой поступок плох только тем, что за него следует наказание, а если наказания удаётся избежать, тогда все поступки хороши. Но не наказывают только тех, кто сам наказывает — этот урок он усвоил твёрдо. Надо бить Бога везде, где только можно дотянуться до всего, что с Ним связано, и тогда власть поменяется, можно будет дышать свободно.
Когда Роме впервые попала в руки сатанинская литература, он понял, что там в общем-то об этом и говорится. Люцифер так и поступил. Он не захотел быть тем, кого бьют, и сам бьёт по всем, включая Бога, и ведь Бог не уничтожил Люцифера и его последователей, значит так можно.
Рома мыслил очень прагматично, он понимал гораздо больше, чем большинство дурачков-сатанистов, считающих Люцифера своим вождём, а себя сплочённой силой. Рома очень хорошо понимал, что своих — нет, и бить надо по всем, а по тем, кто ближе — в первую очередь, потому что иначе они начнут бить. Бог — это боль и, причиняя боль другим, Рома чувствовал, как сладко быть богом. И по Люциферу надо бить, плевать на него, иначе он, хозяин ада, будет бить по тебе. Только идиоты поклоняются Люциферу, настоящие сатанисты подражают Люциферу, то есть не поклоняются никому. Поклонятся можно только источнику боли — стань источником боли и поклоняйся сам себе. Другие нужны, если они помогают тебе причинить боль, если они — палка в твоих руках. Либо они сильнее тебя, и тогда надо покорятся, терпеть боль, потому что таковы правила.
Когда Рома учился на третьем курсе, мать очень ему надоела. Ему стало казаться странным, что по его квартире бродит некое отличное от него существо. Мать не причиняла ему никаких неудобств, проявляла полную покорность и безропотно принимала его наказания, но его главная претензия к ней носила неустранимый характер: она не есть он. Они — два разных существа. А если здесь живёт он, то как здесь может жить она?
Рома очень любил фармакологию. Ему очень нравилось готовить вещества, применение которых даёт определённый результат. Это был мир технологий: характер результата строго обусловлен характером действия. Это было ему близко, потому что только это и было понятно. Рома раздобыл рецепт яда, применение которого в малых дозах постепенно вызывает отёк лёгких.
Вскоре мать умерла от отёка лёгких. Он похоронил её и с тех пор ни разу о ней не вспомнил.
Глубокой ночью небольшая полуразрушенная часовня на старом кладбище была освещена лишь едкими огоньками свечей, которые держали в руках собравшиеся. Их было здесь человек десять, они жались к стенам — все в чёрных балахонах и чёрных масках. Посреди часовни лежал большой деревянный крест, только что вырванный из могилы. Рядом с крестом стояли две девушки, одетые вполне обычно, с открытыми лицами. Они нерешительно переминались с ноги на ногу и чувствовали себя явно неловко под пристальными взглядами изо всех углов часовни. Наконец, голос из-под одной маски рыкнул:
— Раздевайтесь!
Одна девушка сразу же начала раздеваться, постаравшись придать своему лицу выражение как можно более наглое и высокомерное. Вторая фыркнула:
— Ещё чего. Мы так не договаривались.
— Мы никак не договаривались! Делай, что тебе говорят! — зарычала маска и разразилась потоком грязных ругательств.
В глазах девушки появился испуг, она тоже начала раздеваться с обиженным лицом, проворчав: «Холодно вообще-то».
Маска приказала:
— Оскверняйте крест.
Девушки выполнили приказ, не проявив большой изобретательности.
— Ругайте Христа, да покрепче, — опять скомандовала маска.
Первая сразу же разразилась грязными ругательствами, вторая что-то за ней повторяла, хихикая и всем своим видом изображая, что не принимает происходящее всерьёз.
Тогда одна из масок достала из мешка кота и протянула одной из девушек, а другой протянула нож:
— Убить мало. Надо содрать с живого шкуру. Уж постарайтесь.
— А я не буду, мне противно, — опять закапризничала вторая.
Главная маска отделилась от стены и вышла из часовни, за ней последовали ещё трое. Вскоре они вернулись, и главный сказал:
— Сегодня Сатана послал нам жертву получше кота. Этой девчонке-переростку лучше бы продолжать игры в песочнице, но она захотела присоединиться к свободным людям. Ну так покажем ей, что такое настоящая свобода.
Капризницу схватили, заклеили ей рот, потом разложили на кресте и прибили к нему гвоздями. Крест подняли и прислонили к стене часовни. Главный подал второй девушке нож:
— Срежь с неё кусочек кожи. Оставишь себе на память.
Это было исполнено. Потом жертве перерезали горло и наполнили кровью чашу. Тогда все сорвали маски и пили кровь. Рома тоже сорвал маску и обратился к новообращённой:
— Теперь ты наша! Отныне и вовеки! Ты заслужила место в аду!
В часовне началась гнусная оргия.
Рома создал собственную группу сатанистов ещё когда учился на последнем курсе. Группа была небольшой, но очень крепкой. Кошками они почти не забавлялись, сразу же перешли к человеческим жертвоприношениям, а потому в группу попадали только законченные нелюди, случайных людей здесь не было. Да и к этим неслучайным людям Рома относился, как к мусору, отнюдь не считая их своими товарищами — сдавал, подставлял, выворачивал наизнанку, держал в постоянном страхе. При этом так виртуозно создавал иллюзию реального братства, где «один за всех, и все за одного», что все в группе считали его лидером, жестоким, но справедливым, день и ночь пекущимся об их благополучии.
Его лидерскому взлёту способствовали не только врождённая властность и беспредельная жестокость человека, который не остановится ни перед чем, но и тонкое знание психологии. Он отбирал в группу людей волевых, решительных, храбрых, но максимально примитивных. От таких и пользы было побольше, и проблем с ними поменьше, и управлять ими полегче — достаточно было создать у них несколько иллюзий. Любого человека Рома понимал, как клавиатуру. Нажал на одну клавишу — вызвал восхищение, на другую — страх, на третью — покорность, на четвёртую — агрессию и так далее, но не до бесконечности. Человек, с которым Рома работал, не должен обладать способностью испытывать более чем полдюжины сильных и примитивных эмоций. Потому они и верили в него, и боготворили, что просто не способны были понять, что все они для него жертвы, а он тонко чувствовал, когда и кого надо уничтожить, иных используя несколько месяцев, а иных — несколько лет. Если человек был слишком слаб, он убирал его своими руками («Рома не терпит слабых»), если кто-то был слишком силён, он убирал его руками других («Рома скорбит о погибшем брате»), приносит человек хороший доход — ему прощают до времени и слабость, и силу («Рома всегда справедлив»), если человек маниакально жесток, ему показывают ещё большую жестокость («круче Ромы нет»), если человек без удержу стремится к удовольствиям, ему дают их даже больше, чем он хотел («Рома заботится о своих»).
Рома быстро понял, что играть на человеческих клавишах становится гораздо легче, если использовать наркотики, причём делать это надо с толком, понимая, когда, кому и что даёшь. Сейчас для моторной активности надо простенький экстази, потом для полного улёта — тяжёлый героин. Одним легко управлять при помощи галлюциногенов, другой хорошо поведётся на психостимуляторы, и опять же — с этого довольно сиднокарба, а тому нужен кокаин. Ситуационно, вариативно применяя самые разнообразные наркотики, Рома то писал строгие симфонии, то отдавался джазовым импровизациям.
Он был талантливым фармакологом и вскоре разработал несколько синтетических наркотиков — дешёвых при изготовлении и неожиданных по эффекту. Основной задачей его сатанинской группы стало распространение этих самопальных наркотиков. Вклиниться на наркорынок было не так легко, но и тут Рома нашёл свои клавиши. Его отморозки проявляли по отношению к конкурентам жестокость настолько запредельную, что Роме в ужасе уступили значительный сегмент наркорынка. Он расширил этот сегмент, насколько позволяли ему людские ресурсы и остановился у точно рассчитанной черты.
Впрочем, людские ресурсы позволяли ему всё больше и больше. Вскоре под ним ходило уже несколько групп по 20–30 человек. Конспирацию он соблюдал строжайшую, лично с ним были знакомы немногие из тех, кто ему реально подчинялся, а те, с кем он лично имел дело, были самыми настоящими зомби, на которых никакие пытки не произвели бы ни малейшего впечатления. А из группы первого призыва, где его знали все, через пару лет он не оставил в живых ни одного человека.
Закончив вуз, Рома опять всех удивил, устроившись наркологом на соответствующее отделение психиатрической больницы. Не денежно? Не престижно? Неприятно возится с опустившимися людьми, от большинства из которых даже ближайшие родственники отреклись? Эти идиоты, как всегда, ничего не поняли. Деморализованная масса никому не нужных людей была замечательным экспериментальным материалом. Рома постоянно изобретал новые препараты, пробовал разнообразные комбинации уже известных и ставил эксперименты на своих пациентах. Перед Ромой открылись такие возможности, что доктор Менгеле скрипел бы зубами от зависти.
Иные алкаши, которых ещё вполне можно было вернуть к нормальной жизни, в результате забот молодого талантливого врача превращались в полных инвалидов. Врача ни разу никто не упрекнул, потому что, во-первых, судьба алкашей мало кого волновала, а, во-вторых, никто не усматривал ничего удивительного в том, что люди, добровольно вставшие на путь саморазложения, доходили в конечном итоге до полной невменяемости. Очень многие его пациенты умерли, но Рома умел всё так обставить, что каждый раз он оказывался совершенно ни при чём. А некоторым, весьма немногим, он действительно помог встать на ноги. Это были люди, которых он мог потом использовать с большой для себя выгодой. Грамотный пиар делал своё дело, все вокруг говорили только о невероятных профессиональных удачах молодого талантливого врача. В итоге, врач, лютовавший посреди Москвы похлеще любой эпидемии, постепенно приобрёл славу доктора-чародея, который и мёртвого поставит на ноги.
Заработав репутацию в медицинской среде, Рома вскоре оброс многочисленными и очень полезными связями, что позволило ему расширить свой бизнес. Для начала он подобрал под себя торговлю человеческими органами. Тут и без него многие пытались шустрить, но врачи не имели необходимой для таких дел вооружённой силы, работали с заурядными бандитами, которые по сравнению с чёрными боевиками Ромы, напоминали младенцев. Для начала, по приказу Ромы, разобрали на органы тех самых бандитов, потом перешли на самую в этом случае подходящую категорию граждан — гостей столицы. Приехал какой-нибудь провинциал в Москву и исчез. Московской милиции тут расследовать нечего, Рома ещё с детства помнил: нет трупа — нет убийства. А если родственники без вести пропавшего начинали бить тревогу, так ведь они ни в одном случае не могли доказать даже того, что пропавший доехал до Москвы, а если и доехал, так уж больно она велика, эта Москва.
Потом наладили торговлю младенцами, от которых матери отказывались в роддомах. Тут всё было ещё проще. Ни мать, ни другие родственники такого младенца разыскивать уже не могут, а если он не попадал в детдом, то у детдома тоже не было проблем — лишь бы в документах всё было гладко. Исчезло несколько бумажек и маленького человека уже не существует юридически, а вскоре и физически.
Похищение людей, которых потом разбирали на запчасти, и младенцев из роддомов, которых либо продавали, либо умерщвляли и готовили из них дорогостоящие медицинские препараты, вскоре было поставлено на широкую ногу. Рома стал очень богат. Он мог позволить себе в любом количестве изымать похищенных из бизнеса и совершенно бескорыстно расходовать их для жертвоприношений во время чёрных месс. Рома помнил, что весь его бизнес с фантастическими деньгами и всё возраставшая власть над людьми, это только внешнее оформление его главной жизненной необходимости — причинять людям боль. Людям и Богу, который есть главный источник боли, а избежать боли можно только одним способом — через уподобление Люциферу, то есть, причиняя боль. Есть только один способ жить — отнимая жизнь. Есть только один способ избежать разрушения себя — разрушать других.
Комната была едва освещена пламенем чёрных свечей, изготовленных из жира младенцев. Казалось, даже пламя этих свечей — чёрное. Посредине комнаты стоял красный деревянный стол, больше напоминавший ложе — в рост человека. К столу подошла женщина в чёрном шёлковом плаще до пят с накинутым на голову капюшоном. Небрежным движением она откинула капюшон, надменно подняла голову и через несколько мгновений сбросила плащ, оказавшись совершенно обнажённой. Женщина была молода и очень красива, но любому нормальному мужчине, который хоть раз увидел эту красотку, больше не захотелось бы. От молодой и упругой, изумительно белой кожи, от её восхитительных форм веяло неизъяснимой мерзостью трупного разложения. Трудно было даже понять, почему её красота вызывает такое отвращение, должно быть она источала невидимые флюиды смерти и разрушения. Женщины легла на стол, приняв развратную позу, которая могла вызвать желание разве что у маньяка-некрофила. К ней подошли два помощника жреца в длинных чёрных балахонах. В руки подали чёрные свечи и зажгли их. На живот поставили серебряную чашу. Появился третий помощник жреца с младенцем в руках. Младенец отчаянно плакал. Помощник поднял его над чашей. Тогда к ним подошёл верховный жрец, Роман, в чёрном шёлковом плаще, с длинным кинжалом в руках. Точным выверенным движением он перерезал младенцу горло. Кровь хлынула в чашу. Все собравшиеся в чёрных балахонах одобрительно и радостно загудели. Дождавшись, когда кровь младенца полностью стечёт, трупик унесли — из него изготовят магический прах. Роман взял чашу и первым отхлебнул из неё, а затем пустил по кругу. «Причастившись», сатанисты начали выкрикивать проклятия и грязные ругательства в адрес Христа, постепенно приходя в полное неистовство. Чёрные балахоны полетели на пол. Началось такое непотребство, при описании которого почернела бы даже бумага. Не покраснела бы, нет, почернела бы.
Рома никогда не употреблял наркотиков, лучше других зная, что это путь саморазрушения, а себя, любимого, он разрушать отнюдь не хотел. Воздействие алкоголя на организм он не любил, на его вкус оно было слишком примитивным. Он не курил — не видел в этом смысла. Ни снотворных, ни антидепрессантов он даже не пробовал, предпочитая травить ими других. И вот теперь он капитально подсел на кровь.
Сначала он не придавал ритуальному употреблению крови никакого значения, кроме символического. Исследователь-прагматик, фармацевт-экспериментатор, он прекрасно знал, что кровь млекопитающих, включая человека, не содержит никаких веществ, способных так или иначе воздействовать на психику. К оккультным завываниям на эту тему он всегда относился скептически, и вообще он был скорее материалистом, чем мистиком. Впервые отведав крови, он подумал лишь о том, что её вкус ни на что не похож. Но с третьего приёма он начал чувствовать, что с его психикой происходит что-то необычное.
Внутри него как будто появилось некое содержимое, ему не присущее. Это содержимое поначалу проявляло себя едва заметно, не вызывая ни эйфории, ни дискомфорта. Главное тут было в том, что оно было. И оно не принадлежало ему. Но оно было в нём. Кажется, это было первым ощущением в его жизни, которое его реально взволновало. И это, похоже, было решением той проблемы, которая к тому времени встала перед ним в полный рост.
Дело в том, что душа Ромы никогда ничего не чувствовала. Любить он был неспособен, об этом и говорить нечего, но он и ненависти никогда ни к кому не испытывал. Он не испытывал ненависти к Богу, для него это была лишь крупная фигура, которую надо переиграть. Он не испытывал ненависти к христианам, для него они были не более, чем массой, воздействуя на которую можно порешать проблемы с Богом. Причиняя боль, он чувствовал не столько наслаждение, сколько удовлетворение, как от выполнения поставленной задачи — боль причиняет он, а не ему. Чувство власти никогда не пьянило Рому — власть необходимо было приобретать и наращивать для того, чтобы самому не попасть под власть. Он справлялся с этой задачей и не мог не справляться, потому что был сильнее и умнее всех, кого он знал, а главное — ни к кому не испытывал привязанности и не имел в себе даже намёка на нравственные ограничения. Власть была для него, как мясо в холодильнике на кухне — можно в любой момент взять столько, сколько надо и приготовить любое блюдо, а дальше главное не откусывать больше, чем можешь проглотить, и тогда всегда будешь сыт этой самой властью. Нет проблем с приобретением, нет удовольствия при потреблении.
Его нисколько не волновало даже то обстоятельство, что он за несколько лет стал баснословно богат. Теперь он мог иметь всё, что хотел, но он ничего не хотел по-настоящему сильно. Внутри себя он видел ту же клавиатуру, что и в окружающих людях. Он управлял ими, нажимая на клавиши, управлял собой, исходя из тех же принципов. Ни одна клавиша в его душе никогда не западала. Пьесы, которые он сам для себя писал, всегда исполнялись безупречно, и это не доставляло наслаждения, потому что он знал, что иначе и быть не может.
Сначала он был всем доволен, полагая пустоту внутри себя естественным спутником успешного человека. Потом эта пустота начала тревожить и наконец выросла до объёмов принципиально нерешаемой проблемы. Не существовало клавиши, на которую можно нажать, чтобы заполнить пустоту, потому что не известно, чем её можно заполнить. Первым живым чувством, появившимся в его душе, была зависть. Он начал завидовать тем, в чьих глазах читал страх, потому что эти люди хотели избавиться от источника страха. Они имели сильное желание. Завидовал тем, в чьих глазах читал огонь блудной страсти, потому что эта страсть, ненасытимая по сути, обеспечивала страждущего желаниями до конца дней. Завидовал тем, кто убивал с удовольствием — людей вокруг сколько угодно и, убивая их, можно получить море удовольствия. Сам он имел женщин и убивал так же бесстрастно, как завтракал. Он даже стал завидовать собственному детству, когда постоянно испытывал боль и имел постоянное желание этой боли избежать. Абсолютная гордыня сожрала в нём все остальные страсти, и он получил на выходе абсолютное одиночество, а это полная пустота, это фактически смерть. Рома понял, что он мёртв, но и это открытие нисколько не взволновало его.
И вот в его жизни, точнее — в его смерти появилась кровь. Чужая кровь. И он чувствовал в себе чужое содержимое, некие иллюзорные тени эмоций, которые постепенно становились как будто реальнее. Всегда иронично относившийся к магии крови, он теперь всерьёз занялся изучением этой темы. Кровь — сама жизнь, вместилище энергии живого существа. Эти мысли больше не были для него абстракцией. Но глупо было просто так хлестать кровь стаканами, этим процессом надо управлять, тут была своя клавиатура, всё ещё ему недоступная. Вся литература, посвящённое магии крови, какую он только смог приобрести, была похожа на детский лепет — придурки вообще не понимали, о чём пишут.
Люцифер пришёл ему на помощь, раскрыв тайны кровавой магии самым неожиданным образом. Когда-то, ещё подростком, он спросил у матери, как это так вышло, что они живут в шикарной квартире в добротном сталинском доме в самом престижном районе Москвы. Мать ответила, что её отец, дед Ромы, был большим человеком, кажется даже полковником НКВД, а потом его репрессировали, но квартиру у дочери не отобрали. Рома принял информацию к сведению, не придав ей никакого значения — для него ни один человек не имел значения, и судьба деда нисколько его не взволновала. Но позднее, когда он уже не мало знал о зверствах НКВД, он вспомнил деда с некоторым интересом. Опыт кровавых палачей был в его глазах достойным внимания, а загадка его деда — это ведь, в известном смысле, загадка его самого — покопавшись в генетическом наследии, можно открыть внутри себя новые клавиши и создать с их помощью новые мелодии.
На Лубянке ему выдали справку относительно деда: действительно — полковник НКВД. Сотрудник закрытого НИИ. Репрессирован. Реабилитирован. В кои-то веки Рома был заинтригован. Что это за закрытый НИИ? Что за секретные исследования? Уж не медицина ли? Мало у кого в руках было столько экспериментального человеческого материала, как у чекистов. Рома запросил уголовное дело деда. Мало понимая в логике спецслужб, он даже не удивился тому, что ему дали возможность познакомится с делом. Обычно на такие просьбы следовал отказ под каким угодно предлогом. Но Рома не знал этого. А дело стоило того, чтобы с ним познакомится.
Секретный НИИ, в котором работал дед, действительно занимался проблемами медицины, а у деда была очень узкая и, казалось, невероятная для советской эпохи специализация — магия. Магия крови. Стык медицины и магии. Это явно следовало из вопросов, которые задавал деду следователь на допросах. Впрочем, ответы деда носили очень общий характер и были рассчитаны на профанов. А один из этих вопросов касался засекреченной печатной работы деда: «Влияние препаратов из крови на психику человека». Рома опять сделал запрос с просьбой познакомиться с этой работой. И он опять же не догадывался, что полученное им разрешение — факт из ряда вон выходящий. Лубянка никогда никому не разрешала даже пальцем прикоснуться к подобным разработкам тех, кто трудился в её недрах. Рома не знал и не мог знать, что его интерес к специфическим исследованиям деда вызвал ответный интерес со стороны Лубянки. Его любопытство удовлетворили, но с этого момента ему самому суждено было непрерывно удовлетворять любопытство лубянских оперов, хорошо понимавших, что от интереса к магии крови обязательно потянутся любопытные криминальные цепочки. Теперь все его связи и контакты тщательно отслеживались, все его мероприятия были, как на ладошке, каждое его движение добросовестно контролировалось. Постепенно лубянские опера создали почти полную картину весьма разветвлённой деятельности Ромы-сатаниста и знали о его организации даже больше, чем он сам. Ни его самого, ни его людей не трогали, ни разу ни в чём не воспрепятствовали, но это стало лишь вопросом времени.
Зная, чем занимались доблестные чекисты в советский период, Рома видел в Лубянке силу родственную, потенциально союзную, и это было весьма большой ошибкой. Вместе с исчезновением «железного Феликса» с Лубянской площади, некоторые направления деятельности этого ведомство поменялись на противоположные. Теперь Лубянка была склонна делать ставку на Православную Церковь, усматривая в ней стабилизирующую общественную силу, а сатанинскую сеть, тщательно Ромой созидаемую, понимала, напротив, как силу деструктивную, антигосударственную. За падением Союза практически одновременно последовали разгром Лубянки и расцвет российского сатанизма, но Лубянка быстро пришла в себя и, пусть в ослабленном варианте, но начала активно действовать, проявляя достаточную энергию и обнаружив способность к обновлению. Сатанистам это не сулило ничего хорошего, а Рома, не чувствуя тенденций, полагал, что его организация находится в самом начале своего космического взлёта.
Взлёт, впрочем, некоторое время продолжался и даже более того — Рома вывел свою деятельность на принципиально новый уровень. Этому способствовало то, что теперь, овладев некоторыми секретами магии крови, Рома почувствовал себя возрождённым человеком, перед которым пали последние преграды на пути к неземному величию. Рома готовился стать богом. Но для начала надо было войти в соприкосновение с людьми вполне земными, имеющими московскую прописку.
В тихом безлюдном парке около пяти часов утра сидел на скамейке старый господин и кормил голубей. Одет он был в допотопный, во всяком случае, довоенный костюм. Издали эта картина выглядела вполне идиллически: у одинокого старика бессонница, и он решил порадовать своих единственных друзей — голубочков, с тихой грустью вспоминая прожитую жизнь. Однако, любой, кому пришла бы охота получше разглядеть лицо старика, без труда почувствовал бы, что идиллией здесь и не пахнет. Это лицо выражало крайнюю степень закрытости и пустоты. Самое удивительное: у старика не было глаз, только мутные гляделки, ничего не выражающие. В уголках обвисшего рта так же невозможно было прочитать никаких чувств. Он походил на актёра, сыгравшего все роли на свете и вот теперь обнаружившего, что его-то самого давно уже не существует. Сам он — не герой и не злодей, а просто никто, ходячее воплощение пустоты. Даже завсегдатаи моргов не согласились бы слишком долго смотреть на это лицо.
Этот практически не существующий старик являл собой разительный контраст с голубями, которые у его ног решали свои насущные проблемы. Кажется, только пернатые могли выносить его общество больше нескольких секунд, и лишь поэтому он здесь. Удивительно было только, как он сам выносит пернатых. Было понятно, почему он вышел в парк в это мёртвое время, людей рядом с ним было решительно невозможно представить. Никто бы не поверил, что у старика здесь и сейчас деловая встреча. А это так и было.
Элегантный и, судя по всему, очень сильный мужчина лет 30-и, как-то очень незаметно появился в парке, молча сел рядом со стариком на скамейку. Они никак друг друга не поприветствовали. Старик и головы к мужчине не повернул, казалось, он просто не заметил, что рядом с ним кто-то появился, и мужчина так же смотрел строго перед собой. Его лицо, почти лишённое мимики, ничего не выражало. На губах играла лёгкая улыбка, но она словно не имела никакого отношения к лицу, выглядела надетой из приличия и ровным счётом ничего не значащей.
Наконец послышался скрипящий, механический голос старика:
— Рома, ты когда-нибудь изучал поведение голубей?
— Нет.
— Напрасно. Голубь — единственная птица, убивающая себе подобных. Не ради пропитания и даже не из конкуренции. Без видимых причин. Наша птица.
— Любопытно.
— Что тебе надо?
— Мне надо встретиться с красной виконтессой.
— А я думал, Рома, что ты умнее.
— Я, действительно, гораздо умнее, чем ты можешь предположить — неожиданно развязно сказал Рома. — Мне есть что сказать виконтессе.
— Ты не представляешь, голубь сизокрылый, как трудно чем-либо заинтересовать нашу госпожу. Если же ей покажется неинтересным твой глупый трёп, живым ты не уйдёшь. Ни один человек, из тех кто понапрасну потревожил красную виконтессу, не остался безнаказанным. На тебя, щенок, мне совершенно наплевать. Твоя кровь может оказаться очень интересной на вкус, — старик пошамкал своими губами-слизняками. — Но если я устрою вашу встречу, и результат этой встречи не понравится госпоже, мне тоже достанется. Меня, конечно, не убьют, но обязательно накажут. Итак, чем ты можешь заинтересовать меня?
— Сколько тебе надо младенцев, старый хрыч? Сто? Двести? Триста?
— Куда мне их столько сразу? Я же не змей-горыныч. По одному раз в неделю до конца моих дней.
— Получишь.
— Обмануть не пытайся. Тогда о смерти попросишь, но не получишь смерти. И чтобы все младенцы были молочные, переростки для меня жестковаты. Ты встретишься с красной виконтессой. Она выслушает тебя. А что будет дальше — это ваши дела.
Старик резко встал со скамейки и неожиданно энергичной пружинящей походкой зашагал прочь.
О существовании в Москве группы чёрных сатанистов высших степеней посвящения знали не многие, а кто знал — информацией не делился, да и не много было информации о «высших» у тех, кто к ним не принадлежал. Эта группа и группой, собственно говоря, не была, скорее — сумма разрозненных особей, знавших друг друга и иногда имевших общие дела. Все они были потомственными сатанистами, принадлежали к чёрным родам и уже в силу одного только этого вербовкой в свои ряды не занимались. Обычным сатанистам доступ в чёрное братство был закрыт. Рома по крупицам собрал некоторую информацию об этой группе и теперь хотел войти в высший круг избранных — не по праву рождения.
Он знал, что среди представителей чёрных родов Москвы самым могущественным персонажем является красная виконтесса. Она не была лидером или руководителем в привычном смысле слова (какие тут могут быть лидеры?), но она была самой влиятельной и могущественной. Она никому не отдавала приказов, но если кто-то хоть раз не расслышал её просьбу, высказанную невнятным шёпотом, того уже больше никто не видел. Говорили, что красная виконтесса принадлежит к роду Цепешей, то есть является родственницей самого Дракулы. А «красная» — потому что владела высшими секретами магии крови. Или потому, что в молодости служила в НКВД. Или и потому, и по другому. Рому интересовали прежде всего международные связи красной виконтессы. И некоторые секреты магии крови его тоже интересовали. Он полагал, что имеет что предложить взамен, но понимал, что идёт на смертельный риск. Красная виконтесса могла велеть прикончить его из одного только каприза, даже не пытаясь взвесить, какую пользу он может ей принести. Уж кто-кто, а Рома-то хорошо знал, как трудно чем-либо заинтересовать настоящего сатаниста, всегда очень скудного желаниями. Но он шёл на этот риск, подчиняясь непреодолимой внутренней необходимости. У него просто не было иного выхода.
В маленькой душной комнате всё было различных оттенков красного цвета — и ковры, и шторы, и обивка антикварной мебели. В кресле сидела старушка в шёлковом платье цвета крови. Освещение в комнате было так устроено, что её лицо оставалось в тени, а под просторным платьем фигура вообще не угадывалась, она могла быть и толстой, и тощей. Её вообще могло не быть. Но голос у неё был. И этот голос напоминал шипение змеи, которая почему-то решила шипеть как можно более ласково:
— Ромочка пожаловал. А зачем пожаловал? На что сдалась старушка молодому красавцу?
— Я подарю вам Москву. А вы мне — Венгрию и Румынию.
— Венгрию с Румынией захотел. А Москва неужели до сих пор не моя?
— Я подарю вам Москву, которой до сих пор нет. Ту, которую я в ближайшее время создам.
— Вот как… разволновал старушку мальчик. Говори, только покороче.
— В ближайшее время я смогу объединить все разрозненные сатанинские группы Москвы в единую могучую и разветвлённую организацию. Подомнём под себя всех язычников, поставим под контроль всех неонацистов. Весь наркобизнес и торговля оружием будут наши. Купим столько политиков, сколько захотим. Купим прессу, телевидение, издательства. Купим Православную Церковь. Внешне, для стада, всё останется по-прежнему. Но это будет уже другой город. И этим городом будет править красная королева. Вы, ваше величество.
— Экий ты, Ромочка, Наполеон. Половину бы этого сделал, я бы удивилась.
— Я уже сделал не половину, а три четверти. Оставшуюся четверть без вас не сделать. Вы поможете мне, и я подарю вам этот город.
— Да, Ромочка. Знаю твои делишки. Всё знаю. Хорошо работаешь. Много сделал. Только скучно всё это. Какое мне дело до Москвы? Не нужна она мне. Конечно, в такой Москве старушка сможет хоть на улицу выйти, воздухом подышать. Хорошим чёрным воздухом. Но стоит ли ради этого трепыхаться? Всё надоело. С тобой вот пяти минут не говорю, а ты уже надоел.
Рома понял, что ему уже зачитывают вступительную часть смертного приговора. Дрожащим голосом он еле смог выдавить:
— Если вы согласились со мной встретиться, значит, есть те слова, которые вы хотите от меня услышать. Только намекните, и я скажу эти слова. И я отвечу за свои слова.
— Я, Ромочка, согласилась встретиться тобой только ради твоего дедушки. Мы были с ним очень хорошо знакомы. Работали вместе. Какой был мужчина. Сильный, решительный, знающий. Глубоко копал. Подлец, впрочем. То, до чего докопался, так мне и не сказал. И с работы меня выгнал. Представляешь, как мне было обидно? А ведь и ты такой же подлец, Ромочка. Захотелось взглянуть на тебя, молодость вспомнить. Но молодость не вернёшь. А ты вот тут стоишь и терзаешь старушку. Гадкий ты мальчишка и нет тебе прощения.
Рома зашёл с последнего козыря:
— Я получил доступ к исследованию деда. Позволите ли поднести вам копию?
Роме показалось, что старушку подбросило в кресле, как от электрического разряда. Совершенно другим голосом, странно взволнованным, она выдавила:
— Давай.
Она листала копию, наверное, полчаса, не проронив ни слова. Рома всё это время так же молча стоял перед ней навытяжку. Наконец, с неожиданным для неё возбуждением, виконтесса произнесла:
— Удивительные вещи. — и продолжила куда более равнодушно, словно спохватившись, — впрочем, всё это давным-давно известно. Так, любопытные детали. А вот скажи-ка мне, проказник, зачем тебе Венгрия и Румыния?
— Через ваши контакты в этих странах я намерен наладить трафик моих синтетических наркотиков в Западную Европу. Кроме того, Венгрия и Румыния — широкий рынок для нашего живого товара. Здешний рынок тесноват, а предложение мы уже сегодня можем обеспечить почти неограниченное.
— Ладно, проказник, ты получишь то, что просишь. И Москву эту противную давай, завоёвывай для меня. Завоюешь — приму, так и быть. И ещё кое-каким штучкам с кровушкой тебя научу. Мы, Ромочка, такие штучки знаем, до которых даже твой умненький дедушка так и не дошёл. Ты ведь хотел у нас поучиться?
— Хотел, — мучительно улыбнулся Рома, понемногу выходя из предсмертного оцепенения.
— А перепугался ты совершенно напрасно. Ты ведь один из нас, принадлежишь к знаменитому чёрному роду. Людей из чёрных родов я по своей воле просто так приговаривать к смерти не могу. Чтобы тебя приговорить, надо весь наш верховный капитул собирать. Не знал? — виконтесса мелко и дробно захихикала.
— Не знал, — Рома приосанился. — А что это за род, к которому я принадлежу?
— Великий проклятый род. Он известен с XV века. Была тогда открыта на Москве много нашумевшая «ересь жидовствующих», хотя к жидовству она имела мало отношения. Но царёвы дьяки-дураки ничего не поняли. А еретики были сильные маги, настоящие чёрные сатанисты. Твой пращур был одним из них, его казнили вместе с другими, но потомство он успел оставить. Дедушка твой хорошо знал историю своего рода, родословную показывал, доказательства предъявлял. Доволен ли, шельмец?
— Более, чем доволен.
— Работай, Ромочка. Теперь ты один из нас. Но страх не теряй. Если сильно напроказничаешь— верховный капитул тебя быстро спишет со счетов. Быстро, Ромочка, очень быстро, — омерзительная старуха опять зашлась дробным смешком, больше похожим на кашель
В небольшом полутёмном зале на полу была выложена белой плиткой пятиконечная звезда. Вокруг неё стояли с чёрными свечами в руках человек десять в чёрных балахонах свободного покроя длиной чуть ниже пояса. На балахонах во всю грудь была чётко прорисована белая пятиконечная звезда, внутри неё — морда козла, а под ней надпись: «Церковь Сатаны». Чуть подальше от этого круга стояли два помощника главного жреца. В отличие от других собравшихся, их лица были закрыты чёрными масками, а в руках они держали длинные ритуальные кинжалы. На груди помощников на цепях красовались большие медальоны.
Собравшиеся ждали главного жреца, наслаждаясь пока его речью, звуки которой неслись из стереодинамиков. Рома давно уже не произносил речей при посвящении в очередной уровень, записав на магнитофон несколько отточенных выверенных вариантов, при помощи специальной аппаратуры изменив голос, придав ему звучание несколько металлическое. Ему показалось интересным и полезным скопировать речевую манеру Гитлера. (Старик Адольф умел держать аудиторию, его речи обладали неслабой гипнотической силой). Адепты, как заворожённые, пытались проникнуть в глубокий смысл металлизированных выкриков Ромы:
«Мы, сатанисты, осушаем чашу жизни и, благодаря осведомлённому выбору и полной личной ответственности, управляем результатами наших решений с мастерством и изяществом.»
«Современный сатанизм — жёсткая религия элитаризма и социального дарвинизма, которая стремится восстановить господство способных людей над идиотами.»
«Нам не нужны кретины-спорщики, которые просто ищут оправдания своей нужде в божестве, не имея таланта создать его своими усилиями.»
Речь закончилась и зазвучала тихая психоделическая музыка, которая, казалось, не просто проникает в уши, но и пронизывает каждую клеточку тела. Вскоре собравшиеся пришли в состояние, близкое к трансу, и тогда появился главный жрец — Роман — в глухой чёрной маске и длинном красном плаще. Это была специальная одежда для совершения обряда кровавой магии. В руках он держал массивный серебряный кубок, усеянный разнообразными магическими знаками.
Главный жрец передал кубок одному из помощников, второй помощник обнажил свою руку и сделал надрез в районе локтевого сустава. Кровь тонкой струйкой потекла в кубок. Постепенно помощники жреца обошли всех адептов, делая надрезы и собирая кровь. Когда кубок наполнился, они передали его главному жрецу.
Рома минут 10 читал над кубком заклинания на латыни. (Знаток мог бы оценить чистоту и правильность латинской речи). Потом он открыл резервуар в своём массивном перстне и высыпал в кубок содержащийся там порошок. Кровь в кубке как бы закипела. Когда она улеглась, главный жрец отхлебнул и подал кубок помощникам. Те тоже отхлебнули и пустили бокал по кругу. Когда все собравшиеся отведали крови и кубок опустел, Роман исчез так же безмолвно, как и появился. Никто здесь не должен слышать звуки его настоящего голоса.
Среди собравшихся был один новопосвящённый. Его не напутствовали, не поздравляли, он не давал никаких клятв. Зачем? После участия в обряде кровавой магии, никакие слова уже не имели значения. Человек безвозвратно превращался в живого мертвеца.
Организация Ромы — «Северная пентаграмма» была на пике своего могущества. В одной из промышленных зон Москвы они воздвигли мощный и мрачный сатанинский храм — трёхэтажное здание строго кубической формы. В этом чёрном кубе располагалось не только культовое помещение, но и многочисленные офисы различных предприятий. Контролируя несколько сфер криминального бизнеса, «Северная пентаграмма» всё более и более охотно перекачивала средства в бизнес вполне легальный. Москву покрыла сеть предприятий самого разного профиля, относительно которых не многие догадывались, что они — фрагменты «Северной пентаграммы», которую хозяин и не думал регистрировать. И название это немногие слышали, холдинг «Северная пентаграмма» юридически не существовал.
На предприятиях, которые принадлежали Роме, работали тысячи людей, которые даже не догадывались, что обслуживают сатанинскую сеть. Но и число посвящённых, прошедших обряд кровавой магии, достигало уже тысячи человек. Это была огромная армия, если учесть их качественный состав. Настоящие зомби, не ведавшие страха, абсолютно покорные и готовые на любое преступление — это была сила, без труда способная произвести государственный переворот, если потребуется. Но не требовалось. Государственный переворот проходил в ползучей форме, исподволь и незаметно. Уже многие депутаты Государственной Думы и члены Правительства были назначенцами «Северной пентаграммы», причём их число постоянно росло.
Крепло международное влияние жуткой московской организации. Благодаря красной виконтессе, Рома сначала установил прочные деловые связи с сатанинскими группами Венгрии, Румынии и других стран Восточной Европы, а потом просто положил их к своим ногам. Вскоре и в Западной Европе, и в США «Северная пентаграмма» обрела немалый вес и авторитет. Завоёвывать сатанинский мир всегда легче, чем какой-либо другой. Сатанинские группы в принципе разрозненны и не обладают способностью к объединению по самой своей природе. Рома подминал их под себя одну за другой, потому что обладал гораздо более высоким потенциалом агрессии. И на какое-то время это могло создать иллюзию объединения. Не более, чем иллюзию, но ни Рома, ни те, кто ходил под ним, не способны были это понять.
Из исследований деда и позднее от красной виконтессы Рома узнал высшие секреты магии крови, которые во всём мире были известны лишь нескольким чёрным сатанистам, представителям проклятых родов. Овладев этими секретами и применив их на практике, Рома почувствовал невероятный, фантастический прилив энергии. Он теперь вообще не уставал, сколько бы не работал, спал по 2–3 часа в сутки. Голова работала, как прекрасно отлаженный механизм, он обрёл способность к одновременному анализу огромного количества информации. Рома не сомневался, что идёт к мировому владычеству, не собираясь, впрочем, ограничиваться этой жалкой планетой. Он устранит больше уже не нужного Люцифера-неудачника и продолжит древнюю войну с Богом, в которой, в отличие от Люцифера, обязательно победит. Бога, конечно, не уничтожить и полностью не устранить, но он вытеснит его за территорию космоса и разделит сферы влияния в свою пользу.
Рома был не в состоянии почувствовать и понять, что с момента овладения высшими магическими секретами вместе с бешеной энергией и блестящими интеллектуальными возможностями он получил семена безумия. Он не замечал, как постепенно начинает терять адекватность, медленно, но неуклонно превращаясь из хладнокровного прагматика в безумного маньяка. Он всё чаще и чаще отдавал распоряжения, не находившиеся ни в какой связи с реальной действительностью. В нём уже заработал часовой механизм обратного отсчёта времени — каждая секунда приближала его к полному распаду личности и процесс этот должен был закончиться абсолютной деградацией. Этот процесс мог растянуться, впрочем, на целое десятилетие, а за это время такой нелюдь способен немало сделать. И делал, делал, делал. Успехи его были по-прежнему поразительны.
Он не отдавал себе отчёта в тех процессах, которые внутри него происходят, только почему-то всё чаще начало припоминаться не первое, а последнее четверостишие того самого стихотворения Гумилёва. В этих строках он не видел ни малейшего смысла, а они всё-таки неотступно звучали в сознании:
Братья из «Пересвета» сняли для новых друзей просторную квартиру, где теперь часто собирались все вместе, во всяком случае, все, кто был свободен — подготовка к боевой операции шла полным ходом.
Как-то Серёга сказал Сиверцеву:
— Прочитал, Андрей, твои опусы — «Все дороги ведут в Орден». И мир во мне перевернулся. Удивительные судьбы с ошеломляющим исходом.
— Про меня у Андрея получилось слишком красиво, — вставил слово Зигфрид. — Конечно, это всё правда, Андрей ничего не исказил. Но я на самом деле не герой, обычный человек.
— А, может быть, Андрей понял тебя лучше, чем ты сам себя понимал, поэтому тебе и показалось слишком красиво? — вежливо предположил Серёга.
— Вполне возможно, — охотно согласился Зигфрид. — Я человек простой, некнижный, а Андрей… глубоко смотрит.
— Как бы мне хотелось, братья, хоть на денёк увидеть ваш «Секретум Темпли», — Серёга мечтательно улыбнулся. — Поговорить с отцом Августином, с сэром Эдвардом Лоуренсом. Они для меня теперь как ожившие герои артуровского эпоса, и даже более того. С Мерлином и Ланселотом я, наверное, не нашёл бы о чём говорить. Ерундой они занимались, а вы живёте с великим смыслом. Я всю жизнь хотел только одного — смысла. И Господь позволил нам с братьями возродить древнюю идею, которой сейчас, кажется, воздух пропитан, с воплощением только большая напряжёнка. Но Господь легко развеял тысячу причин, которые препятствовали воплощению нашей идеи. И всё-таки у меня никогда не было твёрдой уверенности в том, что мы избрали правильный путь.
— Но ведь ты сам говоришь — Господь благословил, — сказал Сиверцев.
— Я так считаю, но, если честно, я хочу так считать. При большом желании можно что угодно принять за Божию волю. Иное дело идёт как по маслу, не потому что Господь благословил, а совсем напротив — потому что бесы не мешают. Может быть, бесам это дело нравится, а Господь попускает по неизвестным причинам. Даже люди воистину богопросвящённые порою ошибались, пытаясь ответить на такие вопросы, а мы-то кто? И вот появляетесь вы. Вы — добрые христиане и отменные воины. Оказывается, наша идея никогда и не умирала, а если за 700 лет Господь не дал заглохнуть идее «воин-монах», значит, она реально жизненна, и тогда всё что мы делаем здесь и сейчас находится на очень твёрдом фундаменте. Нам уже не надо идти вперёд на ощупь, мы можем опираться на живые древние традиции.
— А ты думаешь, для нас менее значимо то, что в наше время посреди Москвы сам по себе возник Орден, подобный тамплиерскому?
— Сам по себе и чирей не вскочит, — заметил Серёга.
— Вот именно! Не случайно же появилось предприятие «Пересвет». Вы — реальное доказательство того, что Орден нужен в современном мире, что его рождает почва, а не выводят селекционеры, — сказал Андрей.
— Неужели ты в этом сомневался? — удивился Серёга.
— Посидел бы ты годик под землёй, тоже усомнился бы, что ты так уж нужен на её поверхности. Конечно, если бы я не отнёсся с доверием к тем людям, среди которых оказался, так я и не остался бы с ними. Но ведь всякое порою в голову лезет. Иногда мне начинало казаться, что мы — горстка международных авантюристов, забившихся в каменные щели африканской страны.
— «Авантюрист» — от французского слова «приключение». Ничего плохого.
— Да, наверное, ничего плохого. Вопрос только в том, нужны ли людям наши приключения? Но если сама почва рождает Орден, если Орден — реальное воплощение того, чем пронизан воздух, значит мы отнюдь не средневековый пережиток. И людям мы нужны, и Богу угодны, и есть кому традиции передать.
— А по России в Эфиопии не скучал?
— Все эти годы я старательно убеждал себя в том, что отнюдь не страдаю от ностальгии. Не помню, кто сказал: «Только идея может быть настоящей Родиной». К тому же подозреваю в себе южные, горские корни. Эфиопия — по мне. Я и сейчас не сомневаюсь в том, что религиозная идея выше национальной, а значит я сделал правильный выбор. Но вот вдохнул русский воздух и чуть не зарыдал. Не хватало мне Руси, смертельно не хватало.
— Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахли цветы, не светила луна, — процитировал Серёга.
— Вроде того, — согласился Сиверцев. — Горько всё же сознавать, что за верность идее приходится платить Родиной. А теперь, благодаря вам, Родина и Орден слились для меня воедино. Я бы, может быть, вообще у вас здесь остался. Ведь служение — тоже самое. Но это, как Орден решит. А тебе и другим вашим парням обязательно надо побывать в «Секретум темпли». Школа у нас блестящая и традиции богатейшие.
— Буду счастлив. А вот ещё о чём хотел спросить. Ты почему про нашего друга Милоша не написал?
— Да ну его. Ничего, говорит, нет интересного в моей истории, и вообще у меня, мол, нет никакой истории. Наверное что-то скрывает.
Милош тем временем лежал на кровати с закрытыми глазами.
— Милош, ленивец, проснись, — начал подтрунивать Сиверцев. — Про тебя говорим.
— А кто вам сказал, что я спал? — Милош открыл глаза, но не шевельнулся, продолжая, лёжа на спине, смотреть в потолок. — Мне было угодно внимательно слушать то, о чём говорят прекрасные русские братья. А что угодно братьям?
— Он ещё и подслушивал, — хохотнул Сиверцев. — Братьям угодно, чтобы ты рассказал о себя. Если меня не уважил, так уважь хотя бы нашего московского друга.
— Мне решительно нечего скрывать, но и рассказывать, действительно, нечего. Я вырос недалеко от Острожского монастыря. Это знаменитейший монастырь Черногории. Черногорцы очень ревностны к вере православной, и моя семья — не исключение. Мы всегда всей семьёй ходили на воскресные богослужения в дивный храм Острога. В православной Черногории есть традиция — после богослужения все прихожане собираются в трапезной, пьют чай, общаются. И вот однажды, когда мне исполнилось 25 лет, к нам на богослужение пришёл один загадочный русский гость. Священник, конечно, пригласил его после службы на трапезу. Русским у нас всегда очень рады, мы надеялись, что гость расскажет о России. Однако, наш любезный и обходительный гость сказал, что сам уже много лет не был в России и давно живёт в Африке, не сказав, впрочем, в какой стране. О себе гость сообщил только то, что он военный и православный и совершает паломничество к святыням Сербии и Черногории, так что просит нас побольше рассказать о местных святынях. Наши не мучили его вопросами и охотно выполнили его просьбу.
А меня поразило лицо этого человека. Оно было озарено верой мужественной и, пожалуй, даже воинственной, но при этом очень чистой и почти детской. В Черногории высоко чтут военные традиции православия. Все черногорцы — воины веры. Но в лице этого человека я увидел нечто такое, чего никогда не видел в лицах земляков. Это был рыцарь. Не поверите, но я сразу понял, что он — рыцарь. Я попросил гостя о том, чтобы поговорить с ним наедине. Он не отказал.
Таинственный незнакомец почти ничего о себе не рассказал, однако, признал, что, действительно, является рыцарем веры православной и объяснил, что это значит. Ведь в Черногории нет рыцарской традиции, и сам я скорее чувствовал, что есть рыцарство, но понимал недостаточно. Когда же понял, сердце моё загорелось желанием стать рыцарем православия, и я сказал об этом рыцарю, и попросил взять меня с собой. Рыцарь спросил: «Готов ли ты отправиться со мной, даже не зная куда? Готов ли ты навсегда оставить всех своих близких и уже никогда до последнего дыхания не принадлежать самому себе? Готов ли ты стать настоящим монахом и свято соблюдать все монашеские обеты, но при этом никогда не выпускать из рук оружия?». Он ещё много о чём спрашивал, и на все его вопросы я ответил утвердительно. И он взял меня с собой. Так я оказался в «Секретум Темпли», в «Убежище Храма». А недавно меня приняли в Орден, я стал сержантом тамплиеров. Вот и всё.
— А семья тебя отпустила? — Спросил Серёга.
— Я сказал отцу: «Только вера в Бога и оружие всегда хранили Черногорию. Я отправляюсь туда, где из меня сделают хорошего христианина и доброго воина, а настоящим черногорцем я останусь всегда». Отец не задавал вопросов, потому что он тоже видел лицо нашего гостя-рыцаря. Отец обнял меня и благословил. А тем рыцарем, как вы уже, конечно, догадались, был командор Дмитрий Князев.
— Потрясающие вещи, — покачал головой Серёга. — Дух рыцарства не только не умирает, но и продолжает развиваться, захватывая славянство.
— Потому что рыцарство принадлежит не Западной Европе, да и вообще — не земле, а вечности, — заметил Андрей.
— Семена рыцарства всегда были в мужественных славянских душах, — добавил Милош. — Они до времени не прорастали, потому что так угодно Богу. Но время пришло, и теперь славяне — лучшие рыцари, потому что мы — самые молодые рыцари. Деус вульт.
Все, включая немногословного Зигфрида, повторили: «Деус вульт».
— Милош, ты сказал о воинских традициях черногорского православия, — продолжил Андрей. — Всем, наверное, интересно узнать об этом подробнее.
— В них-то, в наших традициях, и есть семена славянского рыцарства, — охотно начал Милош. — Всё началось в 1484 году, когда весь наш народ во главе с Иваном Черноевичем под натиском турок покинул поля и укрылся в горах. Это была горсть исключительно храбрых людей, которые создали братство, связав себя законом, гласившим: во время войны с турками никто из черногорцев не может сойти с поля боя без приказа. Центром этого братства стал построенный Иваном монастырь в Цетинье.
— Боевое братство? — изумился Андрей. — Дисциплина и требования, как у тамплиеров? Да ещё и центром братства является монастырь, то есть монашеский центр?
— Да, — кивнул Милош, — очень похоже на тамплиеров. Братство, конечно, не было ни рыцарским, ни монашеским, но оно было боевым и религиозным, потому что черногорцы отстаивали прежде всего религиозную свободу. Остаться православными и не превратиться в рабов — для нас эти два стремления всегда были неразделимы. А в 1516 году высшее управление страной было передано митрополиту. Государственная власть находилась в церковных руках 336 лет. За это время сменилось 20 владык.
— Обрати внимание, Андрей, — вклинился Серёга, всё это хорошо знавший. — Управление Черногорией митрополитом — единственный пример абсолютной теократии за всю историю Православной Церкви.
— Поразительно! — Сиверцев весь светился. — Хотя. Конечно, то, что черногорцы видели в своём митрополите государя, характеризует их религиозность в самом высоком смысле, но теократия вообще-то не свойственна православию. Как это оценить?
— Как особую меру, принятую в особых условиях, — спокойно заключил Серёга. — Черногорцы напоминали казачью вольницу. Хоронясь в горах, они могли вообще одичать, превратиться в шайку разбойников. И тогда высший церковный иерарх взял на себя управление всем народом, и тут уж черногорцы не могли забыть, что они — народ церковный в первую очередь.
— Каковы же были черногорские князья-митрополиты?
— Каковых во всём мире не было, — твёрдо сказал Милош. — В 1782 году на черногорский престол вступил митрополит Пётр I.
— У вас тоже был свой Пётр I?
— Да. Только российского императора прозвали Пётр Великий, а черногорского митрополита — Пётр Святой.
— Характерно, — кивнул Андрей. — Нашему-то русскому Петру I святости как раз не доставало.
— А черногорскому Петру I вполне доставало величия, — дружелюбно сказал Милош. — Он был и архиереем, и князем, и законодателем, и военачальником. Потом один черногорец писал про него: «50 лет он нами правил, бился за нас в бою и ходил перед нами в чистоте и простоте душевной каждый день Божий».
— «Ходил в чистоте». Так не про каждого правителя скажут, и если он прославился не только государственными успехами, но и святостью жизни, значит, черногорская теократия была вполне оправданной, — задумчиво сказал Андрей.
— Когда Петра I причислили к лику святых и вскрыли его могилу, мощи оказались нетленными.
— Тут уж нечего добавить.
— А наследовал Петру I его племянник Пётр II, вступивший на престол в 17 лет.
— И сразу же стал митрополитом?
— Епископскую хиротонию он получил, будучи не старше 20 лет.
— Это не слишком?
— Слишком, — вмешался Серёга. — Вся судьба Черногории — это «слишком». Во всяком случае, надо сказать, что хиротонию он получил в Петербурге. Достаточно зрелые русские иерархи сочли юношу достойным высокого сана. И не ошиблись.
— Да, не ошиблись, — подхватил Милош. — Пётр II правил 30 лет. Наизусть помню оценку, которую дали черногорцы этому удивительному владыке: «Он являлся то военачальником с мечём в руке, во главе своих дружин, подавая живой пример воинской доблести, то священником и проповедником с крестом в руке приводил к смягчению дикие нравы своих соотечественников, то в качестве неподкупного князя-правителя оберегал свою независимость от всяких льстивых внушений».
— Значит, черногорские митрополиты лично сражались?
— Ещё как сражались! Едва Пётр II взошёл на трон, как последовало турецкое нашествие. Турецкий авангард в несколько тысяч человек был разбит черногорским отрядом в 800 человек. Тем нашествие и закончилось.
— По-тамплиерски!
— Черногорцы всегда сражались по-тамплиерски. В 1835 году 10 черногорцев врасплох захватили старинную крепость Жабляк и держали её 3 дня против 3 тысяч турок. А война 1712 года. Турки двинули армию в 100 тысяч, а всех черногорцев вместе со стариками, женщинами и детьми было тогда 40 тысяч, армию смогли выставить в 12 тысяч. И что ты думаешь? Митрополит Данило первым напал на турецкий лагерь. Потеряв 318 человек, он перебил по крайней мере 20 тысяч турок.
— Ну вы даёте! Кажется, вся мировая история войн знает не много примеров таких несоразмерных потерь двух сторон.
— Это потому что сама по себе война черногорцев с турками была такой, каких не знала история. Это была растянувшаяся на много столетий постоянная война без перерыва. Война горстки христиан с несметными сарацинскими полчищами. На этой войне не было числа изумительным подвигам, именно потому, что это была война за веру. Войну вела Черногорская Церковь. Церковь и народ на этой войне стали одним понятием.
— А ведь черногорские митрополиты-воители были монахами.
— Разумеется, — вставил Серёга. — Епископскую хиротонию в Петербурге могли дать только монаху.
— И если сами монахи-архиереи бросались в бой, значит, в Черногории вообще существовало вооружённое монашество?
— Да как же иначе могло быть? Сражался весь народ, а монашество сидело бы по кельям? Не только монашество, но и священство было вооружённым. Вот любопытное описание столичного черногорского храма конца XIX века: «Икон в Церкви очень мало, но зато по стенам и на мощах владыки Петра I много ружей, револьверов и ятаганов. Митрополит в старенькой протёртой ризе стоял на войлочном коврике, священники служили в лаптях, и револьверы торчали у них из-под облачений».
— А как согласуется с канонами вооружённое священство?
— Никак не согласуется, — отрезал Серёга. — Если священник вооружён, участвует в боях и проливает кровь — это грубейшее нарушение чуть ли не половины корпуса канонического права. Но как было сказать это черногорцам? Для них мужчина, который не воюет — не мужчина. И кто бы у них согласился стать священником, если для этого пришлось бы перестать быть мужчиной? Каноны неумолимы, но Бог милостив, Он видит правду сердец.
— Особые условия церковной жизни диктуют особую церковную практику, — задумчиво протянул Андрей.
— Точно так же, как особые, исключительные условия крестовых походов породили особую форму церковной жизни — появилось вооружённое монашество, тамплиерство. И на примере Черногории мы убеждаемся, что это феномен отнюдь не исключительно католический. Православный мир знает примеры ещё куда более радикальных церковных практик. А у кого повернётся язык осудить черногорцев?
— Действительно, — улыбнулся Андрей, — давайте-ка спросим себя, симпатичен ли нам священник, у которого из-под фелони торчит револьвер? Ведь симпатичен же, хотя с канонами тут полные нелады. Но сегодняшние относительно мирные условия очень трудно объявить настолько особыми, чтобы они оправдывали появление вооружённого монашества.
— А разве условия царства Антихриста — не совершенно особые условия? — голос Серёги зазвенел металлом. — И разве не для грядущего противостояния Антихристу точат свои мечи доблестные заморские братья?
— А здесь и сейчас, посреди мирной Москвы? — не унимался невыносимый Сиверцев.
— Особых условий нет, но есть особые задачи. Нет Антихриста, но есть Антихристовы предтечи, которые сражаются за будущее царство своего мерзкого господина. Это уникальные нелюди. Их остановит только меч. Так пусть это будет меч освящённый и благословенный. С ними невозможен никакой диалог, им нельзя давать ни капли религиозной свободы. Их можно только уничтожать. Но их нельзя уничтожать без молитвы. Иначе отравишь своё оружие в их ядовитой крови и, победив, проиграешь, уподобившись побеждённым. Задача встаёт не просто особая — уникальная. И решать эту задачу могут только люди особого служения, которое не вписывается ни в какие привычные церковные рамки. Эти особые люди — вооружённые православные монахи.
— Деус вульт, — хором сказали братья.
Пока братья миролюбиво предавались воинственным историко-церковным изысканиям, их руководители занимались обычными для тамплиеров грязными делами.
Князев, Ставров и Кирилл притащили в арендованный ими гараж помятого пленника. Молодой мужчина лет 30-и, весь в чёрном, отнюдь не выглядел зловеще, поскольку являл собой живое (точнее — полумёртвое) олицетворение страха.
— Рассказывай, почему за тобой охотятся сатанисты? — жёстко и хладнокровно спросил Кирилл.
— Кто вы такие?
— Мы — люди, которые только что спасли тебя от смерти. Говори, что за дела у тебя с сатанистами? Ты ведь — один из них?
— Я ничего не буду вам рассказывать.
— Ну и ладно. Сейчас мы тебе вколем скополамин — «сыворотку правды». Ты нам расскажешь всё, что нас интересует, под скополамином и покрепче тебя мужики становятся откровенными. А потом мы тебя отпустим на все четыре стороны, после чего ты проживёшь максимум час. Киллеры, которых послал Рома, до сих пор крутятся где-то тут неподалёку. Думаешь, ты сможешь от них уйти?
Пленник тяжело засопел, потом весь затрясся и наконец зарыдал.
— Успокойся, парень, и постарайся правильно оценить ситуацию, — вошёл в разговор Князев. — Мы — враги Ромы. Значит мы — единственные, кто может защитить тебя от него. А ты с нами говорить не хочешь. Тогда зачем нам тебя защищать?
— Мне всё равно не жить.
— Да, парень, шансы выжить у тебя небольшие. Но они есть. Воспользуйся ими.
— Что вы хотите знать?
— Первое — за что Рома приговорил тебя к смерти?
— Я уже несколько лет работаю на «Северную пентаграмму». Я знал, на кого работаю. Хотел стать одним из них. Нравилась чёрная мистика, зловещая романтика. Год назад меня посвятили в первую ступень. И тут началось такое. Вам это не понять. Короче, мне становилось всё хуже и хуже. Казалось, душа умирает. А это страшно, это и есть ад. Я решил соскочить, надеялся, что смогу выкарабкаться, вернуться к нормальной жизни. И вот меня решили посвятить в следующую ступень. Когда-то я очень этого хотел, а тут испугался, ведь потом точно не соскочить будет. Но моего желания никто уже не спрашивал, только приказывали. Вломились ночью ко мне домой, велели выпить водки. Я не хотел, водку просто влили мне в рот. Потом куда-то тащили, я оказался в какой-то квартире. Кажется, там никто не жил. Какой-то толстый мужик подал мне чистый листок бумаги и сказал, чтобы я расписался внизу. Потом провели в другую комнату, там сидел привязанный к стулу человек. Мне положили в руку пистолет с глушителем, и сказали, чтобы я стрелял в него. Я отказался, бросил пистолет на пол. Тогда кто-то сзади вложил в мои руки пистолет, прицелился, я закрыл глаза, услышал хлопок выстрела. Когда открыл глаза, увидел красное пятно на рубашке привязанного к стулу человека. На моих глазах пистолет положили в полиэтиленовый пакет. Меня вывезли оттуда и отпустили.
— Когда это было?
— Три дня назад.
— Всё ясно. Они думали, может быть оставить тебя. Ты у них теперь на крючке и не рыпнешься. Потом решили, что ты хлюпик, человек ненадёжный, и лучше тебя убрать. Какую работу ты для них делал?
— Шофёр. Работал в транспортном предприятии «Северной пентаграммы».
— Что возил?
— Что прикажут. Обычно, я не знал, что вожу.
— В храме бывал?
— Много раз привозил туда продукты на кухню. Других помещений не знаю.
— Давай-ка, расскажи подробно, какова система доступа на кухню, охрана, какие помещения.
Сатанист в деталях выложил всё, что знал о внутренних помещениях храма.
— Значит, так, — резюмировал Князев. — Мы запрём тебя здесь, оставим продуктов. Через три дня выпустим. Или, может быть, тебя сразу отпустить?
— Нет, нет, я здесь отсижусь. А что будет через три дня?
— Это от многого зависит. В том числе и от того, точно ли ты всё рассказал. Если напутал что-нибудь в деталях, эту дверь ещё месяц никто не откроет.
— Нет, мужики, мне больше нечего скрывать. Не знаю, кто вы, но очень вас прошу избавить землю от этой мрази.
Перед операцией собрались все вместе: Князев, Сиверцев, Зигфрид, Милош, Ставров, Шерхан, Серёга, Кирилл и два самых надёжных послушника «Пересвета» — 10 человек.
— На штурм пойдём днём, — начал Князев. — Огнестрельное оружие у вас должно быть с глушителями. Разумеется, никаких гранат. Не забывайте, что мы действует посреди европейской столицы. Впервые, пожалуй.
— Ментуры в радиусе километра не будет, — добавил Кирилл, — Как говорится: «Таможня даёт добро». Контора на подступах подстрахует. И всё-таки шума должно быть как можно меньше.
— Хорошо всё-таки действовать в православной стране, — улыбнулся Сиверцев. — Не то что в Индии.
— Православность нашей страны преувеличивать не следует, а то бы мы и не потребовались для такого дела. Если нашумим, нас никто не прикроет. Контора спиной повернётся, а ментура, напротив, появится. И тогда нам конец. Не бойтесь погибнуть внутри здания. Бойтесь перемещения боевых действий на улицу.
— Что нас ждёт внутри здания? Велики ли силы противника? — спросил Сиверцев.
— Надеюсь, что они будут нас превосходить не более, чем втрое, — ответил Кирилл. — Но ничего обещать не могу. Оперативная информация скудна на редкость. Нам так и не удалось никого внедрить в «Северную пентаграмму». Своего туда не затолкать — расколют сразу, а вербовке эти зомби фактически не поддаются. Так что трудно сказать, что нас ждёт. Будем действовать по обстановке.
— Установка — на тотальное уничтожение противника? — уточнил Сиверцев.
— Не задача, — ответил Князев. — Но боюсь, что иначе не выйдет.
К чёрному входу кубического храма сатанистов подкатили два фургона с маркировкой «Северной пентаграммы». Из них спокойно вышли мужики в рабочих комбинезонах и стали выгружать картонные коробки. Тем временем, сидевший за рулём одной из машин, похоже что — главный, нажал на кнопку звонка условным сигналом.
— Жрачка, — сообщил главный открывшему двери охраннику.
Охранник окинул прибывших тяжёлым мрачным взглядом. Что-то было не так. Ещё секунда, и он мог подать сигнал тревоги. Но у охранника не оказалось этой секунды — он влетел обратно, сокрушённый страшным ударом кулака. Парни в комбинезонах, словно ничего не произошло, взяли коробки и без суеты вошли в здание. Главный, войдя первым, в узком коридоре положил ещё двух — мгновенными ударами кинжала. Тут же, в коридоре, тамплиеры разобрали оружие из коробок. Князев тихо скомандовал: «За мной».
Когда на кухню ворвалась ватага до зубов вооружённых тамплиеров, там вертелись у котлов три повара-мужчины. Двое мгновенно получили жёсткие удары по голове от Зигфрида, которые орудовал кастетом. Третий повар успел схватить огромный кухонный нож, но тут же упал с кинжалом в горле — Сиверцев не забыл ассасинских уроков. Пока всё шло тихо и на удивление гладко.
Из кухни ворвались в просторный вестибюль, где дежурили четверо охранников с помповыми ружьями. Тут уже пришлось стрелять, но по-прежнему удалось не нашуметь — ни один охранник не успел даже вскинуть ружьё. Князев, оставив с собой Сиверцева и разделив остальных на две группы, послал их зачищать левое и правое крыло первого этажа. Минут через 10 ему доложили: «Первый этаж чист, мессир».
— Одеть плащи, — сухо без пафоса скомандовал Князев.
Из сумки быстро извлекли белые плащи с красными крестами на левом плече, одев их поверх уже забрызганных кровью комбинезонов. Не облачились только Зигфрид и один послушник «Пересвета», которых оставили контролировать вход. Все остальные устремились на второй этаж.
Здесь были офисы различных предприятий «Северной пентаграммы». Клерки сопротивления не оказывали и вообще не успевали ничего понять, падая под тяжёлыми вырубающими ударами кастетов, рукояток кинжалов и пистолетов. Один только успел выхватить пистолет из ящика письменного стола, но выстрелить не успел. Пока это было избиение жалких, беспомощных клерков — дело гадкое и отвратительное, но совершенно необходимое — народу тут было много, у себя за спиной нельзя было оставлять никого, кто мог бы стоять на ногах.
Так добрались до кабинета Ромы. Навстречу им поднялась красавица-секретарша, первая женщина, встреченная ими в здании. Она почему-то нисколько не удивилась их белым плащам и с презрительным высокомерием спросила:
— Что вам угодно, господа?
— Угодно видеть твоего шефа.
— Его нет. И я не уверена, что он вам нужен.
Сиверцев вполсилы ударил секретаршу ребром ладони по шее. Она упала, как подкошенная. Впрочем, удар был всего лишь отключающим.
Князев шагнул в кабинет Ромы. Мебель обычная, офисная, самая дорогая. Ужасны были только стены — абсолютно чёрные, какой-то пластик. Они были расписаны белыми надписями — цитатами из «Чёрной библии». Над креслом шефа видела картина: викинг-берсеркер. Неизвестному художнику очень хорошо удалось передать безумие берсеркера. Так хорошо, что нормальный человек не захотел бы смотреть на эту картину дольше нескольких секунд.
Князев вернулся в приёмную и спокойно спросил секретаршу, которая уже успела очухаться:
— Шеф в здании?
— Много хочешь знать, придурок, — довольно смело прошипела фурия.
— Андрей, допроси, — так же спокойно сказал Князев.
Сиверцев взял женщину за волосы и приложил кинжал к её щеке:
— Испорчу внешность. Вся рожа лоскутами обвиснет. Отвечай на вопросы.
Прочитав в глазах лютый животный страх, Сиверцев спросил:
— Шеф в здании?
— Я никогда этого не знаю и не могу знать. Я вообще почти ничего не знаю, я для него — никто, — её голос стал лебезящим, — Только не надо. Я бы сказала, но я не знаю.
— У тебя скотч есть?
— Да, конечно, вот.
Сиверцев плотно заклеил ей рот, приказал лечь на пол, замотав скотчем руки и ноги. Князев этого не приказывал, но одобрил действия Андрея молчаливым кивком.
Бой ожидал их там, где не ждали. Тут же на втором этаже, они обнаружили небольшой тренировочный зал — оттуда доносился звон железа. Ввалившись в зал всей ватагой, тамплиеры увидели, как инструктор обучает бою на мечах шестерых крепких парней. Инструктор, худощавый мужчина лет сорока, увидев гостей в белых рыцарских плащах, гадко расхохотался:
— Гости? Из Европы?
— Мы и сейчас в Европе, — сухо ответил Князев.
— Не соглашусь, но об этом потом. Орден восточных тамплиеров?
— Мы не имеем никакого отношения к подонкам-кроулианцам.
— Ты прав, все они подонки и придурки. Так кто же вы?
— Скоро узнаешь. Предлагаю поединок. На смерть.
— Так сразу — на смерть?
— А ты предпочитаешь гимнастику? Успокойся, у нас мечи только у троих. Нас трое против вас семерых.
Инструктор с перекошенным лицом мгновенно набросился на Князева, тот едва успел выхватить меч. Андрей и Милош, так же обнажив клинки, успели первыми наброситься на шестерых сатанистов. Закипел бой, впрочем, довольно скоротечный. Сатанисты, включая инструктора, оказались фехтовальщиками весьма посредственными. Со всей дурью набросившись на тамплиеров, они мешали друг другу, делая широкие бессмысленные взмахи. Их техника явно была рассчитана на произведение эффекта, а не на победу. Тамплиеры изящно и без большого труда уклонялись от ударов, время от времени делая лёгкие, но неотразимые выпады. Вскоре на полу корчились в лужах крови все семеро. Ни один из них не был убит, но все были покалечены — стоять на ногах никто не мог.
Князев подошёл к инструктору с перебитым коленом и отрубленной правой кистью руки.
— Ты спрашивал, кто мы. Отвечаю: мы — настоящие тамплиеры, а не какие-то там «восточные». Рыцари Христа и Храма. Люди, которым известно, что меч — не игрушка.
Командор так же спокойно, как и говорил, проткнул мечём горло сатанинского главаря.
— А остальные? — спросил Сиверцев.
— Оставьте, — ответил Князев. — Пусть поживут, а там видно будет. Не люблю убивать. Противно.
Зачистив второй этаж, поднялись на третий. Здесь были в основном культовые помещения, днём пустовавшие. Только в главном храме они нашли помощника жреца, чистившего ритуальные принадлежности. Склонившийся над столом сатанист при их появлении даже не выпрямился и не проронил ни звука. Он молча смотрел на гостей своими пустыми гляделками и, кажется, всё понимал. Какие между ними могут быть слова? Между ними не было ничего, только полная взаимная непереносимость. Князев посмотрел на Милоша и, сморщившись, как от боли, глухо сказал: «Прикончи». Черногорец взмахнул мечём, на раз разрубив сатаниста. Всем стало невыносимо мерзко. С полчаса они рубили мечами всё, что видели перед собой, уничтожая принадлежности сатанинских ритуалов. Ставров подошёл к Князеву и показал обнаруженный им напрестольный православный крест. «Пленный крест, — прошептал Князев. — Они использовали его для осквернения. Возьми с собой, потом переосвятим».
Врываясь в другие помещения третьего этажа, они крушили всё на своём пути, но людей больше не встретили. Вышли на крышу, там было пусто.
— Должны быть ещё какие-то секретные помещения, — сказал Князев. — Мы ещё многого не нашли. И Рома тоже должен быть в здании. Куда только спрятался, зараза?
— Подвал? — предположил Серёга.
— Понятно, что подвал, — раздражённо отозвался Князев. — Но мы вроде качественно первый этаж прошерстили, нет там спуска в подвал.
Только сейчас, прочесав всё здание и остановившись в вынужденном бездействии, тамплиеры почувствовали, насколько им плохо. Лица у всех были искажены страданием, души охватил липкий ужас. Жуткая, чёрная энергетика дьявольского здания выкручивала и выворачивала их наизнанку, парализуя волю и сознание. До этого держались только на непрерывном движении. Чувство риска, нацеленность на выполнение задания, позволяли не обращать внимания на состояние души. А сейчас всех охватило одно непреодолимое желание — как можно быстрее покинуть здание. Никто не чувствовал себя в силах дальше выносить эту инфернальную жуть.
— Молитесь, братья, непрерывно молитесь, — прошептал Князев. — Мы не можем просто так уйти. Задача не выполнена. Надо во что бы то ни стало найти вход в подземное помещение. Пошли на первый этаж.
— Всё спокойно? — спросил Князев Зигфрида, который дежурил внизу.
— Двое сунулись. В углу лежат.
— Запирай вход. Ресторан закрыт на спецобслуживание. Всем искать вход в подвал. Не прекращайте молитву ни на секунду, иначе все тут и останемся.
Братья с большим трудом стряхивая с себя парализующий ужас, ощущаемый почти физически, принялись за поиски. За два часа раскурочили все стены и шкафы во всех помещениях первого этажа. Расковыряли весь пол, не было щёлочки, куда бы не попытались вставить клинок в поисках замаскированной двери или люка. Всё было тщетно.
— Кирилл, по вашей информации здесь точно должен быть подвал? — спросил Князев.
— Точной информации нет. По некоторым данным можно думать о том, что в здании есть помещения, о которых большинству неизвестно.
— Интересно, где эти помещения могут быть, если не в подвале?
— И где может быть вход в подвал, если не на первом этаже?
— Где угодно, только не на первом этаже, — неожиданно вставил Сиверцев.
— Поясни, — удивился Князев.
— Первый этаж — подсобные помещения. Это этаж непосвящённых. Странно было бы располагать самый большой секрет здания под носом у «стада».
— Часто так и делают.
— Но ходить-то туда пришлось бы мимо них. Это же надо, чтобы каждый раз никого рядом не было. Если же из некой комнаты каждый раз удалять прислугу, прежде чем открыть секретную дверь — это само по себе демаскировка, да и сложновато. А ведь никто не мешает сделать вход в подвал со второго или даже с третьего этажа — лифт или винтовая лестница.
— Быстро все к Роме в кабинет, — скомандовал Князев.
В кабинете копались не очень долго, обнаружив вокруг одной из пластиковых панелей тонкую щёлочку. Уже собрались ломать дверь мечами, но нашли кнопку. За дверью была винтовая лестница.
— Не боится Рома ноги помять, лифт не стал ставить, — заметил Сиверцев.
— Он не дурак, — сказал Князев. — Не хочет быть блокирован в подвале, если электричество отрубят. Спускаемся все, один за другим, и помним: там может быть всё, что угодно.
Они спустились в небольшое помещение, облицованное чёрным кафелем. Охраны здесь не было. Князев знаками разделил группу, ворвались во все четыре две одновременно.
За одной из дверей была «детская». На стеллажах лежали до десятка младенцев, между ними прохаживалась «медсестра» в чёрном халате. Она не успела среагировать на гостей, Сиверцев метнул ей кинжал в горло. За второй дверью оказалась операционная, сейчас в ней никого не было. За третьей — небольшая совещательная комната, так же пустовавшая. За четвёртой — мини-тюрьма. В двух камерах сидели шесть заключённых — три мужчины и три женщины. Все молодые, прилично, хотя и простовато одетые — отнюдь не бомжи. Провинциалы, приехавшие покорять столицу. Заключённые при появлении тамплиеров не проронили ни звука, только зрачки у всех расширились от ужаса. Кажется, все они пребывали в глубоком шоке.
— Вы слышите меня? — шёпотом спросил Князев.
Заключённые испуганно закивали.
— Мы пришли освободить вас. Вашей жизни больше ничто не угрожает. Закончим дела и выведем вас отсюда. А пока — ни звука, — последнее пожелание было, кажется, излишним.
— А главного, мессир, мы так и не нашли, — заметил Сиверцев.
— Должен быть ещё один подземный этаж, думаю, что вход — из совещательной комнаты, уверенно ответил Князев.
Вход искали не долго — опять винтовая лестница, которая вывела их на двух охранников. Скоротечный бой закончился предсказуемым результатом. Дверь здесь была только одна. Тамплиеры, кто с мечом, кто с пистолетом в руке, ворвались в просторный кабинет. На стеллажах вдоль стен в стеклянных банках разного размера красовались заспиртованные человеческие головы — некоторые принадлежали старикам, некоторые — младенцам. Головы в банках были слегка подсвечены, в полумраке казалось, что они сами светятся. И улыбаются бессмысленными улыбками. Во множестве банок поменьше были заспиртованы человеческие органы, но головы производили впечатление столь ужасающее, что на печени и селезёнки трудно было обратить внимание.
Кабинет был вытянутым, стеллажи с головами стояли по стенам, а в конце этого инфернального тоннеля в полумраке стоял массивный письменный стол, за которым восседал Рома. На столе лежал огромный двуручный меч. Рома, видимо, ждал гостей.
— Что вам угодно, господа? — спросил он мягким бархатным голосом профессионального конферансье. В голосе читалась насмешливая презрительная ирония. Тамплиеры не могли знать, что сейчас в этом голосе больше жизни, чем когда-либо. Ощущение близкой смерти сообщило давно умершей душе сатаниста не страх, а некоторое оживление. Это была эмоция. Рома почувствовал себя лучше, чем обычно.
Князев понял, что хочет мразь, сидящая перед ним — угроз, проклятий, каких угодно слов, а в словах — побольше ненависти. Но командор решил обратиться не к Роме, а к Богу. Тихим бесстрастным шёпотом он прочитал «Царю Небесный». На последних словах он повысил голос: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». В голосе командора не было ни страха, ни ненависти, лишь чистая религиозная воодушевлённость. Он выхватил меч.
В следующую секунду произошло что-то невероятное — все увидели Рому в воздухе над столом с огромным двуручником в руках. Клинок был занесён для удара по Князеву, и удар этот невозможно было отразить или увернуться от него. И всё-таки Князев успел уйти из-под невероятного удара с воздуха, лишь самый кончик клинка слегка царапнул его щёку. Красивого, показательного поединка не получилось. Едва лишь Рома мягко, пружинисто приземлился на ноги, как тут же клинок командора пронзил ему правое плечо. Движение Князева было почти неуловимо глазом, как он это сделал, невозможно было ни увидеть, ни понять. Если в поединке встречаются две молнии, люди не видят поединка, только результат. Рома корчился на полу от боли, но не издавал ни звука. Князев сухо скомандовал:
— Перевяжите поддонка, он нам нужен живой. Всё. Задача выполнена.
Они поднялись на первый этаж подвала, сбили замки с решёток, за которыми сидели заключённые. Князев обратился к освобождённым:
— В соседней комнате — грудные дети. Каждый берёт по два ребёнка и — к нам в машину. Милош, сопроводи. Остальные — к машинам за канистрами. Несите их на первый надземный этаж.
Когда они вышли на улицу, была уже ночь. Прохладная свежая ночь — такая родная и такая человеческая. Они снова в мире людей. Вокруг сатанинского храма не было ни души, но это не имело значения. Ночная прохлада словно излучала тепло человеческих тел. Под этим небом вполне могли существовать люди. Обычные люди.
Освобождённых с детьми разместили в одном из фургонов и понесли канистры с бензином в вестибюль. Князев, стоявший рядом с фургоном, неожиданно пошатнулся и, оперевшись рукой о борт, прошептал:
— Андрей, задержись.
— Именем Господа, мессир.
— Ты прикрываешь отход. Разлей бензин внизу. Когда мы отсюда отъедем — подожги. Сам только не сгори — это очень опасно. Подожжёшь здание — беги быстро. Через 3 квартала отсюда возьми такси и — к нам на квартиру. До квартиры пару кварталов не доезжай — пешком прогуляйся перед сном.
— Мессир, в здании немало живых людей, которых мы вырубили.
Вместо ответа Князев ещё раз сильно покачнулся, с трудом удерживаясь на ногах.
— Мессир, с вами всё в порядке?
— Перенервничал, — с трудом усмехнулся Князев. — Стресс. Старею. Пустяки. Двери мы не закрываем, и в окнах рамы хорошо открываются. Так что к сожжению заживо мы никого не приговаривает. Все, кому Бог решил сохранить жизнь, будут иметь возможность покинуть здание. Ну а если кто не сможет, такова, значит, Божья воля, — закончив говорить, Князев упал.
Андрей подхватил командора на руки и занёс в фургон. Князев еле слышно прошептал: «Выполняй приказ. Именем Господа».
Душа Сиверцева наполнилась невыносимой болью. Он уже всё понял. Но надо было выполнять приказ.
Братья отъехали. Вскоре здание сатанинского храма пылало, как огромный факел, изрыгая тучи чёрной копоти.
На квартиру Сиверцев вернулся уже утром. Первым делом спросил Ставрова:
— Что с командором?
— Умер ещё по дороге. Клинок у этого поддонка был отравлен.
— Где он?
Ставров молча кивнул на соседнюю комнату. Сиверцев рванул туда, но Ставров схватил его за руку:
— Не ходи к нему. Лицо страшно распухло и посинело. Не надо тебе видеть его таким.
Андрей весь разом обмяк. Он упал на кровать лицом вниз. Тело его ещё долго содрогалось, но он не проронил ни звука.
Тамплиеры не пытались разговаривать с Ромой по-человечески, сразу вколов скополамин. Рома выложил всё, что требовалось. На следующий же день началась серия странных смертей среди московских сатанистов, представителей чёрных родов. Трое, один за другим, умерли от инфаркта, один утонул в бассейне, ещё один выпал с балкона и тому подобное. Красная виконтесса покончила жизнь самоубийством, прострелив себе череп из именного маузера, которым её когда-то наградили в ЧК. Верховный капитул чёрных сатанистов перестал существовать. Разрозненные сатанинские группы остались без высшего управления и больше не являли собой угрозы национальной безопасности.
А газеты тем временем запестрили шикарными некрологами. «Ушёл из жизни видный деятель Коммунистической партии» — эти слова встречались чаще всего. Но были и другие слова: «Демократическая общественность скорбит, он был выдающимся правозащитником». А про одного даже написали: «Русская культура осиротела, он был одним из самых ярких художников наших дней».
Про пожар в сатанинском храме газеты писали скупо: «Сгорело здание, где располагались офисы известного предпринимателя. Основная версия следствия — неисправность электропроводки».
Рому после скополамина не убили. Его вообще не хотели убивать, но решили пока подержать у себя, приковав наручниками к трубе в гараже. Один раз в сутки ему приносили еду. Он непрерывно повторял: «Крови! Крови! Крови!». Эту его просьбу никто выполнять не собирался. На пятый день его нашли мёртвым в луже собственной крови с прокушенными венами. Он хотел крови, и он её получил. Ведь каждый получает то, что хочет. Тело Ромы вывезли ночью на свалку, где его разорвали бездомные собаки.
Андрей как-то спросил Кирилла:
— Из здания во время пожара кто-нибудь спасся?
— Да, несколько человек выползли, слегка только обгорели. Некоторые выпрыгнули из окон второго этажа. Удивительно, но даже ноги не переломали.
— Их, наверное, можно оставить в покое?
— Да, конечно. Господь решил, что они должны жить. А кто мы такие, чтобы с Богом спорить?
— Всё так. Только сейчас вспомнил про секретаршу Ромы. Она была единственным человеком в здании, которого мы не убили, не покалечили и даже не оглушили. Пожалел, женщина всё-таки, к тому же очень красивая. Решил, что достаточно будет связать. Потом в горячке и не вспомнил про неё. А вышло так, что именно её я обрёк на верную смерть.
— Ты не приговаривал эту ведьму к сожжению. Таков был приговор Божий.
— Я тоже так думаю, — глухо и мрачно сказал Сиверцев.
— Забудь, Андрей.
— Ничего не забуду. Ни одну каплю пролитой мною крови не забуду. Буду жить и помнить. Жить надо с тем, что есть.
— Нашего командора мы должны похоронить на одном из лучших московских кладбищ. Он это заслужил, — сказал Шерхан. — Может быть, на Новодевичьем? Там монастырь рядом. Разрешения добьёмся. И Контора поможет. Он ведь у них служил. Русский разведчик, выполнявший особые задания за рубежом. Памятник достойный поставим.
Редко что-либо говоривший Зигфрид, на сей раз сказал, как отрезал:
— Командор Дмитрий Князев должен быть похоронен по тамплиерскому обычаю — без гроба, завёрнутым в белый плащ, лицом вниз. Такой ритуал нельзя проводить на городском кладбище. Там будет много… разных людей.
После гибели Князева, Зигфрид стал единственным рыцарем в команде, руководство автоматически перешло к нему, и сейчас он не выражал мнение, а отдавал распоряжение, но в тамплиерском братстве никто не был лишён права голоса, поэтому Милош сказал:
— Зигфрид прав. Но что делать? Не можем же мы просто зарыть тело командора в лесу.
— Есть вариант, — вставил слово Серёга. — Под деревенькой, где живёт Валидол, есть небольшое кладбище в лесочке. Там почти никого не хоронят. Уже всех похоронили. В деревне только три дома жилых остались. Посторонних не будет. А Валидол отпевание совершит.
— Принято. Похороны завтра, — отрезал Зигфрид.
Сиверцев, присутствовавший при разговоре с каменным лицом, не проронил ни слова.
На могиле командора установили простой деревянный крест. На перекладине сделали надпись: «Дмитрий Юрьевич Князев». И даты жизни. Больше ничего. Венков с табличками и ленточками здесь не было. И речей над могилою не читали. Отец Иоанн совершил отпевание. Братья молча молились. Никто так и не сказал ни слова. Можно было, конечно, и сказать несколько слов, но никто не решился. Все чувствовали, что любое слово тут прозвучит фальшиво.
Вчера вечером они нагрянули к Валидолу с покойником не только без приглашения, но и без уведомления — знали, что старик одобрит их. Старик только кивал, слушая братьев. Все встали утром в пятом часу, выбрали место на кладбище, выкопали могилу — всё без проблем, без заминок. После похорон никаких поминок не планировали. Было ещё утро — девятый час. Валидол пригласил всех к себе в дом, попить чайку с баранками.
— Вы, ребята, будьте спокойны, за могилкой я послежу, землицы потом подсыплю, когда осядет. Панихиды буду служить регулярно. Мне и самому, конечно, недолго осталось, но я этот дом завещаю братству вашему пересветовскому. Будет у вас своя загородная резиденция. И могилка вашего командора здесь. А меня вы рядом с ним похороните. Там как раз есть местечко. У меня родни — никого. Думал, и похоронить будет некому. А теперь я это дело вам поручаю.
— Считайте, что мы все теперь ваши сыновья, отец Иоанн, — сказал Ставров.
— Вот и славно. А теперь, чада мои, извольте ко мне по одному на исповедь. Остальные — на улицу.
Исповедать 9 человек отец Иоанн закончил только к ужину, обед они пропустили. Накрыв последнего епитрахилью, батюшка позвал всех в дом, на трапезу. Лица братьев после исповеди заметно просветлели, хотя они далеко ещё не пришли в норму. А вот отец Иоанн, обычно искрившийся тихой радостью, на сей раз был мрачнее тучи. Таким они ещё не видели своего батюшку. Лицо его посерело, казалось, он испытывает невыносимую боль, которую решил вытерпеть безропотно. Поскольку хозяин молчал, то и все ели молча. Прочитав после еды благодарственную молитву, батюшка, наконец, сказал:
— Вам всем надо остаться у меня минимум на неделю.
— Спасибо за предложение, батюшка, но у нас дела, — сказал Ставров.
— Нам тоже надо возвращаться. Задача выполнена, — сказал Зигфрид.
— Дело у вас сейчас одно — заготовить мне дрова на зиму, — упруго, «со властью» прошептал батюшка. — Будете таскать из леса на себе стволы сухих деревьев, потом пилить, потом колоть и складывать в сарай. И в доме тоже кое-что подправить надо. Так что не отпущу я вас пока. Вы что, не понимаете, чада мои неразумные, что вы все — на грани помешательства? Ещё не известно, кто победил в той схватке. Дьявол хохочет, глядя на вас, покалеченных и едва живых. До причастия вас ещё нельзя допускать. Через неделю посмотрю и скажу, можно ли вам причащаться. Каждый день будем все вместе молится. Буду молебны служить. Не рыпайтесь, если совсем не хотите души погубить.
На следующий день Ставров и Зигфрид долетели на джипе до райцентра. Зигфрид подал международную телеграмму-молнию. Ставров переговорил по телефону с Москвой. Братья остались у батюшки.
Тишина, здоровый труд на свежем воздухе и совместные молитвы делали своё дело — братья оживали, начинали понемногу улыбаться — не вымученно, а естественно. К ним постепенно возвращалась способность чувствовать радость жизни, чернота выветривалась из души, благодарственные молитвы Господу становились всё чище и прозрачнее. Хотя любой из них ощущал, что их душевные раны не скоро ещё заживут, а бесследно они не заживут никогда, до конца дней напоминая о себе приступами острой душевной боли. Случается в этой жизни мрак такой концентрации, что безнаказанно и без последствий к нему нельзя прикасаться, причём иные из последствий — увы, необратимы.
Батюшка время от времени приглашал к себе для беседы кого-либо из братьев, с каждым переговорив по несколько раз. Мудрый старик, прошедший через много кругов земного ада, знал, кому какое слово необходимо. Батюшка видел, что хуже всех дела обстоят у Сиверцева, и помочь ему труднее, чем остальным.
Лицо Андрея окаменело. Он замкнулся в себе и вообще не разговаривал. Его не донимали, не унижали утешениями, и батюшка долго его к себе не звал, но, наконец, пригласил.
— Андрюша, твоя скорбь — святая. Она — от Бога, эта скорбь, и она приближает тебя к Богу. Но ты сейчас на распутье. Сделаешь несколько неверных шагов, и та же самая скорбь начнёт удалять тебя от Бога, разрушать твою душу. А это знаешь, что такое? Это уподобление тем, с кем вы сражались. Вот что тебе грозит. И тогда что же получается — твой учитель погиб напрасно? Светлый человек достоин светлой скорби, а ты сейчас во мраке. Это предательство по отношению к нему.
— Хорошие слова. Но это слова. А вы знаете, кем он был для меня? Я вырос без отца и ничего про него не знаю. Мать не рассказывала, да я и не спрашивал. Мне нравилось самому создавать образ отца. Я всегда точно знал, каким должен быть настоящий отец. Таким, как Дмитрий. Он стал для меня отцом, хотя и старше-то был всего на 15 лет. Поэтому стал ещё и старшим братом. Но это не всё. Я всегда хотел иметь начальником человека, который выше меня — умнее, сильнее, опытнее, честнее. Чтобы он был нравственным образцом. Чтобы подчинение начальнику было естественным. Ведь это так радостно — подчинятся тому, кто лучше тебя. Но что-то не везло мне на таких начальников. А Дмитрий таким и стал. Только его, единственного человека за всю мою жизнь, я признавал в душе своим наставником и учителем. Но и это не всё. Обретение истины было связано для меня с потерей Родины. А Дмитрий — удивительно русский человек. Он стал для меня Родиной во плоти. Когда я был с ним — я был в России. Теперь вы понимаете, как много я разом потерял? Это и передать-то невозможно.
— Мне кажется, я чувствую это. Без Дмитрия тебе придётся заново учиться жить.
— Это так. Это именно так. Вы очень верно сказали.
— И либо ты научишься жить без него, либо ты так и не сумел ничему у него научился. Если раскиснешь, сломаешься — это будет оскорблением его памяти.
— Да, вы правы. Умом я так это и понимаю, а душа — ропщет, не хочет смирится, не желает ничего понимать.
— А вот это уже грех, удаляющий тебя от Бога.
— Да, грех. Но что делать с душой?
— С душой надо работать. Как — ты знаешь. Головушка у тебя светлая, объяснять ничего не надо.
— В этом-то и проблема. Если бы я что-то не понимал, вы бы мне объяснили. А если всё понятно, то что тут скажешь?
— А может быть, у тебя всё-таки есть вопросы без ответов?
— Это кощунственные вопросы.
— Задавай. Разберёмся.
— Какой смысл в смерти Дмитрия? Победа не зависела от его смерти, мы уже выполнили задачу. Зачем Богу потребовалась его смерть? Грех и спрашивать о таком?
— Вопрошать — не грех. Грех думать, что тебе известен ответ. Или, что ответа вовсе не существует, то есть смысла нет. Любое проявление Божьей воли исполнено высшего смысла, который нам недоступен, потому что человеческий разум не может это вместить. Однако, нет греха в том, чтобы сделать некоторые благочестивые предположения. Думаешь, Дмитрию легко было без Родины?
— Он никогда об этом не говорил. Он был человеком изумительно русским, но, вместе с тем. всемирным. Такие люди, воистину — граждане мира, и в этом смысле его ооновский паспорт вполне отражал реальность. Души таких людей, как Дмитрий — безмерны, они не могут принадлежать одной только России, потому что у них есть слово для всего мира.
— Это и значит быть русским. Чем белее русским является человек, тем более он всемирен. Душа русского человека способна вместить в себя весь мир, весь его отразить, освоить, сделать своим. Что не родное для русского человека? Запад — свой, Восток — тоже свой. И юг нам близок, не говоря уже про север. Но эту великую возможность — вместить в себя весь мир — даёт русскому человеку Русь. От нашего источника, от Руси, мы как бы заряжаемся и тогда становимся своими по всему миру. Но оторви русского от Руси навсегда, и он станет, как разряженный аккумулятор — пустой и бесполезный. Дмитрий не растратил до конца своих дней этой энергии Руси, но он невыносимо устал находиться вдали от источника духовной силы. Может быть, он не хотел возвращаться, хотел умереть на Родине? Хорошо ему будет в день Страшного Суда воскреснуть не где-нибудь, а у себя в России.
— Надо же. Не думал об этом. А ведь и правда.
— Ты говоришь, что он был для тебя Русью во плоти. Понимаю. Но теперь у тебя есть друзья на Родине. И не просто друзья, и даже больше, чем единомышленники. Наши «пересветы» — люди, которые чувствуют и понимают жизнь так же, как ты. Теперь у тебя есть Русь — наш общий источник духовной силы. Русь в наше время стала землёй, которая ближе всего к Небу — в этом её сила, в этом её слово, обращённое ко всему миру. Ты скоро уедешь обратно к себе за море, но теперь у тебя есть неразрывная связь с Русью. Дмитрий довёл тебя до этой черты, начиная с которой ты можешь идти самостоятельно. И покинул тебя. Горько терять учителей. Но тебе и самому вскоре уже суждено стать учителем.
— Не думаю, что готов.
— И не думай, что готов. Однако, готовься.
— Если это будет угодно Богу, батюшка, — Андрей просветлел лицом. — Да вот ещё что понять не могу. Он ведь перед смертью сознательно меня отослал, прощаться не захотел. Обидно. Мне было бы очень дорого его последнее напутствие. А он не стал ничего говорить.
— Это просто, Андрюша. Его последнему напутствию ты был бы склонен придавать преувеличенное значение, старался бы в каждом слове находить глубокий смысл и находил бы обязательно то, чего нет. А он был отравлен, ему было трудно в нескольких словах выразить самое главное. Откровенно говоря, и я бы на это не решился. При затухающем сознании брякнешь чего-нибудь не то, а человек потом из твоих слов выведет нечто неполезное. Так-то лучше вышло — теперь вся его жизнь с первого момента вашей встречи до момента прощания и есть его последнее напутствие тебе. Вспоминай его почаще, он ещё многому тебя научит.
Андрей кивнул и благодарно улыбнулся батюшке. Светло улыбнулся.
Прошла неделя. Отец Иоанн сказал братьям:
— Вас по-прежнему рано допускать к Святым Тайнам, однако, дерзну. Условия наши особые и я, наверное, больше ничего не смогу для вас сделать. Завтра с утречка отслужу литургию, причаститесь, чадушки, и прощаемся.
Литургию батюшка служил в лесу на полянке. На большом пне бережно разложил старенький антиминс, а на нём — всё, что потребно для литургии, и в лесу отчётливо гулко зазвучала церковнославянская речь. Птицы прилежно и старательно исполняли роль церковного хора, их пение так дивно вплеталось в ткань литургии, что, казалось, только так и положено по церковному уставу. Храмом сегодня была сама Святая Русь. И это тоже было вполне «по уставу». Русь и есть Храм, и вне этого значения никакого иного значения не имеет.
У братьев на душе был праздник, после причастия они оттаяли душами. Любой психотерапевт, достигнув в реабилитации половины этого результата за полгода, считал бы себя великим врачом. Батюшка же совершил немыслимое за неделю, потому что никаким психотерапевтом не был, и являл собой всего лишь иерея Божьего.
Пересветовцы и тамплиеры в Москву решили возвращаться отдельно — ни к чему было, чтобы их ещё раз видели вместе.
Попрощавшись с отцом Иоанном, стали прощаться друг с другом.
— Мы переговорим с иерархами. Надеемся, что сможем пригласить вас к себе в гости, — торжественно сказал Зигфрид.
— И вас надеемся ещё не раз увидеть в Москве, — ответил ему Ставров.
— В любом случае, теперь мы всегда будем вместе. Нас уже друг от друга не оторвать, — подвёл итог Сиверцев.
Они уже пожали друг другу руки на прощание, когда Андрей сказал:
— Подождите меня 15 минут.
Он решил ещё раз зайти на кладбище, где под берёзами упокоился до Страшного Суда командор Ордена Христа и Храма Дмитрий Юрьевич Князев.
Эпилог
Много лет спустя, юный послушник спросил седовласого храмовника Сиверцева:
— Мессир, о чём вы думали бессонной ночью в храме накануне посвящения в рыцари? Вспоминали всю свою жизнь?
— Я вспоминал не свою жизнь, а жизнь моего недавно погибшего учителя и наставника, насколько она была мне известна. Молился за него и даже молился ему, просил командора остаться моим наставником и помогать мне, как прежде.
— Но не грешно ли быть уверенным в том, что Бог взял покойного в Царство Небесное?
— Думаю, Бог простит мне уверенность в личной святости воина Дмитрия. Я знал, что без его помощи не смогу двигаться дальше, и я решил не разлучаться с ним. Он и сейчас со мной. Едва лишь возникает сложный жизненный вопрос, я всегда нахожу ответ, вспоминая его слова, подходящие к случаю или его поступок в сходной ситуации. Бог и доныне руководит мной через Дмитрия, и я очень благодарен за это и Богу, и Дмитрию.
— Он для вас — первый после Бога?
— Если угодно.
— И вы всю ночь накануне рыцарского посвящения думали про погибшего командора?
— Не только. Вспоминал недавние схватки с московскими сатанистами, вспоминал новых друзей, которых обрёл в Москве. Благодарил Бога.
— За победу?
— Да. За победу над самим собой. Сынок, когда ты встретишься в бою с сатанистами, молись только об одном — чтобы тебе самому остаться человеком.
— А что значит для вас быть рыцарем?
— Это и значит. Остаться человеком. Держать свой ум в аду и не отчаиваться.
Сиверцев, как и Князев в своё время, всегда уделял послушникам много внимания, не жалея для них ни времени, ни сил души. И на все вопросы юноши он ответил предельно искренне и откровенно. Да, так всё и было.
Через месяц после возвращения в Секретум Темпли ему сообщили, что он будет удостоен рыцарского посвящения. Неделю он строго постился, кроме хлеба и воды ничего не вкушая. Потом в полном одиночестве провёл без сна удивительную ночь в храме. Равновесие его души восстановилось полностью, он чувствовал огромный прилив сил.
Утром в храм пришли отец Августин и поручители Андрея — сэр Эдвард Лоуренс и Зигфрид. Божественную литургию Андрей выслушал, стоя на коленях перед самым амвоном, напротив царских врат. Затем начался ритуал посвящения. Отец Августин приступил к благословению меча: «Всемогущий Боже! В руце Твоей победные стрелы и громы гнева Небесного. Воззри с высоты Твоей славы на того, кого долг призывает в Храм Твой. Благослови и освяти меч его, не на служение неправде и тиранству, не на опустошение и разорение, а на освобождение страждущих и угнетённых. Даждь ему, Господи, во имя этого священного дела, мудрость Соломона и крепость Маккавеев».
Отец Августин передал освящённый клинок сэру Эдварду, который, держа перед собой меч на вытянутых руках, обратился к Андрею: «Этот меч имеет вид креста и дан тебе в поучение: как Господь наш Иисус Христос победил грех и смерть на древе креста, так и ты должен побеждать врагов твоих этим мечём, который есть для тебя прообраз креста». Андрей принял меч, поцеловал клинок и вложил в ножны, висевшие у него на поясе.
Зигфрид начал зачитывать рыцарские законы:
«Рыцарям вменяется в обязанность иметь страх Божий, чтить Господа нашего Иисуса Христа, служить Ему и любить Его всеми силами своими, всей крепостью своей; сражаться за веру, умирать, но не отрекаться от христианства.
Щит рыцаря должен быть прибежищем слабого и угнетённого, мужество рыцаря должно поддерживать всегда и во всём правое дело.
Да не руководят поступками рыцаря жажда корысти или благодарности, любовь к почестям, гордость и лицемерие, но да будет он всегда вдохновляем честью и правдой.
Да повинуется рыцарь наставникам, над ним поставленным, да живёт он по-братски с себе равными.»
Когда Зигфрид закончил чтение рыцарских законов, отец Августин вынес из алтаря напрестольное Евангелие в титановом окладе и положил на аналой перед Андреем. Андрей положил руки на Евангелие и произнёс клятву: «Обещаю и клянусь перед Господом и братьями моими положением рук моих на Святое Евангелие тщательно блюсти законы нашего славного рыцарства и верно служить Богу и Ордену нищих рыцарей Христа и Храма».
Принеся клятву, Андрей подошёл к сэру Эдварду и встал перед ним на одно колено. Великий командор Иерусалима произнёс посвятительные слова: «Во славу и во имя Бога Всемогущего, Отца, и Сына, и Святого Духа жалую тебя рыцарем. Будь медлителен в наказании, быстр в пощаде и в помощи вдовам и сиротам. Будь верен Богу и Ордену».
Сэр Эдвард обнажил свой меч и трижды плашмя ударил им Андрея по правому плечу.
Конец второго тома