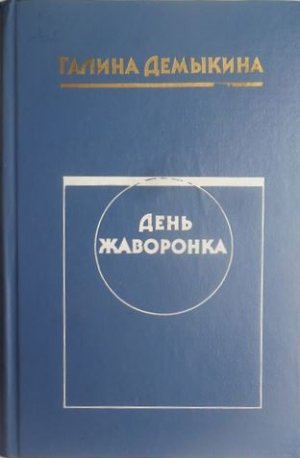
Несколько слов к читателю
Две эти книжки могут показаться очень разными. Да, по сути, так оно и есть. Но встреча их под одной крышей (обложкой) — как встреча двух собеседников, у которых нет общей судьбы, нет одного поля для приложения сил, но есть, у обоих есть качество, определяющее всю их жизнь: одержимость искусством.
Качество это чаще всего сопутствует крупной одаренности и дает возможность человеку творческому (в любой области — в искусстве ли, в изобретательстве, в науке) достичь того прекрасного предела, когда работа его становится нужной людям.
Одержимость заставляет человека отдавать делу все силы — и душевные, и физические, отказываться от многих соблазнов и радостей жизни, порой отгораживает от близких (никаких помех!). Таких людей можно было бы пожалеть, если бы на их пути не встречались яркие вспышки и озарения — прекрасные ромашковые поляны и солнце сквозь ветки, когда их дыхание сливается с дыханием Земли, не оставляя между ними (так кажется в эти минуты!) никаких тайн. Мгновения эти редки, но благословенны.
Однако не надо думать, что книги мои только об этом. В них много и других людей, других судеб, и есть в них очень важный, на мой взгляд, разворот к детству — к миру, который никогда не оставляет нас в нашей дальней памяти. Я вообще полагаю, что детство — не подготовка к взрослости, не пора жизни, а наша первая жизнь, полная глубокого содержания. Есть в обеих книжках размышление о Вселенной — и о том, что формирует нас сегодняшних, и о том, что за многие века заложило нечто в наше сознание, в наши характеры. Но размышления, разумеется. Не прямые, не риторические: зачем лишать читателя радости догадки, ассоциации, спора.
Обе книги написаны сколько-то лет назад, и теперь они как бы отделились от меня, оставив лишь память о радостях и горестях, которые я испытывала, работая над ними.
И всё же они — мои дети, и я продолжаю следить за их жизнью желать, надеяться, что дорога их ляжет к сердцам читателей — к вашим сердцам.
День жаворонка
В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье.
М. Лермонтов
Я аскет, поскольку моя совесть требует от меня работы,
как противоположности наслаждения, «счастья» — тем хуже для меня…
Я думаю, что сегодня нельзя быть слугой двух господ — наслаждения и искусства…
надо выбирать одно из двух, и моя совесть выбирает работу.
Т. Манн
Часть I. Память
Я — взрослый человек, хозяин своей памяти и своего прошлого. Хозяин своего представления о мире и о себе. На каких зыбких волнах качалось это представление! Захлебывалось, тонуло, выплывало… Выплывало? Не всегда. Порой рождалось заново. Так по крайней мере мне кажется теперь. Точно я за мои сорок лет несколько раз БЫЛ. Был некто, кого я теперь назвал бы «он», настолько мы разные. А когда появился «я»? Не знаю. Не заметил. Я бы и не стал копаться в этом — не та любовь к себе! — но появился человек, которому все это оказалось нужным, и я поддался его интересу ко мне (в самом деле! — так ли уж часто мы кого-нибудь занимаем?).
Старик, похожий на потемневший кусок дерева, на неумело выструганного идола, божка — коротконосого, толстогубого, с тяжело нависшими бровями. Где я видел его прежде? Он вкрадчив, мягок, но по-журналистски напорист:
— Спасибо за беседу.
— Пожалуйста. Только еще раз предупреждаю: работа пока не принята.
— Не беспокойтесь. Я в газете с двадцати лет. А теперь, если не затруднит, еще один вопрос. Не для печати.
— Слушаю вас.
— Видите ли, мне показалось, что в вашей работе есть… есть некий поиск, а может, и ответ? Ведь я уже стар, я на тех холмах, с которых… как бы сказать… смотрят вспять, подводят итоги. И спрашивают себя: для чего? Нет, нет, не для чего прожил — это вопрос частный. А вот — всё вообще: это небо, трава, искусство, познание…
— Э, дорогой мой, это ведь из «проклятых вопросов». Нет на них ответа. Нет. Каждому свое.
— А вам? А вам?
И глянул в стариковы острые глаза и, к удивлению своему, ощутил вдруг брожение, живое цепляние клеток, какое посещает меня не так часто.
— …Мне показалось… — заволновался я. — Совсем недавно показалось… Видите ли, мы живем по прямой, от рождения к смерти. Но иногда бывает ощущение, что где-то рядом, под углом, скажем, в пятнадцать градусов, есть другое пространство, и чуть-чуть только повести плечом — и ты…
Но тут зазвонил телефон. Спрашивали корреспондента: не задержался ли, мол, у вас?
— Да, да! — вцепился он в трубку, и лицо с каждой секундой теряло сосредоточенность, расплывалось в улыбке. — Иду! — И пояснил удовлетворенно: — Без меня не начинают планерку. Если разрешите, мы позже продолжим…
И он убежал, подгоняемый тщеславием. Мне бы тоже заняться своими делами. Но чертов старик пошатнул, стронул… И я мысленно уже раскрутил свою жизнь, как ведро на вертушке деревенского колодца: все глубже, глубже, дальше в темный сруб памяти. Еще минуту назад там, в неподвижной колодезной глади, отражалось лишь сиюминутное небо, а теперь — плюх! — и полное ведро его осколков — собирай, складывай! А сложится ли?
Гл. I. Виталий
Это случилось вдруг: будто разлепили глаза, ноздри, уши — владей!
И он увидел, услышал, впитал сквозь желтую древесину новенькой дощатой пристройки теплоту и смоляной дух утреннего солнца… Возле ближнего плетня — трубный звук натянутой птичьей глотки:
Э-э-э-уу!
И, отзвук, издалека:
О-о-о-у!
А еще:
— Виталий! Талик! Ты проснулся, сынок?
Мальчик вздрогнул от ласкающих ноток ее голоса. Сколько раз, наверное, все это уже бывало — и утро, и солнце сквозь древесину, и ласковый материнский оклик, — но ни разу еще не дотянулось, не дотронулось до той живой, обнаженной и трепетной ткани, которая, вероятно, и есть душа.
С этого дня мир был дарован пятилетнему мальчику. Мир в виде маленького городка Крапивина-Северного, раскинувшегося широко и вольно по песчаным оврагам, прорезанным белой рекой, полной облаков. И — темные елки тут и там, и неяркое северное небо…
А память — дальняя, как колокольный звон, — хранила мрачноватую, заставленную книгами московскую квартиру, — на отцовом столе письменный прибор белого мрамора, с бронзовой собакой между двумя чернильницами. Эта собака и львиные морды на деревянных ручках кресла давали уверенность, что все это было. Львы к тому же совершенно разные: один гривастый, уравновешенный, другой узкомордый и вроде бы испуганный, хотя пасть была раскрыта шире. Раскрыл шире пасть, а боялся…
С этим домом была связана какая-то утрата, но ребенок не мог разгадать — какая. Может, отсутствие того человека, которым дышали книги в шкафах, львы на ручках потертого кресла… Человека, по следу которого всегда-всегда бежала бронзовая собака с тонкими нервными лапами.
— А где папка?
— Скоро приедет, сынок!
Мама всегда было возле. Сначала — в Москве, позже — в песчаном сосновом городке (как приехали? когда? — стерлось). Она одевала его по утрам, вечерами укачивала, хотя ему было уже пять лет:
И открывала на ночь маленькое оконце, чтобы он мог видеть светлое, почти беззвездное северное летнее небо.
— Сии, сынок, спи, Виталик. — И глядела, точно боялась напасти. И исчезала, как тень, с вздрагивающими узкими плечами. И сон долго не приходил. Было неявное ощущение: вот она хочет закрыть его от чего-то своей спиной И закрывает, но если заглянуть… Утром ночные страхи забывались.
Мальчик немного запинался при разговоре, особенно с чужими, — мама объясняла, что его испугали, еще в Москве. Но это стало смущать позже — пока не имело значения: ему всего пять лет, а маленький городок добр.
Здесь он научился свистеть в два пальца, ездить на хозяйской лошади. (Он сидит на ее огромной, широкой спине, а она медленно переставляет ноги и мотает рыжей головой — отгоняет мух. О, этот крепкий, уверенный запах лошадиного пота! Крепкий и уверенный!) Здесь же вместе с дедом — хозяином дома — рыбалил и потом смаковал свою добычу, черпая уху из общей миски. Его ласкали корявые руки старика, гладили по голове…
Здесь были деревянные стены — уютные, с глазками сучьев, со смолкой. Только вот своего не было — никогда ничего своего — без права на капризы («Тише, хозяев разбудишь!»), на своеволие и громкую причуду… Но прежде когда-то было, и многое было дозволено тогда еще, когда — в Москве.
«О, мадам, — сказал как-то лукавый старик Талейран придворной даме императрицы Жозефины, госпоже де Ремюза, — то, как проходят первые годы нашей жизни, влияет на всю жизнь, и если бы я раскрыл вам, как я провел свою юность, то вы бы меньше удивлялись очень многому во мне». Но об этом позже. А пока — Виталий играл в лапту возле дома, даже завел дружка — был такой беленький и очень обидчивый Володя Симаков; чуть что — потемнеет глазами, отпятит нижнюю губу и глянет исподлобья: готово, обиделся.
— Я папаню не люблю, — говорил Володя, — он пьяница. Я вырасту — тоже буду пьяница!
— Зачем? — удивлялся Виталий.
— А назло. Или в колдуны пойду.
— К…колдунов не бывает.
— А бабка Устинья?
— Какая бабка?
— Не знаешь, а говоришь. — И — насупленный взгляд (обиделся). Потом кивок в сторону речки: — Пойдем, уж ладно, покажу.
Миновали город, вошли в деревеньку Крапивенку, тянувшуюся как продолжение одной из улиц.
Дом колдуньи стоял над обрывом, был он высок, окна тоже высоко, маленькие. На подоконнике сушились толстые белые корешки.
— Видал? — шепотом спросил Володя.
— Н…ну и что?
— А то. Зелье готовит. Как увидит, что мы здесь, сразу в собак переколдует.
— Врешь ты все, — неуверенно ответил Виталий и на всякий случай зашел за куст. Дом и правда был темный, стоял на отшибе, и эти корешки…
— Пошли-ка, паря, — как взрослый, дернул его за рукав Володя. — Нечего тут. Мне мамка сроду не велела сюда ходить.
И они тихонечко спустились к речке травянистой тропой.
— А что она еще может? — уже сраженный, спросил Виталик.
— Все. Боль заговорить может, кровь останавливает, ожог, — вот мамка ожглась у печи, так бабушка Устя ее в три дня вылечила. Травами. И меточки не видать.
«Ишь ты, сразу — бабушка Устя, — подумал Виталий, — а то говорил — в собак переколдует».
— А в с…собак?
— А то! — И добавил тайно: — Это она папаньку испортила. Хотела женить на своей дочке, а он мамку взял. Вот и испортила. Он до свадьбы вот столечко не пил!
Так они и шли по тропинке вдоль реки от окраины к центру и говорили о главном. И не знали ничего, не видели вперед.
А навстречу им уже бежала узкоплечая женщина, незнакомо раскинув тонкие руки, и кричала что-то, и лопотала, и из широко раскрытых счастливых глаз на ветер, на травы падали слезы:
— Талик, отец вернулся!
И сразу крутануло. Всё поворотилось. Барометр показал новую погоду, часы — другое время.
Хозяйка, которую прежде мама робела попросить вздуть самовар, забегала, засуетилась, будто сын родной приехал. Зарубила курицу, наварила курятины, деда погнала в магазин за вином, послала Маню, дебелую дочку-подростка, за старшим сыном Серегой, который работал в дальнем леспромхозе.
Сначала Виталий заметил эту суету, а потом — человека, неподвижно, но свободно сидевшего под образами на лавке. Был он распарен (для него, видно, топили баню), облачен в дедову одежку (брюки и рукава коротки), бос (узкие ступни, длинные фаланги пальцев, вместо большого пальца на правой ноге пустота). Он сидел, привалясь к стене, бросив загорелые до черноты руки на лавку. Виталий боялся глянуть человеку в лицо. А когда глянул — уже не смог оторваться: с обветренного, в белых морщинах лица тянулись к нему, обволакивая нежностью, скорбью, радостью, огромные глаза человека тихого, но волевого, плохо умеющего прощать и способного любить без памяти о себе. (Может, впечатление облеклось в слова много позже, но ощущение было именно это — точное и не сместившееся с течением времени.)
Мальчик не кинулся к отцу, и тот не шевельнулся ему навстречу. Только насытившись созерцанием друг друга, они как-то одновременно улыбнулись. Тогда Виталий счел возможным подойти и сесть возле человека на краешек лавки. А человек нагнулся, порылся в лежавшем под столом самодельном рюкзаке, больше похожем на котомку, и вытащил оттуда и протянул ребенку короткий деревянный кругляш, обрубок нетолстой ветки. На нем было грубо выстругано человечье лицо — толстогубое, коротконосое, с глубокими впадинами глаз и тяжелыми, нависшими бровями. Широкие скулы, широкий, квадратный подбородок, ввалившиеся щеки.
Это не было игрушкой или гостинцем. Мальчик сразу так и понял. И отец увидел это и ничего не сказал. Хотел, но промолчал: не надобно. Мальчик стиснул дар в кулаке, чтоб никто не заметил, не осквернил словом. И тогда отец обнял его за плечи, притянул тихонько и едва слышно (скорее дыхание, чем прикосновенье!) поцеловал в волосы.
Все это, вероятно, заняло очень мало времени, потому что как же иначе объяснить, что никто в возникшей суете не вбегал в комнату, не окликал, не тревожил? А может, нарочно так? Может, поняли? Кто знает!
Вскоре все собрались, уставили стол едой и выпивкой, старуха хозяйка разлила по стаканам красную мадеру:
— За Николай Палыча, за дорогого гостя.
Позже, много позже, она сама на себя дивилась и всех призывала к удивлению:
«Вот спросите, чего это я, старая, так его к сердцу приняла? Я и не отвечу. Увидела — идет от станции с мешочком, на дома поглядывает, обувка сбита. Не наш, вижу. А все же наш. Ну будто мой. А уж как в лицо глянула: «Идите, говорю, Николай Палыч, здесь ваши семейные. Здесь ваш дом».
Отпив из стакана, отец привстал и сказал тихо и скорбно:
— Спасибо вам. Спасибо, что пригрели моих.
— Нам хорошо здесь, хорошо! — залопотала мама.
Отец вдруг резко обернулся к ней:
— Прости меня, Лена. — А потом к Виталию: — И ты прости.
— За что же, господи! — бросилась к нему мама. Но он уже отвернулся, будто ушел ото всех.
— Он скоро насовсем вернется, — будто оправдываясь, причитала мама. — Только вот в Москву…
— Здесь ему всегда дом, — твердо ответил старик.
Мама часто говорила: «Отец был человеком редкого обаяния». Но не только это. Было еще нечто — какая-то скорбная крупность, которую он нес в себе, ничем внешне не выдавая. Но разве нам, даже самым простым из нас, не дано слышать человека сквозь его телесную оболочку? Отца слышали все. Это не значит, что он всем нравился, но мимо не проходили. Хотя был он молчалив и совершенно не склонен к бытовой речи. Если что важное — помочь, когда болен или обижен, порадоваться, если и впрямь радость, — это он мог. К нему прийти — подстроиться на высокую волну. Узкокостный, болезненно худой, с широко расставленными и широко распахнутыми оленьими глазами на удлиненном лицо, он даже в ватнике и латаных стариковых штанах не походил на местных крестьян, тоже, к слову сказать, высокорослых и красивых.
Была в нем неосознанная отстраненность, не располагавшая ни к грубости, ни к панибратству, но чем-то, видимо, притягательная, потому что люди приходили к нему и за советом, и за рассказом, и так — рядом посидеть.
Только много позже Виталий прочитал книги из отцовой огромной и удивительной библиотеки. И за карандашными галочками и заметками на полях проступила определенная его концепция — плод не простой начитанности, а размышлений. Но это понимание пришло к Виталию не скоро. Те несколько дней, которые пробыл отец в Крапивине, мальчику запомнились ранними просыпаниями — как папа! — походами вдоль реки, через перелесок в настоящий лес… Запомнились странные стихи:
— П…пап, а скучно быть лягушкой?
Он усмехнулся:
— Нет. Думаю, что нет. Только это не про лягушку.
— А про кого?
Он, кажется, не ответил.
— Папа, еще раз скажи.
Нет, конечно, мальчик не понял тогда, но позже, уже в жизни взрослой, множество раз вспоминал, прикидывая к ситуации — то принимал, то отвергал. «Как уныло быть кем-нибудь…»
Так пяти лет узнал он одного из сложнейших поэтов прошедшего века — Эмили Дикинсон. Где отец откопал ее стихи, неизвестно, — тогда ее еще не переводили, во всяком случае, не печатали. Впрочем, он знал несколько языков.
Отец помнил множество всего, особенно Пушкина. И читал так, будто только что сам придумал:
Телесная, сдобная хозяйкина дочка сидела, распахнув рот, будто никакого Пушкина в школе не учила. И суетливая хозяйка, утерев фартуком уголки рта и сложив руки на животе, слушала, пестовала в себе свое.
А дослушав сказку до конца, вдруг вздохнула:
— Ох, я в девках-то баская была…
— И то… — подтвердил молчаливый ее старик. — Царевна.
Они покойно сумерничали, и долгий свет неуходящего северного дня расталкивал, расшевеливал думы. Вспоминалось, чего и не было.
Потом тоненько вспархивала мама и уводила спать Виталия. И он невнятно слышал, как она говорила что-то отцу — точно ласточка билась о стекло — и как он отвечал — будто бережно брал в руки птицу и распахивал окно: полетай!
Мальчик делал полный вдох — до самой глубины — и засыпал спокойно.
Было счастливое утро, когда старик запряг свою широкоспинную лошадь, на телегу поставили кошелки и поехали в дальний лес за грибами.
Туман свисал с еловых веток, а когда его пробил луч, распавшись на желтый, зеленый, оранжевый, захотелось прыгать и кричать от радости, как все было свежо, зелено, будто только что создано — разумно и счастливо.
И эти грибы: у каждого свое лицо, свой взгляд из-под шапки. Потом завтрак возле телеги. И отец, — как всегда, тихий, неявный. Он разводил костер, никем не распоряжался. Но это от него, от него жужжали пчелы, взбивая и без того густой воздух; от него слышна была и свежо зелена каждая травинка, и птичье колгочение в ветках, на которые он иногда едва заметно поглядывал, щуря ярко-ореховые свои, просветлевшие среди этой благодати глаза.
— Папка! — позвал Виталий.
Отец оглянулся, и мальчик разжал кулак. На ладони лежал грубо выструганный деревянный божок — тот самый. Отец кивнул молча: ну конечно, они были одно. И божок скреплял это.
Белый-белый потолок, по углам лепнина — белые плоды и белые листья.
Если тебе тяжело и неладно и ты, вытянувшись на кушетке, глядишь в это квадратное бельмо, застящее небо, ничто на нем не зацепит твоего внимания. Но когда приходит облегчение, а поддаться ему ты еще боишься, бело-московский потолок начинает незаметно подменяться другим, с медовыми досками, срезами сучков, один из которых (помнится!) — голова человека, а туловище тянется более бледным силуэтом вдоль доски и незаметно сливается с ней. Этот человек всегда останавливал на себе взгляд мальчика — тут было нечто неизменное, какая-то верность месту. Так же была верна пространству сосна за окном, если нет ветра, и солнце, если нет тучи. Но они — с «если», а потолочный человек — всегда.
Детство. Тишина крохотного города, похожего на село. Ласковое, баюкающее чувство покоя… Почему мы не умеем наслаждаться тем кратким «да», которое посылает нам жизнь?! Теперь, сквозь годы, тот крапивенский потолок кажется крышкой волшебной шкатулки, внутри которой — спелый, сладостный, еще не надкушенный покой. Жужжит, жужжит пчела по стеклу, течет, течет утреннее тепло из сада… Вот и попросить бы время: остановись! А он, Виталий, насупленный малыш, сопит от обиды: никто, решительно никто не хочет помнить о нем. Пьют чай там, внизу (его светёлочка под крышей), говорят. Вот хозяйка залопотала быстро, — Виталий долго не умел понимать этой быстрой северной речи с проглатыванием необходимых букв и с добавлением необязательных слов: «Ой, да ведь кто же его прашивал-от?..»
А вот мягко загудел голос отца. И сразу мамин звонкий взрыв — это не просто смех, а восторг, обожание. И потеплевшие тона отцова отклика.
«Ее любит. Не меня. А она старается… Я бы не сумел так».
Виталий наскоро одевается и босиком шлепает по лесенке вниз. Отец кивает ему из угла, из-за самовара.
— Пронулся, парсучок, — смеется хозяйка.
— Где твое «доброе утро», Виталик? — Это, конечно, мама.
Но мальчик молча подходит к отцу, прилипает к его коленкам. Отец кладет руку на голову сына, и этим исчерпывается разговор. Никто теперь уже не посмеет.
Кто знает, почему в те поры добрая и в общем-то любимая мама стала для него источником постоянного неудовольствия и раздражения. Если отец молча брал в сенях ведра и шел за водой, Виталий тоже хватал лейку и бежал вслед. Но на крыльце их уже дожидалась мама.
— И я с вами, — говорила она заискивающе.
В руках у нее не было ничего. Она шла просто так, чтобы побыть рядом. И отец кивал ей также добро, как сыну. Это перенести было невозможно.
— Пап, смотри, трясогузка. Впереди бежит.
— Посмотри, Лена, — оборачивался отец, — это птица ужасно любопытная. Вот увидите, до самой речки с нами дойдет.
Птица и правда скакала, поводя хвостом вверх и вниз, отлетала и снова бежала впереди, оглядываясь.
«При чем тут Лена?»
— Мам, а слабо тебе с этого мостка нырнуть!
И, не дожидаясь ответа, он прыгал вниз головой в студеную воду. Пусть отец сообразит сам, кто храбрее, с кем ловчее дружить.
Мама повизгивает, влезая в воду, и отец подаёт ей руку.
У матери узенькие плечи, узкая длинная спина, наполовину прикрытая сарафаном. Спина эта вечно то мерзнет, то сгорает на солнце, служит предметом постоянного неудовольствия Виталия: еще бы! — ведь отец набрасывает на нее свою рубаху. Может, не так уже хорошо быть смелым и выносливым. Может, надо так вот пищать, обгорать, всего бояться.
От речки дорога в гору.
— Пап, я устал.
Отец заглядывает в глаза:
— Я бы взял тебя на руки. Но среди нас женщина. Давай-ка лучше поможем ей.
Отец ставит на землю ведра, Виталий — лейку, и они подтаскивают маму, которая тоже притворяется уставшей. Хорошо, что они оба мужчины. И что им вдвоем придется возвращаться за ведрами и лейкой.
Когда тебе тяжело и неладно, а белый лепной потолок не хочет уступить места медовому, дощатому, когда тебе не по силам пришпорить надежду и заглянуть вперед — вдруг сквозь грохот автомобилей и безразличный к тебе людской говор проникает мелодия, которую тянут два голоса, то сходясь, то гармонично расплетаясь. Один — женский, нежный и неуверенный, — порывистость дыхания мешает насладиться его красотой. Другой — тихий, почти никакой, почти шепоток баритона. Он держит и мелодию, и хрупкий, прерывистый женский альт, — от него (опять от него!) все живет, получает окраску. Как они пели в теплые летние сумерки! Почему, почему надо было разделять их, делить, отстранять мысленно друг от друга?! Позже в нем все болело от раскаяния и неявной, но возможной вины своего этого разделения… Вот и разъединило их жизнью.
начинала мама.
вторил отец.
И дальше голоса шли рядом:
И Виталий, и старики хозяева, и их белотелая дочка сидели — дети малые, — не понимая, о чем, кому, к кому… а только испытывая почти физическую радость гармонии голосов и душ.
Зачем ему было надуваться, когда мама потом попросила отца накрыть ей ноги одеялом? Может, правда замерзла. И отец укутал старательно. «Ее любит. Не меня».
Запрокинь голову, ломай здоровенными ломтями радость и покой… Да разве мы умеем? Может, только много позже, когда нет этого ничего, а лишь краткие промежутки между усталостью, заботами, недовольством собой или близкими… Позже, позже, когда в руках лишь крохи. О, как они сладки, крохи того ломтя!
Гл. II. Юрка Буров
Первое, что отпечаталось в памяти, — это крепкий шлепок об землю — как-то тяжело, животом.
— Юраша! — закричала мама.
А бабушка остановила:
— Не тронь его, а то заревит.
А он и не думал реветь (нет, хотел, конечно, да не стал), потому что, лежа на животе, заметил в траве возле дома, где свалился, крохотного птенца. Они долго глядели друг на друга. И Юрка ясно видел взъерошенные перышки на его серой головке и светлый, обведенный желтой каемкой клюв. А над ними уже летала птаха.
Обеспокоенная его долгим лежанием, подошла бабушка:
— Ты что, никак убился?
И Юрка молча кивнул в сторону птенца.
— Удрал, — шепотом сказала бабушка, помогла мальчику встать и повела его к дому. — Много у нас птах этих! Пошли-ка, пошли, они сами управятся.
И Юрка ощутил (как — это даже сказать трудно) теплоту солнышка, и свежесть и таинственность травы, из которой вдруг может глянуть такое нестрашное, желторотое, и прочную радость оттого, что они все втроем — он, бабушка и мама. А в сенях ему понравился устойчивый запах кадок и рогож (будто раньше не слышал), а в комнате — холодок сквозняка от открытых настежь окон с прибитой марлей, чтоб не летели мухи со скотного двора.
И потом по вечерам, запрыгивая в широкую, еще пустую мамину постель, он тихонько радовался чему-то, чему не было имени.
В то же, кажется, лето один человек подошел к дому, привалился к венцу и пальцем подманил:
— Иди-кось, сынок, гостинец дам.
Юрка подошел, и человек протянул ему картонную трубку, оклеенную цветной бумагой.
— Подставь к глазу-то, глянь, глянь!
Юрка глянул и захохотал от восторга, и человек, хлопнув руками о подогнувшиеся колени, тоже захохотал.
— А? Ты поверти ее, ешшо, ешшо! — Он был рад не меньше мальчика.
Но вышла бабушка, и человек поскорее ушел, а трубка осталась у Юрки. И если в нее глядеть вверх, на свет, внутри складывались и переливались цветные узоры, их было много, разных, и привыкнуть к ним было нельзя.
— Там стеклушки, — сказал один из его старших приятелей. — Это колле… койле… У меня был такой. Давай вытряхнем!
Он врал, этот парень. «Стеклушки». Юрка прижал к себе трубку. Он ушел домой и попросил бабушку спрятать. Старуха поворчала: «Знай, от кого брать», — но калейдоскоп убрала. И Юрка изредка просил посмотреть и всякий раз в голос смеялся от радости.
Чуть позже было и другое. Собственно, оно было всегда, только прежде таилось:
пряталось по углам;
протягивало руки из темноты;
нашептывало; исчезало и вдруг обозначалось;
невидными нитями связывалось с бабушкой.
Однажды ею было сказано: «В школу сегодня не ходи» (уже во втором классе). И в тот день заблудившийся немецкий самолет сбросил зажигалки, и школа загорелась. Детей, правда, спасли всех. Но вот второкласснику Юрке Бурову велено было не идти. Может, как раз его бы… А так — остался ему весь привольно лежащий на песчаных холмах город; деревня Крапивенка; речка с затонами, где щурят — хоть руками бери; поле, лиловое от люпина; лес, где под дубом валялся, ощерившись, белый лошадиный череп: пока мужики окашивали поляны, медведь задрал копя.
Возможная встреча с медведем не пугала. Драка с мальчишками — тоже: сам первый лез. А вот тот, другой медведь, которому мужик отрубил лапу и который пришел ночью к его дому:
этот — из ночи, из тьмы, невесть почему знающий, что делает старикова баба, спеша и озираясь на черное окно:
Мурашки по телу. И под одеяло с головой!
Бабка была не как все. На нее на улице с опаской оглядывались. Но и ходили тайно, шептались с ней в сенях, а то в ее светелке.
Юрка хотел знать, но слушать не смел.
А когда бабушка пела (пела слабенько, не то что мама — той голосу на троих отпущено, да редко кто его слыхивал) — вот то Юрка любил. И даже хотел допытаться — о чем? Пела, например, обращаясь к матери, с умыслом:
— Полно вам, мама, — слышал Юрка всегдашний материн жалобный отзыв. И спрашивал бабушку:
— Расскажи про этого… ну, про ястреба.
— Про ястреба — не диво, — говорила бабушка и поглядывала в мамину сторону, — я вот тебе про лебедицу расскажу.
Она отводила внука к себе в светелку (вообще-то ход туда был не свободный, бабка не такая уж была простая). В крохотной этой комнатушке при сенях было чисто этакой старушечьей чистотой — все старое, да мытое. Там по стенам висели пучки травы, под окошком стояли бутылки тоже с травяным, пахучим. Бабушка усаживалась на низкую деревянную кровать (еще покойный дед сколотил) и, обняв мальчонку и покачиваясь, плела старинную сказку-старину, что-то теряя в ней по пути, что-то отдавая свое.
— «Был у короля сын — Иван-королевич. Вот поехал он на охоту. Только до речки доскакал — выходит ему навстречу девица. Да такой красоты, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Полюбилась она королевичу, и решил он на ней жениться.
— Пойду к тебе в жены, — говорит красавица, — только дай клятву, что никогда — ни в горе, ни в радости — не спросишь, кто я такая.
Поклялся королевич, и зажили они счастливо.
Долго ли, коротко ли — стал он замечать, будто жена его чем-то озаботилась. Да еще — стала часто на речку ходить. Вот один раз на вечерней зорюшке вскочил он на коня да к речке прискакал. Глядит, а на берегу сидит его жена-красавица, белых лебедят из рук кормит — приговаривает:
А на траве белые крылья лежат. Взял королевич да и сжег эти крылья — до перышка — и говорит жене:
— Вот кто ты есть? Допытался я.
И только сказал, а на том месте и нет никого».
— А кто же она была-то? — спрашивает Юрка.
— Кто-кто… — вдруг недовольно отзывается бабушка. — Видно, мал ты еще, чтобы сказки тебе сказывать.
Детскому пониманию доступно почти все, что и взрослому. Только ощущается таинственней, а проявляется обнаженней.
Он помнил, как хотел власти. Безраздельной. Мальчишки против этого устоять не могли. Он придумывал игры; самолично и вполне справедливо делил свое войско на отряды (если игра на «кто — кого»), наказывал виновных. Когда стал старше, не уступил места атамана тому, кто поумнее (ведь именно так чаще всего кончают мальчишечьи вожаки, которые держатся на силе и инициативе!), а сам стал «поумнее», и решать всякие споры: как теперь сложатся наши отношения с немцами, скольких правителей обманул в свое время Талейран… — прибегали опять же к нему.
Школа отделила его от теней, шорохов в углу. Она внесла свой вклад реального, размеренного, организованного. Потянули и себя организовать, свои дела, а потом даже мысли (когда они появились).
А что до Талейрана…
«О, мадам! — сказал этот лукавый старик госпоже де Гемюза. — То, как проходят первые годы нашей жизни, влияет на всю жизнь…»
Да, да, Талейран, бедняга, до четырех лет жил у кормилицы, пока не упал с высокого комода, куда эта почтенная женщина посадила ребенка и откуда забыла его снять. И вот — страшная хромота на всю жизнь. Но это — лишь телесные страдания, а дело не в них. Отнюдь не в них. Надо же когда-то освободиться от этого жалкого сидения на комоде, когда никто не помнит о тебе, но освободиться, не свернув шею. Не падать больше! Пусть другие падают.
Но все это не имеет отношения к Юрке Бурову и к его городку — Крапивину-Северному.
Бабушка поздним вечером, почти ночью, топит лечь. Красный свет угольев и — огромная черная, с оранжевыми краями тень. Где это видано — кухарить ночью? «…Мое мясо варит…» Восьмилетний Юрка проснулся и глядит с большой кровати, где он спит теперь (мама на фронте, она медсестра). Темные руки расправляют тусклый, высушенный на солнце травяной стебель, губы шевелятся едва внятно: «Вода-водица, река-царица, заря зорица, соймите тоску-кручину и уносите за сине море, в морскую пучину».
Травины ложатся в чугунок, и — нежный дух поля, дождя, лета.
«Как в морской пучине сер камень не вставает, так бы и тоска-кручина к ретивому сердцу не приступала и не приваливалась, отшатилась бы и отвалилась…»
Юрка, кажется, от рождения помнят эту траву, возвращенное ее запахом время лета, — память солнца на коже, ветра в подоле рубахи, когда он, еще маленький, босой и бесштанный, шел меж картофельных гряд в поле: тогда была неясная мечта — уйти от этого огорода, кольев, крапивы, кур, загадивших всю землю, — уйти в синий лес, что за полем. Там, говорят, волки.
Потом, уже в отрочестве, странные эти причеты, черная бабкина тень, ее неровные, оранжевые, похожие на крылья, обгрызенные края и красные уголья — порхание и промельк в них — стали четкой картиной желаемой красоты и тайны. Захотелось оставить это для себя, чтобы всегда можно было сюда вернуться. Купил детский набор акварели и кисточку, раскрыл школьную тетрадь: красное густо брошено на лист. Там теплился, жил огонь. Но не он один: за пределами листа было еще что-то, что отбрасывало черную тень с неровными краями. Тень ни от кого. Кто-то (или что-то) — за кадром.
Он был счастлив находкой, долго сидел, зажмурившись и смакуя эту тень от неизвестности. От судьбы. Как предчувствие. И — мурашки по спине.
А когда открыл глаза, подсохший рисунок поблек, четко проступили тетрадные клетки, на которых должны были стоять цифры или буквенные их, алгебраические изображения.
Юрка попытался восстановить в памяти ночь, когда он глядел на пламя печи, на скрюченную бабушкину фигурку над травами, среди пламени. Но — все ушло из памяти, из сердца. Попытка перевести в искусство — убила! Будто он предал что-то. Думал, что это от неудачи. Много позже узнал: это — в природе искусства.
Юрка не пробовал повторить опыт, затаился, боясь мертвящих рук своих. Но он не был слабым человеком, двенадцатилетний Юрка Буров, потому не отчаивался, а уговаривал себя: потом. Все потом. Все вернется преображенно.
И вернулось. Но это уже другой сказ.
Школа стояла на окраине, так что ходил Буров через весь город (от окраины до другой), ходил — в радость.
И с некоторых пор неотступно шагал рядом некто Костя Панин — аккуратный, подстриженный человек одних с Юркой лет. Оруженосец, что ли. Костя этот появился и школе чуть позже. Юрка посмотрел на него и увидел вдруг, — а может, показалось, — за ним лиловая тень. Однотонная, без оттенков и резко очерченных краев, скучная, но — тень. У других и такой не было. То есть цветной.
Шел урок. «Хм! Лиловая тень, — думал он. — Ерунда какая-то. А вернее всего — показалось». Оглянулся. Костя Панин сидел за последней партой в том же ряду. За спиной, на желтой стене, ясно лепилась лиловая тень. Юрка кивнул парню, тот свел брови и чуть растянул губы. Сосредоточенный человек и опасливый: боится обознаться, — а вдруг не ему кивнули?
Но уже на перемене подошел спросить что-то про учебники, а домой шли вместе.
Возле Юрки всегда была толпа, но по дороге она рассасывалась. Костя дотопал до самого Юркиного дома.
— А сам-то ты где живешь? — спросил Юрка.
— Я? Я… Да возле школы живу… пока… Мы снимаем.
— Надолго к нам?
— Не знаю… Как повезет.
Он не хотел говорить, и Юрка не стал пытать.
— Зайти за тобой утром? Я рано встаю, — спросил Костя.
— Валяй.
И он зашел. Маленький серый паренек (серые глаза, серая кожа, серые волосы). И стал заходить за Юркой в школу и тащиться через город после уроков. Далековато, конечно. Зато безопасно: кто тронет Юркиного друга?! А тут, кажется, пределом жизненных посягательств было (пока) — «не тронь».
Говорить особо не говорили, будто присматривались, принюхивались.
У Юрки был отличный перочинный ножичек — еще довоенный. Нож брался за кончик, бросок, и — вжжих! — этот же кончик впивался в дерево. Нож вибрировал напряженно.
— Хочешь, кинь!
— Я не умею, — ответил Костя.
А через несколько дней по пути в школу сам спросил:
— Дай-ка теперь.
И из пяти раз попал три. Хм, упорный. Натренировался! Но Юрка промолчал — ни похвали, ни хулы. Так уж ведется на севере. И тогда впервые спросил:
— Ты кем будешь-то?
— Я? — Мальчик удивился интересу к себе. — Я на исторический пойду.
— Почему?
— Понимаешь… — Серая кожа на лице Кости Панина стала фиолетовой. — Мне интересно, как это все получается.
— Чего получается?
— Да все. Вот нас учат: роль личности… что вроде от нее ничего не зависит.
— Ты считаешь — зависит?
— А как же!
У него были и доводы, это совершенно ясно, — но он не хотел приводить. И снова Юрка не стал пытать. Только спросил:
— А тебе-то что?
— Очень даже что. Мне, мне лично это важно.
Юрка покосился удивленно: может, рядом с ним личность? Но внутренним слухом слышал, как его спутник льнет к силе… Хм, «личность»! Чего же ты тогда?!
В Косте этом была какая-то предназначенность для битья: ведь это сразу видно — кого толкнешь, а кого нет. К нему, к новенькому, тянулись, как радары, все глаза, все уши: каков?
А он вот каков.
В ту же пору к ним пришел учитель черчения, тоже приезжий (тогда было полно их), — серые волосы, серая кожа лица, серый, приглушенный голос. Он кашлял подолгу, закрывал беззубый рот платком. Но и в эти минуты в класс не приходила тишина: юность жестока, не так ли? И прозвали его «Вошка», и на его (лишь на его!) уроках бегали по партам.
Однажды писали контрольную, кажется, по физике. Не уложились вовремя, полкласса осталось на перемену. Когда дали звонок к уроку, в дверь сунулся с линейкой и угольником Вошка.
— Одну минуту, Анатолий Сергеич, — попросила физичка.
Тот укоризненно покачал головой, закрыл дверь.
Реакция физички была естественной:
— Сдавайте, сдавайте тетради, ребята, учитель ждет.
— Подождет! — вдруг зло выдохнул кто-то.
Физичка поискала глазами, в удивлении остановилась на новеньком. Точно — это сказал новенький. Тихий человек, который к тому же сдал уже работу.
— Отцу было бы тяжело, если б он узнал, — задумчиво и по смыслу темно проговорила учительница. — У него как раз неприятности.
Костя потупился.
Следующий урок начался из рук вон дурно: больно охота из за какого-то Вошки получать колы! Он вошел подчеркнуто деловито.
— Ничего, ничего. — Важно кивнул в ответ на извинения физички и сразу разложил на столе линейку, большой циркуль с мелом, зажатым в деревянной лапе, учебник по черчению, журнал. Ну учитель и учитель! Прямо не Вошка! — Прошу сдать домашние работы. Собери, дежурный.
В голосе его было раздражение, а он не имел на это права. Не имел, да и все.
Парень, сидевший рядом с Юркой Буровым, поднялся было, но тут же сел, схваченный за руку соседом.
— В чем дело, Буров? Сдавай чертеж.
— Я не принес.
— Да вот же он, заложен в книгу.
— Это не тот.
— Покажи.
— Что ж, вы не верите мне?
И Юрка убрал книгу с листком в парту. Не будут же с ним драться!
— Я поставлю двойку. Та-ак… Буров — двойка.
Поединок начался. О, как неравны были силы!
Учитель стал вызывать по журналу. Выкликал фамилию и уже знал, что будет отвечено.
— Нет.
— Не принес.
— Нет.
Рука его, выводящая двойки, дрожала.
— Панин!
— Я не сделал.
— Это неправда, Костя.
Серое лицо учителя поднялось над столом, водянистые глаза потемнели от злости, упершись в такие же потемневшие Костины глаза.
— Я не вру.
— Ты что тут комедию ломаешь? — закричал вдруг человек у стола, и хлопнул ладонью, и потом стер ею слюну, брызнувшую из беззубого, обезображенного злобой рта.
Ребята притихли. Потому что удивились. Что это между ними за разговоры?!
— Не кричите на меня! — все так же надменно прошипел Костя.
— Да я тебя выдеру, подлеца, не то что…
Класс захохотал, загикал: поняли наконец, кто эти двое друг другу, поняли, что не первая это между ними вспышка и что Костя стесняется отца, потому и таил долго, и что отец понимает это и оскорблен, злится и что сейчас еще что-то будет такое же щекочущее нервы. И оно правда стало.
— А ты… Ты… — закричал вдруг почти по-девчоночьи тонко Костя. — Тебя знаешь как зовут?
До этого все свободно бегали по классу. Кто усаживался третьим, поближе к учительскому столу, — ничего не пропустить бы! Кто, выбежав к доске, строил гримасы, приплясывал. А тут все остановилось, ждало.
— Сказать? А? Сказать, кто ты тут для всех?!
— Я знаю, — вдруг совсем тихо ответил учитель и сел на стул. — Я и сам знаю.
Он закрыл голову руками, будто его собирались бить. А по коридору гулко процокали шаги. Дверь открылась.
— Что тут у вас?
На пороге стоял директор Пал Палыч. Он был не то, чтобы строг сейчас — скорее серьезен.
— Как дела, Анатолий Сергеич?
Тот все ниже клонил голову, кладя ее постепенно на журнал, и все шире охватывал ее руками.
— Павел Павлович, — сказал вдруг Юрка и сам удивился своему прозвучавшему в тишине голосу, — Анатолий Сергеевич просил меня собрать домашние работы. У него болит голова.
И, не ожидая разрешения, достал из парты свой чертеж и пошел по рядам:
— Давайте чертежи, давайте, ребята.
Директор протянул руки ладошками вниз, будто дирижировал:
— Занимайтесь, занимайтесь! — и тихо вышел. И каблуки его не щелкали по коридору.
Почти сразу раздался звонок. Юрка положил кипу на стол. Ребята, будто сговорясь, быстро и молча убрались из класса.
Через некоторое время оттуда вышел и учитель, сопровождаемый бледным, растерянным Костей. Они прошествовали по этажу, и ни один из мальчишек не перебежал им дорогу, не крикнул, не засмеялся.
«О, мадам, то, как проходят первые годы нашей жизни…»
Гл. III. Лида Счастьева
Бывают люди, о которых трудно говорить. И с ними трудно. И не потому, что так уж они сложны и непонятны. Просто — едва дотронешься, как заденешь болевую точку. Всюду болит. Такое душевное устройство.
Лида была сказкой городка. Синеокое ее победное лицо; улыбка… так улыбалась бы крепость, которая никогда не падет; движения, похожие на выныривание поплавка: вверх, вверх, вверх, если даже тянет рыбина в глубину.
О Лиде Счастьевой читали лекции по клубам и школам: она в войну была парашютисткой, ее награждали орденами, вызывали в Москву… Узкобедрая и широкоплечая в соответствии с тогдашней модой, светлоголовая, смуглолицая, на длинных крепких ногах, она самолюбиво двигалась по деревянным улицам Крапивина-Северного, засыпанного песком, заросшего лопухами и лебедой. И все окна глядели ей вслед.
Лида Счастьева! Красавица Лида! Не она одна вынесла страх и скорбь войны, горькую радость победы. Но, может, не так крепки были эти плечи, может, для их широты было подложено чуть больше ваты в новый штатский костюм, а так — они покатые, нежные, и скрипкам бы петь, и тонким шелкам касаться…
«Во мне болит тишина», — писала она в дневнике.
А сон ее почти повторял быль: фанерный вагончик среди степи, и у самой черты горизонта — пыль, пыль и приближающийся черный клубок: враги. Она знала это ощущение беззащитности, — парашютистка, подвешенная на огромном белом зонте над целящейся в нее землей.
Прекрасные ее, неровные, похожие на чесночинки зубы открывались в победной улыбке. Крепость никогда, никогда…
По ночам она кричала во сне.
Из знакомых парней с войны вернулись двое: толстогубый и толстозадый Ленечка (когда Лида кончала школу в сорок первом, он перешел в восьмой класс) — теперь и он был орел! И всем парням парень Митя, тоже Счастьев — какое-то дальнее родство, проследить которое никто не мог. Оба ринулись к Лиде и оба пали жертвой ее радушия и равнодушья. Но ведь молодость любит разбивать стены. Вот они и взялись каждый на свой лад.
— Прынца ждешь? — сердился Ленечка, вздувая на скулах желваки. — Или избаловалась, семья не нужна?
А Митя щурил подплавленные внутренним огнем глаза.
Он почти всегда призывал на помощь стихи Симонова, поразившие в военные жестокие годы своим прикосновением к интимному, точно открывшие заново, что человек, несмотря ни на что, продолжает быть и пост свою птичью песню на развалинах судьбы.
А Лида уже спела свою песню, похожую на крик, захлебнувшуюся над листком похоронки, пришедшей с другого фронта, куда послали его, его — кусок ее души, ее тела, её жизни. Молоденький лейтенант с трогательными, почти детскими завитками на затылке, строгий и властный мальчик, беспомощный перед ней. Разве, стреляя в человека, убивают его одного?
Тогда у Лиды отобрали оружие, потому что видели: ей легче не жить. Но все ж она дошла в полузабытьи до конца войны, прослужила еще около двух лет в оккупационных войсках и только после этого впервые прошагала по дощатым тротуарам родного Крапивина, победно вскинув голову и возбуждая любопытство, зависть и, разумеется, осуждение: «Быть не может, чтобы у ней так уж ничего…»
Не может, не может, вы правы, дорогие!
И тогда же откуда-то из подворотни глянули в упор резкие, светлые, почти детские глаза: восторженные, злые, азартные. Пятнадцатилетнее бешенство радости и утраты… Она знала мужское искательство, и оно было бы ей сейчас ненавистно. Здесь же Лида ловила этот взгляд совершенно отдельно от его носителя, и что-то в ней крепло, вздрагивало пробуждающейся жизнью. А самого мальчишку она едва ли узнала бы, пройди он мимо с опущенными глазами.
Директор школы был человек пожилой и тихий. В городе, похожем на село, и школа тоже почти сельская, двухэтажная, рядом с пекарней, поэтому запах в ней был всегда домашний, теплый. Нянечка Нюша любила цветы. От каждого своего цветка, будь то герань или Ванька мокрый, отторгала по росточку или листку, давала прорасти в баночке и тащила в школу, на окно, — первый этаж цвел, как оранжерея. Так было до войны, в войну много померзло, да и Нюша болела, не за всем был догляд. А теперь снова закружевело на окнах. Лиде понравилось проходить мимо. И ребята шныряли, как ожившие весной мухи. Смущала лишь почтительность, с которой ей кланялись. И отдаленье. Все были с ней на расстоянии, кроме родных да Ленечки с Митей. Даже бывшие подружки. Впрочем, чужое горе, если оно не рассказано, отпугивает.
Директор Павел Павлович говорил по-здешнему, нажимая на «о». А Лида уже переучилась, и ей, когда они заговорили, это показалось неловким — будто она хочет выхвалиться. Но сразу прошло. Заговорили они так: он открыл окошко в коридоре на первом этаже и крикнул на улицу, как школьнице:
— Счастьева, зайди-ка, зайди сюда!
И она, попятно, зашла. Он молча повел ее на второй этаж и — через учительскую — в свой кабинет. Она сразу вспомнила большую карту на стене (директор был географом), плохонький стол, заваленный тетрадками и дневниками (как она волновалась, бывало, когда ее дневник попадал сюда!). Лида по-детски испугалась, что он спросит ее забытое из географии, и по-взрослому — что заговорит о войне, попросит выступить… Но он усадил, как ученицу, напротив себя и спросил жалостно;
— Что собираешься делать?
А она еще и не думала. Она еще качала на руках свою боль и усталость…
— Не знаю, Пал Палыч.
И вдруг заморгала, заморгала… Вот чего ей хотелось, оказывается: вмешательства. Чтобы в душу влезли. Нахально, по существу, влезли, потому что какое его дело?
— А что читаешь?
— Ничего пока… Я еще…
— Ну, выбора что-нибудь. Вон в моей библиотечке.
Она кинулась к шкафу, чтобы отвернуться от старика, и выбрала, не глядя (буквы расплывались), самую толстую книжку: можно будет подольше не приходить.
— Ну и дело, — сказал он и протянул сухую, теплую руку.
Она шла домой, не глядя вокруг, забыв надеть победное обличье. Отобрал старый ее наигранную гордость и снова ввел в сан ученицы. А это было ее, ее звание! Она создана была вечной школьницей, безраздумно потребляющей сведения. И просто не знала об этом, как не знает утенок, впервые чиркнувший перепончатой лапой по воде, что это его стихия.
Утром она открыла книгу. Открыла, чтоб узнать:
Есть в Флорентийском Национальном музее мраморная статуя, которую Микеланджело назвал «Победитель». Это нагой юноша с прекрасным телом, с вьющимися волосами над низким лбом. Стоя прямо, он ставит свое колено на спину бородатому пленнику, который сгибается и вытягивает голову вперед, как бык. Но победитель на него не смотрит. В минуту удара он останавливается, он отвращает свой скорбный рот и нерешительный взор… Он откинулся назад. Он не хочет больше победы, она претит ему. Он победил. Он побежден. Это изображение героического сомнения, победа с разбитыми крыльями, — это сам Микеланджело, символ всей его некоей.
Не образ побежденного победителя завоевал ее, не рассказ о беспокойстве духа, которое, по мнению автора — Ромена Роллана, — есть недостаток гармонии и, следовательно, зависит не от величия художника, а от его слабости… А сам факт существования высокого и возможности вот так говорить о нем. И не просто высокого — уж какое видела она на фронте и потом в госпитале! — а вот этого отстраненного от повседневности или преображавшего ее — высокое искусство, вот что! Может, именно война — боль, нищета, долгое неподпускание к себе всего, что не относится к сегодня, к сейчас, — породили этот рывок к искусству. Она читала и слышала в себе робкое, скорбное и счастливое: «Живу! Живу!»… — издерганное, гордое, отмеченное красотой существо, вечный школяр на полной нешкольных тайн земле.
Гл. IV. Возмужание
У психологов есть такой термин — «вытеснение». Это — в простейшем изложении — когда память вытесняет тяжелое, нежелательное, подменяет чем-то другим. Так, вероятно, и произошло с Виталием, иначе провал памяти, в который рухнул весь военный период, нечем объяснить. Впрочем, мальчик был мал, чтобы разобраться во множестве сложного. И даже начало воины для него связалось с маршами по радио (всего лишь с маршами!), а потом с затемнением и вкусом сладковатого суфлейного молока.
Так же смутно помнил он, как номер хозяин дома — дед: ходил-ходил по половицам, поглаживал стены, ведра в сенях, потом ушел в светелку и помер. А плач и стон стояли долго: все жалели деда. И он, Виталий, тихо плакал, чтоб никто не видал.
А времена шли суровые. К тому же не было отца. И письма не приходили. И из-за узкой маминой спины жизнь уже начинала корчить гримасы: то мать не взяли учительницей в школу и она подалась на прядильную фабричку — и ничего-то не умела, что-то там грузила, стерла руки до кровавых мозолей. То Виталий потерял продуктовые карточки (хорошо еще — в конце месяца), и они голодали бы страшно, если б хозяйка, ворча, не отсыпала муки («Не помирать же этим неумехам в моем доме!»).
Но это все шло вереницей, будто спешило к тому дню, вернее, к тому вечеру, когда выплыл из весенних белых сумерек человек, притяжение к которому построило потом жизнь: что-то отняло у нее и что-то вложило из странных, не имеющих имени ценностей.
Было это года три спустя после войны — Виталию сравнялось пятнадцать.
За время войны город зарос, задичал, даже облик потерял городской.
От самого центра во все концы расходились полосы огородов с картофельными грядами. У всех в те несытые послевоенные годы были свои наделы. Даже приезжим — и Виталию с матерью в том числе — определили по сотке. Им достался надел недалеко от парка. Земля там была хороша: речушка веснами разливалась, надо было только не полениться выдрать кусты. Виталий не поленился. Он никогда не ленился, если дело касалось земли. Разворотишь ее, — а там белые личинки майских жуков. Пять лет таятся они, гложут корни растений, чтобы потом, быстро пройдя стадию куколки, пулей выстрелить в едва затемневший апрельский вечер. Гадость, да? Но Виталию было интересно. А когда над ним, задержавшимся на огороде дотемна, промахивала летучая мышь, он точно ощущал прикосновение другого — не то забытого, не то не узнанного еще мира…
Обезлюдевший парк жил по законам леса: веснами там высиживали птенцов славки-черноголовки; кроты набрасывали кучки земли по ходу своих строительных работ; храбро сбегали по стволам елей и сосен белки.
Однажды на противоположном пологом берегу забрезжил костерок. Он высветил двух парней и девушку. Парни были взрослые. Одного, который обычно на ходу лущил семечки и сплевывал мокрую шелуху, Виталий встречал часто. Звали его почему-то ласкательно — Ленечка. Другого не знал. Девушка тоже была взрослая. Но ее знали все. Ее фотография висела в школе; с ней велели непременно здороваться, если она проходила мимо. Виталий считал это справедливым. И не только потому, что Лида Счастьева (звать-то как: Лида Счастьева!) была героем войны. А еще и потому, что смотреть на нее — радость.
Теперь Виталий, сидя на вывороченном пне, глядел на другой берег, затаясь. Девушка протянула руки к костру. Извечное женственное движение. Но выполнено оно было резковато. И смех ее, и неразборчивые слова звучали надтреснуто и резко. Незнакомый парень был красив. Но ей больше нравился Ленечка. Ее повороты в его сторону, все движения были мягче, любезней. «Поженятся, разведут лущителей семечек», — почему-то со злобой подумал Виталий. И еще подумал: «У зверей все это милее. Проще и милее». Но что его здесь не устроило, додумать не успел, потому что сзади кто-то осторожно подходил.
Виталий оглянулся. Рядом стоял парень примерно его лет.
— Закурить есть? — спросил тот, глядя на костер, за речку. Глаза у него были узкие, лицо круглое, широкое и — маленький нос с трепещущей ноздрей. Одна ноздря была неподвижна, а другая жила и вздрагивала, и от этого лицо казалось каким-то рваным, что ли. — Закурить, говорю! — нетерпеливо повторил он.
— Н…нету.
— Врешь небось?
Виталия не ответил. Парень, не отрывая глаз от костра, выкинул вперед руку, как для удара (Виталий подобрался), а потом разжал пальцы.
— Давай пять. Меня Юрка зовут. — И кивнул на тот берег: — Перемахнем по мосточку?
Движения его были быстрые и очень определенные. В разбойном этом облике что-то привлекало, тянуло.
Виталий сгреб в карман отцова идола, молча глядевшего из расселины пня (всегда незаметно брал с собой).
— П…перемахнем!
Легкими прыжками, под прикрытием темноты и веток, звериной побежкой мчались они по весенней земле, перепрыгивая грядки. Деревянный мосток взяли в два прыжка — и тоже тихо, как-то шепотком. И оба смеялись хриплым, придушенным смехом.
Лида не удивилась, увидев ребят. Но вдруг покраснела. Это было так странно: ведь она совсем взрослая!
Разговор у костра сломался, стал гаснуть. Собрались по домам. Юрка успел сказать Лиде:
— Я, когда стану режиссером, возьму вас в свой фильм.
— Я к тому времени состарюсь, — усмехнулась она.
— Продержитесь еще лет десять, ладно? — попросил он, жалобно и нахально щерясь ей в лицо. И махнул Виталию — пошли!
— На сегодня хватит, — пояснил он по дороге. — Первый разговор требует краткости.
— Почему?
— Подрасти — узнаешь. — И лицо Юрки сильнее прежнего разодралось улыбкой. Казалось, будто это лицо резиновой куклы бибабо, которое кривится, сморщивается, оплывает в зависимости от движения человечьей руки внутри полой головы. Юрка, вероятно, уловил смысл устремленного на него взгляда и резко хохотнул.
— Рожа должна быть приманчивой, ясно? А манит не только красота.
Оба рассмеялись и, смеясь, хлопнули рука об руку.
— Светлых снов!
— И вам того же!
Так летний вечер швырнул пятнадцатилетнему Виталию Юрку Бурова, точно вырвал из небытия. И потом, куда бы ни шел, видел всюду — на улице, в школе, в парке — его азиатский лик. И как не замечал раньше?
Но — странно! — они чуть кивали друг другу издали и не делали попыток заговорить, хотя скованность движений и лиц выдавала взаимную зависимость. Будто была между ними тайна. Виталий дорожил этим «будто». А может, и была?
«Он не весь тут… — в тревоге и радости думал Виталий. — Он — не так уж все просто. Там есть, за этим разбойным ликом, — есть! Простор, что ли? Есть где разгуляться…»
А почему так думалось — и сам не знал. Помнил Юркин азарт — как тот глядел за реку, и хриплый смех, когда бежали по мостку, и Юркин жалкий и нахальный оскал навстречу Лиде. «Разный, разный парень», и почему-то проклевывалась радость.
Быть может, то была тоска о друге.
Мать Виталия была тихая женщина. Разве можно быть такой тихой? Она все еще работала на фабричке. (Почему не идет в школу? Впрочем, кажется, ее не берут. А почему?) И что они торчат в чужом доме? Ведь говорила, что сразу после войны уедут в Москву. Неэнергичная! Чтобы ехать, надо силы приложить. А где у нее сила?
— Талик, ты, говорят, запустил школу? — Ее голос слаб и просителен.
— Кто говорит? — Он резок. Сам не знает зачем.
— Я видела Павла Павловича.
Виталий смущен. Он действительно «запустил». Он ходит по городу и слушает его, этот город. Слушает и смотрит, будто прощается. Потому что выше холма, на котором привольно царит городок, выше леса, выше любви и человеческой памяти поднялось вдруг белое здание, опершееся на колонны. И приманчивей коньков, украшающих избы деревеньки Крапивенки, прильнувшей к самому городу, — вымчали над белыми колоннами черные нервные кони, тонко вздрагивающие и напряженные каждой жилочкой… Черные застывшие кони над колоннами, и изящная колесница, и прекрасный юноша — бог, натянувший поводья… чтобы сдержать ли, направить ли бег-полет…
Он видел Большой театр только на гравюрах в отцовой библиотеке. Но представлял ясно — в цвете, в окружении домов и снующих людей, ощущал запах красного бархата, помнил (мог ли помнить, ни разу не побывав?). Нет, бывал, конечно, только очень маленьким! — помнил, как медленно, постепенно гаснет огромная люстра, и уходит из зала свет, и оживает сцена, сначала становясь единственным, что есть, что дано тебе счастливо и щедро: в звучании, в гармоническом движении… И так притягивало, что Крапивин начинал казаться сиротливым, жалким даже, и несправедливость эта рождала раскаяние и любовь к нему, похожую на вину. И что-то придумывалось сладко и беспокойно:
Это было вовсе не то, что хотелось. И все же наполняло, поселялось внутри, где-то между желудком и сердцем, щекочущее чувство, похожее на ожидание. Именно ожидание.
И еще — надежда: есть какой-то человек, которому все это будет интересно. Непременно будет интересно.
И при чем тут мама с волнением о школе, о его будущем?
— Мама, я сам как-нибудь.
Что-то в ее страдальческом облике тайно раздражает его.
— Не волнуйся, мама, я догоню.
— Хорошо.
Она совсем худая, лицо потеряло четкий овал, оползло, глаза, прекрасные мамины глаза неподвижны, как у слепой. И узкая спина. Как за ней было схорониться, даже прежде, тогда?!
— Мам, давай я съезжу в Москву насчет квартиры.
Она опускает голову.
— Нельзя, сынок. — Это говорится твердо. — Не время. — И сразу просительно: — Кончи школу здесь. Может… еще вернется… — И осекается.
— Живите, живите, — подает голос с печи хозяйка. — Худо ли у нас? — Она стала старая, много лежит, но дом не запускает и хозяйство бережет. — Мы еще придел приделаем, будет у вас своя изба.
Окна у дома узкие, коротенькие, дверь низкая (чего так строили — дом большой, а окна и двери…), полы погнулись. Но Виталий полюбил. С тех пор ещё. Когда дед. Когда отец!
Белотелая Маня вышла замуж и — точно проснулась — подтянулась, стала деловая: прибежит, картошки нароет, полы вымоет.
— Да ты чо, дочка…
— А, примыла. Не наймать же! — И уйдет ходко.
А сын, тот, что на тракторе, Серега, запил и залютел. Был он любимец, и старуха благородила его образ, как умела:
— У него голова-то — ууу! — когда трезвый-то! Дак ведь вот вино…
А он женился, переехал в Крапивин, стал шоферить. К матери заходил в подпитии, навещал. Разожмет кулак, положит на стол мармеладку, глянет умильно: гостинец привес. Был он востроносый, узколицый, быстрый в движениях — красивый вроде мужичок, ладный, хоть и росточку некрупного. А глаза въедливые. Виталий не любил его. И пользовался взаимностью.
— Расти большой, да не будь лапшой, — насмехался Сергей.
Виталий смалчивал: знал, что гладко не ответит, а запинаться перед ним гордость не позволяла.
На этот раз Серега, как муха в варенье, влип в разговор об отъезде и о встрече с Пал Палычем — на том благостном его повороте, когда мама сообщила:
— Предложил мне младшие классы.
Виталию хотелось положиться на судьбу: вот, значит, такая судьба — им оставаться здесь, у старухи Марьи Гавриловны. И это снова ожесточило: но ведь кто-то должен приложить усилия! Сама не хочет и ему не велит. Что ж, так и жизнь проживем здесь? Тогда нечего торчать в школе. Работать надо.
— Детям моим дом мой ни к чему, — отозвалась своим мыслям бабка Марья. — А я уж из годов вышла.
— Я тогда, мам, работать пойду, — сообщил тоже о своем Виталий.
— Что ты, Талик, надо школу окончить.
И пошел, как обычно, разговор, похожий на подстройку инструментов в оркестре:
— Вон лесины какие еще дедом привезены. Придел приделаете. А меня прокормите.
— За… зачем школу, мама, если в институт не поступать?
— Как же не поступать? Отец хотел…
— Это ведь что — чужие, а дед мой как вас жалел… Царство ему небесное…
— Верно, Марья Гавриловна, добрый был дед!
— А то! Сроду не скричит. Да — да, и нет — тоже да!
Вот тут-то он и прорезался, востроносый Серега. То молча стоял у притолоки, глазами зыркает, а теперь возговорил умильно:
— Дорогие гости ли, хозяева… уж как и сказать… Не взыщите. — Он снял кепку, отвесил поклон, юродствуя. — Мотушку мою не обижаете? Матушка, не в обиде ли вы?
— Садись, садись, сынок, шшей налью.
— Э, твои щи! Стаканчик бы поднесла.
— Уж поднесено вроде.
— То — чужие, а то — мать. Разница. — И вдруг круто: — А у жильцов бумага есть здесь проживать?
— У нас временная прописка, — ответила мама, бледнея.
— Вот то-то, что временная. А сколько годов это время-то? Год ли, два — жисть, может, вся. Мы и живем временно. До смерти.
— Не беспокойтесь, Сергей Степанович, мы на ваш дом не претендуем.
— А чо мне тревожиться? Мой он — и мой.
— Не твой дом, Сережка! Ты вон, как съехал, доски и полу не сменил, все погнило.
— Ладно, мать, с тобой разберемся. А вот с ими…
Ни разу такой разговор не заходил. И что ему? Живёт в другом краю города. Но что-то, видно, копилось, и теперь пьяно и зло плескалось внутри, затопляя края.
— Я такой-то вот лоб был, как этот малый, да к я на тракторе работал.
— И я работал в колхозе.
— Знаем вашу работу. Убытков не сочтешь.
Можно было спросить: «А вы считали?» Но это надо бы сразу. Или: «Не нравится — не звали бы». А был бы хороший разговор — просто можно рассказать, как выбирали эту картошку руками из грязи, как мерзли руки, как далеко было ходить до деревни, да мало ли что. А тут Виталий молчал и молчал. Что ж — чужой. И мама, белая совсем, сжалась в комок — и тоже ни слова. И чего уж так пугаться?
— Вот орешь, Серега, а Елену-то нашу Петровну в учительки обратно зовут. — Старухе хотелось мира. Она любила всех троих, — как их очертить добрым кругом?
— Да живите, мне что? Кровать пролежите, что ли? — и пошел к двери. Даже гостинец забыл отдать. — Старуху-то всякий обдурит.
Черная злоба залила вдруг Виталия. Так и вцепился бы в этот аккуратно стриженный затылок, перекусил бы… Мама глядела беспомощно. Другая бы не промолчала, отбилась. А разве отец позволил бы? Да он…
В дверях качнулась черная кепка, под ней — востроносое лицо. Он не был утолен, и потому его осенило:
— А чему така женщина может учить, котору муж бросил? — Палец его чертил воздух. — Чему?
Виталий не заметил, как очутился возле, как узкое, верткое тело оказалось у него в руках. Он нес это извивающееся тело с омерзением, точно большого червяка, и бросил возле крыльца на землю, и оно поползло с рыком и угрозами: «Сожгу, сожгу, и дом не отстоите!» — Оно цеплялось за изгородку и уползало вдоль кольев, сворачиваясь и разжимаясь.
Виталий сел на расхлябанную ступеньку. Глаза еще плохо видели. Чего он так разозлился? Не только из-за отца. Чего пьяный дурак не наболтает. Нет, выбил его этот Серега из какого-то хрупкого состояния, когда думалось, виделось, сочинялось, будто разбил домик-ракушку — и вот, лишенный укрытия, мягкий, беспомощный, остался на жесткой земле…
— Ой, не придет боле! — охала в избе старуха.
— Мы уедем, — пообещала мама.
— Да ты что? Ведь он, когда трезвый-то, — ууу! — голова. А пьет — так кто не пьет? Но Серега, я те скажу, мужик тонкий, он свово не пропьет…
Вышла мама, кутаясь в платок. Старый платок, который она сама вязала, руководимая Марьей Гавриловной, вязала неумело, неряшливо. Но зато она другое может. Она, тихая, может, чтобы ее слушали на уроке. Голос как треснутый колоколец. А в классе — тишина. Не только умение говорить (она прекрасно рассказывает!), но еще дар, какой-то дар. У нее на уроках тишина без ее стараний. И потом она может помнить, всегда помнить отца. И заботиться о Виталии. А он — как кукушкин сын в гнезде маленькой птицы. Всё. Теперь всё иначе. Он сильнее. Теперь он должен, он!
— Ну что, Талик?
— Мам, ты не сердись. Но я теперь никому… не позволю…
Она улыбается нежно, гладит его затылок.
— Конечно, я так и поняла. Хочешь — поди погуляй.
Виталий побрел по дощатым улицам к окраине. В ту сторону обычно уходил Юрка.
Лето срывалось в осень, теряло смелость, искало тишины. Резко проступали деревья с каждым листом своим и веткой; мягко и покаянно светились вдали река, дорога, сжатые поля.
На проулка вышел Юрка Буров, зашагал рядом. И тотчас что-то дрогнуло и водворилось на место. Все получило ту цену, которую стоило: и грошовая обида, и такая же месть; осень с открывшимися далями и ожиданием перемен; хрупкое ощущение близких стихов…
— Юрка, послушай. А не понравится — промолчи, ладно?
Виталий стал читать ему про возвращенье… Странно, но он не запнулся ни разу — и с тех пор с Юркой не запинался никогда.
Юрка замедлял, замедлял шаг.
— Ну, еще!
— Больше нет.
— Ты что же… сам?
— Да вот…
— Пойдем тогда.
Они были возле Крапивенки, свернули и тропой, мимо огородов, двинули в лес. Лес был еще ярок осиной, березовым листом, ягодами шиповника. Слишком даже ярок.
— Идем, идем, — торопил Юрка.
И вывел в сухой ельник. Здесь цвет умерялся, теряя буйство. Ветки, лишенные игл, были похожи на паутину. Они сплетались высоко.
На одной из елочек была наклонно укреплена доска, а на ней — кусок картона. А уж на нем… Виталий не знал, что Юрка рисует.
До тонкостей выписанные ветки, светло-коричневые на желтоватом фоне, уходили вверх, четко накладываясь друг на друга, срезались краем бумаги (было ясно, что там, дальше, тоже они), а среди этих веток, в темном и странном самом густом их плетении, сидела гигантская оса, тоже очень точно изображенная. Здесь был ее дом, ее мир, и она умными, нечеловеческими глазами смотрела в упор. Виталий переводил взгляд с осы на Юрку, с Юрки на ветки ели, той, которая на картине и которая, как продолжение, за ней.
— Первый раз вышло, — сказал Юрка тихо. — И на том спасибо.
— Как это «и на том»? Здорово вышло!
— Ладно, пошли.
Он откнопил картон, отвязал от елового сука доску, краски закрыл и спрятал в траву. Потом и их взял.
— Все равно конец уже.
— Чему конец?
— Да лесу этому. Как нарисую что — так оно и пропадет. Больше уже не вижу. Еще спасибо — получилось. — И протянул руку: — Будь.
Пожатие было как благодарность. Только за что?
Так была вторая встреча. Виталий гадал: что за резкие уходы? Красуется? И жалел: так не сдружиться! И радовался: такое только мне, с кем-то он иначе. И тянулся, тянулся к этой дружбе.
Ещё было: вроде ни с чего? — Юрка подошел, заговорил о Лиде:
— Как увидал ее — всё. Чуть не упал. Будто стукнуло меня. Увижу на улице — весь день как осветится. Что такое? Просто пройдет она и сгинет. А я — как одаренный. Было тебе такое? Нет? Ну, может, будет.
— Она знает? — спросил Виталий.
— Откуда бы… Да знает, ясно: глянет и глаза отведет. А тогда — помнишь, вечером — покраснела. Ну ладно, давай пять!
Вскоре была история с Юркиной бабкой.
Пал Палыч отобрал ребят поздоровей помочь с дровами — погрузить на телеги заготовленные в лесу кругляки, сложить у школы. Виталий пришел — сразу увидал Юрку. Тот повел глазами: узнал, мол, и все. В лес шли группками, отдельно — классы-то разные. А там, в работе, уже смешались. Но Юрка держал дистанцию. На отдыхе развели костерок, поели деловито — устали все же. Потом затеяли прыгать с дуба. На дуб ведь легко — младенец залезет, ветки толстые и невысоко. Подбадривали друг друга:
— Отсюда сиганешь?
— А то!
— А с того?
Виталию понадобилось — с какого никто не прыгал. Юрка смотрел, почти отвернувши голову, краешками узких глаз. Молчал.
— Давай! — кричали внизу.
— Высоко взлетишь — ниже падать. Слезай-ка, парень.
— Давай, не трусь!
— Слезай, убьешься!
— Давай!
И он полетел. Огляделся сперва — широко огляделся, как вдохнул в себя поляну, пики елок вдали, рогатые корежины дубов. Раскинул руки и — уух! — тяжело ляпнулся об землю. А раньше, еще в детстве, ему казалось, что умеет летать. Был почти уверен. Но тут почему-то не сработало.
Сперва была только боль в плече. Потом поплыли кусты, трава, дуб. Закрыл глаза — и в голове плыло, плыло… Что же это? Потом утихло. Только болит плечо, подогнутая рука, на которую навалился. Откачнулся в другую сторону — опять поплыло.
Юрка вел его незнакомой тропой. А может, Виталий не узнавал, потому что часто закрывал глаза, чтобы не накатывали в них деревья и клочки неба…
— Вот развилку речную пройдем — и конец, — говорил отрывисто Юрка. В голосе не было жалости. Это потом наработал он мягкие интонации. Сперва обходился без них, — Вон, видишь, дом.
Виталий остановился. Он узнал. Одинокий дом стоял высоко, как на сваях. Маленькое окошко, на нем в этот раз никаких таких корней не сушилось. Но дом был тот. Тот самый, к которому когда-то ходили с белоголовым Володей Симаковым. («Я вырасту, тоже буду пьяница. Или в колдуны пойду». — «Колдунов не бывает». — «А бабка Устинья?!») В тот день, как ходили сюда, приехал отец. Мама бежала, и ветер сносил в траву ее счастливые слезы.
Дом на сваях был все ближе. Кто-то маячил на порожке.
— Юрк, ведь тут… это твоя бабушка, что ли?
— Ага. Ну и что? Боишься?
— Я вроде не трус.
— Это что прыгнул-то? Тут другая храбрость. Один, к примеру, драться боится, а директор закричит — не испугается. Или ночью на кладбище…
— Что ж тебе, директор и кладбище — одно и то же?
Юрка засмеялся.
— Не. Так у меня вышло нескладно.
Бабка — маленькая, сухонькая, в белом платочке, ничего в ней такого не было. Она сперва стояла на крыльце, будто ждала. А как увидела, спустилась с приступочек, засеменила навстречу. Сердито зыркнула на Юрку, промолвив что-то вроде «шишига» (будто знала, что прыжок был — имени Юрки, хоть и без его подстрекательств), и ласково повела Виталия на высокое крыльцо, потом через сени (обычные, как у всех) в светелку, что была в дальнем конце сеней.
— Взойди, взойди, голубок, — приговаривала она.
Вот у нее была жалость, и уверенная хватка, и покой. А одна ноздря тоже чуть вздернута, но это было просто деталью внешности — значения не имело.
Виталий глядел в бабушкины глаза, и которых — ни хитрости, ни умысла, на её худые, короткопалые руки, как видно, и теперь, в старости, знавшие работу на земле.
— Садись, садись вот тут, коло столика. Боль твоя простая, не подшкурная, как завелась, так и выведется.
Она принесла медный ковшик с водой, зашептала над ним:
— Есть славное Мугай-море, на Мугай-море есть Мугай-остров, в Мугай-острове сидит Мугай-птица… Прилетает птица к рабу божьему Виталию Николаевичу, отдёрывает когтями, отклюивает носом, перьями отмахивает притчи и призоры, ветреные переломы, падежи и пристрелы… — И все быстрей, быстрей и невнятней шепот! — Для смеху ли, от сглазу ли сделано — помоги! Помоги! Помоги!
От напряжения ее клонило в сон, она вздыхала, мелко позевывала и сплевывала через плечо:
— Оставь соби, оставь соби, нечиста сила!
Виталия опять дивило: откуда знала имя да еще и отчество? Он вообще-то ворожбе не верил, но сейчас не было ни смешно, ни странно. Испытывал даже гордость от противоборства старухи с сатаной — ведь сражались-то за него!
На секунду мелькнула зависть к Юрке (эта заступа у него всегда!), потом тоже стало клонить в сон А бабка уже стояла над его плечом:
— А вот я его грызану, грызану!
И беззубым ртом хвать, хвать рубашку и кожу — так, что щекоток по телу.
Потом поила их чаем. Дом был как дом. Ни трав никаких, ни еще чего. Только Юрка был тихий, бабке говорил «вы», а матери или не было вообще, или что-то с ней было не так, потому что она не показалась ни разу и о ней не говорилось. А дом был в бабкиных старых руках, это Виталий понял не спрашивая.
— …в месяцах есть по два дни злых, — тихонько рассказывала старая. — Ни сеять, ни садить, ни портищ кроить, ни свадеб творить, ни в заим давать, ни еще чего в эти дни делать!
— А какие, бабушка? — спрашивал Виталии.
— Ты вот коим днем рожден? — как видно, оберегая его, поинтересовалась бабка.
— Я? Двадцать третьего июля.
— Ну, твой день хорош. А, к примеру, июнь — Юрин-от месяц — седьмой да осьмнадцатый-от то злые числа.
— А добрые бывают?
— И добрые есть! На два дня злых один добрый.
Юрка молчал. Не участвовал в беседе и не рвал её нитей Легко молчал. Сразу видно — принимал бабку, дорожил. Он, может, и в свою странную живопись так легко шагнул из этого «Мугай-острова»…
А плечо ныть перестало. И больше не напоминало о себе. И голова не кружилась: хорошо, когда о тебе кто-то кого-то попросит.
На другой день Виталия прямо с первого урока вызвали к директору. Он шел пустынным коридором и недоумевал: чего бы?
Когда подошел к учительской, оттуда вынырнул Костя Панин — Виталий часто видел его возле Юрки.
Кабинет Пал Палыча был домашний, не страшный. И сам директор сидел в раздумье, опершись руками о стол. Старичок и старичок. Он не сразу заметил Виталия. А заметив, подошел, обнял за плечи, стал говорить, ещё не отбросив, видно, того, о чем думал:
— Мм… Да… Разные люди получаются. Ведь вы, собственно, уже взрослые, а?
— К… конечно, Пал Палыч.
— Как мама?
— Ничего.
— Ах, какой она прекрасный педагог! Трудно ей на фабрике?
— Очень. — И поглядел вопросительно на директора: что же, мол, ты?!
Старик развел руками, поднял плечи, — достаточно выразительный жест.
Виталий промолчал, потому что хотя и был разговор о работе вместо школы, но мысль о вузе еще не отстала… А собственно, почему он спрашивает?
— Видишь ли… У нас здесь отличный лесной техникум… А ты, я знаю, любишь биологию… Понимаешь, бывают обстоятельства…
Виталия это обидело. Его косвенно обвиняли в лени — что вот, мол, матери трудно, а он… Но ведь он помогал, сколько умел.
— Т…тогда уж пойду работать.
— Не только в этом дело. Вам лучше пока пожить здесь. Понимаешь меня? — Пал Палыч глядел, пытаясь протянуть между ними из глаз в глаза пить, связавшую бы их разговор: что вот, мол, они оба знают и не вкладывают свое знание в слова. А ведь Виталий не знал. Стоял молча, сжимал в кулаке деревянного идола, которого редко оставлял дома (а когда оставлял, почему-то прятал). И вдруг это осязание дало едва уловимый сигнал, молнией домчавший не осмысленную, но точную весть: отец!
— Ч…что с ним, Пал Палыч?
Но директор уже отвел глаза, и все встало на свои места. Он как бы закрыл русло, по которому могла потечь откровенность. Точно как это делала мама в подобных случаях.
— Не знаю, мальчик. Просто твоя мама подумала, что так будет лучше, а тебе сказать не решается. Просила меня.
— К…конечно, — ответил Виталий, опустив голову. — Как захочет мама.
— Ну вот и договорились, — вздохнул старик. — Вот и ладно. А теперь скажи: что с тобой вчера приключилось?
— Вроде бы ничего.
— А с дерева прыгал? Не стыдно тебе, такой взрослый… И вот — ушибся.
— И…ничего, Пал Палыч, все прошло.
— Прошло-то прошло, да… знаешь ведь, разные есть люди. Вот и ко мне тут заглянули, как бы сказать получше… ну, доложили, что ли…
— Про дерево?
— Нет, про бабушку Устинью. — Пал Палыч теперь глядел светло и открыто, и было ясно: если и сердится, то не на него. — И просил Бурова позвать, вот вы мне и…
В это время в дверь постучал и вошел Юрка Буров.
— Вы меня звали, Пал Палыч?
— Да, да. Усаживайтесь оба. — Директор указал на потрёпанный дерматиновый диван. — Так вы, я полагаю, в бога не верите. Как же тогда верите в колдовство? Ведь если нет бога, нет и его антипода — сатаны, нечистой силы, которую можно заклясть, выгнать из человека всякими шаманскими причитаниями. А?
Юрка опустил голову, и краска медленно поползла к его ушам, разошлась по щекам, по лбу.
— Что скажешь, Юра?
Он не поднял глаз и ничего не сказал.
— Я тебя спрашиваю, Буров.
— А я бы ее ни на кого не поменял.
— Кого?
— Бабку.
— Это прекрасно, — очень искренне выдохнул старик, — Это очень распрекрасно. Но любовь к человеку — одно, а любовь к его делу — другое. Разве не так?
— Нет, — ответил Юрка тихо, опустив голову. — Не может плохой человек делать хорошие дела, а хороший — плохие. — И добавил, впервые глянув прямо: — Так я думаю.
— Ты прав, конечно… — закивал старик. Голос прозвучал так, будто за этой фразой должна была следовать другая — через «но»: «Ты прав, но…» Однако не последовала. Он опять задумался и потом стукнул ладонями о стол. — Да. Прав. — И, опираясь на эти ладони, поднялся. Прошел три шажка до двери — и обратно (кабинетик крохотный, и пошагать-то негде).
Потом опять сказал, будто сам себе:
— Но ведь бывает и косвенная вина.
Он опять думал что-то свое и как бы нехотя вернулся к разговору:
— Ведь вот, к примеру, бабушка: к ней идут, как к доктору. А она не все же знает. Верно?
— И доктор не все, — совсем уже шепотом отозвался Юрка. — Но она очень хочет доброго. И делает. Вчера пришел к ней один — из-под самого Архангельска приехал, — у него вся кожа заволдырилась. Чешется весь. Денег, говорит, на мази перевел, — можно дом-пятистенок построить.
— Ну?
— А ушел — уже полегчало. Сегодня опять придет.
— И ты веришь в это?
— Во что?
— Что полегчало?
— Так видно же. И он сам сказал: «Легше».
— А что видно?
— Кожа побелела. Бабка часа два вокруг него колготилась. Она ведь не один причет — у нее и травы, и примочки травяные.
Пал Палыч согласно покивал головой.
— Ну вот что, пареньки. Давайте договоримся так: ты, Виталий, в случае чего обращаешься все же к врачу. А ты, Юра, все это, что ты рассказал, держишь при себе. И прошу, убедительно прошу — школьников моей школы ни во что такое не вовлекать. Ясно? А то мне вот приходят… сообщают… И я обязан…
— Да, — кивнул Юрка. — А кто?
— Ну, зачем же? Такого человека, конечно, стоило бы хорошенько выпороть. Но не по моей же инициативе, верно?
И он проводил ребят до дверей.
Всю дорогу до своего класса Юрка недоумевал: кто и зачем?
А Виталий не смог высказать своего предположения (нет — уверенности), потому что получалось, будто он боится, как бы Юрка не подумал, что это он, и из-за этого хочет замарать Юркиного дружка.
— Плюнь, — говорит он. — Ну, трепанул кто-то, кто видел.
— И чего лезут, чего в душу лезут? — разводил руками Юрка. — Ну ладно. Им всем до бабки — огогошеньки, как далеко! И Пал Палычу тоже, не думай. Ишь ты — «косвенно». Не хочешь — не делай, а уверен, что хорошо, — валяй.
Бабка лежала на большой кровати, которая пустовала в ожидании ее дочки, Юркиной матери. А та как ушла на фронт, так и сгинула. Вначале, правда, присылала фронтовые треугольнички — тетрадный листок и на нем несколько ровных строк её замысловатого почерка в завитушках: жива, здорова, пишите о себе. А потом вдруг сообщение о её контузии, и всё. Кто-то из бабкиных клиентов посылал запрос — ответили, что жива.
Сейчас на столе лежало письмо, но Юрка не заметил, глядел на бабку. Он думал рассказать ей о сегодняшнем, потому что оно обидело сутью своей — форму-то Пал Палыч выбрал добрую: кто смеет подглядывать, судить, доносить?!
Юрка тогда впервые столкнулся с этим. Но как скажешь, если больна? Бабка перемогалась давно, с самого того дня, как узнала о дочкиной контузии. Но сегодня совсем почернела, запали глаза.
— Юраша, — сказала бабка и поманила сесть возле, — занемогла я. Если помру, злом не поминай. Людей не слушай. Я не так, может, жила, и по хозяйству поплоше других, и тебе вот с матерью оставить нечего. Дак ведь мне дано было. Дано мне это. Нет моей воли скинуть.
— Что дано? — наклонился к ней Юрка. Он знал, о чем она. Но ведь бабка никогда не говорила с ним об этом. А после сегодняшнего ему хотелось ясности.
— Знать кое об чем дано… врачевать, заговаривать.
— Как это?
— А я и не знаю, как сказать-то.
Она отдышалась тяжело, прикрыла глаза.
— Не свободна я, вот что. Будто что во мне живет и приказывает: «Твори то, твори это».
Старая лежала прямо, и темные глаза ее, устремленные на Юрку, постепенно обретали живость. Точно бы легче ей стало от высказанного, от внимательного Юркиного беспокойства.
— Тебе бы передала, да молод. Вон какой взбалмутной пришел. А тут покой нужен. Большой.
И вдруг добавила:
— Мамку жалей. — И кивнула в сторону стола.
Юрка схватил письмо, стал глядеть на знакомые закорючки. Скорее догадался, чем прочитал, так они были неразборчивы: «Еду домой покалеченная. Принимайте, какая есть. Все же за вас воевала».
Юрка отошел к окну, смотрел на улицу. Напротив их избы ничего не было — только проезжая дорога да веретёнышки пыли по ней. Дальше — зеленая лужайка, зеленая, с травой и кустами, и берег, обрывающийся к реке, — коричневая кайма её на глубине и желтая от песка — у того берега. И там зелень, луга. Хорошо всё же у нас, — так думалось, думалось для отвлеченья, чтобы еще какой-то миг не представлять себе этого вот: «…принимайте, какая есть…» А какая есть?
Юрка хорошо помнил мать, хотя больше бывал с бабушкой. Помнил, как она приходила с поля — в белом платке, закрывавшем лоб и завязанном сзади, в выгоревшем платье. Ему нравилось, как она крепко ступает по половицам босыми ногами, как сперва сердится — отойди, мол, устала! — а напьется молока с хлебом (стоя пила, никогда, бывало, не сядет!), так и улыбнется вдруг. И тогда видно, что зубы у нее белы на загорелом лице, а глаза нестроги.
— Ну, неслух, давай за вихры-то оттаскаю!
И вцепится сильными руками в волосы — щекотно, не больно. А он вырвется, побежит, она догонит, — а то я не догонят, — и пойдет у них возня да кутерьма! Бабка никогда не угомоняла их.
Помнил, как перед войной большим уже, лет восьми, копал вместе с ней картошку возле дома, и она не помогала ему, а по-бабьи подсмеивалась его неумелости.
— Эге, мужичок, да ты, никак, озимую картофь выводишь, — эн в земле-то оставил сколько!
— Не больно-то смейтесь, я еще и поболе вашего со своей делянки возьму. В два захода иду!
— Ну-ну, поглядим.
Они весело соревновались, и она не щадила его, он это видел — вся выкладывалась, и он гнал, гнал изо всех ребячьих сил. И мечтал, что когда-нибудь станет ловчее ее.
Еще осталось в памяти, как ее посылали в Архангельск, на курсы медсестер. Не больно то хотела:
— Я в поле работник.
— Изработаешься, — говорила бабка. — А это и в старости хлеб. Коль уж не хочешь мое-то перенять.
— За вашу науку, поди-ка, горенкой да окошком в решеточку пожалуют.
— Болтай, болтай, языкастая!
Бабка морщила маленький нос, уходила за переборку. У нее были поперечные складки на носу, повыше ноздрей, и когда они напрягались, значило — сердится. Сердилась всегда за одно — за непочтительность к ее странному и опасному дару.
— Мама, мама, что вы, я ведь плохого-то в голове не держала! Выучусь, глядишь, и вместе врачевать начнем.
— Ладно, Ладно. Загад не бывает богат. А ты езжай легко, — может, и судьбу найдешь.
— Нет уж, моя найдена, — вздыхала мать.
— «Найдена»! — ворчала бабка. — Под забором валяется.
Юрка знал, о чем они. Судьба — это муж, новая семья. Он не желал ей судьбы. А «под забором» — и про это разумел. Жил в городе некто Матвей Иваныч Симаков, мастером на фабричке работал, стайки чинил. Жил шумно, скандально, пил непросыпно. Спьяну жену и ребятишек загонял на чердак — и чтоб цыц там! Чтоб ихнего духу не слыхать! Потом шел, волоча ноги, через город, большой, тяжелый, обрюзгший, шел к пригороду, к их деревеньке Крапивенке. Стучал у окна:
— Таня! Я это.
— Вижу, что не прынц, — резко отзывалась мать и отходила от окошка.
— Виниться пришел. Пусти, Татьяна. Словечко скажу.
— Наслушалась.
Он садился на бревна, сложенные под окном, закуривал, опустив хмельную голову.
А в маму точно бес вселялся — начинала мыть, чистить в избе, песни петь (ох, и голос у нее был — заслушаешься!). Воду выплескивала с крыльца возле гостя; а то возьмет косу, траву начнет подкашивать — так тоже под самым его носом. Сердитая, веселая.
— Ан пятку-то срежу, сторонись! — И улыбнется ярко, и вдруг погасит улыбку. Красивая. Ах, красивая!
Юрка не знал, а понимал свое и сам начинал озоровать: за петухом погонится, перо из хвоста выдернет; через плетень перескочит; молоко в кружку нальет, на крыльцо сядет — пьет, на Матвей Иваныча пялится.
— Чего глядишь, не признал? — спросит тот хрипло и еще ниже голову нагнет.
А Юрка молчит, свою силу чует. И все ему хочется спросить, не он ли трубку с живыми узорами подарил. Но не спрашивал. Почему-то знал: нельзя.
А как война началась, мама и вернуться из города не успела, прямо из Архангельска да на фронт.
Сколько прошло, чего натерпелась — разве узнаешь?
«…Принимайте, какая есть…»
— Когда приедет-то? — спросил Юрка, не оборачиваясь.
— Не пишет-от, — проскрипела бабка. — На станцию надобно ездить встречать. — И Юрка по голосу уловил, что она подымается.
— Полегчало, бабушк?
Она отозвалась чуть смущенно, но уже посмеиваясь над собой:
— Видать, что не померла. А то кто ж за Татьяной ходить будет?
Он обернулся, встретил ее ожившие глаза, и с души спало.
Юрке тогда показалось забавным (он думал об этом): нельзя помереть, потому что дело есть. Неотступное. Разве смерть спросит? Удивился и запомнил, чтобы много лет спустя вложить это чувство в душу старого солдата, потерявшего семью и дом. Точное — горькое и радостное — чувство: так это, так: если ты кому нужен, век твой еще не изжит. Если нужен кому.
Мать приехала на седьмой день. Седьмой раз Юрка добирался с попуткой до станции (станция была за двадцать километров). Приезжал заранее, стоял за закрытыми воротами (к платформе почему-то не пускали до прихода поезда) — смотрел, пытался узнать. Рядом выли женщины, встречая запоздалых фронтовиков. Другие стояли, окаменело сомкнув челюсти: ждали судьбы. Теснились ребятишки, неловко приспосабливаясь поиграть: толкали друг друга локтями, брыкали обутыми ногами, тихонько хихикали. Маленькие еще, не знали, не помнили тех, кого должны были обрадовать, удивить, накрепко прибить к дому.
Но вот издали становился слышен паровоз, в рядах за воротами начиналось движение. Давали стукушки малышам, прикладывали концы платков к намокшим глазам: молодые выпрямлялись, прихорашивались, лица делались суше, строже. И вот поезд останавливался. Медленно, бесконечно медленно открывались двери, спускались ступеньки. Еще медленней не сходили — сползали, вываливались мужики, кто с костылем, кто в бинтах еще. Они сперва махали кому-то там, в вагонах, прощались со своим, привычным, а потом уже оглядывали пустую платформу.
Тут отворялись ворота, и блеклая, но рядом с ними всё же пестрая толпа, неистово голося, бросалась к ним, окружала, оглушала… Тут и поцелуи, и слезы, и поднятые над головой малыши…
А однажды на платформе остался безногий. Юрка видел, как его высадили дружки, сунули раскуренную цигарку, похлопали по плечам и потом поскакали в вагон, когда поезд уже дернуло. Человек остался на асфальте, так близко к этому асфальту, что потрогал руками. Он озирался вроде бы независимо. Он не видел (а Юрка видел, ясней ясного видел!), как стоявшая за воротами женщина скорбно и холодно поджала губы. Она туго затянула черный платок под острым подбородком, на смуглые натянутые скулы пятнами вышел румянец. Женщина подхватила на руки меньшого пацана, а двум другим, постарше, сказала твердо:
— Не приехал папка, — и двинулась прочь. Прочь, прочь, сперва шла, потом побежала, и дети поспевали за ней.
Жестокая или — ради детей? Не прокормит одна четверых. А может, и из стариков кто на печи лежит, руку за хлебом тянет? В эти голодные годы. В эти лихие… И вдруг обернулась, поставила малыша и — бегом, бегом назад, с криком, с воем. Кинулась наземь перед калекой: «Милый ты мой! Жаленный..!»
Юрка отвернулся, и пошел к шоссейке, и сбился с дороги.
Но с того дня, стоя у ворот, встряхивал головой, чтоб не думать: вдруг и мама такая же приедет — руками об асфальт? Как тогда? Подбежать? Поднять на руки? Что говорить? Ведь он не сможет, как та баба: «Жаленный…» И потом — он отвык от нее. Вдруг не узнает…
Юрка ждал у ворот.
Слезали проворно чужие какие-то женщины — кто с багажом, кто налегке (инспектора ли какие, гости, может, за семь верст киселя хлебать пожаловали). А мамы не было. Первые дни волновался, потом поостыл: будь как будет.
Но вот на седьмой день, как всегда, остановился поезд, открыли ворота, Юрка ринулся вместо со всеми. И сразу почти налетел на нее. Она уже успела сойти и стояла, опираясь на палку, рядом с чемоданом. Она была в аккуратной шинельке, стриженые волосы, наполовину седые, качались на ветру. Только лицо резкое, острое, чужое.
— Мама! — позвал он тихо, и она в этом шуме услышала, обернулась, обняла. Он стал выше.
От нее пахло резко — лекарствами — и приторно — болезнью. Юрка боялся разомкнуть руки — тогда ведь надо говорить. Это была чужая женщина, совсем чужая, и в нем не дрогнуло ничего. Да и она не заплакала, не улыбнулась, точно застыла вся.
Потом опустила руки, отстранила Юрку, оглядела:
— Большой совсем. И я-то уж тебе ни к чему. Как мама?
— Получше. Вас вот ждет, переполошилась вся.
И он поднял чемодан, а она, держась за его плечо и опираясь на палку, захромала рядом.
— В ногу ранение?
— В ногу. Чуть не отрезали. Загноилась рана. Много чего было.
Она говорила нехотя, без тепла. Она была еще не тут.
Доковыляли до дороги, Юрка поднял руку, и первая же машина остановилась. Он был так рад, что старый шофер подтянул маму в кабину, усадил.
— А мой вот сынок не вернулся.
— Может, тоже где в госпитале, — впервые светло поглядела мама. — Много, ох, много еще кто мучается.
Юрка закинул в кузов чемодан, взобрался сам, и поехали. А он думал о том, о безногом. И о маме. И о другом каком-то солдате, незнакомом, который идет к себе домой через чужие земли.
Шел солдат через чужие земли к себе домой. А дома у него нет. Все погибли родные. И для себя ему жить — тяжело с собой. И рана болит. А для кого ему жить, не помереть, — так и не для кого.
Машина бежала по дороге через картофельные поля, кругом широко стояло небо, а тоска держала сердце, затмевала все, не давала видеть красоту. Вот горя сколько вокруг, а как помочь? Что сделать для этой бабы, которая ушла было от беды, а потом рванулась к ней, не пожалев себя, детишек, горе другого человека, который, может, пил да поколачивал ее, поставила выше своего… Что сделать для этого шофера, для мамы…
— Слезай, сынок, приехали!
Юрка отер глаза, выпрыгнул, держа в руке чемодан. Грузовик стоял возле их дома. А на крылечке, теребя беленький накрахмаленный (выходной) платок, теплилась, как свеча, колыхалась, тянулась им навстречу бабушка.
Юрка с шофером на руках вынесли маму из кабины.
Бабушка мелко засеменила по ступенькам, причитая; странные были и такие не похожие на нее слова, и она была точно бы другая…
— Красавица наша… звездочка… зоренька теплая…
Они обнялись и заплакали обе, а старик стоял возле своей машины, и глядел на них, и тоже плакал. И Юрка просил кого-то, — может, судьбу: пусть вернется его сын, какой-никакой, пусть вернется! Пусть та женщина в черном платке не загинет в нищете и горе, пусть воздастся ей за доброту, которая победила все же!
Юрка тряхнул головой, взбежал по ступенькам (мама с бабушкой уже были в горнице), потом вернулся к шоферу:
— Пойдемте к нам. Ладно? Как вроде к себе. Пойдемте.
И вошли вместе.
Да она не так уж и изменилась-то, мама!
Да она и смеяться-то может!
И голос-то у нее хорош, и зубы белы.
— Мы с бабушкой, мам, об вас заботиться будем. Верно, бабушка?
— А как же, а как же!
В комнату через окна и дверь заглядывали соседки.
Уже целый год Виталий не ходил в школу.
— Ну и как? Нравится? — допытывал Юрка.
— Еще два года — и техник-лесовод.
…мерная вилка…
…гониометр…
…буссоль…
— Интересно?
— …Экономика лесного хозяйства, лесоводство… Да, очень. Это вообще, Юрка, все здорово.
— Что именно?
К тому времени они привыкли видеться часто. Но всегда — по случайному совпадению путей, без сговора. Дружба шла к ним на ощупь.
На этот раз вело их в лес, коричневый, уже почти облетевший, но еще теплый, сухой. Постояли возле дуба, с которого когда-то Виталий прыгал.
— Гляди, зеленый еще, — подивился Юрка.
— А знаешь почему?
— Ну?
— Из-за листьев. Так они устроены, что слабо испаряют воду, слабее, чем у других деревьев. А значит, и питательные соки поступают медленнее. И поэтому все в дубе замедленно — и рост (ведь дуб растет дольше всех), и весной-то он никак листья не развернет, и осенью никак их не скинет.
— Как я! — засмеялся Юрка.
— Ты все к себе примеряешь?
— Нет, Виталий, точно, я туговатый какой-то. Во что упрусь… клещами тащи! Вот что мне эта живопись, а? Я режиссером буду. В кино. А начал — и не оторвусь. Сколько красок извел. Но все же вышло кое-что. Вот с той осы начало получаться. Я, знаешь, чудную штуку заметил. Сказать?
— Давай.
— Только не смейся. Ты мне везение приневолил.
Виталий промолчал неловко и счастливо. Не мог, никогда не мог он уловить Юркиных ходов.
Юрка тоже чуть смутился. Поднял с земли лист того самого дуба. На гладкой его поверхности красовался орешек, похожий на подрумяненное яблочко.
— А про это знаешь? — спросил Юрка.
— Знаю.
— Ну?
— Орехотворки.
— Кто-кто?
— Есть такие насекомые — орехотворки. Они откладывают в листья свои яички, и получаются вот эти орешки — галлы называются.
— Откуда знаешь? — жадно и завистливо выкрикнул Юрка, и подвижная ноздря его вздернулась. — Откуда?
Виталий пожал плечами, будто оправдывался.
— Прочитал, Юр. Раз уж взялся за это… У меня память хорошая. — И вдруг добавил несуразно: — Хочешь, бери книги. От отца библиотека осталась знаешь какая!
Почему-то сказал «осталась», будто отец умер.
И сам испугался. И замер весь. И не хотел, чтобы Юрка спрашивал. Тот не спросил. Молчал, молчал. Потом заговорил о другом:
— А ты не соврал, что тебе там нравится, в твоем лесном?
— Разве не интересно?
— Не в том дело. Ты как-то сказал эдак: «Раз уж взялся», будто сам себя приневолил.
Виталий ловил живой интерес к себе, и оторопь понемногу отходила.
— Я, Юрк, и правда приневолил. Сумею ли только объяснить… Интересно — во как! Нравится. А — не мое.
— Как это?
— Ну, будто живу в чужом доме. Хороший дом, теплый, а не мой.
— Как же понять-то?
— Мне, Юр, чего-то побольше этого хочется. Пошире. К примеру, я знаю, как измерить возраст молодой сосны — по мутовкам.
— По чему?
— Ну, ветки у сосны расположены по бокам ствола, кольцами — мутовками. Каждый год появляется новый круг — новая мутовка ветвей. Вот и считай. Просто. А почему у той же сосны между опылением и созреванием семян проходит почти два года? Пыльца сосны отлично приспособлена для полета — у каждой пылинки по два воздушных пузырька. На семяпочку она попадает запросто, ведь — сам знаешь — сосны голосемянные. А потом зреет, зреет: лето, осень, зиму, и к следующему лету наконец трубка пылинки достигает яйцеклетки. Шишка растет, а семена будут не осенью, а пролежат всю зиму, до апреля. Почему так устроено? Чтобы не было много сосен? Но чем сосна хуже ольхи, которой на все это хватает года?
Или зачем цветет ранней весной фиалка, когда еще нет насекомых и некому опылить цветы? Ведь эта фиалка — ее зовут «удивительная» — пустоцвет. А размножается она совсем иначе, без участия цветка.
— Может, для красоты? — неуверенно сказал Юрка. И Виталий кивнул ему:
— Вот-вот. Загадка. А заниматься я этим не буду — это ясно. Будет не до того. Нам уже объяснили насчет практической работы и трудностей.
Виталий сам себе не говорил этого. И теперь, вложив неясное ощущение в слова, заволновался. Как быть?
Юрка долго молчал, прикидывал. И мягко не то утвердил, не то попросил:
— Знаешь что? Мы вместе сделаем фильм. Такой… Ну… Чтоб как все равно утки по небу тянут. Высоко и грустно… Не очень такой сказанный.
Было ясно — Юрка щедро предлагает свое: возьми, может, подойдет?
И Виталий засмеялся с облегчением:
— Непонятный?
— Понятный, понятный, у кого есть чем понять. Не одна ведь башка нужна, а еще что-то, верно?..
Иногда они вместе ходили в кино. Шли порознь, а после фильма прибивались друг к другу.
— Я бы не так, — часто говорил Юрка. — Не так бы совсем. — А как — и сам не знал.
Однажды поточней выразил недовольство:
— Очень уж все рассчитано! Знаешь, как избу строят: это бревно, потолще, — сюда, это — сюда… И то другой раз коня на крыше вырежут. Без надобы вырежут. А тут — все в дело пошло. Дощечки лишней не осталось. А ведь фильм — он вот сюда, в душу, запасть должен. Чтоб на нем свое думалось, нарастало. Значит, не надо всё-то уж до нутра обнажать. Оставь себе. Себе и мне. Верно? — И вдруг добавил тихо: — А у меня мать вернулась. Сколько времени по госпиталям провалялась после войны. И никак теперь места не найдет. Все мечется, все мечется. — И еще тише: — А я в шоферы иду. Зовет один себе в подмогу. У него сына на фронте убили. Он днем будет работать, я — вечером.
Впервые Виталий слышал от Юрки обычную, бытовую речь. И вдруг понял: Юрка-то совсем взрослый! И позавидовал, как тот легко сказал о том, что болело. А он бы, Виталий, не смог. Нет, не смог бы.
Именно тогда Виталий завел толстую тетрадь, не зная, что она захочет сопутствовать ему все годы. (Впрочем, — вы не замечали? — так часто бывает со спутниками: только приобрети их, а там уж…)
22 октября.
А может — у меня невыраженные склонности? Может, я просто — трава, которая должна отдать стебель и корни? Но зачем тогда я так остро помню? Зачем тогда бродит внутри, если — трава?
Отец бы… Что я сказал сегодня! Если бабушка Устинья лечит словом, то, значит, словом и убить можно. Папка! Я верю, что ты жив. Я буду повторять это, пока не вернешься.
От этих лет еще остался случай, одной ниточкой спутавший сразу несколько жизненно значимых для Виталия людей. Ниточка была тончайшая, легко было потом порвать, но, как на случайной любительской фотографии, все остались запечатленными.
Давно, когда Лида Счастьева только еще вернулась в Крапивин, вместе с ней тогда приехало двое военных. Они почтительно носили Лидиной матери воду от реки, перекололи все дрова и сложили возле дома душистыми штабелями.
Эти двое привезли в зеленом с крапинами «виллисе» отличную вещь — велосипед. Виталий видел темно-бежевую раму и крылья, когда его выгружали, и этот благородной формы руль, и блестящие перекрещивающиеся спицы. Шины были широкие, красные… Трофейный.
Должен был приехать один из этих военных и забрать его (об этом знали все мальчишки), а потом не приехал. И уже несколько лет спустя написал, чтоб машину, если она сохранилась, продали, а деньги переслали. Парень строил дом и нуждался в деньгах. Это Виталий услыхал от самой Лидиной матери — она клеила на фонарном столбе объявленьице и всем подходившим поясняла:
— Продайте, пишет, Прасковья Андреева, а деньги перешлите. Деньги нужны. И за сколько — назначил. Я не от себя беру: вот письмо, в нем и сумма означена.
Пока у машины был хозяин, это был запретный плод. Чужая вещь. Кому-то повезло. Теперь этот красавец ничей. У кого найдется свободная тысяча рублей, тот и поведет его за блестящие пригнутые рога, на зависть всем прочим. Тот и разбежится по булыжной мостовой, поставив одну ногу на педаль, а другую занеся над новеньким коричневым седлом. Ррраз! И ты уже в седле, и мелькают перед глазами дома, домишки, парк… И головы прохожих поворачиваются вслед, потому что ни у кого в городе нет велосипеда. Тем более — такого.
И всего только тысяча рублей!
Они жили впроголодь.
Мать устроилась все же в школу учительницей литературы, но уроков было не много, да и те пропускала — часто болела. О покупке Виталий не думал даже. О чем тут думать? Но оторваться от объявления на столбе было невозможно. Рядом слышалось тяжелое дыхание ребят, подходили все новые и новые, а отходить никто не отходил. Тут же был и Юрка Буров — Виталий видел не глядя.
— Дьявол! — сказал Юрка азартно и сплюнул. — Вот дьявол!..
На столб упала тень — подошел кто-то высокий. Виталий оглянулся — тот взрослый парень, что когда-то был возле Лиды, у костра. И вдруг осенило: может купить взрослый! Даже пожилой… Ну конечно же, такой и купит. Кто тут побогаче? Степанов, к примеру, сосед, он все в командировки ездит, одет в габардиновое пальто (это он в очереди такой разговор слыхал, сам в габардинах не больно разбирался), или тетка Анюта со своим сыночком, со своим Ленечкой, который, получив от Лиды отказ, вывернул полушубок и пошел по улицам девок пугать. Дурак-то дурак, а насчет велосипеда сообразит, ума хватит. И денег хватит: продадут свинью, кур — у них вон какое хозяйство!
Бежевый красавец, тряхнув рогами, уходил к Ленечке, только след его широких шин на песке…
Пусть бы никто не купил, пусть бы никто… Так ведь купят же!
Виталий выбрался из толпы и пошел домой. Надежды не было, но он отчего-то поспешал, даже спотыкался на ходу. Мама за обеденным столом проверяла школьные тетрадки. Из двери был виден затылок с туго заколотым большущим седовато-рыжим пучком. Сама она как-то пропала внешне, а волосы все еще были хороши.
Мама обернулась. У нее были для Виталия особые глаза — не просто ласковые, а виноватые, что ли. С ребятами в школе она была строга, а сына почему-то жалела, — может, потому, что детство его потеснила война, а она, мать, не умела оградить от забот, от голода, от раннего взросления.
— Что случилось? — сразу спросила она.
— Ничего.
— Говори правду. Я же вижу.
— Да правда ничего.
— В техникуме?
Она уже всерьез тревожилась. Он хотел засмеяться, но губы от напряжения не растянулись. Мама поднялась, шагнула и обняла вдруг, чего обычно не делала. И тут его нервишки сдали, и, давясь словами, не умея одолеть дрожи, он выговорил то, о чем говорить не собирался, о чем говорить было стыдно и бессмысленно:
— У Счастьевых продается велосипед.
— Тот? — быстро спросила мама и точно поперхнулась.
— Тот, тот… За тыщу рублей. Лучше бы он увез его, этот лейтенант… — И, точно эхо, повторил за Юркой: — Дьявол! Вот дьявол, дьявол!
— Мы купим, — вдруг испуганно сказала мама.
— Что?
— Мы купим. Я обещала продать папины книги Иннокентию Петровичу… А мы перебьемся, да? Переголодаем, верно?
Такого вапора счастья, благодарности, азарта он не знал никогда. Ни раньше, ни потом. Он бежал по улице, боясь, что опередят (за деньгами маме еще надо было пойти, и она сразу же накинула пальто, заторопилась). Он будет отдавать ей весь хлеб, он пойдет вскапывать чужие приречные делянки (одна старуха уже намекала ему, но ни она, ни он не решились говорить об условиях), он наймется на летний лесосплав…
В дом Счастьевых Виталий влетел не постучавшись, как в магазин.
— Ты что, ты что, парень? — заворчала Прасковья Андреевна.
А Лида оторвалась от какого-то конспекта и посмотрела живо и приветливо. Но он едва кивнул ей от волнения.
— П… Прасковья Андреевна, мы покупаем велосипед. Мама сейчас деньги принесет.
— Учительница, что ли? — удивилась Счастьева.
— Ага.
— Да откуда у ней?
— В огороде зарыты! — подмигнул Виталий. — Откопает и п…принесет.
— Ну, ну, это, конечно, не наше дело, были бы деньги, — не приняла шутки, но и не обиделась на нее хозяйка. — Да ты сядь, посиди.
Комната была большая, оклеенная голубыми обоями, вещи стояли немудреные, старые — стол, комод, швейная машинка, Лидина полка с книжками и тетрадками (куда-то, видно, поступила учиться). И кремовые, широкого плетения, прозрачные занавески — единственное вроде бы, что привезла молодая хозяйка из трофеев.
Велосипеда не было видно. Но он был здесь, в доме, и Виталий был здесь, и скоро, скоро, скоро!!!
За дверью завозились. Виталий привстал, сел, снова привстал: сейчас войдет мама! А вошла тетка Анюта со своим Ленечкой. Она поклонилась широко.
— Здравствуйте, хозяева. Вот пришли машину посмотреть. Мой душу из меня вытряс. У него своих шестьсот рублей еще с армии на книжку отложено, а четыреста у меня просит, то есть взаймы. Я и говорю — деньги немалые, пойду погляжу на вещь.
Пока она говорила, Ленечка осматривал комнату, ища глазами велосипед, переступал с ноги на ногу — тоже не терпелось!
— Во, еще покупатели! — удивилась хозяйка. — А я как прочла письмо — ну, думаю, кто за такие деньги купит. Велосипед ее корова. Ты, Анюта, ее подумай, что я наживаюсь, — вот письмо-то его, вот, гляди.
И, к ужасу Виталия, она вынула из комода письмо и стала его разворачивать перед теткой Анютой, как перед покупателем. Будто его, Виталия, и не было никогда.
— Да ладно, Прасковья Андреевна, — пробурчал Ленечка. И рука его полезла в боковой карман. — Вот деньги. У матери остальные.
— Нет, Левонид, я поглядеть, поглядеть машину должна! — закричала тетка Анюта. — И зря ты, Прасковья, говоришь, велосипед очень даже хорош в хозяйстве — и сено возить, и картошку.
Ленечка не выдержал, хмыкнул:
— Ты, что ли, возить станешь?
— А коли так, я и денег не дам. Коли отказуешься.
— Не отказуюсь, не отказуюсь, — брехливо заверил Ленечка.
Да неужели тетка Анюта не видит, что он врет? «Он не будет возить!» — хотел крикнуть Виталий. А еще он хотел крикнуть: «Я же первый пришел. Разве так поступают?»
Но Прасковья Андреевна уже открыла дверь в соседнюю комнату, и новенький, блестящий велосипед засиял во всей красе. Его берегли здесь, ни разу на улицу не вывезли, от пыли обчищать не забывали: вещь дорогая, вещь чужая. И опять же — красивая.
— Хорош! — ахнула тетка Анюта. — Что хорош, то хорош. И деньги, скажу тебе, он не такие уж заламывает. Нам-то дорого, но машина стоит. Стоит того.
Она бы, конечно, поторговалась, но ведь сама прочитала: «Продайте, — написано, — за тысячу рублен». Как же Прасковья уступит, своими, что ли, будет доплачивать?
Виталий сидел, остолбенев.
Ленечка позвонил в звонок, надавил на шины, они продавились («Ничего, накачаем»), заглянул в багажную сумку, погладил седло. Хозяин. Хозяин.
— П…Прасковья Андреевна… — прошептал Виталий. — Прасковья Андреевна…
Женщина оглянулась.
— Да вот еще, Анюта, у меня тут купец сидит, — сказала она смущенно.
— Что ж — купец. А деньги-то принес?
— Мать его должна принесть. Ждет-от.
— Ну, смотри, Прасковья, коли обещала… Мы, конечно, жили без этой блажи и еще век проживем…
Она поджала губы, обиделась.
— Да чего там! — рявкнул Ленечка. — Чего там! Давай свою долю, мать, и делу конец. — И он снова засунул пальцы в боковой карман.
Тетка Анюта смотрела на хозяйку, та мялась, пожимала плечами:
— Уж и не знаю, как быть, право, не знаю.
— Прасковья Андреевна, мама же сказала. Неужели она обманет? Она никогда…
— Гляди, Паша, мы второй раз не придем.
— Уж и не знаю…
— Да чего тут знать? — спросила вдруг Лида. Все забыли о ней в азарте, а она ведь была тут.
— Отдавать, что ли? А, дочка? Деньги при них.
— Конечно, отдавай, — просто сказала Лида. — Кто первый пришел, тому и отдавай.
Бухнула дверь, затряслись стекла — ото выбежал Ленечка. За ним, поклонившись и не поднимая глаз, уплыла тетка Анюта. Виталий сидел на лавке, и зубы его стучали. Он еще не верил и уже беспокоился: а вдруг маме не дадут денег? Он подбежал к окошку, потом отошел, снова выглянул. И все не выпускал из виду велосипед, будто тот мог сгинуть.
Но он стоял, привалившись к комоду, велосипед с широкими шинами — ЕГО велосипед…
— Мам, налей-ка Виталию чаю. Да и мне тоже. И сама попей.
Виталий посмотрел на Лиду: она была не только красивая (сейчас, вблизи, правда, чуть похуже) — от нее еще исходила сила, снаружи спокойная, а внутри напряженная, сжатая пружиной. В маме этого не было вовсе. И ни в ком другом на всей его бедной и узкой земле. Может, только в Юрке. Но там этой силы был избыток, и она не была твоя. Юрка и сам не управлялся с нею.
За окном промелькнул мамин рыжий пучок. В ее стати, походке, в стуке каблуков по крыльцу было торжество. Лида отставила чашку, встала навстречу гостье. Виталий поднялся на непослушных ногах, шагнул к двери.
Утро следующего дня вступило в их дом рано и светло. Солнце только угадывалось за зеленой кривизной, но оно ослепило, еще во сне ослепило яркостью и огромностью радости. Виталий вскочил с постели, хорошо, всласть умылся под рукомойником. Руки дрожали от нетерпения. Мама еще спала, и, значит, можно не завтракать.
Они вышли вдвоем — Виталий и велосипед, вышли, сияя и позванивая всеми колоколами и колокольчиками, жившими в том и в другом. Они боялись разбудить город этим благовестом, но не было сил таиться!
И вот еще с вечера надутые шины коснулись булыжника мостовой и запружинили на камнях. Милый, тихий город Крапивин! Он спал, пока Виталий завоевывал его улицы, тупики, самые дальние уголочки, тропинки вдоль огородов и прохладные (просто холодные еще!) дорожки парка.
Орали птицы, лезла между булыжин ярко-зеленая трава, редкие прохожие вертели ему вслед головами, а некоторые замирали на месте. Было все так, как думалось, и еще больше, чем так, потому что нельзя ведь было предвидеть, как метнется от тебя соседская коза и как она остановится, полная достоинства, зажует и мемекнет. Или как тетки Анютин Ленечка, от которого Виталий шарахнулся не хуже козы, вдруг поманит пальцем и спросит, заискивая:
— А прокатиться дашь? Один кружочек.
И как он прокатится и бережно вернет машину, завистливо качая головой. Все — в радость, все — в дружбу, все — в доброту!
Виталий ждал, когда будет время махнуть к тому дому на сваях — чтоб там уже не спали и чтоб не надо было проноситься мимо окон несколько раз. Чтобы сразу Юрка на крыльце — и машина на двоих! Ух, жаль, что так у них не просто! А то бы он еще вчера…
Повыбежали знакомые ребята, бывшие соученики. Все прокатились по разочку. Даже и незнакомые катнулись. Разве жалко? Только бы не грохнули.
И вдруг какой-то парень перехватил машину и, странно хмыкнув, махнул Виталию рукой. Он поехал не как все, через парковую аллею, а по центральной улице, что вела вон из города.
— К… кто это? — спросил Виталий.
— Чей-то тут братишка. Он вроде бы в Мухановке живет, — ответил стоявший рядом парень и качнул головой неодобрительно. И для верности окликнул: — Ребя, чей это парень, что велосипед увел?
«Увел»! Значит, так и есть, увел. — Виталий сел на мостовую. — Увел!»
— А кто его знает?
— Я гляжу — чужой.
— Ходит он тут к одному, брат вроде.
— А к к… кому?
— Не знаю.
— Вот гад так гад!
Постепенно стали расходиться. Виталий все сидел. Он долго сидел, плохо соображая. Уже было за полдень, думать, что парень вернется, не приходилось. Возле топталось несколько ребят.
— Надо заявить в милицию, — сказал один из парней. — Вещь заметная, если будет заявлено, сразу отберут.
— Он продаст.
— И продать не дадут.
— Спрячет.
— Найдут.
— Пошли?!
— Пошли.
— Мы свидетели. Двинулись к милиции.
Потом Виталий остановился. Вещь дорогая, начнут копать, где взяли да на что купили… Мать книги отцовы продала. Книги у него ценные. Но ведь не в библиотеку пошли, не в букинистический магазин. Кто такой Иннокентий Петрович? Частное лицо. И дал он, конечно, дороже, чем цена проставлена… Спекуляция, значит…
Почему такое полезло в голову? Где она таилась, эта робость? Страх этот… Да Иннокентий этот — он известный скупщик, про него лучше не заикаться. Только маму подведешь! А как же тогда? Как маме-то сказать? Может, так: «Одолжил»…Да, пожалуй, так.
Мама, когда услыхала это «одолжил», ахнула, не поверила и горько расплакалась. Он бегал по городу, заглядывал в чужие дворы; он ходил за восемь километров в Мухановку. Нет. Сгинул.
Вот Юрке бы сказать. Но тот не попадался. И только дней через шесть постучал у дверей. Сам постучал — Виталий не поверил даже.
— Входи, Юр.
— Не, не. Ты вот чего — спроси у Елены-то Петровны, не даст ли мне учебник на вечерок: свой потерял где-то.
— Войди, сам и спросишь.
— Неловко мне. Я тут постою.
Виталий бросился в комнату, счастливый подарком: сам Юрка Буров пришел (будто уж не у кого было взять учебника, как только у учительницы), а вернулся к пустому крыльцу. Да нет, не к пустому: привалясь к завалинке, чуть видный в темноте, стоял, живой, еще теплый с дороги велосипед!
— Мама! Юрка нашел его! Мама!
Это был маленький подвиг во имя дружбы.
Часть II. Серым по серому
Гл. V. Учёба
Юра Буров ходил по московским улицам: одни из них — любимые, на других — табу, запрет. Город он знает дотошно, как это и положено провинциалу. Москва для него как чужой язык для хорошо обученного иностранца — с суффиксами и окончаниями, фонетикой, синтаксисом, с центром и пригородами. Юрка всегда дает отличные справки прохожим. Он, к примеру, знает: если идти по Пятницкой к центру, то окажешься возле дома № 40, где помещалась фирма «Глориа» — та самая, в которой бесславно начинал свою деятельность блистательный кинорежиссер Протазанов. Дальше пойдет такое странного названия место — Балчуг. Направо набережная. Не свернешь — еще одна набережная, Раушские улицы — от немецкого, вероятно, слова «rauschen» — шуметь, журчать. Нет, он не турист, не заглядывает в справочники, просто строит догадки. Ведь по Яузе плавал Потешный флот Петра Первого, и улица сохранилась — Потешная. И кладбище строителей-немцев Немецкое — вот потому же и Раушские переулки. История.
Хождение по городу теперь уже не было ознакомлением. Скорее — закреплением пройденного. Юрка бывал здесь и прежде: сперва заочно учился в педвузе. (Смешно: он должен был стать учителем черчения и рисования, как в его время Вошка — отец Кости Панина.) Даже намечтал, как сломит школьную инерцию, сделает эстетическое воспитание главным, как будут слушать его и волноваться, отвечая. Это ведь можно запросто: тут многое от преподавателя зависит!
Не стал он учителем. Еще в вузе понял: нет. К тому же из Крапивина уехала Лида, а ее присутствие весьма подогревало Юркины просветительские мечты.
Еще тогда, приезжая на экзаменационные сессии, Юрка услышал о курсах для «бывалых». А он к тому времени уже кое-что повидал: и шоферил в леспромхозе, и там же вместе с вербовочными работал на лесоповале, — сколько пьяных исповедей слышал, дружб и драк повидал (да и сам, пока утверждался, попадал в переплеты: ему же верховодить надо было, без этого ему не жизнь!).
И вот теперь Москва. Сперва до отчаяния доходил: уставал от шума, от скоростей, нечем было дышать, не за что глазу зацепиться (ведь и глаз привыкает к пейзажу с деревьями, к деревянной, низкоэтажной архитектуре, к просторному обзору).
Потом увидел в музее картины, часть из которых знал по репродукциям — малым открыткам в альбомах Виталия, — и остановился от счастливого толчка в груди.
Увидел Соборную площадь Кремля, плывущие в светящемся полумраке кресты над царицыными палатами.
Пропитался наполненной тишиной читальни, где прочитанная книга только разжигает жадность. И — был покорен.
Нет, столица не только шум и суета, врете вы, приезжие!
Постепенно город вошел в глаза и сердце полюбившимися улицами, домами, привязал дружбами, щемящей памятью встреч и утрат. Есть такая изогнутая улица Димитрова. Она уже много-много лет — табу. Вот что случилось с Буровым здесь.
В первую же свою столичную весну забрел на эту улицу просто так, из любопытства, забрел, потому что жил рядом. А вернее, как говорят, нелегкая занесла. Будто поманило что. И вдруг заволновался. Вошел, огляделся: ничего.
А уж навстречу, гордо откинув голову и победно стуча каблуками, шла больная его память, тоска его и горе, шла та, ради которой каждую ночь возвращался мысленно в Крапивин-Северный, ради которой столько раз бегал на вокзал читать таблички на вагонах: «Москва — Архангельск»: к их общим родным местам пойдут…
— Лида! — позвал Юрка.
Она не услышала. Но это была она. Нет других таких глаз с голубыми белками, ни у кого нет такой величественной походки и всей этой стати королевы, которую лишили престола.
В одной руке женщина несла портфель, в другой — набитую продуктами авоську.
— Разрешите помочь!
Оглянулась. Осветилась улыбкой. Он забыл, какие у нее белые неровные чесночники зубов. Забыл ее манеру в разговоре еще больше запрокидывать голову.
— Как ты попал сюда?
— Я учусь в Москве.
— А сюда, в этот переулок?
— Нет, Лида, не через адресный стол. Это случайность. Чистейшая.
Она серьезно кивнула. Он пошел рядом, взяв у нее сумку и портфель.
Он ведь повзрослел за это время, стал смелей. И, кроме того, они здесь свои, крапивинские — в чужом городе.
— Хочешь, я буду каждый день носить твои вещи? Хочешь — в зубах, а? Или могу облаивать всех, кто на тебя посмотрит!
Она погрустнела:
— Не хочу, Юра. И потом — на меня никто не смотрит. Здесь не Крапивин, и мне уже много лет.
— Но тот, кому надобно, смотрит? — Он все не решался на прямой вопрос. И ей, видно, не хотелось этого разговора.
— Заходи, если будет время. Звони.
Вытащила из портфеля ручку, вырвала листок из блокнота. Написала все про себя: телефон такой-то, адрес… И он написал о себе, подал. Но от этой её уклончивости (есть, стало быть, от чего уклоняться!) что-то у них сломалось. Теперь можно было просто спросить: «Ты у мужа живешь?» И она ответила, что да. Юрка не вполне расслышал, но боль, ослепившая так, что потемнела улица, боль эта дала понять: не ошибся.
— Ну, совет да любовь, как бабка моя сказывала.
— Спасибо. — И опять тряхнула головой, и светлые, ровно остриженные волосы колыхнулись не в лад (не в лад, не в лад).
— Может, украсть тебя? Увести? А? Ведь нет же тебе счастья — я вижу!
— Ты ошибаешься, Юра. Я люблю своего мужа.
Он много лет потом обходил эту улицу. Но она болела в нем, дергала, как нарыв.
Если на растопыренные средний и указательный пальцы левой руки наложить такие же пальцы правой, получается клетка, рамка. С ее помощью можно взять в кадр, как бы отделить на секунду от всеобщего движения самые разные куски жизни. Вот попробуйте. Юрке порой везло. Особенно в читальне, где, бывало, из глыбы тишины высечется смазливая и до последнего (нет, до предпоследнего) предела серьезная рожица, поведет черным оком… Или на лекции попадется вдруг затылок, рука, пишущая записку (при желании даже можно увидеть, кому и о чем, — рамка очень организует материал!), чей-то зевок в профиль (если в профиль, то ползевка?) и сияющий глаз преподавательницы (ах, эта попытка равновесия в интеллектуальной жизни: кому-то сиять, а кому-то зевать!), ее смуглая щека, короткий нос, чуть вывернутые губы.
— Вы увидите сегодня немые фильмы Протазанова. Помимо прочего обратите, пожалуйста, внимание, как Александр Яковлевич врезал надписи: на артикуляции, на открытом рте. Говорит человек два-три слова и — надпись. Режиссер как бы сблизил изображение и текст: здесь — подспудная потребность звука, который, как известно, не всеми мастерами кино был принят. И даже Чаплин…
Юрке немного стыдно за самодельную кинокамеру, но это ведь не от скуки. Нет, нет, ему интересно все, он хватает, пьет, поглощает! Немое? Да. Звуковое? Отлично. Цветное? Давайте сюда!
— Открой свою детскую тайну, Буров, — окликнул его как-то один из однокурсников — Виль Аушев (о нем еще будет речь). — Ты часто проглатываешь тех, кого слушаешь?
— Да, — без улыбки ответил Юрка и добавил помягче: — Иногда, правда, разжевываю. У меня исключительно крепкие зубы.
— Это важная деталь в нашем деле, — отшутился тот.
А читалка! (Вернее, кабинет кинорежиссуры на втором этаже ВГИКа!) Юрка почти по нюху забрел сюда (хорошо еще пропуск курсов захватил) — и просиживал все вечера до закрытия и все творческие дни!
Газетные вырезки, книги, журналы…
…Теория «киноглаза» Дзиги Вертова: жизнь, как она есть, «жизнь врасплох». (Что это? Киножурналистика? Или может дать что-то для художественного кино? О. Юрка тогда еще не видел фильмов, где вымысел могуче подкреплялся подлинными кинокадрами. Это предстояло.)
«…Я всегда старался заставить своих героев жить в новых, неожиданных измерениях реальной действительности…» Это — Феллини. Совсем другое представление о кино. Что это за «неожиданные измерения реальной действительности»? Интересно вот как! — но что это? Понятно, что именно это для него — искусство. А если не неожиданные измерения, тогда не искусство? А, дьявол! Поди разберись!
«…В искусстве жизнь должна быть соединена с фантазией, без этого я не мыслю творчества». Старый театральный режиссер Мильтинис будто вторит великому киномагу.
«…Что такое «доверие к действительности»? Вы поймете меня, если я скажу, что заснятие на пленку представления «Мнимого больного» не имеет никакой ценности, ни театральной, ни кинематографической, но если бы камера имела возможность запечатлеть последние минуты жизни Мольера (как известно, Мольер умер на сцене, во время представления «Мнимого больного»), то перед нами был бы поразительный фильм…». Это — Андре Базен. Он вроде ближе к Дзиге Вертову и отрицает обоих предыдущих. Все ищут, и все — разное. Где истина? Нет, не истина вообще (истина в искусстве — победа художника). Но для меня? По какой дороге мне? Лично мне?
И совсем странное, не до конца понятное, но вызывающее смутное чувство зависти: «Работа теперь совпадает со всей моей жизнью». Так сказал все тот же Федерико Феллини, сделав уже несколько своих удивительных фильмов.
Юрка бы, может, по молодости прошел мимо этих слов, но обжегся об уголья, тлевшие под ними.
С однокурсниками говорил мало. Писал свои первые учебные работы. Давно, в самом начале, было наивно намечтано съездить в Крапивин-Северный. С кинокамерой. Она-де пройдет по центру города — тихому, с картошкой и помидорами вдоль овражистых улиц; по бабкиному лицу, склоненному над самоваром, и — если удастся — за ворожбой (где и когда еще встретишь такое?!), по столичному автомобильному простору, и — снова Крапивин, дощатые тротуары, река, полная облаков, сосновый борок. (Теорию «киноглаза», как мы видим, стороной не обошел.) Юрке хотелось, если удастся, снять одну из старинных «вечерин» — северных посиделок, которые помнили и исполняли теперь только старухи, — но как! И какие лица! Таких в Москве днем с огнем не сыщешь. Юрка вообще ощутил здесь, что оторвись он, отрекись от своего Крапивина — и ему так же мало будет что сказать, как и большинству его однокурсников.
«Хочу, хочу знать не меньше ихнего, а черпать из своего. Они все больше из чужого, а у меня есть. Свое».
Но скоро понял, что до Крапивина и после курсов-то не добраться: кто доверит ему? Поверит вкусу, выбору, нужности материала? Кто оплатит?
«Так съезжу, в каникулы». (Юрка сперва крепко скучал по дому.)
А тем временем шла учеба. Режиссерская раскадровка по заданной теме; рецензия на показанный фильм; операторская экспликация… И каждый непременно должен отчитаться на занятиях. Только и гляди, как бы не попасть впросак. А вот, пожалуйста, задание: режиссерская разработка картины любого художника. Что взять? У Юрки никогда нет ничего готовенького. Но уж картина-то! Ведь он художник. А ему все сложно да тяжело. Помнится, Виталий рассказывал про дуб. Туговатый он. Вот-вот!
— Я по Брейгелю, — говорит один. Это все тот же Виль Аушев. Он не больно юн, руки его тонки, но тяжелы, будто устали, а голос уверенный, И кажется, что за словами — еще бог знает сколько всего и что человек недоговаривает, щадя ваше время.
— Питер Брейгель, «Безумная Грета», — говорит он и дальше читает:
Юрка съеживается: «Я не смогу так…» Грохот сапог, хотя ноги обуты в мягкое… «Или смогу? Хм, почему они всё Брейгеля берут или Босха? Открыли для себя? Полюбили? Или, может, мода?»
Когда высказываются, Юрка молчит.
— Буров Юра, ваше слово, — спрашивает педагог (он всех спрашивает).
— Нет пока слова. Если можно, повременю.
Гордость боится ушибов. А энергия, молодой напор требуют выхода. Только «выход» не должен никого насмешить.
Юрка идет в музей. Там интересно многое, но есть объект особого притяжения: полные света и ясных тонов залы Ван Гога, Матисса, Сезанна.
А вот картина, которая выставляется редко, Юрке просто повезло! — на ярком фоне травы и неба (трава без цветов, небо без облаков, все — без оттенков, как залито краской!) розовые неповоротливые, нелепые, похожие на улиток, вылезших из раковин, фигурки людей. А может, эти телесные глыбы — дельфины или саламандры? Нет, нет, — люди. И они в нескладности своей прекрасны, потому что необычны и потому что дело, в которое они погружены, тоже прекрасно и не каждодневно. «Музыка» называется эта картина, и существа эти, задумчивые, беспомощные в своей увлеченности и духовности, погружены в музыку.
Юрка шел домой и пел: «Музыка, му-узы-ка…» Вот про какую картину он будет… А потом только сообразил: должна же быть музыка. А какая? Стал слушать, благо консерватория рядом. Ужаснулся своей неосведомленности. Но потом вдруг понял: найдет. Нужное найдет и так.
Потому что то, что слышал, говорило ему отчетливым языком, минуя разум, — прямо из души в душу.
Однако читать работу пришлось прежде, чем была найдена музыкальная вещь.
Волновался, идя на занятие.
Слушали серьезно. Но — до предела. Зачем, зачем в конце работы он позволил себе наивно такое личное: «Звук рожка умолкает. Мелькание цветовых построений, как бы пришедших из абстрактного мира музыки, постепенно успокаивается, пропадает. И мы снова видим их. Беззащитных. Похожих на улиток, потерявших свой жесткий домик. Любой порыв ветра повалит их, любой оклик заставит болезненно вздрогнуть…»
— Что ж, по-вашему, искусство делает людей слабее? — спросил тот, кто читал про «Безумную Грету».
Юрка обернулся резко:
— Искусство?.. Что там — слабее! Да оно, как гром в поле, убивать должно!
— Убивает не гром, а молния.
— Все равно. И чтоб воздух сразу свеж, и зелень из земли перла, и…
— Это называется, Юра, «катарсис», очищение. Об этом уже несколько сотен лет назад…
Все уже имело, оказывается, свое название, все было замечено, на всем стояла печать слова… Он вечно ломился в открытые двери!
— А какую музыку вы бы взяли? — спросил преподаватель.
— Не нашел еще. Но я найду. Может быть, Прокофьев.
— Возьмите Малера, — посоветовал всё тот же Виль Аушев. Говорил он теперь очень серьезно и доброжелательно. Может, из-за внимания, с каким отнесся к Юркиной работе педагог: ведь все они немного лебезят перед отцами-наставниками, кто явно, кто по-умному. И это лебежение удивляло крайне: что же они, отцы эти, подадут, если тебе сам господь бог не подал? (Он был наивен, как видно из описания, этот Юрка Буров.)
Юрий давно и настороженно присматривался к Аушеву: не очень уже мальчик, с разболтанной походкой, будто усталыми кистями холеных рук, которые постоянно надо куда-нибудь положить — на стол, на ручку кресла, на диван, — иначе им утомительно. Человек с живыми, яркими глазами из-под беспорядочной поросли бровей. Юрка слышал много раз его уверенный голос через всю аудиторию:
— Уже было, старик! Бывало! Подумаешь, предел восторгов — актер перевоплотился! Вон американец Лон Чаней был неузнаваем в каждой роли — родная жена путала… а кто теперь его помнит?!
Или:
— Э, да ты читала Жоржа Садуля! Но зачем, дорогая? Может, ты вообще любишь авторов, у которых нет своих теорий?
Буров ощущал принадлежность этого человека к другой стае, робел, сталкиваясь с его эрудицией: боялся показаться простачком… Нет, разумеется, Юрка знал в себе силу, но не хотел, никак не хотел усомниться в ней. Потому и держался поодаль, хотя, если уж быть совсем честным, надо признаться: брал в библиотеке книги, о которых кричал Виль.
Однажды Виль Аушев сделал попытку разговориться с Буровым. После лекции довольно известного мастера кино, большого любителя киноанекдотов (и такие встречались, врать не будем), догнал Бурова у входной двери:
— Ну, что скажешь? Юрка пожал плечами.
— Ради этого ты ехал за сотни миль?
Такой разговор не устроил Юрку:
— Время мы теряем равно: ты — сорок пять минут и я — сорок пять. При чем здесь мили?
Аушев схватил его за рукав, и Юрка на миг ощутил влажную мягкость его ладони.
— Слушай, Михайло Василич!
Юрку передернуло. В устах Аушева даже от Ломоносова оставался главным образом его поход в лаптях.
— У меня другое имя.
— Знаю, знаю. А слышал? Есть предположение, что Ломоносов — сын Петра Первого. И рост, и стать, и Петр бывал у них, да и, придя в столицу, говорят, отец повел Михаилу прямо ко двору.
— Откуда взял?
— Не помню, читал где-то. А вообще-то я к тебе по делу.
— Давай тогда уважать друг друга. У меня есть имя. Юрий Буров.
— Вильям Аушев, — церемонно представился тот. — Воровская кличка — Блоха. — И оживился: — А что ты думаешь? Я, между прочим, и правда был вором. Сидел даже. В детской колонии.
Юрке хотелось сбить этот полусветский тон, что-то не устраивало его в бывшем воре. Или, может, похвальба по этому поводу. А еще верней — первое обращение. Он уже начинал догадываться, что многие здесь не умеют построить свою оценку явлений и людей и потому все, с чем сталкиваются, поселяют в готовые домики. «Михаила Ломоносов — гений из народа», «чеховский герой — нытик-интеллигент», «хемингуэевский диалог — подтекст больше текста»… Юрка разжигал свой протест, кипел внутри: читают, чтоб потом ничему не удивляться; чем больше прочитал, тем больше готово домиков — втискивай, вталкивай и них. Ну, а если не лезет? Похоже, да не то?
В тот день разговор их на том и оборвался: кто-то окликнул Аушева, подошел, закрутилась другая тема, и Юрка поскорее распрощался.
Теперь, после обсуждения Юркиной работы (вполне, надо сказать, доброжелательного и заинтересованного), Виль подошел снова. Но на этот раз, как и в зале, на «вы».
— Хотите послушать Малера? А то я выкрикнул и не подумал, что у вас может его не быть.
— Спасибо. — Буров был рад. У него, разумеется, не было Малера.
— Тогда прошу вас ко мне. Я живу рядом.
— Хорошо. Только того… мы вроде бы говорили друг другу «ты».
— Разве? — притворно удивился Виль. — Ну, воля ваша. То есть твоя. Я — со всем уважением.
«Вот юла! — опять тайно раздражился Юрка. — Не можешь в простоте? Не хочешь? Тебе или повелевать надо, или лебезить, так, что ли?»
Они шли по улице, обсаженной молодыми липками, и у Юрки было ощущение неловкости, неловкости чисто внешней — от развинченной ли походки спутника, от своей ли угловатости рядом с обтекаемым изяществом Аушева. Говорил Виль:
— Главное — не повторять. Все должно быть ново, чисто, с иголочки. А как? Уже столько наснято, все вроде бы найдено-перенайдено.
— Так уж и все? — возразил Юрка. — Это вроде бы не задача: «ново». Что-то еще должно быть.
— Ты что ж, против эксперимента? «Не тужьтесь, мои дорогие, над формой, не напрягайтесь, как это было с одним известным режиссером, который…» — Он теперь ловко передразнивал недавнего лектора: — «Кино — это искусство, связанное с движением, кинетическое искусство, и потому всегда должно… всегда должно, должно…»
Юрка рассмеялся. Удивился: здорово вышло! Впервые за весь разговор что-то в душе помягчело.
— Нет, Виль, — досмеиваясь, сказал он, — я про другое. Ведь важно еще — о чем мы говорим, а не только как.
— А, форма и содержание?!
— Иди ты знаешь куда! Я говорю, что Достоевский, например, всерьёз изучал Фурье, а Феллини, говорят, интересовался метафизикой и оккультными науками…
— И нам, ты считаешь, тоже оккультными?
— Нет, я серьезно. Что-то же мы хотим сказать? Такое… что только мы… ну, что не может никто другой.
Аушев остановился, живые глаза его источали вроде бы даже восхищение.
— Вот я и говорю: ты — то самое. Я всем это говорю. Я ведь вижу. А они… — И махнул рукой.
Юрка не стал спрашивать, кто они и что говорят. Удивило другое: его непримечательная личность обсуждена, о ней даже спорят.
— Хм, смешно. Сидишь вроде тихо, никого не трогаешь…
— Ты, брат, сидишь с вызовом. Ты молчишь и таишь, это сразу видно.
— Что мне таить?!
— Есть, есть что. Я слышу твой бунт. И ты прав: пришел на курсы эти, пробился, а — не то. Верно? Все не по делу. Только вот что фильмы показывают.
— Да я, наоборот… Мне… Мне все это вот как нужно!
— Не спорь! Тут толковому человеку надо действовать самому.
Комната Вильяма. По стенам — стеллажи с книгами, из стеллажа выдвигается доска — получается стол. Еще место остается для тахты, покрытой чем-то клетчатым и пушистым, а на подоконнике два декоративных зверя — лев и обезьяна. Оба прямо-таки нездешней красоты.
Юрка огляделся и, кажется, позавидовал. Хотел бы? Да, да! И не только книги, но и зверей, и весь дух уединения и покоя. Хотя уже где-то подспудно знал, что ему этого не дано. Нет, достаток может быть, уединение тоже с грехом пополам, но вот это прекрасное сочетание: «…и покоя».
Пока хозяин ставил на выдвинутый стол кофейные стаканчики в деревянных подстаканниках и варил тут же, на крохотной плитке, кофе, гость ходил возле книг и вскоре уловил систему: все левое крыло было заставлено тщательно отобранными и, вероятно, читаемыми книжками большой литературы — от Данте, через Достоевского, Кафку, Фолкнера, до Андрея Платонова, Цветаевой, Пастернака, Рильке. Было тут множество сборников по фольклору и различных словарей — и словарь Даля, и философский, и дипломатический. По другой стене размещались книги, связанные с французской живописью. Дальше — кино. Вот он, знаменитый и ничуть не уважаемый Вилем Аушевым Жорж Садуль, а вот книги Эйзенштейна, Пудовкина, Кулешова… Да ведь это счастье — сидеть вот так не в читалке, а дома, на мягкой этой клетчатой тахте, и читать, потягивая кофе из кофейного стаканчика!
Юрка не жил в общежитии. Отправляя его в Москву, обе женщины долго совещались. Мама плакала:
— Теперь свидимся ли?
— Мам, ну чего вы? — неумело утешал Юрка. — Ведь уезжал уже, когда шоферил, так два года дома не был. И в Москве живал. А вернулся же.
— Что ты, сынок, равняешь? — вдруг с прямым, трезвым взглядом обернулась мать. — Была у тебя здесь приманка, теперь нету.
И Юрка понял, что его тайна не тайна для городка. И еще — что матери тяжко будет без него, что обидна его тяга не к дому, а к какой-то неизвестной Лиде. И что в самом деле не вернётся он в Крапивин-Северный: чем бы занялся он здесь, окончив режиссерские курсы? И уже потом, в дороге и в первые месяцы московской жизни, по-детски как-то мучился, вспоминая об этом прощании. Ему было жаль той красивой, озорной, белозубой, которая до войны таскала его за вихры. И эту — больную, прибитую, оглушенную войной — тоже было жаль, и хотелось поскорее не думать. Бабушка при сборах была деятельна, сложила в чемодан все сама, и все, надо сказать, нужное. И еще дала адрес:
— Поезжай к Дуне, сроднице нашей. А я буду что ни месяц посылки слать. Живи у Дуни.
Дуня старая, грузная. Она была рада: все одна да одна, а тут человек возле, и достаток появился — бабка не скупилась на варенье, грибы, вяленую рыбу, а как резали скотину, то и мясо присылала. Дуня была человеком великой доверчивости и вскоре оформила опекунство и прописала «своего крапивинского» к себе на площадь (и, надо сказать, ни разу о том не пожалела).
Юрка тогда не знал меры этой щедрости, не знал ей цены, но стараться для старухи старался, даже не зная. Уважительность к старшим (бабкина, верно, еще, от той, давней российской деревни) в нем была. Но как жалка, как духовно бедна была эта его комната, в которую вечно просачивались чад и брань из общей кухни и в которой, кроме приносимых Юркой из библиотеки книг, не было ни одной.
«Хочу как у Виля, — страстно возмечтал он. — И так будет».
Забегая вперед, скажу, что оно не стало так никогда. То есть пришел и достаток, и квартира, и даже плед на тахту был куплен примерно такой же (о сила первых впечатлений!), но ему и вправду ни капельки не было отпущено от того прекрасного сибаритства, которое разрешает, отстранив легким движением руки планы и дела, пить кофе, сухое вино, коньяк и читать, размышлять, погружаться в нирвану. Здесь должно быть нечто от усталости, подготовленной опытом ли предков, своим ли ранним опытом; должно быть нечто вбирательское и — да простит мне Виль Аушев и другие, которых я уважаю и ценю, — светское и антитворческое. Нет, никогда подземные толчки не дадут тебе, Юрка Буров, спокойно усидеть с чашечкой кофе в руках! Рывком поставишь ты ее на стол, облив полированное дерево, и побежишь по комнате, замечешься, как зверь, в капкане своих, своих дум, пошедших внезапно от столкновения с чужими (кто это будет — Томас Манн? Достоевский? Ван Гог?). И так — пока не выплеснешься весь. До конца. В том, где суждено тебе сказаться, — будь то кинокадр, а может, и полная лента (редкая удача!). Призвание, Юрка, носят, как горб, как недуг, это вовсе не радость и не счастье. Только ты пока не знаешь этого. Одержимость — вот во что оно выливается. А разве счастлив тот, кто одержим? Это другим он может нести очищение, высокую радость, даже исцеленье.
А может — все не так (я о Юрке). Может, я приписываю ему то, чего и нет вовсе. Может, просто захочет он такой вот квартиры, душевного покоя, достатка (даже не богатства, просто достатка) и заживет спокойно и безбольно. Тогда можно порадоваться за него. Тогда можно оплакать его. Я не знаю, что нужно человеку. Этого чаще всего не знает и он. Только дальние удары о берег тех волн, той стихии, которую обошел он (или к которой не дошел), только тупая, отраженная от этих ударов боль, да беспокойные просыпания по ночам, да ничем не объяснимое раздражение на все проявления гладкой, вроде бы благополучно текущей жизни — вот и все, пожалуй, тайные знаки, которые сложатся в понятие «но состоялось»: то, что должно было стать, — не стало.
Так можно ли радоваться, если захочется тебе уединения, и покоя, и чашки кофе над прекрасной книгой? Можно, можно, если это — ТВОЕ. Если это, именно это утолит тебя и обогреет. А если нет?
— Хватит мотаться по комнате, — позвал Виль. — Кофе стынет. А кофе должен быть или совсем холодным, или совсем горячим.
Юрка хмыкнул ему радушно, так, что дрогнула и ожила его рваная ноздря.
— Разбойный у тебя вид! — восхитился Виль. — Очень колоритный. Я весь обзавидовался.
— Рожа должна быть приманчива! — повторил себя Юрка и вспомнил крапивенский вечер, костер за рекой, запах вскопанной земли.
…Надо Виталия разыскать. А где? Может, адресный стол потревожить?
И вдруг вообразил встречу. И дрогнуло в душе. Да, это вам не Виль. При нем мысль бойчее ходит!
У Виля был еще коньяк. И персики. Он чистил персики серебряным десертным ножом — очень как-то вальяжно и матерьяльно (опять же на зависть!). Слушали симфонию Малера. Юрка понял: это прекрасно и, вероятно, — то, не мешало общество Виля, его редкие реплики (редкие, но Юрка ждал их, не был свободен). А еще у Виля было конкретное предложение:
— Слушай, давай вместе сделаем курсовую? Если вдвоем, вместо стометровки двести метров дают.
— Надо подумать, — ответил Юрка. Он уже к тому времени понял, что из простого брожения кинообъектива ничего не выйдет: нужен сюжет. Да и бродить этому объективу вдали от столицы никто не даст: нужно минимум затрат. И потом ему начинал нравиться этот Виль. Ничего парень, сойдет на новенького.
— Понимаешь, Юрь Матвеич, здесь в основе должен лежать анекдот. Завязка — кульминация — развязка.
Он был прав. Стали перебирать случаи.
— В наших краях такую байку рассказывают. Приехало в колхоз районное начальство для досмотра. Ну, председатель сразу водочки, закуски — и на лужок, на природу. Сидят. Только разговор пошел, а тут самолет-распылитель. Ну, знаешь, чуть не фанерная такая штуковина, поля химикалиями от вредителя посыпает. Летчик приспустился над пирушкой-то и позавидовал. Взял да и посыпал их. Всю снедь запорошил. Тут бухгалтер не выдержал (убыток какой — и зазря!), схватил бутылку — да в самолет! И вот ведь дело — попал! Да и пробил там что-то. Одним словом, падает самолет. Летчик, однако, жив остался. Ну, машина повреждена — суд. А по какой статье? Хулиганство? Так нет же — летел человек этот вот луг опрыскивать. Хотели бухгалтера за поломку ценного оборудования — дак что же он за снайпер такой, чтоб бутылкой прицельный огонь по самолету вести?! Так и замяли.
— А у меня есть приятель, актер, он женат. И у него завелась любовь. А жена, Нина, очень милая женщина, но ревнивая, выследила. Только он вошел в квартиру к своей возлюбленной, Нинка подбежала, позволила в дверь, а та и открыла. Нинка — представляешь? — ворвалась и видит своего дорогого.
«Костя! — кричит. — Костя! Как ты можешь?» — И плачет.
А тот и говорит:
«Простите, вы ошиблись, меня зовут Николай Степаныч. А это моя жена Лена».
Нинка выкатилась, в глазах темно, все лицо залито слезами. Приходит домой. Ее встречает муж:
«Ниночка, что с тобой? Где ты была? Я вернулся с репетиции голодный, вот яичницу пожарил…»
И действительно, на сковороде недоеденная яичница.
Так эта Нина сама мне рассказывала: «До сих пор, говорит, не знаю. Костя это был у той женщины или нет». Уж больно яичница ее убедила. Вот сила детали!
Еще такая история…
Но это все были байки не для кино. А между тем начал звонить телефон. Попеки сюжета стали перемежаться восклицаниями и приглашениями зайти. И вскоре в комнату набилось много разного, но чем-то очень похожего люда.
Это были ребята и девочки. Все больше в свитерах и джинсах, узконосых туфлях, в сильно выхваченных спереди вязанках — все в соответствии с последней модой тех, шестидесятых в самом начале годов.
Юрке аушевские гости показались ничего себе, потому что трёп их был жив и интересен, знали они много и ничуть не заносились перед ним.
— Познакомьтесь, будущие, — подвел его Виль к высоченному парню, совершенно, кажется, лишенному жировой прослойки. — Я, заметьте, употребляю слово «будущие» как существительное. Это Юра Буров, режиссер, а это Володя Заев, оператор. Я ставлю на вас обоих. И не промахнусь.
— Как на скачках! — хмыкнул Заев. Зубы у него оказались желтыми.
— А я? — спросила очень высокая и совсем коротко остриженная девушка в облегающих брючках. Она шагнула из толпы и так и осталась вне ее — со своими яркими, щедро подведенными глазами, со впалыми щеками (был пик моды на худобу), лицом, намазанным темным кремом, но, как видно, наскоро, так, что кожа на шее осталась белой и стык был хорошо заметен; со своей тоже щедрой и искренней, открыто-оживленной улыбкой. Девушка осталась вне толпы, и Юрка теперь видел ее, куда бы их ни прибивало людским перемежающимся потоком. Вот Катя (ее звали Катя) сидит на полу, болтает с каким-то типом, тоже плюхнувшимся на пол. Вот она достает из висящей через плечо сумки длинную сигарету и, поднося к ней зажигалку, вдруг быстро взглядывает на Юрку. Этот взгляд; тотчас решил бы их отношения, если б она не улыбнулась и не кивнула приятельски. Что она, дурочка, что ли? Так поглядеть, а потом кивнуть?! Юрка подошел к ней, взял за локоть:
— Ты рубаха-парень?
— Нет, я девочка-жизнь.
— Такое амплуа?
— Вроде. Потому что не ною.
Эта Катя была ненастоящая Катя, имя было уже задано пижонски. (Как вон тот удивительно элегантный, узколицый человек в куртке на блестящих пуговицах — Ваня. Какой это Ваня?!) Но Катя была красива во всем: длинные ноги, длинные пальцы, плосковатая (в соответствии с модой) стройность, широкогубый опрятный рот, в меру резкие черты лица, и эти глаза — они были открыто рады тебе и окружающему и сообщали свет всему сборищу. Юрка заметил, что к ней охотно подходили не только мужчины, но и кинодевочки. Они все были хорошо крашенные и шустрые. Просто диво, какие шустрые!
— Слушай, Катерина, — сказал Юрка, — снимись на сегодня со своего благородного поста.
— Какого?
— Ну, «светить и — никаких гвоздей».
— А… Охотно снимусь. А во имя чего?
— Я хочу тебя проводить.
Она улыбнулась все так же открыто и согласилась. Она была одного роста с Юркой. Они бежали вниз по ступеням, не дожидаясь лифта.
— Кэт? Кэти? — спрашивал он на бегу. — Ну, как тебя зовут друзья?
— Катька!
— Катька! А в тебе есть нечто.
— Что?
— Магнетизм. Притяжение. У тебя, должно быть, полно друзей, подруг, воздыхателей. Много людей. Верно?
— Ага.
— Не устаешь?
— Не-е!
— А у меня бабка колдунья.
— И ты научился?
— Не очень. Но тебя приколдую.
— Не зарекайся. Я бы сама рада, да вот…
— Это от затруднения в выборе. Приколдоваться — значит выбрать. А на тебя спрос велик, тебе трудно. Но я смогу. Пойдем пешком?
— Я на машине. Садись.
Это сбило: он не умел быть ведомым, везомым и так далее. А тут — поневоле.
Машина была старая, но внутри вся душистая, красиво обитые сиденья: женская машина.
— Отцова, — сказала она.
Ну, пусть так. Какая разница? Ехали, ехали, — весенняя листва, ее тени на асфальте и стеклах автомобиля, еще не поздние пешеходы и отчего-то — покой!
Стоп, стоп — кадр! Вот так продлись, мгновенье: ночная, ласковая, почти домашняя Москва в шорохе первых листьев; душистая полутьма машины; рядом, близко — фосфоресцирующие, как у кошки, обведенные черным глаза красивой молодой женщины.
А так хочешь, Юрка, чтобы твой автомобиль, в руках руль?.. А может, еще Париж, Елисейские поля? Какой-нибудь там Золотой Берег? А может, ритуальные пляски под звуки тамтамов, огонь костров выхватывает крылатые ветки пальм? Да, да. И если это возможно — твоя женщина в твоем триумфальном путешествии?
Хм! Еще бы! Хочу, конечно, хочу!
Как же насытить тебя, жажда жизни? Все хочешь?
Все!
Ладно, хватит кадров. Поехали!
Жила Катя в таком же примерно, как и Юрка, доме — старом, со многими жильцами в квартире. Через коридор прошли, как для обозрения. Кто-то из соседок даже лампочку дополнительную зажег, кто-то шепнул: «Новенький».
А вот комната ее была хороша — с картинами, афишами, аквариумом. Было здесь холостяцкое — разбросанные блузки, невытертая пыль, несложенный плед на обитом ярко-зеленым ситцем матраце. Но было и женственное: те же кофты — с кружевными воротничками и нежными бархатинками, был запах духов (тот же, что в машине), были корявые ветки яблони в хрустальной вазе. Это оказалось очень красиво — растопыренные сучки на ветках, сломленные внизу водой и хрусталем.
— Ты, надеюсь, не актриса?
— Надежды оправдались. Я — киновед.
— Зачем?
— Больно уж интересно! — искренне призналась она и рассмеялась. — А я про тебя слыхала. Я про тебя слышу постоянно. Ты обязан что-нибудь совершить.
— Попробую.
— Валяй. Рассказать про картины?
Она положила руку ему на плечо (совершенно мальчишеский жест, к его огорчению) и повела вдоль стен.
— Это молодой художник (называлось имя, Дима, например, и фамилия). Он не выставлялся, но, по-моему, из лучших сейчас. И вот он же ранний. Что больше нравится?
Юрка не пытался угадать, ЧТО нравится ей. Он был совершенно убежден: уж тут-то он понимает лучше.
— Вот что мне нравится.
Они стоили возле белого полотна, будто излучающего свет. Это было похоже на утренний воздух северного моря, подцвеченный ранним солнцем. И сквозь него — белый с темным глазком валун. Даже его очертания неточны, расплывчаты, как расплывчата бывает, нечетка ранняя утренняя радость, несущая в себе черты неявности.
— Хм! Белым по белому… — усмехнулся Юрка. — Хорошо.
Катя назвала имя художника. Потом усадила Юрку на ярко-зелёный матрац и сама села с другого краю.
— Жил-был могучий властелин, — начала она таинственно, как рассказывают детям. — И был у него художник. Он писал прекрасных женщин и далекие лиловые горы, которые все видели, но которых никто еще не достиг. Его полотна были ярки и дразнящи, и великий властелин подолгу любовался ими. Налюбовавшись картиной, он приказывал визирю заклеить ее белым полотном. И никто, кроме великого, не знал, что спрятано там, под этим бельмом! А художник писал свои картины. Но вот странно: все меньше красок становилось в них. А однажды он принес властелину белый холст, на котором едва проступал белый контур белого дерева. Властелин нахмурился и стал ждать новой картины. Но на ней еще меньше проступал контур, еще больше походила она на заклеенное полотно.
«Ты ослеп?» — закричал могучий.
«Нет, мой господин».
«Тогда, значит, ты издеваешься надо мной!»
«О нет, мой повелитель!» — И художник упал на колени.
Катя замолчала.
— Ну? — азартно спросил Юрка (и остался недоволен собой: прост! прост!)
— Нувобщемемуотрубилиголовунделосконцомдавайчайпить.
Юрка сам умел так разговаривать (прервать, своевольно переключить). Но когда другие…
— Ты чего насупился? — ластясь, спросила Катя. — Тебе скучно? Ну что, музыку? — На диске проигрывателя стояли фуги Баха. — Глен Гульд исполняет, хочешь? — Юрка не захотел. — Как тебя развлечь? Спеть? Станцевать? Ты мне ужасно нравишься.
Даже в признании сквозило превосходство.
— Если можно, я зайду в другой раз.
Юрка не рассчитывал, но ход оказался точным. Он ушел от нее утром. Да, это верно. Но лишь потому, что так вздумалось ей. Ушел со смутным ощущением проигрыша.
На другой день, выйдя после лекций на улицу, увидел её автомобиль. Катя выпрыгнула из машины, подбежала (красивая, красивая в этой своей энергической оживленности, в движении!). Юрка даже сам удивился тому, как обрадовался.
— Садись быстрей, поедем смотреть любительский фильм. Но это экстра-класс, не раздумывай!
Юрка собирался махнуть в читальню, но поскольку «экстра-класс»…
— Не сердишься на меня? — заглядывая снизу вверх ему в глаза, спросила Катя возле желтого светофора.
— За что?
— За вторжение?
— Вольному воля, спасенному рай! — хмыкнул Юрка. — Я не спасся.
— Если не понравится, ставлю коньяк.
Фильм не понравился. Ей, впрочем, тоже. Коньяк пили у нее.
— Ты прав, это скорее претенциозно, чем изысканно, — говорила Катя. — Не ожидала от Эдьки (так звали автора). Повторяет то, что уже было. А, впрочем, чего не было?
— Нас с тобой еще не было! — прогудел Юрка. — Но было нас, неповторимых.
Катя очень быстро и очень вкусно приготовила ужин, неслышно унесла посуду. Она была оживлена и празднична, она была переполнена всякими сведениями. Разговаривая с ним, она одновременно что-то вязала — что-то вроде кофты или джемпера. Нечто серое с красным.
— Хочешь — тебе?
— Что ты!
— А чего? Вот поглядишь, какой будет красотизм. Точено тебе. Зайдете за заказом через недельку.
— И не подумаю.
— Ну, все, все. Решено. Идея овладела массами.
Юрка не успел оглянуться, как за несколько недель был одет по новейшей моде, обласкан, окружен — нет, не просто вниманием, полной заботой, которая распространялась даже на вкусы и пристрастия.
— Это смешно, что ты согласился делать стометровку с Вилем. Он же импотент. Творческое ничто. Только слова говорить может.
— Иногда и слово есть дело.
— Ты, как всегда, прав, дорогой.
Она играла в согласие и покорность, изящно пародируя их. И Юрка понимал, что это ее максимум: покорства в ней заложено не было ни на грош.
Он купался в тепле их отношений, мягчел и оттаивал — и вдруг с удивлением обнаружил, как недоставало ему всю жизнь мягкости, ласки, даже доброты: ведь бабка суровая была, что ни говори. И своим занятая. Всё люди у нее, люди, а без них хозяйство, огород, корова, пчелы, печь с травами, сами травы — ведь их собери, высуши каждую по-своему, разложи. А мать как вернулась, недомогала, ходила, опираясь на палку, плакала, стучала палкой, осердясь, — не до сына ей было. И он уже вырос тогда и всем юношеским эгоизмом рвался жить: видеть, обонять, осязать жизнь, ждать, когда окажет она чудесное свое. Ждать, как ждал, бывало, прячась в кустах у гнезда, когда прилетит к уродышам птенцам, состоящим вроде бы из головы только и клюва, их красавица птица — мать. И как тайно вложит в клюв то одному, то другому копошащуюся мясистую добычу.
И вот теперь что-то возмещалось ему за суровое в детстве, давалось полной мерой.
— Ты доволен мной, о повелитель? — опять же шутливо спрашивала Катя, вставая на одно колено и молитвенно складывая руки. А ладошки узкие, а пальцы длинные, ногти холеные — коготки, покрытые перламутром.
— Да… ить… премного довольны.
— Что прикажешь рабе своей?
— Кваску бы испить.
— Сбегаем в кабачок? У меня десятка, а, Юр?
У нее частенько бывали деньги — она перепечатывала что-то на машинке, писала рецензии. И он, принимая, никогда не мог отдариться. А если не принимал, она смеялась:
— Жест имени Крапивина-Северного, да?
— Да, да, столичная штучка. У нас в провинции за мужчин не платят.
Легко, весело, как по-накатанному, бежали дни. Юрка заметил, что теперь менее охотно ходит на занятия. Сначала оправдывался: Катька, мол, набита всей этой теорией под самую завязочку. Но уж когда понял, что и он курсовой стометровке не думает, смутился. Не хотелось — и все. А хотелось читать о кино, говорить и спорить о кино, строить кинотеории, смотреть кинофильмы.
И вдруг догадался: хотелось быть киноведом, вот что!
Эта мысль пришла, когда слушали с Катей музыку, развалясь на ее широчайшем зеленом матраце. И Юрка вдруг поднялся рывком, захохотал в голос.
— Чего ты, господи боже мой, дикий человек!
— Да так, своему. Ах ты, вот ведь!.. Ну и ну, а? Познай, говорят, самого себя. Ах ты дьявол! В другое, как говорится, качество… Ну и Катерина!
— Не поняла, дорогой, — сдержанно отозвалась она.
— И не надо тебе. Ни в коем разе не надо. Зазнаешься.
Тревога отбежала от Катиных глаз. Но зато поселилась в Юрке — глубоко и потаенно. Заработал едва слышный камертончик. Но это — глубоко, без выхода на поверхность.
А Катя уже говорила о каких-то ста километрах от Москвы, о каком-то задичавшем жасмине и что ехать лучше поездом. Короче, в который раз звала к себе на дачу. Ведь у нее и дача была, у Катьки. Крохотный домок, заросший по бокам вьюнком и жимолостью.
Катя давно пыталась отодрать Юрку от фильмов, учебников, книг, чтобы вручить ему прекрасный день на даче.
Затревожившемуся Юрке было бы именно теперь и отказаться, а он махнул рукой выше головы (такой обаятельный жест сдающегося человека):
— Эх, губи, злодейка!
А для себя это было так: «Валяй, глупый человек. Как творится, чем хуже, тем лучше».
И на другой же, день поутру помчался вместе с Катей. Приехали — дорожки не пробиты.
— Что, все некогда?
— Точно, Юр.
— Да кто у тебя есть, кроме тебя?
— У меня, Юр, кроме меня, никого нет. Потому что… Ну, в общем, родители — отдельно, я — отдельно. Ты разве не видишь — я развиваюсь в сторону самостийности?
— Как не видеть… Вижу.
— «Ка-ак не видеть…» — передразнила она его распевную речь. — Знаешь, это забавно: такой злой деспот — и вдруг так поешь.
— Другой бы, Катюш, взялся перестраиваться. А я, пожалуй, не стану, а? Бог с ним. Некогда.
— Давай, давай, совершай скорее. Я тебе, надеюсь, не мешаю?
— Как это женщина может мешать?
— Ого! Ты, между прочим, самонадеян!
Они стояли на крылечке террасы, и Катя пыталась повернуть ключ в двери. Ее неумелые движения (какая радость: хоть в чем-то не умела!), ее нежная щека и мочка уха, не закрытая вихрами волос, и солнце, тепло, травяной, листвяный запах при каждом движении ветра… И пчела пробасила, ударив в стекло, и птицы орут. И так все залилось радостью!.. Неповторим этот миг. И прекрасен. И благословен.
Юрка тронул губами ее жесткие волосы.
— Катька, спасибо.
Она не ответила, чуть потянулась к нему. Умница! Не беда, что бойка. Вот ведь такт пересилил бойкость — промолчала.
Дверь они так и не отомкнули. Спрятали сумки и всякие шмотки в кустах, пошли по дачной дорожке. Катя открыла потайную калитку, и они, миновав кишащие, шелестящие череззаборной зеленью закоулки, вышли в дубовую рощу. Земля была побита коровьими копытами.
— И мы к водопою, — сказала Катя.
Они шли и толкали друг друга, бросались листьями, Катерина щекотала травиной Юркин затылок, и он, замедлив шаг, неожиданно схватил ее за руку, она вырвалась, побежала, Юрка — следом. Так они выскочили на поляну и вдруг… увидели крохотное круглое озерцо, похожее на болото, и у берега — настоящий, новенький, голубой с белым катер. Большой. В этой луже! И тут заработал мотор: в катере оказался немолодой серьезный человек с бородой.
Они рассмеялись — от этого зрительного несоответствия, от молодости, теплого солнышка, воли! Хохотали в голос, закрывая ладонями рот. Смеялись, отворачиваясь, боясь обидеть человека, который ковырялся в моторе, проверял его.
— Сейчас двинет, — захлебывалась Катя, — не остановить!
— Не было бы шторма! Опрокинет посудину!
Когда отсмеялись и Юрка обнял Катю за шею, она притихла вдруг, погрустнела, будто кончился в ней запас веселости.
— Ты чего?
— Мне, Юр… — начала она и запнулась.
— Ну?
— Мне предлагают командировку. Очень интересную. Но я теперь не принимаю решений без тебя. Советуюсь.
Юрка почему-то испугался, но не разлуки, а назревающего разговора. Может, чуть — капельку! — не дозрел до него. А может, не она должна была начать.
— Советуешься? Что-то не замечал.
— Мысленно.
— И я даю хорошие советы?
— Они чаще всего совпадают с тем, что я думаю.
— Очень удобно.
— Ты недоволен?
В голосе ее впервые прозвучала обида. А может, боль. Неужели влюбилась? Всерьез? А он? Видит — рад, нет — не скучает. Разве так может быть, чтоб не болело, не гнуло к земле? Почему недобрая и не повернутая к нему Лида Счастьева (он даже сейчас задохнулся болезненной памятью)… Первая любовь? Неутоленность? Мальчишечьи бредни? И неужели опыт первой любви оставляет инерцию такой силы, что все равняется по ней? Увы, это так, так бывает.
— О чем подумал? — спросила вдруг Катя быстро и ревниво. Ее нельзя было, не за что обижать. Но и усложнять отношения не хотелось. Они и хороши-то были легкостью. Эх, сам виноват с этим «Катька, спасибо»! Ведь она тоже кое-что понимает!
— Видишь ли, Катерина, ты человек сильный. Я уж думал.
— Ну и что? — спросила она сумрачно.
— И я тоже. Это плохо совмещается.
— Мне этого не казалось.
— Видишь ли…
Она опустила голову, сощурила глаза:
— Ну-ну…
— Тебе при твоей энергии нужна в другом человеке слабинка. Ты считаешь, ну, вернее, ощущаешь — ведь это иррационально — такою слабиной мою провинциальность.
Верно?
Она не сделала протестующего жеста. Ждала: что дальше? Он остановился. Катя подняла голову, глянула прямо:
— И тебе обидно? Это что, твой комплекс?
— Не знаю… Нет. Просто я дорожу этим. Ну, тем, что вынес оттуда.
— Я не посягаю, — сказала она другим, лишенным счастливых красок голосом. — Пошли назад. Пора в город.
«Вот и все? — испугался Юрка. — Неужели все? Но я не хотел этого. Не хочу терять ее! А зачем обидел? Она права, права: обидно, если тебя не услышали, перевели разговор на другое. Неосознанно сделали, но — тем больнее. Дурак я, вот дурак!»
Юрка догнал быстро шагавшую Катю, обнял на виду у всего поселка, поцеловал в щеку (она была совершенно сухой!), в нос, в шею возле уха. Вот теперь глаза ее стали чуть мокроватыми.
— Ты меня за дурочку держишь… — улыбнулась она. И, уже входя в калитку, вдруг притянула его и засмеялась счастливо. — А я и есть дурочка.
С этого дня Катя не искала встреч с ним. А Юрка не сразу заметил перемену.
На одной из лекций Буров получил записку. Тонким, женственным почерком было выведено: «Надо поговорить. В. А.».
Юрка оглянулся, встретился глазами с Вилем, кивнул.
— Тебя теперь не поймаешь, — сказал Виль. — Ты теперь на коротком поводке.
— Допустим.
Юрка не любил вмешательств, но косвенно поговорить о Кате было приятно.
— Да нет, это дело твое. Не ты, как говорится, и последний.
— Это, Виль, меня не волнует.
— Надеюсь. А так — чего ж! Я тоже вращался в этой орбите. Но я обычен, а тут — экзотика.
— Я, что ли, экзотика?
— А, пустяки. Просто я из зависти. Я вот о чем: стометровку-то будем делать?
— Знаешь, Виль, ведь мне ничего в башку не влезло до сих пор.
— И мне. Какое совпадение! Ну, давай подумаем. Может, попросить кого-нибудь со сценарного?
Нет, не хотелось бы со сценарного. Но теперь, когда поломалась счастливая гладкость отношений с Катей, Юрка вдруг почувствовал себя сильней. Вот ведь вздор какой! — будто не радость, а что-то другое, «антирадость» может, делает человека сильным. Резона нет, но чувствовалось так.
Они вышли на улицу. Юрка у двери крепко пожал руку Вилю Аушеву.
— Дай три дня, идет? Как в сказке.
— Даю, как в сказке. Но смотри, если что.
— Голову секи!
Расстались, смеясь.
Шел домой, к тете Дуне, и тихонько пел, чему-то радуясь:
Пешком шел. Уж и ходить-то отвык — все на машине, которую сам не умел водить (шоферил-то в Крапивине на грузовой). Шагал не торопясь и чувствовал себя твердо и строго, и неласковый ветер шевелил волосы, коротко подстриженные узкой и крепкой женской рукой.
Твердо и строго. И что-то уже ворочалось в нем и стало искать выхода, выдоха, хотело выдохнуться, чтобы стать, зажить. Господи, как мог столько времени болтаться без дела?! Не думать даже. Хотелось скорей в читалку или к Дуне — посидеть в тишине, подумать. О, как хотела утоления эта (теперь — эта) жажда!
Он по привычке сделал рамку из пальцев, поглядел сквозь нее на бегущую улицу. Дом попался вдалеке — высотный, кусок дерева, застывшие у светофора машины — множество. Большой обычности кадр, официальной захватанности. Так и надо. Захотел сразу, как только помыслил о родной стихии, получить от нее подарок: вспомнил обо мне, дорогой, — на, держи кадр, сюжет, фильм!
Он еще раз, уже не надеясь, поднес рамку к глазам. И вдруг — стоп! Стоп! Стоп! Резкость! В рамке оказался человек — узколицый, покрытый ранним загаром. Он был, как и прежде… нет, даже больше, чем прежде, худощав и элегантен! Он спешил, глянул на ручные часы, прошагал мимо палатки с капустой на фоне все того же высотного дома (Юрка вел за ним объектив). Уйдет ведь, пожалуй! Ушагает!
— Виталий!
Неловок оглянулся, крутнул головой, будто скинул с себя что-то, и сделал полушаг навстречу.
— Юрка! Буров!
Человек был рад и смущен (почему бы?), это был тот и не тот Виталий, все же с десяток лет пролегло.
— А я гляжу: что за щеголь меня окликает?
— Щеголь — это я, Виталька. Как ты?
— Да вот в свой институт топаю.
— Лесные дали?
— Конечно.
— А вообще?
— Вообще, брат, — заговорил тихо, будто никуда и не спешил, — странное меня держит ощущение. — Он обвел взглядом улицу, Юрку как часть ее… — Было, шло что-то в руки такое… важное… Было — как перед дальней дорогой. И все это вылилось в крохотный вояж…
Он беззащитно глянул ореховыми (отцовыми) глазами в Юркины азиатские. В тех вдруг метнулся азарт.
— Чего ты, Юрка?!
— Ух, брат! Ты мне… Ты мне — такое… — Юрка поперхнулся, протянул руку. — Я тебя разыщу. Есть телефон?
Виталий начертил цифры на бумажке, подал.
— К себе не зову… — И снова замялся: — Сам знаешь почему.
Нет, Юрка не знал. И не стал допытывать. Даже думать не стал. Потому что совместилось то, что хотело соединиться, рвалось одно к другому: катерок близ Катиной дачи — и эти недоуменные и беззащитные ореховые глаза: «как перед дальней дорогой»… «крохотный вояж»…
Юрка кинулся было назад — догонять Аушева. Потом сообразил: небось уже дома — живет недалеко. И позвонил из ближнего автомата:
— Виль, Вилька, гони бочку пива! Придумал!
Крохотный сценарий набросали в один вечер. Тем более что Виль хорошо умел излагать на бумаге. Очень хорошо.
Это была, конечно, удача — встретить Виталия. Без него не сошлись бы эти кончики мыслей, не завязались бы узлом. Трудно сказать, почему так, но его присутствие (даже просто присутствие, как косвенное участие!) всегда высвобождало в Юрке какие-то атомы (соки? силы?), чтобы они бродили, соединялись в мысли, порой даже в замыслы. Виталий был, пожалуй, единственным человеком, которому Юрка завидовал: его элегантности; его гармонии в движениях; быстрой его, окрашенной чувством речи, даже этим запинаниям — из-за пауз Виталий говорил короче, значительней.
Вот Виталий сообщает что-то Лиде, — почтительно нагнув голову, в школе, на вечере, на его, Юркином, выпускном вечере, куда он и ринулся-то из-за Лиды: она была приглашена как будущая преподавательница — только что окончила университет. Этот наклон головы одновременно и почтителен, и ласков. И еще — по-мужски снисходителен: ведь Виталию приходится нагнуться, чтоб заглянуть в ее глаза.
А Юрка — все резко, рывком. Он бы не смог так долго глядеть в Лидино лицо, не мог бы сделать мягкими глаза, которые у него действительно разбойны и нахальны. Всем он мысленно говорит: «Ну и ладно, вы — такие, я — такой». Виталию же, который и сам чему-то завидовал в Юрке (смешно — чему бы?!), он никогда не смог бы навязать себя такого. Превосходство Виталия было для него очевидно. И Юрка только старался быть поинтересней, почетче с ним, подтягивался, брал из душевного резерва. А каждодневно так нельзя. Потому и дружба не сложилась. Но было большее: острое притяжение. И это — твердо знал — взаимно.
Есть, высказывалось кем-то мнение, будто творческий человек неосознанно знает, кто нужен ему для работы, и тянется к тому. Вероятно, здесь есть правота. И Юрка не разыскал Виталия теперь, когда это стало легко (вот он, телефон!) из какой-то несвойственной ему робости, из-за десятилетней прокладки: прежняя манера общения не возможна — оба выросли, не мальчики, — а новую искать… А тут экзамены, учебный фильм, Виль Аушев — циничный эрудит, съемки!
— Виль, давай Володю Заева попросим снять курсовку.
— Я с ним в контрах.
— Ну, я попрошу.
— Не пойдет. Верь слову. Да он и аппаратуру не достанет, такой рохля.
— А как быть?
— Все добывают где-то.
— Где?
— Дай осознать.
После этого Виль ускользает при встречах, не подходит к телефону. Ясно: не осознал.
Юрка, пропуская занятия и толкаясь локтями, добывает сам. Все. Включая катер и актера.
— Виль! Назначай давай день. Пора снимать.
— Ой, Юрка, я сбился с ног, ищу тебя. Наш сценарий утвердили, — я прямо убегался! Меня спрашивают: «Где катер возьмете?», «Кто будет снимать?». Где ты пропадаешь? Или, как сказал Борис Леонидыч:
А?
Юрке так захотелось вмазать ему за это снисходительное «Борис Леонидыч» (прямо приглашал его Пастернак чай вместе пить!) и за цитату (писалось в боли, в озарении, а такие вот захватают липкими пальцами!)
— Слушай, давай без цитат!
И за глупый намек вмазал бы, и за вранье: сценарий он «утверждал». Чего там бегать-то? Прочел педагог и вернул. А что на вопросы не можешь ответить, так я, что ли, виноват?
— Я, кажется, Виль, перед тобой провинился? Виль притих:
— Ты что, Юрь Матвеич?
— Вот так. Когда поедем?
— Когда скажешь. Я — в любое время.
Поехали. Виль подбил на поездку приятеля с машиной — так что в «москвичек» запихнули и оператора, и кофр с кинокамерой, и все прочее. Одно только место пустое осталось — актерское: не пришел актер.
— Может, туда подъедет, — утешал Юрка. — Адрес я дал.
Ехали как на пикник. Всю дорогу Виль рассказывал, смешил, веселил. Начал с той истории про ревнивую жену и про яичницу (что, мол, хотели это снять), а потом и пошло, и пошло!
— В дерево въеду! — захлебывался смехом приятель за рулем.
— Ой, мужик! Вот комик! — вытирал слезы молодой оператор. — А я еще гадал: ехать — не ехать?
«Вот оно что, — думал Юрка. — И этот мог не прийти. Повезло нам, значит. Ну и Виль! Меня бы и на четверть пути не хватило».
Высадились на поляне возле озерка. Начались приготовления. Катер, к тому времени уже убранный за забор, пришлось катить на тележке и снова спускать на воду. Пожилой и очень серьезный хозяин его тайно волновался, но интеллигентно молчал. Юрка подумал: а может, попросить его вместо актера?
— Э, нет, нет, — ответил тот с укоризной. — Я все же научный работник. У меня полно дел.
— Простите, — повинно склонил голову Юрка. — Актер у нас… того…
— Сыграй сам, — предложил Виль. — Юр, правда, сыграй. Подходишь.
На этом, собственно, и кончились ценные указания Виля. Все, что говорил он как режиссер, было мимо цели. Просто удивительно! Все — мимо. Даже, кажется, его приятель понял. И тогда Юрка взялся распоряжаться сам.
— Сперва снимаем кусок воды. У этого берега. Только у этого.
— Ага, ясно. Чтобы казалось, что дальше — большая вода?! — догадался оператор.
— Так. Так. Теперь мостки. Часть поляны. Здесь я рюкзак положу. Пойду. Вот так. Потом катер… Тут вроде бы место для трансфокатора более выгодное, а?
— Точно!
Пока все поставили, скрылось солнце.
— А, черт! — бранился паренек. — Да здесь в два дня не уложишься.
Это сперва бранился. А потом вдруг зажегся от Юркиного напора, увлекся, а когда потребовался отъезд камеры и съемка сверху — то, что делается с вертолета, — молча полез на сосну.
— Хорош! Пойдет, Матвеич!
Как-то странно, но Виль будто потерялся. Даже когда надо было доглядеть вместо Юрки (в актерском куске), он то ли не появился, то ли не подал голоса — никто даже не заметил его отсутствия.
Начался дождик. Паренек был прав: конечно, не уложились в один день.
На столе в Дуниной комнате лежала записка:
«Юр! Где ты? Позвони в понедельник от 15-ти до 23-х.
К.»
Юрка обвел комнату как бы Катиным взглядом.
Стол под вытершейся клеенкой, рядом — сундук, дальше — железная кровать под белым покрывалом, со взбитыми подушками. Вниз клалась чистая подушка, на которой не спали, а сверху — две остальные, и на них вышитая накидка, вид получался очень опрятный.
Был как раз понедельник. Значит, прибегала сегодня, красивая, душистая, обворожила Дуню и соседей, черкнула будто небрежно. А бумага розовая, из набора, — взяла с собой. Тоже душистая. Соскучилась, стало быть.
Юрка обрадовался! Сам удивился, как! И чего он испугался (а он испугался!) тогда, на озере? И почему смог так долго не видеть ее? А ведь как соскучился! И что за странное наваждение, что в ее присутствии (именно — в ее, когда так интересно, легко) — вдруг похожее на угрызение совести ощущение недозволенной праздности, времени, идущего мимо.
Юрка позвонил часов в семь:
— Катерина!
— Юрка! — Голос ее прозвучал хрипловато.
— Ты чего?
— Ничего. Просто хотела знать о тебе.
Теперь превалировало обычное грудное звучание и чуть позванивало от улыбки: Юрка слышал ее, эту улыбку, и видел сквозь улицы.
— Ты как распределен во времени и пространстве?
— Никак. Свободен.
— Ну, гора с плеч. Жду тебя.
Она вовсе не хочет, чтоб он оправдывался. Есть потребность — пусть расскажет. Знает ли он, сколько они не виделись? Нет, не знает. Ровно месяц. Не может быть? Запомнить было легко: в тот день, когда ездили на дачу, ей исполнилось двадцать пять лет, не надо поздравлений. Нет, нет, она просто рада его видеть. Ну, так что было?
— Я, Кать, сделал одно малое, весьма малое открытие. Эти курсы — они не на творчество отбирают, а на хватку. Вот смотри: мастера на лекции не приходят, мы бродим, как щенки по закуту, — где мамка? А ее и нет. И в какой-то момент ясно: хватит школярить, ведь не семнадцать лет! Пришли все бывалые.
— А ты кем был?
— Я-то? Ну, учителем, хочешь? Ребят вот так держал, они у меня, гады, дыхнуть лишний раз не смели.
— Представляю! Ох, Юрка!
— Шучу. Я хорошо их учил. А еще шофером работал в леспромхозе. У нас там леса.
— Прогнали из школы?
— Нет, Катерина, это я вру. Только мечтал о школе.
— Почему?
— Это, брат, любовная история.
— Ого! А я полагала…
— Ну, так хочешь дальше про открытие?
— Да, конечно.
— Вот взять еще этот учебный фильм. Его надо сделать, не имея ничего — ни транспорта, ни аппаратуры, ни оператора, ни актеров, ни денег, черт возьми! Самим снять, отмонтировать, озвучить. Что это — на талант, что ли, экзамен? Черта с два! Талант — дело десятое! На характер, на пробойность — вот что! Тут-то я и понял, что могу. Пока сокурсники, и Виль в том числе, хныкали, я уже был на «Мосфильме», у ассистентов операторов. О них я заранее разнюхал, еще когда в библиотеку вгиковскую бегал. «Кто из вас, ребята, спрашиваю, учится на заочных операторских во ВГИКе?» — «Ну, я», — один говорит. И другой: «И я». — «Надо вам снять курсовую работу?» Им надо. «А режиссер уже есть?» — «Нет». — «Пожалуйста, я режиссер». А у ассистента, сама знаешь, все в руках: аппаратура, пленка, павильоны… Я им, конечно, кот в мешке. Но один взялся.
Юрку что-то злило в этой истории, за которой отступил замысел фильма. Он излагал-то ее в надежде разобраться. А получилось вроде похвальбы.
— А что твой Аушев?
— Все в порядке. Он не вышел из образа.
— Я была права?
— Не люблю бранить за глаза. Почему ты хочешь от меня предательства?
— Потому, что слух идет: Буров, мол, любовь крутит, а он, Аушев, — и сценарий, и курсовку…
— Перестань.
— Молчу. Потом сам увидишь, если, конечно, интересы столкнутся.
— Не верю тебе.
— И не верь. И не надо.
Свидание получилось какое-то натянутое.
В просмотровом зало полно народу: комиссия, студийные, пришлые, мамы, жены, друзья… Идут фильмы-малютки. Около тридцати микрофильмов.
Отбивка одного от другого — темнота. И вот призрачно поплыли титры:
В. Аушев и Ю. Буров —
«Дальнее плаванье»
Небольшая полоска воды. Берег. У берега — мостки, они проложены к катеру. Но видна только часть катера, малая часть берега и воды. Полное впечатление: большой катер у большого причала. В борт плещет вода. Тревожно кричат чайки.
(Крик чаек брали в фонотеке.)
Потом — мужские ноги, обутые в кеды. По ним видно, что человеку тяжело (это его, Юркины, ноги — пришлось все же играть самому). Дальше — борт катера. Тяжело плюхается рюкзак, набитый консервными банками. Ноги, легко ступая, покидают качающийся на волнах катер и мосток. И снова человек (уже в полный рост — широкоплечий, мужественный) сбрасывает на траву еще один рюкзак, достает оттуда пакеты, из бумажных этих пакетов пересыпает крупу в целлофановые мешочки, тщательно завязывает. Возвращается на катер, укладывает там продукты… Вот он втаскивает канистру, ведро, спальный мешок… И опять, и опять возвращается нагруженный человек. Катерок чуть оседает… Уф! Готово! Спина человека распрямляется. Видно, что майка потемнела от пота.
Но вот он уверенно шагнул на борт. Надел матросскую робу. Садится. Крик чаек. Нога на педали мотора. У кормы катера появляется бурун, разбегается вода. Мотор трещит все сильнее. Крупный план: катер вздрагивает, отталкивается. Резкий отъезд от крупного плана к дальнему… И (съемка сверху, с сосны) взгляду предстает вся картина целиком: по крохотному пруду кругами носится огромный, хорошо груженный катер. Крик чаек. Темнота.
Дальнее плаванье.
В зале расхохотались. Кто-то даже захлопал. Чей-то захлебывающийся в смехе голос: «И чувствовал, чувствовал, что будет подвох!»
Дальше шли, шли фильмы — Юрка их уже не видел. Он понял, что — успех, но в съемке ему не все нравилось. Грязновато получился отъезд камеры в конце, даже в одном месте сучок елки было видно. И еще он хотел потом, после метания корабля в луже, выхватить камерой широкое небо и настоящую птицу. Что ж, что вылилось в крохотный вояж… должна ведь быть и надежда! Но это тоже не вышло, запорол при монтаже.
— Фильм Виля Аушева и Юрия Бурова показался мне наиболее интересным…
Речь держит одни из кинобоссов, некто Вас-Вас — Василий Васильевич, средних лет и тяжелых движений человек. Его руки, как и у Виля, словно бы усталые, ищут подлокотника, стола ли — опоры (вот кого, вероятно, копирует Аушев); его голос звучит как сквозь сон, будто пробиваясь через толщу сытости и равнодушия. Но слова точны, он все видел, все оценил.
— Да, да, смешно. Есть анекдот, есть ключик, поворот. И грустно. Я смеялся. И есть единство замысла и воплощения. Будто один человек… Не знаю, как работали эти столь несхожие люди… Тут ходят разные слухи. Я обязан их отмести до уточнения. Во всяком случае, я доволен вашей работой, Аушев, и (с заминкой) вашей, Юра Буров.
Вот оно что! Это фильм Аушева! Что ж, значит, Катерина права?! А я-то связывал кусочки мыслей и впечатлений, чтобы получился не просто анекдот, бегал высунув язык за оператором, монтировал. Я, стало быть, технический исполнитель (да еще имел глупость сам сниматься!), а фильм этот — Аушева. «Я доволен вашей работой, Аушев…» И зачем и его взял? Что за мальчишество! Сам придумал, сам и делай! Разве он мне подсказал хоть что-нибудь? Помог? Дурак я! Дурак! Идиот! Скотина!
Юрка чуть не плакал.
Выступали и другие. Все хвалили фильм, называя кто оба имени, кто одно (чаще Аушева), иногда просто — «Дальнее плаванье». Юрке хотелось крикнуть: «Это мой, мой фильм! Я сам зачал его — и не от Виля! Я сам его родил!»
Но кто кричит про такое?
Чувство оплеванности было так сильно, что Юрка несколько дней не показывался на курсах. Телефона у Дуни не было, так что он просидел в тиши, обсуждая с теткой крапивенские события двадцатилетней давности, и успел поостыть.
Тогда только вышел позвонить Кате. Ее голос насторожил веселостью.
— У тебя кто-нибудь в гостях?
— Да, но это неважно.
— И вы пьете коньяк?
— Шампанское. Человек защитил диплом.
— Ну, тогда нам не по дороге.
— Постой, постой, Юрка. Что-нибудь случилось?
— Ничего. Я почти что защитил диплом Вилю Аушеву.
— То есть?
Юрка так был взвинчен, что принялся рассказывать. Потом прервал себя, извинился — ведь у нее гость! Его снова начала душить злоба: ничего уже не сделаешь! Не переиграешь!
— Я все это знаю, Юра. Расти зубки, дружок. И не забывай старых приятелей. Особенно когда бываешь возле их дачи.
Вот оно что. Обиделась. Обиделась за съемки у пруда. Вероятно, приходила на просмотр. Узнала. Было, наверное, больно. И отстранилась. А зачем, собственно, было таить от нее?
Он и тогда, разумеется, помнил о Кате, но посвящать ее ну прямо вот как не хотелось! Почему? Кто знает?! Не хотелось ее энергичного вмешательства (а она не могла иначе!), ее указаний…
Неужели дело всего-навсего в том, что ее действия ранят мою мужскую гордость? Так мелковато? И все? Но почему же тогда и — «мимо текущее время»? Ведь это другое совсем? Ну и пусть, пусть себе! Разве я мог бы постоянно (ну хоть какой-то приличный отрезок времени) соответствовать ей? Ее разболтанности, светскому беганью по гостям, этим беседам (интересным), которым нет конца. Да я был бы (стал бы!) Вилем Аушевым… «У него только слова». Мне надо самому. Работать и — непременно самому. А Катерина как-то раскачивает эту постройку.
Теперь, найдя пружинку своих отношений с Катей, Юрка пожалел о них как о чем-то дорогом, потерянном, но непременно подлежащем забвению.
Хорошо ли тебе пируется, Катя? Я хочу, очень хочу, чтоб хорошо.
Юрка знал, кому он позвонит: Виталию, своему, крапивенскому. Ну их, киношников!
Он долго слушал длинные гудки. Потом прорезался женский голос:
— Але. Кого вам?
Юрка молчал и не верил себе.
— Лида?
— Да. Кто это?
Он опустил трубку. Дома нашел в блокноте номер телефона, который когда-то записала ему Лида Счастьева там, на улице Димитрова. Сверил с номером Виталия. Да. Одно и то же. Вот оно что? Потому и смущение, и «к себе не зову»… Предательство?! Разве Юрка не говорил ему, — помнится, прямым текстом говорил о Лиде!
Хотя ведь Юрка и тогда не мог надеяться, что Лида… Конечно, если выбирать из них, — Виталий. С его элегантностью, с его…
Но ощущение двойной утраты разрасталось. Оно шло тихим пламенем, скручивая все, что попадалось по пути: последнюю встречу с Виталием, их давние разговоры о кино, Талькины стихи, которые любил и доселе помнил Юрий… А между тем — никто не виноват! Но тогда что же взять с Виля Аушева? У них уж совсем никаких взаимных обязательств. А Катя? Услышала, что ему плохо, и не снизошла. Не стала выше своей обиды. Впрочем, кто должен? Кто и что ему, собственно, должен? Почему все они должны были думать о нем, о Юрке Бурове, а не о себе? Сначала — о себе. Конечно, сперва свое. Своя рубашка. Себе! Себе! Урвать! Нет, почему «урвать»? Просто получить. Все справедливо в законах джунглей. Слабый гибнет, а жизнеспособный продирается к водопою, к теплой норе, к пище! «Расти зубки, дружок». Выращу. Я еще… Вы еще!..
Он купил водки и долго без удовольствия пил ее, благо Дуни не было дома. Он глядел в потемневшее окно. Да какое там окно? Это был экран. Настоящий экран, только темный. И уже начался фильм — кто-то маячил. «Кто-то»! Известно — кто.
— Ах, ты! Пришел, мелкий жулик! Карманник! Блоха! А я-то, я-то дурак!.. Чего это у тебя в руках? О, ключи! К какому-нибудь сейфу подбираешься? Куда ты, куда? Ведь ты не медвежатник. Ты мелкий воришка.
А Виль Аушев там, на экране, оглянулся: «Я к Вас-Васу, вот гляди, уже ключик притер, подходит…»
— Ну-ну, подбирай… подбирайся… выбирай в себе, что там больше подходит. Скачи, скачи, пей чужую кровь, Блоха! Сам-то бескровный! Верно Катерина тогда сказала! Тьфу! Какая еще Катерина? Нет, никого нет! Уйдите все. Я ращу зубы, клыки. Вон, свидетели!
Потом Юрка уснул, положив голову на стол. И приснилось путаное, что после не раз приходило в разных видах: пробитая телегами колея в лесу, на телеге — трава, только что скошенная. Обернулся, — а в траве этой спит кто-то. Затылок один видать. Потрогал, а тот отворачивается — шапку на лицо. Тормошил, а под шапкой опять затылок. Кругом затылок один — заросший, волосы смялись. Припустил через лес, лошадь храпит, в стороны кидается. В деревню вынесло. Там, в черной, один только дом светится. Стукнул кнутом в стекло — и пошел валить люд! И на телегу — рожи, рожи!.. Поехал шагом. Темно уже. Сожрут они. Сожрут меня, затем и себя. И — липкая рука по лицу. Легкая, могло показаться — ветка! Но — теплая. И липкая. Рот запечатала: будет, мол, с тебя. Носом-то еще дышишь?
М-м-м…
И проснулся от своего мыка, вдохнул ртом.
— Черт! Черт! Ух! Дышу!
За окном было светло.
Когда Юрка явился наконец на курсы, сразу же в дверях столкнулся с Вилем Аушевым. Тот сиял:
— Давай пять, Буров, у нас с тобой по удаче.
— А, Блоха! «Возьми соби». — И Юрка стукнул его по плечу, как велено было бабкой. «Крепко отбей… Не больно-то совестись…»
— Я свое взял, — будто поняв заклинание, ответил Аушев. — Зайди-ка в аудиторию, там Вас-Вас… Да ты чего, с перепоя?
— Отмечал. — И прошел мимо.
Может, так положено — улыбаться, делать вид, что все в ажуре? Может, таковы условия игры? Не учен я так-то. Может, когда потом… Только сперва погляжу — надо ли? Конечно, коли ты — как это Катька ловко про него?! — коли ты импотент, тогда валяй. А я, слава богу, в форме. У, шакалье вонючее, не вам меня съесть, зубки пообломаете!
В нем снова почти с той же силой, как в день просмотра, разыгралась ярость («Я еще!.. Вы еще!..»). Потому к Вас-Васу он не вошел, а влетел — взъерошенный, с узкими щелочками глаз, с трепещущей ноздрей.
— О, Буров! — широко улыбнулся старик.
Гл. VI. Начало
Юрке повезло. Только он не принимал этой формулировки: казалось — так и должно, А может, для тех, кто иного не ждет, действительно так и должно?
Юрка радовался, но не удивлялся. Тогда. До всего, что налипло после. Просто радовался. Брел по Москве с курсов пешком и старался не очень-то глядеть на встречных, чтоб не показаться улыбчивым дурачком.
Строчки, где-то прочитанные и позабытые, сегодня сопровождали, как припев к его счастливой походке.
А разве не удача?
— О, Буров! — широко улыбнулся взъерошенному Юрке Вас-Вас, и вместе с ним улыбнулась судьба. — Я — старик дотошный, — сказала его устами эта судьба, — я вижу: не поднять такую курсовку Аушеву — ведь я его почти с детства знаю, с родителями был дружен.
«Видишь? А что ж перед комиссией меня лажал? — ещё не утолив гнева, думал Юрка. — Или потому и запрятывал в топь, чтобы порадеть родному Вилю?»
А Вас-Вас тем временем вел свою мелодию:
— Так вот, Юра, уточнил я, поузнавал, не скрою. И хочу обратиться к вам, лично к вам, а не к Аушеву, с предложением. В моем объединении должен делаться фильм. Заказной. По заказу Комитета. А сценарий… Ну, в общем, поймите: если я предлагаю вам, стало быть, другие — многие — отказались.
— Василь Василич, начинать с брака… — заговорил было Юрка, но тяжелая, усталая рука легла на его плечо.
— Сообразите, дорогой. Режиссеров перепроизводство. Хорошего сценария вам не дадут. Да и вообще проблематично, проникнете ли вы на студию. В моем варианте — на восемьдесят процентов провал, но есть шанс. Двадцать процентов — это шанс немалый. Получится фильм — победа, триумф, торжественное шествие армии через город, пленницы, золото, почести, ликующие крики горожан. А если всерьез — я могу сделать это вашим дипломом. Диплом на студии вообще почетно. А если отличитесь, пробью вас в штат.
— Честное слово? — простодушно выкрикнул Юрка, нацепив масочку обаятельного нахальства.
— Клянусь, — поддержал его игру Вас-Вас. — И еще учтите: сценарист — человек сложный.
— Кто это?
— Борис Викентьевич Слонов, известный автор многих лучших, премированных… и так далее.
Юрка почти бежит по улице.
Прекрасно. Все отлично. Слонов! Да разве он не человек? Что ему, хочется похуже, что ли? Да я ему — все! Бери, бери мое, не жалко! Я ему перетряхну мозги!.. Его сценарии, его «распремированные» не бесталанны, но они — старье. К черту старье! Мы сделаем современный фильм во всей его смелости. Он мне даст свое имя, а я — идеи. Мы начнем полиэкранное кино. Будут постоянные герои. Да, из фильма в фильм. «Серии?» — спросит он. Нет, нет, к черту! При чем тут это?! Сюжеты разные, люди — тоже… А вместе с тем… Ну, чего ему не ясно? У творческого человека должен быть определенный круг идей, не такой широкий, между прочим. Не ясно? Сейчас, сейчас! Вот возьмите Грэма Грина, вспомните его повести: стремительная смена кадров, мастерский монтаж… (Я бы снимал все его вещи!) И всюду Мягкий, ироничный и умный герой, который наивно (и в конечном счете мудро, только не для этой чертовой жизни!.) полагает, что можно прожить, не коснувшись зла, не ввязавшись в игру темных сил, будь то политика или иные страсти. Сравните Фаулера в «Тихом американце» и Уормолда из «Наш человек в Гаване» с героем «Ценой потери», как его там? Да в любой вещи вы найдете этого человека. Он — носитель идеи, которая болит у автора. Его играл бы один и тот же актер. По-разному загримированный, но в какой-то момент проступала бы одна и та же знакомая зрителю грустная улыбка… «А грустный человек шутит по-своему…» Это Грин такой эпиграф взял. И человек этот из фильма в фильм будет мыкаться, ища, во что бы вложить запасы доброты, порядочности, ума… в этой тяжелой войне… И противоположные силы — спокойные, уверенно убивающие… Этих типов — совсем уж разных! — тоже играл бы один актер. Да, да! Я расскажу Слонову об этом. Он поймет, что ведь не психологизм, не судьба и переживания отдельного человека интересны сейчас, а процессы, общие для всего человечества. Этой тропой пойдет искусство. Целые пласты будем ворочать, огромные глыбы…
Думал и о том, как все это делать. Хотелось, чтобы — цветное. Тогда можно многое сказать цветом, освещением. Мир одного (или нескольких людей, схожих по душевному строю) в одном цвете. Все — комната, улица, лица — залито желто-оранжевым светом. Теплый и взволнованный фон жизни, мысли, дел.
Другие люди, антиподы, ведут за собой ясные, голубые, совершенно холодные тона. И эта голубизна вселяет тревогу в зрителя, потому что душевный холод, пустота, влекущая за собой суетность, алчность, агрессивность, не могут не вызвать тревоги!
Он, Юрка, выбьет из этого пока неведомого ему Слонова сценарий, который дал бы повод для ассоциаций, обобщений. Враки, будто от сценариста ничего не зависит (сколько заносчивых слов он наслушался об этом!). Ну как же так? А замысел? А философия вещи? Если, разумеется, это серьезное, большое кино. (Позже Юрка сам удивлялся: «Какая была во мне божественная путаница, какая блаженная мешанина!» Но это позже. В начале пути мы мало знаем о себе и о своих возможностях.)
Юрку трясло, как в ознобе. Он понимал (уже был некоторый опыт!), что в этом азарте может наломать дров, но может и победить. Может.
Прибежав домой, он завязал перед зеркалом галстук, кивнул себе, повел узким разбойным оком — и снова на улицу. Уверенно шагнул к автомату. Набрал номер, который Вас-Вас записал ему на листочке.
— Борис Викентьевич? Здравствуйте. Моя фамилия Буров. Говорит она вам что-нибудь?..
Через час Юрка был возле слоновской квартиры.
Хорошо, что до этого была школа Аушева. Иначе загляделся бы на коридор с зеркалами и картинами, гостиную темного дерева, на всякие там шкафы, столы и столики под старину — все для созерцания, размышления и покоя… Да и сам Борис Викентьевич Слонов — старый, медлительный, величественный. Лицо в морщинах и буграх, мутноватые светлые глаза, хорошо упрятанные за опустившимися с годами, тяжелыми веками, широко разрезанный рот, не обнажающий в улыбке зубов. Улыбка статуи. Живой памятник самому себе. Он протянул маленькую теплую руку:
— Слонов.
— Буров. Юрий.
— Очень приятно. Наслышан. Садитесь.
Придвинул серебряную табакерку.
Сухие короткие пальцы с ухоленными ногтями. Легкий запах тлена изо рта, едва ощутимая нотка иронии, некое непроизвольное «свысока». Барин. Хозяин жизни. Или, может, не так уж уверен в себе и самоутверждается?
Слонов длил паузу, разглядывал Юрку довольно-таки беззастенчиво. И Юрке неловко было начать.
— Да, дорогой юноша… Мы шли в Большое Кино, надеясь, всегда надеясь, внести свое. Шли ощупью. Вот нам читали курс — уже есть, стало быть, если не законы, то прецеденты, теория. А мы… Словом, был бы рад… э… объединить свой опыт и молодой запал. — Он повел рукой в сторону Юрки. Жест был излишне театрален, как, впрочем, и вся величественность.
И Юрке расхотелось говорить. Ты внес свое, а я коплю. Да неужто тебе, чужому, выложу? Хватит с меня Аушева! Но если ничего не сказать, то он, поди, и сценария не даст. Ведь может отвести режиссера, имеет, наверное, право.
— Видите ли, Борис Викентьич, — начал Юрка, — в вашем творчестве, насколько я его знаю, всегда идет… ну, борение, что ли, между двумя правдами — правдой сильного и правдой правого. Даже в фильме «Юные-62»… там вроде бы только любовь, но… сильная своей красотой Нина…
— Нона, — поправил Слонов.
— Да, простите, Нона, — она не по праву побеждает обычную и… как бы точнее сказать… трогательную, что ли, в своей верности Валю. И мы понимаем это, и герой потом поймет. Будь я режиссером, я бы далее усилил это… — И остановился. Таких шагов делать нельзя. Юрка давно зарекся: нельзя принижать работу другого. Не дело это. — Да, так к чему я завел эту песню? — Юрка помягчел голосом, неподдельно ласково улыбнулся и все-таки выпалил свое, намечтанное, как раз так, как разговаривал сам с собой о Грэме Грине. И процитировал где-то читанное высказывание, что у писателя в чернильнице есть только один-единственный роман. — …Эта защита правды правого, подчеркнутая режиссерски, идущая из фильма в фильм… Я бы хотел даже так — носителя этой идеи играет один и тот же актер!!
— Что же, несколько серий? — спросил Слонов. (Спросил все же! Точно, как и предвидел Юрка!) Он вглядывался в лицо собеседника, но Юрка не мог расслышать его отношения. Глаза как-то не обнажали интереса. Да и был ли он? — Н-да… Это, конечно, весьма занятные размышления, но… видите ли, мой уважаемый Эйзенштейн… — И, смягчая шутку, он положил свою сухожильную теплую руку на Юркино колено. — Видите ли, сценарий уже написан, и это, должен вам сказать, не «Война и мир». Хотя профессионально. И, значит, можно сделать… э… корректно. Там во главе угла острые вопросы современности, деревня… Вы, как мне говорили, знаете деревню?
— Да, знаю.
Слонова что-то, видно, не устроило в Юркиных фантазиях: одним поворотом рычажка спустил на землю. Может, он боялся загадывать так далеко? Или по старости лет не любил молодежные эти выкрутасы?! А может, просто стеснялся своего сценария. Ведь серьезные режиссеры отказались.
Но все же он придвинул к Юрке синюю папку, лежавшую на столе:
— Вот, почитайте; А как-нибудь на досуге потеоретизируем.
— Я плохой теоретик, Борис Викентьич, — с наигранной покорностью заявил Буров. — Вы правы: дело сапожника — тачать сапоги.
Юрка потянулся к сценарию и вдруг заметил быстрый и яркий промельк в светлых стариковских глазах. Он совпал с шорохом, раздавшимся за спиной. Юрка оглянулся и тотчас поднялся со стула: в комнату входила, нет, вливалась, всачивалась молодая женщина. Жесткие черные волосы распущены, и движения тоже распущены, расслаблены, вся мягкая под стеганым капроновым халатом.
— Это моя жена. А это, Нэлочка, мой новый режиссер.
Женщина оборотила к нему темные, совершенно сонные глаза. Рука ее была мягка и безвольна, — только когда отнимала ее, кроваво-красный коготок задел мякоть Юркиной ладони.
— Садитесь, дорогая, — потянулся к ней Слонов, все в том же беспокойстве.
Женщина ногой подкатила легонькое кресло, похожее на качалку.
— Если не затруднит, поднимите ручку и доставьте с полки бутылочку коньяку. Вот, вот, прямо над вами. Спасибо. И рюмочки.
Борис Викентьевич барственным движением разлил по крохотным рюмкам коньяк.
Женщина откинулась в кресле, сыто пригубила рюмку и тайком жадно, даже алчно глянула на Юрку.
Атмосфера как-то сразу поменялась. Сценарий ушел на самые дальние рубежи.
— Мне говорили, что вы приехали с Севера? — другим, светским тоном спросил Слонов Юрку.
— Да, Крапивин-Северный. Не слыхали? Бывший районный центр. А я еще дальше жил, в деревне Крапивенке.
— Что ж вы там… учились только?
— Нет, отчего же. Работал.
— Вот как? В колхозе?
— А что ж?
Юрке показалось на миг, что Слонов заговорил еще более барственно, и это «в колхозе?» прозвучало совсем сверху вниз.
Перед женой простачком меня выставить хочет. А я-то не так прост!
У Юрки вовсе не было того, что называют «деревенским комплексом» и что, как это ни смешно, портит людям характер всю жизнь. А потому и заносчивости по поводу деревенского своего происхождения не было. Был бы человек, а откуда вынырнул — э, делов-то!
Но разговор свысока есть разговор свысока. Это мало кто любит. Юрка насторожился.
— А вы, Борис Викентьич, вот о колхозе сценарий написали — жили где в деревне или так, по материалам?
— И жил, и большую документацию поднял, — сразу перешел на серьезный тон Слонов. — Я еще до войны одну деревеньку присмотрел. Мы туда с агитбригадой заехали. Да, было, было… Собирались мы в этакие группы… э… несли культуру в село. К слову сказать, весело ездили. Был тогда с нами один известный поэт, ныне покойный. Мы с ним очень подружились. А он выпивоха, балагур! Всегда с собой рюкзачок с водкой возил. Вот приехали мы в эту Михайловку, а там как раз электричество проводили, ямы нарыли, и возле них столбы с арматурой притороченной лежит.
Арсюша наш, поэт, напился еще в поезде. А по деревне идем — так я его под руку держу. Не удержал, однако. Споткнулся он о столб, свалился и лежит, встать не может: только поднимется, а рюкзак его вниз тянет. Ну, снял я с него рюкзак, а он уцепился, не отдает. «Не дам, говорит. Я его вот на вешалку повешу». И к ролику-то этому, к чашечке, прикрутил.
Домой я его на спине волок!
А утром стали рабочие столбы вкапывать, глядят: что за благодать такая — сума, полная водки! Ну, выпили и созоровали — сунули в рюкзак пустые бутылки, закрепили его наверху столба, а столб вкопали.
Просыпается утром Арсюша, шарит — где рюкзак?.. А ему кто-то из ребят говорит: «Глянь в окно». Он глянул да как рванет к столбу: «Братцы, водка висит!» Ну, тут и мужички ринулись. Так, поверите ли, целый день, как на ярмарке, по столбу этому в очередь лазали!
Юрка улыбнулся. Потом, чтобы не сказать: «Принесли культуру в село!», спросил:
— Почему «как на ярмарке»?
— А такая забава была: вкопают столб, подвесят на него сапоги, или самовар, или так какой подарочек, а доброхоты, которые половчее, лезут, достают. Шуму тут, смеху, подначки!
— Я уже не застал ярмарок, — покачал головой Юрка.
И вдруг Слонов опять заносчиво приспустил веки.
— Я все забываю, с кем имею дело. — И поглядел на жену, вовлекая ее в разговор: — Вот Нэлочка тоже, я ей: «Съезди к Карташову и Миляеву», а она: «Кто это?» А это магазин такой был недалеко от Разгуляя, он и теперь ее есть, только носит невыразительное название «Одежда».
— Ну, Карташова и Миляева даже вы не можете помнить! — засмеялся Юрка. Он не то чтобы хотел польстить, но — успокоить. А вышло не так. Только масла в огонь подлил. Видно, обидело это «даже вы».
— О, я еще не то помню, молодой человек. Вы-то вот о лазании на столбы знать не изволили, хотя и сельский житель. А я это балаганное развлечение еще на коронации царя Николая Второго видел. Да-с.
Теперь он употреблял всякие старые словечки, будто ушел в другой век. Юрка прикинул: ух ты, давно!
— Когда лес это было, Борис Викентьич?
— В одна тысяча восемьсот девяносто шестом годике, — отчеканил он.
— Сколько же… — начал Юрка ошарашенно и запнулся: да ему под девяносто!
— Это ужасающее начало царствования Николая! — продолжал Слонов. — Трагедия на Ходынке, куда стеклись тысячи людей, привлеченные предстоящим весельем, обещанным даровым пивом и подарками… Еще за много дней белые эмалевые кружечки с золотом и с гербом, как сейчас помню, были выставлены в магазинах напоказ. Но не продавались. Их должны были дарить во время коронации. И вот накануне праздника прихлынула толпа. Я, ничего не подозревая, сидел за ужином на балконе павильона, что на скачках…
— Перестаньте! — сказала вдруг женщина усталым голосом.
— Вы правы, детка, это тяжелое воспоминание. — И снова обратился к Юрке: — Моя супруга, знаете ли, волнуется, когда я рассказываю о сотнях людей, раздавленных, задушенных праздничной толпой. Она в ужасе, что я мог погибнуть и мы никогда не встретились бы с ней.
— Я прошу вас… — снова простонала Нэла.
— Мы больше любим героические воспоминания, — возбуждаясь, говорил Слонов. — Вот вся эпопея со взятием Шипки… Помните? Русско-турецкая война, 1877 год! Особенно Нэлочку тешит тот момент, когда перед отступавшими турками вдруг выскочил заяц… Представляете, мы, изнуренные битвой и переходами по горам, хохотали, как дети.
«Теперь старик хочет сказать, — думал Юрка, — что ему за сто». Он давно понял: дурачит. А вот зачем? Однако рассмеялся, подыграл:
— Ну, а наполеоновское вторжение и потом наш поход из Париж? Возвращение Бурбонов? А Венский конгресс 1815 года помните? Тогда, в 1815-м, все танцевали… «Конгресс танцует, но не двигается вперед», — сказал, кажется, Талейран… А не приходилось ли, к слову, встречаться с самим князем лжи Талейраном?
— О, князь Перигор Талейран…
Теперь они оба излучали не совсем добродушное веселье. Самое время было налить по рюмочке и чокнуться. И старик (ах, да какой он старик!) так и поступил.
Юрка выпил и вдруг почувствовал глубокую усталость. Трудный, трудный спектакль, тем более что игрался он не для него, а скорее против. Единственный зритель сонно застыл в глубоком узком кресле, похожем на качалку. Никакой лукавой, понимающей улыбки на лице. Нет, скорее скука. Может, знакомый спектакль?
«Зачем это? — дивился Юрка. — Что за странная идея? Вернее всего — утверждает свое превосходство. Дескать, немолод я, а зато умен, памятлив, сохранен. Моя сила, дескать, сильней».
Дверь снова приоткрылась, и большой пес, черно-белый дог, медленно вошел и сел возле хозяина, положив тяжелую брыластую голову ему на колени.
Тем же барственным — небрежным и вместе рассчитанным движением Борис Викентьевич погладил голову и уши собаки.
— Ну что ж, еще по рюмочке — и к делу.
Они выпили. Женщина поднялась, жестом пригласила пса. Тот вопросительно глянул на хозяина и не двинулся.
— Позовите его, Нэла, — попросил Слонов.
Женщина капризно дернула плечом.
— Ну ладно. — Борис Викентьевич легко отделился от стула (о, какие там сто лет! — пятьдесят как максимум), шагнул к двери. Собака — за ним.
Они скрылись, и Юрка снова поймал на себе жадный, темный взгляд подведенных глаз. Полные губы чуть покривились.
— Барсук шутит не всегда удачно, — сказала она низким, расслабленным голосом и кивнула ему, уходя. «Барсук»… И зачем так выпотрашивать себя ради испорченной, сонной дряни?
Слонов — нет, Барсук, теперь уже Барсук, вошел порывисто, сказал будто себе самому:
— Видите ли, Джимми легко меня понимает, он у меня с двух месяцев. А жениться на тридцатилетней женщине все равно что взять годовалого щенка. — И поднял смеющиеся холодные глаза. — Так-то вот, мой юный друг. Женитесь только на молоденькой девочке и воспитайте ее.
И, как бы с трудом отрываясь от главного, посерьезнел, положил обе руки на папку со сценарием.
— Постарайтесь на этом материале выжить; А дальше мы… Словом, я еще пригожусь вам. — И добавил, уже явно самоутверждения ради: — Собственно, меня еще по-настоящему не ставили.
Юрка вспомнил его фильмы, все до одного хорошо снятые, и подумал не без тревоги, что тот, кто плохо говорит о других, не преминет сказать так же и о тебе.
А человек, сидевший напротив Юрки, о чем-то глубоко задумался и вдруг сказал неясно и устало:
— В той деревеньке… моей… там песню такую пели, вот послушайте, может, что-нибудь скажет вам. — И хрипловато, но мягким, согретым изнутри голосом пропел несколько куплетов.
А вот мать отвечает, послушайте только:
И он замолчал, задумался, по-бабьи опершись на руку.
Юрка ушел тихий и чем-то глубоко огорченный. «Барсук, — думал он, — ах, Барсук, Барсук…» Но когда понемногу впечатление развеялось, заметил — убыстряет шаг. Что-то торопило, отвлекало от мыслей о недавнем, и папка со сценарием жгла руку. Поглядеть! Поглядеть!
Едва вбежал в комнату, кивнул Дуне, задремавшей на высокой кровати, и — скорей читать.
Сценарий разочаровал прямолинейностью, острыми углами, пригнанностью всех досточек, обязательностью. Вот-вот! Не было в нем божественной невнятицы — ни капельки.
Эх, Барсук, земляной ты и норку роешь в земле. Скажешь — такой материал? Нет, дорогой, и в крестьянской жизни есть приподнятость над землей. Есть! Не думай — в земле копаются, так только на нее да на коровьи хвосты глядят. Всегда у нас есть свой Калиныч. Вот ты небось пижонишь, ругаешь Тургенева (у стариков нынче это в моде), а ведь прав он — делятся люди на Калинычей и бездуховных Хорей! Ну, так что там твой Хорь? Глянем-ка все сначала. А вот что: его — в председатели колхоза, а он со всеми груб, дела не знает, людей отличает из тех, кто поласковей… Да, да, видел такое и Юрка. И в их Крапивенке было…
…Зажужжали пчелы. Откуда? Все оттуда же, от бабки. Она водила пчел, были они легки на крыло да шустры, кормили в трудные послевоенные. Без них бы совсем забедовали. (Вернулась мать, больная, ей и врача, и лекарства, и медсестра с уколами ходила, а бабка состарилась, едва по дому управлялась — вот тогда и помог медок-то! Он и Юрку вскормил и доучил в школе.)
А нового председателя к меду этому по нюху привело.
— Не работаете в колхозе, так и приусадебный отрежем, — начал он с порога.
Мать как сидела у стола, так и пустила в него кружкой, да попала в голову. А уж крику ее, что один из них кровь проливал, а другой по тылам с бабами войну вел, — это уж он не дослушал, вылетел вон и дверью саданул. И поплыли разговоры, что в суд он дело передает, что синяк от кружки врачу ездил показывать. А что до участка, так на другой же день прислал единственного в колхозе коня, впряженного в плуг, — плетень крушить и землю перепахивать. И сказывали, что была у него своя «рука» в городе и что никого он не боялся на сто верст кругом. А мать слегла, и, собственно, сражаться-то было некому. Правда, Юрка, увидев чужого на своем участке, кинулся было на него, потом, сообразив, рванул в контору. Но председателя не застал, а больше и говорить-то не с кем было, и вернулся злей, чем ушел. Даже камней набрал и в кусты сложил (вот мальчишество какое!).
Тогда-то бабка мирком да ладком, отправив назад мужика с плугом и конем, потопала к председателю домой. Юрка видел, как она твердо шла по их ряду, сжимая сомкнутыми на груди ладонями темный платок. Вся Крапивенка глядела вслед.
— Изведет его.
— Туда и дороженька.
— Ан как приворожит?
— Цыц, желторотые! Насмехаться вздумали!
А вышло почти что так — зачастил председатель к бабке. Да не пустой, а с бидончиком.
— На мед и муха липнет, — приговаривала, проводив его, бабка, терпеливо и медленно, по капле, выливая в чайное блюдце из желтого глиняного горшка остатки меда. И жалела ему: — Ведь как Мамай пройдет… со своим бидоном-от!
Но зато — ни суда, ни утеснений, и слов об том больше не было.
Да, был и у них такой Хорь. Но была еще бабушка со сказками да старинами, была мать со своим непростым характером, да сам он, Юрка, был: думал, писал картины, сходил с ума по Лиде Счастьевой, слушал стихи Виталия. Что же, их-то жизнь зачеркивается, что ли? Да разве одна в их деревне такая семья? Погляди хорошенько, Барсук! Ведь песню-то, которую ты мне пел, кто-то сложил.
Не нравилось и другое: лукавил Борис Викентьевич. Вот показал плохого председателя, а рядом уже — вот он, тепленький, прекрасный, который на смену идет. Уравновешивает, стало быть, плохое хорошим.
И еще: не больно-то знал все это автор. Нет, не то чтобы не знал — не больно вжился, вдышался, что ли. Ведь вот, к примеру, в деревне как: все обо всех знают, и уж кого уважают — видно, а кого нет — тоже не скрыто. И председатель им свой, перед ним тоже не смолчат. А в сценарии что?
Юрка прочитал еще раз, пометил карандашом. Показать надо автору, чего ж зазря врать? О, как мог он, Юрка, снять все по правде, чтоб ни клюквы, ни, наоборот, любования бытом (это в том случае, когда режиссер увлекся впервые увиденным и не может оторвать глаза камеры от висячего умывальника, подзора на железной кровати, полотенца с вышитыми петухами). Он сам понимал, что знает меру и соблюдет ее лучше, чем другой. — он не скупо свое вложит, он насытит, оживит, пусть дадут только сиять, как надо. Юрка уже видел лица, слышал грубоватые, и вздорные, и ласковые — разные — голоса. Он так хотел, чтобы всё вышло, чтобы все здорово! Так хотел!
И вот он снова у Барсука. День. Солнце в пришторенные окна. От темно-синих занавесей неживой свет. Старик насторожен сегодня, деловит, чуть ироничен.
— Ну что, мой несравненный Жан Виго?
Как рассказать ему, что бедновато его детище, что для искусства это слишком публицистично, а для публицистики лишено подлинности документа?
Юрий начал с мелочей. Не взяло:
— О, мой режиссер! Со своих высот вы, разумеется, правы. Но те, кто будут принимать, все это знают еще меньше.
— А зрители?
— О, им не до деталей!
Ах, вот оно как! Тогда придется всю правду!..
Буров заговорил мягко, снизив голос до полушепота. Потом, кажется, немного перебрал. Да, да, не надо было ему о том, что стихи лепятся из иного материала, чем проза (и аналогия-то неточная!). Но Юрка тогда еще не понимал, что каждый пишет (ставит фильмы, сочиняет музыку и т. д.) в меру своих возможностей и представлений, а не потому, что не встретил пока Юрия Бурова, который бы открыл ему глаза на то, как надо и что такое стихи, проза, драматургия и др.
— Стихи? — встрепенулся Слонов. — Вы сказали — стихи. Что ж, оттолкнемся от них. Старик Некрасов писал стихи, именно их, и этого никто не отнимет. Но они публицистичны, не так ли?
— Да, разумеется, но…
— Ага, понял, понял! Вы, как теперь принято, его вирши не считаете за поэзию?!
— Я, Борис Викентьич, не гонюсь за модой. Как бы точнее сказать… Я часто думаю: ведь искусство не стоит на месте, оно если не развивается, то движется и… какая ветвь его жизнеспособней? Некрасовская ли?.. Хотя Некрасова весьма уважаю.
— Ну вот и отлично. Теперь давайте подумаем, как быть. Сценарий готов и утвержден. Переделывать все? И потом взять вас в долю я не смогу, — такого конфуза со мной еще не случалось. Пользоваться же плодами чужого труда не в моих правилах.
— Какая доля, Борис Викентьич? Я что-то не понял вас… — Юрка почувствовал, что бледнеет.
— Знаю, знаю, вы не имели в виду… Не сердитесь. Так вот что. Режиссерский сценарий, съемки — это ваша епархия. Нэлочка, принесите нам коньяку!
Теперь женщина была в японском халате — ломкая в талин, удлиненная одеждой. И Юрка раскрыл рот: хороша! Хороша, холеная бестия!
На серебряном подносе она внесла стеклянный сосуд с коньяком, сняла с полки знакомые рюмочки и в соответствии с одеждой низко поклонилась. Едва заметное движение губ — так, полуулыбка — вдруг прекрасно изменило лицо.
Ах ты, дрянь, как хороша-то!
Юрка переключил внимание на женщину, поскольку разговор с Барсуком не состоялся. Было досадно.
И не из-за денег он жмется — видит ведь: я не тяну лапу к его карману. И даже, пожалуй, не из-за лени — переделывать там, трудиться!
Барство, барство заело. Написал сценарий, подал белой ручкой на утверждение, получил «добро» — и хватит. Сомнения, метания, «дайте переделаю» — это не для великих. Это им неловко даже! А ты, мальчик, начинающий, чего тебе еще? Получил верняковский сценарий. И между строк право на интерпретацию («Режиссерский сценарий, съемки — ваша епархия») — действуй!
Не знал Юрка, что уже несколько вариантов этого самого сценария сделано и обсуждено. И что в зубах навязло, и начинать все сначала — каких же сил хватит?! Не знал Юрка. И потому злился: перетрудиться не хочешь, да? Ах, Барсук великий! Барсук осторожный! Только жену вот взял неосторожно, так же, как ленивый хозяин покупает годовалую собаку, — так, кажется, вы, уважаемый Барсук, изволили выразиться? Не приручится ваша, простите, сучка. Не будет руку лизать далее за сытную жизнь.
Юрка еще раз посмотрел на удаляющуюся Нэлу, она оглянулась, и движение тока в оба конца создало атмосферу сговора.
Юрка засел за режиссерский сценарий. И его легко повело вслед за Барсуком.
Что такое кино? — будто спрашивали написанные им сцены. Кино — это смена кадров, кинетическое искусство. Оно мыслит движением!
Смена кадров была буквально продиктована каждым словом, диалогом, сценой!
Юрка захлебывался в этом удивительном соответствии литературного материала с предполагаемым воплощением. Он сразу рванул вперед, в два счета сделал несколько сцен. И остановился. Дальше лежала такая же гладкая, накатанная дорога. Мало материала ему, режиссеру, давал этот несимпатичный председатель, его окружение, его дела. Слишком четко шла авторская мысль по верной дороге. Нигде не угадывалось ям, трамплинов, взлетов… Ассоциации, которые обычно так легко давались Юрке, тут не посещали.
И начал Юрка вспоминать того неладного председателя, который в Крапивенке к медку ихнему прилип. Ведь он что — он электростанцию надумал строить, чтобы и свет в деревне, и электродойка, и все прочее!.. Гонял мужиков сверх всякой нормы на земляные работы, грозился отнять личный скот, покосы — уж больно они время от колхозных дел отрывают.
— А чем прокормишь-то? — спросила, помнится, бабка.
— О будущем надо думать, — отвечал он, слизывая с пальца мед, потекший было по бидонному боку.
— Как же в завтра через сегодня перепрыгнешь? — допытывалась старуха.
Не удостоил. Ушел с бидончиком домой.
Он построил все же электростанцию. Не рассчитал, правда, река оказалась слаба. Вот Юрка и подумал: взять это нелепое сооружение как стержень. Неудавшаяся электростанция как символ безответственного размаха за чужой счет — за счет крестьянского труда и государственных денег. И что бы ни происходило в селе — перед глазами это строительство. Сперва любовная сцена на ночном, загроможденном пустыми машинами берегу; потом столкновение председателя с бабами, идущими с прополки и набившими кофты огурцами, на фоне уже поднявшегося каркаса. Сооружение это, дальше — больше, становится видно отовсюду, занимает весь задний план. Оно довлеет, оно снится разным людям по-разному. Потом — всё. Готова. Деревня ждет. И вот вспышка света (пропадает за окном доярки Веры сад с яблоками, дальний лес, летящая птица) — и высвечивается комната в ее мещанском уюте: диван с ковриком, белая скатерть стола, буфет. Новый кадр: свара между телятницей, которая не дает забивать телочек, и ветеринаром, который… В общем, есть там такая сцена.
Председатель делает все отношения грубыми, недоброжелательными, стравливает людей, лишает их радости отдыха, возможности пойти в лес по грибы (такая сцена тоже есть), срывает свадьбу… И вместо всего этого дает им насладиться на какое-то время ковриком над диваном, высвеченными чашками в буфете, дает надежды на лучший быт.
— А что же, — сказал Барсук, выслушав Юркино предложение по сценарию, — не нужен свет? Быт? Культура?
— Нужны, нужны, — засмеялся Буров, еще возбужденный рассказом и к тому же предвидевший это возражение. — Только все надо делать по-людски. Не помню кто, Ганди, кажется, сказал, что средства меняют цель. Да, впрочем, у него и цель-то не людям доброе сделать, а самому выслужиться, вот что. Духовное — хочу я сказать — всегда выше и важнее всего, будь это самый разустроенный быт. Не замахивайся на душу! А потом, когда этот ваш председатель, такой молодец, идет на повышение, и деревня гуляет, провожает его. — вдруг свет мигает, тускнеет, гаснет. И проступают небо, деревья, изящные очертания домов с коньками на венцах. И над этим трехрядка и — песня. На минуту вспыхивает свет, гасит дали, высвечивает жратву на столах у конторы и снова гаснет.
Я сделаю это «не замахивайся», я уже много чего надумал!
Теперь Юрка часто забегал к Барсуку, перезванивался с ним. Старик спорил. Сражался, как лев.
— Нет, нет, не согласен. Подумайте еще.
Но на студии не жаловался. Может, ему тоже хотелось получше.
Только позже Юрий понял, как неумело взялся, как старался все повернуть по-своему, чего от режиссера не требовалось вовсе. И оценил терпимость Барсука.
— Если вам, молодой человек, угодно пустить меня по миру с молодой женой Нэлой и собакой Джимми — валяйте. Осуществляйте свой замысел.
— До этого далеко, — ухмылялся Юрка. Он чувствовал себя смело и подъемно. Ах, как хотелось поскорее начать!
Юрка спешил к Барсуку — показать окончательный вариант. У него хватало ума согласовывать с ним все: отказываться от Барсуковой могучей заручки было бы глупо.
Возле дома, среди кустов и газонов, Нэла прогуливала собаку. Юрка сразу оценил великолепие картины, а также маленькую женскую уловку: Нэла вышла с Джимми после его, Юркиного, звонка. И вышла принакрасившись.
— Я бы на месте Бориса Викентьевича не пускал вас даже на такие прогулки, — сказал он вместо приветствия.
— Барсук может отпускать меня куда угодно. Это неопасно.
— Вот как? — искренне не поверил Юрка. — Почему?
— Он вытащил меня из такого дерьма… Я никогда не изменю ему, хотя бы на благодарности.
Она рассказывала все это, не поднимая глаз, и Юрка подозревал, что здесь не только природная совестливость при вранье, но и желание показать длинные ресницы, которые и правда были хороши.
Они вошли в подъезд, вызвали лифт. Женщина с трудом затолкала собаку в узкую кабину и улыбнулась, одолев это препятствие. Зубы у нее оказались сахарной белизны и немного выступали вперед. Говорящие зубы.
— У вас, Нэла, — вы знаете это? — говорящие зубы.
— Что же они вам говорят?
Она подняла глаза, и они говорили еще откровеннее. Юрка нагнулся и поцеловал ее в уголок губ. Это было прекрасно. И она не возразила, только зыркнула в стекло кабины — не видел ли кто?
— Так из какого такого он тебя вытащил? — допытывался Юрка в тот же вечер, лежа рядом с ней на неширокой тахте, поставленной к тому же (ох уж эти выдрючки!) поперек ее будуарной комнаты.
Получилось так — Юрка застал Барсука на выходе. Его вызвали в Госкино. Он был деловит и смущен: испытывал неловкость перед Юркой.
— Я забыл совсем о совещании, а тут звонок… Простите, Юрий Матвеич. И вечером я зван на банкет, так что только завтра прочитаю. Сам прочитаю, вы оставьте… Правки? От руки? Разберу. Нэлочка, может, вы угостите Юрь Матвеича кофе? Смягчите эту мою неловкость!
И вот она смягчила. Весьма хорошо справилась.
— Ну, так чем же он тебя облагодетельствовал?
— Не смейся. — Она надула губы (у нее толстые губы, очень яркие, и довольно много мелких морщинок под глазами). — У меня была ужасная семья…
— Дети?
— Нет, отец. Он пил.
— Но прости, дорогая, я так понял, что Барсук не похитил тебя ребенком. Или ты еще жила у отца?
— Нет, я жила у мужа.
— Ну вот видишь.
— И он тоже был гадкий человек. Он чуть не заморил меня совсем. Ни копейки карманных денег, одежка как из приюта и — никуда. Даже института не дал окончить: терзался, видите ли, сомнениями — уж не по расчету ли я за него вышла?
— А кто он?
— Да пустяки. Генерал.
— Ну, это не пустяки. Это кое-что. Но ты, конечно, любила его?
— Я была глупой девчонкой. Мне бы только из семьи вон.
— А Барсук, стало быть, хорош с тобой?
— Он меня любит. И уважает.
— Потому и говорит «вы»?
— Да, потому. Не задирайся. Он столько дал мне — знаний, понимания искусства, дал мне ощутить, что я тоже человек. Вот почему я никогда не смогу…
— Ну-ну, я слушаю.
— …не должна быть дрянью… — тихонько договорила она и поднялась, накинула халат.
— Конечно, — сказал он, целуя ее в затылок. — Дрянью быть не надо.
Нэла проводила его до двери и, когда он уже кивнул ей, не выдержала:
— Ты позвонишь мне? Да? Я буду ждать.
Юрка шел обескураженный. Нэла совсем не нравилась ему. Ни игра в добродетель, ни отсутствие этой добродетели, ни легкость формулировок, за которыми ничего не стоит («из такого дерьма…», «не должна быть дрянью…»), ни даже откровенное бабье прощанье («Ты позвонишь мне? Да?») — ничто не тронуло и не задело его. Скорее вызвало протест. Это был чуждый ему человеческий тип.
Ну и не лез бы!
Но притяжение было остро и сильно, он сам не знал в себе такого! Раньше к людям, заводящим связи без любви, относился с жалостливым пренебрежением: бедные сердца, блудливая плоть! А теперь вот сам. То же.
На другой день позвонил Барсук. Он прочитал. Это очень интересно. Оч-чень… Он не уверен, что все это будет понято как следует. Надо бы не дразнить гусей, кое-что завуалировать. Эту электростанцию, например… Что?.. В картине будет торчать перед глазами? Ах, молодой человек, фильм — произведение искусства, он воспринимается уже чувственно. А здесь, в сценарии, пропускается через холодный разум. И вообще — слушайтесь меня в таких вещах, ведь тут я собаку съел.
Юрка во всем послушался. Старик прав, нечего спесивиться своей прямотой, если хочешь делать по-серьезному; поступись малым ради большого и т. д. и т. п. — множество житейских разумностей. Но внутренне сопротивлялся мучительно.
— В нашем деле, любезный мой Витторио де Сика, таланта мало, нужны еще дипломатия, стратегия…
— Хитрость?
— Если хотите.
— Не хочу! Я не делаю дурного, чего мне хитрить?
— Ну-ну, успокойтесь. Нэлочка, дайте нам коньяку. Спасибо, вы свободны. Так вот, я не вполне разделяю вашу точку зрения на кино… По мне — детали могут сделать больше, чем символы. Но мне интересна и такая позиция. Н-да… Вы, как мне кажется… Впрочем, я не хочу вникать в это. Постарайтесь победить: победителей не судят.
Скорее, скорее к делу! Юрий с трудом выслушивает эту болтовню. Теперь весь он превратился в какой-то перерабатывающий аппарат.
Прожужжала муха и, стукнувшись об открытую раму, улетела, а звук ее перехватил самолет… Ну и что? А сам знал уже «что»: пойдет в дело. Пчела, например, и электростанция. Спокойная поляна с ульями возле лесничества и развороченный берег — начало стройки. Роятся пчелы, рой улетает. Люди, шумя, негодуя (сняли их с полевых работ, знают, чем это обернется), начинают, однако, копать. А после когда-нибудь — жужжание пчелы и гудение электростанции. И всякие мысли-отходы. У пчел строительный разум, этого им достаточно. А человеку мало, верно ведь? Да и строительного разума-то нет, потому что где ж они выбрали электростанцию строить? Разве так, без хорошего расчета, начинают?
Или идет Буров по длиннейшим коридорам мимо студии — и вдруг лицо. Резкие скулы, ноздрястый нос, тоскливые глаза. Ба, это же председатель!
— Простите, кто вы?
— Я? Артист такой-то.
— Вы сейчас снимаетесь?
— Нет, я вообще не снимаюсь. Это я к приятелю зашел.
— Я бы хотел попробовать вас…
И возится с этим человеком, пока не убеждается, что нашел. Нашел! Не затасканный по экранам, никого не будет напоминать.
И день озаряется: нашел! Главного нашел! Пора начинать пробы.
Приходит домой — на столе записка Дуниной рукой «Уехала в Крапивин на неделю. Твоим гостинец повезла» И первое Юркино дело — звонит Нэлке:
— Будешь свободна — прибегай, я дома. Адрес такой-то.
И сам смеется. Если бы хотел показать, что такое для него Барсуков фильм, сделал бы вот такую смену кадров работа над фильмом — Нэлка, опять работа — и опять эта женщина. И там и тут похоже, похоже на настоящее, да не то.
Юрка любил поспать, но теперь просыпался рано, щурился на солнышко, упругая сила выкидывала его из кровати. Он бегал по комнате в трусах, благо Дуни не было, совал в рот хлеб, запивал водой и уже не принадлежал себе, потому что не мог думать ни о чем, кроме идиотского фильма. Он купил большую тетрадь и каждую минуту вписывал туда или врисовывал. Перекладывал что-то на столе, куда-то спешил все время. А поглядев на часы, убеждался, что опаздывает. Он же назначил таким-то актёрам! Ах, болван! Ах, стервец! Плохо все же без телефона. Хоть извинился бы, позвонил. Ну вот ужо поставлю фильм… И Дуня от меня небось устала…
И снова что-то записывает, поглядывая на часы. Посмотреть со стороны — не в себе человек. Точно: не в себе.
По дороге к метро:
Опаздываю. Чертова спешка вечно. Хорошо бы Володька Заев был на месте, мог бы распорядиться насчет фотопробы. Лучше Нины Смирновой на роль Веры не найти, Нина много занята в театре, ну да ничего, выкроит.
В метро:
Молодчик из МТС, полюбившись с Верой-дояркой, хочет уехать от нее восвояси, поскольку и жить тут негде, и работать в дрянном этом колхозе он не хочет. А Веру председатель не отпускает — они ведь не венчаны, имеет полное право не пустить. Верка беременна, живот едва скрывает и говорить об этом совестится. А мать знает и гонит ее.
И вот стоит бывшая красавица, первая девка на деревне, стоит посреди дороги с узелком. И не встреться ей подружка, завклубом Рая, неизвестно, чем бы еще дело кончилось. Рая тащит ее в клуб, своей властью отдает комнату за сценой (гримерную), а через какое-то время…
«Станция Смоленская. Следующая — Киевская. Осторожно, двери закрываются».
Юрка встает, подходит к двери. В темном зеркале ее стекла некто узкоглазый, со сжатыми губами отрешенно смотрит ему в лицо.
…Да, а потом посреди собрания, прямо во время доклада, где чествуют передовиков, в том числе парня этого, Петьку из МТС, разлается детский плач. Средний план: замолчавший докладчик из райкома с поднятой рукой, притихший зал. Крупный план: выхватываются камерой Петька, до которого дошли слухи об его невенчанной, председатель колхоза — он хмурится тоже (видно, наслышан).
Потом все оживает, докладчик, стараясь перекричать ребенка, продолжает речь, зал занял исходные позиции (несколько женщин, вслушиваясь, активно комментируют соглашаются, удивляются, спорят, девушки шепчутся, трое мужиков складываются по рублишку, кто-то лущит семечки, бабка придремнула). Только место парня пусто.
А потом и место председателя. Вот тут как раз любовная сцена: Петька потянулся к ребенку, обнял заревевшую Веру. И — приход разгневанного председателя с грубым словом, с недобротой. Его ослушались: кто велел ком пату отдавать? И Веру он не отпускал из колхоза, чего не работала? Не даст он им жилья, не нужны ему такие!
«Станция Киевская. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны».
В автобусе:
Если к этой сцене прилепить сцену с градом, как град побивает только что пошедшую в рост рассаду. Не слишком ли примитивна ассоциация? Вроде бы простовато, но есть и другая, негативная мысль. Дождь, снег, град — стихия. Ее не предусмотреть. А ему-то, председателю, кто дал право стихийно ломиться в чужую жизнь, властвовать? На град закона нет. А на него? В студии Юрку уже ждали, конечно. Ждала, как ни ужасно, Нина Смирнова — худая, с острым, нервным лицом, не очень-то молодая без грима. Она не отвела рукав и не поглядела на часы. О, как Юрка ей благодарен! Партнера — простоватого на вид Гришки Степанова — не было. Заева не было тоже. Зато была еще одна женщина. Кто это? Красивая, молоденькая, сильно подкрашена. И почему-то был Виль Аушев. Отозвал в сторонку:
— Я Тоню Лебедеву привел, Василь Василич просит за нее.
Первым импульсом было выгнать взашей и Виля, и Тоню, осененную таким крупным покровительством. Юрка ощутил прилив веселого бешенства. Но он пока сдержался, молча, холодно глядел на Виля.
— Не вороти нос, старик, она — талант и к тому же с его курса. Очень советую.
— А если я уже выбрал?
— Хоть поговори с ней, послушай ее — не прогадаешь. И для фильма, и для худсовета.
«Никогда не следуй первому порыву, — учил старик Талейран, — потому что он почти всегда хороший». Юрка последнее время часто вспоминал этого старого лиса.
— У вас есть время? — спросил он Тоню. — Можете ждать? Долго ждать?
Она кивнула.
Виль сунул Юрке свою вялую руку и вышел почему-то на цыпочках. Из уважения к Юркиному преуспеянию?
Но вот, слава всевышнему, явились и Заев (смущенный, с других съемок), и Гриша Степанов (даже не извинился). Игралась та самая сцена в клубе, в гримерной. Заев мудровал со светом и камерой:
— Для мужчины — две лампы, да, спереди, резче, так! А женщину… Можно вас, Нина Петровна, попросить сюда?
Юрий тем временем приглядывался к повороту ее головы, мимическим приемам.
Тоня Лебедева дубовато сидела на стуле, кусала яркие, не накрашенные на гримированном лице губы, ждала своего часа.
Буров нарочно медлил с Ниной. (Она, конечно, она. Всё может, все понимает. Ее взять нужно.) Потом попрощался, ласково проводил до двери. Еще раз пожал руку.
Тоня все так же дубово маячила, влепленная в стул. Юрка подсел к ней:
— Так вы только что окончили? Кого вы играли?
Девушка глянула робко огромными темными глазами и заговорила сбивчиво. В ней была странная, очень плохо совместимая с актерским ремеслом смесь деревянности и хрупкости.
— Вы можете прочитать что-нибудь?
То, что она читала, не сходилось с выражением ее лица. Но, может, это и неплохо, потому что характер Веры — хозяйственной, веселой — не сходится с ее жизнью, как она повернулась. Эта Лебедева, вероятно, хорошо может заплакать.
— Вы смогли бы заплакать?
Он сказал это скорее от досады, что вот готов предать Нину — уж не потому ли, что легче идти на поводу у сильных мира сего?
А девушка глянула ему в глаза и вдруг заморгала, заморгала, и из покрасневших глаз потекли тяжёлые, мутные слезы. Не наигранные — настоящие.
— Как это вы делаете? — ухмыльнулся Юрий. — Про что-нибудь вспоминаете?
Она вытерла слезы, размазав тушь, и улыбнулась (улыбка, правда, была несколько сделанной, отработанной).
— Ну, так откройте мне тайну.
— Не открою. — И глянула с вызовом.
И понял Юрка, что перед ним женщина бедовая, взбалмошная и, вероятно, истеричная. Но ему захотелось снимать ее.
Кто-то из психологов, ведущих исследования с помощью кибернетической машины, рассказывал, будто установлено, что человек в своих действиях никогда не руководствуется одним импульсом: их всегда бывает по меньшей мере два.
Первая съемка.
Двадцать второго августа фильм запускается в производство…
Все казалось — далеко, далеко, палкой не докинешь до этого двадцать второго. А вот оно. Солнце ясное, как бывает только осенью.
Юрка проснулся рано, а руки не просыпались, были слабые, ватные. И ноги не попадали в брючины. В голове пусто. Голос сел почти до шепота.
Да я, кажется, волнуюсь!
…Режиссер…
…это состояние волшебника, мага, может даже — клоуна или палача. Он вдруг почувствовал, что не поднимет все это. Нет силы, нет уверенности, нет того ощущения могущества, которое единственное, может… Какой там клоун или палач? Нет, осужденный, приговоренный, неизвестно зачем все это затеявший!
Снимали в подмосковной деревеньке Кочергино — маленькой, стоящей на холме среди леса. И только узкая дорога соединяла ее с ближним городом, а десятикилометровая тропа — со станцией.
Еще месяц назад, когда Юрий вместе с Заевым ездил «выбирать натуру», а попросту — искал деревню, где вся Барсукова история должна была зазвучать и задвигаться, он меньше всего думал о Кочергино. В кино, как и в живописи, его не тянуло к изображению броской, явной красоты. Но потом, когда перебирал в уме все увиденное, вдруг оказалось, что и доярка Вера, и ее подружка Рая, и дед Савелий, носитель народной мудрости (ох, Барсук, ох, предусмотрительный!), и даже своевластный председатель — все разместились именно в Кочергине и больше никуда влезать не хотят. И тут уж ничего поделать было нельзя. Деревня была наполовину оставлена жителями (перебрались после укрупнения колхоза в соседнюю, менее глухую), договориться о съемках было легко.
Какое-то время там чинили, красили, разрушали, вытаптывали, шумели, мусорили под серьезными и удивленными взглядами стариков и под гиканье ребятишек. (Людей средних лет там как-то не было, будто этих детей заботливые старики вывели в банках.) И теперь, конечно, деревня была не такой: грим, он и есть грим! — но когда Юрка, подъезжая в первый день съемок, опять увидел ее, странное ощущение того, что все должно было разместиться именно здесь, снова посетило его и успокоило. Узнавание. А почему бы и нет? Вера живет вон в том крайнем доме. А вот у того плетня она поцеловалась с эмтээсовцем Петькой, а бабка Степанида погасила лампу в избе, чтобы лучше разглядеть, кто там целуется.
Не от сценария, но от актеров даже (они почти все очень нравились Юрке, он гордился удачным подбором, любовно оберегал их и нежил взглядом), — нет, от странной этой полузабытой деревеньки родилось ощущение, что всё еще, может, будет ничего себе. И как только это ощущение пришло, вернулся голос и сила в руках и все повернулось к нему добрым лицом. Буров потом сам завидовал себе. И каждый позавидовал бы. А как же?! Первый в жизни съемочный день (а стоимость съемочного дня — первого и любого — столько-то сотен рублей!), представьте это чудо:
солнце не зашло за облака (не сгорело, не упало на землю);
ни один актер не оказался охрипшим (сильно поддавшим, со сломанной ногой, с разбитым сердцем, с подбитым глазом, с репетицией в театре, которую нельзя пропустить);
кинокамера не упала в реку (или не в реку);
в отснятый кадр в последнюю секунду не вошла корова (не сел парашютист с неба или марсианин с Марса);
не забыли налить воду в ведра, вовремя включить музыку, пиротехники, когда потребовалось, дали дым, и оператор…
Впрочем, про оператора — про Володю Заева — отдельный разговор, отдельная песня.
О, Володя Заев, молодой человек двухметрового роста, с желтыми зубами и болезненно впалыми щеками (очень, впрочем, здоровый)! Человек точной профессии, в отличие от многих других кинодеятелей: талантлив или бездарен, хорошо работал пли плохо, — как говорится, экран покажет.
О, Володя Заев, который знает, как сделать блик в глазах, что такое контровой свет и подсветка и как с помощью верхнего света укрупнить лоб и нос, сделать глаза маленькими, глубоко спрятанными, а светом снизу подчеркнуть монументальность, умеющий «убрать» возраст и прибавить его, невыразительное лицо сделать значительным и заставить пустые глаза излучать ум и тепло.
Оператор Заев, умеющий учитывать живую связь кадра с ритмом всей сцены, с музыкой, актерской игрой; умеющий сохранить в себе этот ритм до следующего кадра, который, возможно, будет сниматься через неделю, месяц, полгода…
Володя Заев, который, войдя в павильон, шарахается от бутафорского гуся, но однажды снимал с портального крана на плотине восьмидесятиметровой высоты (да тридцать метров кран). И чтоб не прогоняли, дал расписку, что за свою жизнь, мол, отвечает сам. «Когда я смотрю в объектив, у меня нет времени бояться».
Можно много еще пропеть во славу Володи Заева и все в этой песенке будет главным. Но песня, как и фильм ограничена метражом, и потому, только потому приходится ее прервать.
Буров во время учебы бывал на съемках. Поначалу как и любой свежий человек, удивлялся: «Чего тянут? Теперь он крепко знал, как громоздок и неповоротлив весь этот киномеханизм с его художниками, декораторами, осветителями, гримерами, бутафорами, помрежами, ассистентами, с актерами всех мастей и характеров, с операторами, и операторами-комбинаторами, и звукооператорами… И что, напротив, все спешат, а не «тянут», и что все время идет на подготовку кадра; что свет ставят примерно четыре часа, и актер должен точно выйти на кадр и быть в форме, хотя он, может быть, уже несколько часов сидит в гриме, — и никто не виноват: у режиссера все должно быть под руками.
Юрка еще на курсах дал себе слово на съемочной площадке не кричать и не раздражаться. И вот теперь, напряженный, вобравший голову в плечи, мягкий в поступи (он был похож на какого-нибудь хищного зверя, — например, на пантеру), носился от актеров к осветителям и оператору и вполголоса отдавал распоряжения. И чем больше было неполадок, тем тише он говорил, почти шипел. И постепенно вся группа перешла на полушепот.
— Я устал от тебя, — сказал ему как-то Володя Заев, когда они после съемки завалились в кафе. — Устал до боли в челюстях.
— С чего бы? — удивился Юрка. — При моей-то дьявольской лояльности!
— А глаза?
— Что глаза?
— Я принесу тебе зеркало, дьявол косой. От тебя актеры шарахаются. Тонька тебя как чумы боится. «Тонечка, если вас не затруднит, дорогая, вспомните, что вы делали, когда пять… нет, простите, десять раз репетировали эту сцену. Напрягитесь, моя радость». И она деревенеет.
— Это в ней есть.
— Что?
— Деревянность. Ничего, Володька, мы с тобой еще снимем настоящее. По первому классу.
— А это тебе не нравится?
Юрий удивился вопросу. И понял, что Володя работает в полном и искреннем упоении и что он, Буров, не должен, не смеет сбивать его. Да и миф о том, что снимается отличный фильм, развеивать не следует. Пусть будет первая категория, прокат, слава, деньги, интервью, приглашение на штатную работу, новый заказ, новая квартира, новая жизнь…
Все, все хочу! Хочу жизнь, ее мякоть, ее сок, ее ласку и тепло!.. И получу.
Тоня плохо двигалась. Не вообще, а перед камерой. Робела. Вся несвобода ее, вся деревянность выходили наружу.
Бурова это сердило. Но по-человечески нравилось: хоть кто-нибудь в этом хватком мире робеет. Потому, может быть, а вовсе не ради Вас-Васа отстаивал он ее на худсовете. Ведь когда худсовет смотрел кинопробы, всем было ясно, что эта девочка «не сечет». Юрка снял ее для кинопробы в сцене, где Вера сидит, качая плачущего ребенка, в гримерной клуба и слышит звук Петькиных шагов. Ждет. Знает кто, но не знает, как все будет. И дальше — появление Петьки.
Нина Смирнова, которая для кинопробы играла с Гришей Степановым ту же сцену, прислушиваясь к шагам, передала мимикой и тревогу, и надежду, и оскорбленную женскую гордость. Володя Заев не мог оторвать камеры от ее нервного, умного лица. А эта, Антонина, отупело уставилась своими прекрасными темными глазами в стену и ждала оцепенев. Ждала судьбы. И Юрка понял, что в этом ее суть: оцепенело, страстно ждать, помня, однако, памятью тела, души, крови о своей притягательной красоте.
Такой рисунок Юрке почему-то нравился больше, хотя он понимал, сколько в нем личного. (Нет, не он сам был склонен ждать судьбы, а все пра-пра-предки его, и мать, конечно. Было оно, покорство, в его пароде. До той, правда, черты, когда уже сил нет терпеть. И тогда — все! Тогда не удержать стихии!)
На худсовете, помнится, выступила некая Вика Волгина — редактор. По его, не Юркин редактор, а так, из их объединения. Она была молода и не хотела обратить внимания на молчание режиссеров, уважительное (да и трусоватое для некоторых) по отношению к ставленнице Вас-Васа. Что ей, она другой цех.
— Наше кино, — сказала Вика, смахивая со лба бледную жиденькую челку, — наше кино давно отошло от западных традиций снимать непременно красавиц, заполнять бессмысленной миловидностью пустоты мысли, чувств, концепции…
(Юрий разозлился на эти «западные традиции». Что за манера подо все подводить эдакую базу?!)
— …Мы стараемся показать душевную красоту наших людей, что не всегда совпадает с красотой внешней, физической.
И Юрка понял, что Вика не просто участвует в работе худсовета по отбору актеров, а борется за место под солнцем. Ах, как лобово проявляется самолюбие дурнушки! Но Юрке не было жаль ее: нечего бороться за его счет!
— Что, разве теперь отменяется внешняя красота? — спросил он простодушно (Волгина метнула сердитый взгляд и села). А Буров добавил серьезно: — Мне нравится, как работает Лебедева. Ее рисунок лишен тонкости, филигранности, но в нем есть густота мазка. Мне для образа, который я задумал, она подходит больше, чем Нина Смирнова, которую, впрочем, тоже жаль упускать, верно ведь? И я поручу ей не худшую роль.
Все одобрительно закивали, оставив незамеченной незамысловатость Юркиного ораторского приема.
— А что до красоты, — продолжал Буров, он, как всегда, хотел полной победы, — что до красоты, так ведь это тоже довод. Особенно в кино. Наше представление о внутренней гармонии в значительной мере складывается из гармонии внешней. Ведь кино — это зрелище. Лично я согласен с одним из основоположников теории киноискусства — Баллашем. — Теперь он обращался исключительно к Вике, как бы давая урок, разъясняя азы. Даже чуть поклонился ей. — Бела Баллаш говорил о связи кино с культурой Древней Греции, о том, что, когда передовые рубежи заняло книгопечатание, физическая видимость человеческой красоты потеряла свою ценность и что лишь с появлением кино, сделавшим снова человека видимым, опять пробуждается сознание красоты и пропаганды её, то есть красоты… — И махнул рукой, и улыбнулся подкупающе уже всем остальным. — Ну, в общем, все мы читали одну и ту же литературу.
И ему одобрительно улыбнулись в ответ.
Позже Юрий смеялся над своей идиотской гордостью, заставившей его прочитать лекцию о красоте. Ведь суть-то этого спора заключалась в простом: не суйся, не лезь в мои дела. Ни ты, редактор-середнячок, ни вы, члены уважаемого худсовета. У меня есть зубы. Вот они.
Теперь, на съемочной площадке, Юрка проклинал и себя, и Тоню Лебедеву, которая никак не могла ухватить главное, не умела общаться с партнером, смотрела сердито на Юрку, а порой и огрызалась: «Объясните, пожалуйста, чтоб было понятно». Или: «У вас каждый день новая трактовка».
Конечно, новая, раз актриса не способна взять того, что предлагает режиссер.
Однажды во время съемок (любовная сцена Веры и Петьки — сцена, где полный контакт, взаимное притяжение) Антонина вдруг заревела, сбросила жакет, платок: «Не могу, не умею, не хочу!» Целая истерика.
Володя Заев молча пожал плечами и отошел от кинокамеры, которую до того прилаживали полдня, актеры переглянулись и возроптали. А Юрка вдруг понял: да она неконтактна! По-человечески неконтактна. Как не увидел сразу?!
Он подошел к ней:
— Тонечка, вы правы, у вас не получается. Не хочу вас мучить. Вы свободны.
О, какой последовал крик! Сколько было выдано темперамента!
— Лидия Андреевна, — попросил тогда Юрий актрису, игравшую Верину мать, благо сцена с ней должна была сниматься в той же выгородке, — идите-ка сюда, пусть она на вас изольет свое дочернее возмущение.
Тоня и обрадовалась, и не отошла еще от потрясения, — некрасивая, заплаканная (гримерша едва успела поправить лицо), вдруг возговорила человеческим голосом.
«Кнут тебе, девка, нужен, — думал Юрка. — Истеричка чертова!»
А как с ходу взяла ее состояние прекрасная актриса Лидия Андреевна Строгова, и как они великолепно не понимали друг друга, и как оголтело снимал Володя! И опять же — лампа не лопнула, никто за кадром не зашумел, свет в самый ответственный момент не отдыхал, пленка не кончилась… Удача есть удача!
— Ах ты моя талантливенькая! — И Юрка поцеловал Тоню в покрытый оранжевым гримом лоб. — Ах ты умница!
И крепко пожал руку Лидии Андреевне.
После с Тоней возни не было. Юрий больше не ставил перед ней актерских задач. Он научился снимать ее патологию, что ли: нужна была отрешенность — шипел на Тоню, вводил в деревянность; веселость — хвалил сверх всякой совести и меры; слезы… Ну, плакала она сама много и охотно.
Тоскливыми глаза у актера, встреченного когда-то в коридоре и взятого на роль председателя, оказались не зря, он пил. Пил тяжко и тайно. На съемки являлся трезвый, как стеклышко, но совершенно охрипший. Прятал глаза, бодрился, Так прежний председатель из носителя хмурой маски зла стал живым, запьянцовским. Он был карьерист с изъянцем. Но карьерист. Потому и пыжился перед начальством, хотел перекричать других. Недуг свой скрывал — был еще сильный, нерастраченный. Хотел командовать, не встречать возражений. И то, кто мешал, становились врагами. А доярка Вера? Вера мешала иначе: еще в первую встречу в конторе, куда она вместе с другими доярками пришла требовать кормов для своих подопечных, председатель на нее «положил глаз», да так недвусмысленно, что Юрка, повторяя сцену, сделал на этом акцент и ввел еще сцепу, где председатель долго и тяжело смотрит вслед прошедшей мимо девушке. Зацепилось, завязалось, непредусмотренное. И потянуло, повезло! А жене председателя, приехавшей с ним из города (Нина Смирнова), Володька Заев сделал неожиданный подарок: все, на что глядит она, оказывается подробным, рассматриваемым, странным, будь то дубовый лист (и потом весь огромный раскоряка дуб на опушке леса, примелькавшийся всем, кроме этой тихой, замедленной женщины) или рука старой доярки — длиннопалая, скрюченная, деформированная работой…
А когда Заев так же крупно и подробно заснял изнанку старого белого гриба — входы, выходы, как домишки, — Юрий взял эту живопись в фильм просто так, как необязательное, но полное обаяния бытие вещей.
Забегая вперед, следует сказать, что в строго социальном, четком фильме эти вольности лезли в глаза, и кое от чего Буров сам отказался, а кое-что убрали, когда принимали фильм. Но во время съемок такие находки радовали их обоих — Юрия и Володю, радовали и сближали.
Теперь Юрий уже не метался черной пантерой, он вальяжно расхаживал, а фильм шел как по накатанному. Как-то все объединились в ощущении, что будет нечто незаурядное. Не только операторы и актеры, но и электрики, и бутафоры, и ассистенты… Поверили, что ли, в Бурова? Или взял он их своим нахальным и вместе вежливым напором? Но все помогали, тормоза, столь обычного в этом многолюдном деле, не было.
Фильм все больше сжирал сценарий. Юрка переписывал этот сценарий кинокамерой, расставлял иные акценты.
— Ой, парень! — качал головой Заев. — Шуганут нас, как бог свят.
— Не каркай. Работай давай!
Было так гладко, что казалось иной раз: попали в поле невесомости — что-то неладно. И другое смущало: Барсук, то есть Слонов, не показывался. Изредка звонила Нэла, но было не до нее.
И настал день, когда все сцепы были сняты, включая отлично получившуюся массовку с посрамлением председателя.
Наступил монтажно-тонировочный период.
Считается, что на 60–70 процентов картина делается за монтажным столом. Юрий слышал об этом на лекциях и в разговорах. Но, конечно, не мог представить себе, во что это выливается, — невероятного напряжения, когда на маленьком экране идут отснятые куски, которые надо резать, склеивать, лепить один к одному, ничего не выпуская из обострившейся, колом торчащей в тебе памяти… Э, что там его записи во время съемок, опыт монтажера! Нет, тоже важно, все важно, но здесь бог-создатель — ты. И потом эти соотношения закадровой, внутрикадровой музыки, волнение композитора, музыку которого, разумеется, раскромсали, измельчили, зарезали, а в этой вот сцене заглушили варварски и диалогами, и шумами. И на все отдельная пленка, и пока все это перезапишешь на одну…
Юрке снились звуковые сны, он глох от напряжения, улица казалась ему бесшумной.
Он обожал толковость пожилой сухопарой монтажницы, точно исполнявшей, а иногда и предвосхищавшей его волю, безошибочно знавшей, какой материал и в какой коробке лежит.
Он нежно любил музыкального редактора, и звукооператора, и ворчащего композитора, потому что они тоже помогали ему. Усталый после съемок, он думал, что уже не управится с этими делами. И вот — негатив и оптическая фонограмма. И вот — сведены на одну пленку… А на горизонте разумный, все видящий и все умеющий растолковать худсовет.
— Ну что же; кто хочет высказать суждение об этом фильме, интересном, разумеется… который, однако, может вызвать размышления и, возможно, возражения. Ну, не предвосхищать… Прошу.
— На мой взгляд, вещь получилась незаурядной. Борис Викентьевич (поклон в сторону Слонова) всегда радовал нас смелыми находками, резкой, но справедливой критикой. Приняв его сценарий, мы не ошиблись и в этот раз… Точное ощущение действительности, безукоризненное чувство меры… (И так далее, и не последовало никаких возражений.)
— Благодарю предыдущего оратора… Я, как автор… Э, да, впрочем, все мы здесь свои. Так вот. По весьма среднему сценарию… э… не являющемуся, мягко скажем, моей вершинок, этот парень умудрился снять прекрасный фильм. Успехом… (О, Слонов! Как он умел закрепить победу!) Успехом картина обязана Юрию Матвеичу Бурову. Это он нашел блестящую молодую актрису, он смягчил несколько резкие, признаюсь — гротескные даже, черты председателя, прекрасно показал индивидуальные, только ему присущие свойства характера. И он прав. Зачем нам тут было типизировать, обобщать, не правда ли? И лично я, как выигравший и поскольку к этому делу имею мало отношения (добродушный смешок), могу только поаплодировать молодому режиссеру (сложил у груди худые руки) и призываю вас!
— …приходится удивляться точному социальному чутью авторов, вот хотя бы в вопросе, затронутом Борисом Викентьичем, — о типизации…
— Считаю, что работа сделана отлично. Каково ваше мнение, Василь Василич?
Вас-Вас помедлил:
— Признаюсь, я волновался перед дебютом молодого режиссера, почти как перед своим, — ах, как это было давно, дорогие друзья, мой дебют! Вы спросите, почему волновался? Да потому хотя бы, что это моя вина, — впрочем, как мы видим, но такая уж тяжкая, — что Юрий Матвеич сразу же получил сценарий. Один из всей группы. И я готов рассказать вам, как это было. (Дальше сделанный на прекрасном актерско-старческом обаянии пересказ «Дальнего плаванья», этакого анекдота, который потом, однако, вызывает если не слезы, то грустные раздумья.) Грустные, друзья мои, потому, что в каждом из нас что-то не состоялось, потому, что всегда найдется в нас застойное озерцо, которое окружило наш прекрасно оснащенный в далекое плаванье катерок… (Пошли вздохи, возражения в том смысле, что ему-то, Вас-Васу, грех роптать и т. д.).
— …Подытоживая высказывания (перечисление имен), считаю долгом поздравить молодого режиссера с удачей, а нас — с находкой. Поздравляю. Примите мои искренние поздравления, Борис Викентьич, и вся съемочная группа, которая (и т. д.).
Вот как это прошло. Тут, в изложении, допущены некоторые сокращения, но в них нет ничего такого, чего не содержалось бы в текстах процитированных.
Бурову трясли руку, хлопали его по спине и плечам, делали улыбки, кивки… Резкие глаза его совершенно расплавились в этом тепле и сияли из узких, раскосых щелочек, выражая великую радость и признательность.
Но скребло сомнение: что-то уж больно легко, а? Очень уж бесспорно. Не вышло ли так, что я чуть прикрыл банальность свежинкой, как они говорят — «находками»… И потом — разве они не видят, как неточно выразил я то, что хотел, как грубы переходы?.. А впрочем… Чего не хватает человеку? Всегда ему мало: плохо — плохо, и хорошо — тоже плохо. Стегать таких мокрыми розгами, вот что. Надо уметь радоваться, Юрочка, дорогой!
А разве я не умею?
Гл. VII. Разговор в сторону
Это был весьма странный господин со старыми ушами. Не только уши, он и сам был стар, но они — особенно. Будто всего уже наслушались и сморщились (как говорится, завяли). Он был похож на можжевеловый корешок, из которого получаются фигурки и лица.
— Я из журнала. Вот документы. Хотелось бы поговорить, расспросить.
— Интервью?
— Если угодно. — И оглядел неказистую Дунину комнату. — Будете строить квартиру?
— Вероятно. Только позже. Сейчас устал.
— Я почему спросил: как раз из кооперативного дома выезжает мой приятель, он тоже киноработник, и я мог бы, если хотите… так сказать, «за выездом»…
Конечно, Юрка хотел. И записал нужные телефоны и адреса. Да, да, так и должно идти. Удача есть удача. Не бегать же за ней!
Теперь разговор потек задушевней — и о творческих планах, и о достоинствах актеров, кого из них думает взять в новый фильм, о том, что предполагает снимать, и даже о делах прошедших: легко ли шел фильм? Как принимали?
— Да все в порядке. Иначе и вы бы ко мне не пришли, верно же? А сами-то видели фильм?
— Острый он, Юрь Матвеич. Социально острый фильм.
— А почему бы нет? Кто этого боится? Есть другие «табу», а социальная острота… Если честно, я совсем иного хочу. Впрочем… Выпьем немного?
Старик не стал отнекиваться. Слава богу, осталась водка после вчерашнего заевского захода, втроем с Дуней выхлестали бутылочку, а вторую только начали — Дуня воспротивилась. Она хранила Юрку от загула, и он, надо сказать, стеснялся ей перечить.
Теперь сидели за накрытым скатертью обеденным столом, и старик тянул из рюмки потихоньку, будто что сладкое. Верхняя губа его, длинная, была вся в продольных морщинах и глубоко уходила в рюмку. «Фу ты, — думал Юрка, — тапир какой-то! Смесь тапира с можжевеловым корешком».
— Раньше я по всей стране разъезжал, — говорил старик, польщенный Юркиным внимательным взглядом. — И на Алтае, и у сванов, в таких селениях, куда орел не залетал; в Сибири жил у хлыстов, — любопытнейший, знаете ли, народ…
— Писали?
Морщинистые веки старика опустились, голова пошла из стороны в сторону.
— Пробовал. Скучно получается. Сам вижу, что скучно. — И оживился снова: — Вот ведь что выходит: много видел, а сказать не могу, а другой искусством этим, стервец, владеет, а не видел ничего. Ну что тут делать?
Юрий и сам уже думал об этом.
— Это разные вещи, поверьте, — сказал он. — Ведь вот человек, которому дано, он что увидит, услышит, иной раз прочтет даже, и сразу — ну, как сказать? — завертится в нем во-от такое большущее колесо, а оно приведет в движение маленькие колесики — машина целая! — и отведет от плоского, от обычного — за предел увиденного. Проникновение за предел…
— Что, что? — живо перебил старик. — Куда проникновение?
— Ну, немного в сторону. — улыбнулся Юрка. — Мы все спешим по укатанной дорожке вперед, вперед, от рождения к смерти. А ведь есть жизнь и в ширину… градусов этак на пятнадцать!
— Вы шутите, — устало произнес старик. Он весь осел, поставил стакан, опустив голову почти до скатерти. — Шутите. А меж тем… когда доходишь до моих рубежей… нет суеты, веселья, любви… все отсечено. Вот тогда вдруг: а чем утолиться? А? Не смейтесь. Вы молоды.
— Я не смеюсь, — ответил Юрка. Он теперь и правда не смеялся. Потому что в этом понимал старика. Он знал источник, который порой слишком взахлёст, а порой скудно поил его. Но старику такой источник не дан. Да и стоит ли пригоршня чистой воды навечной прикованности к ней?
— Вот вы, Юрь Матвеич, сказали — жизнь на пятнадцать градусов в ширину…
— Может, и на двадцать пять.
— Найдите, найдите ее!
Казалось, старик сейчас бухнется на колени. «Эх, напоил его», — покачал головой Юрка и улыбнулся снисходительно.
— Постараюсь. Вам не говорили на студии? Меня оформили на должность господа бога!
Гл. VIII. Соблазн
Смотреть квартиру пошли почти что всей съемочной группой: подружились за эти полгода.
Квартира была хороша — однокомнатная, с альковом, широким коридором, заставленным книжными полками. Кухня и все прочее в белом кафеле.
Юрка глядел, будто узнавал все это, хотя никогда в мечтах его не возникало ничего такого. Он хотел, а не мечтал. И вот — получил. Правда, еще предстояло сложное оформление, но Юрка не сомневался в исходе. Ему кое-что положено в жизни, и оно будет. Кое-что. Не более того.
Когда переезжал, Дуня, провожая его, плакала. Она была крепенькая, старая уже, а румяная, и пахло от нее простым мылом, хорошо стиранными льняными и полотняными одежками.
— Как от сердца отдираю! — причитала она. — Вот ведь дальний сродник, а как сын, как сын родный!
Юрка был удивлен и тронут. Он мало думал о Дуне и не знал, что принят в ее сердце. Он накупил ей всякой одежды, сластей, положил большую пачку денег на комод, под бывшую свою пепельницу. Он знал, что едва ли навестит старуху, а она к нему не сберется, не отважится — так хоть память добрая будет.
Новоселье справляли шумно, пьяно, весело. Тогда впервые в его доме появился некто Алик Родин, которого считали хорошим комическим автором, но в фильмы не брали. Он был сравнительно молод еще, красив — строен, изящен в повадках, смугл, светлоглаз, с длинными и очень черными девичьими ресницами и короткими вьющимися волосами.
Он подсел к ним в ресторане ВТО, куда закатились после худсовета — обмыть картину. Тогда, помнится, он довольно забавно изображал директора студии в роли официанта. Теперь Юрка позвал его к себе, по какой-то непонятной ассоциации связав его со светлинкой, радостью, дохнувшей тогда в ВТО детским — восхищенным и придирчивым чьим-то взглядом, осязанием чьих-то жестких светлых волос, похожих на сухую болотную траву. Было там, произошло в ресторане этом что-то неуловимое, оставившее свет и тепло.
На новоселье Алик, усевшись за стол, подпер ладонью щеку и бабьим пьяным голосом (пьян он не был вовсе) затянул «Хазбулата» на какие-то свои слова:
(вместо: «Ты уж стар, ты уж сед»).
И все подхватили эту игру в похожие созвучья. Кино-председатель колхоза, человек с тоскливыми глазами, изображая концертного конферансье, объявил «Поэму экстаза» Скрябина:
— Скрягин. Поем из таза.
— Тонкий ход! — кричала Нина Смирнова. — То есть Дон-Кихот!
— Арон Мюнхгаузен! — подхватил тот же Алик. Он пел на мотив нашумевших тогда «Ландышей»: «Ты сегодня мне принес Синий труп из-под колес…» — и даже тут все клонились от хохота. Было прекрасное ощущение братства и озорства, и, разгулявшись, Тоня Лебедева очень забавно изобразила порывистую Лолиту Торрес — как она поет, поет, что бы там ни было, даже когда из-под нее выхватывают стул (Юрка взялся подыгрывать), даже падая, целуясь, глядя на предсмертную агонию возлюбленного (того же Юрки), только песенка печальней, да плечи дергаются, да слезы текут.
Лидия Андреевна, грузная, с одышкой, пресмешно исполняла танец своего детства: выхватила из толпы длинного застенчивого Володю Заева и носилась вокруг него, то бурно обнимая, то отталкивая и пыхтя, как паровоз…
И потом терпеливо учила его, елейно напевая:
Окончив танец, Володя прошелся по комнате на руках. А утром все, ничуть не уставшие, под началом Алика повторили на разные голоса знаменитое, воспетое Чапеком театральное словцо, которое говорит труппа, изображая толпу. Алик командовал:
— Тревожно! — И голоса, сходясь и разбегаясь, возвещали: «Рабабора», «Рибабора» — ропот толпы, одни голос вопросительный, другой испуганный, третий негодующий…
— Задача усложняется, — продолжал Алик. — Изобразите восхищение!
— Рабабора, рибабора! — отвечала съемочная группа, с ходу разбирая эмоции по голосам — благостно, восторженно, удивленно…
Провожал гостей Юрка с гитарой, пел им на серенадой и лад сверху, с лестничной площадки своего восьмого и пока:
И они, все ниже спускаясь по лесенке (лифт не работал), музыкальным шепотом отвечали:
Снова Юрка:
И опять они:
Счастлив ты, Юрка?
Счастлив.
Все получил?
Что вы! Это же малость. Но пока мне довольно! Ха-ха-ха! «Рабабора», «рибабора»…
Гл. IX. Она
Ну да, у меня странное имя — Она. На родине моей мамы, в Литве, такое имя — как листок подорожника. Дело не в имени. Он не знал, как меня звать, когда задержал на мне глаза. Что мы тогда отмечали? А, ну как же — его фильм. Сидели в Доме актера. Я не была там раньше, но всегда хотела.
В большом зале там были артисты из цыганского театра. Они, знаете, как птицы жарких стран, в разном оперении — розовые, зеленые. И гортанные голоса… Сразу, как мы вошли, я их и увидела. Ну точно — залетные птицы!
Все уже расселись — нам были заказаны столики, — а я еще иду, иду медленно и гляжу. У нас на студии тоже красивые девочки, особенно Тоня — она меня и позвала. Тоня просто себя ведет.
— Поедем, Онка, что ты?
— Я из другой группы.
— Ну и что? Я тебя приглашаю.
— Я не одета.
— Вот пустяки!
А сама в джерсовом длинном платье с блестками, на груди цепочка. Прямо в гриме поехала: глаза — два черных колодца, дна им нет. А я замухрышка рядом с ней, я же знаю.
— Ты в своих брючишках, — говорит, — отлично глядишься. В тебе есть элегантность.
— Спасибо, Тоня. Поеду, поеду! Вызвали несколько машин.
В такси места не хватило, меня к кому-то на колени посадили — я ведь девочка! Ну и ладно! К кому-то!.. Это и был он, он самый, я только не знала, и отношения наши были деревянные, и сами чурки. Две чурки.
У них тут все целуются запросто — в кино, — обнимаются. А мне вот неприятно у чужого, пусть и пожилого, мужчины на коленях сидеть. Ну, что об этом! Это все забылось сразу. Потому что вошли в залу, как в праздник. Швейцар у двери всем улыбается, кланяется. И эти цыгане.
А потом сели, заказали вина, закуски. Пока заказывали — оживились, лица разгорелись. А принесли — а говорить вроде нечего. О делах группы — уж надоело, а так — о чем же? Выручил Алик Родин, — он хоть и неважный артист, а его всегда выпивать берут — хорош за столом. Он умеет всех изображать.
И вот он волосы на лоб спустил, брови рукой растрепал, рот в ниточку вытянул, и получился директор нашей киностудии. Ну точно! Все захохотали, захлопали, а он салфетку через руку перекинул, согнулся в спине и важным директорским голосом:
— Разрешите, э… я вас, э… обслужу. У вас заказик еще не приняли?
И так сказал про «заказик», ну точно сейчас отравит, яд подсыплет.
Тут все наперебой:
— Водки подай!
— Где приборы!
— Целый час ждем!
А он все тем нее, директорским:
— Прошу вас не набуздаться, как третьего дня-с. А час — это не единица времени. У нас годами ждут-с. Да-с. Не всем так фартит, как некоему Бурову-с, нашему молодому специалисту, э… нашему будущему…
Буров Юрий Матвеевич…
У него глаза светлые под наплывшими веками, — ох, как он на Тоню глядел! Впил её всю, с ее джерси и цепью!.. Я увидела и отвернулась.
Сидели кругом чужие люди, вливали вино в горло, скалили зубы, шумели. И никому, никому не было дела до меня.
Я опять поглядела. Эти двое подняли отдельный тост.
— За ваши удачи, — сказала Тоня интимным голосом. У нее, наверное, такой специальный голос для любовных сцен.
— Устал, — ответил он серьезно, не в тон ей.
— Да вы… да мы еще только начинаем! Что вы! — закричала она.
Ей было безразлично. Он это услышал, поднял и опустил плечо, погасил глаза.
— За вас, Тоня.
Она стала рассказывать:
— Я столько видела в жизни, что вы! Меня два раза в театральный не приняли, со второго курса за профнепригодность хотели выгнать, ой, что вы!
Он. Юрий Матвеич, теперь кивал головой:
— Да, да, превратности судьбы…
Вот тогда он и поглядел на меня. Поглядел хорошо, спокойно. И улыбнулся.
— Подсаживайся к нам. И бокал тащи, я тебе лимонаду налью.
И вдруг глаза у меня хлоп-хлоп, и горячо им, а щекам холодно — слезы остывают. Ведь, может, я и правда больше всего лимонад люблю. И мороженое. А все тут такие взрослые, такие ласковые, им наплевать на меня. Не друзья. И свои вроде, да чужие. А он хорошо посмотрел. И когда напился, тоже хорошо так гладил меня по волосам. Получалось, что у них с Тоней взрослая любовь, а я — их дочка. Или нет — их оправдание. Без меня не так все. Не так чисто. Не так ласково. И домой мы поехали втроем: завезли меня в мой деревянный пригород (я там угол снимаю), подождали, пока мне дверь откроют.
И уж ни часочка я в эту ночь не спала! Точно ждала чего. А чего? Ветки стучали в стекло. Почки уже толстые, лопнут — пойдут белые цветы. Три деревца всего вишенных под окном, а глянешь — будто улица белым рука прикрылась. И выбежать тогда, проскакать по расчерченному асфальту, столкнуть соседского мальчишку с тротуара на мостовую… Ой, может, я и правда еще глупая, размечталась!
Гл. X. Серым по серому (Экскурс в прошлое)
Кто знает, где найдешь тех, кого потерял в пути. — через десять, пятнадцать, двадцать лет? И какими найдешь их?
Психологи, работающие с тестами, заметили, что характерологические особенности человека (черты характера, то есть) не меняются от рождения до самой смерти. Отчего же тогда смелый мальчишка, возросши, становится трусливым чиновником, а отличник-тихоня, от которого не ждали ничего, кроме исполнительности, поражает вдруг независимостью мысли и гражданским мужеством?
— Было это заложено, — скажет ученый-психолог, — вот поглядите эту и эту графу… А перемены происходят из-за изменения психического состояния или изменения обстоятельств, от давления снаружи на такую-то и такую-то слабую черту или от поддержки обстоятельствами такой-то сильной… — И опять покажет соответствующую графу. То есть я понимаю так: есть клавиатура, сложная клавиатура данного человеческого характера. Она неизменна. А уж что сыграет на ней жизнь…
Виталий окончил лесной техникум в тот день, когда Лида Счастьева вернулась из Москвы, сдав последний институтский экзамен.
…Теперь это стало событием двадцатилетней давности. Но каждое событие значимо (это ясно и без психологов), а какое-то из них и решающе. Итак — Крапивин двадцать лет назад. Молоденький лесовод Виталий и Лида Счастьева, окончившая педвуз.
Лида похудела, стала совсем девчонистой, — было даже неясно, станут ли ее слушать.
Они с Виталием столкнулись в дверях школы.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, Виталий.
Польстило, что его запомнили. Он не знал, что мы помним тех, кому сделали добро, много больше, чем тех, кто нам его сделал.
Он, смущенный, выбежал на улицу и пошел псевдолегкой походкой, какой двигаются люди, полагая, что на них смотрят. Но на него не смотрели, он в этом убедился, оглянувшись: дверь школы была закрыта.
Тогда он вернулся. Поднялся на второй этаж, к учительской. Директор Пал Палыч звучал за закрытой дверью:
— Ну и отлично! Горжусь, горжусь, девочка. С таким аттестатом и в аспирантуру не грех, а? Но я рад, что к нам.
Лида тоже что-то говорила, но тихо. Виталию было жаль, что он уже не школьник; он здорово знал историю, не по-школьному. А она — историк. Он бы отвечал ей — ух, как!
Как всегда беззвучно, подошел Юрка, положил руку ему на плечо:
— Слыхал новость? Лида Счастьева в школу пришла.
Виталий кивнул на учительскую. Юрка понял, поднял короткие широкие брови: так, так…
Голоса приблизились к двери, Виталий шагнул за угол, к химическому кабинету. А Юрка остался.
— Здравствуйте.
— Ты чего, Буров? — спросил Пал Палыч.
— Я — узнать, когда выпускной вечер.
— А, да, Лидочка, в субботу непременно приходите на выпускной. В субботу, Юра, в семь часов.
— Спасибо.
Потом Виталий глядел в окно на две удаляющиеся точки. Он не хотел бы идти с ней вот так. Потому что неизвестно, о чем говорить.
Выпускной вечер удался. Было не только весело, но и тепло. И грустно. Ну, в общем, как должно быть и как бывает не всегда.
Нал Палыч говорил коротко и искрение:
— У вас много чего еще будет в жизни. А детства не будет. Школы не будет. Теперь придете к нам уже в другом качестве, с дочками и сынками — первоклассниками. Милости просим, милости просим!
Девочки хлюпали, мальчики смущались: какие там дочки и сынки?!
Лида стояла среди учителей, — пожилые женщины то и дело обнимали ее, что-то шептали, обнажая желтые зубы, и Виталий вдруг подумал: не съели бы.
Когда начались танцы, сразу ее пригласил Юрка. Круг танцующих распался. Она смутилась, повела плечом, но продолжала танец. Виталий был уверен — остановится. Нет, продолжала. У неё были теперь длинные волосы, очень яркие глаза, случайная худоба (отощала просто!), а ноги, четко вышагивающие фокстрот, были крепкими, не худыми, создавали ощущение уверенного стояния на земле. Слитые челюсти, широковатые скулы. И во всех движениях лица и тела — странное сочетание порывистости и ровности, прочности (что перетянет?!).
Постепенно включились и другие пары. Она танцевала не лучше всех.
Потом Юрка снова пригласил ее, и опять, и опять. Если она отказывалась, он стоял возле. Виталий не танцевал, потому что не хотелось. Что-то томило, требовало выхода.
Только когда подошла Лида и сказала:
— Потанцуйте со мной, — он пошел.
Виталий знал, что она подошла из-за Юрки (не спасаться же ей от него возле директора!).
Начали танец. Лида сказала чуть насмешливо:
— Пал Палыч моих будущих учениц — девятиклассниц — прогнал: слишком модно причесались. «Или развейте, говорит, свои кудельки, или домой». Они ушли.
— Ну и молодцы, — ответил Виталий, не очень умело ведя ее в танце.
— Вы за гордость? — спросила Лида.
— Я против… вот этого… вмешательства.
Виталий сам удивлялся, что говорит почти не запинаясь, как только с мамой и с Юркой мог. А память подкидывала новое, а возбуждение давало слова:
— В начале девятнадцатого века старики москвичи были возмущены «парижской модой» носить очки. На гулянье в Сокольниках кто-то привел молодую лошадь, на которой были огромные жестяные очки. И на переносице надпись: «А только 3-й год!» Обсмеяли моду! А кому она помешала?
Лида улыбнулась.
— Старикам очки были не нужны? Вот здоровущие-то!
— Просто они не читали! — догадался Виталий, и они рассмеялись оба. Потом спросил о Москве: — Вам не хотелось остаться там?
— Хм… Сама не знаю. Смешно, наверное, но я скучала по Крапивину.
— Родина, — откликнулся Виталий, поняв ее. — Знакомые места, кругом знакомые люди…
— А что? — победно улыбнулась Лида. — Здесь люди прямее. Независимее.
— Конечно! — подхватил Виталий, будто всю жизнь только и думал об этом. — Ведь здесь не было крепостного права и татарского ига тоже не было.
Виталий испытал некоторую неловкость, потому что высказал мысль не свою — отцову, переданную мамой. Но его речь явно понравилась — Лида кивнула утвердительно: да, мол, так. И заговорила о Москве — что Москва долго ощущала близость царского двора, который всегда нес произвол. Даже царь Алексей Михайлович Тишайший раздавал боярам тумаки и дергал их за бороды.
— А весь семнадцатый век? — возразил Виталий. — А смуты? А стрелецкий бунт? А потом раскол?
Перешли к протопопу Аввакуму…
Им казалось, что за их словами стоит серьезная мысль, а на самом деле они только выхвалялись знаниями, они оба в равной мере не созрели еще для мысли. Да и время не требовало зрелости-то.
— А вы заметили, — понизив голос и выводя Лиду из круга (кончился танец), сказал Виталий, — вы заметили: ведь протопоп Аввакум и главный враг его жизни патриарх Никон родились и долго жили в соседних селах — верстах в пятнадцати друг от друга! Это бывают такие совпадения! Люди редко встречаются зря! Вы обратили внимание, Лида, — встретишь кого-нибудь или узнаешь о чем-то и в тот же или ближний день снова столкнешься с тем же?!
Лида задумалась. Нет, этого с ней не бывало. Но, может, правда люди редко встречаются зря? А иные попадаются на пути, чтобы напоминать кого-то, бередить душу, заставлять ее болеть?! И, может, этот высокий смуглый паренек с узким лицом и узкими руками (даже неловко: твоя женская ладонь шире, мужественней!), может, он ещё несколько лет назад для того и вышел вместе с Юрой Буровым из темноты весеннего вечера к ее костру, чтобы взглядом светло-ореховых глаз, их открытостью и застенчивостью напомнить ей того, кто был добр и ласков с ней в страшные дни войны, из-за чего эти дни до сей поры высвечены счастьем. Счастьем и утратой, которую нельзя ни восполнить, ни забыть. Молоденький лейтенант! Необъяснимо сходство двух разных людей. И порой непобедимо.
Виталий поймал на себе скорбный и нежный Лидин взгляд. Смутился. И тогда она спросила со взрослой снисходительностью:
— Ну-ну, я слушаю внимательно. Как у вас бывало? Встретишь и…
— …Вот с Юркой, например. — снова оживился Виталий. — И даже с Юркиной бабкой! Я услышал о ней, ещё когда был совсем маленьким. Но как запомнилось! Может, потому, что день был такой… А позже и сам Юрка…
— Что за день? — спросила Лида, резковато отклонив тему Юрки.
А Юрка глядел на них с другого конца зала и, кажется, начал пробираться поближе.
— Виталий, я хочу удрать. Вы не проводите меня до дороги?
Их школа стояла немного на отшибе, а уж дорога была освещена, там и дома начинались вскоре.
Он проводил до первого дома. И опять-таки им говорилось легко и было вместе просто. Он пообещал ей том Соловьева, где, как ему казалось, было интересно про императриц. И на другой день отнес. И был тронут радушием и простотой приема. И так стало каждый день.
Виталия по распределению направили в недальнее лесничество. Три избы стояли примерно в километре от проезжей дороги и обросли тишиной. Когда вошел в «свою» комнату — обычную, избяную, с марлевыми занавесками и железной кроватью, — даж дух захватило!
Лапа елки — в стекло, трава — до самого подоконника, дальше — ульи, озерцо… Он побрел по полю, заросшему желтым лютиком. Сорвал цветок и долго рассматривал его глянцевитые изогнутые лепестки, образующие плоскую чашу. Ему нравилось знать, что эти лепестки, отражая солнечные лучи, как в фокусе собирают их в центре цветка, где находится завязь. Не цветок, а рефлектор какой-то! Может, со временем лютик перестанет цвести ради опыления и привлечения насекомых, а просто будет обогревать — и всё. Виталий дивился причудам природы: ведь если любая клетка может давать зародыш, то зачем тогда цветы, переокрестное опыление (которое, к слову, так любит природа, делая все, чтобы пыльца ветром ли, насекомыми ли переносилась на другое растение: потомство, видите ли, при самоопылении получается слабее, как все равно у людей при родственных браках!). Виталий не знал, хватит ли у него упорства и любви к делу (именно к этому делу), но он готов был двинуться в путь. Только надо знать. Много и систематически. Ни техникум, ни самостоятельное чтение к такой возможности не подводили. «Ну, ничего,) — думал Виталий. — Сейчас нет, но после… Я накоплю в себе. Ведь еще рано».
Но жизнь есть жизнь, и малая лесниковая зарплата (взяли по молодости лесником), и два гектара покоса для коровы, которые кому-то подспорье, а ему-то зачем? — и работы по прочистке леса (надо самому найти рабочую силу, а денег отпущено мало, из ближнего, как, впрочем, и из дальнего села никто не идет), и недобрый глаз бухгалтерши, жены лесничего, и его (лесничего) фокусы с порубкой (запланированной и самовольной), и начавшиеся пожары, и пьющие пожарные сторонка (три мужика довольно-таки хамоватых). Вдруг стало ясно, какой он, Виталий, тонкокостный паренек, совсем молоденький: глядеть на его начавшуюся было деятельность по отводу лесосек, квадратов для санитарной прочистки и осветлению было смешно. Поначалу он вызывал снисхождение, даже жалость, потом поднадоел.
«Вот Юрка… сумел бы он?» — часто — нет, всегда прикидывал Виталий. И, честно говоря, не был уверен. Здесь бушевали не лесные, а людские страсти, в которых так много было произвола. Верховодил, как ни странно, один из пожарных. «Я тя сожгу», — улыбчиво и пьяно сказал он как-то Виталию, когда тот, обходя участок, заметил, что квадрат, считавшийся сгоревшим, целехонек, а в документах…
Виталий постепенно разлюбил эти три избы, и свою комнату, и марлю на окне. «Еще немного — и я забуду, что такое лес, — писал он в своей тетрадке. — Я не хочу здесь. Не хочу!»
Впрочем, не все было так уж мрачно. Иначе не прожил бы в лесничестве целых два года. Не выдержал бы.
Правда, Виталий не представлял себе, как сражаться с лесозаготовителями, оставлявшими на месте вырубок высоченные пни, губившими молодняк гусеницами тракторов, захламлявшими лесосеки неубранными сучьями… Собственная беспомощность угнетала его. Он жаловался лесничему, а тот что-то бормотал насчет штрафов. А что им штрафы? Не из своего же кармана вынимают!
Но зато когда увидел пробившиеся из-под земли пучки мягких еще иголочек — широко, по всему участку, который сам с десятком рабочих засевал семенами сосны, — ласковое и гордое чувство шевельнулось вдруг, что и он сопричастен творению, созиданию, доброте. Красноватые шапочки мха, солнце в теплых лужах вдоль делянки, пушистые доверчивые сосновые лапки. «Вот дурашки! — думал он нежно. — Вот лапушки!»
Любил ходить через лес на дальние участки. Когда ты один, когда кругом деревья, трава и птицы — очень даже прекрасно! И все же не привык. Не смог. Видно, не годился он в практики. Бывают же в характере человека черты, сопротивляющиеся такой-то и такой работе!
Виталий часто ездил домой (бегущие по лесистой дороге грузовики почти всегда останавливались: почему не подвезти человека, коли надо). Мама от его рассказов плакала, и он научился таить. Лиде, к которой забегал каждый приезд, о своей слабости говорить не хотелось.
Сперва Виталий здорово скучал без Юрки: уехал, как он говорил, «на заработки» — в леспромхоз, шоферить, а потом, не возвращаясь домой, подал документы в заочный педвуз, на художественное отделение. «Буду в школе вести черчение и рисование», — отчитался он в письме. Виталия сперва удивило, как легко сменил Юрка свое взлелеянное режиссерство на школу. Но когда обнаружил в том же письме как бы мельком заданный вопрос: «Что Лида? Все там же?» — вдруг заволновался. Неужели… Неужели из-за нее? Он бы, Виталий, ради самой невероятной любви не поступился бы!..
К тому времени в доме зашел разговор о возвращении в Москву. И мама сказала твердо:
— Давай-ка, сынок, готовиться к вузу. Папа хотел…
Виталий задумал в университет, на биофак. Но конкурс был велик, и он не стал рисковать с биофаком. Послал документы в Сельскохозяйственную академию.
Лида, когда узнала о его отъезде, побледнела. И он потом думал: показалось или правда? Правда, правда! И так было до следующего воскресенья, когда дружественное и холодноватое Лидино: «Вот хорошо, что зашел!» — сняло всякие зазнайские мысли и тайные (чего врать?) смелые планы, не шедшие, правда, дальше того, чтобы поцеловать ей руку. И снова они разговаривали без напряжения, и Лида не позволяла себе наставнического тона, а он — излишнего мальчишества, подчеркнувшего бы разницу лет. Полное взаимное приятие и уважение.
И когда им с матерью вернули московскую квартиру (вот, оказывается, что — ее отбирали, а он-то винил маму), и они уехали из Крапивина, Виталий вдруг понял, что такое, как было с Лидой, не встречается каждый день. Нет, даже изредка не встречается. А потом решил, что, пожалуй, и — никогда. Он написал об этом Лиде.
Она не ответила.
Он стал отсылать письма ежедневно.
Ответа не было.
На каникулы он махнул в Крапивин. Пришел к Лиде.
Лида сказала, что выходит замуж. Она подурнела, осунулась, а улыбка стала вызывающей. Ее было жаль.
— В чем дело, Лида? — спросил он неожиданно мягко. (Она жестко: «Я выхожу замуж», — а он будто не слышал: «Что с тобой? В чем дело?»)
И вдруг она расплакалась — сначала гордо, не показывая слез, отвернувшись к стене. А потом просто села на диван, закрыла лицо руками и заревела в голос.
Виталий обнял её (впервые за все эти годы!), стал целовать волосы, кусок мокрой щеки, пальцы, из-под которых выкатывались слезы. Он впервые ощутил запах ее волос, кожи, пружинистую мягкость тела. Впервые ощутил себя взрослым мужчиной, которому разрешали (разрешили!) так вести себя. Он и не знал, как хотелось ему этого, как ждал, как томился по этим поцелуям, движениям рук, свободно обнимавших, прижимавших, тянувших к себе податливое тело.
С ними не бывало еще того, что должно было произойти. Но он не помнил об этом. Он ни о чем, ни о чем не помнил — только бы отлепить ее руки от запрокинутого лица, найти ее губы, ощутить ее частью себя.
И так все и стало, потому что она тоже хотела этого.
А потом, когда, опустошенный, весь отданный чувству неловкости и полного непонимания, как же теперь быть, он спрятал лицо в ее волосы и на ухо ей стал шептать беспомощное: «Лидка, Лидка, Лидка…» — она вдруг отстранила его холодно, выпрямилась и сказала с непонятной резкостью:
— Иди, пожалуйста, домой.
Он встал, не глядя на нее, поправил костюм и пошел к двери. Такого ощущения оплёванности он еще не знал. Обиды не было. Был гнет, подавивший все живое. Умер день, умерло солнце за окном, цветы золотого шара, лезшие в стекло, умер привычный запах сеней, по которым он проходил.
Его остановил звук — тяжелый удар об пол. Удар падения. Неосознанная сила потянула назад, в комнату. Лида лежала возле стола, выпрямившаяся, с помертвевшим лицом. Полузакрытые глаза закатились, видны были только белки. Первое было не жалость, а: «Я виноват!» И: «Что теперь будет?» Он кинулся к ней, хотел поднять — не смог, побежал за водой в сени. Лил воду на лоб, на волосы, растирал руки… Он был в полном отчаянии, боялся, что она умрет вот сейчас, у него на глазах, и боялся отойти, позвать на помощь… Видно, была она ему дорога, потому что ведь легче было убежать — кричать, звать, — и если даже что неладно, совесть была бы чиста. Но такого желания не возникло. Он попробовал влить ей в рот воды, приподнял ей голову на своем согнутом локте. И вдруг увидел — она глядит. Мутно, точно из другого мира, но глядит, постепенно вбирая во взгляд стены, комнату, его. Потом она отпила из черпака, села, вздохнула глубоко.
— Помоги… На диван…
Голос был слабый, просительный. И — жалкая складка у губ. И жалкие, негнущиеся руки. Он не помнил обиды. Он был сильнее.
— Что тебе дать? Какое лекарство? Лида!
Она покачала головой — нет, нет, нет! — и привалилась к спинке дивана. Она закрыла глаза, но знала, что он не ушел, и заговорила тихонько:
— Очень неприятно. Прости. Это контузия. Так очень редко… Так сильно.
— Но что же надо делать? Ты ведь знаешь, скажи.
— Пройдет. Сядь… — Она кивнула на стул. Он сел и стал смотреть, как медленно к ее лицу возвращается цвет. Потом она улыбнулась. — Испугался?
— Конечно.
— Согрей чаю.
Ей не хотелось, чтобы он видел ее такой, но и прогнать было теперь неловко.
Он ушел в кухню, за печку, нашел там чайник, включил электрическую плитку. Он нарочно не возвращался, чтобы дать ей прийти в себя. Смесь вины, жалости, превосходства (он здоров!), приправленная былым восхищением, былой тоской, нашедшей утоление, — вдруг дала неожиданный сплав: он почувствовал себя взрослым рядом с ребенком. Он был сильнее и умней. Почему она не сказала, что почувствовала себя плохо? Очень глупый, детский ход — нагрубить, прогнать, лишь бы не предстать в слабом виде. Нет, нет, с ней надо быть уверенней и строже. Он заварил чай, налил в чашку.
— Прошу.
Она потянулась. Руки дрожали.
— Я напою тебя.
— Не надо.
— Не спорь, Лидка. Я очень обижен на тебя.
По ее щекам тотчас пошли-побежали слезы.
— И нечего реветь. Мы же не чужие люди, — значит, надо быть откровенней.
— Ты о чем?
— О том.
Она нахмурилась, потемнела. Думала о своем. Он уж сразу понял — что-то задело ее.
— Знаешь, Виталик, я ведь тебе не навязываюсь, Да, у меня было фронтовое прошлое, вот контузия. И то, о чем ты говоришь.
— А о чем я говорю? — искренне изумился он.
— Ну, неважно.
— А все же?
Она выпрямилась, опять побледнела.
— У меня была любовь. Очень трагическая, если хочешь знать.
— Лида, не надо.
— Надо. Была. И не тебе меня судить.
— Да я…
— Я не хочу быть с тобой. Я много старше. И сегодня просто… ну… эпизод.
Он вдруг обозлился:
— Ну да, маленькая шутка. Чтоб было что вспомнить. Ведь ты собираешься за кого-то замуж.
Она подняла слабую руку и дала здоровенную пощечину. И испугалась, задрожала, сжала кулаки у груди:
— Ты не смеешь так! Ты…
Он отвернулся.
— Ты ничего не знаешь. Я помираю тут без тебя. Ты уехал — мне дышать стало нечем. А ты там проверял свои чувства! Да ты, как уехал, три месяца не писал!.. Я топиться бегала…
Он отупел и не понимал, о чем она. И не решался обернуться к ней. Так и сидел, одну руку прижав к щеке, а другую дубово вытянув на колене. И вдруг этой руки коснулись горячие губы. Она целовала его руку!
Виталий вскочил, слепо затопал к двери, свалил по дороге стул…
Два дня он не вылезал из комнаты, которую снял на педелю у прежней хозяйки. Он был не рад Лидиному признанию, он был задавлен нелепой сценой с пощечиной и целованьем рук. Но сквозь мутную тяжесть уже прорастало торжествующее: «Меня любят! Без меня нечем дышать! Бегала топиться…»
Лида, которой он писал из Москвы нежные письма и с которой так легко когда-то говорилось, — погибла под осколками того несуразного дня. Но появилась другая — менее привлекательная, но зато своя, зависимая, с глупыми комплексами и с такой громоздкой любовью. Его тяготила весомость подарка. Но отбросить его было уже невозможно. Что-то там пустило корни — в замученном, илистом водоеме его новых чувств.
Он, испытывая садистскую радость, уехал, не прощаясь, в Москву.
А оттуда сразу послал письмо, содержащее предложение выйти за него замуж и приехать к нему. Мама, уже сильно больная, тоже подписала несколько дрожащих фраз, что была бы спокойна, если бы оставила сына с ней.
К его матери Лида относилась почтительно. И, возможно, потому приехала. Тихая, приветливая… И началась семейная жизнь. Жизнь, лишенная взлетов, — будто это не начало, а продолжение того, от чего уже давно устали. Мир спокойно втиснулся в стены московской квартиры, чуть подогнув крылья под невысоким потолком.
…Дни, месяцы, годы — как серые мыши.
— Je suis, tu es, il est…
Лида учит французский. Она закончила аспирантуру, преподает историю в пединституте и все время что-нибудь изучает.
— Ты знаешь, Виталик, у французов есть такой оборот — «лестничные мысли». Это когда человек сразу не найдется с ответом.
— Да. L’esprit de l’escalier.
— Откуда ты знаешь?
— Родители часто говорили между собой по-французски. Чтобы не забыть.
Это ее огорчило.
— А ты знаешь, что в Чехове был одни метр восемьдесят шесть сантиметров росту?
Этого он не знал, чем очень обрадовал ее.
Виталий уже привык к ее беспорядочной осведомленности, хотя это его и раздражало.
В ней жил беспокойный вбиратель, захлебывающийся знаниями.
— Я сегодня встретила бывшего сокурсника, он занялся психологией. Потрясающе интересно!
Глаза ее были лихорадочно ярки, очень белые, не испорченные временем зубы блестели в лихой какой-то улыбке. Виталий был уверен (и не зря!), что она теперь займется психологией.
В занятия она вкладывала порывистость и дотошность, училась будто назло кому-то, а вернее — чему-то в себе, что должно было найти выход.
— Лидка, успокойся, ты уже так переросла меня, что я скоро не смогу поддерживать с тобой беседы.
— До этого далеко, дорогой. Кроме того, я человек нетворческий.
Это было так. Почему — даже трудно сказать. Лида знала уйму вещей, но они не родили в ней ассоциаций, новых мыслей. Не шел процесс воспроизводства, рождения новых форм. И ее не заинтересовывало, а раздражало, когда Виталий из своих знаний высекал какую-нибудь искру.
— Ты этого не можешь утверждать, — говорила она, вскинув голову. — Это требует научного подхода.
— Будем считать, что это гипотеза, ладно? — пытался отшутиться он.
Но Лиду, видимо, сердило именно это самозарождение мысли, чувства, поскольку их проконтролировать она не могла. А потребность, разрушительная потребность внутреннего контроля, как единственной возможности сохранить для себя любимого человека, росла с огромной быстротой. О, как не похожа она стала на Лиду последних крапивенских дней! Голос ее теперь был переполнен вызовом, походка — бодростью, взгляд — отвагой.
— Ты мой тайный истерик! — говаривал Виталий в добрые минуты. — Ты псих-подпольщик, да? Самоед-конспиратор.
— Ага, ага! — смеялась она, победно встряхивая волосами, которые теперь стригла коротко. — А ты мужичок в мешочке. Ведь я ни-че-го о тебе не знаю!
Ему хотелось сказать, что это так просто — узнать. Только не надо обходных путей, не надо надуманных сложностей и уж конечно этого незримого соревнования.
Порой ему казалось, что Лида не может простить ему чего-то, что мало сказать — не любит его, — терпит с трудом. Но когда он заболел тяжелым гриппом и лежал в беспамятстве, она не отходила ни на шаг. Просыпаясь, он видел ее лихорадочные, испуганные глаза, иногда ощущал ее руки под своей головой, когда она приподнимала его, иногда слышал сдавленные всхлипы. Она выхаживала его, отбросив свои заносчивые штучки. И они сблизились за его болезнь больше, чем за годы жизни под одной крышей.
— Может, ты ко мне еще ничего, а, Лидка?
— Молчи уж! Если честно — подыхаю до сих пор. Иной раз проснусь ночью — что делать? Не могу, часу не могу без тебя!
— Так я же тут.
— А вдруг будешь не тут? И потом: ты — ведь это ты, в себе… О чем-то думаешь, что-то чувствуешь…
Помочь было невозможно. Огонь хотел пожрать все. Может, потому были отогнаны от дома друзья.
И только мама до самой смерти была обласкана и привечена, будто на нее Лида перенесла свою любовь к Виталию — училась глядеть на него ее глазами, училась вникать в нелепый для нее контур их внутрисемейной жизни.
— Когда еще был жив Николай Палыч…
Отец с его прекрасным, успокоенным и вместе тревожащим лицом незримо входил, садился подле, и разговор наполнялся значимостью.
Елена Петровна часто рассказывала о нем Лиде.
— Он любил Виталия. И знал к нему все ключики. Это ведь только любя можно знать.
— Можно и любя не знать.
— Вы, Лидочка, умница… Будьте с ним постарше.
— Еще?
— Да полно вам! Я и забыла совсем. На сколько там вы старше? Ерунда какая-то.
— Годков с десяточек наберется.
— Не заметно пока. Да и не будет. И он полнеть начал.
— Ой, боюсь, боюсь, боюсь я!
— Запомните, Лида: у нас все в роду однолюбы.
Так часто говорят старые люди, прожившие семейно до конца дней. И Виталий понимал: мама больше чем кто-нибудь имеет право на эти слова.
Лида после таких разговоров успокаивалась, мягчела.
— Почитаем что-нибудь вслух?
— Конечно. Талик, иди, почитаем.
Мама лежала в своей комнате на высоких подушках (было плохо с сердцем), возле стоял ночной столик с лекарствами, книгой, заложенной очками, и высокой, старинной лампой, памятной Виталию с детства: толстенький амур; оттопырив указательный пальчик, летит невесть куда с лампой в руке. Этот пальчик не зря был оттопырен в пространство. Позже он сыграет свою роль, как отыгрывается почти все, на чем мы задерживаем взгляд.
Лида обычно читала первая. Читала, останавливалась, вникала в авторскую мысль. Она запоминала. Запоминала всё точно, как написано, не зная искушения истолковать по-своему.
— «Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, белым матовым абажуром, оленьими рогами над картинкой, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — здесь все старомодно, давно позабыто».
Не то чтоб это было ей близко: ее родной дом не был провинциально-интеллигентским. Но она верила. В данном случае верила Паустовскому: «Есть особенный простодушный уют…» А как впитывала она названия, даты!
— «…Петрарка на тридцать девять лет младше Данте и на девять лет старше Боккаччо…»
Тогда Виталий прерывал, брал Данте, читал странные, на его взгляд, и трогательные пояснения к стихам «Vita nova» («Новая жизнь»), к стихам, которые сами по себе были вполне понятны:
И так далее.
А в конце: «Этот сонет делится на четыре части: в первой я говорю и показываю, что все мои мысли — о Любви; во второй говорю, что они различны меж собой…»
— Я совсем забыла, что это написано так, — удивлялась мама.
— Я и сам, честно говоря, только вчера сделал для себя это открытие.
Лида молчала.
Он протягивал руку к полке, не глядя доставал «Разговор о Данте», открывал давно приголубленную страницу:
— «…Внутренность горного камня, запрятанное в нем алладиново пространство, фонарность, ламповость, люстровая подсвеченность заложенных в нем рыбьих комнат — наилучший из ключей к уразумению колорита «Божественной комедии»…»
И — точно как Лида! — задумывался. Он, верно, тоже скоро начнет запоминать, да не тщеславия ради, не для шумной беседы, а чтоб в семейном кругу придавить партнера к ногтю: вот я каков!
Нет, нет, до этого не дойдет! Но почему же ему так легко читать это все маме и так трудно ей?
Однако книга тянет к себе. Бог с ней, с Лидой.
«Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету — она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон, твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия… уверования, которыми распоряжается Дант».
Мама просто покачала головой вверх-вниз, вверх-вниз. Она это могла понять, и понимала, и, кажется, оценила красоту речи. Лида не удивилась:
— Я никогда и не полагала иного.
— То есть?
— Всегда считала, что Данте верил, веровал…
И побледнела, вздернула голову, закусила удила. Ничего она не думала о старике Данте, никогда не думала (солгала!), потому так легко ей судить. И что мелькнула у Виталия эта мысль, тоже услышала и побледнела еще больше. Боже мой! Статуя сделала жест, и он оказался ложным. Сейчас рухнет мир или она упадет с пьедестала — одно из двух. Лучше — мир. Пусть рухнет.
— Я, кажется, не созрела для этих чтений и собеседований.
— О чем ты?
— Лидочка, пододвинь мне валидол. Спасибо.
— Пожалуйста. Простите, я — на кухню.
На кухне, на посудной полке, — ее книги. По психологии. Сложнейшие. Отгородила ими свою гордость… Уйдет и будет там читать. Будто нет места в комнате, будто изгнана (изгой!), а читает вот такое, чего другие не могут, не знают, не поймут. И легче ей, — обидней и легче!
— Помирись пойди, — шепчет мама.
— Не могу, мам. Устал.
— От чего?
— От кого — так надо спросить.
— Не говори зря слова. Слова липнут. Не названо — значит не родилось. А назвал, отлил слово, и оно живет. Отдельно от тебя. Разве не так?
— Оно, мам, давно живет. Ну, да чепуха. Ладно! Почитаешь?
Виталий не любит, когда читает мама: она задыхается и еще — хоть немного, но имеет в виду слушателя: выделяет главное, чуть приметно играет голосом (учительское все же прилипло). Рассказывает она прекрасно, а вот читает… И ему мешает и это, и его мысли про это, и копошение совести по поводу этих мыслей.
Плотно замкнуто пространство, обведенное светом лампы, — желтый круг. В него вкраплены старые обои, рисунок Яковлева под стеклом (он есть во всех каталогах мира!), очки, лекарство, Лидина домашняя кофта, сброшенная здесь, у мамы (здесь теплей). И тоскливый, жалостный стон, от всего идущий: от подушки, очков, кофточки: ску… ску… ску… тошш… тес… Вот особенно это «тес…». Ведь вроде и рваться некуда. И не то чтобы держит кто, не пускает. С чего ж оно, это тесное, душное? Читают, говорят об интересном.
тес… ску… ску…
Может, от любящих глаз, сопутствующих каждому движению твоему на незащищенной, голой местности замкнутой этой жизни? Направленная на тебя любовь, ведь она обязывает. Не обидь (как не убий!), не обойди вниманием (не укради!), не возлюби жены ближнего своего… А ближнего-то нет. Нет ближнего, не то что жены его! Есть приятели и их бесполые жены, особенно одна — розовая, черноокая, многоречивая. «Филейная часть нашей компании», — как-то подумал про нее Виталий. И, подумав так, стал с ней любезен, чтоб не догадалась.
— Вы читали, Виталий Николаевич, книгу Томаса Вулфа?
— Нет.
— О, это — явление! Это надо читать. Мой Петя никак не мог ее найти, все букинистические обегал, тогда я позвонила Людочке, — знаете Людочку, которая…
И так далее. Зачем же читать? Важно достать, верно? Но он молчит, кивает и улыбается. Чтобы Филейная не обиделась.
Они теперь, как все семейные, собираются компаниями. Надо не разрушить. Он старается. Ведь они семейные.
Посягательства Филейной идут дальше. В следующий раз так:
— Вы ничего не сказали о моем платье, Виталий.
— Очень красивое.
— А длина?
— Теперь так носят — длинные, да?
— Да! Есть дома, в которые просто неприлично прийти в коротком. Хотя во Франции эта мода не удержалась, потому что…
И опять — так далее. А потом уж и этак:
— Вы сегодня такой светский. А я ждала этого вечера!
У них в доме с легкой Лидиной руки люди четко делятся на мужчин и женщин. Лида никогда не высказывает своего недовольства, но это ее легкая рука, дающая чай ли, конфеты, пепельницу, мелко дрожит, глаза мечут лихие искры, а улыбка полна вызова.
Когда гости расходятся (о, как долго они сидят, тяжело наевшись, скучно соловеют, скучно пьянеют, ску… ску…), она удаляется на кухню и уже не является ко сну. Благо в кухне с давних времен, — с тех еще, когда в его ребячество жила у них няня Оля, — стоит кушетка.
— Лид, ты что-то глупишь! А?
— Не хочу объясняться. Не хочу!
О, как она хочет объясниться! Но так, чтобы не слушать, не слышать, не услышать, а — колоть ядовито, язвить. Тихо, не повышая голоса. И вызвать в противнике раскаяние, угрызение совести. Чтобы потом быть согретой, обласканной.
Зачем она занимается психологией, если не понимает, что согреть и обласкать может только человек, убежденный в своей силе и нужности? А уколотый и уязвленный больше склонен тихо пыхтеть и ненавидеть. Как это и делает в своей комнате Виталий: пыхтит и ненавидит ту, что закаменела на кухне в своем неправом (а может, и правом!) гневе. У статуи расшатались нервы. Она обнесла себя каменной оградой, чтоб никто (никто!) не видел, как нелепо, неженственно она плачет, молча кривя лицо и собирая слезы со щек.
Никто и не видит. И не идет никто. И этот никто гасит свет в своей (в их!) комнате. Теперь, значит, всё. Всё.
Вмиг рушатся все построения о его вине и столь необходимом ей ее достоинстве: что он сделал, собственно? Что? Был любезен с этой дурочкой. Так разве она могла ему поправиться? Нет, не могла. Обидел ее, Лиду, этой любезностью, дал всем понять, что внимателен неспроста? Нет. А что? Но ведь что-то есть?!
И вдруг ясно: есть. Есть одно, что обозначается, наоборот, словом нет.
Они вместе, а праздника нет.
Нет натянутой струны, нет камертона, который давал бы тональность всей их жизни. Умри она — он будет горевать. Уйди — вздохнет легко.
Потому что это только для него нет. А для нее есть, было бы, если б не эта боль. Какая там статуя! (Он шутит иногда: «Статуя сделала шаг», «Статуя наступила мне на ногу»…) Да она бы растаяла, расстелилась бы дорожкой, чтоб ему пройти. Но разве он узнает об этом? Вечная ученица, статуя, от которой ску… все заслонила. Не продраться теперь.
И она знала про это, хотя знать не могла.
Ее голос по телефону отдает привкусом металла. Зачем человек звонит другому среди ночи, да не просто человек человеку, а женщина — мужчине? Притащила телефон с длинным шнуром на кухню, закрыла дверь и вот звонит, не называя собеседника.
— Здравствуй. Это я, Лида Счастьева. Хочу поговорить с тобой… Да. Сейчас… Да. Ночью… Хорошо. Выхожу через десять минут.
А утром — кто знает, может, она ушла из кухонного укрытия прямо на работу? А может, не возвращалась? Виталий не спрашивал.
Вечер того дня выдался тихий, добрый, с конфетами, общим чаепитием возле маминой кровати, с Лидиной добротой и успокоенностью, точней — виноватостью. Будто выпустили из нее дурную кровь. Тишина, покой. И опять ску… тес… тес…
Ссора не разрослась, но и не погасла — тлела. Как лесной пожар — по корням. И вот ни дыму, ни пламени, а падают деревья.
Первое упало вскоре.
— Не могу с тобой, Виталий.
— Что случилось?
— Пока не знаю. Буду жить в кухне.
— Дело твое.
Потом вроде бы обошлось. А через несколько недель:
— У меня будет ребенок.
— Лидка! Ура!
— Не твой.
Он стукнул ее по щеке. Как это могло случиться?! Наверное, от порыва («Лидка! Ура!») и ее грубости в ответ. А потом ведь уже была у них на счету пощечина, что ж…
Лида не заплакала. Кажется, даже улыбнулась довольно:
— В деревне говорят: «Лупит — значит любит». Спасибо за любовь.
И вышла гордо.
Не разговаривали долго. Лида похудела до черноты в лице. Свой проигранный бой носила на всем облике своем, как клеймо, как проклятье. Уже невмоготу было смотреть.
— Что с Лидушей? — спрашивала мама.
— У нее будет ребенок.
— Так это же радость, Виталий!
— Я и радуюсь.
— Что вы за люди, не пойму! Что за мучители друг другу!
Был день, когда Лида получила отпуск по беременности. Живота почти не было видно, но лицо пошло пятнами. Пятна запудривала, двигалась ровно, никогда ни жалобы. Виталий ощущал себя палачом, потому что рядом ходил человек по битому стеклу, а он — будто так и надо. В доме стоял приветливый холод: они улыбались друг другу, были вежливы. Нельзя, нельзя было затягивать эту вежливость: Шло к катастрофе.
— Лидка, я тебе яблок притащил.
— Спасибо, Виталий. Спасибо.
На глазах слезы.
— Лид, зачем ты поднимаешь машинку?
— Надо напечатать кое-что.
— Что ж, я не подниму тебе? Давай-ка. Это была уже теплота.
Лида поставила машинку, почти бросила, села на пол, обхватила его ноги, заревела, завыла страшным воем. Это только сперва могло показаться театральным: нет, тут все было подлинным — от разорванной горем, лопнувшей жизни, от вины своей, от безмерности утраты.
— Не простишь, знаю, знаю… Я жить не могу без твоей доброты!.. Я… что хочешь… Мне…
— Я забыл тот разговор, Лидка. Это наш, наш сын будет, хочешь? Хочешь так? Встань. Иди-ка сюда, на диван. Успокойся.
Ее ломало, конвульсивно вздрагивали руки и ноги, лицо мучнисто побелело. Он вспомнил тот первый их, крапивенский день и испугался страшно. Вышла мама, закутываясь в халат:
— Что тут у вас?
Тоже испугалась, налила грелку, принесла нашатырный спирт…
Потом Виталий поил чаем почти спящую Лиду, качал вправо-влево:
Она смеялась сквозь всхлипы, была маленькой, трогала своей беззащитностью до самых глубин. Какая статуя? Слабое, нуждающееся в защите нечто — дорогое, свое, от тебя зависимое.
Замечали? Сильному человеку, чтобы полюбить, надо пожалеть. Но не заблуждайтесь — не только сильному. Не зря говорили в старину: «Он меня жалеет», — и значило это — любит.
— Как мы назовем сына?
— Как скажешь, Виталий.
— Николай?
— Спасибо. Спасибо… (Слезы.)
— А дочку, Виталик?
— Дочку… Давай — Паша, Пашута.
— Мама будет рада.
Рожать она уехала в Крапивин-Северный, к матери. Почему — неизвестно.
Виталий волновался. Не так, наверное, как положено отцу в эти дни: то бы он ринулся следом, ходил под окнами. А теперь была все же подпорчинка. Хотя и подозрение было: из гордости сказала, солгала — от постоянной обиженности на что-то. Не верил. Вернее, его самолюбие не верило.
— Ты мог бы мне сказать, что происходит? — спросила мама.
— Знаешь, мам, не могу. Выговорить не могу.
Она заплакала.
Теперь мама была еще тише, но это было естественней — с неё уже не спрашивалось поступков. Она читала много, что-то выписывала в тетрадь. Виталий прочел однажды: «Рождаемся с болью, живем горюя, умираем в тоске…» «Умираем в тоске…»
Вот о чем, значит, думала… Как ей было одиноко и страшно, наверное! Как искали его глаз ее глаза!
Виталий стал ласковей. Но покой так и не дался: все ему хотелось уйти, убежать (к себе в комнату, в основном), не быть обязанным и виноватым. А ведь его не обязывали и не винили — просто хотели больше любви, чем он мог. И с Лидой так.
Он помнил одну только свою растворенность в чувстве — к отцу. Неужели так мало могло уместиться в этом сердце? Он сам иногда сокрушался: малое сердце. Человек с маленьким сердцем.
Мама стала подниматься с кровати, готовила ему с тщательностью, не считавшейся обязательной прежде: она не была хорошей хозяйкой.
Однажды утром Виталий услышал из кухни ее вскрик. Прибежал. Правой рукой она поддерживала левую, мякоть указательного пальца была отрезана — самая макушечка. Набегала и шлепалась об пол кровь.
Он молча притащил йод, бинты, вату, промыл, завязал.
Отвел ее в комнату.
— Полежи, не вставай до меня. Больно, мама? Может, врача позвать?
Виталий метался по квартире, стараясь помочь, облегчить (кроме того, он боялся крови). И когда, наконец, пожилая женщина притихла, закрыв глаза, он, успокоенный, поцеловал ее в щеку. И вдруг поймал её обрадованный — нет, ликующий взгляд! Вот так она хотела внимании. Почти как Лида: любым путем.
Боже мой, может, она и по пальцу ножом — ради этого?
Виталий ушел ошеломленный. Он не умел разрушить этого одиночества. И не сумеет. Так же, как и Лидиного. Ведь в размыкании круга одинокости у всех людей потребность разная: одному хватает простой доброты близких, другому дай все, все, что в них есть, — и этого мало.
«Да они разнесут меня по кускам, эти несчастные, ненасытные! Вытряхнут душу и проглотят ее, а потом удивятся: что это, вроде как нет души?»
Вечером пришла телеграмма из Крапивина:
«Девочка порченая. Лида убивается. Назвали Прасковья.
Мама».
В отчаянии, с привкусом озлобления, Виталий оформил отпуск и отправился к жене.
Гл. XI. Мать
Женщина посмотрела в зеркало: старая. Зеркало сказало ей то же, что говорило много лет. Оно не хотело льстить, поскольку женщина ни разу не улыбнулась ему. Такие отношения установились с тех пор, как не стало ее мужа, отца Виталия. «С тобой — всё, — сказало зеркало. — Можешь не спрашивать». Она знала: это так. Старики часто не переживают друг друга: побьется, помается обломок того, что прежде составляло целое, и — нет его. С молодыми иначе — если физически здоровы, не пробить эту оболочку.
Елена Петровна была молода, когда потеряла мужа. Она осталась жить. Но не вся. Погибло то, что совместилось с жизнью другого человека, — огромная земля! — и остался островок под знаком «Виталий». Своего, отдельного не существовало. Вырастить, выучить, охранить. Она не заметила, что давно уже не в силах помочь ему. И только тянется к теплу, которое он не может дать. Тянется, опутывает беспомощными руками: дай! дай!.. И лишь когда родилась Пашута, за которой — уход, которой потом — сказки, книжки с картинками, стихи… Неужели Виталий не способен полюбить дочку? В его заботе о ней что-то подчеркнутое, не продиктованное сердцем. Беленькая теплая Пашута, ручейковой прозрачности глаза, хрупкие пальцы, нервные, как у Виталия, как у его отца, с такими же четкими луночками ногтей. И — лиловое пятно через всю щеку. В деревне сказали бы — нечистый пометил.
Лида однажды холодно пояснила:
— Виталия пальцы отпечатались.
— Он ударил тебя? — ахнула Елена Петровна.
— Вас это удивляет? — гордо отозвалась Лида, будто знала об ее сыне и не такое. Вот, значит, как! Где же она, интеллигентность? Когда же успел Виталий так опроститься, огрубеть? И разве в Лиде есть хоть что-нибудь, что дало бы повод думать: эту женщину можно побить? Не укладывалось. Елена Петровна не спала ночь и сама удивлялась: «Вот не сплю из-за того, что было несколько лет назад, а они уже забыли давно, дружны, неразлучны». И все равно чувство потери, умаления чего-то важного не проходило. «Он любил отца. Меня не так. Но не грубил никогда. А если бы был отец?» Она стучалась в степу, за которой и вправду прятался ответ. Но не прямой, не безусловный: ей невдомек было, что их жизнь потеряла высоту, что ей, так любившей книги, картины, привнесшей в быт уютные вечерние чтения и беседы, — ей не удалось удержать этой высоты, потому что высота — это подъем духа, а отмершая душа не способна на подъем. И она корила себя, что в Виталикином детстве излишне много сил расходовала (по неумению, по слабости!) на добывание пищи, что, вечно уставшая, отдала сына случайным влияниям и увлеченьям. И босая, чтобы не разбудить, подходила к Пашуте, которая спала в ее комнате: «Может, ты?.. Может, тебе?..»
Но как же трудно будет девочке, отмоченной уродством, сохранить здоровую душу! Как трудно, если такие здоровые и красивые — ведь и Лида, и Виталий красивы — толком не уберегли своих! Жалость, захлестнувшая вдруг по горло, смыла отчуждение к сыну и умаление его образа.
Именно тогда она почти отторглась от него, чтобы не навязать, не утяжелить ношу. И только возвращаясь из летней экспедиции, Виталий находил в кухне и коридоре записки: «Дождись, ушла за хлебом», «Вернусь в 12 час», «Залезь-ка в холодильник». Он никогда не сообщал о дне приезда (вдруг задержится — будут волнения), и мать боялась, что он приедет, а в доме никого. Лида из гордости ничего подобного себе не позволяла, и, может, потому в этих ненавязчивых знаках внимания было что-то щемящее: а ведь не так много людей любят нас, ждут.
Не то чтобы Виталий заметил материну сдержанность, но в какой-то момент ощутил большую свободу. И вдруг теперь, когда не стало прошено, заскребло чувство вины, неотданного тепла, благодарности за молчаливую заботу. Оказалось много общей памяти — особенно об отце, много похожих взглядов.
— Ты вырос, — качала головой мать. — Помудрел.
— Я постарел, — ответил он однажды. — Я постарел и не состоялся, мама.
Меня нет. Меня давно уже нет, мой хороший. И я рада, что ты привык к этому. Нельзя жить утратой.
Не знаю, сумела ли я создать в тебе, свить, вплести в твою плоть и душу то, что делает человека если не счастливым, то хотя бы открытым для счастья?
Ты рос в те годы, когда у меня не было куска, от которого я могла бы отломить радости. А потом и куска хлеба не стало. И все-таки ласка, тепло, защита — круг, заговоренный круг, щадящий ребенка, — ведь это было? Было?
И позже — когда появился отец и ты потянулся к нему (почему мне это было так больно?) и на мой глупый, глупый, трижды глупый вопрос: «Кого ты больше любишь?» — ответил: «Папу»… А когда его не стало снова, я промолчала на твой вопрос, где отец. Ты затаился, не спрашивал больше. Но я ведь знала, что он для тебя. Но я так решила. Чтобы ты мог открыто глядеть в глаза всем. Сама решила, будто я господь бог. Предавая отца.
Была ли моя правота? И право? Плакать бы нам вместе и ждать, ждать… И, может, тогда — вдруг?! Чудо! — двигались бы.
И еще: не слишком ли легко я отдала тебя твоей жене — человеку, в душе у которого постоянно звенит и ломается, звенит, восстанавливается и ломается снова? Вдруг мое благословение выросло из ее тепла ко мне? Выросло из эгоизма?
Мой хороший, прости меня за все. Нет, не прости, а просто живи вопреки моим огрехам. Если бы можно было начать снова! — ты в мягких детских ботинках неловко бежишь, тебя заносит. И вот ты падаешь ко мне в руки. О, как бережно, как бы иначе несла я тебя! И мы бы пели совсем иные песни.
И всё. И всё. Потому что ничто не возвращается. Это только кажется, будто стрелки часов обегают один и тот нее круг: они всегда показывают разное время.
Гл. XII. Годы спустя
За закрытой дверью теща томилась жаждой общения. Виталий слышал это каждой порой, но не мог оторваться от работы. Надо было со всем вниманием сверить отчет о летней экспедиции. Отчет, написанный на работе, под стук машинок и гул голосов. И вот теперь требовалась большая сосредоточенность. Иначе все расплывется, разлезется, а сдать надо в срок.
Изучение и обобщение опыта создания противоэрозионных насаждений…
…Что (какие породы деревьев) и где посадить, чтобы приостановить рост оврагов. Вяз пойдет, береза — едва ли. Но лучше всего, конечно, долговечный дуб.
…Другая картина, другая эрозия — ветровая. Подвижные пески. Пыльные и черные бури… А пески эти взяли и закрепили сосной. Виталий представил себе песчаные, бесплодные пространства. Теперь там сосновый лес — грибы, ягоды, а рядом — пашни. Ведь лес, — вы знаете, что такое лес! Если говорить не только о красоте, но и о пользе?! Вот-вот — взгляните на эти три фотографии. (Отчет хорошо иллюстрирован — работать так работать!): в поле, засеянном пшеницей, стоит мальчик — двенадцатилетний Вовка, сын участника экспедиции… В двадцати метрах от лесной полосы пшеница ему по грудь, в ста метрах — всего до живота, а в двухстах — по колено. А? Есть тут о чем подумать? Есть куда приложить силы?!
Он вспомнил раскаленный июльский день, жужжащий от пчел и касания колосьев и стеблей; вспомнил разомлевшего Вовку, который ходил с ними уже третий год и ни разу не был помехой. «Этот — наш, — думал Виталий с нежностью. — Никуда не уйдет».
И нежность вдруг отозвалась болью: а Пашута? Хрупкая, точно совесть ноющая, часть его бытия, — что она? Кто она?
И он поскорее стер с памяти и Вовку, и июльский день. Да, так вернемся к отчету.
«Технология создания насаждений, ухода за ними…»
— Охо-хонюшки! — стонет тишина за дверью. — В кабинете закрылся от меня, как от лихого басурмана!
Виталию хочется рассмеяться, выйти к старухе, посидеть с ней на кухне за чайком. Ведь вот куда она гнет. Да нельзя же, нельзя! Какие там чаи!
Но теще обидно. Ее можно понять: все одна и одна. Дочь — по командировкам, зять — в своем институте, названия которого и не выговоришь. А теперь вот он дома, так и дверь в кабинет закрыл. Лучше бы ей было остаться в Крапивине — там хоть в доме никого, зато кругом соседи, к тебе зайдут, ты забежишь — вот вроде и не одна.
Старуха потопталась за дверью и тихонько выдохнула:
— Может, чаю, Виталик?
Он не ответил. Но это мешало, переключало мысль на чисто моральные проблемы. Например, на проблему совести. Вот живет рядом хоть и не самый близкий, но, в сущности, милый человек — незлобивый, услужливый. И не с кем ему слова сказать. Всем, видите ли, некогда. Дочь приедет, для проформы ткнет жесткими губами в щеку — и все. И ради этого редкого, жалкого подарка старуха живет в чужом городе. И живет, вероятно, не так, как хочется.
А он, Виталий, — так?
Он опять откинул мысли о жене, о белоголовой тоненькой Пашуте: здесь было больно. Ну, а работа? Он, к примеру, не слишком любит отчеты, проектирование, хотя по ходу дела и увлекается, как всякий живой человек увлекается работой. А тогда почему получилось, что у него за долгие годы скопился огромный материал, но ему и в голову не приходит обобщить его, написать диссертацию? А многие давно написали. Ну, не удалось поглубже заняться тем, что интересовало, — болела мама, трудности, с Лидой, с Пашутой, — не до науки. Но почему же тогда каждую весну просыпается беспокойство? Идти, идти, бродяжить. Из-за экспедиций и притерпелся к этой работе: пусть утомительно и неустроенно (сейчас еще ничего, хоть выходные дают, и машины хорошие, а прежде не всякое начальство и слушать их хотело), но тянет. И что такое? Тянет.
Виталий вспомнил прошлое лето, палатки и пожилого человека — лесовода, ездившего с ними. Петр Иваныч чем-то напоминал отца, и это придавало особый колорит их хождениям, даже, пожалуй, всем экспедиционным будням. И рассуждал он похоже: «Мы заняты делом добрым, — говорил Петр Иваныч. — Была гармония в мире, человек порушил ее-, а мы вот… Только мы мало можем. Мы с вами и весь наш институт…»
Была у Виталия такая особенность: вспомнив разговор, он непременно вспоминал, где этот разговор велся. Вот и сейчас попал в лес. Свежо пахли листья и земля, папоротник бил по коленям, оставляя на ткани брюк и на брезентовых сапогах желтую пыльцу. Энергично и тоже как-то свежо кричали птицы, и Петр Иваныч, отодвинув ветку елки, чуть не уронил на землю лохматенькое гнездо с пятью светлыми зелено-голубыми яичками, будто посыпанными перцем. Птица выпорхнула в последнюю секунду, издав хрипловатый, сдавленный крик.
«Чечевица-птичка. Ишь красота какая!» — покачал головой Петр Иваныч.
Было это утро яркое и легкое, как в детстве, и от нежной памяти вдруг все в московской квартире задышало, приняло иной смысл. «Скоро! Скоро!» — толкалось внутри нетерпение. «Скоро! Скоро!» — отбивали маятником старые отцовы часы. Время шло к весне: размороженные окна и небо над городом, вдруг заметное.
Теща за дверью беседовала с собой:
— Конечно, кому интересны старые. А помрут — жаль. Как мой Федя-то, доверь, про свою старуху сказывал: «Есть, говорит, — убил бы, а нет — купил бы». Вот что.
Звонит телефон. Теща бежит, шлепает тапками со смятыми задниками. Довольна: все же разнообразие.
— Виталь! — зовет она. — Тебя, Виталь. — И, передавая трубку, заговорщицки сообщает: — Твоя.
— Здравствуй, Виталик! — В трубке звучит ломкий, излишне бодрый голос самостоятельной женщины. — Мы с Пашутой выезжаем завтра в семь утра. Срочно заметай следы преступлений.
— Попробую. Да разве их заметешь!
Виталий горько усмехается своей добродетельности: какие уж там следы!
Телефон дает отбой. Время истекло или повесила трубку?
В мерное течение повседневной жизни врывается шаровая молния, сопутствующая всем действиям этой женщины. Её натянутые нервы, ее сорванные реакции (так бывает сорван голос).
— Ну как она? — подбегает теща. — Пашута здорова?
— Да, все в порядке. Завтра прибудут.
Ах, Лида, как она усложнила все, что просто, и низвела сложное до пустяка. Положила жизнь — свою и его — на борьбу за то, чтобы получить его голову на блюде — целый мир с робкими надеждами, тяжелым шевелением помыслов и замыслов. Владеть, владеть, танцевать со страшной этой ношей полубезумный танец властолюбия и беспомощности: голову на блюде. Не меньше!
А в остальном — великая лояльность:
— Через неделю уезжаю на симпозиум (она ведь ученая). Пашуту возьму с собой. Маму оставить или отвезти в Крапивин? Как тебе лучше?
И она искренна. Она не примет вынужденной верности мужа. Если Виталий хочет быть свободен… Если теща ему мешает…
— Ой, Лидуша, не лишай меня общества Прасковьи Андреевны, не говоря о том, что она не вещь: нужна — достали с полки, не нужна — убрали.
— Нет, если мешает…
И перед приездом непременный телефонный звонок:
— Мы с Пашутой приближаемся к столице нашей родины. Заметай следы.
Гл. XIII. Бунт
Юрий еще раз прочел новый сценарий: он не доверял себе с первого раза, все думал — чего-то не углядел, есть, кроется тайная мысль за пустыми репликами. Ведь Слонов (а неизменным буровским сценаристом стал именно он) не только барственно глядит на людей и события, но он ведь любит Нэлку, обожает пса Джимми. И песню тогда спел по-хорошему, без форсу (правда, больше таких светлых минут не случалось). И вот Юрка все искал в его сценариях, вычитывал и с каждым разом находил меньше. А уж этот!..
Это был срамной сценарий. В нем все не сходилось: обстановка — с поступками, поступки — с характерами. Он, этот Барсук, хотел создать целую «энциклопедию современной жизни», «галерею образов», что там еще? Какие есть готовые определения? Какие штампы? Он дал размах строительства нового городского района, и доброту Простого человека, и молодежь с гитарами, и даже философию — даже философию! (Несложную, правда: что выгодней — доброта или зло. Доброта, доброта, не волнуйтесь!) И современную живопись (легко развенчивал ее, сделав художника бородатым козлом и наркоманом). Во! Даже наркомания… Все, все вместил могучий Барсуков ум.
Но в бедных его цепких руках все превращалось в груду безделушек.
Вот любовь: влюбленные прогуливаются по набережной Москвы-реки. Парень (хороший, наш, рабочий парень, крепко толковый и прочно стоящий на земле) хочет поцеловать девушку (девушка похуже — избалованная интеллигентка, а мама ее молодится и пудрит нос, где ни попадя). Но девушка хоть и влюблена, как клуша, но дает отпор.
Буров набирает знакомый номер:
— Нэл, спроси своего Барсука, почему его Таня не целуется — гриппом, что ли, боится заболеть!
— Не остроумно, Юра. А Барсука нет дома… Мало ли почему можешь не хотеть…
— А-ля-л я…
Это, наверное, Нэлка не хотела целоваться с Барсуком. Но ведь он уже стар и любви у нее не было, а у него рот гниловатый… Мм-да, личный опыт. Ладно, пропустим.
А вот почему этот наш паренек после свидания опаздывает на смену, а его мастер — ни слова, только хитро улыбается? (Так и сказано: «хитро улыбается», а — перехитрил старик молодого красавца!) А… это чуткость. Вспомнил свои годы… Вот уж и растекся в длинной речи: «Как сейчас помню…»
Юрий хлопнул по столу, подул на руку. Как сейчас помню — я думал сделать в кино свое, прекрасное. С каждым разом получаю все худший отброс. Что, мне жить не на что? Да лучше в дворники. В лифтеры. (И слушал себя: заразился пошлостью, заразился: «в дворники», «в лифтеры», «в грузчики» — пижонские общие места…) А что? Отдать назад! Выступить, обругать — при всех. Халтурщики, бездари! И те, кто пишут, и те, кто принимают. А уж кто ставит — подлецы!
Сам не заметил, как выскочил на улицу, — побегал-побегал, чуть поостыл вроде. Возмущение улеглось; стало жаль состояния, в которое приходил, начиная работу, — разговор с актерами как бы походя: «Слушай, Миша, тут одна роль есть. Загляни». А сам ночь не спал, намечтал этого Мишу…
Но в такой фильм и пригласить-то срам.
И еще, остывая, думал о врагах, которых с его отказом сразу утроится, и как Барсук-влиятельный повернется к нему задом. Да неужели я слаб, чтоб иметь врагов? Но тогда я слаб и для работы. Для настоящей.
Только теперь заметил, что бессмысленно петляет вокруг недоснесенных деревянных домиков, сиротливо и живописно обрамляющих кооперативные новостройки. Глупо-то как! Домой, домой!
Юрка вошел, а она уже сидела на диване, по-кошачьи свернувшись. Черные волосы до поясницы и — распущены, привезенный с собой пушистый платок закрывает (почти, кроме колен) длинные подогнутые ноги; в его прокуренной и пропахшей вином комнате будуарный порядок: на висячей полке, рядом с книгами, — ее духи, над диваном — маленькая иконка в узорчатом окладе, на столе — ваза с двумя привезенными ею цветками. Кроме того, она делала статуэтки из кустарниковых корешков. И вот — пожалуйста: на полке русалочка с раскрашенным лицом, полная вычурного излишества, — даже в такой малости проступает характер. Ее смуглое, неподвижное, всегда — хоть голову разбей! — всегда красивое лицо…
— Юрий Матвеевич, вы заставляете себя ждать.
Конечно, Нэлка приготовила эту фразу.
— Я счастлив, что ты проявила терпение.
Было бы естественнее сказать: «Я рад тебе, Нэлка!» Но теперь такие искренние слова из него не лезут.
— Барсук ушел в министерство, и я решила…
Барсук? О нем говорится без напряжения. Не то что поначалу: «Я не смею быть дрянью!», «Он меня вытащил…» А теперь: «Барсук ушел, и я решила…»
— Слушай, ты тут взрастила сады Семирамиды… висячие… Мне даже неловко за бутылки и горы пепла, которые ты…
— Не волнуйтесь, пепел я замела в уголок.
Господи, что за пошлость это обращение на «вы»! Она говорит: чтобы когда-нибудь не сбиться. Дак ведь не собьется — не та замеска. Тесто-то сладкое, без дрожжей, сроду не убежит. Если только пересадить в другую посудину. Может, тесто хочет пересесть?
— Ну, что на студии?
— О, Нэлочка, идут, идут пробы, нагнал артистов, а главное не решено.
— Что главное?
— Ну, тональность, что ли. Как это все сказать. И сценарий, прости меня…
— Вам не хочется сцену, где герой и героиня разговаривают впервые, сделать замедленной, с деталями, с подробностями, как у Антониони — помните? — в «Затмении», когда этот бочонок с водой… а?
— Нет, не хочется.
О, эта гладкость речи! О, это знание всего на свете!
— Вы подумайте, Барсук говорит… Впрочем, он не понимает. Представьте: городские реалии — камни набережной, по камню ползет муха, первая муха — ведь весна… Трещины на асфальте, по реке плывет детский кораблик…
— Нэлочка, давай о другом.
— Или, как у Феллини…
— Ты не хочешь заварить мне чаю?
Она обижается. Боже мой! Если ей говоришь, что тебе интересно показать крупно лицо человека, когда он задумался о поступке — единственном, может быть, поступке в жизни, — она бойко выкликает:
— Пути, которые мы выбираем?!
А если упоминаешь слово «свобода», она тотчас же находится: «Свобода, как осознанная необходимость!»
Зачем, зачем их только учат, этих Нэлок, — ведь они способны шелухой, которую всегда хватают вместо зёрнышка, замусорить, засыпать все живое! У нее прелестное тело — чуть перезревший экзотический плод. И в те редкие секунды, когда она молчит…
Она знает свою силу, а он, Юрка, слаб. Слаб человек. Он умеет заставить себя, умеет сделать то, чего не хочет. Ему знакомо слово «надо». А вот «не надо», «нельзя», «остановись» — это из другого словаря.
— Нэлка, иди сюда, ко мне на колени, я буду поить тебя с ложечки.
Она усаживается, и он дает ей откусить конфету, потом целует в сладкий жующий рот.
— Нет, нет, сиди! Запьем чаем.
Он гладит ее поверх платья, и глаза ее делаются шалыми, человечьими, бабьими. О, если бы она не умела разговаривать! Но она умеет:
— Послушайте, мой дорогой, но я ведь все про вас знаю.
(О, господи! Началось!)
— Да, да, Нэлочка! Всё.
— Я говорю о вашем новом увлечении.
— Ага. Помолчи капельку.
— Что «ага»? Я ходила смотреть на эту вашу хлопушку: триста три дубль два, триста три дубль три… Пришла в конинский павильон, где она хлопает…
— Нэл, хватит, мое золото.
— Но вы не отвечаете по существу. А я не хочу быть просто…
Ну вот и программа. Она не хочет просто.
— А чего ты хочешь?
Разумеется, она сейчас сформулирует. Это она мастер. Конечно же, конечно, она хочет быть возлюбленной, а не наложницей (ай-ай, какой богатый лексикон!). Но нет же сил произнести идущий к делу ответ. Бог с ней совсем, с наложницей. И зря она про хлопушку. Сразу остудила.
— Зря ты об этом, Нэлка. Ну ладно, ты свободна.
Обиде ее нет предела. Волосы причесываются рывками, оттопыренные губы дрожат.
— Я знала. У меня очень развита интуиция, ты не думай.
— Я и не думаю. Ты молодец.
— А у этой девчонки нет московской прописки, учти это.
— Пусть отдел кадров учтет.
— Не строй дурачка. Ей нужен муж, квартира, прописка, роль. Она же актриса. Ха-ха-ха! Она тебя не прохлопает, твоя хлопушка, будь спокоен!
— Слушай, Нэла, у тебя есть сумка?
— Что?
— Ну, тара какая-нибудь?
— А зачем?
— Возьми свои платки, салфетки, иконы…
Дверью она бухает, как пьяница в шалмане. Эта не простит. Какая дрянь, а? Прописка! В воздухе висит облачко ее пудры и непробиваемое:
«Реалии…»
«Антониони…»
«Феллини…»
Как она попала сюда? Брысь! Брысь! Он достает из шкафа бутылку, наливает коньяк в стакан.
— Будьте здоровы, Барсук, Нэла и иже с вами. Отмыться, отмыться!
Из почтового ящика, что на двери и обращен нутром в квартиру, торчит конверт. Адрес отпечатан типографски, на белой бумажке, приклеенной к синему полю. Деловое. Юрка читает небрежно. Какое-то там заседание. Какое-то… Нет, кажется, важное. Вот-вот! (Прерванная мысль застучала снова.) Тихо вернешь сценарий — пожмут плечами, зашепчутся; громко — раскол на своих и чужих. И чье-то сочувствие тоже. Это непременно:
— Уважаю, старик!
— Э, да ты человек!
— Давай пять.
На черта мне их рукопожатия? Нет, пожалуй, нужны. Тут может подвернуться достойная работа. А может, долгое ничего. Бойкот. Надо умненько выступить. А, черт с ним, с умом. Что я, дурак? Дурак? Тупица? Подлец?
Зал был полон и душен. И плавал в благодушии. Оттого слипались глаза. Как давно он не был на ристалищах! Как стойко не знал победителей! Впрочем, сориентироваться было легко.
— Необычайно свежий прием, найденный Василь Василичем в его последней работе… (По имени и отчеству непременно.)
— Новый фильм Василь Василича может служить образцом…
— Идейно-художественная ценность фильма «Свет»… (Все тот же В. В.!)
Но я видел этот фильм и знаю, что они врут. Что им даже не мерещится ничего такого. Просто В. В. сегодня победитель, законодатель и председатель (а может, ответственный секретарь).
Зал придремывал. Но не спал… Отнюдь. Потому что должно было знать своих победителей. Предстояла умственная работа: выявить из речей. Из всей этой мутноватой жидкости нечто должно было осесть, как наиболее весомое. Выпасть в осадок.
О буровских фильмах никто не говорил: они теперь шли гладко, но интереса не вызывали.
А кому, собственно, нужен ваш интерес, уважаемые киноработники? Меня смотрят миллионы людей и…
И ленивая мысль наткнулась на боль. В который раз!
Прислушался к речам. Опять хвалили В. В., но встал Володя Заев и сбивчиво заговорил о фильме, который положили на полку, и было видно, как дорог Заеву этот фильм, хотя и не работал на нем вовсе, а просто увидел. И следом кто-то еще — из молодых — о том же. С той же горячностью. Бурову страстно захотелось, чтоб о нем — вот так же и такие же. Захотелось, чтоб его «положили на полку», предали анафеме, но чтоб сам он знал, знал о себе!
Но тут вышел человек, который… как бы это половчее сказать? На нем было незримо означено, что он не поставил фильма, не написал сценария, ничего не снял, ворочая кинокамерой, и ничего не сыграл. Человек среднего роста, средней упитанности, средней степени одетости (но без вызова, как это бывает с «богемой»), — словом, весомый человек. А позади него (Буров просто замер) — огромная густо-лиловая тень. Человек самолюбиво выпрямился и начал говорить. Он еще не все понимал в сложном деле кино (это было заметно), но был оснащен документами и списками и потому точно знал, кто где расставлен на этой лесенке, на этой шахматной доске. Кто король, а кто пешка. Хотя и с пешкой был вежлив.
Юра Буров отвлекся от узнавания (неужели — он? Ведь там была предназначенность для битья, а вот — гляди ж ты! — вырвался) и заволновался совсем по другому поводу: сейчас назовет всех. А вдруг меня не назовет? Видал мои фильмы, помнит меня, а в списке лучших — нет. Нет! Середняк!
А тот называл имена четко и последовательно. Ах, он знал даже, кто за кем!
Как изменился! — думал Юрий, чуть успокаиваясь. Как уверился в себе. А все равно малолик. Не совсем безлик, во… Он, помнится, хотел стать личностью и при этом искал заручку («заручка» — значит: взявшись за чью-то ручку, чтоб кто-то вел!). И Юрка тогда согласился вести. А кто теперь? Кого теперь провожает до дому? Перед кем заискивает? И на кого — директору? Кто-то, видно, покрупней.
А малоликий Панин все говорил, расставляя на белых и черных квадратиках. А когда кончил, Юрий там не обнаружил себя. Раньше он все-таки стоял среди центральных пешек, под флагом «молодые» и еще «талантливое пополнение». Теперь выпал. Впрочем, этого следовало ожидать. Надо или сновать здесь, вращаться — тогда могут вспомнить в нужный момент. Или — делать настоящее. Показываться легче и эффективней: любой малоликий это любит.
Чтобы тут, в этой полудреме… Разве дело в заметности? А в чем? Прекрасное лесное болото — зеленое, сочное (осока), пахучее, зыбкое, полное своей неповторимой жизнью. Проплыла пиявка, мягкая, бархатная, с присосками, — красивая тварь. Проскакали наездники, нежно и зыбко касаясь глади легкими нитяными ножками; скривил по касательной к белым осклизлым корням жук-плавунец. И такая тишина — и не слышно, как лягушка поймала на раздвоенный клейкий язык золотистую муху, а дафнии… И тепло, тепло, и — испарения…
Юрий Матвеич понемногу соловел — сам подловил себя на этом: зачем выкликать? Зачем тревожить? Дрема — лучшее из состояний… «Я никто. А ты кто? Может, тоже никто? Тогда нас двое. Молчок!» Но ведь должны быть хотя бы двое. Кто-то должен радоваться делу рук твоих. А чему? Чему радоваться? Но я, что ли, виноват? Да. Я!
Нет, Буров не был смастерен для дремы. Его дух, его вполне конкретный разум противились. Он мог не ходить сюда, не касаться. Но раз уж явился!..
Он написал записочку. Она дошла, вызвала легкое недоумение в президиуме. Через какое-то время председатель назвал его фамилию. Юрий вздрогнул и пошел к трибуне. Совсем пустой. И остановился, глядя в зал.
Там были знакомые и даже родные лица, сопричастные одному делу. Ему ли глядеть сверху вниз. Да он сам только что проснулся, почти проглотив уже сценарий Барсука, — проснулся от боли в животе: отравился! Проснулся, чтобы выжить. Проснулся от боязни смерти.
— Вы знаете, — сказал он театрально тихо. И рассердился на себя: он все еще хотел завоевать их, то есть опять-таки подольститься. Нет! Нет вам, нет! И продолжил уже обычно, как говорят с собой: — Я, наверное, в сравнении с большинством из вас в привилегированном положении. У меня не плачут малые дети. Не понравлюсь, буду подвергнут остракизму — так ведь я умею землю пахать, на тракторе хорошо работаю, шофером опять же могу. У меня еще бабка в колхозе, пристроит в случае чего.
В зале немного зашевелились; кто-то хихикнул: «За что остракизму?»; кто-то выкрикнул: «О чём ты? Не темни!»
— Да. Так о чем я? Не о фильме В. В., который мне показался очень обычным. И вам так же. Иначе не было бы сказано «необычайно свежий прием». Иногда прилагательное убивает. Еще Мопассан, мир праху его, заметил, что сказать: «я тебя ОЧЕНЬ люблю, УЖАСНО люблю» — несравненно меньше, чем просто «люблю». Я тебя люблю. Свежесть — это свежесть. А когда ее нет, говорят «необычайная свежесть». То есть пустота. Как слово «недоперевыполнить». Или «недопереплатить». Мне надоело недопереплачивать! Я говорю как режиссер: беря плохой сценарий, мы всегда недопере! Мы хотим сделать пирог из мусора. Мы кладем всякую сдобу — масло, молоко, дрожжи… не знаю, что там еще, — в мусор. Мы хотим припёка. И оно вздувается безобразно, это тесто. И чем больше наше пекомое похоже на пирог, тем хуже, потому что оно несъедобно. Слышите, чем лучше, тем хуже!
О, как сбивчиво и нечетко он выступал. Но сидевший в первом ряду Володя Заев — пли это лишь показалось? — кивнул ему. И Юрий чуть задержался на трибуне.
— Почему мы беремся за такое? Почему не прикрываем пустоту собой, телом своим, как амбразуру стреляющего дзота… в этой тяжелой войне? Вот почему я о детишках, которые плачут или не плачут. Я зарекся. Всё.
Буров шел по залу под явственный шепот:
— О чем он?
— Ясно, о чем.
— Ну, и говорил бы прямо.
— И так прямей прямого.
— С именами…
— Возьми и скажи.
Но никто ничего такого не сказал, и Юрию уже было неловко за свой неумеренный рывок, к тому же чреватый… И опять, прорываясь сквозь боль, шла мысль: а что? Были и у меня кадры отменные! Фильмы мелки (теперь и таких не будет), а кадры… — И обрывал себя: э, да что я! Неужели опять Барсук или такие же? И мне, и им — вот этим, умным, талантливым? Чего ж терпят? Видно, борцы, сошедшиеся грудь к груди на несколько таймов, передают друг другу вместе с потом своим и слюной кожную болезнь. Мы заразились пустотой.
На заборе сидела кошка. Серая, тощая, с длинным хвостом. Юрий Матвеич с удивлявшей его самого дотошностью разглядывал из окна ее обогретую скупым солнцем мордочку (скупое, но ей хватило), ее сжатые на древесном столбе изящные пальцы с вобранными когтями, умильный прищур ее суженных от света глаз и такую же умильную улыбку. Кошка поела на помойке, уселась на круглом столбе забора и созерцательно наслаждалась… В Крапивине у бабушки жили кошки, Юрка любил их. И сейчас подумал: чего не завел до сих пор? Забот никаких, а мурчанья, умильных взглядов — до отказу! Заведу. Надо завести. А думал все это, чтоб не возвращаться к вчерашнему собранию. Потому что теперь все переигралось и сценарий Барсука следует выбросить! А что взамен?
Взамен последовал телефонный звонок и оторвал мысль от кошки.
— Юрий Матвеич Буров? — Мягкий, но официальный женский голос. — Одну минуточку, сейчас с вами будут говорить.
После паузы прорезался баритон:
— Здравствуй, Юрь Матвеич. Это Панин, Константин Анатольевич.
— О, добрый день! Рад слышать!
Юрка не совсем понимал, как теперь с ним. Однако кинул пробный камешек:
— А я вчера гляжу: ты — не ты…
— Я, я! — засмеялся тот, довольный.
— Откуда же ты вынырнул?
— Сейчас изложу. Прикомандирован к вам. — Голос чуть зазвенел благородным металлом: — Я, брат, теперь большое начальство. — Он назвал должность. Юрка старался не знать особо должностей (а скорее — прикидывался, что не знает: творческая, мол, личность!), но тут оценил. Должность видная.
— Что ж, будешь руководить?
— Придется. Вот на собрании был, тебя, шалуна, слышал.
Юрку кольнуло это начальственное панибратство.
— Я не такой уж, Костя, шалун. Я серьезный.
— Ну, тем более. Серьезный, идейный. Тут есть один сценарий… Он, понимаешь, без претензий, но по тематике…
— Рабочая тема? Или о милиции?
— Нет, брат. Поглядишь. В общем, мы тут, как говорится, посовещались…
— Решили — мне? Премного обязан.
Буров не ждал толкового. Но все же не Барсук. Потому что хуже пошлости только вранье и жестокость. Он договорился о встрече (Костя Панин пригласил к себе в Комитет, комната № такой-то), время взяли не дальнее — часа через три (обоим было интересно увидеться!), и Юрий стал понемногу собираться. Жил он далековато, машину свою еще не подготовил к весне, так что самое время. Он шел по подсыхающему тротуару и смеялся. Сбросил путы! И — чуть розовела на горизонте надежда. Прощай, Барсук. Прощай, Нэлка! «Оставь соби».
Помнил, как бабушка, провожая его в столицу, наставляла:
— И там колдуны есть. Подойдет такой, дочкнется до плеча: «На тоби!» Это он зло отдает, черную неделю. А ты сразу ему по руке: «Оставь соби!» Да громко, не особенно-то совестись!
Бабка была решительна. А как бы иначе сила, живущая в ней, пробилась наружу? Эх, бабка, кабы не ты, разве бы я чего стоил?
В большущем кабинете сидел Панин (и написано было на табличке: «К. А. Панин»). Теперь, вблизи, было видно: сер, сух, светлоглаз. Подзастывшей прозрачности глаза, похожие на белый агат (есть такой, встречается). А тень — непомерно разросшаяся лиловая тень — снова померещилась за его спиной. Долго глядел на вошедшего, будто не узнавая, и не здороваясь (хотя ведь секретарша доложила), потом встал, вышел из-за стола, протянул обе руки.
— Ну, здорово, здравствуй, дорогой.
Юрка рад был, что не обнялись.
— Садись, потолкуем.
И не полез за стол, занял второе, посетительское кресло. Пошел ва-банк:
— Вот я давно хочу спросить кого-нибудь из вас, ну из творческих, так сказать, личностей. Чему вы думаете научить зрителя? Вот ты — чему?
Ха! Задушевный разговор? Ну что ж, давай. Ведь я сегодня, как и ты, начинающий.
Юрий не считал себя ни мыслителем, ни проповедником. Но думать думал.
— Видишь ли, я полагаю, что искусство научить людей вообще не может.
— Как же так?
— Не знаю даже, как сказать. По-моему, дело настоящего художника, — не такого, каков я сейчас перед тобой, — его дело — внести в мир гармонию.
— Понял, понял. Сделать, значит, людей гармоничными. Чтоб различали, где добро, а где зло, чтоб поступали как люди. Точно?
— Ну, если хочешь — так. Нет. Нет, не совсем так. Это опять вроде бы научить. А таких прямых путей не бывает. Я пытаюсь — о более тонкой материи. Понимаешь, есть наше бытовое повседневное кручение, а есть и другое — то, что включает мировую культуру, мир духовности, мир высоты. Из него черпает искусство и несет это людям. И те, кто могут воспринять это… они становятся богаче душой, выше.
— А кто не может?
Юрий пожал плечами:
— Это уж их забота, не моя. Не ходить же век пригнувшись оттого, что кто-то пониже.
— Барствуешь, Юрий Матвеич.
— Я известный барии. Мое родовое именье стало музеем.
— Дело не в том. Зачем людей разделяешь?
— Не я их делю. Они сами разные. Одни хотят понять, Суметь, работать хотят — в любом деле, способны на дружбу, на любовь, на самоотдачу, так ведь? А другим только деньги дай или выгоду какую, а если у кого хорошо, так не то чтобы дотянуться до него, — а позавидовать, обозлиться, еще и гадость сотворить.
— Что ж, их исправить нельзя?
— Можно, вероятно. Но трудно, не в раз. И если я сумею заронить хоть крупицу добра… ну, стало быть, и я кое-что сделал.
Юрка знал уже, что не договорится, что не хватит слов и запалу, который всегда оставлял его, если не подбрасывали дров, не подхватывали на лету. Но хоть не гасили бы, что ли, тщились бы понять.
— Так-то оно так. Но нет ведь абстрактного добра. И зла тоже. Все во взаимосвязи.
— Конечно, конечно. — Деловое чутье подсказывало Юрию: не спорь. — Но ведь, Костя, что-то мы с тобой даже в этой взаимосвязи принимаем, а чего-то нет, верно?
— А как же!
— Вот и я хочу отделить.
— День от ночи, да? Черное от белого? Ну и верно. Верно. Давно пора. Чтоб, значит, поступали как люди. Так они вернулись к началу.
— Ты, Константин, голова.
Юрий дивился: вроде в мальчиках этот Костя был посложней. «Роль личности в истории» и все такое… Но раздумывать было не время: Панин совал ему красивую зеленую папку с застежечкой.
Они расстались дружественно, и азиатские Юркины глаза не выдали подвоха.
— Бываешь в Крапивине? — чуть снисходительно спросил под конец Панин, как бы связывая нити в дружеский узел (хоть и нечего вспомнить, а все же общее прошлое).
— Конечно! Родина.
Буров уволок под мышкой новый сценарий и приглашение заходить, звонить в любое время. И он непременно «зайдет, позвонит в любое время»: он уже задумал нечто, в чем К. А. Панин должен был помочь.
И куда эта чудь белоглазая девала свой страх? Свою предназначенность для битья? Надо было спросить о жизненном пути. Впрочем, ясно — он извилист, как горная трона, идущая вверх. Каждому камешку поклонишься, хватаясь, чтоб не упасть. А это он умел, еще тогда. «…О, мадам…»
Сценарий был приключенческий — о международном разведчике. Никакой. Без Барсуковой пошлости, однако. Если что не сходилось, то лишь ситуации: как супермен ИКС (Х) мог удрать из резиденции Главного Врага, да еще унести все документы, если он (этот X) был приведен туда двумя вооруженными людьми, которые остались у дверей? Оказывается, проще простого — через окно. Слез по трубе со второго этажа — и все дела!
Юрий, сидя за столом, старательно помечал для автора: «Придумать».
Как мог все тот же супермен X прочитать бумагу на языке, которого он не знает? Опознать «своего» без признаков и т. д.? И почему не болит душа за этого супермена X (иначе не назовешь), за именем которого кроется всего лишь человеческая конструкция из сметливости, смелости и удачливости — ни характера, ни лица? И ни тени юмора. Куда там!
Милый Фантомас! Ты обобщил все это. И: а) рассмешил смешливых; б) напугал пугливых; в) расхрабрил храбрых: г) наловчил ловких!..
Юрка поймал себя на том, что, все больше злясь и распаляясь, думает уже, однако, об актере (Вася Мерфин, непременно Вася), и о месте съемок, и о поездке по означенным странам (их несколько, и все интересны!). А чего?!
И точно чужое крыло замахало у плеча. Чужое, прочное, из какого-то неуязвимого материала — без кожи и хрупких косточек. Пластмасса? Легкий металл? (Как далеко можно летать на таких крыльях и как безболезненно!..)
Может, мне, Юрию Бурову, когда-нибудь хотелось своим искусством что-то сказать? Полно, полно! Какая чепуха! Да я мечтал всю жизнь о пластмассовых крыльях за плечами и о душной кабине, и командировочных, о шмотках, о телятине с грибами…
А зачем тогда был Мугай-остров? Зачем бабкина черная тень в красных отсветах? И краски, которые сперва убивали всё живое, а потом научились, умаляя то, чему подражали, отдавать свое, бесконечно серьезное — полотну? Неужели то было детство? И оно осталось там, в далекой стране Крапивенке? А потом…
Потом была дорога, и на ней стояло чучело. Я содрал с него идиотский котелок, рванул кацавейку. Надел современный костюм, галстучек модной расцветки и ширины: живи и — отыди!
Оно ожило, чучело, и потащилось следом:
— Ты меня родил заново. Я — твое дитя.
И вновь была дорога. И стояло новое чучело в измурзанной одежке. Я содрал с него дурацкое тряпье… Да это же — бесконечка! Жил-был бычок — с белым пятнышком бочок!..
Они, эти новомодно, с иголочки одетые чучела, теперь мои собеседники, соглядатаи, союзники. А если кто и что наперекор — так ведь они и дубинкой дерзкого! Сообщники! И душно. И руки уже тянутся к привычной работе — содрать тряпье ли, плохо ли скроенную одежду, украсить, подновить, пустить по свету новое, новое чучело!
Да со мной и говорить-то перестали всерьез! Вот он, шкаф, вместилище плодов моих поисков и обретений. Шкаф этот с модными шмотками подмигивает настольной лампе: наш-то! ишь ты!
И тут вошла Тоня. Без предупреждения. Пришла — и все. Та самая Тоня, которую он так странно (через патологию ее чувств) снимал в первом своем фильме и с которой был счастлив в весеннюю ночь после вечеринки в ВТО, когда он впервые погладил жесткие, прямые, цвета свежего сена волосы смешной девочки Оны. Ах, как хороша была тогда Антонина! И как божественно глупа! И как беспечна!
— Тонька, ты? Ну, входи же!
Она запнулась о порожек, привалилась к степе. Пьяна, что ли?
— Входи!
Юрий знал, что ее красота непрочна. Но чтоб так скоро!
Пустые глаза торчали на бледном, широком (опухшем?) лице. Непокрашенное лицо. Стена облупившегося дома. Аварийный. На ней (на нем) было написано: аварийный. И почему-то у Юрки хватило доброты ли, ума протянуть к ней руки, обнять, прикоснуться щекой к холодной и почти шершавой ее щеке. К лицу трезвого, несчастливого человека. Тогда она заплакала. Потом рванула из кармашка мятый платок, вытерла глаза и нос, распрямилась.
— Мне ничего не надо, Юра. Просто ты лучше других.
— Случилось что-то?
— Нет. Не знаю. Наверное.
— Выпьем?
— Что у тебя? Водка? А, все равно. Давай.
Пили водку. Есть было нечего, хлеб только. Да и не надо.
— Я рада, — говорила она. — Для чего мне красота? Чтобы шептались? С этого все и пошло. Еду в метро — глядят и шепчутся. Разве это стыдно — быть красивой? А одетой? Что на мне такого надето, чтоб шептаться? Просто сидит хорошо. Верно?
— Конечно, Тоня.
— Я сначала думала — узнают по фильмам. Ведь только лицо снимали, одно лицо. И фигуру. Слово-то какое: «фигура»…
— Пожалуй.
— Ты, если не согласен, не поддакивай.
— Я согласен. Хотя тогда, в пашем фильме…
— Он тоже дерьмо. Только ты его в блестящую бумажку завернул.
Глаза ее вдруг обрели цвет и смысл, и что-то восстановилось в лице, уравновесилось. Гармония. Ведь что такое красота? Гармония. Не более того.
— Вот ко мне тут один старик приходил, — продолжала Тоня. — Он вроде о кино пишет. Сам как можжевеловый корень. Знаешь, из которых всяких русалок, леших, птиц делают. Пришел, посидел. «Чем, говорит, утолишься, а?.. Чем? Красота твоя пройдет», — «Вот когда пройдет, ответила и думать начну». А сама — уже. Думаю. Потому что проснусь утром — и зацепиться мне для жизни не за что.
— Да ведь у тебя кино есть. Роли.
— Нет там ничего этого. Нету. А во мне, Юра, было!.. Может, мало, а было. В девочках. Вот я в балет ходила.
— Хотела балериной стать?
— Да что ты! Смотрела, как это все летит и сливается с музыкой в такие волны… И качает тебя от счастья… Или — в мальчика была влюблена. Из окошка. Мне и не хотелось с ним заговорить. Я ведь знала, что понравлюсь, и всем мальчишкам нравилась. А я гляжу, бывало, в окно… И красивое любила. А теперь не люблю. И в кино мне хотелось показать свою опять же красоту: вот это красивое, видите. А оказалось: вот я вся тут, пустая. Голая совершенно. Что, не видали разве? Не пойми меня, конечно, буквально.
Юрка дивился, что дурочка эта своим путем, через какое-то, видимо, потрясение, дошла почти до того же, до чего и он.
— Мы не растрачены, Тонюшка. Мы с тобой не расточили своего, вот что. Не посеяли. Потому и собрать нечего.
— Может, и так. Как хочешь назови!
— Так это называется, так. Помирает в нас нечто и кричит.
Она опять заплакала.
— А когда подохнет, смердеть начнет. А? В чем моя вина? В чем?
— А я вот одевал чучел, Тонька. Не плачь… А теперь бросил все. Все бросил к чертям и не жалею. И студию бросил.
— Врешь?!
— Вру. Но почти. Поверь мне.
— Верю, Юрка.
Два пьяных человека над пьяным, плывущим в безответное столом. И два стакана недопитых. Боже мой, какой приевшийся пейзаж!
— Ты меня уважаешь, Юр?
— Да. Теперь — да. И трезвые глаза.
И, может, близко уже до дна. А может — до берега.
Ехал по травянистой дороге. День. Солнышко. Рыжий лошадиный зад, черный хвост, чуть видны загривок и уши. В пустой телеге пахнет свежая трава, а в траве, позади, лежит кто-то. Кто-то чужой и — живой ли?
Юрий просыпался, снова засыпал и видел все сначала: колея, зад лошади, черный хвост… Кусок сена из-под чьей-то свесившейся руки. Мертвого, мертвого везу…
В комнате утренние потемки, на столе стаканы, огрызки хлеба. Антонины нет. Не дурочка она, а то бы не ушла.
— Ты меня уважаешь?
— Да. Теперь — да.
Как она сказала? Просыпаешься — и не за что зацепиться для жизни. Так. Так же и мне. Все последнее время… Просыпался в тоске. И в тревоге. Быстро соображал:
Где? — Дома.
Что случилось? — Ничего.
Чем обрадоваться? — Нечем.
А утолиться?
И только сегодня ночной страх убрал это. Все вздернуто внутри. Так что же будет? Чего я хочу? Вот такой ясности хочу: ясной головы и чтоб было дело, которое уважаешь. А то ведь что: идут съемки, а думаешь о фильме только на месте, пока снимаешь. Нет, ты дай настоящее дело и подъем от него, от работы. Вот оно — высший подъем, — чтоб, как струночка, звенело все. Все в тебе звенело бы. Тогда за любую соломинку зацепишься для жизни — за окошко, за старый дом или дом-коробку, если такое вошло в твою память пережитой радостью и любовью. Ведь есть же дети, открывшие глаза в белой коробке пятиэтажного дома, сделавшие первую лужу на ядовито-рыжий линолеум, влюбившиеся в девочку из соседней белой коробки, и тогда — о! — тогда это станет твоей нежной тревогой, стержнем твоей памяти. Разве не так? Впрочем, узнать об этом — зайдите к потомкам.
В это утро все шло и наворачивалось на валик: мысли — не мысли, но хоть убралось раздражение. И что-то еще тоненько дрожало росточком внутри. Что-то едва пробившее утоптанную землю. Вспомнил давешнюю кошку. Не поленился, встал, поглядел в окно. Кошки на заборе не было. А зачем, собственно? Зачем-то нужна была. С узкой, немой улыбкой. Изящной, немой… Если ее погладить… Так ведь гладил уже: жесткие, прямые, цвета свежего сена… И деревянный дом в пригороде, и кусты.
Вот оно что.
И засмеялся сам: старый, старый уже, хватит.
А вечером ощутил знакомое беспокойство, и пустоту, и тяжесть от необходимости быть в обществе 10. Бурова один на одни.
И обрадовался, когда раздался телефонный звонок: актер, игравший в его последнем фильме самую маленькую роль и занимавший самую большую квартиру, звал (нет, приглашал торжественно, поклонно) к себе.
А что там было, на этой вечеринке? Кажется, опять сон. Да, да. Но почему? И какой, собственно, сон, когда «только народу и чужой дом? Нет, тебя выволокли из комнаты, где ты свалился возле стола, — выволокли, как утоплое тело, и сложили на коврик возле старого чемодана. (Открыл глаза: огромный пыльный чемодан, из него — вытертый рукав кожанки и еще какая-то желтая тряпка. Что это? Где я? Сволочи, гады, пьют за мой счет — и меня же в чулан!) Так вот какой, казалось бы, сон? А он был, и в голове, как полудохлые рыбы, плавали не связанные фразы:
— И он еще хотел войти в элиту…
— Проще, проще надо, не мудрствуя…
— Он не обаятелен в постели… Не обая…
— Элитарность…
— Юрь Матвеич, что ты крутишь… Петух тоже думал, да в суп попал!
— Но вы…
— Молчи, Юрь Матвеич, тут мы говорим, а ты помолчи…
И сразу после этих слов (закадровые реплики, что ли?) поднялся ему навстречу в небольшом кабинетике плотный человек со светлыми глазами. Так чисто выбрит! И такая крахмальнейшая белая рубашка, и такой нужной ширины и нужной скромности галстук! Улыбка. Маленький рот, мелкие зубы, маленькой картошечкой нос. Однако все это в гармонии и покое и потому — мил. (А должна ли рожа быть приманчива?) Чист и мил. (О, мои раздерганные ноздри и несвежая, кажется, рубашка под замшевой курточкой!)
— Хотите чаю?
— Нет, спасибо.
— Вина?
— Нет, благодарю.
— Денег? Хотите много денег?
И он, этот чистенький, стал запихивать в Юркины карманы красные десятки — много! Его ручки с короткими чистыми пальчиками дрожали, и он, такой аккуратный, мял деньги: бери, бери скорей!
— Не надо! Да не надо мне! Отстаньте вы! Отстань, гад!
А тот все оглядывался и совал, а возле всех стен уже стояли невесть как просочившиеся люди. И чужие, и свои — Виль Аушев, Катя, Барсук, Нэлка…
— Я только вошел сюда! — кричал им Юрий. — Я — ничего. Это он привязался, гад! Вот! Вот! — И пытался выдрать из кармана десятки, а они точно прилипли, — одна или две, правда, выпали, кто-то подобрал.
Он обнял Виля и Нэлку (или Катю — так получалось: то Нэлка, то Катя), и они вместо пошли к двери, потом полетели по воздуху уже неизвестно где — в том ли кабинетике, на улице ли. И за ними следовало неизвестно кем произносимое нараспев:
— И он еще хотел… И он…
— Он не обая…
— Ты молчи… Проще, проще надо…
И кто-то пинал его в зад, и это было обидно, даже оскорбительно, но поскольку он все же взлетал…
— Шевелится, — сказал чужой, нормальный (не распевный) голос. — Водка осталась? Дай ему.
Лили водку в рот, так и не повернув его к себе. (Гады! У, гады!)
— Хватит. Не хочу.
Встал и прошел через комнату, потупясь. Не от стыда — от злобы! Такие сволочи! Такое вороньё все и шакалье! Споткнись — подтолкнут. А пить… Да ему не жалко — пейте, еще куплю! Подхалимство их гадкое претит. Э, стоп! Он вроде бы им вчера сказал, кто они есть?! Вроде перед тем, как упасть, он им сказал…
Короткий страх пробежал, как ток, и отошел. Ну, и сказал — не соврал.
Однако позже, уже из своей квартиры, позвонил Аушеву.
— Что тебе ответить, дорогой? — сыто пробасил тот. — мы, конечно, гады, но и ты не солнышко.
Дело было не в словах: Аушев говорил снисходительно. С ним, с Буровым, снисходительно!
— А была речь об элите? Что будто я хотел быть в вашей дерьмовой элите?
— Прости, Юра, ко мне пришли.
Значит, так: Юра — пьяница и надежд больше не подает. Сделал несколько фильмов, которые устроили среднего зрителя, а властителей дум и мод не устроили…
И подумал (не впервые, конечно): а самого?
Самого-то устроили?
И тут же перебил себя: плюнь на них, Юрь Матвеич, для людей ведь работаешь, не для кучки снобов! Да, да, для людей.
Но зачем тогда утешать себя и уговаривать? Если всё ладно-то?
А вот и то, что не все.
Весь день после пирушки было смутно — лежалось, но думалось. К вечеру стали стекаться те же (с малыми вариациями). Он, кажется, до того, как свалился, звал к себе. Аушев, однако, не пришел. А Барсук и Нэлка явились. (Что он задумал, Барсук? То есть, простите, Борис Викентьевич Слонов. Копает небось под меня? Но почему не воюет открыто? Почему, встретившись сразу же после совещания, не отвернулся, а, напротив, протянул свою сухую, крепкую руку: «Вы влили каплю живительного бальзама…» — и так далее. Что это? Насмешка? Маневр, чтоб утопить незаметней? А может, не принимает всерьез? Слова, мол, словами… Точно! Не берет меня всерьез. Потому и явился.) Остальные же просто слетелись бездумно. Опять кто-то, комкая в пятерне Юркины деньги, бежал за горючим.
— Ну что, дармоедики?! — мысленно обращался хозяин дома к присутствующим. Но его трогало, что вот пришли, приходят.
Юрка, развалясь на тахте (ему уже поднесли, конечно), глядел, как чужие, порой незнакомые даже люди, чьи-то друзья, кем-то приведенные, уставляли стол бутылками, вскрывали консервные банки, резали хлеб. Они, гады, уже сориентировались, нашли тарелки и вилки в буфете; вот они уже двигают стол к тахте, тащат из-под его головы подушки, чтобы подложить под свои зады.
— Стоп, стоп, стоп! Сдурел, что ли? Чего тащишь!
— Подушечку хотел. Тахта больно низкая.
— А ты, собственно, кто? Кто ты есть?
— Я… Я с Толей Соковым пришел.
— А Толя кто? А меня ты знаешь, кто я?
— Юра, по-моему.
— А фамилия?
— Ты фильм ставил… как его?.. забыл название.
— Ну, и дорогу сюда забудь! Сгинь!
Молодой человек надулся, отыскал среди сваленных в коридоре вещей папочку и покинул. Да, покинул сборище, бурча недовольно.
— А Толя Соков кто здесь?
— Я…
— Мы вроде незнакомы…
— Да как же. Юра, вчера…
— Мотай давай, чтоб ноги твоей…
— Да ты сам вчера звал…
— Врешь, гад. Ну что, уйдешь по-хорошему?
Голоса:
Шепот:
— Опять буянит.
— …с пол-оборота заводится.
— …с полстакана.
Громкие:
— Юрка, что ты!
— …Выпьем, Юра!
— …Юрочка, Юр, можно тебя на секунду?
Ото, разумеется, Нэлка. Она хороша сегодня, как всегда после выпивки (она тоже поднесла себе). Растрепанная, красногубая, с красными пятнами на смуглом лице. И эти яркие, наглые глаза.
— Ну что, телочка? Что, бесстыдница?
Ему хочется обнять эту дуру при всех, при Барсуке. Она зажимает ему рот, отводит его руку.
— Юрочка, спой, а? Спой!
Тянет ему гитару.
— Юра, Юрка! Спой! Юр, просим!
Он понимает: отвлекают от скандала. Но знает и другое, видит по лицам: хотят слушать. Любят. Гитара легкая, — дощечка, щепочка, певучий звон… милая!
Живет где-то тоненькая, смуглая — в цвет томленного в печи молока — женщина с легкими руками, которые тянутся к тебе, в горе ли, в радости — всегда к тебе. Любой ветер сносит ее в твою сторону. Удача тебе — и она смеется, белозубая, бьет в бубен, пляшет, да так, что… ой-я!
А горе тебе — она мечет черные искры из глаз, наклоняется над поникшей головой твоей, ворожит… Она и слов-то ни одного не знает. Она так слышит, от ветра узнаёт, из гитарного звона, от глаз твоих перехватывает, она пойдет за тобой через лесные завалы не отставая; она в твой смертный час отопьет из отравленной чаши твоей!.. Только люби ее, не отпускай (не отпускай: уйдет!), держи ее в круге пламени горящего сердца своего (не остуди: уйдет! легко махнёт узкой рукой и смешается с лесом, ищи тогда — не найдешь), береги, береги ее, есть чем дорожить, есть что терять!
И когда Юрка возвращался через темнеющий лес и кудрявый от клевера луг в эту прокуренную комнату…
Они все родные, милые, они тоже побывали где-то, глупые эти, разнаряженные, милые, глупые, в своем где-то таборе побывали, которого не было никогда и не будет, милые, бедные, и только этот стол и стены, чтобы не вырваться, и крыша, чтоб не видеть звезд, — бедные, обойденные, ограбленные…
— Взяли у нас., увели коней… Простите меня, я виноват, не то я делал, не так жил, не усторожил я дорогого… не туда зазвал я вас, милые вы мои!..
И сразу голоса: Шепот:
— Ну, повело!
— Спивается парень!
— А талантлив, эх, черт, талантлив-то!
Громкие:
— Юр, да будет тебе!
— Ты гений, Юрочка!
— Юрка, все хорошо!
— Да с таким талантом я бы!.. Юра! У тебя дар божий!
— Мы все с тобой.
— Со мной, со мной, да, да…
Он плачет навзрыд, положив голову на согнутую руку. Голоса:
— У него трогательный затылок.
— Трепетный человек.
— Теперь модно, чтобы трепетный.
— Есть в нем что-то, есть!
— БЫЛО.
И кто это выдумал, будто пьяный человек ничего не понимает и не помнит? Это уж, простите, кто как. Бывает, что и трезвый, как говорится, не сечет. А Юрий понимал. Слышал и понимал, только не хотел поднять мокрое, опухшее лицо, чтобы не увидели его обиды, глубокой задетости. А я-то — «милые» Гады! Ну, покажу вам, я покажу! Я вас всех в кулак зажму. Вот так! И вот так! Ишь ты — «БЫЛО»!
К тому часу, когда люди разошлись, он уже изрядно выспался.
Тарелки кто-то перемыл и составил чистой горкой на кухне, но комната, кухня, квартира — все было прокурено, загажено, все было так, чтобы он знал: ничтожество. Он, Юрка, — ничтожество, спившийся, бывший. Ну, обождите, шишиги! (И сам рассмеялся этим «шишигам» — бабкиным, крапивенским.) Может он! Может еще захотеть чисто жить — чтобы ранние вставания, чтобы думать, чтоб без водки и скандалов и без этих пошлых голосов, громких и шепотных… Может думать, работать. Да он еще сам напишет себе сценарий, как он его мыслит. И почему до сих пор не попробовал? Погнался за успехом, за деньгами, которые прожигал в пьяных пирушках, за лживыми этими хвалами…
И как это упустил того, при ком мозаичные мысли становились на места, стягивались к центру, обретали форму и цвет. Как можно было ради главного не поступиться самолюбием, гордостью чертовой, любовью (будто кто тебе предлагал эту любовь?!)… Надо было все откинуть, а вот а того, главного, не терять. Можно обронить бумажник с деньгами (это уже бывало — спьяну, конечно), а уронить себя, потерять лицо… Не будет этого! Так не будет!
Серая стена с разводами бетона по швам. Ровный-ровный квадрат окна — черный на сером. Серое, но чуть светлее — небо. Вот и все, что есть в этом заоконном мире. Отведи глаза.
Может, комната что-нибудь подарит? Может — в ней? Да, вещи вроде бы разноцветны. Но цвета эти умерли вместе с интересом к их носителям. Когда-то жил темно-зеленый вкрадчивый цвет клетчатого пледа на тахте. Но всегдашняя его одинаковость! Его неподверженность изменениям от освещения, от настроения хозяина! Мертвая вещь. Мертвые вещи! Ничто не осветило и не освятило их. Отведи глаза.
Может — в себе? Ну хоть лучик?! Нет, нет, не для чего и глядеть. Отведи глаза. Отведи глаза.
Бушуют в нас порой осенние ветры, не совпадая со внешними временами года, застывают живые соки под белым холодом снега… Совсем ли? До новой ли весны?
Юрка протянул руку. По ней прошла тень. Неизвестно от чего. Она накрыла короткие пальцы, захватила широкую ладонь со всеми ее холмами, с дорогами жизни, развилинами таланта, счастья, с линией, которая, оторвавшись от главных пересечений, круто уходила вниз и в сторону: сулила второе существование — после смерти.
Он знал эту тень. Вспомнил. Она была уже.
Узкая улица маленького городка — Крапивина, вдоль которой в беспорядке черемуха, ель, сосна. Нещедрые фонари. Но — светло. Душевный подъем, похожий на предчувствие счастья, высветил тогда весеннюю дорогу.
Улица выбралась из-под деревьев и пошла на косогор. И тут он увидел тень. Светлую тень, похожую на лапу ветки. Тень лежала на дороге. А дерева не было. И, значит, ветки тоже.
Позже, уже возле центра, мельком глянул в чье-то освещенное окно. И увидел ее. Ту, которая еще не была в жизни, но уже дала знать о себе подъемом духа, обостренным зрением, этой тенью, пробежавшей через его путь. Через его жизнь.
Она стояла у окна, спиной к свету, и смотрела в темноту. Никогда, ни с чем (даже помыслить невозможно!) не монтируется этот кадр! Свет тусклой лампы на белых прямых волосах, освещенных сзади; четко врезанные в раму окна, в вечер, в жизнь — очертания неповторимо пронзительной для него слабости, потерянности, трагизма.
Когда он увидел Лиду в свете дня — ее царственную походку, независимый поворот головы, дерзкую белозубую улыбку, — не поверил себе, так велико было несоответствие двух обличий и так пленительно. Попытался сложить два образа — распалось. И позже, разговаривая с Лидой, он искал в ней слабость, а уловив, не мог проследить, в какой момент переходит она в силу, не оставляя шва. Ее лицо, со всеми переменами, завораживало. Он глядел, раскрыв рот, ловя движение ее глаз, изменение их цвета, выражения, нескончаемую игру света в радужной оболочке (поистине радужной!).
Лицо, на которое мне не скучно было бы смотреть всю жизнь. Вот как думалось тогда.
А теперь? И теперь. Даже теряющее краски и четкость очертаний лицо это, стареющее… Любое… Да разве так бывает? И разве может быть, чтоб для него так, а для нее — ничего? Чтобы он. Юрка, для нее — ничего? Он закрыл глаза, его опалило теплом тех дней. Это были дни полные, точно корзины с яблоками. И каждый день посвящен чему-то:
день Имени Лиды Возле Школы: она шла навстречу с заплаканными глазами, неся в руках толстую книгу. Шла из школы. От Пал Палыча, наверное;
день Осени: первый яркий осенний день — и зелено-переливчатый жук на серой морщинистой коре дуба (посмотрел на него глазами Лиды и был рад потом долго);
день Первой Удачи, когда вдруг получились на полотне сухие еловые ветки, и странная их легкость и — хозяйка иной, потаенной жизни — оса с ее разумным нелюдским взглядом. (Тоже был ощутим Лидин возможный взгляд на всё это. Может, оттого и получилось);
день Виталия, — подъемный, просторный с утра до вечера, единственный день, проведенный вместе. Тогда легко юморилось, думалось вслух.
Вот почему так: с одним человеком ты умен, изобретателен, открываешь в себе глубины, самому неизвестные. А с другим — дуб, деревяшка: постучи — не будет отзвука. И не в том дело, что первый собеседник умнее, лучше, тоньше второго. Нет, что-то другое. А что?
Почему при Виталии будто включался дополнительный свет («Включите диг!»), все проступало рельефно, всё становилось интересней? А может, так не только для него, Юрия, но и вообще — в смысле, что есть в Виталии этакий стимулятор. Тогда чего ж удивляться, что Лида? Такую, как Лида, не могли притянуть сами по себе ни тонкость лица, ни элегантность — то, чему Юрий поначалу так завидовал. Нет, нет! Никаких баловней судьбы. Юрка не испытал обиды, потому что подспудно знал: все справедливо. Превосходство Виталия было для него неоспоримо. Только боль. Только горечь, которая жила запечной мышью и грызла их общие хлебы — его и Виталия. Общие потому, что отношения их были взаимны. И Юрка об этом знал. И подошло время, потому что не век срезать серебряным десертным ножичком кожуру с персика. Что кожура! Ведь там, под мякотью, в древесной оболочке, живот зернышко, ядрышко, в котором хрупкое чудо новой жизни — с корнями, ветками, зажатыми в кулачки цветами.
Гл. XIV. Перемены
Виталий ходил по комнатам — по двум маленьким, с остатками старины комнатам, и терпкое чувство утраты саднило, мешало дышать. Как же так? Как теперь? Нес человек гору на плечах и казался себе огромным. Теперь гора — с плеч, а сам-то — в весе пера. Ветром сдует. Да тут еще фраза, какой-то обрывок навязчивый: «…и холодно бессонным глазам…» При чем это? И откуда? Сам ли придумал, а может, где прочитал? Сперва хотел записать в тетрадь, которая следовала с ним по жизни.
Тетрадь, тайная, оберегаемая, была — уход к себе, в себя, некий просвет, откуда — солнышко. Там были ветер и воля, тоска по широте, тоска по ушедшему, рывок ко всему, что не умещалось в вольере, называемом повседневной жизнью:
Стихи придумывались часто. И он их иногда записывал.
Размышляя о себе — что так быстро умерился: о покорстве своем и постоянной тайной непокоренности — думал, что куда-то глубоко в историю, может, уходят корни такого вот характера — с затайкой, с усмиренной, что ли, широтой, которой и разгуляться-то негде, потому что для этого выпрямиться надо, расходиться до удали. Той удали, которою богаты были предки и которая смирялась ходом событий, историей, где не только разинская вольница, раскол, славные воинские походы, но и крепостное право, и отмена Юрьева дня, и опричнина, и кандалы…
Сводил неявные счеты со странным своим, затяжливым, как болото, чувством:
Уходил от усталости, от недовольства жизнью, а жизнь давно уже шла не по той колее. Как в степь уходил, как в лес, как в радость — в эти тайные записи… Там же, рядом с тетрадкой, лежал кусок дорогой для него деревяшки — отцов идол. И он тоже как-то осенял все, что жило здесь тайно.
Но однажды Виталий понял: и здесь не одни. Понял по словам, чужим в Лидином лексиконе.
— Я, кажется, держу тебя в состоянии безысходного счастья, — сказала она во время одной из ссор, обиженно дёрнув головой.
— Что это за «безысходное счастье»? — насторожился Виталий.
Лида смутилась.
Ну да, так оно и есть! По лужайке, засеянной нежной травой, затопали плотно обутые ноги: вмятины, вмятины. Прогнать? Закричать? А толк какой? Уж и поляны нет, одно месиво из земли и травы.
Он промолчал. И только по боли, по этой боли в левом боку, догадался, что не вернется к своей тетради. Не станет этого просвета в его — в его же! — солнечный мир. Но и к Лиде не вернется — не найдет для нее открытости, которая хоть изредка, но осеняла их отношения.
Его молчание Лида попала по-своему: не догадался. Ей и боязно было, и хотелось прорвать эту пелену, отделявшую его от нее, хотелось крикнуть, как в детстве: «Нашла! Нашла! Не прячься! Палочка-выручалочка…» Но ведь это не в детстве, и не игра, и ставка иная… И она мучилась тяжко: как же добыть эту душу не отдающуюся? Чем взять? Знать бы, в какой части тела она помещается, так и вспорола бы это тело и вытащила живую еще, бьющуюся в руках! Вот! Моя!
— У тебя есть секреты от меня, Виталик? (Это через несколько дней.)
— Нет… Не знаю. А что вдруг?
— Ты, может, не заметил? Мы совсем перестали разговаривать.
— У меня срочная работа.
— Почему все взвалено на тебя? Ездит с тобой почвовед, геодезист, еще кто-то там, а как до отчетов…
Раньше Виталий обрадовался бы заботе. Теперь только раздражило желание и в это влезть, и это отнять. А пустоту заполнить собой. Опять собой.
— Видишь ли, — сдерживаясь, объяснял он, — я руководитель работ, кому же я могу поручить свое дело?
И понял: не слушает. Скорбно стиснула руки.
— Что за голос у тебя! Точно от назойливой мухи отмахиваешься!
— Лида, я устал.
— От меня? Спасибо. Принимаю как подарок. К дню рождения. Он как раз у меня сегодня.
— Ой, прости, Лидка! Забыл.
— Ну что за пустяки!
— Мне очень стыдно. Еще раз прости. Давай-ка знаешь что? — Он поглядел на часы — еще магазины открыты. — Я сейчас сгоняю за подарком, за вином, ладно? Устроим маленький пир.
— Ах, разве в подарке дело?! Если бы ты просто с утра поздравил… Помнил бы…
В глазах ее стояли две огромные слезины. Она была права, конечно. В семье Виталия было принято отмечать дни рождения, Лида переняла этот ритуал, а вот теперь, после стольких лет, Виталий сам его разрушил. Он обнял Лиду, полный раскаяния, забыв обиду.
— Лидушка, милая, я виноват ужасно. Теперь она плакала:
— Я знаю, что ты не так уж ко мне… но не могу, не могу привыкнуть к этой роли: не любовь, а бытовая жена. Чтоб не мешала… не лезла…
— Но ведь у тебя тоже есть свое дело, Лидка, не греши.
— Я не могу уйти в него так, чтобы не видеть тебя.
Я всегда тебя…
Ее горячая, мокрая щека была возле его уха…
Ах, да бог с ней совсем, с этой обидой, — ведь Лида теперь единственный человек, который любит его, да так любит, что вся растворяется в этой любви, забывает свою глупую гордость, идет против себя.
— Лидка. Лидка!
И вдруг она вырвалась, слезы высохли, глаза сверкнули гневно.
— Я не принимаю подачек, ясно? Не при-ни-ма-ю!
И удалилась в ванную, заперлась. Могла бы не запираться. Он не побежит за ней. Глупая и грубая, вот и все.
— Ты глупый и грубый человек, Лида.
Он все-таки подошел к двери ванной. Оттуда слышались всхлипы, захлёбы, потом был открыт кран, потекла вода, и он вспомнил, что утром оставил там бритву, и страшно испугался, потому что слышал в Лиде нечто способное на это сочетание: ванна, вода, бритва…
— Открой, Лида.
Молчание.
— Лидка, открой. Я прошу.
Он подумал, что беспокойство в его голосе может придать ей храбрости. Надо иначе:
— Лида, я очень прошу тебя. Я хочу тебе кое-что сказать. Важное, Лида!
Там было тихо. Даже без всхлипов.
Еще недавно беда кутала его своим черным крылом. Тень этого крыла осталась над его жизнью вместе с памятью раскрытых дверей и завешенного зеркала, запаха еловых веток и привядшнх цветов… И вот снова!
Он закричал, навалился на дверь, крючок отскочил. Он почти налетел на Лиду, стоявшую посреди ванной. Испуганную.
— Ты что, Виталий? Ты что?
— Дрянь! Дрянь! Как ты смеешь?!
Он рванул ее за руку, вытащил в коридор. И вдруг заметил тоненькую хищную морщинку у ее рта. И сытое, сонное выражение глаз. Подумалось жестко: «Напилась крови!» И еще: «Неужели такое навсегда?»
А потом произошло странное, смутное, и Виталий не мог точно все припомнить. Он рано лег спать. Лида, как всегда после ссор, постелила себе отдельно. На этот раз — в комнате Пашуты. А где же были тогда Пашута с Прасковьей Андреевной? А, уехали на школьные каникулы. Да, да, это был январь (Лида родилась 7 января). Виталий достал две путевки в пансионат, и они двинулись, довольные зимой, предстоящим отдыхом и друг другом. А у Виталия и Лиды вот…
Он лежал один на широкой тахте (это прекрасно, что у нее хватило такта переселиться хоть на время!) и разговаривал с другой, понятливой Лидой. В их беседе не было ожесточения (может, потому, что не осталось сил после сцены в ванной).
Он. Лидка, ты бы могла стать моим главным человеком. Самым главным.
Она. Могла, да не стала, верно?
Он. Потому что начала пытать меня любовью. Разве ты не знаешь, что мы не прощаем слишком большой любви?
Она. Тут, значит, лучше поменьше? Да? Лучше недобрать, чем перебрать?
Она медленно вышла из-за крапивенского своего дома, из-за жердей, по которым тянулся хмель (такие жерди были в городке повсюду), — у нее было молодое, прекрасное лицо, длинные, как тогда, светлые волосы и независимая, та самая лихая улыбка, которая позже исказила ее лицо, жизнь, их отношения.
Молодая женщина подходила, тянулась к нему, а он видел только эту не идущую к разговору хищную, лихую улыбку. И теперь уже твердо знал: нет.
— Я не умею вполсилы, — говорила она, подкрадываясь. — Тогда уж ничего не надо. Хочешь, уйду?
Она, может, не верила словам, эта другая, молодая Лида. И он поймал ее на слове.
— Да. Хочу, — ответил он. — Уйди.
Лида запрокинула голову и завыла страшно, как воют бабы на похоронах. Космы ее, похожие на собачьи уши, мотались не в лад с движениями.
«Собака, чужая собака… Она перегрызет мне горло!» И в самом деле её хищные белые зубы с острыми клычками клацнули где-то рядом. Он проснулся, вскочил. Московская квартира. Пашутина комната пуста. На столе записка: «У нас, кажется, непоправимо. Я ушла. Ведь ты захотел, чтоб я ушла?! Л.»
Разве смотрят двое один и тот же сон? Значит, она уже научилась? Давно ли?
Внизу приписка: «Пока не позовешь, не вернусь».
— Я не позову, — сказал Виталий громко. И тут же ощутил это: гора — с плеч, а сам — в весе пера. Ветром сдует. Ах, как врастают в нас привязанности! В химии есть такое понятие — диффузия. Это когда два металла, тесно соприкасаясь, внедряют друг в друга свои молекулы.
В Виталии бродили эти нездоровые, надрывные, чужие молекулы, он ощущал себя совершенно больным. Нес гору — казался себе огромным, силачом, а гора с плеч — в весе пера… Ветром… Но ведь — свобода! Перо, ветер, полет, легкость.
Лида не взяла вещей. Она, эта Лида, не из сна, тоже, видно, не верила словам. Своим словам. Вернется. Вернется без зова.
Порыв ветра улегся. Успокоение. Свобода, вероятно, хотела ограничений…
Слишком долгим было соприкосновение двух разнородных металлов. Слишком.
Но куда деваются пришлые молекулы, когда диффузия прекращается?
Часть III. День жаворонка
Гл. XV. Вместе
Звонок в дверь был короткий, несмелый.
— Кто?
— Пустите погреться! Замерзли-от!
Виталии узнал не голос (сколько не слышал!), а манеру говорить — северную, где нет московского исчезновения окончаний (сам Виталий сказал бы что-то вроде «пустить»). А уж «замерзли-от» было для колориту. Это точно!
Распахнул дверь. Юрка! Тот стоял в светлой дубленке, блестящей нутриевой шапке набекрень, а из-за спины его выглядывал еще кто-то — маленький, в ушанке и в демисезонном елочкой пальто. (Неужели сынишка? А что? У меня Пашута не меньше.)
— Входите, входите!
Виталий потянул Юрку в комнату. Тот остановился посередке.
— Здравствуй, старик.
И мягко вложил в руку Виталия свою руку — широкую, горячую, очень телесную.
Глаза его смотрели горько и были влажны. И движения непривычно вкрадчивы. Он не то чтобы постарел за это время, но как-то осел, — может, из-за полноты. Из-за этой серо-розовой одутловатости и без того широкого лица. Юрка не был здесь никогда и теперь поглядывал на старые, Витальевой семьи еще, картины, на книги, несвежие обои. Он будто взвешивал что-то.
На широкой (общей?) тахте раскрытая книжка (какая?). Пыль на полке. (Что ж это? Руки у нее к дому не лежат?) Красные туфельки с перемычкой — не ее, маленькие (ребенок, значит, дочка).
— А… Где?..
— Нету, Юр.
— На работе?
— Не знаю. Тут такая история… Потом расскажу…
Юрий замер, будто споткнулся. Растерянно развел руками.
— А я… с собой… — И пошел в коридор. Оттуда послышалось его шмелиное гудение: — Ну, чего ты?
И в ответ шепот:
— Тесемки на шапке узлом завязались.
— О, горе мое! Подожди. Не крутись. Пошли.
И опять шепот:
— Дай волосы пригладить!
— Хватит, хватит! Юра тащил кого-то за руку, а тот упирался, прячась за его спиной.
Вот Юрий дернул руку, и на середину комнаты вылетел некто тощенький, в узких брючках под резиновые сапоги, в длинном и широком, как с чужого плеча, джемпере. Мальчишечья острая мордочка, коротко стриженные тускло-светлые волосы, из-под челки синие осколочки глаз, длинная, узкая улыбка, ушедшая в уголки рта… Существо поклонилось Виталию, не смущаясь, открыто поглядело в глаза. Потом протянуло руку:
— Она!
Виталий подержал эту тоненькую руку. (Она… он или она?..) И галантно придвинул кресло.
— Садитесь, пожалуйста.
Существо забралось на сиденье, положило руки на подлокотники и глядело, как примерное дитя в школе.
— Займись чем-нибудь, — сказал Юрий и сунул книгу по генетике, лежавшую на тахте.
Виталий хмыкнул, перегнулся и достал с полки толстый журнал.
— Лучше вот это.
А сам смотрел на Юрку. И ощущал на себе такой же взгляд: ведь это было уже замыкание круга, и, значит, непременный молчаливый вопрос к другому:
«Кто ты?»
«А ты?»
Виталий не дорос до этого. Нет! Ведь чтоб быть таким вот «никто», надо этого захотеть, как захотела Эмили Дикинсон, выбравшая почти полное отшельничество. А Юрка — в ярком свете юпитеров: пресса, интервью, «ваши творческие планы»… А чего пришел? Что-то, значит, стряслось. Не в картишки же сыграть? Не денег одолжить?
А Юрий, оттерев замерзшие руки и наглядевшись, начал, как в Крапивине, с важного:
— Тут ко мне старик приходил. Киноочерки пишет. Так он мне — не по делу, конечно: «Чем, говорит, утолишься?»
— Ну? — живо откликнулся Виталий.
— Я ему по совести сказал. Только так, обернул шутейно. Не знаю, как изложить тебе, чтоб того… без фанфаронства, — ведь ты теперь меня совсем не знаешь.
Виталий и правда не знал. Но обижать не хотел.
— Ты, Юрка, вроде бы не терял своего.
— Эх, сколько я терял!
— Отбрасывал, наверное?
— Да, пожалуй. Но больше терял, если честно, не для трёпу… Я к тебе вообще не для трёпу — за делом. Только вот подступиться как? Видишь ли, я когда-то прочитал у одного прекрасного режиссера: «Работа теперь совпадает со всей моей жизнью». Прочитал и запомнил, хоть и не понял тогда. И вот теперь завидую ему. Зверски. Не славе, не фильмам его, а вот этому «совпадает со всей…». Не скучно тебе? — И, не дожидаясь ответа, дальше: — Понимаешь, такое хочу работать, чтоб ни на что другое меня не осталось. Войти туда, в жизнь эту, в фильм, — и не выйти, коли потребуется ему. Вот так хочу. То есть что хочу! — нет мне дыхания, жизни нет без этакого. Пора, что ли, пришла? Время? Ведь я все как? Одной ногой влезу, другая торчит. Куски меня торчат из моего дела, из работы. Ну можно так, а? Одно принимаю, от другого с души воротит. Поверишь ли — у меня уже в третьем сценарии влюбленные прогуливаются по набережной. Мой сценарист водит их туда, как собак, право… Зачем? А затем, что опробовано уже. И — правдоподобно. Вот! Прав-до-по-доб-но. Я черкаю, конечно, не беру. Но ведь и вычеркнутое довлеет. Ты не сделал чего-то, ну, не донес, не убил, не… не знаю чего еще, — не подумал. Всерьез подумал. Намерился. Потом вычеркнул из головы эту задумку. А вот проверь — так ли ты подойдешь к тому, кого в мыслях убивал? Нет. Не так. Потому что довлеет. Если ты не подлец, конечно. И я вот вычеркну — пусть из чужого сценария, — но ведь он теперь стал мой, больше мой, чем его, чем Барсука, раз уж я взялся родить. Вычеркну, а знаю: там жила опробованность эта, пошлость. Жила, уживалась, значит, есть ей там что кушать. Питательная среда есть. Есть это, стало быть, в детище твоем! А? В своем детище! Не хочу больше родить от больных, от оскверненных! Не хочу Барсука с его киношным могуществом. Ну да, да, он и сценарий продвинет, и тебя в обиду не даст… А что он мне последний раз подсунул?! Ты бы только поглядел, что он мне… это не уважать надо режиссера…
— О ком ты, Юрка?
Тот не сразу ответил — думал о своем.
— Я работаю с Барсуком. Мой сценарист Барсук. Так зовут. Зачем выкликать имена всуе? У тебя есть Брем? Давно хочу посмотреть.
Виталий достал пятый том «Жизни животных» — «Млекопитающие». Юрий полистал, прижал пальцем строчку.
— Вот, Виталик, «Подсемейство Барсуки. Сюда принадлежат самые неуклюжие животные из всего семейства; некоторые из них к тому же выделяют сильные и неприятные запахи. — Пожал плечами, вроде даже смутился разоблачение: это, дескать, можно было и утаить. Потом продолжал: — Крепкое, плотно сложенное тело, толстая шея и длинная голова, маленькие глаза и уши, голые подошвы…» Ну, брат, вот он, весь тут. Даже не ожидал от старика Брема. Особенно эти подошвы. Он меня обезоруживает своими голыми подошвами. И я, если честно, виноват перед ним вот как!
— В чем же вина?
— А, такое дело… Слаб человек. Я слаб. Я жутко слаб. Но, Виталий, — Буров побледнел от азарта, лицо его потеряло одутловатость, глаза ожили, — клянусь, это моё последнее падение. Я не про Нэлку говорю. Черт бы с ней. Я про сценарий. Не возьму больше, отыди, отыди, нечистый! — будь то Барсук или кто другой из этого «подсемейства». — Он делал руками пассы, как когда-то его бабка. — Я ведь думал откупиться, — сказал он шепотом. — Я ведь думал: суну им, худсовету или еще там кому… дам фильм, до какого они охочи, — мышиного цвета, мышиной повадки, мышиной величины. Укреплюсь. Стану на ноги. А уж потом — в полную силу! А такое возможно в искусстве? Кого мы дурачим? Зачем, умея делать хорошо, делаем похуже?.. Ведь вот жизнь, реальная жизнь, — она же не однослойна. Ведь в ней… от какого-нибудь паршивого гена, передающегося в десятках поколений, до всей гармонии мира, до человека, который тоже — целый мир… и все — тайна, все не раскрыто, и не будет, между прочим, раскрыто, уважаемый биолог. Так-то. Вот где хочу копать. А это же не наверху лежит. Не в верхнем слое, верно?
— Да.
— Ну вот, — потух вдруг Юрий. — Вот и дергаюсь, как шут на веревочке.
— Понимаю, Юр, — отозвался Виталий. И проступили ясно до веселой ломоты в висках забытые, не имеющие материального воплощения силы. Виталий узнал их по пульсации крови, по живому своему отклику. И всплыла строка из Эмили Дикинсон, он прочел ее на память:
— Если б так! — вздохнул Юрий. И, подумав капельку: — Да. Точно. Сюда это.
Они долго и легко молчали каждый про свое.
Потом Виталий поил их чаем, причем странное создание так и не промолвило ни слова и к столу не потянулось: пришлось подать чашку с чаем туда, в кресло. И хлеб с сыром, и несколько конфет (хорошо, что остались) тоже.
Чуть потемнело за окном, или снежная туча завесила небо. Сменилось освещение. Виталий задернул шторы, зажег и пододвинул к столу торшер. Пришел покой. Отгороженность и покой. Вот странно-то: покой при Юрке!
И Юрка говорил теперь уже без запальчивости:
— Вообще-то мне хочется в фильме, как и в жизни, — в своей жизни хочу! — почти полного молчания. Чтоб никто не произносил. Может, изредка звуки. Рычание; зов победы; крик боли. А если слово, то — единственное, без которого не обойтись: «Спаси», «Уходи»… Знаешь, вокруг всякого дела столько сорного, мусорного! Я уже не могу слышать слов. Возле кино — стада рассказчиков: набиты сведениями, оснащены аппаратом этим… речевым. И ведет их, и ведет пенистая: «…Гарольд Ллойд, только получив деньги от богатого дяди, стал знаменитым, а так был на выходных ролях…», «Макс Линдер покончил с собой, когда появился Чаплин…»
— Это правда? — удивился Виталий.
— Может, и правда, Талька, но не сытым голосом об этом говорить! Это трагедия, а не тема для беседы!.. Или: «Ах, ах, ах, фильм Эйзенштейна о Мексике взялся субсидировать Эптон Синклер, но потом не пустил его…», «А вы слыхали анекдот…» И все в одну кучу, ничто не дорого! Ненавижу эту осведомленность!
— Да это, Юрк, люди неинтересные попались. Ведь в человеке что притягательно? Характер. А начитанность — да бог с ней.
— О, точно, Талька, характер! И если то, что человек говорит, его, лично его, волнует — всё. И мне это вот так нужно! Веру! Мой кадр! Из моего фильма… Талька! И в работе так хочу, понял? Не могу больше, чтобы — сытыми глазами: глядит фильм и ковырнет во рту зубочисткой или думает, как жене досадить… А кто виноват? Я. Это я ему обыденщину сую: кушай, простак!
— Бей его! — засмеялся Виталий. — Работал этот Буров так себе, ты прав, бей его!
— То-то же! — облегчённо выдохнул Юрий. — Мы, брат, себе цену знаем. Лишнего не закрашиваем.
И тогда только оба взглянули на Ону. Существо присутствовало молча, но удивительно легко.
— Слушай, Виталий, мне бы хотелось уложить Ону, — другим голосом сказал Юрий. — У их светлости всю ночь болели зубы. — Голос был мягок, с нотами шепотка.
Никогда Юрка Буров не был сентиментален. И теперь, уловив своим радаром удивление Виталия, счел нужным пояснить:
— Видишь ли, она сама ничего для себя не спросит.
Существо, которое оказалось все-таки женского рода («она», «сама»), послушно отправилось в Пашутину комнату.
— Устраивайтесь, Она. Форточку закрыть?
— Все равно.
— Закрой, закрой, Таля. У тебя грелки не найдется? А то сегодня красавица прогулялась в легком пальто, теперь ее от простуды не откачаешь.
Было опять-таки удивительно, как он, откинув жёлтое капроновое одеяло, из-под своих рук точно в домик пропустил сжавшуюся, ставшую маленькой и беспомощной Ону, подложил к ее узким ступням грелку, хмыкнул грубовато:
— Грейся, царевна-лягушка!
Он плотно закутал ее одеялом:
— Спи. А мы, как говорят на Кавказе, сперва тихонечко попоем, а потом тихонечко постреляем.
Она кивнула и приветливо улыбнулась.
Это было, конечно, удивительно милое создание, тихое, как лесная речка. И затаённое. При ней нельзя было трунить, говорить резкости. Она так доверчиво покивала из-под желтого капрона, одним своим видом взывая к помощи и участью. Хрупкая тишина. И опять же «сама ничего для себя не спросит»…
— Она будет у тебя сниматься? — спросил Виталий.
— Нет.
— А кто она?
— Хлопушка.
— Что?
— Ну, помреж. Сотня обязанностей. И к тому же хлопает дощечкой об дощечку в начале каждого эпизода и произносит (она все же не немая): «Юность-7/1», «Встреча на набережной 150, дубль 2». Понятно? Целая роль: ведь ее снимают и дощечки тоже и потом находят синхронность.
— Как это?
— Ну, фонограмму синхронизируют с изображением.
— Да? Хм…
— Мало?
И, учуяв не без довольства, что существо произвело свою подспудную работу, Юрий достал из портфеля бутылку коньяку.
— Давай знаешь за что? Чтоб — мимо обыденщины. Чтоб выше жить. И работать во всю силу. Не знаю, впору ли тебе мои… как бы сказать…
— Даже вообразить не можешь — как!
— Вот чего мы слушаем музыку?
Смешно ведь. Представь, сидит целый берег или полон зал земноводных, замерли. Почему земноводные? Это я такую разработку писал. Так вот. Замерли, слушаю отключились от времени. Нелепо, да? А меж тем это вдох и выдох. Выход. Спросишь: из чего? Из обыденного.
— А куда?
— Ну, в другое время, например, в другой отсчет в другое его течение.
— Время. А мы знаем, что такое время? Когда мы сохраняем его и когда расточаем?
— День событий, значимый день — длинный… Искусство растягивает время. В длину. А длина — это уже измерение пространства. Другая плоскость. Искусство — плоскость высокого духа, где все по его законам, нелепым для обыденности. Нелепо умирать от любви; сидеть сложа руки и слушать музыку; нелепо кричать:
А ведь его, короля Лира, слышит только шут! Глупо и нелепо. Но вырви это из времени, из мира — и мир обеднеет. Близость высокого пространства — да ведь она ощущается. Дает живую пульсацию! — И вдруг резко оборвал: — Скажешь — тоже трепач? Нет, брат. Это меня за горло держит. Иначе я бы и к тебе не пришел.
Гл. XVI. Как было
Повод и причина — разные вещи. Когда-то, еще в начальной школе, учитель истории объяснил, по-моему, очень доходчиво. Он сказал: «Жарким, засушливым летом загорелся стог сена. Что служило причиной? Жара. А поводом? Случайная искра». И верно, влажное не загорелось бы! Это — о Юре Бурове. Сено иссохло давно. А что до повода…
В общем, это началось так: кто-то где-то набрал телефонный помер, послушал затаясь, повесил трубку. Кто? И зачем?
Последнее время часто звонили так.
— Алло! — кричал Юрий. — Алло! Слушаю! Нажимал на рычаг. И снова звонок.
— Кто там, черт возьми?!
— Юрий Матвеич, это я. Это звонит Она. — Она мягко и носит свои длинные, неуклюжие фразы. Переводные, похожие на нее.
Она смешная длинноногая девочка, которую они с Тоней после банкета в ВТО провожали на такси в какую то чёртову даль, в пригород, и она по дороге вдруг разговорилась (то молчала, а тут прорвало) и нескладно и патетично рассказывала, какой у них в Прибалтике бывает праздник песни.
— Цветы, цветы, целый город цветы, и как будто это они поют, как весной в поле.
— Разве весной в поле цветы поют? — засмеялась тогда Тоня и обняла девочку за плечи. — А? Поют?
Топя полагала, что маленькая иноязычница оговорилась. Но та кивнула серьезно:
— Немножко поют.
После Юрка видел ее несколько раз на студии — видел с удовольствием. Узнал, что она работает в одной из съёмочных групп помощником режиссера.
— А ко мне пойдешь на новый фильм? — спросил он однажды.
— О, конечно! — радостно охнула она.
И Юрка, снисходя к ее доверчивой открытости, положил руку на эту растрепанную голову, погладил длинные волосы, похожие на привядшую траву.
В его пальцы ударила искра. Он отдернул руку.
— Это ничего. Во мне есть много-много электричество, — тоном первой ученицы пояснила девочка. И улыбнулась смущенно. — До свидания.
К следующему фильму Юрка забыл о ней — взял другого помрежа. От фильма к фильму, от года к году встречал — вспоминал ласково:
— Ну как ты, малыш?
— Я уже совсем взрослый, — однажды грустно ответила она.
Потом куда-то пропала.
И снова вынырнула — уже в ином обличии: Юрий даже не сообразил, что это она, столкнувшись на студии. Только потом — по неловкости, которую ощущаешь, когда смотрят в спину. Но не обернулся: некогда было. И вдруг — смешно! — в ГУМе.
«Если вы потеряли друг друга, встречайтесь на первом этаже, у фонтана». Он никого не терял, а зашел купить плавки, благо был поблизости. И вот тут-то и оглянулся на сверлящий взгляд: Она! Стояла спиной к плещущему фонтану (все в шубах, мороз, а он себе плещет!) и смотрела широченными глазами. Потом понял: глазищи такие от туши — обведены черной тушью прямо по векам, а ресницы той же тушью удлинены и слеплены. Она, кажется, даже окликала его, но не было слышно, только губы шевелились. Он, разумеется, понял значение этих расширенных, выжидающих глаз. Еще бы — не мальчик. Но она-то больно уж девочка. Бог с ней совсем.
Однако подошел, чмокнул в щеку (встретиться в ГУМе — как землякам в чужой стране!).
— У тебя здесь дела?
— М… нет.
— Пойдем тогда отсюда. Хочешь мороженого с лимонадом?
Юрка понимал, что теперешний лимонад был не тот, что первый, — он нарочно играл в эту игру. Они сидели в кафе. Девочка оказалась коротко остриженной. Держалась чинно. «Маленькая все-таки. Ребенок», — думал Юрка.
— Слушай, а что значит эта метаморфоза? И что ты творишь с глазами?
Покраснела.
— И вообще — где ты была?
— Я немножко снималась на Киевской студия.
— Хорошая роль?
— Очень прекрасный: месил ногами глину для… ну… для скотника…
— Что это за скотник?
— Где коровы живут.
— А, коровник! С такими глазами?
Опять покраснела и отвернулась.
— Дурочка ты. Сотри, пожалуйста.
— Сейчас не можно. Нужно с горячей водой.
И поглядела прямо, засмеялась. Зубы были не очень хороши, с пломбами, с желтинкой. А смеялась странно: будто чему-то своему.
— Ты живешь все там же?
— Да.
— Ну, тогда двинемся отсюда: темно, а проводить я тебя не смогу.
Она поднялась огорченно.
Юрка расплатился и догнал ее у гардеробной. Помогая надеть пальто, чуть притянул к себе.
— Ты клюй зернышки, птенец, а особо далеко не летай, слышишь?
И вдруг понял: да ведь это — аванс. Не точно обозначенный, но все же. А имел в виду отеческий совет.
И вот после этого она позвонила.
— Так что, Она? Ты мне хочешь что-то сказать?
— Я просто позвонила. Послышать.
— Хм! «Послышать». А «повидеть»?
— О! Да! — с той же открытостью.
И вдруг он обрадовался, заволновался…
— Чего ж ты никогда не являешься? Тут всякого люду наползает, как мурашей.
— Я не хочу быть мураш. Я…
— Какой «мураш»? Кто сказал «мураш»? Ты бабочка, или птица. Ну, когда прилетишь?
— Я… немножко прилетела, — с грустным комизмом отметила Она, и что-то было уже взрослое в тоне и незнакомое. — Я тут, возле дома.
— Жду, — коротко сказал он и повесил трубку.
Стал спеша засовывать в шкаф вчерашнюю рубашку, ботинки в количестве трех пар, выставленные у тахты, как на парад, разрозненные носки, брошенные на кресле брюки. Нет, порядка не получалось. Кроме того, было, наверное, накурено и пахло вином (он-то придышался, а для свежего человека…), открыл окно, пригладил волосы, вместо пижамных брюк натянул джинсы. Вот и все, что успел. Она уже позвонила.
Он отворил дверь, а там, на лестничной площадке, в полутьме, сперва как наткнулся на глаза, испуганные и ожидающие. Потом уже увидел худую, обтянутую мордочку (без грима) и всю девчачью, узенькую фигурку, тоже очень худую.
— Входи, входи.
Она ступила в квартиру и не огляделась, как это делают обычно. Она не сводила глаз с Юрия.
— Ну, чего ты?
Он помог ей снять невесомое пальто — крохотный, воробьиный кафтанчик, который удивил еще там, в кафе. Захотелось вдруг снова ощутить ладонью жесткие волосы, похожие на подсохшую траву (конечно, короткие — не то, но все же). Но вспомнил об электричестве. Искра, пожар… Видит бог, он ничего не собирается поджигать!
Юрий повел ее на кухню, зажег газ. Она протянула руки к лиловому пламени. Замерзшие, красные пальцы, тоненькие. Что-то уж больно она худа.
— В чем только душа держится, а?
Она не ответила и не отвела глаз. Юрка знал, почему она молчит, и нарочно произносил грубые, пустые слова, чтобы снять значительность момента.
— Чем тебя угостить? Чаем?
— Я замерзла, — сказала наконец Она, будто слова только что оттаяли в ней.
У неё страннее «л» — смягченное. Оно произносится как-то иначе, чем у нас: к нёбу прижимается самый кончик языка, чтобы прозвучало это беспомощное, ласковое «л»
Юрка поставил на стол чашки, достал из холодильник не доеденную гостями снедь.
— Садись, садись, погрейся.
Она стояла, отвернувшись, нагнув голову. Юрка поднял ее лицо. Оно — замкнутое.
— Ты что, Онка? Что случилось?
— Я поссорилась с я.
— С кем?
— С я. Этот я сердится, зачем я — к тебе.
— Ну, и зря сердится. Я тихий, добрый человек.
Юрке вдруг пришло в голову, что ей, может, обидна эта доброта. Такая. Ведь она не знает, как он старается. И Юрка пояснил терпеливо:
— Ты маленькая, а я старый и довольно несимпатичный тип.
Она не улыбнулась, как это сделали бы другие. Она сказала строго:
— Колдун не бывает молодой и старый. Он не имеет год. Как это сказать?
— Возраста.
— Да. Возраста.
Мягкие сумерки. В них бездумно уплывает нелепая кухня, с белыми шкафами (хозяин оставил за большие деньги), с застекленными полками, уставленными цветными чайниками, пиалами и восточными безделушками (по Нэлкиной прихоти).
Тихо. Тихо до прозрачности. Только странный перезвон, похожий на звук разбивающегося фарфора: цон-цони-цон! Так кричат галки, собираясь в стаи. Она сидит, закутавшись в плед, тот самый клетчатый плед, — наконец-то он нашел применение. А тишина и этот перезвон будто сопровождают ее: цон-цони!
С большой ели за деревней поднимается галочья стая — разрозненные занятые в бледном, сумеречном воздухе, а может, нотные знаки в незримо разлинованном пространстве — фарфоровая чашка ударяется о чашку, они разбиваются, мелодично распадаются на тонко звучащие куски. А внизу, на качелях, пристроенных к суку той же ели, узколицая, широкоглазая девушка, она, гортанно смеясь и вскрикивая и отталкиваясь ногами, взлетает к тёмной хвое и потом — у-ух! — стремительно к земле: вверх, в темное, перепутанное, еловое, и — вниз: трава, тропинка, выбитая под качелями земля. А рядом, в саду, вдруг падают сливы — все, шумно, разом.
— Видишь ли, Талька, сначала для меня был солдат. Старый уже. Не знаю почему. Может, потому, что — мама. Ведь она на фронте была. Или, может, шофер один. Сына он потерял. Представляешь? Сам выжил, а сын убит.
…Шел солдат с войны. А дом его спален, и убиты близкие. И жить ему не для кого, и рана болит. А лечь помереть, так смерть не идет.
И, знаешь, куда, бывало, ни пойду, все об этом солдате. Он у меня там девочку подобрал. Маленькую. Притащил и деревню (где она-то жила — сгорело). И вижу я этого старика иной раз лучше, чем вот тебя, скажем, или Онку. И девочку эту вижу — замурзанную, худую. Ей лет пять, не больше. И все не знал я, зачем мне этот солдат. А теперь вот — девушка на качелях. И тоже — зачем она?
— А ты объедини.
— Он старик.
— Может, девушка-то дочка его?
— Погибли у него все.
— Слушай, это та же девочка, которую подобрал. Только выросла. Он ее в деревню с собой взял. Ведь она не наша была, верно? Да и, поди, контузило ее в бою. Вот она и говорит не бойко. Но все примечает.
— Да, да, Талька! — Юрка вскочил порывисто. — Так и есть. — Постучал по лбу. — Голова-то — деревяшка! Давай запишем. Вот это пока. Ну-ну, а дальше что?
И началось, закрутилось.
Теперь Буров являлся ежевечерне. Виталий приходил с работы, а в коридоре на вешалке дубленка. Ему не надо было заглядывать, а что там, под дубленкой: там было пальтецо птичьей ужины. Маленький черный галочий кафтанчик и небрежно заткнутая в рукав шапочка с ушками (та, у которой постоянно затягивались тесемки). У Юрки был теперь свой ключ от квартиры (Прасковья Андреевна оставила, уезжая), и он, ожидая Виталия, ставил на плиту чайник. В кабинете на столе поселилась Юркина пишущая машинка; на тахте валялся тещин платок — Она (она всегда почему-то полулежала) куталась в него. А на оттопыренном пальчике амура, того еще, маминого, который поддерживал три собранные в цветок лампочки на торшере, висело простенькое (и дешевое, вероятно) Онино кольцо с бирюзинкой. Создание это, уцепившись за Юркин рукав, приходило сюда почти ежедневно. И непонятно как, но оно было причастно к тому, что творилось.
Человек идет через поле. Колосья. Нет, откуда же колосья? 22 марта. Солнышко. Весна. Ручьи под снегом. Вода спешит в овраг. Она смыла снег с прошлогодней — зеленой, не живой — травы, пригнула эту траву, трава стелется по течению.
Солдат смотрит на эту траву. Он и сам прошлогодний. Мертв. В глазах не оживает все это — так, мелькает уныло, почти не оцвеченное. Жаворонок в небе. Вернулся. Трепещет крыльями в пении за его спиной. Солдат не оборачивается. Скулы сжаты, брови сведены. И черные пожары в глазах, и плач ребенка над этим. И снова крик ребенка. Уже явный, не из видения.
Солдат мотает головой. Крик остается — немного странный, горловой, будто тщится перейти в песню. Солдат настораживается, потом бежит на звук. С пригорка, темного от обнажившейся земли, с копешки сена, слетают галки. Солдат бежит ближе, ближе — стой! На примятом сене — девочка лет пяти. Замусленный ватник застегнут у горла, не надет в рукава. Белеет худое лицо, обведенное черным платком. Она пытается встать, тянется к солдату. Он подхватывает худенькое тельце. Девочка закрывает глаза. Ее сон похож на обморок.
Через снег и грязь шагает солдат. Сквозь штанину сочится кровь. Он хромает. Проваливается в ямы, спешит, руки его крест-накрест сжимают крохотный островок жизни, готовый вот-вот оказаться под черной водой.
Солдат в избе. Длинная старуха молча подносит стакан молока. Девочка открывает глаза и вдруг припадает к молоку. Солдат смотрит жалостно, даже как-то по-бабьи. И мы впервые видим: он жив. Остался жив.
Шли дни. Лида не звонила. Устраивалась для новой жизни? Выдерживала характер? Ждала зова? Виталий вздрагивал от каждого телефонного звонка, от шума открываемой двери. Ждал? Боялся?.. «И холодно бессонным глазам…» Растерянность прошла. И раздражение тоже. Теперь все чаще помнился маленький Крапивин-Северный и дорога к нему из лесничества. Вечерами ездил, закатным часом: за мутным стеклом кабины шевелились ветки, черные на оранжевом, что-то говорил случайный шофер, рассказывал. И — мелькание стволов, и свобода без забот, и свои короткие дорожные мысли, и удалая какая-то веселость, а все вместе — Лида. Все шло от нее. Только он, мальчик еще, по понимал.
И как он стоял в полутьме возле ее дома, и Лида открывала дверь в прочность и покой (теплый свет в глаза, теплый дух в лицо).
— С дороги?
Виталий думал: заботится. Если с дороги — скорей накормить. Теперь знал: хотела безраздельности. Чтобы сразу — к ней. И радовалась, когда было так (так было почти всегда).
Прасковья Андреевна, в те годы еще более шустрая, собирала на стол. А уж потом не путалась, шла за переборку.
— Ну, рассказывай, что там наш Рольф в лесах? (Они оба тогда любили Сетон-Томпсона — с тех пор, как Виталий принес Лиде эту книгу, толстую, в коричневом переплете с золотом, еще, наверное, отцову. Он сказал Лиде: «Для меня лучшей книги нет. Пусть — у тебя, ладно?» И она поняла, кивнула благодарно. Вот потому Виталий и назывался «Рольф в лесах»: лестная кличка.)
— Ну, так что наш Рольф?
— Он, Лида, за деревьями леса не видит. Он, как бобр, своими зубами грызет сухие деревья, потому что рабочих нет, и скоро будет, как пчела, опылять деревья.
— Бедный Рольф!
Она капельку подсмеивалась, и неудачи казались не такими уж тяжкими. Как он тянулся к ней в те дни!
Виталий — почти сорокалетний уже человек — оглядел комнату, заставленную полками, сразу увидел среди Лидиных книг Сетон-Томпсона — тот самый том, коричневый с золотом. Берегла.
Лидка, как же так?
Резко зазвонили у двери. Она! Лида! Вот и отлично! Все изменим… «Регенерация» — есть такое слово: восстановление… Уж если ящерица может восстановить оторванный хвост, а рак — клешню… А почему, собственно, звонит? Есть ведь ключ. А, чтобы он открыл…
Виталий думал так, пока бежал через коридор. Распахнул дверь. На площадке стояла сияющая Пашута.
— Папка! — Она так порозовела за дни отдыха, так рассиялись яркие и нежные глаза! — А где мама?
— Пашутик-Парашютик, дорогой! Ты почему одна?
— Бабушку похитили разбойники, чтобы взять с тебя выкуп.
И рассмеялась своей шутке — милое, ни в чем никогда не виноватое создание.
— Уф! Уф! — отдувалась теща, взбираясь по лесенке. — Хватит миловаться! Виталь, у нас тут заело замок от чемодана…. (Прасковья Андревна была не в ладах со всякой техникой, даже с чемоданной.) Пашута, поставь чайник! Ну что, Виталь, открыл? Молодец! Куда ты мои тапки забросил?
— Вот они, Прасковья Андревна.
— Как Лидушка?
— В командировке.
— Что это? Вроде не собирались. Где же?
— По разным городам.
— Ну-ну! Работа какая колобродная! Пользуется, что муж безответный.
Теща любила его. Господи, как все рвать? Вот оглянулась на дверь Пашутиной комнаты, зашептала:
— Ух, дочка твоя — прямо закружила всех! Парни за ней хвостом. И веселая была. Думается: может, и ничего, может, найдет судьбу.
— Рано ей о суд кис Прасковья Андревна. Пусть свою не высшую математику учит: (х-у)2…
— Ну-ну, и то верно.
И теща потопала в кухню — делать ревизию их с Лидой «холостяцкому», как она говорила, житью.
Пашута, отпросившись у бабушки, помчалась к подругам. Виталий ушел в свою комнату. Прасковья Андревна, как всегда, стала топать и шаркать у его порога.
— Ты что, уже навечно теперь ааючился? Или чаи со мной погоняешь?
Но тут позвонили в дверь. Старуха открыла и так и накинулась радостно:
— Ох, пришел, земляк! Пришел, разбойник! Да уж и пытала я сколько пытала: где он, где дружок закадычный?
— Здравствуйте, теть Паш! Ну, вы цветете! Теть Паш, познакомьтесь. И обогреть бы чуть… Виталий дома?
Юрий вошел, обескураженный:
— Ты говорил… Она что, вернулась?
— Нет. Прасковья Андревна вернулась и не в курсе.
— Как же так?
— Они с Пашутой на каникулы уезжали, а в это время…
— Хм. И ты ей — ни-ни? Надеешься?
— Не знаю, Юр. Ведь себя тоже не поймешь.
— Видать, что так, — резко ответил он чему-то своему, — не поймешь.
Вошла Она.
— Эта женщина кто? — тихо спросила она. Спросила Юрия.
— Это Виталь Николаича теща, — с легким поклоном отметил он (Виталий удивился: неужели никогда у Юрки с Оной не было и слова о нем?). — Я разве тебе не говорил? Этот красавец увел у меня любимую тещу. Хороша старушка?!
— Очень прекрасный, — серьезно ответила Она.
— Виталь! — ухмылялся Юрий. — Тебя Прасковья Андреевна зовет «Виталь». Ты добрый?
— Может, поработаем?
— Непременно. Но ты добрый?
— Нет.
— Почему?
— Потому, что если делаю доброе, то из эгоизма: иначе себе дороже стоит.
— А! Ну, ясно.
Она переводила глаза с одного на другого, но в них не было вопроса. Видела Юрину взвинченность и не удивлялась. Может, поняла?
Юрий будто в ответ сказал Виталию почти шепотом:
— Ей безразлично. Ей — только сегодня, сейчас.
Она глядела ясно. Так глядят глухие или не знающие языка. Но ведь она знала!
— Онка! — засмеялся вдруг Юрий. — Ты когда-нибудь на качелях качалась?
— О! — легко выдохнула она. — Это… это… — И она взмахнула руками, будто отделяясь от пола. Ей тоже было приятно переменить тему.
На краю деревни стоит елка. На ней — детские качели: толстая проволока и досточка. А крепится это на здоровенном поперечном суку. Мимо елки по тропинке топает солдат. Он уже в штатском, и девочка — в длинном платьице, босиком: деревенские жители. Она диковата и как-то странно говорит, но он, вероятно, и не замечает этого. Проходят мимо елки. Он кивает ей на качели — покачайся, мол (он и сам-то с ней отвык от человеческой речи), — но девочка крутит головой: «Нет, нет!» Чудная. Потом всё же подходит, качает доску, смотрит, как поднимается она и резко падает. Глядит, не то задумавшись, не то вспоминая. И вдруг бежит к солдату, хватает руку, тянет его прочь. Они идут по песку, и на песке четкие следы его сапог и — слабенькие, как воробьиные, — меточки ее босых ног. Они идут, удаляются по песчаному берегу, а небо темнеет, и на нем рельефно — ели, на их фоне светлым пятном осины, березняк, и простор такой — небо, даль.
— Вот это я вижу, — говорит Юрий, когда все уже записано. — Хоть сейчас снимать. И что эта девочка ко мне прилепилась? Спится. И всегда на качелях.
— А ты знаешь, Юрка, ведь мы пропустили всю дорогу из Германии. Или не будем?
— Да… надо бы. Теплушка, наверное, солдаты; грязный пол, на который подстелили для девочки шинель… Крупно — чьи-то сапоги, добрые бородатые лица, глаза… Ах, какая все банальщина лезет! — Юрий опять занервничал: задергалось лицо, вздулась ноздря. — Да черт бы с ней, с дорогой! Не видал наш зритель дороги! — И добавил тихо, осудив себя: — Нет, знаешь, кто профессионален, тот любой проходной эпизод сделает. Ему это пустяк. А мы вот не можем.
— Юрка, ведь я вообще…
— Молчи! Думаешь, я к тебе таскаюсь ради твоей тещи? Или твоего этого амура с лампочками?! — И уже совсем мягко: — Помнишь, мы первый раз в Москве встретились? На фоне высотки и капустного ларька?
— Как же, как же. Я тогда телефон тебе…
— Это из другого разговора! — И опять взвинтился (да что это с ним?!): — Ладно, хватит. Не будем больше писать. Чего-то не думается.
И сразу, как черт из бочки в старых сказках, выскочила Прасковья Андреевна:
— Чайку! Готово все. — Она уже успела и пирожок из готового теста испечь. — Вот Лидуша-то рада будет: нашелся, пострел!
Это, безусловно, была веселая и душевно здоровая теща. О, такая удача — теща без комплексов!
Они хорошо сидели вчетвером, вспоминали Крапивин. Потом прибежала Пашута.
Юрий поглядел на нее нежно и грустно. И Виталий понял, о чем он. Нежно и грустно. Неужели для Юрки все это — до сих пор? Неужели так бывает?
И опять Юрий будто услышал:
— Я бы тоже так назвал: Пашута.
И притянул к себе девочку.
— Меня зовут Юрий Матвеич, поскольку ты уже большая. А хочешь — дядя Юра, поскольку я много старше тебя. Как будешь звать?
Пашута покраснела, похлопала темными от смущения глазами и сказала совсем по-детски:
— Дядя Юра.
— Ну и отлично. А это — Она.
Она промолчала, улыбнулась узенько. И Пашута тоже лишь наклонила голову.
— Ты добрый?
Лида тоже любила так спрашивать.
— Подумай, дружок, сама. Составь мнение, — помнится, отвечал ей Виталий. Потому что забыл, как трудно составить мнение, когда любишь: все смещено — невнимательный взгляд ранит, а грубость прощается. Сколько раз по воскресным дням она волокла тяжеленные сумки с едой, в то время как он дома, в тепле, почитывал газету, и — ничего. А не вышел из комнаты встретить ее с работы (обычный, ежевечерний приход!) — слезы. Обида. Ссора.
Я не буду с ней ссориться. Она права, потому что больше любит. Беззащитней.
Виталий достал свою потайную тетрадь. Открылась запись под названием «Несправедливость», В тетради многое посвящалось Лиде — зло посвящалось, особенно стихи. Но прежде было иносказание (все же вотчина искусства). Тут же — просто и мелко: «За одинокую прогулку — втык». Или: «Может ли человек, сидя за чаем, мыслить вслух и притом — каждую секунду? Любое движение, так сказать, духа — в слово. А когда рот набит? Дай проглотить, моя радость». Дальше шла весьма прозрачная литературная попытка. Вроде бы рассказ под названием «Дача». Начало.
«Не знаю ничего более счастливого, чем одинокие завтраки на даче: никто не спрашивает тебя, что именно ты хочешь съесть, и — слава создателю! — ты берешь сам то, что хочешь.
Никто не просит тебя:
— Ну, еще немного молока! Или:
— Раскрой окно и закрои дверь… Нет, нет, лучше открой дверь, закрой окно и отвори форточку.
Никто не рассказывает скучных историй о приятелях и не сердится на тебя, что ты не поддерживаешь беседы. Не говорит:
— Перестань читать за столом, это неуважение к присутствующим.
Или:
— Не сиди с отсутствующим видом, это создает пустоты в беседе.
Когда я один, я спокойно просыпаюсь, встаю, не боясь кому-либо помешать, включаю электроплитку и ставлю на один ее круг чайник, на другой — воду для варки яиц. И пока я совершаю свой туалет — все готово. Ведь тарелка, чашка, ложки, соль и сахар стоят на столе, помытые и не убранные с вечера.
(«Неужели тебе лень поставить посуду в шкаф?!» — Лень! Лень! Да, мне лень!)
Я пью очень крепкий чай («Зачем столько заварки? Ведь не чифир готовим»), см яйцо всмятку, предварительно вылив его в блюдце и накрошив туда белого хлеба. («Сколько тебе лет? Три года? Четыре? Это атавизм — есть так!») Гляжу в окно, вижу и слышу птиц. И Господин Покой стоит за моей спиною и дышит мне в затылок. И от его дыхания будто подтаивает невидимая пленка, отделяющая, почти постоянно отделяющая меня от брызжущего красками, цветастого, глазастого мира, от игристого его дыхания, полного родникового холода и тугих пузырьков, которые лопаются возле самых твоих губ…
И вот я вхожу в этот мир, а он в меня. Острее и выше этой минуты слияния с прекрасным — прямого, без посредников! — я не испытывал».
Дальше не пошло, потому что гнев был излит — все сказано. Виталий плохо помнил тогдашнее состояние загнанности.
Я не буду ссориться, если Лида вернется. Я не буду… И конце концов, можно ей объяснить…
— Папка! — крикнула Пашута. Она теперь, после каникулярных успехов, да еще без матери, обращалась с ним куда вольней. — Папка, что это вы такое с дядей Юрой придумываете?
— Вроде бы фильм.
— Прямо из головы?
— Ага.
— Ну?!
— Да выйдет ли еще?!
— Па, а эта… ну… Она? Она кто?
И Виталий растерялся. Как сказать:
Хлопушка?
Божок?
Юркина (кто?)?
Артистка? (Так ведь хлопушка же!)
— Она тоже немного помогает.
— А… (разочарованно).
— Юрка, у нашей девушки нет имени.
— Назовем Алена, — готовно отозвался тот.
— Этих Ален!..
— Наша немного Премудрая… Ей как-то суждено потом потерять имя, пока не знаю как… Чириков ее так назвал. Что с него взять?
— Чириков кто? Солдат?
— Ага.
— Почему Чириков?
— Пусть, Виталий, а? Я его так величаю почему-то.
— Ладно, бог с тобой.
— Ну, спасибо. Окрестили души живые. Я боялся — откажешь.
— Значит, Алена и Чириков. Я что думаю, Юр: ведь Алёнка, верно, может долго бывать одна.
— Конечно. А что?
— Ей не так уж необходимо людское общество. Верно?
— Ну… в общем, да.
— Так вот, я уже заметил, что такие самодостаточные люди…
— Какие?
— Есть такой термин в психологии — «самодостаточность», когда человеку хватает себя, есть о чем подумать, что ли, всегда есть чем заняться… И к таким почему-то тянутся люди. Парадокс, а? Другой корчится от одиночества, и к нему — никто. А здесь — на! Бери! Парадокс и есть.
— Ну-ну! К чему ты? — остановил Юрий.
— Да вот к нашей Алене потянулись подружки, парни. Они окружают ее… Это когда уж она взрослая.
— Ясно. Когда заневестилась. Ну?
— А ей даже в тягость.
— Что ж, ни к кому ее не тянет? Никого нет по сердцу?
— Есть и такой. Учитель. Приехал. Он здешний, да отбывал в город учиться.
Юрка остренько глянул, но Виталий не заметил даже.
— И вот странное дело. Аленка качается на этих еловых качелях… это когда сливы осыпались (они потому и осыпались, что уже — учитель). Алена качается, а тот сидит с родными, дома, за самоваром, не видел еще девушки. А у него перед глазами плывет. Она вверх, и его комната внизу остается, она вниз — все восстановилось. А?
— Пойдет, — сказал Буров. — Давай настрочим эту сцену!
Виталию долго потом было неловко своего прямого хода, личного посыла. Хм — «самодостаточность»! Неловко, но и всколыхнуло в нем. Не такое невинное: то, что касалось судьбы, о чем долго потом думалось: «Если бы шло естественным ходом, без Лидиного вмешательства, решился бы?» И отвечал себе:
— Да, да. Решился. А дело было вот как.
Однажды в воскресенье собрался к ближнему ларьку за журналом (старик продавец оставлял ему интересное). Спросил Лиду, что купить. Оделся, а потом зашел за деньгами в комнату, заметил какой-то просчет в разложенной на столе лесопосадочной выкладке и стоя, в пальто, начал править.
Зазвонил телефон.
— Его нет, — сказала Лида кому-то. — Нет, просто вышел. Вернется минут через сорок.
Виталий слышал вполслуха, не отрываясь от работы.
— Это его жена, — говорила Лида. — Так, так. Но ведь он научной работой не занимался. И потом — другой город. Я и ребенок для вас, возможно, не довод. Но у него больна мать.
Надо было подойти и взять трубку, чего проще. Но Виталий медлил. Медлил потому, что не сразу понял, кто говорит и о чем. А когда сообразил…
Был на свете один, кажется, единственный человек, который сказал: «Вы, Виталий Савин, по складу ученый. И вам будет трудно все, кроме научной работы, помяните мое слово». Человек этот, молодой еще, быстрый, смуглолицый и черноглазый, одно время вел на их курсе практику: как-то так сложилось, что большего ему не нашлось. Но знал он много. Со своей невероятной шустростью доставал книги и, приглядевшись, поговорив с Виталием, стал давать и ему. «Вот вам, смотрите, — ногтем узкого пальца отчеркивал он абзац, — у мухи разрушили крохотный кусок хромосомы, в которой были гены, заведующие окраской глаз и формой крыльев… Не самые существенные признаки — верно? — скорее внешние. А без этих генов особь гибнет. Потому что, друг мой, большинство генов, если не все, действуют на многие признаки. Это — плейотропия, или многонаправленность. Но это еще не все; и каждый признак тоже определяется многими генами, Тут знаете, сколько всего?! Только копни! Черт ногу сломит! — Он весело обхватывал руками голову, смеялся, блестел глазами. — Вот, вот чем я буду, нет, чем мы с вами будем заниматься!»
Виталий тогда ходил счастливый, и только его почтительность к преподавателю мешала дружбе: не чувствовал себя с ним на равных.
Потом отменили практику, заняли ее место другим предметом. Преподаватель не появлялся. И Виталий был уверен, что тот давно и прочно забыл его. И теперь… вдруг — он?
— Я думаю — нет, — сказала Лида. — Впрочем, поговорите с ним. До свидания.
Виталий заволновался, выбежал в коридор.
— Кто звонил?
— О, ты здесь? А я… Звонил некто Искуситель с большой буквы (она назвала фамилию, ту самую!). Предлагал тебе уехать из Москвы и заняться научной работой. — И засмеялась. — Я спросила: «На какое время?» А он выспренне: «Науке посвящают жизнь».
— Чего ты смеешься?
— Фразе. Но волнуйся, он еще позвонит. Такие не оставляют в покое.
— А его телефон ты не взяла?
— Поверь мне — позвонит.
Он не позвонил. И ни в одном из научных институтов, куда Виталий обращался, о нем сведений не дали. «Вы, Виталий Савин, по складу… и вам будет трудно все, кроме…»
Но мама действительно была больна. А Пашута мала. А Лида работала именно здесь, в Москве… Волны улеглись, и жизнь заняла место, четко обведенное плоскостями стен и потолка московской квартиры, «…будет трудно все, кроме научной работы, помяните мое слово…»
Но ошибиться может любой. А если нет? Не ошибся?
Юрий Буров пропал. Несколько вечеров Виталий ждал его, потом позвонил:
— Ты жив, Матвеич.?
— Едва. Забегался с Онкой. То надо повести ее к врачу, у неё, видите ли, почки не в порядке. Теперь у нее упало давление. Вот поднимаю до нормы.
Говорилось это со смешком, и Виталий подумал, что Юрке, наверное, нравится возня: как с ребенком.
— Ну, привет ей.
— Спасибо. Но она и так, Виталик, с приветом. Ведь это чтобы взрослая баба не сходила сама к врачу?!
— Тебе же нравится! — засмеялся Виталий.
— Черта с два. Фильм горит. Знаешь чей? Панинский. Помнишь, был такой Костя Панин в Крапивине?
— Конечно. Прескверный был тип, не знаю, как теперь. Но ты, кажется, тяготел к нему.
— Не я к нему, а он ко мне. Защиты искал. А теперь вот хочет долги отдать.
— Как это?
— Да он наше начальство. И довольно ничего себе, крупное.
— О…
— А я люблю, знаешь ли, благодарных людей! Мог бы задрать нос.
— Ну-ну! Как говорится, рад за вас!
— И за вас. Почему? Да с нашим фильмом, который… в общем — на Панина большая надежда. Завтра приду.
Когда Чириков привез девочку в деревню, все очень удивились. Но промолчали. Его изба сгорела, родных не осталось. А там, на краю деревни, — избенка. Ветхая, вросла в землю. В ней старики жили и померли, и она пуста. Решили миром: дать солдату. Это как раз недалеко от той ели. И вот вошел туда солдат с девчушкой этой. А бабы-то (любопытно ведь!) в платочках своих, в широких юбках — шурх-шурх возле избы. А войти не решаются. Потом одна, глядишь, кринку молока несет. Постучала в окошко, пошла. Увидели бабы — и опрометью домой. И вот уж вторая вареной картошки тащит, важно так ступает. Третья соседка шарит по своему огороду — чего бы сорвать. Луку нарвала и морковину. А одна баба бегала-бегала — нет ничего в дому — год-то голодный, — так она куру с яйца согнала, с насиженным явилась. Явилась, а там уж сидят три бабы чинно на лавке. Сидят, глядят. И эта села. А девочка раскидала руки, спит на голой кровати, закутанная в шинель. И Чириков у окна сгорбился. Хорошие бабы у нас по деревням, хоть и любопытные. Разве без них взрастил бы Чириков девочку?! Она хоть и дикая, а своя стала. Идет по деревне, а ее окликают, подзывают, кто погладит, кто за стол посадит — накормит, а кто и вымоет в корыте да бельишко простирнет. Нет, без баб этих захирела бы маленькая девочка.
А уж дальше… Был во Франции в прошлом веке художник Домье. Если раскрыть книгу репродукций его картин и графики (а она как раз была в комнате Виталия) — сразу глянут на тебя рожи. Такие он рожи рисовал — жуткое дело!
И вот сидит Аленушка в доме, рассматривает игрушку, интересную ей такую игрушку Чириков из города привёз — калейдоскоп. Смотрит она сквозь него на свет, радуется цветным бабочкам и птицам, которые живут там, в трубке. Потом отводит глаза, а в окне… в окне нависает рожа. За ней через какое-то время — другая. Чирикова в доме нет. Рожи — в дом. Девочка пугается, кричит. А рожа ей: «Как тебя зовут, девочка?»
Та — в угол. Смотрит.
А рожа: «Скажи, девочка, он твой отец?»
Из угла опять молчок.
И тут изба искривляется, фикус становится рогатым, доски пола поднимаются. Девочка кричит. Рожи исчезают.
А дальше — уже несколько рож, да не в чириковском доме, а в служебном, официальном.
Ведь вот вы замечали — при всяком людском поступке, ну, при каком-то человеческом шаге, всегда найдутся рожи. Шаг хорош, но рожи его перетолкуют.
— Не украл ли чужого ребенка?
— А если и нашел, — может, кто-нибудь ищет!
— Надо публикацию дать. Девочка большая.
— Да она говорить не умеет.
— Вообще?
— Нет, по-нашему.
— Немку утащил?
— А может, у него там связь была?
— А-а-а! С немкой! Как это мы сразу-то…
— Так это что же, это же…
Рожи, пригнувшись, растекаются, сливаются с темнотой. А в избушке солдат укачивает девочку. Он рассказывает ей сказку. Вот такую:
«…она ему и говорит, слезами обливается:
— Зачем ты мои крылья сжег?! Теперь ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, в тридевятом государстве.
И пошел королевич искать свою любимую жену…»
А девочка слушает, слушает, и перед ее убаюканным взглядом не огонь пожара, не вспышки боя и не падающие тела, а причудливое смыкание и размыкание цветных солнечных граней, как в калейдоскопе.
— Спи, Аленушка, спи.
— Она найдется?
— Елена-то Премудрая? А как же!
Февраль был голубой от неба. Его можно было пить большими глотками прямо из горлышка. Виталий так и делал и ходил будто хмельной. Он прозевал, когда повернулся рычажок управления на «ясно».
Витал и не хотел вдумываться, отчего это.
Звонок в дверь.
— Талька, привет!
— Здравствуйте, Виталий. — И открытый взгляд прямо в глаза. Какие там осколочки — это были большущие серые глаза, часто менявшие цвет. Ее взгляд был лишен кокетства или значительности, в нем не было ни особого внимания, ни участья. Просто совершенно открытый взгляд при полной внутренней замкнутости.
— Она, вы когда-нибудь сердитесь?
Пожала плечами.
— Никогда?
Засмеялась:
— Спросите свой друг.
Юрий на этот разговор не отозвался.
Виталий взял отпуск (удивились, но дали) и днем, отпив чаю с тещей, садился за сценарий. Ему хотелось то, что там было, сказать хорошо. Ну, хорошо, как он понимал, как умел.
Юрка подсмеивался, говорил, что это не имеет значения, а потом вдруг стал дорожить этим. Виталий даже заметил, с чего пошло, — со слив. Он написал: «А в саду в это время все разом, шумно, падают сливы. И темно и тревожно лежат в траве».
Буров прочитал вслух и задумался.
— Да. Ты прав: «Темно и тревожно лежат в траве…» Мне это говорит.
Виталий попытался вслух описать Аленку — уже взрослую:
— У нее остались от детства неловкие движенья…
— …острая мордочка, — добавил Юрий.
— …прямой и открытый взгляд, а букву «л»…
— А букву «л»… — Юрий пристально поглядел на Виталия. — Букву «л», Талька, она произносит, как все люди. Это уж будь уверен.
Виталий смутился. Даже поморщился, недовольный с бой. Но Буров тотчас же будто зачеркнул этот разговор.
— Впрочем, чего гадать? Все будет зависеть от исполнительницы.
Однажды, когда не было Оны, Виталий спросил:
— Почему ты не снимешь ее с этой дурацкой работы.
— Работа, мой любимый Виталик, не бывает дурацкой. Все работы хороши, выбирай на вкус. Она и выбрала.
— Да она девочка. Небось пришла после десятилетки Еще и в тебя влюбилась!
— Ну, тут дело сложней. И она постарше. Кроме того, у нее, помимо хлопанья, есть множество других обязанностей. В частности, она неплохо заваривает чай. Впрочем, только на работе.
— Не свинись, Юрка.
Ничто, ничто не мешало литься голубому февралю из горлышка небесной бутыли!
— Клянусь. Очень неплохо.
Виталий уже взрослым нашел эти стихи у Майкова и очень удивился: всегда полагал, что их придумала мама.
Ничто не мешало литься голубому февралю. Даже этот разговор: «хлопушка…», «чай заваривает…». Вроде бы что-то померкло, а потом беспричинная голубизна восстановилась.
Иногда, прежде чем сесть за работу, они выходили немного побродить. И тогда — солнце на красных кирпичах и все то же небо, которое запутывалось розовыми краями в ветках деревьев.
— Перекусим? — спрашивал Юрий.
— Как скажет Она.
— Немножко-немножко, — говорила она.
Буров знал малые кафе (где, впрочем, и его знали!) и хорошо там хозяйничал, его почтительно слушали официанты. Он любил прихвастнуть своей умелостью и в этом деле. Во всем, мол, успешен. (Наивное тщеславие!)
— Тебя, дорогой, разрывает на разные части, — сказал ему как-то Виталий.
— Твоя правда, — ответил он покаянно. — Но это — остатки. Ты поглядел бы на меня года три назад! Думал — и вправду разорвет! Жуткое дело!
Они ничего не пили (к удивлению тех же официантов), а брали с собой бутылочку хорошего пива. И шли дальше, почему-то совершенно свободные Мир расширился до ощущения свободы. Это ощущение было острым — в нем было что-то от родниковой воды. Глоток ледяной воды!
Отпуск Виталия длился, нежился, освещался ново. Лучшего отпуска у него еще не бывало. Во сколько бы ни лёг, вставал выспавшимся. Глядел в зеркало и не морщился, как обычно: а чего? Человек как человек.
Он вдруг ощутил силу: отлично соображал, все помнил. Мог рассказать смешное или страшное, мог острить, придумывать ходы. Мистифицировать.
Он родился в ночь с 22 на 23 июля. Ближе к утру. Стало быть, согласно гороскопу, который притащил Юрка, родился под созвездием Льва.
С 23 июля по 23 августа — созвездие Льва.
Знак огня.
Под покровительством Солнца.
Характер властный.
Натура богатая.
Ха! Учтем! Это я — «властный характер», да, да!
«Лев — центральная фигура зодиака. Ему; приходится очень трудно, так как много искушений применить свою силу, а основная черта характера Льва — доброта…»
Это была забавная штука — гороскоп. Забавная, как всякая попытка познать себя, установить какие-то закономерности в своем поведении.
«Родившийся под созвездием Льва темпераментен и импульсивен! — пел он по утрам, натягивая штаны. — У него огромные внутренние силы, он способен на подвиги!»
Теща, ожившая во всеобщем подъеме, уже не охала за дверью, а смело звала:
— Виталь! Чай со мной попьешь или дождешься своих?
— Со всеми попью, Прасковья Андреевна, — сперва с вами, потом с ними.
Ему правилось, как она в эмалированной кастрюльке заваривает брусничный лист «от ломоты в костях», и в кухне тогда пахнет не то рогожей, не то ошпаренной деревянной кадкой. Ему нравилось, попив чаю с ломтем хлеба, отломанным, а не отрезанным, самому убрать комнату, подмести, стереть пыль, поставить рядом с Юркиной машинкой три тяжелые пивные кружки, а пива прямо из холодильника — всего бутылка, и больше не надо — нет, и ни к чему. Ему хотелось купить ранних цветов для Оны, но боялся: Она могла вдруг не поглядеть на него так прямо, а ему нужен был совершенно открытый взгляд.
Ему и Юрку хотелось порадовать. И он работал: старался, придумывал.
И вот настал день, когда вдруг все сложилось. Не было лишь самого конца. Но его решили оставить «на попозже», потому что не так это просто — конец.
Ночью зазвонил телефон. Виталий ждал звонка. И боялся. Ждал и не хотел (теперь уже не хотел!), — надо же было что-то решать. Пока бежал в коридор (спешил, чтоб не проснулись Пашута и Прасковья Андревна), подумалось: «Попрошу ее, чтобы оставила все как есть. Пусть пока так». Снял трубку:
— Алло!
Оглушил бас:
— Талька!
Она полетела.
— Кто?
— Аленка!
— Тьфу, дурной!
— Сейчас приеду.
— Дверь будет открыта, не звони.
Юрий примчался очень скоро, схватил, перекружил Виталия.
— Вот, вот к чему все это шло: она взлетела! А я думал: почему сказка про птицу подошла, и эти следочки на песке, и как она на качелях?.. На качелях, а потом — в закат. Мне этот закат Володька Заев вот как снимет! И черные ели, и галки-птицы — цон-цони-цон! Ты слыхал, как они кричат?
— Да. Как фарфор о фарфор.
— Точно! Точно, старик! Неужели слышал?!
Юрка так кричал, так восторгался этой малостью, будто галки с их криком невесть какая редкость.
— Ты понял теперь?! Всё к этому, все к этому взмаху, вся жизнь. Представляешь — лечу!
Потом Юрий затих, махнул рукой, был у него такой жест — рукой от головы, широко. Нахлобучил шапку, схватил шубейку.
— Завтра ночью в Крапивин еду. Не нужно чего передать?
Это было совсем неожиданно.
— Что вдруг?
— Не вдруг. Я бываю там. Редко, правда. — И рассмеялся. — Дело, брат, есть.
Пошел. Но от двери опять вернулся:
— Я еще студентом сделал одну киноленту. Хорошую — «Большое плаванье».
— Ну?
— Она тоже, как говорится, «имени тебя».
— Путаешь, старик.
— Сроду я не путаю, не так стар. Помнишь — один раз мы всего и встретились, возле этих капуст. И ты говоришь: вот вроде к чему-то готовились этакому, серьезному, а вылилось все в пустяковый вояж. Ты так сказал — «вояж». Ну, зря готовились, а? Да она и имя-то свое избитое сразу потеряла, сбросила. Ну? Зря мы? Зря?
Телефонный разговор (один)
— Талька, привет! Буду звонить Косте Панину. Твое благословение?
— Благословляю, сын мой. Да не покинет тебя присутствие духа.
— Не покинет. Возьму этого типа на обаяние.
— Возьми и не урони.
— Циник! Я буду слабеющей рукой высоко держать наше знамя.
— Мчись с криком «ура», то есть «урам» — что по-татарски значит «убью» (но этого уже никто не помнит).
— Не закричать бы «караул», что прежде было призывом караула, то есть караульных, и о чем нынче тоже позабыли.
— Забил эрудицией! Иди! Дерзай!
Телефонный разговор (другой)
— Костя! Константин Анатольевич?
— Простите, кто это?
— Буров. Здравия желаю!
— А, Юрь Матвеич! Не узнал.
— Как мы, однако, повзрослели, а? Отчество и все такое.
— Это я под гипнозом большого кабинета. Забыл, что сегодня отпустил секретаршу. Ты чего, по делу или так?
— И так, и по делу. Я сценарий написал. Вместе знаешь с кем? С Виталием Савиным, — помнишь, у нас в школе учился?
— Нет. Не помню. Что за сценарий? Как говорил — сплошная гармония, да? Отделил чёрное от белого?
— Ты, брат, памятлив. Не знаю, что вышло. Хочу отдать на студию и ставить. По прежде — тебе.
— Ну, я ведь… инстанция…
— Знаю, знаю. Но помнишь, когда я вытянул твой прошпионский фильм, ты кой-чего обещал мне.
— Не отрекаюсь. Слушай, идея! Приходи давай в воскресенье ко мне. У меня будет Главный с женой, ну, и прочие. Произведи впечатление.
— Костя, я ведь не артист. И характер у меня того… и искательства эти… не мастер я.
— Ну, смотри сам. Это — шанс. А сценарий я читать не буду. Все эти твои идеи мне совершенно не понравились. Но тебя расхвалю.
Конечно, надо пойти. В крайнем случае посижу молчком — этаким поленом.
— Да, старик, приду. Расхвали меня. Я хороший.
— Конечно. Ты талантливый.
— Я еще и симпатичный.
— Ха-ха! Не сказал бы! Прости, тут меня ждут. Запиши адрес…
Поездка в Крапивенку отодвигалась.
Что, интересно, надо надевать на бренное тело, отправляясь в столь высокое общество? Костюм, разумеется, и галстук. Это в природе называется мимикрия — приспосабливаемость к условиям. Ну и надень. У тебя есть. Все разумно.
Чего ж ты напялил ярко-желтую замшевую куртку, цветной платок под воротник?
А очень просто. Предстоит не смешаться с массой, а произвести впечатление, то есть выделиться. Тут уж другая разумность нужна.
Квартира была просторная, но со всякой дешевкой вроде оленьих рогов над зеркалом и торшеров наподобие уличных фонарей.
У Панина была и жена (что очень удивило). Жена немолодая (постарше их вроде бы!), милая, домовитая. Привечала не шумно, но радушно, никого особо не выделяла. Кто есть кто, Юрка понял не по ее, а по Костиному приему. И еще понял, что сам он, Юрка, предварен рассказом и непременно должен показать себя. Этого ждали все. Только некоторое удивление по поводу своей курточки прочитал в панинских глазах.
— Это один из лучших наших молодых режиссеров, Юрий Матвеич Буров.
— Такой-то (фамилия).
— Такой-то.
— Такой-то.
— Василий Никитич.
Хоп! Вот он! Не по имени узнал — по повадке. Что-то было тут спокойное, лишенное напряженности (все-то немного навытяжку). А так — обычное лицо: длинное, с умными серыми глазами, со свободной улыбкой, открывающей прокуренные зубы. Не чванливое, не злое. Велик, но доступен. Ну, слава всевышнему, понравился. То есть он Юрке понравился, а это полдела, потому что все же не умел Юрий, как ни хитрил, разговориться накоротке с тем, кто ему несимпатичен.
— Ну что, Полина, можно к столу?
— Да, да, пожалуйста.
Бледная, чуть оплывшая, полная женщина всех рассаживала. Юрия Матвеича поместила через человека от Главного.
Стол был обильный и красивый (ай да Полина!). Говорили о салате из грибов (что, мол, просто, а хорошо), о предстоящем гусе (жирный его дух разносился по квартире), кто-то запустил анекдотец из серии «Ну, заяц, погоди!»…
— Ваши сборища веселее? — перегнувшись через спину соседа, спросил Главный.
— Когда как, — ответил Юрий. — А вообще-то я не любитель ходить в гости.
— Почему?
— Утомительно. Ведь вся работа на людях, так что уже в жизни ищешь тишины.
— Хм, не думал. И так все?
— Это я про себя. Все по-разному.
Главный вернулся к еде и питью.
Но зацепило. Так и сорваться недолго.
Особенно Юрий заволновался, когда после ряда унылых тостов, все еще не развязавших веселья, Панин предательски поглядел на него. Ой, сейчас заставит! Стал в трепете вспоминать, что там повеселее, а голова пуста. Надо, надо было дома подготовиться!
— А теперь, — провозгласил Панин, — теперь слово творческому среди нас началу. — И пояснил Главному, чтоб не было разночтений: — Ведь мы-то лишь надстройка, а фундамент — они. (Он, кажется, ставил эксперимент, этот Панин. Он не просто протежировал. Эксперимент на выживание. Выживешь? Выдюжишь?)
Теперь все глядели на Юрия. А он вдруг вспомнил, придумал!
— Мой тост будет длинноват, но зато каждая строчка с большой буквы.
— Стихи! — обрадовался кто-то догадке.
— Да. Поэт сказал приблизительно так:
Он не все помнил, но не сбивался, вставлял слова на место забытых. Голова его после выпитого приобрела ту ясность, к которой он так привык за время своих кутежей.
Слушали отменно, кивали головами. Когда кончил, рассмеялись, кто-то повторил:
— Вот уж поистине!
Чокнулись, развеселились.
— Так все же, Юрь Матвеич, как вы развлекаетесь? — опять перегнулся Главный. — Как резвитесь, когда одни?
Очень даже несложно было рассказать, что среди нас, мол, бывает много артистов, которые и изобразить кого-нибудь могут — из начальства, например, и смеются-то они повеселей, чем чиновники, и мистификации всякие!
Но тогда надо бы что-нибудь изобразить или в крайности попросить гитару и спеть, но так уж явно развлекать их он не хотел. Нет, нет, только на равных.
— Если помните, — сказал он, — у Достоевского в «Идиоте» есть такая странная игра, когда каждый рассказывает о своем самом дурном поступке. Игра называется «Пети же».
— Как? — переспросил Главный. Они перестали уже гнуться за спиной соседа — тот наконец догадался уступить место Юрию.
Юрий повторил название. Теперь их слушали все, поскольку все же Главный. Даже и неловко шуметь, мешать ему.
— А как пишется, не помните? — опять поинтересовался Главный и пошарил по карманам ручку.
Когда сошлись отличная шариковая ручка и услужливо поданная Паниным бумага, Юрий Матвеич изобразил: «Пети жё».
— По-русски?
— Да.
— Удивительно! По-французски «жё» — игра, «пти» — маленькая. Так ведь?
Юрка вдруг рассмеялся.
— А знаете, как было с одной музыковедческой книгой? Автор написал о темпе и характере какого-то произведения всем привычное «Vivace». — Юрий написал слово на той же бумаге. — Начальство посмотрело и сказало редактору: «Зачем этот латинский шрифт? Напишите по-русски, чтобы каждый мог понять».
Редактор запросто написал вот так: «Виваче». Следующий начальник поглядел и сказал: «Зачем этот латинский шрифт? Напишите по-русски, чтобы всем было понятно». И поскольку редактор был в замешательстве, поправил сам: «Бубаре».
Воцарилось молчание. Потому что показалось крамолой. Главный разглядывал буквы, и вдруг дошло. Рассмеялся. Искренне и весело: «Бубаре! Ха-ха-ха! Бубаре!..» Тогда подхватили и остальные. Загомонили.
— Знаете, Юрь Матвеич, — вдруг оборвал Главный, — у меня к вам претензия.
Снова замолчали.
Но Юрий вошел уже в знакомое — не то слишком серьезное, не то слишком бесшабашное — состояние, когда не заставишь себя ни вот столечко соврать или схитрить (а уж выходило из этого известно что!). Он и думать забыл, что надо поправиться. Или испугаться. Только по тому, как замер Панин, догадался: опасность. Но сам ее не ощутил.
— Что ж такое? — спросил независимо.
— Не бываете вы у нас. На обсуждениях не бываете, на совещаниях. На пленуме не выступили.
— В белый зал зван не был.
— Как же так? Нам нужны такие люди.
Остальные заговорили о тех же обсуждениях, что, мол, скучно проходят… захваливают… необъективно… И что как же так — не пригласили Бурова? (Ну прямо на Бурове свет клином сошелся, нет без него кино!).
Юрий почувствовал себя польщенным (здесь, в этой обстановке, особенно!).
— Да ведь я на самом-то деле тихий, — признался он на полнейшем обаянии и поглядел на часы. — Ох, уже половина двенадцатого! А у меня завтра… — А что — так и не придумал. — Простите, я побежал.
Но поскольку было ясно, что без него сборище погрузится в скуку, Главный поднялся тоже. Ну, и, разумеется, остальные.
Раскланялись, весьма довольные вечером, вышли даже несколько шумно.
— Ну, а каковы творческие планы? — спросил Главный в лифте.
— Мои планы умещаются в небольшой папке, — ответил Юрий доверительно. — И я хотел бы показать ее вам.
— Через голову? — эдак лукаво усмехнулся Главный.
— Говорили же мы сегодня через спину.
— Да, вы правы. И отлично поняли друг друга.
Как всегда при удаче, все бывает вовремя, так и тут точно на этих словах лифт остановился на первом этаже.
Телефонный разговор (короткий)
— Алле, Юра! Юрь Матвеич! Поправился! Ты ему показался, хитрый бес!
— Что из этого следует?
— Спрашивал про сценарий.
— А ты, Константин, не читал, ай-яй!
— И не буду. Неси сам.
— Несу.
Телефонный разговор (короткий) — другой
— Талька! Несу «самому». Костя Панин благословил.
— Ну и валяй. Чего ж ты волнуешься?
— Оконфузиться боюсь. Может, передать через секретаря? С запиской, а?
— Передай. Личные контакты не всегда…
— И то! Привет.
Телефонный разговор через неделю (тоже недлинный)
— Василий Никитич у себя?
— А кто спрашивает?
— Буров.
— Минуточку, узнаю.
— Здравствуйте, Юрий Матвеич.
— Василий Никитич! Может, я невпопад?
— Я прочитал.
— Разрешите зайти к вам?
— Только не завтра… на той неделе, если не возражаете. А сценарий все же пустите по инстанциям. А то, знаете, неловко.
— Хорошо. Спасибо.
(Отбой)
Будто так легко ждать. Будто это вообще возможно — ждать… «по инстанциям». Не понравился сценарий. Теперь — всё.
— Онка, ему не понравилось!
— Так сказал?
— Нет.
— «Нет» — это не есть «да».
— Чертов философ! Ты почему лежишь? Опять зубы?
— Не знаю… не имею много сил… Сейчас встану.
Теперь его раздражало все: расслабленность Оны; наскоро и плохо приготовленный завтрак; необходимость переться на какое-то там малое собрание. А главное — «пустить по инстанциям». Ну, хорошо. Сегодня же и пущу.
И пустил. Отдал самой симпатичной и самой притом влиятельной редакторше — Римме Брайниной.
— Твои? — спросила она, поднимая подсиненные веки.
— Да, Риммочка, мой и только в твои руки.
— Я постараюсь быстро, — уже деловитой скороговоркой ответила она.
И действительно постаралась. И через несколько дней позвонила (умница! милая!), что редсовет принял, полагаясь, правда, на его предыдущие режиссерские удачи. И не сказала (а напрасно!), что та самая редакторша, которую так зло когда-то осадил Юрий на первом фильме, — Вика Волгина, — теперь уже, завоевав кое-какие общественные позиции, еще более авторитетно корила сценарий, назвав его «романтической риторикой» в лучшем случае, а в худшем «уходом в экзистенциализм и мистику». Ее, правда, не поддержали, а Римма даже настойчиво и резко просила доказать, поскольку это уже обвинение (что было ударом недозволенным, потому что всем известно: доказывать трудно и необязательно). После этого вообще все шло ничего себе, если бы не споткнулось о некоего Тищенку Григория Михайловича, человека в этом деле важного, которого ни обойти, ни объехать. Сценарий всегда шел к нему, а читать сценарий ему была мука мученическая. А уж каких фильмов он не насмотрелся за время работы — и наших, из фильмофонда, и иностранных! Так что ничем его не удивишь.
И вот тут Римма подала Бурову сигнал:
— Тищенко буксует!
— А читал? — спросил Юрий.
— Невозможно выяснить. Общие фразы и мычание.
Нет, Юрь Матвеич не пошел к нему. У Юрь Матвеича был свой козырь: ведь уже «та неделя», о которой говорил Главный, шла к концу. А вдруг да договоримся? Вдруг разъясню я ему на пальцах, что это выйдет?! Что такое тоже закономерно для нашего кино. Рядом с другим, разумеется.
Позвонил. Был зван. Пришел.
В приемной сидела секретарша, молоденькая и дерзкая. Вот Виталий, к примеру, не пробился бы через такую, потому что девочка стояла насмерть и была с хаминкой. «Вас я не пущу» — и все. А Виталия такое — прямо наповал.
Юрий же сразу разглядел: да она, эта красотка с опахалами вместо ресниц и лепестками роз вместо ногтей (нет, правда, красивая девочка, синеглазая, смуглая, чуть больше, чем следует, накрашенная), да ведь она же на самом деле — доярка. Отмыть, причесать гладко, надеть белый халат или передник… Ну, и как же ей не хамить… все коровы да коровы, и погулять некогда!
— Почему ж ты не пустишь? — безо всякого раздражения ухмыльнулся Юрий. — Я ведь сговорился.
— Я же сказала — Василь Никитич занят. Велел никого не пускать.
— И меня?
— Он персонально не называл.
— А ты доложи персонально.
— Так не делают.
— Почему?
— Чтоб не ставить в неловкое положение — неужели не ясно?
— Ясно, ясно. Ну, тогда беру на себя. И он в обход девочки шагнул к начальнику, еще улыбаясь ее непритворному возмущению.
— А, Юрь Матвеич! Прошу, прошу!
У Юры такая масочка: вроде смущен и вместе с тем идет ва-банк, и опять же «не судите строго, такой уж медведь». Он и становился таким: одно плечо выше другого, подкупающе беспомощная улыбка, неловкий взмах руки (это в смысле ва-банк — эх, мол, будь что будет!). Впрочем, не только масочка. Он ведь и правда был такой. Только весь. Это был актерский обыгрыш части собственного «я». Когда-то, в ранней юности, Юрка даже вырабатывал в себе «медведя» — у этого зверя, как известно, всегда улыбчивое лицо и ничего не выражающие глаза, так что никто (даже дрессировщик) не видит, когда мишка начинает сердиться, когда готов кинуться. Неподвижная приветливость. Но мало ли чего мы хотим в юности, когда еще только строим себя: внешность, манеру поведения, стиль. Не всегда ведь выходит!
— Рад видеть вас, Юрий Матвеич. Садитесь.
Пауза. Прочитал? Нет? Не одобрил?
— Василий Никитич… я… того, волнуюсь ведь!
Главный засмеялся, вынул из стола папку со сценарием.
Было все же в этом Высоком Начальнике нечто милое, нечванное. Может, это придавало Юрию сил. С ним был легче, чем с Паниным. Много легче.
— Так что ж, Юрь Матвеич, сказать? Мне понравилось.
— Ура! — выдохнул Юрка, — Вы даже не знаете как я…
— Только вы поймите, я ведь это — как частное лицо.
— Ну, ясно. А я уже «пустил по инстанциям». — Сказал и улыбнулся.
— Чего ж вы меня поддразниваете? Я же не могу самолично… Так-то вот. Но мне было интересно. Честно говоря, вы мне понравились еще там, у Панина. В том смысле понравились, что показалось: есть свое. И — не ошибся. Ведь я много вижу говорунов, и дельцов, и обаятельных неталантов — скажем так. Сценарий ваш конечно же талантлив. Но странен. Очень странен. И я предвижу затруднения.
— Да чего ж там странного? Только девчонка чудная — дак ведь она войной напугана с детства, ее с гнезда сорвало, всего лишило. А ведь ей пять лет уже было, понимала что-то. И языка она другого.
— Немецкого?
— Да ведь какая разница? Ребенок. А что говорит чудно, так у иноязычных людей редко обходится без акцента, а она к тому же замкнутая, неразговорчивая — и напрактиковаться не могла. Неужели, Василь Никитич, это странно?
— Не только это. Вот чего вы, вы, как автор и режиссёр, хотите?
Юрий вспомнил разговор с Паниным и сдержал свой порыв.
— Видите ли, я доброту показать хочу. Это о доброте, о том, что не обязательно людям так уж все понимать друг в друге, чтобы быть добрыми. И о бережности — это линия с матерью и с учителем. Я нарочно о нем ничего не говорю до этого, что он, дескать, плохой или что. Он неплохой. А слуха нет. А для нее это, может, единственная любовь — ведь так бывает с первой любовью!
— Я все понял, — тихо отозвался из кресла человек. — Здесь очень хорошо все написано, как-то возвышенно… и это понял. Меня другое тревожит. Не может же быть целый фильм ни о чем. Вот поглядите, так скажут.
Юрий вздрогнул. Ну, всё. Значит, «ни о чем».
— Василь Никитич, — перешел он почти на шепот (в волнении всегда начинал так, а уж потом распалялся), — я бы не простил себе, если б свою, от себя оторванную часть стал строить на интересе детективном: «Отнимут — не отнимут», «соблазнит — не соблазнит». Я хочу сделать фильм по законам поэзии, и если это удастся мне, все будет стоять на своих местах. Ведь что такое искусство? Для чего оно?
— Для чего? — вытянул шею Главный.
— Для поддержания высокого в нас. Я так думаю. И каждый идет к этому своим путем. Мой путь, может, непопулярен.
— Ну-ну-ну, — запротестовал Главный, — вы ведь уже кричите. А зачем? Вы где хотите снимать?
Юрий почувствовал, что глаза его жжет. И отвернулся.
И Главный не стал повторять вопроса.
— Ну и отлично. Берите сценарий. В добрый час.
— А если… как вы сказали… возникнут недоуменные вопросы?
— Сошлитесь на меня.
Тут, собственно, надо было пожать руку и уйти. Но на Юрку снизошла трезвость. Эх, знал бы он когда-нибудь сам, что будет делать через секунду!
— Василь Никитич, а почему бы вам не написать… Ведь каждый раз к вам…
Главный отвел потускневшие глаза.
Испортил! Все испортил!
— Ведь… каждый раз… к вам… — лепетал Буров.
— Да, да… конечно, — грустно покачал головой Главный, еще раз пристально, будто новыми глазами, поглядел на собеседника и протянул руку за папкой.
Медленно развязал шнурки, сделал надпись на титульном листе: «Прошу ознакомиться со сценарием. Я читал». И — роспись.
— Спасибо, — сказал Юрий совсем уже тихо, как-то униженно.
Главный кивнул, молча протянул руку, не проводил до двери.
Юрка вышел как в тумане и так, ничего не замечая кругом, брел по улице. Он не знал, проигрыш это или победа. Только понимал, что совершил бестактность. Но: с другого взгляда — ведь ты же не ради дружбы пришел к этому человеку. Джинн давал дворец, а ты попросил справку о прописке со всеми печатями. И больше к джинну не придешь — растаял. Подвел черту.
Перебрал, Юрь Матвеич!
Да, перебрал, но и меня можно понять: на этот фильм много поставлено!
А Тищенко сидел в своем кабинете. А Тищенко точил нож для пронзения (пронзания?) буровского сердца. И наконец вызвал жертву. Был Григорь Михалыч тучноват и осанист, руки были полные, с короткими белыми пальцами. И пальцы эти перекладывали страничку за страничкой справа налево, справа налево.
— Так что же, Юрий Матвеич, дорогой, опять у нас солдат возвращается с войны?
— А разве нельзя?
— Можно, но сколько раз? Военных фильмов…
— Это не военный фильм.
— Но ведь герой солдат?!
— Человек, человек здесь главное! Солдат ведь тоже человек!
— А почему не шахтер? Нет, вы поймите меня правильно. Я ничего не навязываю. Просто проблематика другая.
— Что вы имеете в виду, Григорь Михалыч, говоря «проблематика»?
— Ну, проблемы… У солдата одни, у шахтера другие.
— Да ну?
— А как же! Жизненные. Трудовые, так сказать.
— Вы, значит, говорите о материале. Так вам не понравилось?
Юрий вдруг сам услышал, что голос звучит просительно, из чего было ясно, что он помимо воли начал игру.
— Та нет, я не говорю… Но вот надо бы подумать…
— Стало быть, совсем не показалось?
— Та, честно говоря, Юрь Матвеич, от вас, от корифея…
— Э, какой я корифей! Сделал два-три средних фильма.
— Ну, все-таки. В первых рядах, — так что и порадовать вы бы нас должны…
— Так не порадовал? Забрать?
— Тут предлагаются измененьица… В смысле, как вы говорите, материала. Другой материал нужен. И побогаче. И чтоб трудовой тоже.
— Хм! Жалко, что так мнения разошлись.
— Та они ж, редакторы, тоже не все увлеклись… И вы согласитесь, когда уясните.
— Я не про редакторов и не про свое мнение.
— А про чье?
— Про Главного.
— А?
— Василь Никитич читал, очень одобрил.
— На пушку берешь?
— Есть возможность спросить (Юрий не решился сразу на «ты» перейти).
— Зачем же спрашивать? Неудобно. Да и шутка это. Я же знаю тебя, Юрь Матвеич!
— Шутка?
— А то как же! Я тоже шутки понимаю. Ха-ха!
— Погляди тогда!
И Юрий развязал шнурки на заветной папке, которую до того прижимал рукой к боку. А уж роспись Тищенко узнал бы и во сне.
Он помолчал. Склонил голову вправо. Потом влево. Потом поднял глаза. Ясные глаза, улыбчивые.
— Я же говорил, что ты шутник! — И громко рассмеялся, вытер глаза платком, встал из-за стола. — Ну, в добрый час! Что ж, я свои замечания — в рабочем, так сказать, порядке…
И лишь у двери, обернувшись, Юрий поймал на себе его быстрый мстительный взгляд. Вот кто медведь-то! Вот где неподвижная доброжелательность! Эх ты, Юрка, наивный человек, где тебе?!
Ну, да что теперь. Теперь только держись!
Почему так получается, что люди хорошие, добрые, талантливые мало и неохотно помогают друг другу? Такие принципиальные! Какая-то малость не устраивает в другом, порою близком человеке, и вот ему отказан в поддержке! А люди, лишенные таланта и доброты, скверные люди, с такой душевной широтой прощают себе подобным, «своим», слабости всех родов, что невольно восхищаешься их чувством локтя, единством — какие прекрасные друзья!
Почему так получается, а?
У Тищенко было на студии много если не друзей, то единомышленников по схеме «ты мне — я тебе». А поскольку от Тищенко многое зависело, поскольку его «я тебе» было очень даже необходимо, так и «ты мне» не задерживалось… Ну, в общем — о чем тут говорить?!
«Вот мерзотник! — думал о Бурове взбешенный Тищенко, тонча кабинетный ковер. — По виду свой, и держался прежде эдак скромненько, и ходил с шестерок, а тут — за усы. Меня — за усы. Да я для тебя ли их растил, мои пшеничные? Ишь ты — козырь у него, козырной туз… Так ведь, может, он один у тебя и есть, а продержись-ка с одним всю игру. Есть один — ты бы другие приманил. Меня бы пригласил, поговорили бы по-человечески Разве мы не можем понять? А то расщеперился! Да я… Да я…»
А что «я» — пока не знал, и гнев его был еще беспомощным и кипел вхолостую. Но когда первый пар сошел, стало проясняться. А так ли уж крепок Буров? Часто ли и запросто ли бегает по начальству? Надо узнать. И побыстрей. Да что «побыстрей»? Тотчас же! Стал набирать номер Главного и только тут заметил, что смерклось — едва цифры на телефонном диске различаешь. Зажег. В круглом свете настольной лампы сосредоточился.
— Алле, Валенька! Это Гриша Тищенко. Здравствуй, наяда. Я тут тебе украшеньице одно обещал…
— Неужели помните?
— А как же. Так привезли мне из Польши. Поеду к вам — захвачу.
— Ой, Григорь Михалыч! Спасибо!
— Ну-ну, это полный пустяк… А я к тебе по делу, режиссера одного ищу. Бурова Юрь Матвеича. Нету ли у вас?.. Нет? А давно был?.. А… И часто захаживает?.. Всего-то! Ну-ну, поищу в другом месте. Работенка одна ему есть… Целую ручки.
Нет, не такая уж она была доярка и коготки растила не зря, потому что ответы дала исчерпывающие и голосом, тоном подтвердила тищенковскую догадку: нет там дружбы. Не сумел Буров, не завязал. Деловой это росчерк на сценарии, а не дружеский. А это — главное. Дружбу и прочие частные связи отбить трудно. Дело — легче. И сразу забурлило в Тищенке тревожащее, будоражное, творческое. Неправ тот, кто полагает, что Тищенко простой чиновник. Нет, он тоже человек творческий. Только творческая эта энергия пущена по другому, что ли, каналу. Она вложена в каверзы. Да, да, он мастер интриги, тайного конфликта. Как иной драматург плетет свои сюжетные ходы (от которых, впрочем, никому ни горячо, ни холодно), так и он, Тищенко, создает свой спектакль — не либретто, не сценарий, а именно спектакль, потому что и режиссура тоже его. Только актеры со стороны. И уж тут-то наглядно видны все его удачи и просчеты, тут живые люди плачут, смеются, корчатся от боли, хватаются за сердце и за валидол… Эх, если бы такие спектакли да оплачивались по тарифу! Быть бы Тищенко богачом. А то — всего лишь зарплата. А ведь он ничуть не меньший творец, чем любой другой на этой пресловутой студии, хотя и не устраивает торжественных просмотров, банкетов, заметок о себе в газеты и журналы. Он — скромный жернов, в тиши и темноте дробящий зерно. А уж какая будет мука — крупного, мелкого ли помола…
Вечер — слякотный, февральский вечер с огнями в окнах и дыханием близкой большой улицы города, — вечер этот звал выпить, так сказать, «посидеть». И приятели звали. Было уже несколько предложений. Но Тищенко не пошел. Тищенко Григорий был одержим идеей. Тищенко творил. Он уже сделал несколько звонков на студию, дабы узнать поточней, какова прочность Бурова. Не все, нет не все его любили. А одна молодая редакторша выразилась даже не очень цензурно. Но какая-то прочность в его положении все же была, это, кажется, за счет работы. Что-то там нравилось им в его работе. Но это не большой козырь. Восьмерочка, например, если считать вместе с анкетой: анкета хорошая по всем пунктам.
Луна из-за водянистых облаков глянула в окно тищенковского дома глубоко за полночь. И застала его не спящим.
— Восьмерка да туз козырей, — соображал он. — Да это еще какой он игрок, посмотрим!
Спал Тищенко прерывистым, тревожным сном, какой бывает после напряженной творческой работы, — это знает каждый, кто создавал что-либо, будь то слова для песни, или музыка к ней, повое приспособление для станка или неслыханная доселе теория строения вещества. И все что-; то складывается, меняется местами, ищет пропорций в неотдыхающей голове, так что к утру само дозревает.
Поздняя утренняя заря не нашла Тищенко в кровати. Он сидел у телефона, вздрагивая от утреннего холода.
— Коля?.. Привет! Зайди ко мне в присутствие часам к одиннадцати… Что? Та ничего не случилось, есть о чем погутарить. Жду.
— Леня, Левон, ты как сегодня в двенадцать? Пообедаем?.. Ну, гоже. На обычном месте жду.
— Яков?.. Ратуй, дорогой. Без тебя…
Это все были мелкие козыри, не выше валета. И пригодиться они смогут позже, когда фильм будет снят и придет пора принимать его. Вот тут и станет с их помощью ясно: сценарий-то был, может, и неплох, а уж что сотворил с ним режиссер — вот где беда. А можно и пораньше начать — с просмотра отснятых кусков, подать сигнал: не все, мол, благополучно. А всего важнее создать этакую атмосферу недоверия, сомнения: вот делается фильм, суммы огромные берет, в график влез, другим дорогу перешел, а заранее можно сказать: брак! На полку пойдет. Даже Слонову был заброшен пробный шарик. Но тот, воробей стреляный, вышел пока на нейтральную. Верно, это все были козыри не выше валета. (Других пока тревожить было рано.) Но их ведь много. Да и как еще тот, мальчишка, играет? Теперь Тищенко мысленно называл Бурова не иначе как «мальчишка», хотя был не многим старше. Перед Тищенкой ты мальчишка. Дуралей и губошлеп. Тищенку не замай;. Тищенко тебе всяких Феллиниев разыгрывать не даст, верно та редакторша вчера сказала — «экзестенализм», нет, «экзестенцилизм», «экзистенциализм» — вот как… тьфу, не выговоришь.
Мысленно Григорий Михайлович уже набросал короткую, но убедительную речь, которую скажет, а вернее — изложит письменно. Нет, дорогой мой! Тищенкой не кидайся, прокидаешься! Тищенко опасный зверь. У него и Главный-то еще может по швам затрещать! А ты — за усы. Не для того я их растил, пшеничные, не про твою честь. Так-то вот.
Телефонный разговор.
— Талик, здравствуй, дорогой… Через неделю едем смотреть натуру.
— Чего смотреть?
— Натуру. Деревню, где снимать, понятно? Дорогу, по которой Чириков шел с фронта, — ведь шел он в марте, помнишь? День такой особый был — двадцать второе марта. И теперь время к тому.
— Да, да… Но мой институт… Я, правда, сдал материалы…
— Вот и отлично. Оформляю тебя на два месяца. Не спорь, это нужно. По ходу кое-что дорабатывать придется. Онку возьмем. И Володю Заева. Ну, готовься.
— А куда поедем?
— Есть куда. Примечено давно.
— А Крапивенку побоку?
— Нет, махну на недельку. Ну, оформляйся пока. Завтра уточню.
Виталий давно не видел Юрку (только телефонные переговоры), еще дольше — Ону. И голоса ее не слышал, тихого и медленного; и прямого — из глаз в глаза — взгляда не видал, и тоненьких пальцев с резко выступающими косточками, и обтянутых простыми чулками узких ступней, беспомощно ищущих опоры среди диванных подушек. Только кольцо с бирюзинкой на оттопыренном пальчике амура — вот все, что осталось ему. Неужели Юрка не будет ее снимать? Неужели начнет искать другую, заставлять худеть, станет учить эту чужую странному, птичьему акценту, от которого, может, и пошло все? И что за глупая робость не велит спросить запросто: «Будешь снимать Ону?»
А зачем тогда берет ее «на натуру»? Как помрежа? Да нет, что Юрка, глупец, что ли!
И сладко запелось вдруг: едем! едем! И легко будет бросить работу.
Он подал заявление и впервые не ощутил робости при переходе в другое состояние. Юркина, что ли, вабанковость передалась? Или Онина безопорность (живет же ведь без надежных зацеп!)? Одно беспокоило — Пашута: ее худоба, молчаливый вопрос в глазах, ее отстраненность. Да я не думаю о ней! Неужели нелепая — тринадцатилетней давности! — Лидина выдумка лишила меня чувства к дочери? Ну, а если и не родная? Всю жизнь ведь рядом. Лида передала ей (а может, воспитала) самостоятельность. Но как нежно и мило, даже трогательно проявляется в ней эта черта. Никогда Пашута не войдет к нему в комнату. Но если он сам постучит к ней, как радостно вскакивает она навстречу!
— Папка! Посмотри, что у меня! — И протянет непременно нечто такое, что могло бы заинтересовать его: книжку ли, альбом ли репродукций, а то изображение какого-нибудь зверька из Брема… Трогательная в своей наивности попытка завоевать! И вдруг он понял: а ведь она читает то, что я читал, пытается глядеть моими глазами, любить моей любовью… Тянется ко мне, не позволяя себе открытости. И, может, это уже давно. Да как же она, должно быть, одинока!
И вспомнил отца. И свое притяжение к нему.
— Пашута! Ты дружишь с кем-нибудь?
— Конечно.
— А почему никогда не пригласишь своих друзей домой?
Она молча пожала плечами. Такая тощенькая, не по годам вытянувшаяся. А куда же ей пригласить — ведь у нее и дома-то нет! В доме — холод. Лида, правда, занималась ею, но самолюбиво, без доброты — не к Пашуте, к дому. Без доброты к тому гнезду, из которого, едва вылупившись, выпала эта слабая птица. Незаметно для всех выпала, без писка и шума. А может, ушиблась?
Но ведь Лида готовила с ней уроки, верно?
Да. Чтобы показать Виталию, что не зависит от него и ничего и никого ему не навяжет.
Но ведь Лида возила девочку с собой по командировкам.
Да. Но все с той же, с той же мстительной недобротой. И как же она могла, привязав к себе дочку, отлучив ее от отца, взять да и уехать, бросить… Только его, Виталия, имела в виду, только во имя их недоброй любви совершала поступки. Зачем ему столько любви за счет этой вот девочки, которой всегда, всегда будет недоставать тепла?
— Пашута, ты… не скучаешь?..
Она сразу поняла, покраснела, опустила голову. (Такая нежная линия шеи, хрупкие светлые завитки там, где волосы не попали в косички… Может, лучше расплести косички по плечам?) И вдруг глянула. Глянула ясно и прямо.
— Я, пап… — И замолчала.
— Ну-ну? Чего ж ты молчишь?!
В глазах ее снова метнулось смущение.
— Ну? Рассказывай.
— Мне не хочется, — ответила наконец Пашута все так же мягко.
Раздумала, стало быть. И Виталий понял, что это — довод и что против этого «не хочется» ему нечего возразить. Разве они близки душевно? Разве обязана девочка доверять ему? Но он ведь должен знать, насколько Пашута осведомлена об их отношениях с Лидой. Должен? А зачем, собственно? Ведь есть уйма других слагаемых ее жизни, о которых он знает еще меньше! Девочке тринадцать лет. Ей, наверное, уже хочется нравиться. А было в ее жизни такое? И очень ли страдает она от пятна? И что думает она о своем будущем? И чем, кроме этих вот книг и репродукции, интересуется?
— Пашута, — сказал Виталий, притягивая девочку и ощущая ее слабые косточки. (Господи, до чего хрупка! И как была бы хороша. Разве нельзя вывести это пятно? Да быть того не может!) — Пашута, а что, если ты поехала бы со мной на съемки?
Она втянула в себя воздух и удивленно, счастливо поглядела на него:
— Ты возьмешь?
— Конечно.
— А школа?
— Но ведь вы ездили с мамой.
Девочка опустила голову:
— Мы там занимались. По всем предметам. И потом — мама договаривалась с директором.
— И я договорюсь.
Пашута задумалась, хотела про что-то спросить и не решилась.
— Ну, чего? — Виталий старался заглянуть ей в глаза. — Ну, что не так?
— И не знаю. — Она ответила искренне, она действительно не знала.
— Но что-то не так?
— Угу.
— Подумай, ладно? И потом, если сможешь, скажешь мне.
Девочка кивнула.
На другой день — прямо из института — Виталий отправился в Пашутину французскую школу. Еще хорошо, что бывал там раза три (всего три за столько лет!), хоть спрашивать у девочки адрес не пришлось.
Школа была как школа, но директор уже ушел, а одна из учительниц — румяная, полная, любознательная, — услыхав, что он отец Савиной, тщательно разглядела его и потом сказала, что она занимается с Пашутой французским, что девочка чрезвычайно музыкальна, но что вряд ли ее отпустят в самом конце года — начинаются контрольные, опросы…
И вдруг:
— Лидия Сергеевна не передала мне книгу? Нет? Забыла, наверное!
— Что за книга?
— А, пустяк… Я очень люблю вашу супругу. Мы вчера долго разговаривали по телефону. Исключительно образованный человек!
Виталий шел по городу, и странное ощущение присутствия Лиды не покидало его. Он даже оглянулся несколько раз, растревоженный чьими-то случайными взглядами. Так, может, ощущает себя зверь в окружении красных флажков. Он теперь точно понимал, что не хочет быть пойманным. Не хочет обратно в вольер. Прошло время. Прошла растерянность, ослабли нити, связывавшие бытом, каждодневным общением, привычкой, что ты знаешь все о человеке и он о тебе… Похоже, правда, «с любимыми не расставайтесь». Как могла она решиться на такое — вздорное, слабое, отчаянное?! Ни капли здесь не было расчета. Одна боль. Только любящая женщина могла так. Любящая и гордая.
Виталию впервые не было жаль потерять эту любовь.
Гл. XVII. На пересечении путей
Окно было опущено, и особого железнодорожного запаха ветер гулял по купе. Почему-то трех остальных пассажиров не было (так и не сели), и Юрий не завалился спать и не включил настольную лампу. Глядел на рвущиеся вместе с ветром облака и ветки сосен, и его пробирала дрожь (надо бы задвинуть окно!), а может, взвинтились нервы, потому что было весело до лихости! И была ясность в голове, — вот с такой бы башкой работать! Не совсем вовремя отправился он в Крапивенку, а — нужно. Хотелось перед съемками надышаться деревней, привольем, отрешиться от суеты. И картинки свои хотел взять. Для съемки тоже. За делом еду, говорил себе, за делом.
Потом все же заснул, так что утром проводнице пришлось расталкивать.
Увидел свой вокзал, тот, где встречал когда-то маму; увидел старуху в платке, надетом на старинную шапочку — борушку; площадь и светлую пыль ее, и обшарпанные автобусы, и дома потемневшего дерева, с кружевами наличников в раннем утреннем свете — и вдруг обрадовался, заволновался. А уж когда услышал забытый говор и сам легко заговорил так же, стал искать попутку. Скорее, скорее!
Городок свой увидел издали: все такой же! Только у реки выросло несколько двухэтажных блочных домов — со всеми удобствами, как сообщил сосед по кузову.
Но школа стояла по-прежнему на отдалении, только сад разросся. Приглушенная временем боль. Лида. Лида Счастьева. А вот дом ее. Пустует. Не глядит, завешены окна. Лида. Как странно: болит. Еще болит! Человек уже не имеет власти над тобой, а память… Так и не обратила на меня взора. Жизнь прошла — не обратила.
У начала Крапивенки спрыгнул с машины, расплатился и, пока шел, видел впереди себя мельканье белого платьишка из-под накинутого пальто — бежала девчонка лет восьми, бежала к их дому.
А когда подошел, девчонки уж не было, а в дверях стояла бабушка.
Она не бросилась к нему, не закричала от радости. Но каждая морщинка в лице ее вздрагивала, и глаза были счастливые и немного жалкие от такого нескрытого счастья, и мутноватые слезы стояли в них.
— Бабушка!
Хрупкая, одни косточки.
Она не хотела выдавать своей слабости, не хотела ни огорчать, ни жалобить… Но вдруг стало понятно: пока он работал и боролся, пил, радовался, огорчался — она ждала. И уже не чаяла дождаться. Сухонькая, совсем старая. Зачем-то вез ей платок. Потом, потом отдам.
— Иди, милок, в избу, — говорила бабушка. — А я уж думаю: обозналась Зинка — девчонку-то прислала. Не ждали тебя.
И вела его за руку по темным сеням, будто он мог заплутаться.
— А где мама?
— Дома, где ж ей быть.
Но в комнате матери не было, а вышла она из-за переборки (построили уже без Юрия на не скупо посылаемые им деньги — и переборку, и крылечко — заметил — новое). Мама одергивала помятое нарядное платье, на шее была косынка с ковбоями и лошадями (глупая сыновняя придумка — зачем ей ковбои?!). Волосы тоже были наскоро приглажены, и возле негустого пучка торчали не попавшие в гребешок прядки.
За пять-шесть лет, что он не был здесь (еще в разгар удач имени Слонова заезжал), мама мало постарела. И держалась независимо. Юрий разлетелся было обхватить ее, но сдержался и только поцеловал в щеку.
— Здравствуйте, мама. Принимайте блудного сына.
Она улыбнулась, покивала головой.
— А уж мы с бабушкой думаем: дождемся ли? Шесть лет не шесть дней.
Она отвернулась, прерывая разговор, начала расставлять на столе чашки, перетирать их вынутым из комода новым полотенцем: гость приехал. Любимый, жданный, а — гость.
Но бабушка хотела, чтобы все ладно. Это было видно по тому, как она, спеша, вздувала самовар, как торопилась ввести в курс деревенских дел: кто помер, кто у кого родился, что у них еще пчелы живут, а уж коровушка хороша — молока дает мало, но такого по всей Крапивенке не сыщешь!
Его поили этим молоком; его уложили отдыхать, постелив лучшие простыни. А он впервые (никогда, никогда такого не было!) ощущал все вполовину. Его тянуло в Москву. Тянуло к фильму: точно ребенка без присмотра оставил! — и не мог вжиться в здешние дола, растворить в них свои заботы. Была какая-то несвобода.
— Заскучал Юрок, — вздохнула бабушка. Она ведь всегда его слышала. И от ее ласковости, вышедшей в старости наружу, и от маминых печальных глаз было ему так, будто он предавал их. (За делом, за делом ехал! А они-то жили им, любили, вели с ним свои особые, беспомощные и скорбные счеты… «За делом»…)
— Сниму фильм и надолго домой закачусь, — пообещал он. И старался верить себе. А саднящее чувство не проходило до самой Москвы: ишь ты, причаститься ехал! Как все просто, а? А нет вот, нет! И чувство потери не оставляло.
Только поднимаясь в лифте, вспомнил о картинках — тех своих, давних. И не то вспомнил, как бабушка достала их из сундука — аккуратно завернутые, ни пылинки! — а про то, как подойдут они странной девочке Алене с ее отрешенным взглядом и неловкой речью.
Позвонил. Не отворили. Где это Она? Открыл дверь ключом. В квартире было не убрано и пусто.
Людской поток исчерпался — время прошло. Люди и время — они спешили и вот прошли. Только легкое завихрение у входа в метро. До эскалатора еще надо пробежать по лесенке. Здесь тоже затор возле правой стены. Виталий взглянул мельком: прижавшись к перилам, вытянув узкое тело по стене, стоят девочка в короткой юбке на опенковых ногах. Тело распластано, а голова упала, и волосы да еще какой-то серый платок закрыли лицо.
Она не мешает движению. Просто притягивает взгляды. И разговоры:
— Чего она?
— Ей плохо, что ли?
— Пьяна, по-моему.
— Девушка, вам помочь?
Нагнула голову ниже. Виталий уже не видел её, осталась перед глазами неловкая поза, распластанность по стене. Лесенка потащила вниз людей с повернутыми назад головами: что-то им было интересно в ней. И лишь когда съехал, ощутил: в ушах застряло звучание разбиваемых фарфоровых чашек. Только черные галки, летящие на ночлег, так разбивают тишину.
Он не мог ошибиться: память этого звука — осколок об осколок в вечерней тишине — рождал в нем лишь одни человек: Она.
Оглянулся. Нет. Нет, конечно. Но покой не приходил. И вдруг похолодел, перебежал внизу на поднимающуюся лесенку эскалатора, заспешил, шагая через ступеньки и промахиваясь. Вдруг поздно уже?! Вдруг увели? Или ушла?
Не хватило дыхания. Сбросил шарф.
На лесенке между входом в метро и эскалатором еще было завихрение. Был уже тесный круг. Был уже строгий разговор:
— Чего ей тут стоять?
— Да ее не пустят вниз — пьяна.
— И нечего стоять.
— А вам что, жалко?
— Неприлично. Тут иностранцы ходят.
— Вы и уйдите.
— Это еще почему?
— Потому что иностранцы. Неприлично вас показывать.
— Вот я сейчас милицию…
И правда — какой-то старичок не пожалел сил, потопал по лесенке вверх очень решительно: где у вас тут милиция?
— Пойдем-ка, ты, дурочка. — Парень в замшевой куртке потянулся к ней узкой, мальчишечьей рукой с перстнем на пальце.
— И не дурочка. Не пойду.
И выдернула руку.
Волосы теперь отросли, а глаза из-под челки были то же, и голос с хрипотцой, и эта острая, угловатая мордочка.
Как же он сразу-то не угадал?
— Отойдите все, — почти шепотом попросил он.
Расступились. Он обнял ее за плечи.
— Пойдем, Она. Я за тобой пришел.
Она завела руку ему за спину, вероятно чтобы не шататься, и они легко одолели несколько ступенек и эту адову машину, которая бьет каждого, у которого нет пятака. Но у них были пятаки. У них было вдоволь пятаков и желания бросить их в автомат. Когда поехали вниз, Она спрятала лицо под ворот его пальто и заплакала. Он укрыл ее растрепанную голову шарфом. Она была очень некрасивая, в худшем своем виде, вовсе не была пьяна. Что-то сломалось в ней, какая-то пружинка не держала.
— Что с тобой, Она, милая?
Мотала головой.
— Почему ты не у Юрия?
Не ответила.
Виталий помог ей войти в вагон, усадил рядом с собой. Теперь она плакала, пригнув голову к коленкам. И опять все смотрели на них, полагая, что девушка пьяна.
Вот Юрке было бы безразличие — смотрят, не смотрят. А у Виталия была слабинка: обычно его это смущало. Но тут — даже сам удивился — полное «наплевать на вас», а еще — тревога за нее, нежность, жалость. И вдруг сквозь все это — благодарность судьбе. Будто она сулила ему радостные перемены.
— Мы приехали, Она. Что для тебя сделать? Напоить чаем?
— Да, да, да, — захлебывалась она. — Не бросайте меня здесь. — И добавила как довод, будто Виталий правда хотел бросить ее на улице: — Мне стало плохо там, в метро.
Когда Виталий отпер дверь, навстречу ему метнулась узенькая тень — Пашута. Впервые открыто. И тут же, как на запущенной назад киноленте, втянулась обратно в комнату.
И эта крохотная сценка (эпизод, наверно, если по-киношному) будто вырвала из рук подарок. Надо было (уже надо! — простой долг!) — утешить Ону, надо успокоить Пашуту, снять подозрение.
Выплыла благожелательная Прасковья Андреевна.
— Оночка, ты? Что случилось, девочка? Расскажешь?
И увлекла ее на кухню. И уже сама поила чаем (ах, как Виталий нежно представил себе на миг его и Онино чаепитие!), ей, а не Виталию, сбиваясь и всхлипывая, Она рассказывала что-то.
А Пашута, когда Виталий вошел к ней, не встала ему навстречу. Он погладил девочку по волосам. Она чуть нагнула голову, не отвергая, но и не принимая ласки.
— Павлик, голубчик, у Оны что-то случилось, я ее встретил в метро вот в таком виде.
Пашута не ответила.
— Ты считаешь, я не должен был помочь ей? Пашута опустила голову еще ниже.
— Ну, чего ты?
— Сказать? — Девочка подняла глаза. Они глядели открыто и жестко. — Сказать, да?
— Конечно.
— Я не люблю ее. Я всегда ее не люблю.
— Как это может быть? С чего?
— Она хитрая.
— О господи! Какое заблуждение!
Но Пашута с покрасневшим лицом и влажными, почерневшими глазами уже не хотела остановиться:
— Она хитрая. Она не хочет сама. А все чтобы ей, ей! Чтобы другие!
Виталий удивился. Задумался. Да, пожалуй, конечно… У Оны была взывающая к чужой энергии беспомощность. Но это характер. Не хитрость.
— Но, Пашута, это характер. Так она устроена.
— Такого характера не бывает. — И вдруг улыбнулась примирительно. — Не сердись, папка, я не смогу ее полюбить.
Вот тебе и Лидин металл. Только звенит нежнее.
Виталий обнял Пашуту. Его тронула ее детская ревность, ее прекрасное чувство меры: ведь в любом разговоре хорошо остановиться вовремя.
— Павлушка, можешь не любить. Мы только утешим ее вместе с бабушкой, да? И ты нам поможешь. Ведь не станет человек так плакать зазря. Верно?
— Ага, — ответила Пашута. — И поскорее отправим ее к дяде Юре.
Виталий ушел к себе, сел возле стола, обхватил голову руками. А когда поднял глаза и они случайно остановились на торшере, заметил: на оттопыренном пальчике амура не было кольца с бирюзинкой (еще утром видел).
Там висело другое, очень знакомое — светлый топаз, оправленный в золото. Подарок Виталия к десятилетию совместной жизни. Лида никогда не снимала его. Значит… Значит, была? И что это — знак разрыва? Или знак ревности (заметила, мол)?
И снова ощущение волка среди красных флажков: обложен. Кругом обложен.
Оне предложили остаться на ночь, и она согласилась. Сразу же.
Прасковья Андреевна постелила ей на кухне, куда прежде, во время своих бунтов, уходила Лида.
— Позвонить Юрию? — спросил Виталий.
— О, нет, нет, он еще там. — и она далеко махнула рукой.
Он, стало быть, еще не вернулся из Крапивенки, а ей тут плохо.
— Вы мне оставить валидол? — спросила она.
Валидола в доме не было, Виталий побежал в аптеку. В дальнюю (ближнюю уже закрыли). Да он бы — в любую! Как легко она спросила. И в доме осталась легко. (И уйдет, вероятно, тоже.) Без реверансов, всяких там «спасибо», «ах, я вас стесню»… Натянула Пашутин халатик, поданный Прасковьей Андреевной. «Еще один ребенок! — ликовал Виталий. — Я призван быть многодетным отцом. Не ученым или еще кем, — нет, многодетным отцом!»
Вернулся с сияющими глазами (это был малый, но все же подвиг: он не бегал за покупками), подал Оне стеклянную трубочку с лекарством, Она молча кивнула, деловито растерзала упаковку, положила таблетку под язык. И тогда улыбнулась своей прямой узкой улыбкой, уходящей в уголки рта.
— Спокойной ночи, Она.
— И вам так.
И не смог заснуть. Совсем. Ни на секунду. Это не имело прямого отношения к Оне, по косвенное: свежий ветер, попутный всему, о чем думалось.
зеленые стебли, пробивающие землю; вот так, очень похоже, было, когда отец поднимал на узкой, сухой ладони божью коровку:
и другой жизни, во многом более реальной, чем все, что стало после; или когда уже в юности Виталий вскапывал приречный участок под картошку, а немой деревянный божок с глубоко сидящими глазами и прямо прорезанным узким ртом смотрел на него из щели пня.
Виталий, не зажигая света, пошарил в ящике стола, где лежал отцов дар. Божка не было. Ясно, забился в угол, но встать не было сил. Забился… А не оживают ли божки? Или мы сами вдыхаем душу в кусок дерева и делаем из него фетиш?.. Но нам зачем-то это нужно? Может, это — не меньше, чем предлагаемые нам скорости, расщепленные атомы, блага цивилизации — все, все удобства на стремительно падающем самолете?
Так думал он в ночной тревожный час: вглядитесь в человека (даже если его душа и не бессмертна!), в эту вот сосну, которая, вероятно, тоже не бессмертна (очень может быть!), — разве это не чудо, что растения, как предполагают ученые, имеют болевые клетки и эндокринную систему; что «колдуны» Марокко и Австралии умеют делать полостные операции без крови; что черви, земляные черви, генетически передают потомкам память о вспышках света, при которых их кормили, — и вот уже детки при первой же вспышке, образно выражаясь, разевают рты. И почему, сочиняя рассказ по картинке теста, человек вдруг будто срывается с цепи и вызывает из жизни своей души то, что никогда не проникало в сознание? А сны? А предчувствия? А любовь?
В окис посветлело. «Я, кажется, засыпаю», — думал Виталий, ощущая, как путаются мысли. Но в комнате у Пашуты зазвонил будильник, стало слышно, как, зевая и охая, поднимается Прасковья Андреевна.
День вставал трезвый и пасмурный. И начался телефонным звонком.
— Слушай, Талька, у меня главная исполнительница того…
— О господи, Юрка! Ты же, говорят, в Крапивенке?
— Был. Слушай, Онка пропала.
— Да здесь она. Спит на кухне.
Юрий выругался. Повесил трубку. Так: а) волнуется, б) берет ее на роль.
Ничего, девочка, у тебя неплохо складываются дела.
А Она спала, свернувшись под легким одеялом (вдруг замерзла?), не проснулась от топотанья Прасковьи Андреевны, от их с Пашутой чаепития.
— Папка, чао! — подбежала Пашута и, прощаясь, чмокнула Виталия в щеку.
— Ты что-то озорная стала, Пашка!
Засмеялась: я, мол, такая. А ведь она привыкла за это время! Притянулась к нему!
— Виталь, — позвала Прасковья Андреевна шепотом. Поманила в комнату. — Слушай, Виталь, вчера Лидушка приходила. — И вдруг всхлипнула. — Как же так, а? Стара я, что ли, стала, не пойму вас!
Виталий вспомнил: мама тоже тщилась понять.
— Как хочет, Прасковья Андреевна, — сухо ответил он. — Ее душе было так угодно.
Старуха покачала головой:
— Ребенок ведь растет! — Утерла фартуком пролившиеся слезы. — А эта, — кивнула на кухню, — тоже в бегах?
— Да вроде того. Что с ней? Она сказала?
Прасковья Андреевна сердито махнула рукой:
— Говорить не велено.
Когда Виталий Николаич смотрит на меня и когда говорит — не как все — «Она», — я чувствую, что я что-то значу.
Почему, когда живешь вместе, — все хуже? Ведь Юрий тоже смотрел хорошо. А теперь не так. Теперь говорит: «Ты баба или ты растение? Есть, говорит, такой цветочек — повилика, который обвивается». Я знаю этот цветок. Он красивый. Он тянет соки от другого растения. Зачем он так сказал? Мне ничего не надо. А он думает: надо. Зачем он мне рассказал про своих женщин? Когда он говорил (ночью, было темно), мне так сдавило горло — вдохнуть воздух не могу. Хорошо, что он не видел. Он сердится, почему я нездоровая. Он хвалил Катю. Он любил Катю, а может, и теперь тоже… С ней он испугался сам себя. Катя была сильней, чем он. Она за ним смотрела, как за своим ребенком. Он хочет, чтобы я ему стирала. А ещё одну женщину — он не назвал ее — он не любил. Она была недавно. Она знает меня. Она сказала про меня, что я актриса и что у меня нет площади и прописки. Почему он мне пересказал это? Почему он мне не верит? Я не просила роли. И койку снимала в Измайлове. Если бы Виталий Николаич меня полюбил, я была бы счастливая. Он бы не говорил так никогда. Он красивый. У него желтого цвета глаза, и кожа желтоватая, и длинное лицо, и узкие руки. Он тоже пожилой, но худощавый, как мальчик. Он бывает рад, когда я прихожу. У него очень некрасивая дочка с пятном. И добрая мама жены. Его жену любил Юрий. Мне хочется сделать Юрию больно, чтобы он и меня любил.
Если меня заставить стирать, я не буду любить. Мне не нравится, как пахнет его кожа. Я боюсь играть эту сумасшедшую девушку, которую они придумали. Она мне не нравится. И все это глупости, глупости, потому что я скоро умру. Доктор сказал: «Месяц у вас в запасе до операции. Но за это время надо сделать анализ на посев. Какая ещё она, эта опухоль?» Вот этого я не скажу никому. Ни-ко-му. И мне безразлично, будет он плакать или нет. И пусть не приходит в больницу. Почему он разошелся с Катей, если она ему так нравится?
— Стоп! — закричал Буров. — Стоп, стоп! Еще раз. — И подошел к сосне. Юрий почти не глядел на Ону, сидевшую на качелях, полуотвернулся, чтобы не выдать раздражения.
— Вспомни, о чем мы говорили, Она. Вспомни, о чем фильм!
Она глядела прямо в глаза, качала головой: да, мол, да. И была пуста.
— Ты не просто радуешься забаве, понимаешь? Это твое прозрение. Ты узнаешь в себе то, о чем не подозревала: полет! Не надо мне открытой улыбки. Вдумайся, вслушайся в свое… — Юрка глянул и увидел отсутствующие глаза. — В чем дело? Ты работаешь. И работай, будь добра, хорошо. Мы ждем тебя.
Со всеми он был спокоен, но Она, самая, как оказалось, одаренная, раздражала его безмерно. Ведь это её птичье лопотанье перешло в иноязычье Аленки; хрупкость и легкие косточки дали Аленке полет (физическую его возможность, что ли); ее вроде бы неподвижное, но переменчивое лицо диктовало крупные планы в режиссерском сценарии. И вот она не может выполнить простейшей задачи. Какой ей взлет? Клуша, курица!
— Внимание! Тишина на площадке! Начали.
Володя Заев, разумеется, прекрасно снимет смену света и тени (тени от еловых лап), рождающую ощущение душевного непокоя, тревоги. Он подсветит Онино лицо, слегка деформировав его, сделав странным. Но взгляд, но суть происходящего — в ней.
— Фонограмма! Мотор!
Поскрипывают качели. Вот она взлетела… Застывшие в восторге глаза… И у кого она переняла эту шутовскую гримасу?! А улыбка! Да с такими зубами лучше вообще рта не раскрывать! Идиотка!
— Ты видишь, Талька, что она идиотка?! Какая это к черту актриса?! У нее, наверное, и аттестат-то поддельный!
— Ну-ну, не кипи. Вспомни, как на пробах…
— Помню!
Еще бы! Юрий отлично помнил. На пробах игралась та же сцепа — качели. И она была естественна. Было в ней свое, затаенное, чего не было у остальных. А может, Володя Заев подсветил ее лучше других?.. И все равно она не понравилась. Худсовет не утвердил ее на роль. Ни один не проголосовал «за». Так что Бурову пришлось остаться при своем мнении, заявить, что берет это на себя. Да если он теперь завалит фильм… ему другого как своих ушей не видать. А она тут!.. Связался с бездарью.
— Не то делаешь, Она. Одна радость мне не нужна. Можешь идти с ней на танцы.
— Я понимаю, — беззвучно шепчет Она, и лицо ее вдруг опадает, делается не просто худым, а костлявым.
Нет, она положительно решила сорвать съемочный день. Видно, придется потетёшкаться с ней, «козу» ей сделать, в ладушки поиграть. А, черт, черт, бестолочь! Сколько ведь с ней возился!
Юрий шагает по площадке, натыкаясь на короткие рельсы, проложенные для тележки с камерой.
Нет, она, конечно, не виновата. Что-то я ей не подкинул такое, главное…
— Ну, хватит, Она. Послушай. У тебя когда-нибудь было так? Принесли на день рождения подарок. Завернутый. Ты думаешь — кукла, разворачиваешь, а там — живое, котенок или щенок! Ты кого больше любишь?
— Котенка.
— Ну вот. И рада, и тревожно — ведь живой, шевелится, а? Надо беречь его… Вот тебе котенок. Вот. Шапка моя — котенок. Ну? Попробуй… Нет, нет, меньше внешней радости, вдумайся, уходи в себя. Но радостно уйди… Так, ну… Нет, не то! Давай лучше стихи. Какие тебе стихи? Танечка, поправьте ей грим.
Старая гримерша Танечка снимает тампоном пот со лба.
А Юрий, чуть успокоившись, ждет.
— Ну, какие?
— Про плачущий сад. Помнишь, ты дома читал. Ладно?
— Умница.
И Юрка читает на память из Пастернака, стараясь влить в Ону потаенность, попытку осознать себя и не слишком выявить:
Она слушает. Хотя кажется, что не слышит, думает о своем.
Она совсем замкнулась. Странная девчонка! Другая бы счастлива была, ходила бы как по облакам: первая роль, и сразу — главная. Да если получится у нее, от новых предложений отбоя не будет. Такая особенная внешность. Опять же Володька не пожалел сил (он вообще, кажется, влюбился в эту дурочку!): когда надо, худобу ее выставил, слабость, хрупкость и как-то духовность высветил — блики в глазах, свечение, как бы идущее от волос, — возле неё все темноватые, с грубинкой в лицах. А в сцене гулянки — такой зовущий Онин взгляд поймал, так отлично нашел ракурс вполоборота и свет, убиравший Онкину тяжелую нижнюю часть лица!.. И он, Буров, все отработал с ней, окружил чудовищным вниманием, как все равно великую кинозвезду. А она чего-то мается, вздыхает. Ей всегда мало. Ничего вроде не просит, а что даешь — мало.
Вот, слава всевышнему, приобрела с помощью гримерши человеческий облик. Задумалась. Правда, грустно задумалась, но хоть не этот идиотский оскал!
— Так, Онка, то есть Аленка! Ты же особенная — готовая навзрыд при случае, готовая полететь… поднести к губам, прислушайся… Ну, ну… Володя! Заев! Пошли! Сперва вот эти сцены снимем: остановилась, удивленная, после качанья. Так… И сразу Аленкину песню.
Володя снял Онино застывшее, оторвавшееся от происходящего лицо, недоуменный взгляд. И все. Теперь она застыла в этом слушании себя. Нужен переход в радость, потом — прилив сил от чувства полета и чтоб это все перешло в песню. А Она будто заснула.
— Стоп! Стоп! Остановить качели!
О господи! Наработала одно состояние, а перескочить в другое не может. Разве это артистка? Надо было не снимать ее, не брать. Она же сама говорила: отпусти, больна, жду анализа. Э, какого такого анализа? Что-то Юрий не очень понял и не спросил. Ну да, десять дней… Да ведь она не сказала ему, вот что! Он плохо спросил, а она не сказала. Замкнулась. Может, волнуется о себе? Ведь это серьезное. Он примерно представляет себе, что это за десять дней, что за посев. Может, ей не до роли, а? Как же так. — идет съемка, а ей не до роли? Ждет анализа. Но ведь, дьявол вас погладь по макушке, мы должны снять сцену?!
Юрий подошел к Заеву:
— Получился кусок после качанья?
— Порядок.
И, пугаясь своей выдумки, подозвал Ону:
— Молодец. Спасибо. Не устала?
Она была довольна, но — как-то не так. Не было полной радости, что получилось, и не было состояния, когда человек еще не вышел из роли. Не вся она тут, не вся!
Юрий помедлил и все же решился:
— Да, Она, совсем забыл: я звонил в лабораторию — у тебя все в порядке.
Она трепыхнулась навстречу, боясь верить:
— Но это немножко-немножко рано сказать. Только через десять дней.
— Уже кое-что видно. А через десять дней — наверняка.
В глазах у нее показалась искорка живого. Да, да, вот такая и нужна!
— Онка, если не устала… Не устала?
— Нет, что ты.
— Иди на качели и повтори-ка переход — от этого «к губам поднесу и прислушаюсь» к новой попытке полета и к песне. А то Володя запорол там что-то.
Нет, снова уйти в себя ей толком не удается. Ну, да пустяки, это уже есть, склеим. А перейти из затаенности в радость открытия — да, да! Вот оно! Оттолкнулась ногами от земли, сперва тихонько — недоуменный и счастливый взгляд и выкрик — странный, хрипловатый. Отпустила верейки, разбросала руки:
— Лари-а, ари-ла!
(Какая уж тут песня! Онка птица не певчая!)
— Идет! Хорош! Дубль давай!
Позже Володя, взгромоздясь на качели, снимет другие кадры, с точки зрения Алены, — взлет: ветки деревьев, облака — и вниз: стремительно набегающая земля, корень, трава, вытоптанная возле сосны площадка.
…Шли последние съемки.
Давно уже стаял снег — тот, по которому топал старый солдат Чириков; побурела прежде белая, чистая поляна, с нее начинался фильм — поляна в лесу, последний снег, теплое солнце, мягкие, уже весенние тени и черная точка в небо — первый жаворонок. Потом перестрелка — напавший на горстку наших солдат остаток разбитой немецкой части. И среди них — житель ближнего поселка. Может, «вервольф», а может, просто эсэсовцы сунули ему в руки винтовку: сражайся за Германию. Он в штатском, в башмаках, промокших от снега. Поселок сгорел, и вместо со «штатским солдатом» бредет его жена, прижимая к себе пятилетнюю дочку. Никто не рассчитывал встретить врагов — ни они, ни наши.
Эту поляну снимали много раз. И для начала, и для середины. Очень торопились: нужно было непременно со снегом.
(Вот тут-то и показал первые зубки Тищенко. Ну, да дело прошлое.)
Белый фон, снежные наносы на кочках, темные ели. Это для титров. Когда титры уходят (вернее, будут уходить), над поляной — жаворонок. И яркий-яркий свет весны.
Поскольку поляну потом предстояло вытоптать (перестрелка, перебежки, короткий бой), делали много дублей.
Потом снимали бой. И дальше в зыбком, неровном свете (о, сколько Заев и осветители возились с этим!) — в нереальной дымке памяти Аленкиного сна — та же поляна, но со сближенными елками (навтыкали), с птицами над копешкой сена, с торчащим из снега колоском.
Внезапный бой оглушил, ослепил девочку, ей на миг люди, елки, колосок — все показалось белым на черном фоне. Грянули выстрелы, и она прижалась к копешке, а женщина, которая до того всю дорогу несла ее на руках и которая ей, ребенку, казалась сильной и могущей защитить от всего, — вдруг пропала куда-то. И совсем рядом, возле копны, лежал «штатский солдат» — отец. Но она не поняла этого, а видела качающийся колос возле башмака. Она не решалась глянуть дальше.
Это видение посещает Аленку часто, она в разных ракурсах видит поляну и молча, испуганно прижимается к колючей шинели солдата Чирикова.
Перед девочкой всплывает лицо женщины. Женщина ранена, ее несут на носилках, она кричит что-то. Немецкие санитары оглядываются, ища кого-то, но кровью набухает пальтецо женщины, а перестрелка все разгорается. Это лицо мерещится девочке и в той случайной избе, куда внес ее солдат.
Изба эта далеко от поляны, они оба устали. В деревне темно. Чириков стучит, ему открывает старая, костлявая, почерневшая от войны женщина. Она испуганно отступает. Озираясь на окна, вздувает самовар. А потом вдруг, что-то поняв и оценив, достает из печки хлебец — смешной такой хлебец-уродец из ржаной муки, перемешанной с травой. У него продолговатое хлебное туловище, над которым выступает хлебная голова, а два свекольных глаза глядят прямо на девочку.
— Кушай, дочка, — говорит женщина, — бог с тобой. Для ребят выпекла, порадовать — праздник ведь.
— Какой праздник-то? — удивляется солдат. Он обводит взглядом избу.
— День жаворонка, двадцать второе марта.
Ребят нет. Живы ли они? Солдат горько и благодарно смотрит на женщину. У него тоже дом пустой.
Ржаной жаворонок — первый толчок доброты, коснувшийся Аленкиного сердца. После той беды, того боя. Она греет руки о шершавые его бока, разглядывает, что-то шепчет ему…
— Кушай, дочка.
Нет, она его не съест. Возьмет с собой. На память. И на радость. Он усохнет и растрескается, но девочка будет хранить его — сначала как игрушку, а потом, подросши, — как зарок великодушия.
Маленькую девочку, очень похожую на Ону, нашел Вася Стеклов — второй режиссер, мастер по части неповторимых лиц. Девочка была, как говорится, «с улицы», ничья из кинематографистов не дочка. Но уловила все быстро, и искренность ее была безгранична.
Она хорошо перехватила у девочки Аленку в ее тринадцатилетней подростковости. (Было трудно, но получилось.) Она почти не говорит. Слышит, понимает и молчит. И долгим вопрошающим взглядом глядит на старого Чирикова.
В этой замкнутости, в угловатости, в дикой какой-то нелюдимости Она была не меньше естественна, чем девочка. Буров с Володей Заевым безжалостно обнажили ее острые локти, тонкие ноги, которых Она стеснялась до слез. Володя светом чуть округлил лицо, сделав его моложе. Девочка получилась странная и болезненно заползавшая в сердце.
— Скажи: «Папаня!» — учил ее Чириков. — Покликай меня: «Папаня, пойдем по грибы».
Она тянула к ному зверушечью мордочку, лоб ее морщился — вот-вот заплачет.
— Ну-ну, — говорил старик, — полно. Бери-ка лукошечко. Пойдем.
Девочка успокаивалась, притаскивала корзинку, и они шли в лес. Чириков молча показывал ей гриб. (Все было заранее посажено для съемок, что очень огорчало Виталия, — ведь лес и так был полон грибов! Нет, какие-то киношные особенности не давали спать вот тот, живой гриб, а только этот, сорванный, почти муляжный!) Чириков отводил ветку, и Алена застывала перед дивной, полной тайны картиной: птица в гнезде. Потом птица слетала, а там оставались яички — крохотные, бережные и уже живые.
И девочка вдруг прижималась к старику — всего секунда, — но он успевал провести шершавой рукой по мяконьким ее волосам.
Аленка рисует. Рисует странно и тайно от подруг (только Чирикову дозволено видеть). Вот огромная оса, сидящая, как на крыльце своего дома, на ветке сухой сосны. Оса велика несоразмерно иглам, веткам и самому дереву. Она хозяйка здесь и глядит осмысленным, нечеловечьим взглядом.
…Глаза Чирикова — только глаза, но их достаточно для портрета. А еще — лицо незнакомой женщины. Молодое лицо, искаженное страхом.
— Кто это? — спрашивает Чириков.
Аленка пожимает плечами. Это лицо из ее снов и видений, где эта женщина укладывает ее спать, играет с ней в саду, ведет к какому-то дому — городскому, серого камня, вытянутому вверх, с окнами, похожими на бойницы…
— Кто это, Аленушка?
— Не знаю.
Буров и Виталий уже смотрели однажды снятые куски.
— Видишь, а? — азартно спрашивал Юрий. — Здесь живой нерв есть. Должно сложиться. Если, конечно, монтаж не запорю. Да что ты! Я башку об этот монтажный стол расшибу, а сделаю!
— Меня возьмешь в монтажную?
— Приходи. Отберем. А звук я сам буду класть. Тут — не оглянись, не промахнись.
Юрий был бодр, возбужден. Виталий дивился, как легко он находит слова для актеров, как следит, чтобы не терялся темп от куска к куску. Юрка все держал в памяти. Смешно, но даже костюмы — кто в чем был одет, — хоть, ясно, это дело не его. Он был деспотом на съемочной площадке. Но поскольку ярок, точен, сметлив, все принимали его деспотизм как должное. Даже Володя Заев.
— Слушай, хватит мне этих световых чудес, — сказал ему как-то Буров. — Умерь индивидуальность. Не самовыявляйся. Пусть эта сцена пойдет в простоте. — И добавил мягко: — Мне тут передых нужен.
Володя, который обычно обижался легчайше, не возразил и велел снять задний подсвет.
Старая гримерша Танечка, костюмеры, осветители, вся операторская и режиссерская группы, не говоря уж об актерах, были не просто готовы к съемкам, а по мановению короткого буровского пальца как в бой кидались — так он их наэлектризовал.
Виталий помнил: Юрка и в школе был командиром. И зачем-то спрашивал себя, примерял чужие одежки: «А я бы смог?»
И зря думал об этом. Нет, не смог бы, не смог. Не та хватка! Есть профессии, для которых надо родиться: то есть не только в таланте дело, но и в характере. Талант должен быть поддержан характером.
Буров с начала работы вел записи предстоящих дел:
Директора подобрать (чтоб без Тищенки).
Лучше подождать Стася Петрова.
Еще раз — см. смету.
2-й режиссер (чтоб непременно был Стеклов).
Добиться Заева с 15-го.
См. павильон — изба — плохо!
Рано тает! Как быть?!
Ускорить выезд на натуру (снег тает). Машина (заявку!).
Она…
Юрка усмехнулся над этой записью. Ведь он хотел заменить Ону! Была такая нелепая мысль! Разве нашел бы? Хорошая оказалась артистка. Вот ведь примитив, а таланту бог дал вдосталь. Работать с ней тяжело. Устал. Вообще устал. А впереди весь монтажно-тонировочный!
Вот я и потеряла все. Как в той птичьей сказке. Эта женщина, царевна, говорила: «Только не спрашивай, кто я!» Но человек всегда спросит. Ему все надо. Узнает и сожжет крылья. А ведь у нее тайна была. А мне был выбор: с ним быть или роль играть. Дура я, дура! Мне бы отказаться! Все про меня узнал и перышки мои — в огонь!
Нам в институте часто говорили: на сцене сквозь роль просвечивает нутро актера — ну, какой он, значит, человек. Я не верила, потому что бывает, что дурные люди играют прекрасных и все в зале плачут.
Он выпотрошил все мое из меня. Теперь хорошо меня знает! Велел вспомнить детство, и первую любовь (как я была влюблена в соседского мальчика Олави), и даже отца. Отец у меня был добрый, тихий. И все при нем были добрые и тихие, даже мама (теперь-то она другая!). Мы тогда уже в Юрбаркасе жили (теперь мама сдала часть дома), и у нас была пасека (и пчелы тоже добрые), был лохматый пес Блускис… Отец меня в поле с собой брал, вроде как Чириков Аленку (мы ведь крестьяне), о траве, о посевах рассказывал. Только я так не болела, как Алёнка. Но теперь мне кажется, что и я болела. И когда Чириков наклонился над ней, то есть надо мной, и шепчет, будто молится:
— Дочушка, пожалей ты меня, дочушка, родимая! — я заплакала.
Юрий рассердился. За дело, конечно. Только ведь мне-то никто таких слов не скажет. И я остановиться не могла. И он не скажет. Теперь. А ведь он добрый. А что на съемках обманул: «звонил, мол, все у тебя в порядке», — так это не для себя. Для дела. А потом — ведь и верно, ничего плохого не нашли. Хотя он, конечно, об этом не знал. И почему в голову все он лезет? У меня обида: он и сказки, может, для дела рассказывал: посадит на колени, как маленькую, и рассказывает. Еще — стихи… Неужели только для фильма? Нет! Нет! Неправда это! Он прежде на меня смотрел так — чуть вбок, — это при других. А уж когда мы вдвоем — особенным, «нашим» взглядом: что вот, мол, мы вместе и что я ему нравлюсь. А вчера посмотрел спокойно так, открыто, кивнул даже. И ничего не пробежало из его глаз в мои. Я знала, что так будет. Знала. Все перышки он мои пожёг. Все до одного.
Диспетчерская до 12-ти.
Ролик № 1. Поправки.
1. Титры см!
2. Выбросить сапоги (вагон).
3. Чище переход к деревне.
4. № шифра.
5. Монтаж «по Домье».
Полсмены с 20.30 до 24-х.
Выбить смену (с 16 до 24-х).
Ролик № 1.
Переход из зтм в зтм (не выйдет — выкинуть!).
Проход у реки — 2-й дубль.
Следы на песке запороты! (Искать!)
Аленка безобразна (см. дубли).
Монтажный стол, маленький экран, с двух сторон — диски. Тут режут пленку, склеивают ее липучкой, то есть скотчем, давят прессом.
— Талька! — оборачивает Буров воспаленное лицо. Подвижная ноздря его так и ходит. — А? Гений Володька, да? — Но чаще, гораздо чаще наоборот. — Ну? Можно из этого дерьма слепить хоть полфильма?
Обычно Виталий видит его лохматый затылок. И даже затылок сосредоточен и напряжен. Режиссер лепит фильм. Работа, конечно, адовая, и Юрий жадно выкладывается.
— Смотри в оба! — вопит он Виталию. — Мамаша пошла!
На экране пожилая женщина в платке. Черты мягки, обычны. Это — Нина Смирнова. Но ее не узнать: грим, свет. Сперва не обращаешь внимания — идет и идет человек вдоль деревни. Но вот она у Чириковой избы. Быстрый тревожный взгляд ее — на окно. Не просто тревожный: в нем ожидание, тоска, страх. И вдруг сдвинула брови, увела внутрь все, что было на лице. Стучит в окно. Аленка метнулась за стеклом, распахнула незапертую дверь: входите.
— Ты кто? — спрашивает женщина.
Говорит не как все. Чуть уловимый акцент выдаст нездешнюю. Аленка глядит молча.
— Кто там, Аленушка? — слышен старческий голос из избы.
Алена все молчит и смотрит. Потом зовет женщину:
— Войдите в избу.
И та идет. Заново, ее глазами, видятся сени, ведерки с водой, прикрытые деревянными крышками — аккуратными, Чириковой бережной работы; потом — комната с Алениными рисунками, странными: вот огромная оса в сухих еловых ветках, вот — во весь холст — мухомор, похожий на еще не раскрывшийся цветок, а у его подножья крохотная, забытая человеком корзинка (человеком, который рядом с этим грибом не больше гнома). А на другой степе, возле семейных фотографии, — портрет.
Женский.
Гостья сбрасывает платок. Всматривается.
Теперь видно, что это одно лицо — молодое и старое. Лицо той женщины, которую уносили во время боя. Алена прижала руки ко рту, чтобы не крикнуть. В это время из-за переборки выходит старик. Ему не надо портретов. Он понял сердцем.
— Поди, дочка, достань из колодца молока, — просит он. И видно, как руки его трясутся. И что он стар. И потерян.
Он и женщина долго молчат, глядят друг на друга.
— Я приехала… — начинает женщина.
— Угадал я, — отвечает Чириков. Они замолкают.
Алена приходит с бидоном. Собирает на стол. Она хрупкая, тоненькая, но совсем уже взрослая девушка. Растерянность ее не прошла, но она так же, как пять минут назад эта женщина, свела брови, втянула свое в себя.
— Ты знаешь, кто есть я? — спрашивает женщина. Алена тянется к ней глазами:
— Да.
— А знаешь, зачем я здесь?
Алена медленно опускает голову, лица ее теперь не видно.
— Marta, mein Kind! Erkennst du mich nicht? — шепчет женщина в растерянности, радости, в страхе новой потери.
И девочка гнется ниже — и тихо:
— Ма… — И вдруг бросается к женщине. — Мама!
Чириков недвижно сидит, отворотя голову к окошку.
Буров отбирает, режет, лепит куски. Пока лента не озвучена: никаких слов нет, — Виталий просто помнит их. Он знает, что позже монтажница подложит фонограмму по хлопушке — два движения помрежа на пленке совпадут с двумя хлопками-звуками. И тогда все они заговорят синхронно, как говорили на съемке. Но это еще черновая фонограмма. Потом будет озвучивание в павильоне. Правда, эта сторона дела ему так же темна и тяжела, как подсчет деревьев в лесном хозяйстве и как отчеты в институте. А вот Юрка! В перерыве (надо же монтажнице отдохнуть — Юрка-то сам и не отрывался бы!) он как в лихорадке — и все о том же, о том:
— Виталий, я что думаю: сколько у нас было трепа о высокой плоскости, о духовности. А фильм-то получился того… бытовой. Не вышло! Не вышло ни черта!
— Ну, старик, не ожидал от тебя! Ведь этот Чириков, простой, вроде бы даже темный человек, — ведь он птицу воспитал! Человека птичьей высоты. Такого полета звонкого!.. Да есть ли выше духовность, чем его? А та сцена, когда Чириков с Аленой сидят в избе, сумерничают…
О, это было все не просто так. Не просто «сидят в избе».
Когда Алена кинулась к матери, Чириков застыл, повернувшись к окошку. Женщина гладила девочку, подняла ее смутное, заплаканное лицо. Алена старалась не глядеть, прятала голову на плечо у матери, и тогда мы видели, сколько в ее лице радости, которой она не дает прорваться. Не даст, потому что рядом, в избе, тот, кому она обязана жизнью.
— Endlich habe ich dich wieder, mein Herzchen! — шепчет женщина.
— Мама, я… я не понимаю. Ich habe alles vergessen! — плачет Аленка. — Я забыла.
— Девочка, а я выучила… выучила язык, чтобы найти тебя… Я знала… Я надеялась.
Теперь они обе плачут навзрыд, и снова перед Аленой знакомая поляна, перестрелка, копна сена и это лицо — вот это самое, только молодое, бледное, искаженное мукой и страхом — страхом за ребенка. Видение ее, наконец, обрело плоть. И она потрясена.
— Мы поедем домой… Ты помнишь наш дом? — говорит женщина, сжимая худенькое родное тело.
Но тело это вдруг напрягается, деревенеет. Девушка оглядывается на неподвижно и отсутствующе сидящего старика. Каждая морщинка его добра. Прищур светлых глаз, попытка казаться спокойным — она знает все это, и понимает, и любит до самых тайных своих и заветных глубин. И мы это видим по ее лицу, по нежности и состраданию в ее глазах.
— Мы можем поехать… — Женщина смотрит на ручные часы. Потом прослеживает взгляд дочери. — Если хочешь, не сегодня. Можно завтра.
Но Алена уже не сводит глаз с Чирикова.
— А папа? — спрашивает она. Но спрашивает робко, без веры, потому что знает: Чирикову не будет места рядом с ними… рядом с матерью.
И женщина, поняв, что решается в эту минуту, говорит жестко:
— Твой отец убит. — И, отважившись, добавляет: — Вот кто убил его.
Чириков резко поворачивается. Лицо его беспомощно.
— Я не убивал.
— Я видела, — женщине уже нельзя, теперь уже некуда отступать, — вы спрятались за дерево… Все отбежали, а вы — за дерево. Чтобы прикрыть их огнем.
— Я был ранен, — точно оправдываясь в своей храбрости, говорит Чириков.
— Это безразлично. А мы с мужем и с дочкой были возле копны. Вы помните?
— Девочки не было.
— Я ее спрятала в сено. Но вы стреляли в ее отца. Он был в штатском. Помните? Помните?
— Не помню я его. Но даже ежели… то была война, — отвечает Чириков, не пытаясь убедить. — Он тоже стрелял.
Перед глазами Алены снова поляна, истоптанный снег, потом этот качающийся колосок. И — полное доброты лицо чужого солдата, такое, что она сразу потянулась навстречу. И как он бережно поднял ее, дивясь легкости маленького тела. Она перевела взгляд на колосок, и он сорвал для нее, раз уж она просит. И как потом в незнакомой, чужой избе мыл ей в окоренке ноги, тер своими огромными ручищами — ласково и тоже бережно. И эта хозяйка избы с почерневшим лицом, жаворонок из ржаной муки… Алена невольно оглянулась на полку, где стоял он, усохший, растрескавшийся.
— Я не знаю, — говорит она скорее себе, чем матери.
— Но он убил твоего отца.
— Да как же я мог? — вдруг будто просыпается Чириков. — Как же я мог себя-то убить? Ведь вот я. Вот он я, ее отец. — И совсем тихо: — Я, может, и выжил-то потому, что нужен был ей, Аленушке.
— Ее зовут Марта, — холодно отзывается женщина.
Девушка вздрагивает. Как кнутом прошлось по ней новое имя. Чужое.
— Это, наверно, другую… — умоляюще возражает Чириков. — Мою — Аленушка, Аленка.
И — совсем безнадежно:
— Пусть она решает. Ей жить. Мы-то уж…
И вот они вдвоем в избе, в неверном свете белого северного вечера, — Чириков и Алена.
Женщина лежит в летней избе, где постелила ей дочка. Она, конечно, не спит. Но что-то мешает ей выйти, разрушить разговор, который (она это отлично понимает) ведется между двумя людьми, одного из которых она так любит, а другого не умеет простить.
— Эх, доченька, это великое дело — мать. Ты не обижай ее. Это я тебе по совести говорю. А если по сердцу…
Аленка подходит к семейной фотографии, висящей на стене, показывает на маленькую девочку в длинном деревенском платье. Девочке года два-три, и она сидит на руках у молодой, гладко причесанной женщины.
— Это я? — спрашивает Алена.
Чириков кивает. Она смотрит на женщину:
— А это… — И не договаривает, встретив горестный взгляд старика. Ей открывается вся огромность его утраты. Он второй раз теряет дочь. Второй раз.
И тогда она, обычно сдержанная, вдруг обнимает его. Сердце ее разрывается. Девушка не плачет, но отчаянию ее нет конца.
— Я не могу, — говорит она. — Не смогу…
И не совсем ясно, чего она не сможет — уйти или остаться.
И тогда Чириков; ласково отстраняя ее, подходит к комоду, достает оттуда старую деревянную шкатулку.
— Что ты так-то уж сгорилась, Аленушка? Не вся твоя жизнь в стариках. Придет пора — полюбишь хорошего человека…
— Ты как сказку говоришь… — вздыхает Алена.
— А что ж сказки? Они из жизни идут. Полюбишь, начнешь семейно жить. Как в церкви-то прежде при венчании читали: «Отлепись от отца с матерью, прилепись к мужу своему…» Так и есть оно, уж я знаю. А у меня вот… приданого-то не собрал… а колечко только. Наше, семейное. Ты береги. А будет у тебя дочка, так — ей. Потом. Когда в пору войдет.
Аленка взяла тоненькое колечко с бирюзинкой.
— Хм… Дочка… У меня…
— А что? Будет, будет. Это ведь счастье какое — ребеночек в люльке. Да при муже-то хорошем…
Притихла Алена, думает о своем. А вдалеке, на другом конце деревни, начинается гулянье. Медленная девичья песня — без гармоники, на несколько голосов:
Алена встрепенулась: молодая ведь. И Чириков кивнул ей ласково:
— Иди, доченька, иди погуляй. Да косыночку-то надень. Больно уж она тебе личит.
— Все! — говорит Юрий. — Не соображаю больше. — Смотрит на часы. — Ого!
Они выходят из монтажной. И Виталий тоже чувствует — устал. То есть он-то сам давно устал и практически перестал быть полезным: сообразить, к примеру, какой кусок лучше, уже не мог.
— Эх, боюсь, налепил не то, — говорит Буров, сбегая по лестнице. — Много там быта прет. И сантимента. Не то я хотел, не то!
— По-моему, в меру, — отвечает Виталий. Ему нравится то, что выходит, что постепенно начинает проступать. — Есть там, Юрка, не абсолютная буквальность, понимаешь?
— Не! Не понимаю.
— Ну как же так? Бывает в искусстве, в любом — живописи, литературе, кино — все похоже, похоже — не придерешься…
— Правдоподобием это называется, мой друг теоретик. — И смеется. — У меня был приятель, он почти ни одной буквы не выговаривал! Он бы сказал «теаэтик», что с той же охотой могло бы означать «человечек». Ну, так что, теаэтик?
— Ну тебя, сбил. Так вот я про что. Чего смеешься?
— Сметлив. А тебя, между прочим, сроду не собьешь.
— Ну и не пробуй. Так вот. Бывает так, все похоже. Стол — это стол, изделие из древесины. Снег — снег, — замерзшая вода. Человек — одушевленное скопище клеток, всяких там генов, хромосом, РНК, ДНК…
— Чего-чего?
— Неважно. Кислоты такие — рибонуклеиновая в дезоксирибонуклеиновая; — это я убиваю тебя эрудицией. Чтобы сквитаться за твой чертов дар. Комплексую.
— Какой дар?
— Потом. Я о фильме. Видишь ли, Юрка, я ведь тут сбоку припека — полуавтор, статист — и потому могу судить трезво. На сцене — ты. Но мне кажется — есть в том, как ты снимал и как монтируешь теперь, есть нечто, что держит фильм выше буквальности. Есть еще что-то поверх быта, плоти…
— Должно быть. Должно, — уже серьезно кивает Юрий. — А что быт — так ведь в чем ему, духу-то, удержаться, как не в плоти.
Они выходят на улицу. Воздух уже темен, огни из окон и от фонарей едва разрежают тьму. Идут молча, и Виталий каждым нервом, каждой клеточкой кожи чувствует Юркину взвинченность. Но он не знает, что это уже другие заботы, потому что назавтра опять все заваливается.
…Найти голос
(Лина Строева не может).
Попросить 4-й тон-зал для репличного озвучания.
Диспетчерская!
— Ты меня слышишь, Юрка!
— А?
— Я говорю — ты убедителен. Понимаешь?
— Ты про что, Талик?
— Что все вращается вокруг тебя. Всё и все.
— Так я — режиссер. Вокруг костюмера им, что ли, вращаться?
— Не о том! Ты же знаешь, о чем я. Если бы ты остался со своими картинами, то я, и Она, и Володя Заев, и сто людей еще бегали бы к тебе смотреть их, спорили бы о выставках, о художниках, о колорите, рисунке, мазке, фактуре — черт знает о чем еще!
— Ну?
— Что «ну»? Не со всеми же так.
Юрка вдруг рассмеялся.
— Талька, ты завидуешь моему могуществу, а? Не скрывай! Скажи мне всю правду, не бойся меня, в награду любого возьмешь ты — знаешь кого?
— Догадываюсь.
— Прав я?
— Наверное. Ведь эта веревочка, Юр, еще с Крапивина вьется.
— А как же. Два взаимных завистника.
— Неужели и ты? Чему, Юрка?
— Всему. И изыску этакому, узкому лику, как с иконы, и культуре, и эрудиции твоей проклятой. Начётчик чертов! Книжный червь! Ну, и… сам знаешь. Это уж после. И ведь только в Москве узнал. Позвонил тебе — тогда, после встречи. А она подошла. Меня — как током! Ладно, дело прошлое. Ты ее не больно-то счастьем одарил.
Юрий теперь говорил тихо, бурчал себе под нос. Виталий едва улавливал.
— А ты бы? — почему-то спросил он, дивясь своей бестактности. Никогда ведь не говорили об этом. И не следовало.
— Я бы? — Юрий вдруг остановился, глаза сузились, лицо смялось, как в первый день их знакомства. Вздрогнула, ожила подвижная ноздря. — Я бы? Тогда? Если б она… ко мне? Да я бы… Я бы… — И задохнулся. Потому что, видно, и любовь эта, эта именно, была подвержена такому же азарту, такой же самоотдаче, как все, на чем сходились лучи его живого интереса. — Да не было бы счастливей женщины! Все бы двери ей отворены, все цветы дарены, все ее прихоти… А хочешь еще честней? Я тебя убить хотел. Думаю — подстерегу там, в твоей этой московской улочке… Потом понял — куда мне. Но смерти я тебе, Талька, желал.
Они стояли посреди площади — Юрий бледный, взбаламученный, Виталий не глядел на него: щурил глаза, всматриваясь в плетение веток чьего-то дворового тополя. И — смешно! — ощущал себя чуть выше (ведь тот, кто слабее чувствует, всегда больше защищен) и тут же завидовал (опять завидовал!), что никогда не мог так. Не мог разрешить себе.
— А теперь, Талька, — Юрий прижал обе руки к груди, — вот — честно — я рад. Я бы, может, без этого… без горя… так в работу не влез. Я не умею делить пирог: вот тебе, а это не тебе. Не умею. Устроен по-дурацки. И мне мешало бы.
«А Она?» — хотел спросить Виталий, но не хватило храбрости. Поскольку это ему, Виталию, было важно. Было. Против воли. И еще подумал о себе: разве мне-то не мешало? И ответил честней те: нет. Так и сказать нельзя. Меня это съело. С потрохами. И не было щита, чтоб заслониться. Не было того, что стало бы выше любви, выше долга. А пристрастие было? Было. Эти самые ДНК и РНК и попытка подглядеть одну из бесчисленных тайн природы, чтобы за ней оказалась другая, третья, чтоб разверзлась потом пропасть вроде вселенной и оказалось, что ты увидел одну из крохотных звездочек среди бесчисленных еще не открытых.
Но заболела мама… Но начались драматические нелады с Лидой, потом рождение Пашуты, довольно-таки ощутимая бедность. И — не позволил себе, не отважился. Чувство долга? Пусть так. Нет — осторожность. Робость. Та впитанная из тревожных сумерек, окружавших маму, ее слабые плечи, ее пугливый взгляд:
«О мадам, то, как проходит наше детство…» Теперь они шли молча — каждый в своем — до перекрестка, где обычно прощались.
— До свидания, мой режиссер.
— Приятных снов, соавтор. — И вдруг рассмеялся. — А все-таки она у нас полетела, а? Фильм засыпали, но Алена полетела. — И добавил доверительно: — Онка до того не в форме была, я боялся: мы с тобой взлетим, а она останется. Как в том анекдоте, знаешь, — поезд отходит, провожающие успели впрыгнуть, а тот, кого провожали, пассажир — нет! — И вдруг оборвал: — О, чуть не забыл. Она завтра уезжает к себе. Приходи провожать. — И сжал руку. — До завтра.
Виталию показалось, что разговор был нарочно оборван. Жалеет? Не хочет расспросов? Впрочем, он и прежде так: «Ну, до завтра».
Он сказал, что я кошка, что привыкла к дому, а не к нему. И что пусть я уезжаю. Потому что я много беру его времени и он не может работать, когда я за спиной все время плачу. Я сказала, что я не буду плакать, а он говорит: все равно. А куда мне ехать? Если в Юрбаркас, так мама меня не примет, потому что она вышла замуж. Она сказала, что вот я старая, а вышла замуж. И тогда я написала, что я тоже вышла. А она ответила, чтоб я теперь присылала ей деньги. Разве ей муж не дает?
Он говорит, что я плачу. А как же не плакать? То я болела, теперь он прогоняет. Я могу поехать к Юргису, он мне пишет письма. Он тоже режиссер. И имя то же. Но у него есть жена. Может, он ее бросит? Но Юргис не сможет так махнуть рукой за голову — э, пропади все пропадом! И он не скажет так: «Онка, счастье ты мое несуразное!» И что я дурочка, и что я зверушка, и что я птича (потому что по-русски «птичка» слишком ласково). И сказку никакую мне не расскажет. Я совсем не могу спать. Я все время об этом думаю. А он вчера проснулся, поглядел в мои открытые глаза и сказал: «Не вынуждай меня на благородство. Тебе же будет хуже».
Про что он сказал? Может, про то, чтоб меня здесь оставить? Мне бы не было хуже.
А еще он сказал, что я запустила квартиру, что так грязно не было. Это неправда. Было так же. А сейчас он пошел покупать мне пальто: мы вчера у одной артистки мерили — она продает. Может, мне не ехать? Но он сказал: «Онка, у нас с тобой — всё». «Всё» — это по-русски значит ничего. Ну, пусть хоть пальто купит. Юргис никогда не сделает так. Только если женится. А вдруг он на мне женится?
День выдался темный. Ветер нес пыль и мусор. И всё в лицо, в лицо! А в небе шевелилась сырость. И вокзал был серый, и стояли они как на юру — кругом видны, продуваемы ветром. Хорошо еще, что пришел Алик. Он притащился с легким чемоданишком, был не к делу весел, а сам все заглядывал в глаза: пристроит ли его Она в родном своем городе куда-нибудь на квартиру; не сердится ли Юрий Матвеич Буров, что он едет с Оной; не мешает ли Виталию Николаичу и Юрию Матвеичу на этих проводах? Надо, надо развлечь, возместить убытки! И он старался.
— Ну что ж, друзья, вот и наша Она приобщилась… Возьмет людей за души. Такая роль — потрясение! — И хихикнул. — Как говорится, роль берет за душу, а актёр — за роль, ха-ха!
У Оны был такой уж не обогащенный вид — старенькое пальтецо, плохо отглаженные брючки, цветной платок, обтянувший узкую мордочку и подчеркнувший бледность и худобу. Она какое-то время побыла все же красивой, счастливой, принаряженной. Еще когда была «хлопушкой». Теперь ей вроде бы снова было все равно.
Юрий удивлялся прежде:
— Почему ей ничего не надо? Ведь я помню: купил новые ботинки, впервые — хорошие, так на них будто крылья выросли, прямо летал по Москве. А Онка…
Ее кожа была лиловатой от ветра, глаза совсем тусклы, будто это и не она на качелях, с сиянием вокруг головы…
— Она, знаешь, как здорово ты получилась на качелях! Мы с Юрием вчера…
— А?
Виталий обнял ее за плечи, отвел в сторону.
— Что случилось, Она? Я не могу помочь?
Покивала головой: нет, мол, нет. И улыбнулась жалко. Ах, какой бы Лида на ее месте выдала парад победы! Как ослепительна была бы ее улыбка (чем хуже ей, тем ослепительней!), как ярко блестели бы зубы, а голос отзванивал триумф. Неужели Юрке нужно такое? Сила, во что бы то ни стало, сила, даже вопреки здравому смыслу?
Он подумал об этом, потому что видел: Юрий раздражен. Не опечален, не смущен, а зол. Зато Алик…
— Виталий Николаич, Она, идите сюда, есть новая хохма!
— К дьяволу! — огрызнулся Буров.
— Нет, послушайте! Следователь спрашивает женщину:
«За что вы убили мужа?»
«Надоело, что он пускает дым колечками».
«Но так поступают многие курильщики».
«В том-то и дело, что он никогда не курил».
Алик засмеялся, взглядом приглашая к смеху остальных. Виталий улыбнулся. По щекам Оны поползли две здоровенные слезы: она ведь тоже никогда не курила, а дым колечками надоел. Так ведь?
— Ты сегодня прямо снайпер непопадания, — цыкнул на Алика Юрий.
Но тут, всем на радость, подошел поезд. Стали втаскивать Онины вещи (их оказалось много, насовсем, значит), спрашивать о чем-то проводницу, помогать Оне разместиться. Потом постояли молча. Тяжело молчали.
— Присядем на дорожку, — сказал Юрий. Сели, потеснив соседей по купе.
— Ну, будь, Она, — резко, без наигрыша, сказал Юрий, обнял и поцеловал в щеку. Потом еще раз поцеловал, подержал в ладонях ее маленькую мокрую мордочку. — Не скучай там. Будет роль — вызову.
— Да, да, — покивала она.
Виталий тоже подошел. Но Она как-то его не увидела, даже механическая память изменила: потянуться к нему и подставить щеку.
С Аликом и вовсе забыли проститься.
Вышли из вагона. Поезд пошел, пошел, унося в одном из своих окон грустное, тихое, удивительно милое лицо.
Виталий первый протянул руку.
— До свидания, Юра. — Голос прозвучал холодно.
— Не злись, — наклонился к нему Юрий. Глаза его были красными. Вернее всего — от ветра. — Не злись. Надо выбирать. Я же говорил — не умею делить пирог.
— Да что она с тебя спрашивала?
— О, ты не говори. Ей всё надо было отдать, потому что — болото. Ничего своего нет. Только всасывание.
— Не очень понял.
— И еще, может, такое: для меня, Талька, что на полотна мои переходило — конец! Пропадало. Ничто, брат, не выдерживает пристальности.
— Ты в уме, Юрка? Это же — Она. Не оса, не кусок сосны.
— Знаю! — перебил он и провел ладонью по сморщившемуся лицу. И не досада была, а боль, может быть, вина. — Запутался я. Ни так не могу, ни эдак. А уж через силу, через раздражение — кому такое нужно?
— Ну что ж, до свидания, Юра.
— До завтра.
Теперь с маленького экрана в монтажной Она смотрелась с болью и нежностью, как прошлое, которое еще рядом, а уже не дотянешься.
Они оба долго и по-особенному отбирали куски. И Юрий тоже. В нем тоже болело, это было видно. Он, впрочем, и не таил.
— Вот здесь она работает как надо! — говорил Юрий тихо. — Видишь, взгляд диковатый, а притяжной, верно?
— Это ее взгляд. Не Аленкин.
— Наплевать. Они одинаковые.
Алена вышла из избы еще грустная: такой разговор со стариком! Старик — не отец. А рядом спит мать. Которая прятала ее в сене, уже в бреду кричала о ней санитарам и потом искала свою дочку по свету. Выучила чужой язык, шла от деревни в деревне по едва заметному следочку.
…Алена подходит к окошку, заглядывает в него. Мать не спит. В полутьме лихорадочно светятся ее глаза. Глядит в потолок, думает, вспоминает. Тоже второй раз теряет дочку. Тоже. А тот, кто ей не отец (Аленка заглянула и в его окошко), согнувшись над лавкой, чинит ей туфлю. В дорогу? Или по привычке? Нет, по любви!
Но вот Аленку окликают, и она бежит к подругам. И оттаивает, вздыхает свободно. Забылась понемногу. Подпевает, как умеет. А сама все глядит на тот дом, где сливовый сад, откуда — вот он! — появляется учитель. И сразу рывок камеры, выхватывается его лицо — нервное, ждущее. Он тоже не зная знает, что здесь она, Алена. И тут взгляд ее диковатый. Увидела его, и — всё. Пропала. И уж куда ни сворачивает «улица» — так в тех местах гулянки зовут, — всюду он в поле зрения. Ее. Вот он с девушками здоровается, вот закурил, перевел глаза на Алену. И тоже замер. Подошел к ней. И сразу темнота. Кусок темноты, в которой что-то клубится, шевелится, то вдруг вспышка, то опять темь и сквозь нее — нежный, как стебель травы, звук. Валторна. А потом в луче, похожем на лунный, шевелятся облака, гнутся ветки (вернее — тени ветвей), а одинокий звук крепнет, поддержанный другими. Сложная оркестровка: так они разговаривают. Потому что ведь не важно, какие пустые слова они друг другу говорят. А музыка в них, в самих.
И вот они вышли в поле. Светло — север, ночи белые. Идут. Нет, он идет, а она кружит возле него, поет, как тогда, на качелях: только ему такое! Он протягивает к ней руки — она отбегает. Он за ней. И вот поймал, схватил, целует, шепчет что-то, гнет. Грубо. Может, для кого в самый раз, а ей не вынести. Вырывается, руки разметала, кричит гортанно… И вдруг — небо. И внизу смятая рожь, где они были, колосья, сломанные стебли… Потом — то же, но мельче, издалека… широкий обзор — поле, лес по краям, а земля далеко уже…
И на стежке — маленькая фигурка. Это он, учитель. Тянет руки вверх, в руках у него косынка. Следим направление его рук и взгляда.
Вверху, в просторном белом небе, — птица.
Художественный совет (э, да что там «совет» — люди: режиссеры, редакторы, члены коллегии — все из плоти, духа, рвения осуществить право на труд, осторожности, доброжелательности и недоброжелательности, дипломатичности, прямоты и кривоты, желания понравиться, взять реванш, умения восхититься, умерить свой пыл, резать правду-матку, и т. д. — еще на страницу пли даже больше, потому что людских помыслов так много — не напасешься бумаги), так вот: худсовет просмотрел фильм и молчал. Выло в фильме нечто не дававшее прямого ответа, ускользавшее от ясных ходов. И это тревожило. Они понимали. И многие оценили. Но кто-то (и вовсе не «кто-то», а Некто Уважаемый, авторитетный) должен был начать. А он не начинал. Может, не пришел, может, нежился в постели или проводил отпуск на берегу теплого моря; а то еще зубрил историю кино во ВГИКе (имеется в виду, что он был еще студентом) или играл в песочек на детской площадке; а возможно, укрыв пледом старческие ноги с подагрическими шишками, рассказывал внуку (правнуку) содержание одного из первых в мире фильмов — «Ограбление поезда» — фильма-дедушки (прадедушки) современных детективов.
Одним словом, начать было некому, и тогда слово взяла Вика Волгина, та самая, прежде юная, теперь уже бывалая редакторша, которая давным-давно следила недобрым оком за деятельностью Бурова. Вероятно, нет смысла передавать ее речь: бывают при всей своей ожесточенности весьма убежденные люди.
— Да, пожалуй, — отозвался один из ведущих режиссеров. Он был сторонником иного, чем Буров, направления. — Если снять с выступления Волгиной некоторую резкость, которая едва ли уместна…
Молчаливо и строго сидел Тищенко. Он предупреждал. И самого Бурова предупреждал, и тех, кто слепо доверял ему, и тех, разумеется, кто недолюбливал этого выскочку. Ни от кого он не утаил своего мнения, до кого прямо донес, до кого — косвенно. И вот теперь оно должно было прорасти, дать всходы, цветы, плоды.
Если бы Юрий Матвеич Буров пришел на просмотр, если бы удостоил (так сказала Вика — «не удостоил»)… ведь говорить плохое в лицо вообще трудно, а работникам кино в особицу. Но он не явился. И вот еще один голос, не громкий, но крупный, из числа тех, которые призваны были озвучить праведный тищенковский гнев. И еще два голоса… Трио, квартет, секстет… Того гляди хор. И тогда — конец фильму.
— Может, я стар и ничего не понимаю, — вдруг тихонько, будто сам себе, сказал Вас-Вас. Наступила тишина. Он длил паузу. Тишина стала стеклянной. — Может; я, конечно, совсем отупел… Помните, как однажды Буров неодобрительно отозвался о моем детище… Мы всегда втайне знаем, удачного ли родили… И я знаю, и каждый. А то, что выдал нам сегодня Юрь Матвеич… Простите меня, но мне… Но меня это глубоко задело, взяло за живое. Держало меня, старого лиса, от начала до конца. И вот что я хочу сказать. Есть вещи, которые не надо раскладывать на составные части, — иначе они делаются бессмысленными… Зачем, в самом деле, Виктория, э…
— Петровна, — услужливо подсказал кто-то.
— Да. Так вот зачем редактор Волгина взяла такой сложный механизм, как… ну, скажем, рояль и разъяла на металлическую часть, деревянную часть, молоточки, кусочки фетра… или что там у него?.. И вот рояль потерял свое назначение. Хоть на растопку, право. Искусство, оно, друзья мои. — не мне вам говорить, — имеет дело с эмоциональной сферой. И мы всегда знаем, какие молоточки, то есть какие струны, задеты. — И улыбнулся. — Привязалось! Так вот во мне задеты добрые. Да. А что до теоретической части, тут мы все мастаки, и я не хочу прибегать к этому оружию: оно стреляет в обе стороны. Да. Простите за выспренность.
И сел, грузный и рассердившийся.
Говорят, что у хорошего актера есть не один десяток надежных штампов. Но — не правда ли? — лучший актер все же тот, у которого их нет. Искренность победительна. Это только кажется, будто Вас-Вас взял на себя роль нежащегося в кровати; отдыхающего у моря; зубрящего программу ВГИКа, кутающего старые ноги в плед. Он, конечно, был «уважаемый», «авторитетный», «некто». Однако сработало другое: искренность. Он отворил эту жилу. И зашумели, заговорили, уже не все по делу. И оказалось, что имевшие уши услышали, а имевшие глаза узрели.
И как-то на время забыли о Тищенко. Так что ему пришлось дать себе трудную, но верную клятву (клятвам он не изменял), что фильм в прокат не пойдет.
А Юрка? То есть, простите, Юрий Матвеич Буров? Бурова не хватило. Он проснулся в тот день в такой тревоге, что удивился сам. И руки, наливавшие кофе, дрожали, как у девочки перед первым свиданием. Ах, как ясно видел он, что предстоит! И — лица: удивленные, равнодушные, тайно восторженные (что толку от тайного восторга!), злорадные, «верные общему делу», строгие, сытые, неутоленные — всякие. «Надо того… для храбрости…» — подумал Юрий. Он уже забыл, когда пил в последний раз. Сто лет назад. Но початая бутылка стояла и вдруг потянула, и притяжение это смяло все доводы. Немножечко совсем… полстаканчика…
Когда раздался телефонный звонок, он с трудом оторвал голову от стола.
— Да, Виталий. Да, дорогой… Приняли? Не врешь, а? Не то чтобы «нас возвышающий обман»? Ну-ну… — Он не мог говорить, горло почти сомкнулось. — Что?.. Вика Волгина? Да пусть она… (Хорошо, если никто не подключился случайно к разговору, — в опутанной телефонной сетью столице это бывает.) Таких, Талька, легко, им… И Тищенке… А вообще-то мне плевать… Я… Я не для них… Мне плевать уже! (И опять хорошо бы не подключиться.) Нет, не приезжай… Я… не в форме.
Потом он плакал. Просто плакал слезами, и на полированном письменном столе была лужа. Не от радости плакал и не от обиды — от усталости, которую не сиял хмель, от пустоты, образовавшейся в том месте, где прежде жил, кипел, варился фильм, от непривычной бездеятельности.
— Я — придаток к сценарию, актерам, киноленте. Я не существую помимо. Кто там? Войдите!
И входила Аленка со своим туманным взглядом. И взгляд был уже чужой, и старый Чириков, и женщина с жаворонком из черной муки. Но это были уже посторонние, другие, не его. А птичья Алёнкина судьба хоть и откликалась в сердце, но глухо. И горе старика и Аленкиной матери казалось переносимым. А то новое, что с некоторых пор мешало спать по ночам, еще не хотело сказаться, было, как видно, не время, и потому взыскующе зияла пустота. Ведь пустота — вместилище. В природе ли вместилища быть незаполненным? И там уже копошился некий человек со странной особенностью видеть то, чего не видят другие.
Как это?
Ну вот, к примеру: собрались люди чествовать там кого-то. Юбиляр этот пробивался в жизни, всех расталкивал, и наконец дали ему премию, или звание, или повышение по службе. В его комнате столы стоят с едой и питьем; запуганная жена на кухне; все вокруг него снуют, улыбаются. А вошел ЭТОТ, поглядел: достигший-то — белый весь, бескровный, больной. И, может, жена его некрасивая, старая, а лицо ее прекрасно. А?
И возражал сам себе: тайна не пропала бы. Ведь жизнь из тайны состоит. Конечно, из тайны! И ничего не пропадет. Потому что это только озарение на минуточку, вот и все. Человек этот опустил глаза, и опять все движется, сияет, и мы в полном неведении, кто и что, каждый человек — загадка. А дальше уж идут поступки. Тут земля нужна. Чтоб было этой сказке куда ноги поставить. Реальная такая жизнь, и вдруг — взрыв! озарение! И опять потом жизнь.
И так мучительно не знал он, как повернуть эту жизнь, эти жизни, и так ясно видел выхваченные куски, кадры…
Не хочу, не хочу! Пусть будет пока пустота! Дайте передых, что вы!
Но в природе ли вместилища быть незаполненным? Может ли оно?
Стук в дверь.
— Кто еще? Кто там?
Это была Тоня Лебедева. Всамделишная. То же беспокойное, рано отжившее лицо. Положила руки ему на плечи.
— Юрка, я видела фильм. И мне захотелось, знаешь, захотелось быть актрисой. Хорошей, прекрасной актрисой. Если с фильмом будет что не так, я помогу. У меня есть ход. Не веришь? Мы все… мы горы сдвинем!
— Да, Антоша, да, конечно.
— Ты чего ж напился? В такой день? Несуразный человек!
— Ерунда, Антошка. Видишь ли, я и не человек. Я — приспособление к кино: киноглаз, кинопленка, киноидиот, киногений, киносволочь. Но! — Юрка поднял палец. — Но не сам. Не своей волей. Как бабка. Я тебе хвалился бабкой?
— Что-то не помню.
— Ну, не важно. «Не суди, говорит, меня строго — мне это дано. Не свободна я». Во, Тонька! Не свободен я. Поняла?
— Поняла, поняла. Может, поспишь чуток?
— Ты глупая баба. Глупая, но милая. Я, может, только тебе это и могу… да… А кому же? Они все, знаешь… Иди ко мне. Нет, постой. Сделай из пальцев клетку возле глаз. Вот так. Кинокамера. Объектив. Посмотри на меня. Есть там моя рожа? Видна? Еще видна? Наводи получше. Резкость давай, резкость! Так. Я тебе открою тайну. Я совместился. Поняла? Совместился с работой. Чего ты хмыкаешь? Я тоже, когда помоложе, хмыкал: ну, думаю, фраза. Оно не фраза, Танюшка. Да не мажь ты эти, к черту, бутерброды, не пьян я! Истинно, истинно говорю:
Жизнь совместилась с работой — поняла? Я не хвалюсь. Ничего тут такого нет похвального. И никакого счастья нет. Ноша это. Горб. И никто не поможет нести его. Никто. Ни одна сволочь.
Цон-цони-цон — тонкий звон разбиваемого фарфора. Чашечка о чашку — цони-цон! И клинопись птичьей, галочьей стаи — непонятная, не предназначенная для разгадки. Черные подвижные значки на сером, темнеющем небе. Человек, если он принимает все это, легко вписывается в тихую, неявную, богатую оттенками жизнь леса, травы, птичьих передвижений.
Виталий просто так приехал в тот лес, где снимали, подобрал дубовый лист, похожий на тот, о котором когда-то говорили с Юркой. Такой же был на нем зеленый, подрумяненный орешек, похожий на яблоко — маленькое яблоко для маленького лесного человечка. Можно думать и так. Но здесь есть и еще более таинственное, не требующее слепой веры, как хочет того сказка.
Виталий разломил орешек: орехотворка — длинное, гибкое насекомое. Все просто, да? Но и тут, даже тут человек остановился перед тайной. Почему, к примеру, в этих орешках-галлах всегда оказываются только самки орехотворки? Может, эти насекомые лишены пола, как, допустим, грибы? Вовсе нет! На корнях того же дуба можно легко найти совсем другие галлы, и там уж — вот и разгадали! — довольно часто встречаются орехотворки самцы. И, как оказалось, лишь те самые, которые выводились на корневых галлах, откладывают яички в листья дерева. Да, но зачем это понадобилось природе? Где тут целесообразность, о которой еще Дарвин… И для чего нужны эти вот создания из лиственных галлов?
Виталий улыбнулся: может, пока те размножаются, эти осуществляют какую-нибудь научную работу или создают прекрасную музыку леса, летопись рода, бессмертную какую-нибудь орехотворную живопись? (Могучая научная мысль, ценный вклад, не правда ли? Молодец, сорокалетний биолог!)
А что? Почему у насекомых не может быть какой-то иной жизни, кроме растительной? А ведь душа и у человека не найдена! И все это смешано в одном водовороте бытия, где не одушевлено лишь то, что умерло или убито: отломленный сук, упавшее дерево, скошенная трава…
А я еще не скошен, алё, папоротник! Не отломлен от жизни, привет тебе, елка! Мне еще все интересно и открыто. Я еще хочу, могу, знаю, здравствуй, жестокий человек Юрка, и спасибо тебе: именно ты из этого воздуха, из наших притяжений и отталкиваний, на нашего общего подъема извлек для меня полет. Еще есть возможность взлететь. А? Всегда еще есть возможность взлететь.
Рябили березы. Желтые и бурые листья на земле были мокры. По оврагу, петляя В прячась, крался ручей; в омутке под серой ольхой кружил жилистый, жухлый лист вверх черенком. В сеть высвеченных до серебристой белизны голых веток овражной черемухи было поймано серое небо. Оно там двигалось, билось, дышало.
Место было незнакомое. Виталий впервые в жизни заблудился в лесу. Не зря, видно, говаривали старые люди, что здесь «водит». И заблудился там, именно там, где водит, — и эта подвластность иным силам тоже значимой и, пожалуй, счастливой ношей легла рядом с его приобретениями. Он не боялся темноты в лесу, знал, что всегда найдет дорогу — надо только отдаться чувству пространства, которое ни разу еще не подводило. Но Виталий не спешил. Скрипнуло дерево. Он обернулся на звук. Была ясная и трезвая уверенность, что, если протянуть руку, в темном воздухе среди перепутанных веток черемухи и ольхи легко нащупать мокрую и холодную от росы ручку двери. Под углом в пятнадцать градусов.
Маски
От автора
Я пишу это не для того, чтобы рассказать о себе: «я» — это не я. И не надо так думать. Но за все остальное ручаюсь, невзирая на некоторый вымысел, без которого не бывает ни сказочного, ни реального.
И не для того, чтобы прославить Сидорова, хотя Сидоров, он — конечно. Но может быть и другой; просто Сидоров душевней.
Повесть эта — о любви, несмотря на то, что любовь почти не бывает — только стихи да песни.
Но оказался на земле — в промежуток как раз моего бытия — человек, глаза которого так легко меняют цвет и значение. И существование его — как оправдание моей жизни, что и она зачем-то нужна. И где бы, когда бы он ни пересек мой путь, сбиваясь с ноги оттого, что на него глядят, и морщась от недовольства собой, его имя всегда, всегда совпадает с моим, если даже у него разные имена и непохожие маски.
Вот о масках тоже.
Я хорошо знаю одного мастера масок, — он очень тихий. И потому многие полагают, что его нет. А как же нет — я сама его видела. И его коллекцию камней из Коктебеля. Если его нет, кто же тогда собрал коллекцию?
И последнее. Я люблю идти вперед, а назад не люблю: набьешь сумку продуктами — тяжело, — я ведь женщина; поэтому, если вы отнесетесь ко мне — как и я к вам — с доверием, давайте пойдем вместе. Но тогда вам придется помочь мне донести мою сумку.
АВТОР
Глава I
Над жизнью светило солнышко. И над деревянным домом в два этажа, каких тогда было полно, да и теперь немало в нашем огромном городе.
С железного козырька над крыльцом падали прозрачные капли и пробивали лунки в сером весеннем снегу. А там, под обледеневшим прозрачным снегом, шла едва различимая жизнь капель, красных камешков и песка. На это можно было глядеть, глядеть, глядеть…
Пока не выходила соседская Надька в вязаном капоре и фиолетовых штанах, торчащих из-под пальто.
— Бабка опять водки надралась, — хрипло сообщала Надька. И жизнь капель прекращалась.
— Она выйдет?
— Выйдет. Давай дразниться.
На втором этаже грохала дверь и скрипели, оседая, деревянные ступени. Иногда шаги учащались, и тогда стонали перила. Это значило, что бабка оступилась: чуть не упала.
Надька жестко щурила желтые глаза:
— У, ведьма. — И кричала: — Ведьма!
Бабка была где-то посреди лестницы. Шла молча.
— Кричи «ведьма», — просила Надька.
— Ведьма, — шепотом говорила я и отбегала от крыльца. Надька — за мной.
Здесь она начинала прыгать и задирать ноги.
— Давай, давай! — шептала в сторону, мне. — Чего стоить?
Я отходила еще дальше.
— Бабка-тряпка! — выкрикивала Надька, и по резкости ее движений я понимала: старуха уже вышла во двор. — Бабка дура, хвост надула! — без улыбки орала девчонка и все прыгала, превращаясь в сплошное фиолетовое мелькание. — Дура! Дура! — и кидала кусочками льда и — с упреком — мне: — Эх, ты!
Я на секунду поднимала глаза, чтобы взглянуть на оплывшее желтыми мешками, густо набеленное лицо, его обезьяньи тоскливые глаза.
…Особенно эта пудра, сквозь которую просвечивало желтое и водянистое.
Пьяная видела нас, но не замечала и не увертывалась от льдышек. Она была беззащитна и безобразна, как полураздавленная на дороге жаба: кошмар моего детства.
— Да ну ее, — говорила я Надьке. — Не надо!
— Надо, надо, — хрипло твердила Надька, и в глазах ее стояли слезы.
Старуха пересекала двор и стучала в крайнее окошко соседнего дома:
— Настя, глоточек! Настя!
На окно задергивалась штора. Старуха опускала голову и так же, не замечая нас, возвращалась домой. Надька набирала льдышки и, прячась за угол, швыряла, швыряла их в Настино окно.
Иногда дверь соседнего дома отворялась, и на крыльцо выходила красавица Настя.
— Это что же за семейка! — зычно выкликала она. Волосы ее были растрепаны, рукав халата оторван. Но все равно сразу все становилось похожим на театр от ее удивительной красоты. Она, не стыдясь слов, бранила старуху и ее сына, за которого вышла было замуж, да выгнала потом. А лицо ее и весь облик оставались прекрасными.
Отворялись двери, форточки. Затевалась перебранка.
Я бы не стала о Насте — подумаешь, Настя! — если бы однажды следом за ней не выбежал тоненький паренек лет восьми и не вцепился в рукав халата:
— Мамо́тшка, из надо́!
— Отвяжись, — повела она плечом. — Иди в комнату, Ян.
Но мы его уже увидели. В кожаной заграничной курточке, полубрючках, застегнутых под коленями, и в ярко-желтых, на толстой подошве ботинках, каких не было ни у кого. Да еще имя такое: Ян… Потом уже, несколько дней спустя, я разглядела его: глаза светлые, широко расставленные на коротконосом губастом лице.
Я тогда ничего еще не знала о себе — ведь было мне не больше семи. Но мгновенные симпатии и антипатии доступны даже детям. И ощущение радостной зависимости от другого — тоже.
И совсем ничегошеньки не знала я в то время о Сидорове, о Степане. А ведь он жил рядом. Только он и тогда уже был много старше. Другое поколение. Но потом я узнала: он боролся. За свое культурное возрастание боролся. Рос рывками, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Много думал и сразу воплощал. Ну, насколько мог.
В шахматах больше любил ход конем. А в крокете — мышеловку. Была тогда еще такая поспешная игра с молоточками: тук по шарику, тук, тук… Пройдешь через все ворота и заколешь свой шар о колышек. Но игру эту он освоил уже в городе, в нашем дворе, куда приехал к отцу из деревни. У отца жесткие усики над пересохшими от внутреннего жара губами. Его, отца-то, как он сам потом признавался, сызмальства томила деревенская тишь — тянуло, тянуло в иную жизнь. И вот — поколотил Степана, чтоб не озоровал, и заплакавшую жену, чтоб не плакала, — и уехал в город. Ищи-свищи. А тут (уж это не сам — другие рассказывали) к нему стала ходить кондукторша с трамвая, чуть семья не поломалась. Хорошо еще, мать Степана приехала в город. Она будто почуяла. «Мне, — говорит, — еще в деревне перед самой свадьбой недоброе колдовали: на жнивье кто-то солому скрутил и красной тряпочкой обвязал. Я нагнулась с серпом-то и вижу. Сразу поняла, что это. Только не знала, от кого пришло».
Степан очень стеснялся ее: темная женщина. А сам он много чего узнал, Степан Сидоров, еще там, в деревне. Из книжек. Очень был паренек способный. И пошел в город. У отца поселился, в уголке. Потом дали комнату по уплотнению. И все учился, учился, думал: как людям жить, да и мало ли про что. Время давало темы.
Но это все — в общих чертах, схема. Потому что, повторяю, я его тогда не знала. Так что не могу привести живых деталей. А уплотнили Степаном бывшую владелицу этих вот деревянных домов, нелепую такую женщину — Светлану Викторовну (потом она еще не раз появится на этих страницах). Она себе две лучшие комнаты выбрала — одна даже, говорят, с камином. Ну вот Степана и вселили. Так что ничего, — с жильем уладилось. Слава богу.
Тогда трудно было с жильем. Строительства почти не было, никаких пятиэтажных с балкончиками, а тем более — двенадцати. И все ждали — снесут наши хибары. А они и по сей день стоят. Рядом большие построили, а эти стоят.
Я там была сравнительно недавно. Остановила такси и поехала.
Когда поднимались на гору (он горбатый, переулочек-то!), вдруг показался закат — малиновый, перечеркнутый тополевыми набухшими ветками. Раньше почему-то здесь не было закатов. Может, меня рано укладывали спать?
Этот визит мой был не просто так, — что, мол, делается там, в оставленном гнезде? Нет, визит был к старику. К мастеру масок (я уже упоминала о нем). Он один и остался в этом переулке: кто уехал, кто помер. А он всегда был очень старый, так что ему нечего было терять.
В дни моего детства он носил полусапожки с ушками (потом они снова вошли в моду, но чтобы это случилось, времени пришлось обойти круг в несколько десятилетий).
Старик был театральным бутафором.
Возвращался с работы всегда в одно время — маленький, с коричневым лицом и такими же темными руками. В одной руке тросточка — живое полированное дерево с волнами древесных сухожилий, будто льющихся сверху вниз, а наверху — отлично вырезанная львиная голова и два блестящих металлических глаза. Средний палец старика был вложен в открытую львиную пасть. В другой руке — очень старый саквояж, с какими прежде ходили доктора. И оттуда торчали клочки цветной бумаги, шелковые лоскутки, кисточки для краски и клея. Он часто работал дома, ему, видно, по старости лет это разрешали. Там, в его комнате, на втором этаже, как раз над Настиной квартирой, происходило таинство: из ничего волшебно возникали круглолицые куклы, негритята, белые кони с черной гривой или розовая птица фламинго, и все это запросто сушилось на подоконнике и хороню было видно с противоположного тротуара.
Мы, ребятня, ждали его возвращения, сидя на заборе. Это было очень несложно — забраться туда: во дворе как раз возле забора лежала груда круглых булыжников, оставшихся, видно, с тех давних времен, когда мостили переулок. Влезешь на эту горку, ухватишься руками за верхние тесины… Ну да кто не лазал по заборам?
Нам казалось, что с мастером масок нельзя разговаривать на обычном языке. И мы кричали:
— Чудирик!
— Риварчак!
А он поднимал сухую коричневую мордочку и отвечал заговорщицки:
— Авалала-карала.
Или еще более странно:
— Вы свароги или чернобоги?
Позже я узнала, что Сварог — это бог неба у языческих славян, а чернобоги — просто нечистая сила. Но тогда ничего такого не было известно. И мы смеялись, радостно, перемешивая чувство превосходства (вот играем в одну игру, а ведь он — уже взрослый, старичок) с благодарностью (взрослый, старичок, а играет с нами в одну игру).
Но мне он, кроме того, открыл тайну знака. Какого? А вот сейчас расскажу. Помните, у Насти поселился заграничный мальчик Ян. Вскоре мы подружились. И он, будто других имен не существовало, называл и меня — Яна. Меня Аня зовут, Анна, а он говорил — Яна. Похоже, конечно, но неточно.
Вот мы с Яном и увидели этот знак.
Наш переулок — я, кажется, уже говорила — одним концом выходил на проезжую улицу, а другим упирался в парк. Доску в заборе отломал кто-то из взрослых. Так что перешагни только поперечную планку забора — и ты на тайных травянистых тропинках, среди веток, листьев и птиц. Это диво — такой парк среди огромного города. И главное — парк пустой, потому что с другой стороны, со входа, надо было предъявлять пропуск. Что-то там было этакое. Закрытое. Но нам-то, вы понимаете, до этого не было дела. Нам, конечно, старшие не очень-то разрешали туда. А Яна просто не пускали.
— Гуляй под окном, чтоб я тебя видела, — говорила ему Настя. Я все думала: какая же она ему мама? Почему он ее так зовет? Он приехал с отцом недавно из Финляндии или из Эстонии, уже не помню теперь. И Ян говорил: «Мамо́тшка красивая». А она только откроет форточку:
— Домой!
А в это утро ее не было дома. И Ян сказал:
— Мама ничего не говорила про парк. Можно пойти. (Он произносил слова так же странно, как и прежде. Но я уже не замечала.)
Было очень солнечно. Земля на дорожках подсохла и бугрилась кое-где от будущих побегов. Было много серого листа под деревьями, и у Яна глаза сделались темными и блестящими. Он глядел, глядел вверх и видел небо — теплое, и теплые пятна солнца на ветках, и черных скворцов, и я вдруг тоже начала это все видеть и радоваться.
— У нас тоже деревья, — сказал он деревьям. — Ты моя сестричка, — сказал он мне.
Я хорошо помню: мы нашли тогда фиалку. Очень бледную, белую почти — под прошлогодним, пахнущим прелью листом.
— Перед глазами травы и дерева, — проговорил Ян.
Мы стояли на коленях на влажной весенней земле около этой фиалки. А когда вскинули головы, почти уткнулись носами в черную кору липы. И все это глядело на нас затаенно и счастливо.
— Перед глазами травы и дерева, — повторил он, будто молился. И я тоже сказала так. Потому что это была живая трава, и свернутые в трубочку упругие листья, и полные бегущих соков корни кустов, и прекрасная — тоже живая — кора дерева. И мы были частью всего этого: странное ощущение ведовства, ничем не ограниченных возможностей: мы могли, помчавшись по тропинке, взлететь или стукнуться об землю и превратиться в куст, пень, травяной побег.
И вот тогда мы увидели этого странного человека. Он шел с противоположной стороны парка, разводя короткопалыми ручками ветки кустов. Он был не выше этих кустов! Меньше нас! Но это был не мальчик. Дяденька. Желтое прокуренное лицо, лысоватая голова. И никакой бороды или красного колпачка. Обычный костюм: длинные брюки, пиджак, галстук; очень маленькие, но тоже взрослые ботинки. Он шел, выбирая, где посуше. Даже иногда приподнимал брючину, чтобы не запачкать. Деловито.
Это был не гном. Гномы никогда так не ходят. Они вообще не такие, гномы. И глаза у них шустрые: все разглядеть, всему нарадоваться вдосталь! Они ведь любят всякие тайны, чтобы их разгадывать, сдвинув на лоб красный колпачок и почесывая в затылке.
А этот будто все заранее знал, и скучно-скучно ему.
Вдруг он чихнул тоненько — мы не засмеялись — и провел по дряблому лицу рукой. Я покосилась на Яна, но он отвернулся. Будто мы присутствовали при чем-то нехорошем.
А человечек подошел к большому тополю, из пиджачного кармана вынул нож, не спеша сострогал кору до белого древесного тела и что-то там нарисовал. Потом отошел на два шага, полюбовался работой, засмеялся — так же тонко, звеняще — и побежал назад, придерживая полы пиджака.
Потом уж, когда его давно не стало, мы поднялись с колен и подошли. На дереве, на белом мокром срезе, был карандашом обозначен квадрат. Ровный-ровный. Мы постояли тихо. Я увидала, что у Яна белое лицо и бледные какие-то глаза. Он вобрал голову в плечи, взял холодной рукой мою руку, мы пошли к забору, молча перебрались в городской переулочный мир. И, не прощаясь и не глядя друг на друга, разошлись по домам.
Ну вот, а теперь про старика — того, к которому я ездила не так давно. Про мастера масок. Он старый, и можно подумать, что у него есть какие-нибудь особенно мудрые мысли. А это — нет. Вот теперь, недавно, он мне сказал, правда, и то от обиды: «Человек человеку — никто». Потому что болел, а соседи даже не заметили. Кажется, так. А прежде он и вообще мало разговаривал. Был озабочен. Мы, конечно, не знали причины. Теперь только. По прошествии.
Теперь-то к нему ездят на машинах — ему и от соседей почет иной. А тогда, бывало, постирает, развесит рубашки во дворе, а домашние наши хозяйки морщатся: плохо постирал. А он — старенький. Пожилой уже человек. И на скамеечку сядет. Только мы, ребятишки, и любили его. И он нас.
Я подошла, помню, однажды и села рядом с ним на скамейку. И прутиком на песке — раз-два-три-четыре — начертила квадрат и говорю:
— Что это?
А он:
— Разве не домик?
Я:
— Нет, это не домик. Это на дереве человек один начертил. Сделал срез ножичком и на срезе начертил.
— Где?
— В парке. Мы с Яном сами видели.
— В парке? — переспросил старик. И я поняла, что он огорчен. Очень огорчен. — Ну, значит, все прахом пойдет. — И рукой махнул.
— Что прахом?
— Все. Парк. Деревья. Да и вы оба дружить не станете. Разлетитесь в разные стороны. Знак это.
Я сразу поверила. Как не верить такому старику?
Я и Степы Сидорова матери поверила, когда она про жнивье да про красную тряпочку вспоминала. Я забыла сказать: она дом в деревне заколотила и к мужу насовсем, переехала — к Сидорову-старшему. А тот уж ремонт сделал: весь паркет к чертовой матери выковырнул и пол белой душистой доской застелил.
Жену сперва отколотил, а потом принял. А кондукторшу прогнал. Жену, правда, переименовал. Ее Мария звали, а он Мариной окрестил. Марина Ивановна.
Но Степана-то Сидорова все равно не видно было. Он в то время мужал. И учился. А потом однажды вышел с книгой, зажатой между боком и рукой, аккуратный, чистенький. Лицо строгое, глаза с ледком.
А мне все надо было: подбежала и поглядела, что у него за книжица, — потрепанная, старая, сразу видно: не зря носил — читал.
— Интересуетесь? — наклонил он ко мне голову. И серьезно, как взрослой, объяснил: — 1903 год издания. Дибидур. «Священный союз».
— Что такое «Дибидур»? — спросила, совершенно опешив.
— Французский историк. История дипломатии.
— А… почему… «священный»? (Я уже слышала это слово рядом с другими словами о боге, что его нет.)
— Священный… Хм… Так он назвал систему отношений европейских государств после разгрома Наполеона.
— Наполеона?
— Вы что же, не слышали про Наполеона?
— Слышала. — Я не соврала. Но имя это больше ассоциировалось для меня с пирожным.
Степан любовался моей ошеломленностью. Он, кажется, впервые улыбнулся, а пальцы его правой руки все время сгибались и распрямлялись — это было какое-то упражнение, похожее на хватательное движенье.
— Да, девочка, Дибидур, конечно, тоже шовинистичен, но не так, как Зибель или Бранденбург.
— Бранденбург…
Когда бутафор, мастер масок, произносил свое «Авалала-карала», мне было понятно все. А тут — ничегошеньки. Только почему-то страшно. Да еще говорит мне «вы»: «Интересуетесь?» Я долго потом не решалась подходить к Степану.
А старик-бутафор после нашей беседы на скамеечке точно приворожил меня.
Как он выйдет из дому — я тихонько за ним. Он с тросточкой, ток-ток — вот меня и не слышно. А он куда? За хлебом или так, погулять, на солнышке погреться. У нас недалеко скверики хорошие, с прудами. А однажды он шел домой и шоколадку из кармана обронил. Я ему:
— Вы потеряли.
— А… — говорит. — Ну, пойдем чай пить.
Я не поверила даже. В счастье свое не поверила. Дом, где он жил, был деревянный, а лестница каменная. Прохладная. Я шла по этой лестнице — не дышала, боялась, ни передумает.
Возле двери старик долго копался в кармане, отыскивал ключ. Потом долго не мог попасть этим ключом в дырочку замка. Потом возился в темном коридоре возле своей двери — тоже не мог отпереть.
И вдруг открылась эта дверь. Брызнуло солнце, закружилось. Мои глаза сразу выхватили малиновый колпак на стене, рядом — длинные ослиные уши; на столе — кружевной пышный воротник, а на блестящем паркете крохотные золотые туфельки. Чьи?
— Входи, входи, — подтолкнул меня старик.
Я стояла теперь посреди комнаты, но я и кружилась в золотых туфельках, примеряла малиновый колпак, и вдруг все вещи делались огромными, а потолок — высоким, как небо, — это я теряла рост. Тогда я брала за руку знакомого негритенка — он как раз спрыгнул с подоконника, где сушился на солнышке, и мы убегали под шкаф, находили там в углу норку — у-у-ух! — падали вниз, и… я стояла посреди комнаты.
— Усаживайся к столу, Аня. Ну, ну, садись. Будем пить чай!
На старике была вельветовая курточка с блестящими пуговками, такие же брюки и высокие валяные тапочки. Он открыл шкаф — достать заварку, а другая створка и отворись. А там на полках — лица. Разные: смуглые, белые, с носами длинными и приплюснутыми; один смеются, у других губы опущены, третьи — ни так, ни эдак. Будто живые. Но без глаз. Я даже испугалась. Закричала. А он прикрыл дверцу, подошел, погладил по голове:
— Ну, чего ты? Это маски. Обыкновенные. Как на карнавале. Чего тебе бояться?
И я засмеялась. Правда — чего мне?
В чай он сыпал немного лимонной кислоты. Поэтому чай из коричневого делался светло-желтым, будто и не заваривали.
— Зачем же тогда? — спросила я.
— Все в нашей власти, — ответил он. И поднял сухой коричневый палец. — Цвет во всяком случае. — И грустно скривил лиловатые губы.
А вкус был замечательный. Как лимонад.
— Вот, например, — сказал он, — память. У тебя хорошая намять?
— Не знаю, — ответила я.
— Подумай.
Я подумала. Я помнила все-все, что знала. И даже то, чего не знала. Например, про Дибидура и Бранденбурга. И про «Священный союз». Я тогда и не подозревала, какая это радость — помнить все, что знаешь. Нет, не радость, конечно, — не всякое хочется помнить! — а сознание силы и власти над своим миром: ничто не уйдет без спросу!
— Ну вот, ты все помнишь, — догадался он. — А я кое-что уже позабыл. А нельзя. Но у меня есть книга мнемонических упражнений.
— Что это — мнемонические?..
— Это для развития памяти.
— Разве можно развить намять?
Он с грустью кивнул мне.
— Да, конечно. Человек с собой может сделать почти всё. Если очень постарается. — И, помолчав, добавил: — Как, впрочем, и другие с ним.
Нет, я зря сказала, что старик ничего не изрекал. Он любил это. Только тогда мне было не попять. А вот теперь, недавно, я выбрасывала старью бумаги — школьные дневники, давние заметки. И нашла старинного издания оперу Гуно «Фауст» с вензелями, травами, цветами на шмуцтитуле. И там же его четким почерком с нажимом, какого уже не бывает в наше нервное время, выведено: Vita brevis, ars longa, что значит в неточном переводе: жизнь коротка, искусство вечно («longa» — это не «вечно», а «продолжительно», оно и по смыслу точней, но так не говорят). И я вспомнила: ведь он учил меня петь! (Недаром он работал в театре. Наверное, он всё на свете умел.) Но это много позже, я уже была большая. А голоса у меня не было никогда. Только разве слух. Он говорил:
— Кто имеет разговорный голос, тот имеет и певческий. Можно развить. Поняла?
Я спросила:
— Так же, как память?
— Вот-вот. Неужели и этого не забыла?
Безусловно, старик был редкой толковости: он понимал то, чего знать еще не мог. Ведь он не знал, что будут люди, которые соревнования ради пробегут столько-то километров за столько-то минут (очень много км за очень мало минут), или съедят на пари легковой автомобиль, или уменьшатся до размеров крота, привыкнут к стронцию, смоделируют сами себя — да мало ли что еще! Все смогут. «Человек с собой может сделать почти все…» Но я отвлеклась.
Вот так мы сидели у старика в тот далекий день моего детства и пили чай с лимонной кислотой. Вдруг постучали. Тихо, но как-то очень слышно. Старик поставил мою чашку на свою, а моё блюдце под эту горку, все накрыл газетой — и сахар, и лимонную кислоту, а мне велел зайти за шкаф. Он не сказал «спрячься», а — «зайди за шкаф». И я дальним чутьем догадалась, что он меня бережёт, И испугалась: бережет — значит, есть от чего.
Он открыл дверь. Я выглянула из-за шкафа, на всякий случай прикрыв глаза рукой с чуть разведенными пальцами — поза, в которой я застыла потом на много лет, — и увидела высокого человека в светло-сером костюме. Он был пересечен моими пальцами. Голос у него, как и стук в дверь, был тихий, но очень слышный:
— Вы — товарищ Сарматов?
— Да, я, — ответил мой старик. О, какие у него были узкие плечи и торчащие лопатки!
— Я по поводу маски.
— Н… не понимаю…
— Посмотрите на меня.
Я могла бы видеть его лицо, в которое всматривался мастер, но палец — тоненький детский палец у самых глаз — это лицо заслонил.
А старик повел человека к окошку. И топтался около, и приговаривал:
— Да, да, вижу. Понятно. Это уж слишком явно, правда?
— Не будем вдаваться. Нужна маска.
— Да, разумеется, — робея спорить, ответил мой старик. — Подойдемте к шкафу.
Они долго выбирали. Я помнила эти лица без глаз. Человек взял одно из них, а глаза оставил свои. Старик посадил его на стул, и теперь мне было видно, что он старательно, как очень узкий чулок или перчатку, натягивал человеку это новое лицо. Я не могла разглядеть, что получилось, — видела только над светло-серым воротником чужой вспотевший затылок с прилипшими волосами и часть чужого бледного лба, на котором старик расправлял складки.
— Ну вот, ну вот, — приговаривал он. — Волосы горячей водой не мойте. И лицо, разумеется. И старайтесь не опускать глаз.
— Это ещё почему? — отозвался гость недовольно. Но потом усмехнулся: — Впрочем, надеюсь, не понадобится.
— Даже если понадобится, — строго сказал мастер. Он теперь, в работе, стал храбрее. — Дело в том, что веки остались ваши. Это может быть замечено.
— Понял, понял. Дайте зеркало.
Человек, как я поняла, долго смотрел, потому что молчал. Потом спросил:
— Сколько я должен?
— Нет, нет. Я денег не беру.
— Ну все же.
— Нет, прошу вас.
Человек в светло-сером, вероятно, оглядел комнату, потом сказал вдруг:
— У вас довольно большая площадь.
— Да вот… — замялся бутафор. И вдруг — тревожно: — Что это? Что вы пишете?
— Ордер.
— А?
— Ордер на сохранение жилплощади.
— Да? Спасибо. Спасибо! А то, знаете, привык уже…
— До свидания, товарищ Сарматов.
Человек давно ушел, а старик стоял и молчал и не помнил обо мне. А когда я вышла, на лице его было такое выражение, будто произошло что-то стыдное.
— Беги домой, — сказал он. Взял мою руку своей холодной рукой и молча вывел в городской переулочный мир. И мы, не прощаясь и не глядя друг на друга, разошлись.
Глава II
Я, уже взрослая, возвращаюсь из Эстонии. Поездку отделяют от предыдущего многие годы, и единственная реальная связь с ним — я сама. А те люди, что рядом в купе, так же вот связывают этот лиловый послезакат с другим прошлым, память о котором, впитавшись в их сущность, делает их непохожими друг на друга.
Мне совершенно нечего было делать в Эстонии. Но я знала и раньше, что буду там. Хотя бы в намять о Яне. Ведь в Таллине точно так же, с нажимом на каждый слог, смягчают «л» до «ль» и делают твердым «н» («нэльофко!»). И кажется, что народ, который даже на чужом языке, богатом согласными, так по-птичьи беспомощен в речи, — не способен на ало. И потом оттуда, из Таллина, я получила стихи, которыми дорожу. Они — о любви. Во мне не только радость адресата. Там еще есть строки, симпатичные мне, по сути, не касающиеся любви:
Поистине каждый человек — это каждый человек! Прекрасно, что у нас разное прошлое и что наши глаза и уши разное видят и слышат. Я счастлива, что не ходила в детский сад, и жалею, что не избежала школы. А Таллин — город своего прошлого. И здесь я ощущаю некую общность с ним: новое разрастается, не затрагивая основы и, однако, не отрицая ее.
Какими разными все мы, обитатели родного двора, видели эти стены, камни, снег. Я дорожу этим. А еще — сны…
Этот сон повторялся множество раз: белая, по-утреннему туманная поляна, и я стою на ней, заранее волнуясь. Потом я поднимаю руки, с силой опускаю до половины, ударяя ими по воздуху, снова поднимаю — и тогда лечу.
Лечу!
Я очень летала в детстве. Может, поэтому мне так тяжело было первый раз в самолете: ощущение простора я ведь знала, а ощущение железной замкнутости при полете — нет. Но к нему как раз и надо было привыкать.
Но однажды сон окрасил мой полет новой радостью. Она исходила от маленькой фигурки, махавшей руками на другом конце поляны. Это было далеко, я не видела кто, но знала отлично. И оттого что он не взлетел (кажется, не взлетел!), мне было еще счастливей.
Но и жаль было, что мы не вместе. И наяву уже я спросила его:
— Ян, ты умеешь летать во сне?
— Конечно, — ответил он с превосходством. И — мягче: — Но ты тоже научишься.
Так он подарил горькое тогда для меня знание, что люди, даже такие, как мы — Ян и Яна, видят не одинаковые сны…
И еще.
Однажды странная эта женщина — Светлана Викторовна, бывшая владелица наших домов, — надела бархатную курточку с белым мехом (господи, кто носил тогда этакое!) и сказала:
— Дети, поедемте-ка за город. Поглядим на весну.
Дети были мы с Яном, Надька и ее старший брат красавец Юрочка. Надька сразу нашлась:
— Чего глядеть-то?
— Я отшень рад, — отозвался Ян.
— Только отпроситесь у родных.
И вот мы двинулись. Все на нас глядели — из-за нелепой этой женщины, наверное.
В трамвае Надька кинулась занимать места. Юрочка не так поспешно, но тоже. И Светлану Викторовну Надька втиснула:
— Уступите место старой.
Уступили.
Мы с Яном остались на площадке. Он взял себе и мне билеты, как взрослый. Он встал так, чтоб меня не толкали. У него было бледноватое длинное лицо и светлые глаза с широкими зрачками. И много — шапка целая — прямых белых волос.
— Ты почему смотришь? — спросил он, открыто глядя на меня. — Ты меня узнала? Да? Я тебя сразу узнал, как увидел.
— Как это?
— Ну, не умею сказать. Узнал вот.
— У тебя красивые глаза.
Он покраснел, отмахнулся:
— Что ты! Как у девчонки. Мне бы хотелось быть похожим на Юрочку.
— Ян, не надо на Юрочку.
— Но ведь он красивый. Лучше меня.
— Много ты понимаешь!
— Эй, жених и невеста! Пора слезать! — закричала на весь вагон Надька. Я смутилась и не подходила больше к Яну. И видела, что это его удивляет и огорчает. Он был другой какой-то мальчик: старше и младше сразу.
А однажды, когда я, заметив, что он вышел во двор, быстро сбежала по ступеням — я всегда теперь сообразовывала свои действия с его присутствием или отсутствием, — он подозвал меня и, как всегда, прямо глядя, сказал:
— Пойдем, я подарю тебе кольцо. Оно мамино.
— Настино?
— Нет, мамино. Мама умерла. — И вдруг горько: — Она нас с папой любила.
Я не хотела кольца. Но как об этом сказать — не знала. Ведь оно — не просто так. А Ян уже вел меня в угол двора, заросшего жилистой городской травой.
Там, между сараем и забором, он щепочкой раскопал землю.
— Я спрятал. Это моя кладовая.
— Вот ведь придумал! — удивилась я.
— Это Надя придумала. Я сказал ей, что это для тебя.
Сердце мое тукнуло глухо: тук, и еще раз недобро: тук.
Он долго копал щепочкой. Потом поменял место и там снова копал. И снова поменял. Он мог копать так до завтра.
Но я молчала.
— Здесь была коробочка с бархатной подушечкой, — сказал он.
Я молчала.
— Ты не думай, я найду.
Я пожала плечами.
— Ведь никто же не видел, — утешал он себя. — Только Надя. Это мамино кольцо. Она мне его подарила. Она сказала, что я могу его отдать, когда… Ну, в общем…
Но отдавать было нечего. Он выпрямился. Губы у него тряслись. Шапка белых, у самых бровей остриженных волос развалилась. Со щек, с губ, далее с глаз сходила окраска. Я раньше не видела, чтобы человек так заметно выцветал. И мне стало стыдно, что я пожимала плечами и радовалась — ну да, радовалась, что моя догадка оправдалась.
— Ян! Ян, мы найдем. Я сейчас побегу к ней.
— Может, и не она. А потом — как же она отдаст?
— Я ее заставлю! Это она, она, она!
Я сама не заметила, что плачу. И Ян тогда положил руку на перекладину забора и уткнулся в нее лицом.
Что можно утешить человека словами, мне и в голову не приходило. И я двинулась к Надькиной двери.
Я добежала до второго этажа, когда во двор вышла красавица Настя. Не глядя по сторонам, она прямехонько направилась в тот угол двора.
В пыльное лестничное оконце мне было видно, как она схватила Яна за ворот рубахи, будто щенка за шиворот, и поволокла домой.
Теперь я не знала, что делать, и стояла у Надькиной двери. Но вдруг дверь эта толкнула меня, и из квартиры вывалилась Надька, а за ней Юрочка.
— Бить повела! — радостно заголосила Надька. — Ух, она его колотит! А он только «мамочка, мамочка!». Пошли смотреть!
— Она не имеет права его бить! — закричала я. — Она ему не мама. — Меня так потрясло, что чужая женщина может бить чужого мальчика, что я на время забыла о Надькиной подлости. — Пошли, скажем ей! Побежали!
Длинноногий старший Юрочка опередил нас. Он прилепился к кухонному окну Настиного первого этажа, и ласковая тонкая улыбка осветила его лицо.
— Ну что? — кричала на бегу Надька.
— Бьет, — в упоении ответил Юрочка и переступил с ноги на ногу.
Настя била Яна холеной своей рукой по шее, по голове, по лицу, а он горбился и молчал, и в ней от этой покорности что-то срывалось с причала, и тело ее наливалось свежей силой. И когда он присел, защищая лицо, она саданула его ногой в бок. Он упал.
Я забарабанила по стеклу. Стекло зазвенело и выпало, разбилось у наших ног. Я испугалась.
Настя выскочила тотчас же.
— Подглядывать, да? Окна бить? Интеллигенция! Вот я к матери-то приду, как ты тут фулюганничаешь. Ну эти — ладно, побирушки, а уж профессорской-то дочке!..
Это был удар ниже пояса. В нашем дворе почему-то звания стыднее «интеллигента» не существовало. Она уничтожила меня, сразила, прибила белыми своими, толстыми ногами к земле.
Меня.
Но Надька оставалась вне удара.
— А ты ему кто, колотить-то, а? Ты еще ответишь! Ты какое право имеешь чужого колотить?
— Да я и тебя сейчас… — шагнула со ступеньки Настя. Но мы отбежали к своему подъезду, и оттуда Надька заорала еще вольней:
— Мало тебя мой дядька-то колотил? И еще прибьет!.. — И, первая увидав вошедшего во двор Яниного отца, закончила ликующе: — К тебе мужуки ходят! И что это порядочный на тебе женился?! Он ещё не знает, как ты его сына ногами-то бьешь! Он еще тебе всыплет!
Настя бросилась к нашему подъезду, но по дороге налетела на мужа и, рыдая, припала к его плечу:
— Виновата, виновата перед тобой! Ян продал кольцо твоей жены. Я не стерпела…
— Продал?
Статный, не по-нашему одетый человек обнял растрепанную, в разорванном халате Настю и, защищая от чужих взглядов из окон и хмурясь, увел домой.
Я посмотрела на Надьку. Она выдержала мой взгляд.
— Отдашь кольцо?
— А я брала? Докажи!
Юрочка стоял рядом. Длинные его опушенные ресницы касались бледных щек, на губах змеилась ласковая тонкая улыбка. Если бы не он, я бы поверила Надьке.
Вечером Надька вызвала меня на лестницу. Она почему-то боялась моей матери.
— Что было! — зашептала она возбужденно. — Настенька на Яна отцу наговорила, он его ремнем вздул. А потом об степу оперся и заплакал: «Что ты, — говорит, — со мной сделала! Что сделала! Я его ещё пальцем не трогал никогда!»
— Из-за тебя, — сказала я.
— Ну да, из-за меня! Она его каждый день валтузит. Ты вот сидишь у деда вонючего, не знаешь ничего. А она его прямо на измор берет. Он ей сперва руки целовал: «Мамочка, мамочка», а теперь молчит. — И засмеялась: — «Мамочка».
Ночью я долго не могла заснуть. Было жалко Яна. Было страшно, что не будет моей мамы. И терзала обида на отца: женится на такой вот… Пусть только тронет, пусть тронет! А Ян сперва говорил: «Мамочка красивая».
Счастливое чувство к нему переплавилось. Теперь хотелось защищать его, кричать Насте злые и обидные слова (сколько я их придумала за ночь!), а бродить по парку и слушать, как он говорит, что у него есть красивый роллер, но кататься здесь на нем «нэльофко», или смотреть вместе с ним на ветки дерева — нет, теперь не хотелось. Ведь я видела это. И он видел, что я видела.
На другой день в наш двор въехала легковая машина, это было событием, и жильцы не выдержали: вышли все. Даже Сидоров-младший. Он стоял поодаль, заложив руки за спину, и два пальца левой руки — средний и указательный — держал правой пятерней.
Шофер открыл багажник и стал перетаскивать туда из Настиной квартиры желтые новенькие чемоданы: один, другой, третий…
— А это вместе нажили, не тронь, не тронь! — звучало из квартиры. И после паузы: — Пащенка свово не забудь!
Под эти крики вышли и молча сели в машину отец и сын. Ян задержался на секунду, качнул в сторону Насти головой:
— До свидания.
— Скатертью дорожка! — отозвалась Настя.
Она, рваная и трепаная, была красивей обычного.
Я не сразу поняла, что произошло. Машина подалась назад, развернулась, сминая песок на крокетной площадке, и медленно выплыла за ворота. Я увидела в последний раз белый затылок Яна.
Ян не обернулся, не помахал мне рукой, даже искоса не поглядел на меня.
О, если бы я знала, если бы знала, что он так горд и что его так унизят, если бы предвидела, какой короткий срок будет отпущен нам! И отчего я не дорожила этими днями, транжирила их, сорила ими, точно бумажками от конфет? И как могли мы не сговориться, где увидим друг друга в жизни?
Ян! Ян! Ян!
«Перед глазами травы и дерева…»
— Анька! — окликнул меня Юрочка и, не поднимая ресниц, разжал вытянутую руку. — Хочешь, купи. За десятку.
В ладони лежало хрупкое колечко с тонким ободком и большим лилово-зеленым камнем.
— Он цвет меняет, — набивая цену, добавил Юрочка.
Я бросилась на Юрочку, повалила его, долговязого, и так это было неожиданно и так неистово от боли моей и ярости, что он даже не успел оборониться. Я долго стукала его головой об землю, пока его не отняли и не унесли.
А кольцо я нашла вечером, на месте драки, затоптанным в песок.
Я храню это кольцо. На свете есть много украшений с камешком александритом. Но здесь этот камень поддерживается тоненьким серебряным лепестком, на котором чуть заметно нацарапано слабой женской рукой латинское «J».
Она любила Яна. И умерла.
Я ни разу не надевала это кольцо. Просто храню. И дорожу своей хоть малой причастностью к тому, что с ним связано доброго.
До сей поры.
Моя взрослая поездка в Эстонию не имеет отношения к предыдущему. Но она выросла из него. Оттуда, из тех корней пошли зеленые побеги. Я знала, что буду в Таллине, хотя бы в память о Яне.
Таллин! Таллин! Почти нереальный город башенок, вышек, черепичных крыш и каменных степ. Город, сохранивший здоровенные деревянные, обитые железом ворота, некогда отделявшие Вышгород, где жили аристократы, от купеческого Нижгорода. Таллин, который ни разу не был взят штурмом: тройной обвод стен — ярус над ярусом, с каждого из которых можно видеть красные, голубые, зеленые крыши. И над ними фигурку Старого Томаса, окруженную легендами. Целый ореол разнообразных, очень патриотических и ласковых легенд. Там есть улочка шириной в метр сорок (как раз, чтобы мог проехать всадник с копьем наперевес). На ее булыжной мостовой в давние времена, как говорят, не смогли разойтись две дамы в кринолинах. О, разумеется, тут же нашелся длинноногий светлоглазый красавец угро-финн, который крикнул, смеясь:
— Пусть младшая уступит той, что старше!
И обе женщины прижались к стенам, пропуская друг друга.
Милые, лукавые вымыслы!
Таллин — город, возвращающий в детство, потому что во книжках сказочные королевства изображаются именно такие башенки, вышки, деревянные ворота в каменной стене…
А меня, пока я бродила по Таллину, не покидало ощущение, что можно. Можно перепрыгнуть через время в ту далекую пору, где все освещено солнцем; потереть желтое бутылочное стеклышко и увидеть жизнь, как тогда — однозначной. Прекрасной. И вечной. И готовой к чуду.
Главное — не пропустить. Я выходила из гостиницы на площадь и шла, как ходят герои кино под музыку (только она звучала во мне). Музыка рождает у зрителя чувство значительности и близких перемен. Должно случиться что-то. Все не просто так: ты идешь, а звук трубы вырывается из оркестра. Нет, нет, неспроста. Сейчас… Вот за этим углом… Я ускоряла шаг. Поспешно заглядывала в окошко автобуса. Может, там? Но автобус трогался. Мимо. Значит, вот здесь, за углом. За углом была сберкасса. И ни души. Можно получить по аккредитиву. Я получала, лихорадочно разглядывая через окно проходящих людей (не пропустить бы!). Небрежно совала в сумку деньги. И снова в волнении выбегала на улицу. А вдруг за это время… Есть такой оборот — «эффект присутствия». Он для меня переосмысливался по-своему. Я ощущала в городе присутствие человека — одного-единственного человека, которого мне холимо было увидеть. И это не только определяло цвет города (как сквозь желтое солнечное стеклышко), но и звук моего голоса (неожиданно звенящий) и темп пульсации крови. И это странное, ничем вроде бы не спровоцированное волнение называлось ожидание. Почему?
Городок за семью стенами. Детство. А я уже взрослая. Разве к этим берегам не прибивало других кораблей? Сколько угодно. Но под чужими флагами. Нет, я ничего плохого не хочу сказать, порой были прекрасные корабли и флаги вполне симпатичные. Но ни на одном не было написано: «Перед глазами травы и дерева…»
И я шла по городу, вертя головой: сейчас… в том переулке… за тем поворотом… И все боялась: а вдруг не узнаю?.. Но вот однажды…
Однажды, когда я поднималась по длинной улице, вымощенной узкими каменными плитами, из деревянных ворот, из древнего аристократического Вышгорода резко, нервно и даже будто прихрамывая почти выбежал навстречу мне человек. Он так явно спешил ко мне, что и я ускорила шаг. Вот. Вот оно! Человек был высок и узколиц, на лоб падала шапка светлых, чуть потемневших за это время волос, и только глаза с яркими, как прежде, зрачками глядели — что это? — не удивленно, не радостно, а замкнуто и озабоченно. Эти глаза очень торопились, они скользнули по мне издали, а когда мы поравнялись, их уже не было здесь. Как же? Что же это? Мое чудо проходило мимо! Можно, оказывается, не только не узнать, но и не быть узнанной!
И все-таки я позвала очень тихо, почти шепотом:
— Я-ан!
Он приостановился. Знакомо, доверчиво и беспомощно наклонил голову, кивнул, подтверждая что-то:
— Яльг. Пиик Яльг, — ответил он вежливо и развел руками, будто охватывая стены и мостовую.
— Что?
— О, по-русски… Эта улица… (Какой знакомый акцент! «О» и «А», которые для нас сливаются в один звук, здесь выделяются отчетливо.) Улица Пиик Яльг. Это значит «Большая нога». — И улыбнулся рассеянно. Он очень спешил. Ему было «нельофко», что он так спешит. Но…
Мое чудо и в самом деле проходило мимо. Вот еще секунда — и скроется за уличным поворотом. Я бежала, спотыкаясь о торца мостовой, улица плыла. Я не вытирала слез и потому спотыкалась еще больше; я кричала и тянула руки: «Ян! Ян! Узнай! Это же я — Яна!»
Да нет, никуда я не бежала. И кажется, даже не плакала. Сжимала в кармане курточки кольцо — то самое, с камешком александритом и тонко нацарапанной на серебре буквой «J». Зачем я только таскала его с собой! Конечно же, не как вещественное доказательство. Просто думала: склонимся над ним вместе — оно ведь дорого нам — ему и мне. «Просто». Будто что-нибудь бывает просто. Да разве проходило бы тогда мимо нас неповторимое? Мы бы просто различали его, выделяли из многих похожих явлений, отшелушивали от него пустое, суетное, повседневное. Мы бы просто дорожили им. Разве мы не умеем дорожить?
Мой поезд бежит, бежит мимо садов и яблок, мимо станции со странным названием Йыхви…
Горький привкус подарка судьбы, который мне позабыли вручить! Но подарок этот есть, отложен. Он будет, непременно будет!
Глава III
Я никогда бы не решилась заговорить о Сидорове, если бы не имела счастья наблюдать его юность. Возрастание. А возрастал он в проходной комнате с камином, морщась от несвоевременных проходов бывшей владелицы наших домов и этой вот каминной. Она тоже краснела: «Ах, простите, опять я!..»
Вторая, запроходная комната, в которой жила эта нелепая женщина, была маленькой и, главное, сырой. Под ней прежде, говорят, плескалось озерцо с окунями, ещё до постройки дома (до нашей эры).
Бывшую владелицу — я уже говорила — звали Светлана Викторовна, и она, хотя и старая, носила кружевные платья с вырезом на спине. Она зазывала меня к себе и давала листать старинные журналы. Их гладкая бумага хранила запах духов и хорошего табака.
— Светлана Викторовна, вы…
— О, милое дитя! А твоя подруга Надя зовет меня — «тетенька». «Тетенька, дай вон ту игрушку». А это статуэтка из кости. Очень дорогая. Память о покойном брате. И потом я не люблю попрошайничества.
Паркет в ее комнате был натерт, по стенам висело множество картин в рамах.
— Подлинники, — говорила она важно. Потом махала рукой: — Ты не поймешь.
Я и правда не понимала.
Она ждала мужа. Он пропал на гражданской, но все разложенные ею пасьянсы сходились, и она даже сказала однажды Степе Сидорову, стиравшему возле окна носки:
— Когда вернется мой Леонид, вам, любезный, придется искать другую комнату. Вы, я надеюсь, это понимаете?
— Никогда он, бабка, не вернется, — ласково ответил Степа. — И не таких врагов крушили наши отцы. — Потом добавил: — И деды.
Это я сама слышала, потому что шла следом за Светланой Викторовной через Степанову каминную (камин, правда, он заставил верстаком), и подивилась Степиной прямоте и ласковому голосу. А Светлана Викторовна заплакала и сказала:
— Злой вы, злой, где ваше сердце?
— Сердце — не вместилище чувств и воздыханий, — так же ласково возразил Степан, нюхая хорошо простиранный носок и выплескивая воду за окно. — Вы, бабушка, анатомии не изучали, хотя из имущего класса. Ленились.
Теперь я скажу о его комнате. В ней было чисто. Пол он мыл лично. Лоскутную дорожку вытряхивал тоже сам. Он часто стирал. И никогда не гладил.
Лишней мебели не было: железная кровать, полка с несколькими книжками, стол с тумбочкой и верстак, о котором шла уже речь. Инструменты — в ящике, носильные вещи — две пары брюк, рубашки и чистые носки — сосредоточивались на спинке стула.
И сам был аккуратный весь, причесанный, мытый, босые ноги беленькие, как у девочки. И короткопалые руки тоже белые. Я думаю, верстак был символом. Всего лишь символом. Но это было нужно. Необходимо. Иначе помогло быть. Человек этот жил не только для себя. Он создавал некий образ. Сидоров в то время еще примеривался. И промахи совершал. Тогда. На первом, так сказать, этапе. Например — формулировал. Он имел к этому вкус. Но многое к тому времени было уже сформулировано, и он — не нарочно, разумеется, — просто по молодости и от излишка ражу входил в противоречия. Или вроде бы уточнял, что тоже было ни к чему. Потом он исчез. Но ненадолго. Когда снова появился, я уже ходила в школу, в четвертый класс. А бывшая владелица Светлана Викторовна болела. Она уже не ждала мужа, не натирала паркет, а платье купила в магазине, по ордеру. Но и в нем выглядела не так, как надо. Бывшая. Не скроешь.
Со мной Степа Сидоров поздоровался за руку и на «вы», не очень даже наклоняясь, потому что я была девочка рослая, а он немного потерял в росте за эти годы.
— Здравствуйте, Аня. Как ваши успехи в школе? Заходите, побеседуем.
Я, конечно, зашла.
Мы побеседовали о равенстве.
— Все равны, — сказал Сидоров и растянул нижнюю губу. Это было новое мимическое движение, собиравшее «кладки возле рта и делавшее лицо волевым. Ничуть это движение не было похоже на улыбку. — Все равны, но не все одинаковы. С этим придется считаться.
Я не поняла, но не решилась спросить. То есть я подозревала иной, больший смысл за сказанным, потому что сама мысль казалась слишком очевидной.
— Я имею ряд идей. Вполне реальных. Вот они, в тетрадке. — Тетрадь была в клеенчатой обложке, толстая и исписанная на одну треть. — Можете ознакомиться. Хотя, вероятно, вам ещё рано. Я бы хотел взять несколько уроков по литературе у вашей мамы. Прошу быть моим ходатаем.
И он пришел к нам. О, как описать этот день, когда он, в своей чисто стиранной и наглаженной белой рубахе, с книгами под мышкой, явился в наш дом! Он был обычен. Он так хотел. Он нарочно пригнул, притушил свою незаурядную сущность, потому что ему предстояло учиться, а не учить.
Он пришел и сказал открыто:
— Я уважаю ваши глубокие знания, Татьяна Николаевна, и хотел бы позаимствовать. — Потом добавил скромно: — Хотя бы часть.
Мама надела пенсне и поглядела в учебник для восьмых классов, подозревая, что дальше его систематические познания о области далеких от жизни гуманитарных наук не простираются.
— Что именно вы хотели бы позаимствовать, Степа?
Она сказала, как взрослые ребенку и вместе — с усмешкой на его неловкие слова, которой не позволила бы себе с детьми. Так что отношения заколебались.
— У меня, в сущности, есть несколько вопросов, которые я хотел бы решить. Вот по такой программе.
Он достал из нагрудного кармана аккуратно сложенный листок, развернул и отдал.
Мама стала читать, кивая головой.
— Ну что ж. Ясно. Но вы выпускаете Пушкина, забыв, что общественная мысль не только не чужда ему…
— Простите, но он был слишком непоследователен. Помните, в стихах:
это о царе. И тут же:
А то еще:
О народе, а? С высокомерием!
— С болью, — возразила мама.
— Э, какая разница? Сплошные метания. А мне не нужны поиски. Мне нужны находки.
— Тогда зачем же вам…
— Литература? Исключительно для точного построения. В «Истории философии», год издания 1915-й, страница 81-я…
Мама улыбнулась но без нежности: давай, давай, наверстывай.
И зря она так снисходительно подумала. Он был набит знаниями, он трещал от них, как спелый арбуз! С его-то неотягощенной памятью! О, какими напряженными становились его узкие глаза в споре, в движении за мыслью: понять! узнать! схватить! Как упорно учился он, как глубоко копал!
— У меня, пожалуй, не было ни одного такого студента! — удивлялась и восхищалась мама.
— Спасибо, вы мне оказали большую услугу, — сказал Степан по окончании курса, не без облегчения пряча в тот же стираный карман не взятые мамой деньги. — Я постараюсь быть вам полезным.
— О, не надо, — улыбнулась мама. — Мне было интересно поближе узнать вас, Стена. Заходите просто так.
— Зайду.
Я завороженно глядела в его широкую, обтянутую белым полотном спину. Над ней, на короткой шее, с достоинством возвышалась эта круглая, шишковатая голова, которая внушала мне страх, похожий на религиозный. Он уходил, чтобы запросто прийти еще. Это было далекое, библейское время, когда отечество (я имею в виду наш двор!) еще не верило в пророков своих.
Однажды под вечер Надька вызвала меня на черный ход — постоянное место наших совещаний.
— Сегодня заседание правления, — сказала она. — Буржуйку старую гнать из дома будут.
— Какую буржуйку?
— Ну Светлану эту, ну Викторовну.
— А… А что это — «заседание»?
— Хм! Как с луны все равно! Засядут у Наськи на кухне — вот и заседание. Темная ты!
— А кто засядет-то?
— Сидоров, Столкни отец, — председатель. Наська. Да много кто. И твой отец тоже. Он все бумаги пишет!
— Откуда ты знаешь, что выгонят?
— Наська приходила. Бабушке водки дала, а мне конфету. Вот — бумажка.
А Светлана Викторовна ничего еще не знала. Она только приехала из больницы — ей там вынули глаз. Степина мать привезла ее. Она вообще помогала Светлане Викторовне, стирала ей, мыла пол и получала за работу всякие нелепости: то перчатки без пальцев — митенки какие-то для бальных танцев, то пальтишко без рукавов. Нет, не то чтобы выпороты рукава, а внакидку его носят, так сделано.
— Дура, — сказал ей как-то Стенай. Это я сама слышала. — Дура, и все. На черта тебе эти буржуйские выдрюшки?
— А красота! — ответила женщина. И глаза ее — светлые, в больших ресницах — глядели нежно.
— Носить, что ли, будешь?
— Да господь с тобой.
— Тьфу, юродивая!
Степан стеснялся ее. И что стирать ходит к чужим людям, и что детой много нарожала: у него уж к той поре трое братьев меньших вылупилось.
Я заглянула в окно. В темноватой комнате, под которой прежде было озеро, на старинном диване, сделанном углом, тихо сидела старая старуха. Так мне показалось. Потом я поняла — это из-за волос. Волосы у Светланы Викторовны стали белые. Вот оно что! Поседела. А может, раньше их красила. Теперь волосы были короткие, как парик, и чуть завивались. Рядом пристроилась Степина мать — Марина Ивановна — и гладила старуху по руке.
— Входи, входи, — кивнула мне Светлана Викторовна. И оборотила ко мне свое одноглазое лицо.
Мне ничего не оставалось. И я вошла.
— Ну как я? — спросила больная. — Очень страшная? — И оставшийся выпуклый глаз заходил беспокойно. Он теперь не делал лица. Он жил сам по себе — тревожной, загнанной жизнью. А на месте второго была яма и смеженные веки.
— Страшная, да?
— Нет, что вы! — И я покраснела.
— Что ты, милая. — мягко запела Марина Ивановна, Стёпина мать. — Что ты, страдалица, об чем думаешь. Повязочку перекинешь через лицо, и все. А волосы-то, волосы красоты какой!
— Я их подсиню, — отозвалась Светлана Викторовна пободрее, а глаз бродил по нашим лицам, моляще и беспомощно. — Не узнает меня Леонид, как вернется. Хотя, впрочем… — и махнула рукой. — Вот ведь, а? Сколько лет прошло…
«Зачем такой старой жить?» — думала я.
— А на заседание правления этого ты, милая, сходи, — сказала вдруг Марина Ивановна и заспешила. — Сходи, не гордись. Кто за тебя постоит, ежели не сама?
Я тоже поднялась и пошла за. Мариной Ивановной через Степину пустую комнату. По дороге женщина сняла со стула белую рубаху:
— Постираю. Не велит, а ведь занят как, занят как!
Вечером, когда совсем стемнело, мы трое — Надька, Юрочка и я — топтались на снегу под Настиным окном. Нам было плохо слышно, что говорил Сидоров-старший. Только изредка долетало особенно громкое:
— Должны избавляться… — и что-то еще. И усы топорщились на смуглом лице, и посверкивали лихорадочно глаза.
Светлана Викторовна сидела у того края стола, где никого не было. Водила глазом за говорящими. Будто и не понимала совсем. И вдруг стало слышно.
— Хватит ей кровь нашу пить! — закричала Настя. Она встала со стула, махнула белой полной рукой, и пучок на голове разлетелся. Рыжеватые ее, нежные волосы полились по спине и плечам.
— Человек учится, ценный человек, а покою от нее не имеет! — И она повела голубыми, потеплевшими глазами в сторону Степана.
Степан сидел тут же — гладко причесанный, прямой. В опущенных на колени руках застыла нетолстая книжка.
— Ишь, к Степке, к Степке льнет! — зашептала Надька. А Юрочка прикрыл глаза, коснулся ресницами бледных щек. Его ласковая порочная улыбка чуть развела яркие губы.
Но тут встал мой отец. Я почему-то не знала, что он маленького роста и что глаза его так узки, почти бесцветны и идут уголками вниз. А вельветовая коричневая курточка — старенькая и без пуговицы на правом рукаве. Может, поэтому он не взмахнул рукой, а, наоборот, опустил ее на крышку стола, придерживая манжет. Я поняла, что его не будет слышно совсем. Он вообще говорил тихо. Такой голос. Но глазами сердился. И губы подергивались. Я никогда не видала, как он сердится.
А Светлана Викторовна вдруг наклонила седую голову к столу и заплакала. Мы видели, как она шарит рукой по платью, ища карман. Потом нашла, вынула платок и приложила сперва к одному глазу, потом к другому. И я подумала еще — вот ведь глупость какую! — а тот глаз, которого нет, неужели он тоже плачет?
Я не знала, за кого говорил отец. И хотела знать. То есть я догадывалась, конечно, но почему же тогда она плачет?
После опять кричала Настя:
— А нам какое дело! Что он, не человек? К нему прийти никто не может.
И Сидоров-старший — моему отцу:
— Вам хорошо, у вас на человека по комнате!
И потом еще дворник Никита:
— А все ж таки… Это… Зима.
— Пошли, — сказала Надька. Она так сказала, потому что к дому ковыляла ее бабка.
— Пошли, пошли.
Но как я могла уйти, когда в этот момент там, в кухне, встал с табуретки Степан. Он заговорил негромко, но внятно:
— Прежде всего, спасибо вам, — сказал он. — Спасибо всем, кто хочет мне добра. И низкий поклон. — И он несколько театрально опустил руку и за ней корпус и голову. Потом выпрямился и чуть громче: — Но не всякую жертву можно принять. Эта женщина, — он вытянул руку в направлении Светланы Викторовны, — эта женщина ничем не обидела меня. Она сама, можно сказать, обижена ходом исторических событий, которые развиваются не в со пользу. Так могу ли я лишить ее последнего прибежища, этой сырой комнаты, где она, может быть, родилась и выросла?!
Светлана Викторовна растроганно рыдала. Сидоров-старший качал головой неодобрительно. Настя изумленно охнула. Мой отец потянулся через стол пожать руку Степану.
В это время на меня наткнулась (я бы сказала, споткнулась об меня!) Надькина бабка. Я в ужасе отскочила от нее.
— Побежали в наш дом! — потянула меня Надька.
Мы пошли в угол двора. Там стоял ледяной дом, мы сами сделали его из вырубленных и политых водой снежных глыб. В темноте он был холоден и жутковат.
— Можно было бы ей отдать, — сказала Надька, — буржуйке.
— Ну, прямо, — отозвался Юрочка. — Может, еще Черный придет. — Он говорил о псе, которого мы поселили было в этом доме. Кормили его, гладили по черным худым бокам. А он взял и ушел, глупый. И мы теперь стали думать-гадать, куда он подался.
— Кто-нибудь взял в квартиру, — солидно сказал Юрочка и тем закончил наш спор.
А тут из Настиной кухни пошли-повалили люди — черные в четырехугольном просвете двери. Мы трое выбежали навстречу старшим. Папа сжал мою захолодавшую ладонь своими теплыми пальцами, и мы пошли.
Мама открыла сразу. Она, видно, собралась спать, да так и не легла: волосы были заплетены в толстую косу, из-под халата — длинная ночная рубашка. Сразу спросила тревожно:
— Ну что?
И отец:
— Оставили. Но послушай, Танюша, — И он отвел маму на кухню. И зашептал. И вдруг оттуда:
— Не может быть! Почему? При чем тут мы?
И быстрый мамин бег в комнату, отчаянный плач.
На другое утро в одну из наших трех комнат въехал Сидоров-младший.
И зря мама плакала. Он был тихий и вежливый. И я могла теперь смотреть завороженно на весь объем его работ и жизни.
Вошел он боком, точь-в-точь как его мамаша. В руках нес, как она же, белый узелок. С ушками. Он, вероятно, боялся скандала. Но когда увидел мою маму — она подчеркнуто строго, по-выходному, оделась и стояла так у керосинки (газа-то еще не было, другая эпоха), — когда он увидел маму, враз приободрился и высоко поднял молодую и умную голову.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, Степа.
Он сглотнул. Нижняя губа его плоско растянулась. Он, видно, хотел сформулировать. Я уже говорила, это была его слабость. Но мама опередила:
— Я освободила вам Анину комнату.
— Спасибо, — он не опустил головы, хотя и хотел, хотел. И снова растянул губу. Потом развел руки и пожал плечами: — Воля масс.
Мама улыбнулась.
— Я постараюсь не мешать вам, Татьяна Николаевна. И даже быть полезным. Мы создадим хороший коллектив.
— Ну, идите тогда завтракать, — еще как-то непроще улыбнулась мама. И ждала. Ему хотелось этой легкости, простоты — а что? чем мы хуже? — но не мог. Не мог. И уклонился. Что-то вроде: «Спасибо, у меня все есть». Да, да, что-то в этом роде.
Лично я была рада, что — Степан. А он смущен. И так был смущён до самой своей женитьбы. Жену он привел тощенькую, с растрепанными завитыми волосами и серым лицом. По имени Катя. Она ходила, стараясь держать пятки вместе, носки врозь.
— Так интеллигентные ходят, — призналась она моей маме. Тянуло, значит, ее. Почему-то. Книжки тоже читала. Тихая. Скоро еще оказалось — с голосом. Сильный такой голос! И без слуха. Арии любила петь. И где их доставала?
Пела она на свой лад. Все пела на свой лад. И жарила картошку на рыбьем жире. Время было такое — небогатое. А Степан учился. При нем она не пела. Он велел снимать туфли, чтобы не стучала каблуками. Это уж для нас. Он, может, и не ведал про ее удивительный голос?! Иначе какие уж тут каблуки. А она томилась. Плакала. А еще он читал ей по вечерам что-то из истории общественных наук.
Однажды она сказала моей маме:
— Уйду я, Татьяна Николаевна. С моим голосом я нигде не пропаду. — И мне почудилась в ее словах уже знакомая мне логика: одно время жила у нас горбатенькая длинноносая такая няня Вера. Она была, как я теперь понимаю, сравнительно молода — лет 26–27. Она говорила: «Я сама некрасивая, так пусть хоть муж будет красивый». Это всегда вселяло в меня оптимизм. И я подумала, что они похожи — няня Вера и эта вот Катя. И внешне похожи (серолицые, носатые), и внутренне. Я проделала тогда первый опыт из серии этих опытов. И он, как и все последующие, подтвердил мои домыслы насчет колодки. Что есть люди с одной колодки.
А какой опыт? Да вот он, элементарный (ведь мне было лет 12, не больше).
Я в свое время спрашивала няню Веру:
— Какие песни самые лучшие? (Она тоже любила петь.)
— Вкраиньски. А то ж яки? — отвечала она. Она была с Украины. Кате я задала тот же вопрос.
— Какие я пою. А то какие же еще? — ответила Катя.
Или я ей, как в свое время няне Вере, рассказывала секрет и просила не говорить маме. Уже к вечеру мама знала все.
Новая игра увлекла меня до самой макушки! Я про себя строила сложные диалоги с Катей, а потом проверяла на ней. Ответы расходились редко.
«Вот так да! — радовалась я в великой наивности. — Ведь так можно управлять человеком! Изучить его соколодника (с одной колодки который), вот как я: изучила няню Веру и теперь все знаю про Катю…»
Но тут Катя уехала. Взяла свои вещи и все кастрюли, потому что купила их сама, и — нет ее. Канула. Степа огорчился. Он сказал:
— Это плохо отразится на моей работе. Я как раз заканчиваю. Не могла подождать!
Но она, как видно, не могла.
Однажды в дверь постучали тихо, но слышно, и я открыла. Человек в светло-сером костюме отодвинул меня и потом уже спросил тоже тихо и тоже очень слышно:
— Сидорова дверь где?
Я показала.
Какой знакомый голос…
Он и за дверью звучал внятно. Только я не сразу уловила, о чем, — пока входную дверь за ним заперла, пока что…
— Да, да, Степан, — слышалось из комнаты. — Надо. Понимаешь? Надо. Ты же грамотный. Человек этот устарел, он мешает поступательному движению вперед. И потом — ты ведь правду скажешь. Не выдумку какую.
— Мелковато, — вздохнул Степан.
— Ерунда. Подумай, Степа. Надо же с чего-то начинать. Не век тебе в чудаках ходить. И опять-таки положение другое займешь.
— Это меня не интересует.
— Как? Жена есть? И оклад нужен, и должность.
— Знаешь, я хочу созидать. А оклад, черт с ним.
— Вот и созидай. Полный тебе простор. Да кто препятствия-то чинить станет?! Ведь только он помеха!
— И потом, — упорствовал Степа, — мне не хочется с этим стариком Сарматовым иметь дело.
— И не надо.
— Но тебе-то пришлось.
— Мне пришлось, а ты можешь избежать. Не со всеми же так.
Наступила пауза.
— Преступный хитрец Талейран, — скрипуче начал Степа. Он всегда немного скрипел голосом, когда хотел сказать что-нибудь важное. — Преступный хитрец говорил (цитирую, прошу простить, неточно): никогда не следуйте первому движению души, потому что оно почти всегда хорошее.
— Ох, Степа, с твоей-то головой! — вздохнул гость. Потом хохотнул догадливо: — Первое твое движение было — отказаться. А?
— Да, — решительно отрубил Степан.
— Ну, значит, все в порядке. Нас не могут подслушивать?
Я кинулась из коридора в кухню, зацепилась за порог и грохнулась. Стопина дверь открылась, и вышел в светло-сером.
— Что с тобой? — спросил он и наклонился. Я увидела вздернутые уголки губ — вроде бы улыбка — и совершенно отдельные от лица, бледные, беспощадные глаза. Я быстро встала. Он не успел поднять за мной глаз, и тогда выделились веки — желтые, морщинистые, и от них — живых — лицо стало еще замороженней и неподвижней. Во рту у меня возник вкус чая с лимонной кислотой. И я зажала рот руками, чтобы не закричать.
— Старайся держаться на ногах, — не меняясь в лицо, сказал в Светло-сером. — Кто падает, тот последний человек. — И близко к моим глазам: — Поняла? И улыбайся. Ну?! Надо уметь улыбаться.
— Это хорошая девочка, — услышала я голос Степана. Степа Сидоров (неужели это возможно?!) пришел мне на помощь.
Человек резко повернулся, подал Степану руку и ушел.
— Да, мой младший друг, — сказал мне Сидоров. — Действительно с чего-то надо начинать. Лучше не с этого. Но если я откажусь, я не начну никогда.
— Что? — переспросила я.
— А так. Разговор с самим собой. А ты — просто как статист (он теперь по-соседски перемежал «вы» и «ты». Как когда). — Ведь нужны же и статисты, верно, девочка? Настя не заходила?
Настя заходила. Она заходила теперь каждый день.
— Вы ее любите?
— Настю? Мне трудно обсуждать с вами эту тему, Аня. Вы еще очень молоды. Но если вас это интересует, скажу: я хочу предложить ей честный компромисс.
— А что это?
— Ну вот я и говорю — вам не будет понятно.
— Она била… тут… одного мальчика.
— Пасынка? Я знаю. Но разве я похож на человека, которого можно побить?
Нет, он не был похож. Но я думала: ведь это неприятно быть с такой. Разве только в себе дело. То есть я не думала, а чувствовала так и потому сказать не могла. И покачала головой: нет, мол, не похож.
Странное дело: Степан жил рядом, я видела, как он мылся у раковины, ходил в уборную, чистил возле кухонного стола ботинки и — оставался божеством. Завораживал, и все. В ном была некая отстраненность от жизни, от быта, мелочей, и ощущалась преданность мысли, что ли.
Я слышала, как за стеной полушепотом он разучивал речи. Смысл их доходил плохо, потому что все же другая комната и дверь забита и заклеена. Но иногда вырывалось возбужденное:
— Товарищи! Истинно говорю вам!
Или:
— Но слова мои, я вижу, не для ваших ушей!
Он нес в себе свои речи, их взрывную силу, и оттого напружинивались при ходьбе его мышцы, высоко взлетала голова и кругом него ощущался некий ореол. Разреженный воздух, что ли. Вакуум. Он готовился. Готовил себя. Он мало ел и много читал. Я была радостно возбуждена, как бывает от ощущения близкой опасности.
Я спала теперь в бывшей столовой и уроки учила там же. И по вечерам слушала его торжественные слова:
— Я говорю вам: все теперь в ваших руках. Держите. Не отдавайте тем, кто… — и он понижал голос.
Я подозревала, что это имеет отношение к нашей семье. И все же мечтала услышать целиком его речь. Всю. Без скидок и купюр.
Потом началась душноватая пора. Она называлась, разумеется в масштабе моего микромира, Настино время.
Настя вошла в него с большим заграничным чемоданом, который, конечно же, остался от Яна и его отца. Вошла, сделала низкий этакий — рукой до полу — поклон и потом подбоченилась:
— Николаевна, принимай хозяйку. — Она была нахальна и дивно красива. Я уж заметила: когда нахальна — всегда красивее. Это были, видно, ее душевные взлеты.
— Я думаю, — склонив набок голову, ответила мама. — Я думаю, это все должно быть обращено к моему соседу.
— Степку я обратаю, — прервала Настя. — Он тут баб без меня не водит?
Мама была не намного старше Насти, но как-то уважаемей, с ней так говорить было нельзя. И почему Наська не понимала?
— Это уж, Настенька, ваши заботы. Идите в комнату, дверь он не запирает.
— Хм! Доверяет, стало быть! — И она внесла чемодан. Когда пришел Степан, он, кажется, не проявил восторга. Потому что был слышен ее крик:
— Это теперь так не выйдет — нажился со мной вдоволь и — иди куда хошь! Да я в твой институт прямо — тебе и закончить-то его не дам!
Потом утихла. Сидоров Степа всегда ценил вескость аргумента.
И в доме стало душно. Настя целыми днями стряпала, стирала, убирала… И все ворчала, что кухня плохо метена, что стекла не протерты, а керосинка у мамы коптит. И еще электричество нагорает…
— …полы будем мыть в очередь!
Вот, собственно, и все Настино время. Только что тянулось око несколько лет, а может, и десятилетий. Уж не знаю теперь.
Мы в то время (в смысле — Настино) рано уезжали из города. Чуть пригреет солнышко, чуть подсохнут тротуары — и нас уже нет. Мы где-нибудь в деревне, в лесу. Так что во всем есть свое хорошее.
Я помню эти ранние просыпания, поток солнца, разреженный почти голыми еще ветками на цветные прохладные лучи. И наши с отцом сборы — сапоги, корзины… Мы ходили по сморчки. Думаю теперь, что это предприятие было и хозяйственным, грибы, помнится, были основным блюдом.
Это чистое счастье — рыться в коричневом листе, забившем землю и выемки меж корней, и вдруг увидеть хитрого такого, холодного на ощупь, материального, почти живого…
А отведешь глаза — может пропасть. Подкрадешься к нему — цап! И вот уж он — обыкновенный гриб. И теперь не скажешь и не подумаешь: «Я нашла его, хитрого», а просто: «Я нашла хитрый гриб» (винительный неодушевленный). То же было с ветками, с цветами. Они теряли одушевленность, отрываясь от леса, переходя в руки. И далее с ужом. Я поймала его (я никого этакого не боялась). Был он раньше крепкий, ловкий, под цвет сучков и палок, пропитанных болотной водой. От него, от его присутствия, мясистая осока пахла ужом — есть такой особый запах — и тайной его жизни. А потом, в стеклянной банке, дома, весь на виду, он стал ползучим и, честно говоря, довольно противным. Вонючим, шипучим, вялым… И я рада была, когда он ушел. Просверлил как-то марлю на банке и ушел. Я его очень уважала за это.
А деревья я узнавала в лицо. Между нами не было большой разницы, что вот она родилась сосной, а я человеком. Мы в чем-то сходились. Где-то в вышине. Где-то к небу, к его широкому, сплошному, не прерываемому смертью и новым рождением.
Это — в высокие минуты. А обычно — просто радость общности. Поиски и обретение одного языка.
А лесные тропинки закруживали и водили. Не доверяйте лесным тропинкам! Они незаметно чуть отклоняются: то от восхода к западу, то от тени к солнышку, — и вот уже ты ушел от прямого, от кратчайшего… Здесь и нет кратчайшего. Он сложен, лес. Недоступен законам прямолинейности. И у меня было смутное ощущение, что и основы доброты, праздничности, великого даже корнями уходят куда-то сюда, отсюда черпают и пьют, чтобы потом расти и радовать. Но это опять же одни чувства, едва переросшие в тени мыслей. Как тяжело ощутить мысль чем-то плотным, реальным, облечь в слова.
Как трудно, наверное, формулировать. Как тяжело ему, Степану!
Удивительно все-таки, что невзрослый человек понимает почти столько же, сколько и проживший много лет. Вот почему, к примеру, я вперила глаза в Степу Сидорова тогда, в раннюю пору свою и его? Гипноз полярности? Да нет, тогда еще не было такого размаха крыл, разведения ножниц. А вот почему-то знала. И знала нечто, когда пришел к нему снова человек в Светло-сером. Снова и снова. Стал наведываться. Он, человек этот, стоял на лесенке выше, но притягивался, видно, Стёпиной духовностью, искал общенья! И, чтоб не спускаться всякий раз, стал подымать нашего Степана. И довольно-таки поднял.
А потом еще — Настя.
В Светло-сером нарочно старался не глядеть на неё, хмурился, отводил глаза и смущался невероятно, это было заметно даже мне. Но Степан будто и не видел ничего, будто так и надо. И не из соображений каких-нибудь, а просто мало дорожил своей Настей. А у них уже дочка была, Света, вся в Степана — не взяла Настиной красы. Но шустра: встанет на кроватку и кричит:
— Товарищи, та-та!
А Степан стал взрослеть, солиднеть:
— Не возражаете, дорогие соседи, если я проведу себе личный телефон?
Или — после работы — этак властно:
— Анастасия, что там с ужином?
И потом — радио. Жил под звуки радио. А когда окунался в пустоту перерыва с 3 до 4, — пел, точно не хотел оставаться с собой.
Вскоре получил квартиру. Все удобства. Включая даже газ. (Уже и газ!) Включая и выключая. По желанию.
Уезжая от нас, прощался за руку, а меня даже поцеловал в бровь. И тут вблизи я различила у него на лбу маленькое розовое клеймышко (от слова «клеймо»). Малюсенькое. Но четко очерченное. Никаких сомнений. Я бы зря не сказала такого. Точно. Точно. Это был квадрат.
Во дворе все время что-то стрекотало и падало. Стрекотала пила, а падали деревья. Вернее, толстые ветки, верхушки, самая красота. Это была пора обрубания деревьев. И весь город от этого стоял безрукий и безголовый.
В эти дни к нам часто захаживал Степа Сидоров. Было это удивительно, потому что близкой дружбы за время нашего совместного житья не возникло. И почему-то тревожило мою маму. Мою. К своей он не заходил. А от нее муж все же ушел, Степин отец. Она, правда, не бедствовала: устроилась в столовую, там кое-что перепадало. Там ее и грамоте выучили. И ходила она теперь улыбчивая, будто устойчивей стала, очень чистенькая (но это, правда, всегда) и довольно даже молодая. Мальчишек своих, озорных до безобразия, звала «ребяточки» и сильно баловала, потому что хуже сирот остались.
— Степушка-то был у вас? — застенчиво спрашивала она мою маму и обтирала губы ладонью, словно хотела поцеловаться.
— Был, Марина Ивановна.
— Уж теперь можно меня и Марьей звать. Какая я Марина, это ведь он по-городскому хотел. А я все деревенская.
— Ну и хорошо. Ведь дело-то не в этом.
— А вы не замечали, Татьяна Николаевна, голубушка моя, чтой-то мне сдается, Степушку-то как подменили. Ну как подменили! Все думает про что-то, да поет, да из уголка в угол так и бегат, так и бегат…
— Он, значит, заходил к вам?
— Нет, я к им в гости наведывалась. По Светочке маленькой скучаю — девочка такая теплая. А у меня все мальчишки, мальчишки. Да и Настена — ведь она ничего, а? Ничего.
И вдруг сама Настена явилась. Она после ребеночка начала толстеть и там, в новой квартире, сдобная стала, белая, не такая уж красавица, как прежде.
Пришла. Села в кухне на табурет. Посидела молча. Улыбнулась победно, а сказала иное:
— Вот, Николаевна, за мою злость получаю, — и прекрасные глаза ее стали наливаться, изливаться слезами. И вдруг закрыла лицо руками, заплакала: — Прости ты меня, дуру колючую…
— Да что случилось-то, Настя?
Мама дала ей воды. Женщина выпила воды, повсхлипывала в стакан, а слезы все шли, шли по двум дорожкам на бело-розовом лице — одна за другой.
— Да что, Настенька? Скажи уж.
— Гонит он меня, Татьяна Николаевна. Никакой, видно, доченькой не удержать.
— Он вчера был здесь, ничего не говорил.
— И не скажет, не скажет, такой тайный стал, такой злой, уж и не знаю. А я-то дура привыкла к нему. И квартира теперь хорошая: Живя только да живи… — И опять заплакала. — Я ведь ему и стираю, и полы — вы нее знаете, и готовить по книжечке выучилась, что твой повар. Чего не жить, а? А что стара — так ведь с ним моложе-то не уживется. Ведь была вот одна… Да и хороша я еще, верно ведь?
— Очень хороша.
Настя достала из кармана пальто зеркальце, припудрила пятна на лице.
— Хоть бы тот, начальник его, вот который к вам все ходит, неженатый был… Он бы за мной — куда хоть! Уж я знаю!.. А то — двое детей. И думать об нем нечего.
— За что же Степан тебя гонит?
— А кто разберет. Ой, и не знаю, не знаю, что за человек стал! Может, вы бы сказали ему, а? Татьяна Николаевна! Он вас слушает.
Мне было жалко Настю. Без своих метелок и кастрюль да без нахальной красы она сразу помягчела.
— Мам, — спросила я, когда Настя ушла. — Мам, я ведь ее прямо ненавидела, а сегодня — ничего. И вроде бы она хорошая.
— Что ж хорошего? — подняла брови мама. — Просто жизнь пообтесала углы. Степа — кремневый человек. И не то еще перемелет.
— Мам, ну сегодня-то она добрая была. И на меня так глядела, будто соскучилась даже.
— И она человек, — печально подумала вслух мама. — Просто благородства в ней нет совсем.
— Как это?
— А так. Человек, например, пишет с ошибками. Если постарается да со словариком — он может и грамотно написать. Но чуть поспешит… А уж если грамотный человек, — спеши он, не спеши, сердись, радуйся — ошибок не насажает.
У нас под окном рос огромный тополь, ветки лежали на крыше — дед ещё сажал. Мой дед. Это очень давно. Так вот. И он. Дождался. Одни немые култышки. Все остальное рухнуло и валялось внизу, на весенней горькой земле. Сразу открылись: труба завода, заплатанная соседняя крыша, чужие окна. Много чужих окон. Раньше они из-за тополевых листьев по вечерам как лесные огоньки бродили, мигали, разноцветные. А теперь обозначились в них лампы, абажуры с бахромами, бока толстых гардеробов.
Это как раз в тот час было — распиловка-то, — как Настя ушла и мы про нее говорили. Так она вернулась. Постучала робко в дверь черного хода, поглядела в кухонное окно — тополь и кухню осенял тоже — и благостно вздохнула.
— И чего здесь не жилось? Свету-то, свету сколько стало. — Погладила меня по голове, еще раз простилась с мамой. — И чего ищет человек?
Вечером отец принес в квартиру обезглавленный комель. Кожу с него кто-то содрал. Я подумала — просто из жестокости, но и там, под кожей, он был все равно прекрасен: обозначены были какие-то жилы, мускулы, незнакомая нам, совершенная система жизни.
Древесное это создание поселилось в бывшей столовой, между моей кушеткой и письменным столом. Оно сразу обрело это место, будто если уж не на воле, то именно здесь, и как бы задышало. Это был маленький праздник — его присутствие.
Потом была сцена, которая осталась в памяти, хотя смысл ее мне уловить так и не удалось.
Совсем поздно вечером постучали. Мы затаились. Еще постучали. И отец пошел открывать.
— Простите, простите, — говорил кто-то шепотом в коридоре.
— Да вы проходите, — тихо и радостно отозвался отец, и мы с мамой сразу выбежали, похрабрев.
Там стоял мой старик. Старик Сарматов. Он жался к двери, робел, что поздно:
— Я на секундочку. Ну, спасибо. Да я, собственно… Вошел в комнату, огляделся:
— Я так и думал, что это вы унесли дерево…
Ведь пустяк, а? Ну кому оно нужно, дерево? Но он тревожился, и тревога передалась нам.
— Спрячьте вы этого инвалида, очень прошу вас, — сказал Сарматов. — Спрячьте.
— Да, надо завесить, — не удивилась его словам мама.
— Ну и отлично. — Он крепко и прочувствованно пожал всем нам руки. — Простите, что ворвался, так сказать, без приглашения. Не сердитесь. Я не сразу решился, знаете..
Он засеменил у порога — старенький ведь — и утопал по лесенке, оглядываясь по сторонам. И мне коричневой своей головкой кивнул:
— Заходи.
А Надькина бабка вдруг перестала пить. И мы точно впервые узнали, что ее зовут Мария Андриановна. Тихая стала, всё что-то слушала в себе. У нее дочка куда-то пропала: спросят, а она не знает, — Надькина и Юрочкина мать. А отца у них и вообще никогда не было.
Сядет бабка Мария Андриановна во дворе на лавку, поднимет к солнышку обвисшее, худое лицо. Кто пройдет — она окликнет:
— Марин, Марина Ивановна, посиди со мной.
— А что ж не посидеть. — Степина мать мягко опускалась рядом, ставила сумку возле ног.
— Чего несешь-то?
— А из столовой дали. Каша вот осталась — пригорела чуток. И котлетки.
— И котлетки?
— Возьми, покушай.
— А детишкам-то?
— Кушай, кушай, вон у тебя и шкурка поползла уже. Помрешь, видно, скоро.
— А и помру. — Обезьяньей тоски глаза успокаивались, будто кто-то шарил в душе и нашел болевую точку, прижал теплыми пальцами, и вот уже не так больно.
— На что живете-то теперь, без дочки?
— Я на работу пошла, Маринушка. В общественную уборную.
— Какая ж прибыль-то?
— А малая. Да ведь не пью теперь. Все в дом. А место хорошее, нужное. Вот намедне заходит ко мне туда человек один — тихий. И — с ноги на ногу, с ноги на ногу. Забитый этакий, неудачливый. «Можно, — говорит, — тут у вас?» А я ему: «Писяй, голубчик, писяй, чай ты не хуже других». Вышел он из кабинки, гляжу — приосанился. «Я, — говорит, — теперь, бабка, им докажу, что я тоже есть человек. Спасибо, — говорит, — тебе, бабка, за доброту». Очень нужная работа, место хорошее, теплое.
Я смотрела на Марину эту Ивановну, как она бабку кормит, поддакивает, и мне хотелось слушать ее. Сказки ее всякие странные — она много нам, ребятам, рассказывала про чертей, про леших, и о дочке своей, самой первой, что еще до Степы была, любила говорить. Тосковала, как видно.
— Померла она, — и судьбинно качала головой. — От неухода померла.
— Как это?
— Да так. Я на ферме работала, а она всё одна, всё одна. У меня родных-то не было. Съела, может, что. Или простыла. Сгорела в два денька.
И плакала. Ни на кого, ни на что не сердилась. Просто плакала.
И Мария Андриановна вот молча ждала смерти, не лечилась, не жаловалась — эко дело помереть. Неуход — не-бережение — небрежение… Такой может, думала я потом, такой может, он, русский человек. Потому что многочисленный.
Надькина бабка и правда скоро померла. Тихо и одна. Ребята гуляли в этот час. У ворот стояли. К нашему забору старинные ворота здоровые были приделаны с козырьком от дождя. Там и собирались иногда постоять. Надька к прохожим немного задиралась:
— Вот какой ладный паренек идет. И не поглядит. Ну, чего, чего уставился-то! — и улыбнется, отвернувшись, знакомой, Юрочкиной, улыбкой. Или так: — Не подкашливай рублями, у нас трешники в кармане.
Ей думалось, что это стихи. Неловко было стоять тут, в подворотне, от не стихов.
В это время бабка и померла.
А Надька ничего, хорошенькая получилась, зеленоглазая. А уж Юрочка — прямо красавец. Но, странно, я больше никогда их не видела и не знала, будто на том дне, на смерти бабки все оборвалось и они тоже сгинули.
А к нам опять Настя въехала. Привезла на чьем-то автомобиле девочку — подросшую уже — и чемоданы с узлами, сбила замок, который приладил к бывшей моей комнате дворник Никита, чтобы не заняли, и стала жить. Ее, правда, приходили выселять, но она кричала:
— Гоните, гоните с ребенком на улицу! — Светка, уже высокенькая, узкоглазая, хмуро и молча глядела перед собой. — Если есть такое право, гоните! — переходила на визг Настя. — Да я к вашему начальнику в кабинет перееду!
И отступились. Тем более у нее по ногам пошли толстые синие жилы. Куда ж ее? Безмужнюю-то. И Степана, как я поняла, немного боялись: уж он был не просто так. К тому времени достиг.
Глава IV
Старик Сарматов открыл передо мной дверцу шкафа. Помните, я как-то говорила, что навестила его, приехала к нему сквозь оранжевый закат, какого никогда не бывало в детстве. И вот он открыл дверцу шкафа. И жест был таким реальным — я до сих пор не уверена, что мне это приснилось. И жест, и темные древесные разводы на дверце шкафа, и эти унылые гладкие лица, висевшие там, в глубине. Одни унылые остались, а с веселым разрезом рта не было.
— Где же они?
— Не успеваю изготовлять, — грустно ответил старик. — И потом, знаешь, получается, как нынче принято выражаться, жуткая халтура. Все одинаковые. Из-за меня теперь ходят по свету толпы близнецов.
— Вы, верно, богаты?
— Я богат страхами, милая девочка. (Для него я всегда, и теперь даже, девочка.)
— А кто вам велел?
— Ты же присутствовала при первом. Этот властный голос… — Старик усох, плечи торчали у самых ушей.
— Чего вам бояться, вы же будете вечно!
— Ну, этого никто не знает, во-первых. А во-вторых, не всего в жизни хочется вечно. — Он закрыл шкаф. — А ты, собственно, чего?
— Видите ли… Я могу это только вам. Вот я хожу так гордо, и все думают… А я знаю — я совершенно беспомощна. Я не придумана для наступлений. Но какой-то щит нужен. Мне еще несколько лет назад один ответственный человек сказал: «Надо уметь держаться на ногах».
— Да, пожалуй. — Я думала, он будет утешать ложью. А он «Да, пожалуй». Эти его слова больше всего и наводят меня на мысль о сне. — Тебе в переизбытке отмерено серьезности. И лицо, черты это выдают.
— Вот я и подумала. Ведь вы могли бы…
— Тебе не нужно! — мягко оборвал он. — Это ведь для другого совсем.
— …Мы так давно дружим, а?
— Не хочу. Кто-то должен остаться вне…
— Я очень прошу вас.
— Я уже сделал Степану. Все надеялся — ему не придется. Но… тут квадрат… Уже не обойтись, он занял всё лицо. А тебе-то зачем?
— Как — всё лицо?
— А так — сплошной квадрат.
Я потрясенно молчала.
— Ну, поняла?
— А что было у того, у первого?
— То же. Знак.
— Квадрат?
— Да, да, девочка. Неужели ты еще не уловила?.. Раздумала теперь?
— Я бы все-таки…
— Тогда вот что: только нос, и ни штриха больше.
— Как это?
— А вот так.
Он выдвинул ящик стола и достал нечто, похожее на детский крохотный чулочек телесного цвета.
— Иди к лампе.
Я села у рояля под широким желтым торшером. Он занавесил окна, поднял мою голову за подбородок и быстро и больно нашлепнул это нечто мне на пос. Погладил, помассировал. Дал зеркало.
Мой нос незаметно, неуловимо подался кончиком вверх, чуть удлиняя ноздри, чуть вздергивая верхнюю губу, сделав лицо миловидней в проще, открытей.
— Довольна?
— Да… Не знаю… — И я почему-то заплакала. Старик схватил клок ваты, стал стирать слезы со щек и моего нового носа.
— Ну, попробуй. Ну, ничего. Очень удачно вышло. Я тебе сниму потом, как только захочешь. Я обещаю. Не прирастет.
Я помню ужас, в котором я, проснувшись, схватила зеркало!..
Лицо было ясным, улыбчивым, открытым. (Сон? Явь?) А каким оно было вчера? Позавчера? Все спешишь, спешишь, и некогда разглядеть себя.
В то время я уже поступила на работу и едва удерживалась на ней — постоянно тревожилась по этому поводу и пыталась скрыть тревогу.
Мне не хочется рассказывать о сути работы, потому что она связана с архитектурой, с градостроительством, так сказать. А я в этом не сильна. Училась вот, а не сильна. Это, к сожалению, бывает. Не полюбила проекты удобных и похожих друг на друга домов и неудобных, впрочем, тоже очень похожих: совмещенный санузел и кухня, почти совмещенная с комнатой. Не научилась мыслить такими понятиями, как надо: широты не хватило. Тут ведь нужна широта.
Начальник (его называли на купецкий манер — «сам») был мной недоволен. Вызывал в свой обширный кабинет — я то время была кампания по выдвижению молодежи, — объяснял, опустив седую голову и не поднимая глаз:
— Вот поручаешь вам, понимаете, самостоятельную работу и, ей-богу, лучше бы поручить ее нянечке Михайловне. (Была у нас такая.)
— А что?
Я спрашивала очень робко, а искренняя (я подчеркиваю, искренняя) робость раздражает всех начальников на всех континентах.
— А то. Вы должны, понимаете, уложиться в определенную сумму. А вы мне лепите какую-то башенку на одну квартиру. Что ж, из-за нее в пятиэтажном доме лифт, что ли, ставить?
— …Нет… Это для тех, кто хочет абсолютной тишины. Ведь звукоизоляция плохая…
— Я про лифт говорю.
— Не надо лифта. Эту квартиру будут давать тому, кто соглашается (я воодушевлялась), кто идет на это ради… Ну, ради и тишины и красоты. Эти башенки можно делать разной формы, с балкончиками, с выходом на крышу. Тогда весь дом преобразится.
— Хм… Преобразится. Вы, кажется, не слышите, о чем я говорю. Я говорю о расходах. Идите, понимаете, займитесь чужими чертежами. Вам еще, как я вижу, рано.
Так было поначалу. Я понимала, что мои поиски нелепы, но, вероятно, а) не была достаточно талантлива; б) не знала, что красота достигается иной раз прекрасной, гармоничной планировкой и в) довлел ещё мой «городок за «семью стенами», и я трудно перестраивалась. Ведь в нашем горбатом переулочке дома были хоть и не комфортабельные, но — личности: каждый нес что-то свое. И я помню, меня это радовало.
Вот то-то и оно, что это от нас мало зависит. Так же, как не зависят от нас наши сны.
Помню приход на работу в тот день, когда впервые увидела в зеркале свое новое лицо. Надо честно сказать, что печаль моя по поводу утраченного очень скоро сменилась радостью (я ведь кое-что и приобрела!), а новое лицо почему-то продиктовало и новую походку: ток-ток-ток каблуки по начальственному кабинету. «Сам» впервые поднял седую голову и поглядел.
(Оказалось, между прочим, что он не стар, а просто сед.)
— Так что вы сказали?
— Я говорю — нельзя людей обрекать на созерцание бесконечной одинаковости. Медицински доказано, что если жизнь идет слишком размеренно, не перемежаясь радостями, человек сходит с ума.
— Какие, понимаете, у вас идеи… странные.
— Чего же странного?
Я говорила серьезно, а улыбка цвела сама по себе.
— Вам смешно? Вы думаете — вот старый брюзга…
— Ну, не совсем…
— Благодарю. — Впервые на его лице появилось что-то вроде ухмылки. И голос звучал без досады. Скорее, устало. — Поймите, нам надо переселить людей из подвалов, разредить квадратуру, тесноту, значит, устранить. Это же яснее ясного.
— Конечно! (Улыбка.) Но ведь потом многим поколеньям… — Это почему-то обидело.
— Бросьте, понимаете, демагогию. Зачем она нам с вами.
— И вы бросьте.
Мы впервые глянули друг другу в глаза. Его хмурые, и мои — хмурые. Но улыбка! У него не было улыбки. Куда ему до меня!
Тогда я сделала несколько шагов к его креслу и подробно осмотрела (только что не ощупала) это замкнутое лицо. Никакого квадрата. Лицо было чисто, как его помыслы. И неравнодушно. И вдруг залилось краской — до седых волос. Может, он подумал, что я его сейчас поцелую?
По-моему, исключительно для того, чтобы стряхнуть смущение, пробурчал:
— Вообще не было ни одной женщины-зодчего.
— Спасибо, — засмеялась я (уже вполне искренне).
— И не будет.
Он молодо тряхнул головой и тоже почему-то засмеялся (может, был рад, что я его все-таки не поцеловала) и проводил до дверей, пожав мне руку на виду у секретарши.
Через несколько дней я услышала, как обо мне говорят:
— У этой нахалки кто-то завелся в министерстве. Ишь, улыбается ходит. И «сам» перед ней расшаркивается.
Я расправила плечи и вобрала воздух полной грудью. Вот он щит. Защита.
Я не предвидела той опасности, которую несла в себе моя крохотная полумасочка (четвертьмаска? Одна двенадцатая маски? Сколько там нос занимает на лице?) Ведь настало время встретить Тебя. А нужна ли Тебе была моя улыбка? Такая — от Мастера Масок?
Мне очень трудно говорить о Тебе. И я все откладывала. Думала, что сумею сделать это косвенно. Ну хотя бы рассказывая о Яне, или о лесе, или о милом старике Сарматове.
Глава V
Так вот…
По стечению обстоятельств наша градостроительская мастерская находилась рядом со студией монументальной скульптуры. Это чистая случайность, потому что наше общение не было запроектировано (хотя и напрасно). Но мы общались. Главным образом в кафе, куда забегали перекусить. К чести нашей скажем, что определенного времени на обед не было — полагались на совесть. Вот мы и забегали в нелюдные часы. И многие давно перезнакомились. Но меня опять повело в сторону. Нет, сначала надо все расставить по местам.
Ты это — Ты. С большой буквы. Всегда. Как бы оно ни обернулось. Все остальное — в зависимости. На всё остальное я просила бы оставить за собой право смотреть, не поддаваясь эмоциям. Но Ты — вне моей объективности.
А поначалу я даже не отметила для себя, как мы встретились. Это было совершенно естественно — нам встретиться. Иначе не могло быть.
Иногда мне кажется, что мы разговорились на заглохшей лесной дороге. Елки сплошняком, трава в колеях… Но это не так. Так просто не бывает. Нужен случай, может, даже пошловатый. И он не задержался.
Была вечеринка. Самая обычная. (Обе наши мастерские.) Танцы там, застолье. И нас прибило к одной и той же стене. Вот Ты и позвал танцевать, подошел и знакомо-доверчиво и беспомощно нагнул голову:
— Только я не очень-то мастер…
Мы сбивались и радовались этому. (Конечно, Ты был не мастер. И это прекрасно.) Я не знаю, чему радовался Ты. Может, передавалось мое оживление. А я ощущала нечто. То, что назвала когда-то для себя «эффектом присутствия». И это сразу переокрасило вечеринку, лица, небо за окном. Все приобрело смысл и гармонию.
Мы смеялись. Мы были рады друг другу. Да, да. Сразу — рады.
Только потом, когда это уже не имело значения, я спохватилась: улыбка. На мне была надета моя улыбка. Ты ведь мог не узнать меня. Но ты узнал. (Правда, после ее появления прошло уже некоторое время, а ведь лицо обычно ассимилирует новое, в нем проступает его, исконное.) Ну, так вернемся к той вечеринке.
Я, честно говоря, не сразу поняла, на кого Ты похож. Ты был похож. И я глядела, наверное, очень. Но в Тебе этого не было — чтоб расценить не так. Я знала. Не боялась.
Потом, когда кончился один танец и начался другой, Ты пригласил кого-то еще. Ты это сделал потому же, почему я когда-то после поездки в трамвае отстранилась от Яна. Мы ведь боимся людских глаз!
Ты был весел. Я знала почему. Знала. Знала. Но от ложного твоего шага было больно. Нельзя. Между нами этого нельзя. И Ты сразу подошел. Кроме того, я уже поняла, на кого Ты похож.
И мы вышли подышать на улицу.
Весна в самом начале. Все это где-то в пригороде, вернее — в новом районе нашего города. Между домами — уцелевшие березы и сосенки. «Перед глазами травы и дерева…» — подумала я. И Ты оглядел уснувший этот древесный мирок со своей почти двухметровой высоты и сказал вдруг:
— Этим только и можно клясться. И заклинать. Ты веришь в заклятье?
— Да.
— Я так и знал. А кем ты была прежде?
— Я думаю — деревом. — И засмеялась. — Извини меня, просто деревом. Сосной.
Ты не засмеялся.
— А я кем-то летающим. И потом разбился. Я помню, как падал. Удар об землю.
Мы помолчали. Походили молча очень хорошо. Потом Ты сказал:
— Слушай, Юля…
— Я не Юля. Меня зовут Аня.
— Но ведь ты родилась в июле?
— Да. Откуда ты знаешь?
— Потому что я тоже в июле. И меня зовут Юлий.
— Перед глазами травы и дерева, — сказала я. И Ты согласно качнул головой.
Это все не было отходом от того, первого. А было продолжением. Продолжением прерванного диалога. Я уже говорила о законе. Об общей форме, в которую вкладывается похожая сущность. Не глина, конечно, — я тогда грубо сказала. А что-то переплетенное, живое, трепетное, если так дозволено выразиться.
Время с того вечера стало отсчитываться под знаком Твое. Тепло от него доходит ко мне и по сей год. И так же, как не властна я в лунных притяжениях, от которых зависит морской прибой, не властна и в законах, по которым меня снова и снова прибивает к Твоему берегу. Логики в этом возвращении нет никакой, кроме разве логики зеленого листа, желания вечно родиться заново в клейкой, душистой оболочке, раскрывающей створки, и видеть родящийся заново мир.
Когда от понятий «я» и «ты» мы перешли к ласковому «мы», Ты сказал, что прежде с тобой ничего такого не бывало. Так люди говорят иногда, чтобы порадовать друг друга. Но в Твоей искренности нельзя усомниться.
Я не сказала Тебе того же, потому что это было бы неправдой. Хотя надо было сказать, потому что это была правда. Перед глазами травы и дерева!
О счастливая пора узнавания и самопознанья.
— Я сегодня видела сон… У тебя бывают сны с продолжениями?
— Да, конечно. У меня есть целый город во сне. Я знаю, как туда проехать. На трамвае с красным номером 39 — мимо белой торцовой стены, сплошной, полукруглой, потом поворот… в общем, я всегда узнаю начало этого пути. Еду во сне куда-то в другое место, и вдруг…
Боже мой, как мне это все жгуче интересно, как важно, просто жизненно важно!
— Это добрый город, Юл?
— Да… В общем — да. Грустный немного. Грустный, как то, что прошло. Или чего не было и не будет.
— Странно.
— Что?
— Что ты так ощущаешь. Ведь ты молод.
— Знаешь, Юлька, я даже моложе, чем на самом деле.
— Как это?
— Вот у тебя бывает ощущение силы? Что ты многое можешь?
— Да.
— И у меня. Мне кажется, я еще очень много могу. Сделал мало, а могу много.
— А что ты сделал? Покажешь?
— Ну, наконец-то, — облегченно вздохнул Ты. — Слава богу. Я думал, тебе неинтересно.
— Разве это возможно? Я просто не решалась спросить.
У Тебя была мастерская в полуподвале. Очень маленькая. Я к тому времени побывала во многих мастерских. Их размеры не всегда соответствовали размерам таланта. Чаще — не соответствовали. Но ведь Ты — монументалист? Здесь нужны масштабы!
Когда Ты включил свет, ко мне изо всех углов потянулись странные удлиненные существа. Длинная гладкая собака, будто бегущая по следу. Только морда ее не была опущена.
Длинная летящая птица, которая, несмотря на подставку (как же без подставки, скульптура ведь!), не касалась тверди.
Длинный бегущий человек. Тоже почти летящий, парящий над землей.
Я потом разглядела, что удлиненность шла не от смещения пропорций, а от порывистости движения, в котором они застыли… Они искали чего-то большего, что выходило за пределы телесной оболочки, и конечно же не дичи, не гнезда, не удачи в спортивном забеге. Темные, гладко отлитые, все меньше метра величиной, они населяли комнату присутствием высокого.
И вдруг меня осенило: все они чем-то похожи на Тебя.
— Автопортреты? — робея, спросила я. Ведь я так мало разбиралась в искусстве.
Ты кивнул. И Твое смущение было только видимым.
— Ты многое можешь, Юл.
— Юлька, друг мой, ведь это надо еще воплотить. Поставить на высокие подставки — во-от такие, как колонны. Рассчитать, чтобы снизу эти чудаки смотрелись пропорциональными… Юлька, милая, не верь мне! «Рассчитать», «воплотить», — да это ерунда, семечки! Главное — чтобы дали город. Дали город на откуп. Средства. Материалы. Рабочую силу. Базу, так сказать. Я измучился без этого. Руки опускаются.
— Но ведь главное, что ты создал их, а остальное… Юл, может, это — тщеславие?
— Нет, — ответил Ты резко. Ты всегда говорил мягко, даже вкрадчиво. А здесь звякнул металл. — Я могу это сделать отлично. И я хочу это сделать.
«Ого!» — тревога всплеснула во мне крыльями. Безотчетная. Мимо сознания, как предчувствие.
Почему я не вслушалась тогда в шорох ос крыл?!
Но Ты наклонился ко мне знакомо — неловко и беспомощно:
— Ты что побледнела, Юлька? Впрочем, тебе идет. — И тревога плавно и неслышно улетела.
О счастливая пора доброго отражения! Ты глядишься в глаза другого человека и видишь себя прекрасной. Тебе все идет! Ты смеешься — идет. Сердишься — тоже. Ты говоришь о себе и вдруг понимаешь, как это все значительно. Не просто «попало от начальства», а:
— Представляю, как ему тяжело налетать на эту твою улыбочку. Вот бедняга!
(И сразу — он, «сам» — бедняга, а ты, хоть и обруганная, — молодец и победитель. Тебя видят так!)
Не просто снимаешь трубку звонящего телефона: «Алле», а:
— Ты знаешь, у тебя удивительный голос. Я бы влюбился в тебя по голосу.
Не просто новое (или впервые увиденное) платье Не просто умение впрыгнуть вместе с удивленными восьмилетними девчонками в круг вращающейся верёвочки, не задеть и выбежать с другой стороны (все от щенячьей радости!).
Не просто загрустить вдруг…
Не просто рассмеяться…
Все, все, все имеет значение, вызывает удивление, восхищение, ответ.
Все рождает ответ.
Как могут люди жить без отклика?!
Счастливая, счастливая, счастливая я! Сама себе завидую!
— Знаешь, Юлька, я иногда завидую себе. Вот так.
Глава VI
Как-то произошел такой случай: за одну ночь сменили названья всех улиц. Городок был маленький, старинный — довольно далеко от нашего огромного города, — и названья, конечно, не соответствовали: все больше касались бога и разной еды — Богословская улица, Борщаговский проезд, Мясников, Попов, Схимников переулок. А в городе — новый завод и мастерская современной игрушки: ракеты, комбайны, мотоциклы. Так что названия не соответствовали, это верно. Но за одну ночь! А?! И как раз наутро мы туда приехали.
Честно говоря, это был мой самый счастливый город. Мне сразу показалось, что я вышла именно из него. Из улочек с деревянными тротуарами, из беленьких церквушек, даже из пожарной каланчи, посреди города. Даже из каланчи. Может, потому что это был первый наш с Тобой город. Мы тайно завоевали его и изучали теперь.
Городок был очень чистенький, в середине пропах ржаным хлебом. По его площади возле пожарной каланчи, на зеленом лужке, ярко белели куры. Невозмутимость такая. Затишье. Издалека, за домами, комариный зуммер трамвая да иногда (а может, мне показалось?!) тонкий, звенящий смех. Голос тонкий, но мужской. И за ним для меня всплывало чуть поверх низкорослых кустов дряблое прокуренное лицо и лысоватая голова без какой-нибудь там бороды или красного колпачка. Странное видение моего детства.
От площади шел пестрый ряд домов: где каменный домик, приземистый, мрачноватый, а рядом — повыше каменного — бревенчатый, обшитый, однако, тесом, резные наличники, деревянные лоджии, тоже все резные. Это диво, сколько там было деревянного кружева! Разные жили люди, разно понимали красоту. Иные дома были так глазасты и беззащитны, что хотелось предложить им масочку (полумаску? четвертьмаску?) — ставенки, что ли.
Через город спокойно шла малая речка. У площади была забрана в камень («береговой её гранит!»), а дальше вдруг по берегу, землистому, травяному, песчаному, начинали попадаться столетние какие-то (если не тысячелетние) ивы с дуплами, с низким наклоном мелколистных густых ветвей, с тенистыми песчаными заводями под этими ветками и мелкими игольчатыми рыбками-мальками — мель-мельк из топи в солнечное пятно!
Я подошла к одной из этих ив, погладила морщинистую кору и серо-коричневую рисунчатую древесину, выступившую вокруг дупла. И вдруг чуть пониже углядела сухой и резкий срез до белого древесного тела и маленький четкий квадрат на нем.
Сразу точно отпал кусочек радости. И — старческий голос из детства: «Знак, знак это».
А сохранился ли тот, наш переулочный парк? Вот, вырубили. А Ян?.. «И вы дружить не станете. Разлетитесь в разные стороны»…
Я схватила Тебя за руку, чтоб ощутить реальность Твоего присутствия.
— Пойдем-ка, пошли.
И мы пошли. Вдали, на отмели, виднелась церквушка. Плыла в движении теней и отсветов, отражавшихся на её стене от воды. Мы постояли, вбирая в себя ивы, речку, церквушку, и двинулись дальше. У нас была цель.
Старый город кончился. Начался пустырь. На той стороне его стоял белый пятиэтажный прямоугольник, пять краснопланочных балконов в каждом секторе и рядом — асфальтовая дорожка буквой «Т», серый куличик помойки.
Мы прошагали мимо. И опять — белый пятиэтажный прямоугольник, балконы, асфальтовая дорожка буквой «Т»… И снова — белый пятиэтажный, балконы, асфальтовая дорожка, и опять — белый, балконы, дорожка…
— У, безликие! — сказала я.
— А я бы мог все изменить, — отозвался Ты.
— Как же? У меня вот не вышло.
— А что ты хотела?
— Башенки.
— «Башенки!» — передразнил Ты. — Да еще, наверное, разные.
— Конечно.
— В типовом проекте, да? Знаешь, кто ты есть?
— Кто?
— Дурочка. Поняла?
— Давно. А что ты имеешь предложить?
— Дворы. Возле каждого дома свои двор и своя скульптура. Свой символ, что ли:
Дом Птицы.
Дом Бегущего Оленя.
Дом Юльки, мчащейся ко мне на свидание.
Ты чмокнул меня в щеку на виду у всего пятиэтажного белого мирка.
— Ты знаешь, Юл, я один раз так бежала к тебе, что чуть не наступила на голубя.
Ты засмеялся.
Ты умел смеяться. Вы замечали, что это умеют не все. Ты, кажется, не был красив. Кажется. Только вот удивительная подвижность лица и глаза, легко меняющие цвет и цену тому, на что они глядят. Чаще они эту цену завышали: ты умел восторгаться. Кроме того, Ты отлично от других (в сторону несуразности) размахивал руками. Почти каждое слово сопровождалось жестом.
— Представь! Вообрази! Мы разбили бы такие диковатые кустарниковые сады вместо этих пустых дворов. Прямо в землю, без ограды, набросали бы семена полевых цветов: у одного дома ромашки, у другого — маки, у третьего — клевер, одуванчики, ну что там еще?!
— Ясно, ясно. Стоп. Вот и место нашего назначения. Иди, отмечай командировку.
Я, кажется, так и не сказала Тебе никогда, что это была только Твоя командировка, а я… я наврала, будто мне нужно здесь что-то по работе. А сама, пользуясь своей всепобеждающей улыбкой, отпросилась на несколько дней за свой счет. Я не могла тогда, не могла без Тебя ни денечка!
Как истинный мужчина, Ты не хотел впускать меня в свои неприятности. А они начались у тебя сразу же. Ты поехал в этот городок, потому что приняли проект Твоего памятника. Дело в том, что там, в этой тишине (прежде ещё большей) жил какое-то время один из лучших писателей земли Русской (какая разница — кто? Поверьте уж на слово), и вот решили поставить памятник.
Как изобразить совесть? Сколько мы видели изображений скорби, радости, торжества! Прекрасного материнства, любви… Да мало ли абстрактных понятий получило воплощение, то есть обрело плоть. И совесть, вероятно, тоже. Ты знал все. Я не знала. И в щенячьем своем упоении Тобой даже не попыталась узнать. Мне хватало Тебя. Вместо всего.
Впрочем, этот памятник Ты задумал еще до меня и без всяких заказов. Это было Твое, кровное. А заказ был получен позже: узнали, что у тебя есть проект, а тут приближалась дата. Все было, скажем мягко, без сантиментов. Есть — давай. Ты пытался скрыть радость, но разве Ты умел?
Мы ходили по городку и высматривали, где можно поставить памятник, хотя место было давно уже обозначено.
Писатель жил в одном из разноликих домочков, что вдоль реки. Не самый выразительный домик. Впрочем, не он строил его. Разумеется, купил готовый. Теперь там, в ожидании музея, разместилась музыкальная школа и, кажется, загс. Я еще подумала, что бракосочетания и регистрации смертей музыкой обеспечены. Правда, случайной.
Ты смотрел широко, а я пристально и оцепенело. Меня удручали, да, удручали крохотные квадратики, чуть заметно очерченные на стенах старых и новых домов. Их было полно. Как дурной сон. Как наваждение. Но человек привыкает к опасности, перестает ощущать ее. И я в конце концов привыкла. А тут рядом — Ты и Твое дело, которое занимало нас постоянно. Итак, к делу.
Памятник должен был разместиться возле этого музыкального загса, возле речки. Но ему было как-то непросторно здесь, будто он, ни на что не претендуя, не хотел, однако, быть приниженным.
Лучше не надо ничего.
— Главную площадь ему, что ли? — удивился Ты. — Так ведь на площадь не поставят этакий.
А памятник, как, впрочем, и писатель, был действительно немного «этакий». На первый взгляд. Только на первый. Сидел хилый человек, низко опустив и спрятав в ладонях лицо. Прекрасны были жилистые тревожные руки; прекрасна форма головы с напряженными венами лба.
Один скульптор говорил, что вылепленная истинным художником обычная круглая бомба должна давать точное ощущение, заряжена она или свободна от заряда.
Эта голова — затылок, лоб, надбровные дуги — все выдавало заряд огромной силы, имя которой — мысль. Мысль невеселая, не имеющая конца и разрешения; мысль, точащая мозг и тело, страдающая и рвущаяся вперед. Да. И здесь, в позе этого больного и худо одетого человека, был порыв, только лишенный юной неоглядности и радости. Было невеселое раздумье, уже осознанное неумение помочь и рвущаяся из силков этого неумения нагая, извивающаяся жажда дела. Совесть. Это, собственно, был памятник Совести — мучительному, очень русскому недугу, поразившему (а может — создавшему) лучших людей нации.
К ногам человека была прислонена книга с автографом. И еще — слепок с его вседневного лица. Это лицо тоже было болезненным и страдающим, но его хоть можно было надеть, выходя на улицу, а то, которое в ладонях, — наверное, нет.
— Ты понимаешь, что это не маска? — допытывался Ты. — Этот человек не носил маски. Просто кожа, что ли. Ведь жить с содранной кожей нельзя. И потом — у каждого есть облик, то есть лик, лицо: рот, нос…
— А Толстой носил маску? — спросила я.
— Думаю, что да. Он немного делал себя для проповеди, как делает священник, надевая парчовую рясу. Ведь он, Толстой, не только отрицал и спрашивал, он и утверждал, хотел научить. А для этого надо, чтобы тебя слушали. Значит — голос; облик; жест. А где жест — там хоть немного, но поза. Поза — театр — грим — маска… Ты, конечно, понимаешь, что тут я не сужу.
Мы шли по старому городу и снова выбрались на пустырь.
— Может, сюда его?
Прикинули.
Человек с беззащитным, закрытым руками лицом мог сидеть здесь. Ему почему-то не мешали белые пятиэтажные, если даже на их фоне. Главное, чтобы ничто не толпилось рядом, не толкалось, чтобы не било суеты и тесноты. Вот какого уважения он хотел.
— Странно все-таки, — сказал Ты. — Мистика какая-то.
— Да, пожалуй.
— Предложить, может, чтобы здесь? Но почему — здесь? Тебе не кажется, что старик чудит?! Юлька, ты что заскучала?! — Как всегда неожиданно, Ты схватил меня в охапку и перекружил. — Юлька, развеселись!
Потом поставил на землю и совсем отвлеченно от меня:
— Пошли, а? Давай предложим ему еще какое-нибудь место. Ведь здесь непременно будут скамейки и электрические фонари. И конечно, молодые липки. А в парко он не усидит.
И мы опять побежали по городу с деревянными тротуарами и узенькими улочками. Нет… нет… нет..:
— Ничего он не хочет, — сказал вдруг Ты безнадежно. — Не надо ему ничего.
Мы иногда мечтали о городе, который построим вместе. Там бы, конечно, все было проще.
И вдруг оказалось: никто и не собирается ставить именно этот памятник.
Ты пришел с первого заседания, где шла речь о Твоей работе, бледный, с пустыми глазами и вздрагивающими пальцами.
— Им, как выяснилось, понравилась сама идея — поставить, — кричал Ты. — А? Понимаешь, это для них «идея».
Ты влетел тогда в мою гостиничную комнату, даже не глянув, есть ли кто-нибудь на соседних койках (их было еще две. Я думаю, лишне пояснять, что нам, «не расписанным», отдельной комнаты не дали).
Ты бегал, задевая за стулья, — большой, несуразный. Казалось, что все в Тебе развинтилось и потому движенья не согласуются.
— Уеду! Уеду! Не хочу!
Это была настоящая мужская истерика, закончившаяся валерьянкой.
Но Ты никуда не уехал. На другой день отправился снова. И еще. И еще.
— Сил моих нет! — кричал Ты. — Кто мог поручить им… Это не люди искусства.
— А у вас в мастерской все люди искусства? — спросила я робко.
— Что? О чем ты говоришь! Есть же предел. Уровень. Это ниже ватерлинии. Что? Что? Не понимаю!
А я не умела сказать нужных слов. Да и где они? «Но волнуйся»? «Устроится»? «Попробуй убедить»? Э, что там!
В первые дни мы еще бродили по городу. Потом, в разгар неприятностей, выходили только по вечерам. Молча шагали к столовой, молча ели. Весь день, окаменело сидя на кровати, я ждала, когда Ты постучишь. Боялась на минуту покинуть свой пост. Придумывала истории, которые могли бы развеселить Тебя. Но слова вылетали мертво-рожденными. Только иногда посреди улицы Ты вдруг раскидывал руки и неожиданно обхватывал меня за плечи:
— Юлька, прости. Я дурак. Я кретин.
— Ага, — подтверждала я.
— Это заметно?
— Конечно.
— И они это видят. — Ты смеялся. — Один вещает: «Прекрасные руки. Но у человека, как говорится, все должно быть прекрасно — и платье, и лицо… А где его лицо?» Другому нравится лоб. Третьему уши. Я вылеплю все по отдельности и разошлю им. А? Сегодня же. Сейчас.
Нет, конечно, Ты ничего такого не делал. Но я любила Твой нелепый размах. Я любила, как Ты смеешься. Широкие зубы, широко расставленные глаза, вдруг почерневшие; и все лицо в его преображении от смеха, оживленья, движения мысли.
Я любила, как Ты сердишься, напуская множество складок на лоб, который я тоже любила. И как думаешь, раздувая ноздри и щуря глаза. И уж, конечно, как обнимаешь меня, так что моя голова оказывается у тебя под мышкой. И как отталкиваешь шутливо:
— Поцеловались, и хватит.
Я не любила только, когда Ты не со мной. А Ты становился не со мной. И пришел вечер, когда Ты не постучал в мою дверь. Даже общий ужин был у меня отнят.
— Ложись спать, девонька, — посоветовала пожилая соседка, которую я как-то даже не замечала. — Видно, бросает он тебя.
— Почему? — ахнула я.
— Да по всему видать.
Им было видать, а мне — нет. И, главное, у нее не было правоты, у этой старухи. Не было. А вдруг?!
Может, надо уехать. Собрать вещички и утром уехать. Он зайдет вечером… (Мне теперь не хотелось думать — «Ты», а — «он».) Он зайдет, а соседка:
— Уехала твоя девонька. Когда? Да утресь и уехала.
Вместо этого я пошла и постучала сама. Никто не отозвался. Открыла дверь. В Твоей комнате было пусто — не вернулись еще «мужики гулливые» (Ты их назвал так). А Ты сидел за единственным столом, сдвинув в сторону графин и скатерть, и что-то чертил. Не увидел меня. Я постояла за спиной. Ну да, Ты открывал человеку лицо. Проступали глаза и часть рта. Подбородок и щеки были под пальцами. Лицо обретало кожу, теряя сокровенность.
— Юл!
Ты вздрогнул, оглянулся, наморщил лоб, сердясь. Потом взял себя в руки. И быстро отложил рисунок. Мне бы не глядеть. Но я не могла оторваться. Так, может, было не хуже, но мысль будто рассредоточилась, растеклась. Старик явно отвлекся. (Теперь о нем можно было подумать — «старик».)
— Он у тебя отвлекся.
— Отвлечешься тут! — Ты широко улыбнулся, притянул меня к себе.
— Он! Юл!
— Привередница. Пошли тогда в город.
— Уже поздно.
— Сколько?
— Скоро одиннадцать.
— Да… Я говорил тебе, что я кретин?
— Уже.
— А что ты ценный вклад в мою жизнь?
— Не помню.
— Ну так вспомни, чтобы я не повторялся.
Мне бы сказать: «Повторись!» Мне бы засмеяться и в крайнем случае зажать Тебе рукою рот: «Молчи, пожалуйста». И все. Легкость и здесь не во вред! А я?
Зачем мне только делал старик Сарматов эту улыбку?! Зачем тратил на мой нос драгоценный нашлёпочный материал?!
Короче — я заревела. Всласть. За весь ожидательный вечер; за все ожидательные дни на железной кровати (хотя, честно говоря, можно было отлично сидеть и на стуле, читать, чертить, работать), за мучившее в последние дни чувство отщепления. Меня отщепило от Тебя, а я ничего не могу: ни глядеть одна, ни дышать одна, ни просто жить. И такая вверенность, такая беззащитность.
— Юлька, чего ты?
— Сама не знаю. Я пойду.
— Да нет, подожди. Ты обиделась?
— Нисколечко.
— Ну так чего же?
— А ты кого больше — его или меня?
Ты очень смеялся. Это была первая (первая!) попытка ревности. Вот тут бы и остановиться. Ведь это был счастливый вечер! Ты был растроган и удивлен:
— Я не знал, что ты ждешь. Я думал, у тебя своих дел невпроворот.
— Впроворот у меня. Очень даже.
— Ну, будет, будет! Ты проревела мою присутственную рубашку. Смотри — пятна.
Ты запер дверь.
— А мужики?
— Они не придут.
— Откуда ты знаешь?
— Сказали. Когда, говорят, явиться, после двенадцати? После двух? Или — совсем? Лучше, говорю, совсем.
— Вы что же, обсуждали?.. Вы…
— Да нет. Нет. Успокойся. Знаешь, есть такое понятно «мужская солидарность». Она, правда, доступна только настоящим мужикам, которые без трепа.
Ничто, ничто, ничто не могло сделать мое счастье неполным, даже мужская солидарность. Даже неладность нашего временного дома (чужие пыльные ботинки у чьей-то койки, чужие брюки на спинке стула, чужие опорожненные бутылки под окном). Хм! Да это великолепно: все выпотрошено, содержимое ушло гулять, оставив нам во владение пустые емкости, и в том числе эту освещенную просторным летним небом комнату!
О, прекрасное, ни с чем не сравнимое ощущение близости любимого человека! Спокойное и высокое пение колдовской дудочки: «Мое! Мое! Мое!»
Ни стен, ни потолка, ни времени — почти нереальная зыбкость очертаний, странность приближенных глаз и губ, молитвенное чувство благодарности и благодати. И боль в груди от нежности и невозможности сказать ее до конца.
— Колдовство? — спросил Ты.
— Да.
— Юлька, это настоящее. Я очень боялся.
— Чего?
— Иногда (ты, может, этого не знаешь), иногда напряжение, что ли, спадает. И все идет на убыль.
Как я испугалась!
— Идет? Уже идет?
И опять заплакала, но не горько, а счастливо, потому что знала: никакой убыли. Никакой!
Где-то глубоко внутри, едва задев болевой центрик, переметнулась страница: так! Ты, значит, совсем взрослый, у Тебя есть опыт. Не с чужих же слов говоришь. И Ты сразу, как всегда, меня услышал:
— Ты, Юлька, моя первая любовь. Не первая женщина, понимаешь? А первая любовь.
И сразу — колдовское пение дудочки: «Мое! Мое! Мое!»
О, если бы мы умели останавливаться! Читай так: о, если бы не захватническая сущность истинной любви — взять все с потрохами, с дыханием, с помыслами. Всем владеть. Все прибрать к рукам. Будто не знаем мы, что насилие чревато бунтом. Не знаем. Ничего мы не знаем. Бывает, правда, умная интуиция, но, видно, не всем она дана. Да и сила любви рождает самый высокий счет, в строку которого — каждое лыко — от выражения лица до отвлеченных мыслей.
— Ты о чем думаешь?
Извечная, вымогающая любознательность. Этим нельзя злоупотреблять.
Позже, много позже мне открыли: есть умные женщины, которые умеют обуздывать себя, давая другому видимость свободы, чтобы владеть исподтишка. Но, открой мне это раньше, оно бы все равно не подошло: для этого надо слабее любить. С Тобой — театр? Поза? Невозможно. Зачем тогда всё?
Юношескую запальчивость тянет к разрушительству. И постепенно эта работа началась. Пошло с анализа: вдруг больно задела, перелистнувшись, ещё страничка: Ты знал в тот вечер, что соседи не придут, и не зашел за мной. Почему? Занятость делом? Забывчивость? (Мог забыть!) Небрежение? Никуда, мол, не денется. Денусь, денусь, Я метнулась было сказать, что моя командировка кончилась, уехать. И не смогла. Как увядала Тебя, так и не смогла. А разрушитель во мне продолжал расшатывать стены: он отчленил первый «допамятниковый» период и, как мерку, прикладывал его ко всему. Тогда, к примеру, Ты очень подолгу прощался со мной — не умел уйти сразу:
— Подожди, я забыл рассказать про архитектора Райта. Слыхала о нем?
— Тот, который рассчитал и построил дом над ручьем?
— Да, да. А ты знаешь, что все его дома, его собственные дома погибли от огня. В разнос время.
И шел разговор о судьбе, о покорности ей или непокорстве. Ну, в общем, важный для нас разговор, от которого трудно оторваться. И, значит, расстаться трудно.
Теперь Ты уходил вроде бы даже с облегчением. Неужели мы уже исчерпали друг друга? Нет же ведь, нет! А что тогда? Почему так:
— Побегу, Юлька, почерчу.
— О господи, не отпрашивайся ты, как школьник. Иди, конечно.
— Ты опять рассердилась? Но ведь я должен работать.
— Работай.
— Я забегу потом.
И снова я сидела на гостиничной кровати и ждала, ждала, боясь пропустить Твой приход. А Ты не шел. Снова был вечер, когда Ты забыл обо мне. Опять, верно, переделывал памятник. Ты хотел уступить, но и сохранить. Возможно ли это?.. Не знаю. Но мне было больно от любого Твоего действия, не имеющего отношения ко мне. Разрушитель уверял: «Прежде он не выключил бы тебя. Хотел бы, чтоб ты была возле. Чего ждешь? Почему не уезжаешь? И отпуск твой прошел».
— Юл, мне пора уезжать. Командировка кончается.
— Ой, Юлька. А когда?
Это «ой!» — с горечью. И сроки сразу отложились.
— Скоро. На днях.
— И у меня на днях решается. Может, уедем вместе. Да?
Да! Да! Конечно, да!
А вечером, не дождавшись Тебя, я подошла к окошку и увидела: по узким досочкам тротуара Ты вышагивал резко и нервно. Казалось, Ты прихрамываешь, но я уже знала — это внутренняя неровность раскачивает тебя. Ты шел от гостиницы. От меня. Я хотела окликнуть, но поперхнулась. За моей спиной задышала все та же старуха. Тоже увидела.
— Бежи, девонька. К другой, видать, пошел.
Я оглянулась ненавидяще. И натолкнулась на сочувственный взгляд.
— Вот и мой, помнится, лыжи навостривал. А я догнала и по шеям, по шеям. Он пониже меня был. Ну и всё. Как рукой сняло. Страму побоялся. Так-то он здоровый был, а страму не хотел.
О чем это она? А, да, о «страме».
Я опять поперхнулась и вдруг поняла, что не могу продышать свое горе. Вдохнуть и выдохнуть не могу. Физически. Не помню, как оказалась на кровати, кто вливал мне в рот темную жидкость, которая осталась пятном на подушке. Помню только, как вдруг что-то разомкнулось внутри и — воздух. Воздух, воздух во мне и вокруг!
— Так и кончиться недолго, — сказала старуха неодобрительно и отошла к своей койке. Женщина в белом халате прятала в карман пузырьки.
Что это? Неужели такая зависимость? А если он (опять «он») и правда уйдет? Как «уйдет»? А что же тогда останется мне? Да, но ведь был весь мир! Был. А теперь вытеснен. Очень просто. Вытеснен, и все.
Тебе, верно, передали, и Ты зашел утром. Я уже встала, внутри было пусто и как-то очень сухо. Я даже не обрадовалась Тебе. И Ты, видно, испугался силы чувства (кому она нужна, эта сила? Одна морока) и тоже был холодноват. Теток не было в комнате. Ты сидел у стола, я — тоже.
— Ну, как ты тут?
— Спасибо, Юл. Все хорошо.
— Прости, что не зашел вчера. Захотелось побыть одному. Не ладится у меня.
Вот тут надо было забыть о себе, спросить обеспокоенно: «А что? Чего теперь они хотят?» Но я не спросила обеспокоенно, а лишь самолюбиво опустила голову. Разве нельзя было вчера подойти к двери и сказать все это. Я бы не побежала следом и не удержала силой.
— Ты что, обиделась?
— С чего ты взял?
— Вижу. Не сердись. Мне трудно, Юлька.
— Я понимаю. Уж ты не отвлекайся на меня.
— Перестань.
Ты начинал сердиться. Сразу полный лоб морщин, и глаза — светлые-светлые.
— А что мне терять, Юл? Почему я должна перестать?
— Ну, хотя бы потому, что мне хватает насупленных лиц на работе.
Конечно, он прав. Я — всего лишь веселая прогулка. Не судьба, а праздник. Небольшая пирушка. А я еще боялась, что он не узнает меня с этой улыбочкой имени Сарматова. Да она как раз и нужна! Она одна. Ведь восхищался именно ею: «Бедный начальник!» Как я тогда не обратила внимания?
— Ну, ну же, Юлька! Развеселись.
— Сейчас развеселюсь. Это так просто!
— Чего ты добиваешься?
И правда, чего я добивалась? Я хотела быть при Тебе. Каждую секунду. Видеть. Осязать. Знать. Я хотела быть Твоей частью. Раствориться. Дышать. Вспомни, вспомни, у Тебя тоже было что-то в этом роде, только недолго. В самом начале. Ведь было! И я этого не смогу забыть. Теперь Тебе нужна относительная свобода. А потом, может, и полная?
— Ты не щади меня, Юл. Мне можно очень запросто сказать.
— Но мне нечего. Все по-прежнему.
— Ты прежде не злился.
— И ты.
— Потому что ты любил меня.
О, глупейший, глупейший, постыднейший разговор! Этот бунт на коленях — чего он стоит? Но Ты, помнится, сказал тогда, серьезно сказал и неожиданно терпеливо:
— Знаешь, Юлька, ты должна понимать. Существует тайна корня. — И пояснил: — Один садовник делал так: посадит цветок, а на другой день выкопает — поглядеть, принялся ли.
— И я, как он?
— Да.
— Прости, Юл. Прости.
Позже, много позже мне открыли: есть на свете умные женщины, которые умеют делать веселые лица при собственном поражении, чем заманивают противника в глубокие тылы и в конечном счете выигрывают бой.
Но, открой мне это раньше, оно бы все равно не подошло, я не научилась бы видеть в Тебе противника, тем более — одураченного, с трудом привыкающего к рабству. Я искала искренности, открытого лица, без забрала, без маски. Юлий и Юлия.
А разве это возможно?
Что-то рушилось и падало внутри моей постройки. Осыпался потолок. Но стены еще стояли. Разве я понимала, насквозь прошитая болью, что можно сохранить их?
На другой день Ты пришел раньше обычного:
— Юлька, у меня ничего не вышло здесь. Едем. Ты можешь?
И мы стали собирать вещи.
Оказывается, пока Ты отстаивал и пытался сохранить, памятник заказали другому. Простейший бюст на невысоком колышке-постаменте. И обсуждать нечего — все гладкое, включая гранит…
— Билетов нет, — сказала нам кассирша на вокзале.
— Тогда на завтрашний.
— Нет.
Она захлопнула деревянную дверцу окошечка. Это окошечко имело свою дверцу. А дверца — потайной ключик. Мы понимали: надо на что-то здесь нажать. Но Ты не знал этой тайны. И я не знала. И мы пошли искать гостиницу, что при вокзале.
— Номеров нет.
Позвонили в ту, где жили.
— Номеров нет.
Это уже было почти нереальное: только что жили там и — нет. И мы пошли ходить просто так.
— Лучше не ожесточать сердца и провести ночь на улице, — сказал Ты. — Или на вокзале.
Я тоже так считала. Радость борьбы и побед нам обоим, как видно, была чужда.
И вот здесь-то произошло маленькое чудо, о котором я всегда вспоминаю, как о мираже: показалось, попритчилось. Но почему же все дальнейшее не опровергает миража, а как бы является его продолжением?
Глава VII
Солнце мягко спружинило за белые привокзальные дома-новостройки и переменило подсвет всей городской декорации. Цвета розоватой фламинговой беспомощности стали белые эти дома; оранжевой — пыль на шоссе; темной и погустевшей — городская зелень. И мы легко сквозь этот подсвет прошли через новый город и окунулись в тень тех самых дуплистых ив, которые наверняка переживут нас.
Речка была мелковата и грязна от всегородского дневного омовения: жара ведь! Вдали, на отмели, виднелась та самая плывущая в отсветах церковушка. И все возле нее плыло: домишки, садочки, белое официальное здание, похожее на сарай.
— Может, там что-нибудь вокзальное?! — сказал Ты, и мы пошли. Это оказалось далеко, потому что река извивалась, и тропинка — за ней. И вот уже в дуплах ив стало что-то шевелиться, трава повлажнела, в редком зеленоватом воздухе зашарахалась первая летучая мышь.
Мы подошли к тому строению. Оно было официальной побелки — ровной, включающей подоконники и двери. Сквозь закрытые, а кое-где и зарешеченные окна ничего не проникало. Почти. Только дребезжащий мужской смех — тонкий, звенящий.
Мы переглянулись: странно. Постояли. Ты стал искать дверь. Ты стал искать ее, волнуясь, будто сам хотел того, что случилось потом. И нашел. Постучал. И нас впустили.
Это одноэтажное, неказисто побеленное здание скрывало внутри темноватый зал с лепным потолком. Зал был узкий, вмещал только стол — один, длинный, под белейшей скатертью, уставленный бутылками и едой. За столом сидели люди в темных костюмах и в светлых рубашках с галстуками. Меня поразила неподвижность их лиц, — бледные, торжественные, они что-то напоминали. А, вот что: пятиэтажные дома на пустыре.
Нас не заметили. Здесь шло веселье. Взлетали к бутылкам руки. Поблескивали запонки. Смех и говор. Мне показалось, что все незамысловато, элементарно. Но, может, я и не права.
— Гляди, гляди, Никитин-то к Шалимовой подсел!
(Смех.)
— Петр Михайлович, жене скажем!
(Смех.)
— Нам не страшен серый волк! — Это реплика Петра Михалыча.
(Смех.)
— Волков бояться — в лес не ходить! Верно, Петр Михалыч?
— А как же!
(Хохот.)
— Работа — не волк… в лес…
(Внезапная тишина.)
— Ну, это ты брось…
Все поглядели по сторонам.
— Ннн-да…
— Откуда вы, граждане? — Это уже к нам. — Откуда вы? Кто вас впустил?
— Мы… знаете ли… Мы хотели бы выехать из города…
Нас оглушил смех еще сильнейший, чем от шутки над Петром Михайловичем.
— Выехать — ха-ха!
— А-ха! Слы-ха-ха-а-ли?
— Выехать — ха-ха!
И вдруг я увидала, что один — со смуглым, тяжелым лицом и светлыми глазами — не смеется. Глядит надменно и обиженно. Увидели и другие. Смех прошел. Надменно глянули все. Стали еще больше похожи — с обвисшими щеками, прищуром подпухших глаз, опущенными складками у рта.
— А кто информировал, что мы здесь? — спросил смуглый.
— Мы услыхали, что здесь кто-то есть.
— А-а-а… Зайдите через недельку.
— Но мы… Нам негде жить.
— А-а-а… Ну, это не к нам.
Я поняла, что они все же по выезду, то есть что это им ближе.
— Мы бы уехали.
— А кто вы, собственно?
Мы сказали.
— Понятно. Понятно, — смуглый задумался. Поднял на Тебя бледно-серые четкие глаза.
— Я не мог видеть ваших работ?
Ты промолчал о памятнике. А ответил так:
— Если вы были в столице на выставке…
— Нет, нет. У нас в городе. Скульптура «Дети будущего» в парке. Нет? Не ваша?
— Слава богу, нет, — ответил Ты.
Тот улыбнулся:
— Вы умеете лучше?
— Надеюсь.
— Посмотрим. Да вы садитесь. Садитесь. Коньяку? Водочки? — Это был, конечно, не очень главный человек. Но что-то он знал про себя, что давало ему силу. Это сразу ощущалось. — Вы пейте, уважаемые работники искусства. Я вот что скажу. У нас тут планы гигантских работ. Перспективы. Простор. Я сведу вас с кем надо.
Смуглый обращался к Тебе, потому что его интересовал Ты. Меня он сразу отсек, как лишний вес.
Речь шла обо всем городе: все скульптуры, всё, что на украшение и возвышение его. И человек этот был уверен, что сумеет помочь Тебе.
— Наш город древнее столицы. Это не значит, что мы хотим соперничать. Нет. Но… Вы понимаете?
Ты понимал. Ты давно искал такой возможности. Это был, конечно, соблазн. Соблазн с большой буквы.
— А вы поезжайте, — было сказано мне. — Тут как раз и кассир, и шофер автобуса. Вам как лучше?
— Мне все равно.
— Тогда зайдите к Шалимовой. Шалимова!
Это была красиво причесанная, хорошо подкрашенная женщина.
— Что скажете?
— Вот надо отправить.
— Прямо?
— Мм… Через Петрова.
— Зайдите к Петрову. — Она указала на дверь, вделанную в стену. — Сошлитесь на меня. — И по-мужски тряхнула мою руку.
Я сделала шаг от стола. Оглянулась на Тебя. Ты, будто меня и не было вовсе, продолжал разговор. Никогда не видела я такого азартного лица — ни у Тебя, ни у кого другого. И я поняла: это все. И открыла дверь.
Я опускаю целую главу моей тоски.
Я делаю вид, будто ничего не произошло. Ну, дали человеку работу, о которой он мечтал. Ну, пошел он за пальцем манящим, забыв попрощаться. Забыв попросить остаться. Нет, что я говорю?! Забыв обо мне вообще. Но теперь это — вне обсуждения. Потому что это — характер. А Ты уже тяготел для меня к обожествлению. Но у кумира, у божества не должно быть характера, не должно быть внешнего облика. Разве изображение — даже икона! — не делает его доступным обсуждению, панибратству, поруганию?!
В те далекие времена, когда Ты еще был для меня просто человеком… о, тогда Ты рассказывал, как Тебя обижали, и Ты чувствовал свою беззащитность. И захотел Сыть сильным. И как растил силу изнутри, не задевая мягкой оболочки. Ты мягок, даже вкрадчив. А сила есть. Живет. Но это опять-таки характер. Я боялась знать это. И теперь не хочу. Характер, облик, даже отдельные поступки — это пустяки, если есть то главное, что Ты принес мне, та сущность. Этого ведь отнять нельзя. Это осталось мне. «Перед глазами травы и дерева».
Потому я опускаю главу моей тоски, обиды, поисков свободы. Только общий абрис. Штрихи:
Но ничего похожего не произошло. Никакой змеи. Глупые детские ходы! Мне просто хотелось так думать. От боли.
И этого не было. За все время, что я жила в городке в одной из комнат беленого дома, ожидая помощи от зам. Петрова, я видела Тебя лишь раз в окно: Ты шел с какой-то женщиной (о, нет, это была деловая женщина!) и, увлеченный беседой, размахивал руками. Это ничего не прибавило к моей тоске и не убавило ее. Просто я старалась больше не смотреть в окно. Тоска моя билась о стекла, постепенно каменея, обретая резкие черты уязвленной гордости и таким образом прорываясь в пустую, ничем не заселенную зону свободы. И это было самое тяжелое. И на это ушло несколько лет.
За это время я рассчитала отличный типовой проект дома отдыха и получила поощрительную грамоту.
Еще, помнится, послала телеграмму на имя «самого» — начальника — с просьбой освободить меня от работы «в связи с изменением семейного положения». (Думаю — обрадовала его по высшему разряду!)
Сделала денежный перевод знакомой молоденькой секретарше домоуправления, чтобы вносила за меня квартплату и не выписывала с жилплощади. (Терминология — что надо!)
Отправила письмо. Одно. Единственное. Мастеру Масок. Вы, может быть, заметили, что я давно не упоминаю о родителях. И не потому, что они не вошли бы органично в повествование. Еще как вошли бы! Просто их не стало в живых, и лучше уж ничего не говорить, чем говорить всуе. А в этом разговоре каждое слово было бы всуе.
Вот и всплыл теперь для меня добрый старик Сарматов, единственный, кажется, из той моей прежней, переулочной, парковой, беззаботной жизни.
О чем я писала ему? О том, что не могу так вот просто вернуться в наш большой город после того, что со мной произошло. И что, может, он прав (мы когда-то говорили об этом), что в наше время женщина — носитель любви, как в древности — хранитель очага и огня! Но от этого мне не легче. И надо переболеть, а потом уже жить дальше. И что я никогда, никогда не буду больше строить башен для тех, кто любит тишину.
Письмо без обратного адреса (а каков он?) и с подписью: Яна-Юля-Анна. (Вот, должно быть, удивился! Впрочем, нет, разве можно его чем-нибудь удивить!)
Глава VIII
Но пришло утро. Солнце — тоненьким лучиком. Пыль в луче. Стол обрел значенье стола, за которым можно читать и пить чай. Окно — очертанья окна. И что его можно распахнуть.
И как раз тогда — легкие шаги у двери.
— Здравствуй. — И звенящий кокетливый смех. Шалимова. Сама. — Ну, что ты надумала? (Мы давно перешли на «ты».)
— Поеду.
— Тогда, знаешь, я отпущу тебя прямо. На свой риск.
— Как это — прямо?
— А вот так.
Крепкая рука потянула меня к единственной незаставленной стене. Ключик из кармана. Пошаривание им по блестящим светло-коричневым обоям. Ага! Нашлось отверстие! Щелчок. Не заметная, оклеенная обоями дверь стала медленно отворяться наружу.
— Толкни!
Я толкнула. И шагнула в зеленый мир: ветки, листья, стебли. Там, за этой дверью, шумел высокий, серьезный лес. Лес зверей, птиц, борьбы за солнце, лес естественного отбора, гибели и выживания.
Я шагнула в него, распахнув, как эту дверь, глаза, сердце, руки. Хватала, пила ртом, носом, кожей запахи лета, хвои, мятной травы, привядших листьев. Шла, и не оглядывалась, и не дивилась, что за городским неладным домом могло оказаться такое, и не боялась заблудиться, и не думала о пище и ночлеге.
Сквозь чащу проломилась к просвету. Там был берег реки, намытый песок, склизкие створки плоских ракушек, и солнце, и кусты ивы, повисшие цепкими ветками над водой. На ветках водоросли, ил, маленькие зеленью мухи и, конечно, синие стрекозы — украшение мелководной реки. Я забралась на ветки и сидела, как в подвесном домике, ожидая, что будет дальше.
А дальше была опять река, солнце, вверху и на воде, и медленный голенастый старик, который брел по реке вдоль того берега в засученных до колен штанах.
Дед был сухожильный, хваткий, деревенский.
— Чего это вы ходите, дедушка?
— Ась?
— Чего по водам ходите?
— А! Дрова хочу взять. Дрова гляжу половчее взять.
В речушке и правда было полно топляков. Как он их возьмет? Ах, какое мне дело?! Возьмет! Как растет трава? Как идут соки по стволу от земли к небу? Как живут-выживают муравьи и эти вот стрекозы? Все движется по заведенному мудрому закону. И он, старик, тоже. И я.
И я смеялась, болтала босыми ногами в воде, потом бултыхнулась сама в быструю, мелкую воду и, счастливая, в мокром платье, с туфлями через плечо, пошла, как тот старик, вниз по реке к высокому мосту, который приметила еще раньше.
Доски моста были полутораметровой ширины (вот какие тут деревья!) и очень высоко над речкой и далеко за ней (вот какие половодья!), и босой ноге было горячо ступать, а сердцу больно от обретенного мира и радости этого обладания.
Узкая тропа вела в гору, через малинник. Все в гору и в гору. И река, и её заводи, где плескала в камышах здоровенная рыба, — все это окунулось глубоко в низину, густо освещенную солнцем, которое, однако, уже тускнело — вот и рыба-то начала играть!
Запахло малиновым листом, издалека — скошенной и подсохшей травой.
Сзади кто-то нагонял. Оглянулась — тот самый дед.
— Ну что, дедушк, нашел, как дрова взять?
— А как же. Завтри возьму. Просушу до зимы.
Мы пошагали. Я старалась не отстать и не досадить разговорами, а все же держаться вместе: ночь на подходе.
— Что там, наверху?
— А Гора. Город так назван — Гора. До войны большой был, немцы спалили. Теперь деревянный весь отстроен. Люди поразъехались сперва, а потом вернулись, кто живой остался.
Город начинался большим оврагом, над которым стояла очень строгая, официальная каменная школа.
А овраг зарос репейником, лебедой, молочаем. Из середины зарослей торчала наискосок бузина — видно, съезжала вместе с песком. Цеплялась. А почему оказался овраг? Потому, что река поменяла русло. И мост, тоже довольно-таки официальный, висел над пустой старицей. А речка шла поодаль.
— Капризная, — кивнула я.
— С характером, — подтвердил дед. — Куда весть-то тебя, в гостиницу или к моей старухе?
— А что ближе?
— Гостиница близко тут. Ты откуда идешь-то, не спросил.
Я назвала город. Он присвистнул:
— Издалека. (Он ведь не знал, как я вышла, думал, что путем шла.) Ну так завтри приходи к нам. Я аккурат меду накачаю.
А гостиница была, как все дома в этом городке, — двухэтажная, ни больше ни меньше других. Только что занавески на окнах одинаковые да в сенях запах от уборной. А так — садик, половичок на ступенях. В коридоре нас встретила белолицая босая женщина. Она несла, прижав к животу, самовар. Дед пошептал ей что-то. Я топталась у двери.
— Чай будем пить? — Это я так сказала, чтоб не просить. Очень тяжко номер в гостинице выпросить. И есть, а не дадут. И с чего бы?
— Надолго к нам? Или на одну ночь?
— Пока на одну.
— С девочками положу. Их сейчас нет, на танцы пошли. Агрономы из Марева, из деревни, на танцы приехали.
Она провела меня через комнату, где спали двое мужчин.
— Ничего. Пьяные. До полудня спать будут.
В другой комнате, за проходной, сняв сумку с железной кровати, указала:
— Вот тут и лягите.
В комнате была еще только одна кровать.
— А девочки?
— Они на этой. Да господи, с кавалерами прогуляют до утра. А утром ехать. Они рады, что приткнувши.
— Неудобно. Может, другая комната есть? Я оплачу.
— Нету ничего. Я бы с радостью. Да спите, спите. Мне дед сказал, сколь вы прошли. Он нам родной, дед, нашей тетки муж.
Вот кому, стало быть, я обязана этой койкой.
Вечером, да усталая, я не разглядела. А городок был отличный. Деревянный, поставленный на деревянный тротуар, с одной стороны — тот самый овраг с бузиной, а с другой — большущий стог сена. Выше домов. Он как бы выводил город в ноле, а потом в лес, к речному спуску и — дальше, неведомо куда, к деревням или таким же вот городам. Я плохо выспалась — мешали девочки. Пришли рано, одна плакала:
— И не уговаривай, больше не поеду. Хамы, хамы городские!
Другая утешала и все порывалась уйти погулять ещё («Я бы поглядела, как там мой Петенька с другими крутит») и не решалась обидеть подругу, хотя втайне и надеялась, что Петенька не крутит и что это именно он ходит под окном и посвистывает.
Потом, когда девочки притихли и Петенька отвалил, начало меня сносить течением сна, обретавшего все большую четкость. За последнее время я забыла, что бывает такой ядреный, без болотной зыбкости сон.
Когда утром я вышла из комнаты (девочек и правда уже не было, а пьяные еще спали), в коридоре, как и вчера, босоногая белолицая дежурная ставила самовар.
Она напомнила, что дед звал к нему, объяснила, как идти. И вот я у того стога, что выводит город к другим далям и весям.
И за мною шла моя тоска.
Она догнала меня еще вчера, возле гостиницы. Почему — не знаю. Может, было невыносимо, что Ты не видел той речки, и моста, и заводей внизу, под солнцем. А может, просто нагнала по следу. Но я опять опущу это. Потому что в то время Ты еще не потерял для меня живых и теплых черт и не обрел значения символа. Хотя молитвенное смирение уже гнездилось где-то в глубине. И первые слезы — не гордые и злые, а истинные, от печали и утраты и уже от благодарности — горячо подступали к глазам.
А трава вдоль тропы касалась рук. И касалась ноздрей ее разогретая пыльца. Цветы так не умеют пахнуть, как трава. Это была уже вторая трава на заливном вдоль речки лугу.
Она много петляла в своей жизни, эта речка. Она разбросала много оврагов и оползней. Теперь они поросли где лесом, где буйной травой, а где остались песчаными срезами, и все это вместе давало эффект прекрасного, эффект зарождения счастья. И дед поселился посреди этой благодати рядом с еще четырьмя владельцами маленьких крепких домишек.
Дом был обнесен частоколом (я потом узнала — от лисиц, а то больно цыплят крадут), а сад — отличный фруктовый сад с ульями — вынесен за изгородь (люди здесь не воруют. Все свои, все на виду, даже и городские). Хозяйка деда была — старое издание белолицей гостиничной дежурной. И так же приветлива. Только что не испорчена службой. И щеки пожелтели немного от времени, но не сильно. Принесла меду в большой банке:
— Дед ушел, дак велел принять, угостить. Садитесь, садитесь к столу. И самоварчик готов.
Булки она пекла, посыпая их сверху мукой. И эта прихваченная жаром мука была особо вкусна. Говорила о саде, о пчелах, как дед хорош в пчеловодстве, что другие еще и медогонки не замарают, а у деда уже полно меда. И как умна пчела, что она «червит по взятке».
— Как это?
— А вот если мал цветочный урожай, взятка плохая, так она и потомства дает мало. (Я вспомнила, что пчелиные детки и правда похожи на червяков. «Червит!»)
— Деду помогаете?
— И деду, и по своему делу. Скотину обиходить надо, огород на грядки поднять.
За частоколом проплыла статная девушка с короткой белой косой.
— Светлана идет, — закивала бабка.
— Ваша?
— Нет. К соседям приехала с матерью. Мать-то ее — наша, с Горы. Да в самой столице прожила с детства и молодые годы. Хорошая была, дородная.
Девушка вошла, чуть пригнувшись в дверях. Была она не то чтоб красива, но, как говорят, осаниста. Какая-то была в ней порода, подпорченная чужой кровью. Лицо получилось узкоглазое, с недобранной. И всё же притягивающее взгляд. Может, от гордо вскинутой головы.
— Здравствуйте.
И нижняя губа натянулась прямо. Вовсе эта гримаса не была похожа на улыбку — где-то я уже видела ее. Видела! Волевая гримаса…
А кожа нежная, и эти льющиеся волосы. Верно, носит их распущенными, только здесь заплела для приличья. И эти волосы я тоже знаю.
— Как мамка-то? — спросила моя старуха.
— Ничего, бабушка. Ноги опять распухли.
— От жары.
Девушке было не так интересно про мамку. По молодости это неинтересно. Только потом, когда мы взрослеем… Но тогда уже поздно.
Девушке было интересно, кто я. Она тоже будто узнавала меня и не могла узнать. И мы глядели.
Сколько времени прошло? Когда? В какой жизни встречались? Может, в гостинице? Там, где висит объявление: «Работает стол самообслуживания электробритвой». (Вот клянусь — висит!) Может, она была администраторшей, сживавшей мне, что нет мест?
Или запомнившейся почему-то пассажиркой в набитом автобусе, который в пыли и колдобинах пробивал многочасовой путь? Поля за окном, деревни, хуторки, дальний лес. И эта пыль, пыль, которой сотни лет. Взлетала под копытами татарских коней и опричников, оседала на мягкие лапти странников. И теперь вот — припудренные той же пылью покорные лица людей в автобусе.
Такое ощущение странное:
Меня настигало теперь повсюду это ощущение давности. И казалось, где-то рядом, вон за тем леском, живут еще вятичи и дулебы, а то и чудь заволочская… Может, тогда и встречались с этой статной дулебкой, — когда мужчины наши совершали набеги, а мы, женщины, ждали их с добычей и с полонянами.
Но это все выдумки. Потому что иначе она не назвала бы меня так, как звали в далекой моей жизни там, в переулочке с тополями и с крокетом: Аня.
Она сказала:
— Аня!
— Светка! Товарищи, та-та! — ответила я. И мы обе рассмеялись.
Света! Светка Сидорова! Дочка Насти и Степана. Вот оно как! Кто мог ждать? Мы не обнялись и не поцеловались. Но на речку пошли вместе. И в тот день, и на следующий. И начались длинные разговоры, жесткие с ее стороны по отношению к отцу и покровительственные — к матери.
Вот что я узнала о Степе. О моем герое, к которому у меня всегда не только притяжение полярности.
Степа! Степа! Степан — книга под мышкой, пытливый глаз, жадная хватка памяти. Вечный ученик, познаватель, хвататель сведений! Кто сказал тебе, будто каждая гусеница в конце концов обретает широкие и яркие крылья — надо только стремиться в рост, перемалывать челюстями мясистый лист, ползти, ползти вверх по дереву. Нет, конечно, все может быть. Но птица — не склюнет ли? И потом — непарный шелкопряд — кем он был прежде? Разве ты к этому стремился? Нет, нет.
Ты, вероятно, не создан был для полета (не всем же!), но было в тебе нечто, что заставляло останавливаться в восхищении. Может, только очень уж ты любил это поступательное движение по корявому, всем глазам (как напоказ!) открытому стволу.
Степа! Степа! Что я знаю о тебе? Да ничего. А прошла жизнь. И, продираясь сквозь память, сквозь многолетние завалы ее, я выбираюсь на выложенный широким плоским камнем тротуар моего детства, где колышутся солнечные пятна, созданные игрой ветра и густой тополевой листвы. И мне этим далеким солнцем озаряется вдруг все, что хотелось оттолкнуть, отторгнуть, стереть. Не всякая река вызывает желание искать ее истоки. Течет и течет. Вот и здесь так. А теперь вдруг, по прошествии, за давностью, да под этим солнцем памяти, да среди этих лесов, помнящих более давнее и более тяжелое — все то, переулковое, крокетное, тополевое, вдруг отозвалось болью, жалостью и зажило иной жизнью — жизнью заглохшего пустыря, где хотели построить, да не построили, и так он и остался. Зарос. Рождает смутное сострадание и чувство (почему-то) и своего запустения.
А при чем здесь Степа Сидоров? Да почти ни при чем. Только вот что мы — люди, и он, и я, и эта его статная дочка с недобринкой в глазах, в великой доверчивости открывшая мне жизнь отца.
Я не пересказываю точно, а так только, в преломлении, Разве мы бываем объективны?
Глава IX
Он сказал женщине, бинтовавшей вены, вспухшие на ее ногах:
— Ты меня женила на себе. — Сказал в который раз. Только теперь она была в бинтах, точно связана ими, и лицо от наклона было красным, и не было поэтому храбрости от сознания красоты. Ей, дочери далеких крестьян, было ясно: больная — не работник. А от крестьянской доброты, от милостивости их отгораживали годы городской жизни. И она промолчала. Впервые. Это было ее поражение. Подспудно знала: упущен шанс. Ему, Степану, нужен был окрик, посланец силы: силы боятся. Но она промолчала. Так началось.
Светлане покупались апельсины.
— А ты чтоб не смела брать у ребенка! Смотри, Свет, чтобы мать твои апельсины не воровала.
Впрочем, надо с начала, доступного Светиной памяти и моей достоверной фантазии.
Запоминается ли в детстве обстановка?
А как же.
Новая двухкомнатная квартира. Без налета временного, как это было у молодого Степана в нашем переулочке. Напротив: все устойчиво, респектабельно, не без шика.
Два желтых кожаных кресла (гордость дома);
Пианино «Красный Октябрь» — новенькое — черный лак (гордость);
буфет красного дерева, Настиной работы салфетка;
со временем — очень много книг в прекрасных переплетах. В основном — классика. И специально для них построенная полка карельской березы. Никаких теперь верстаков, рубанков и стружек (стругали рабочие). Только хозяйский надзор.
И вторая комната — тесноватая, захламленная. Там спали. Светка с матерью — на большой, двуспальной, отец, то есть Сидоров, — на железной. Светлана завидовала белым его простыням, верблюжьему одеялу с оленями и пододеяльнику на пуговках. Потом ему надоело делить с близкими эту радость пребывания. Но это позже. Сначала вот это:
— Смотри, Свет, чтобы мать не воровала апельсины.
А своей матери:
— Ты не ходи сюда, не срами. У меня люди бывают.
Бывали и люди. Чаще других — Человек в Светло-сером. Теперь он приходил на равных. Светка немного боялась его неподвижного лица, но страх возмещался соевыми конфетами, а иногда и печеньем «ракушка» — сверху вафли в виде раковинных створок, а внутри шоколад. При виде Человека в Светло-сером во рту делалось сладко. А потом он у Светки облекся ощущением тайны.
Другие люди запомнились хуже и бывали реже. Пожалуй, одна только толстая, хорошо пахнущая женщина с мягкими руками, теплой уютной шеей и тоже уютным смехом, идущим изнутри холеного, кормленого и этой сытостью обрадованного тела. Ее звали Татьяна Филипповна, а за глаза Танька Рыжая, и о ней всегда что-то добавляли на ушко, по секрету от ребенка. А ее муж говорил, хлопая ее по мягкой спине:
— Танька хоть и б…, а люблю ее, потому что умеет из дерьма конфетку сделать.
Светлана пыталась вообразить: как это? Но не получалось.
Собирались «люди» редко, но шумно, много пили, пели «Поедем, красотка, кататься» и еще:
После первого куплета замолкали, переглядывались. И тогда Человек в Светло-сером лихим, прекрасным голосом срывал тишину, срывал с размаху, как по гребням волн:
Тут оживала и Настя! А то она только блюда разносила да посуду мыла. А тут оживала. Подбоченится, тряхнет головой, перехватит:
И сообщала со всей болью и забубенностью, как потом встретились случайно на пирушке и:
И, откинув голову, вела вместе с ним разгульно и самозабвенно:
Когда гости расходились, Степан припирал её к стенке и стукал ногой в ботинке по ее распухшим ногам:
— Потаскуха! Потаскуха. Нужна ты ему! Мне и то не нужна. Светка, принеси ремень. Я мать выдеру.
Светка, застывшая было в шоковом ужасе, кричала диким криком, на разрыв горла, на выворот нутра. Ей было страшно, и жалко, и отвратительно. И совершенно невозможно было жить дальше. Она кидалась на пол, била ногами, заходясь бесслезным ором.
Просыпалась утром. Отец подносил ей горячего молока. Она пила, давясь слезами: ей невыносимы были его обеспокоенные глаза, из-за которых она не могла сказать ему, что не любит.
Она его не любила. Рада была, когда мать наконец решилась уехать. Он сказал:
— Уходи.
А Настя вдруг ответила:
— Сейчас соберусь.
Предложение было привычное, а ответ — новость. Настя тяжело расставалась с мужем. Он был ее молодым избранником, давшим вкусить радость материнства (не к Светке, нет, а к нему — к умному, непонятому юноше!). Уехав от него, она тосковала, плакала, писала письма во всякие инстанции. Принимала яд (правда, немного) и велела не пускать к себе Человека в Светло сером, чем, не ведая того, повысила свои акции. В Светло-сером не женился на ней лишь от страха: тогда косо смотрели на разрыв с семьей. А Степану сошло. Он был смелее. Когда вызвали объясниться, сказал:
— Нет, нет, я семью не бросал. Деньги посылаю. Вот квитанции. Ребенка в детский лагерь на лето отправлял (квитанция). Другой женщины у меня нет. А жить с Анастасией не могу. У меня огромная нагрузка. Ответственность. Работа, сами знаете, какая. Нужно хоть немного понимания. А она темная, за столько лет ни одной книги не прочла. Куда глядел? Молод был, да и рассчитывал перевоспитать. Кроме того, мы не расписаны, хотя не считаю это решающим фактором. Дочку? Нет, не брошу. Встречаюсь с ней. Да, довольно часто. Ну, спасибо на добром слове. До свиданья.
Какая у него была тогда работа? Трудно сказать. Планирование, в общем. И что-то еще, не менее важное. Теоретические труды. Он был очень толков. Он был толков, а Светка росла, и тогда, вероятно, изредка встречаясь с ним и ведя умные разговоры (это тебе не мать!), переняла эту волевую гримасу — растяжение нижней губы. Это не он сказал: «Человек — всего лишь мост, перекинутый между зверем и сверхчеловеком», — но Светлана по простоте душевной приписывала это высказывание ему.
Удивительный все-таки человек! Кто теперь читает Ницше? А он и про религии разные читал, и слово «экзистенционализм» я, помнится, услышала очень давно от него: ему кто-то переводил прямо с листа Кьеркегора.
Светлана от разговоров с ним совершенно шалела. Но если бы это было системой, а то так, наскоком, жили-то порознь! Близости это им не прибавило.
Светка росла и все больше перегоняла его. Вот уже родинка на его лбу стала вровень с ее глазами, потом — с губами (она считала, что это родника); потом перешла на щеки; неуловимым изломом перекроила лицо, вышла к скулам и без того широким; углами прорвалась вверх. Это было как болезнь.
— Ты изменился, отец, — сказала Светлана.
— Заметно? — его узкие глаза метнулись почти тревожно. — Ты об этом? — И он очертил пальцем в воздухе геометрическую фигуру. Она робко кивнула. А через несколько месяцев, встретив отца в условленном месте, Светлана удивилась неподвижности его лица. Но того, геометрического, не было.
— Ты стал похож на одного человека. Я его боялась в детстве.
— Гм. Он бывает у вас?
В этот день отец повел Светлану в ресторан. Там собирались его сослуживцы. Все они ласково кланялись Сидорову, показывая глазами, как хороша его дочь.
— Знакомьтесь, моя дочь.
— Знакомьтесь. Моя Светка. Да, да, растем.
— Им время цвесть, а нам тлести! — пошутил единственный изо всех молодой и очень светлоглазый человек.
Но Сидоров не принял шутки и от парня отвернулся. И после, когда тот подошел к Светлане и пригласил танцевать, Сидоров был недоволен.
— Я иду по стопам вашего отца, — сказал светлоглазый во время танца. — Вы знаете, чем он занимался в молодости?
— Нет.
— Вот-вот. И мой сынишка не знает. Но я человек новой формации и к тому же обаятельный, верно? Я наступаю на пятки вашему папаше. Он не жаловался?
— Нет. Его трудно побороть.
— Конечно.
Человек засмеялся, поднес ее руку в губам, заканчивая танец. И весь вечер следил за ней веселыми, очень светлыми на смуглом лице глазами.
Сидели в красном зале, тянулись друг к другу, а особенно к Сидорову, бокалами:
— С выдвижением!
— С переходом!
— С отъездом!
— Счастливо отдохнуть!
Только теперь Светка догадалась, что отца повысили и что он уезжает отдыхать. А это — чествование и проводы.
— Ты куда едешь?
— О, о, о… — Он впервые за весь вечер улыбнулся, и то лишь ей, ей одной.
— Давай остановимся, — сказала Светлана.
Мы сидели на песке возле узкой реки — той самой, по которой старик собирал дрова. На другой стороне был лес, темнивший воду в реке, как ресницы иной раз затемняют глава. И потому речка там была не жаркой. А возле нашего берега вроде бы грелась у песка.
— Я искупаюсь!
Она разделась, вошла в воду и поплыла на боку, поднимая над водой белую точеную руку. Плыла точно лось или другой красивый зверь, собирая вокруг своего тела, как в фокусе, лучи солнца, отраженья сосен, движение воды, создавая иллюзию долгожданной и счастливо обретенной гармонии.
А гармонии особой не было. В людях — не было. И в соседском доме жила четырехлетняя дурочка — рыжая девочка с плохо прорезанными и излишне широко расставленными глазами. Голова ее росла, а туловище — плохо, и ноги не держали тела из-за этой головы. А изо рта текли слюни. Мать — молодая рыжая и тоже широкоглазая — носила ее на руках, нежила и успокаивала всех:
— Оно обойдется. Люсюшка обойдется. Верно, доченька?
Поила девочку козьим молоком, возила к доктору, одевала чисто и нарядно. И девочка тянулась к ней телом, лишенным крупицы света. И при взгляде на них в сердце что-то рвалось, кричало. А потом смирялось. И привыкало. И начинало вериться: обойдется. Люсюшка обойдется. Когда так любят, должно обойтись.
За девочкой присматривал дед. Сын его, шофер, постоянно бывал в рейсах — возил из леспромхоза дрова, торф, и все на дальние расстояния. А сноха, рыжая эта женщина, Кланя, была в полевой бригаде: то полоть, то окучивать. Но домой среди дня забегала постоянно. И дед верил в ее доброту.
— Ухватистая баба, — говорил он. — И сердечная. Мишка мой другого рисунку. Разноперый парень. Не знаешь, когда и чего от него дождешься.
— А как он к дочке?
— Да ведь как… Бить не бьет и жалеть не жалеет. Он, думается мне, от ней и в шоферы-то подался. Чтоб с глаз долой. А то ведь на тракторе здесь, при колхозе, работал.
— Девочку, наверное, отдать можно. Как больную.
— И-и-и, рази она отдаст.
Старый не осуждал. Лишался сына; рыжая эта женщина лишалась мужа. А кандалы своя несли бережно и любовно.
Неразумно, а? Нет, неразумно. Но милый, Неосвобожденный Человек присутствует здесь. Не освобожденный от чего? От звериного инстинкта к детенышу? Может, от совести, от чувства вины? Может, от привычки жертвовать собой, не дорожить, не беречь себя (небережение, небрежение…). Это удивительное исконное подсознание, освобождающее от любви к себе.
Вот от чего открещивалась всю жизнь Светланина мать, Настя. И отец, Сидоров Степа, тоже, конечно. Только вот Настя вернулась сюда, к истокам…
Приехала огрузневшая, с распухшими перебинтованными ногами. На покой приехала, хотя еще и не так стара. И дочку привезла. Но это не насовсем. Показать только. А Светлане понравилось. Вот чудеса! Мать всю жизнь рвала эти связи, радовалась, что ушла и дитя увела от коровьего хвоста, как она говорила. А Светлану тянет обратно.
Настя приехала не с пустыми руками. Отцу привезла Степанову цигейковую жилетку, брату — сапоги, его рыжей жене Клане, которую еще не видела, — целый ворох своих кофточек. Она из них давно выросла (если так можно сказать), но все — как новенькие, потому что Настя была женщина аккуратная.
А девочке, племяннице, набрала кукол, мячиков, все детские Светкины платьица захватила. Не знала она, какая это девочка. Но, увидев, пожалела.
Настю со Светланой поселили в доме, сами перешли в пристройку. И потекла тихая жизнь.
— Я бы здесь осталась, — говорит Светлана. Она валяется на песке, возле речки, щурит глаза на солнечное небо. Я уже заметила — ей идет купание: выходит из реки с ясным, посветлевшим лицом, а узкие глаза делаются синими, и синева эта точно обволакивает всё вокруг.
— Что ж тебя останавливает?
Светлана задумывается. Потом смеется беззаботно:
— А ничего! Ровным счетом! Возьму и останусь. Ведь я биолог. Неужели в колхозе работы не найду?
— Я всегда боюсь необратимых процессов, — говорю я. — Но ведь ты — другое поколение. Вы лишены, вероятно, нашей осторожности.
— Не совсем. К сожалению.
Она еще нежнее глядит на высоченные сосновые берега, на отблескивающий солнцем изгиб реки… Временное пристанище. Счастливый интервал. Куда уйти от плена городской квартиры, хорошей работы, от плена вечерних огней и редких, очень редких, но все же развлечений. Захочу и пойду в театр (кино, музей, консерваторию). Обычный ход мыслей. Слишком уж обычный…
Светлана недобро косит в мою сторону, лицо покрывается бурыми пятнами. Будто прочитала, о чем я. Обиделась. Садится на песок, обнимает руками колени и кладет на них голову:
— Вы зря так подумали. Я еще что-нибудь выкину. Почище! Этого мне мало.
И правда, что я знаю о ней, чтобы оценивать?
— Прости.
Она согласно кивает. Ей не хочется сердиться. И продолжает об отце. Потому и я расскажу дальше про Сидорова. То, чего не знает точно Света, и, значит, не могу на этом настаивать и я, — только догадка, пойдет с эпиграфом:
Глава X
Степан проснулся в светлой комнате, просвеченной сквозь белые жалюзи солнцем.
Нет, проснулся не Степан, а Степан Иванович Сидоров, человек почти известный и на работе незаменимый. Крупный человек, несмотря на малый рост.
Проснулся тот, кого повысили. И эти льняные простыни, и натертые полы, и графин, поблескивающий чистейшей водой, и чисто протертый стакан — все это было заслужено. Положено ему. Именно, столько положено. Ни больше и ни меньше. А может, положено больше? Вдруг — больше?
На открывшемся из-под белевшей салфетки углу ночного столика — тонкий слой пыли. За ночь осела или вчера не стерли? Провел пальцем, вздохнул облегченно: за ночь.
А вот бутылка нарзана почти пустая. Это уж не дело. Должны были поменять. Неужели здесь не до конца уяснили, кто он?
Хотел позвонить — нажать кнопку над кроватью, но других непорядков не нашел и успокоился. Кроме того, сегодня не болели шейные позвонки, как это было в первые дни пребывания здесь, в санатории.
Сидоров поднялся, накинул синий стеганый халат, вдел ноги в замшевые, тоже синие тапочки и подошел к окошку. Собственно, это была балконная дверь, и балкон этот висел на высоте третьего этажа плюс еще высота холма, на котором расположился санаторий. Сегодня Сидорова покинуло надоевшее за последнее время ощущение брюзгливого недовольства. Ему все казалось, что на него глядят свысока. Ах, эти взгляды сверху вниз, пусть основа их чисто физическая!
И он все лез и лез выше. Чтобы никто, никогда. И вот сегодня, исключая этот проклятый нарзан, он впервые, пожалуй, ощутил высоту. Не то чтоб она его порадовала. Но успокоила.
Больше в это солнечное утро Сидоров не ощущал ничего, и это было прекрасно. Он покинул жаркий балкон, снова завесил балконную дверь белым (это учтиво и услужливо — повесить занавес, чтобы ему, Сидорову, не было жарко) и подошел к умывальнику, вделанному в стену. И здесь было все в порядке: кран блестел, кафель хорошо протерт, раковина чистая.
И вдруг Степан Иванович понял, кто он. Да! Да! Ему теперь ничего не надо добиваться и требовать. Услуги пойдут впереди него, метя хвостом дорожки и сдувая пылинки с пиджака. Особенно если бы… Но дальше думать он не смел. Потому что иначе опять заболит в груди: «Ага, не достиг, не достиг. Чего-то не сделал. Не сумел. Растяпа. Уехал отдыхать не вовремя. А вдруг, пока ты здесь…»
Но Степан Иваныч отмахнулся от мыслей и набрал в ладони, сложенные лодочкой, воды. Оплеснул лицо, шею, грудь. Растерся чистейшей мохнатой простыней. Да, простыней. А прежде давали всего-навсего полотенце.
Потом сбил капельки, упавшие на шелковый халат, перекинутый через стул (это тоже гордость, хотя и незримая: подняться и накинуть такой прекрасный дорогой халат. И к нему — тапки того же цвета. И все, заметьте, привёз сам из дальней поездки. Такого ансамбля нет ни у кого. Надо оставить на виду, чтобы горничная…), и начал одеваться. Можно опять попросить завтрак в комнату. Но сегодня лучше выйти к столу. Не такой уж он зазнайка. Сам из простых!
Люди, окружавшие Сидорова в этом доме, были разные. И одного с ним роста, и высокие. Они все не точно знали, кто он, только могли догадываться, и потому держались каждый сам по себе, не раскрывая карт. Все одинаково вяло жевали бутерброды с икрой и семгой, некоторые брезгливо отодвигали жареный картофель на край тарелки, а были и такие, что покупали в буфете вино и уносили в свои отдельные комнаты.
Сидоров еще не освоился и потому поел молча. За его столиком сидели двое мужнин — пожилой с бельмом на глазу и помоложе — светлоглазый, напоминавший того молодого волка, что на прощальном вечере, кажется, понравился его дочери. Это сходство раздражало, возвращая мыслью к работе.
Сидоров даже хотел пересесть, но потом взял себя в руки.
О расшатанные нервы Сидорова!
О его усталые, тяжелые глаза!
О эта пустота, населяющая бурливое сердце! Кипение мысли при полном молчании чувств! Чего только не умеет построить, разрушить, оправдать человеческий разум! Как страшно вверить ему судьбу лягушки — это в детстве — и судьбу людей (одного, десятка, сотни) — в возмужалости. Где закаляются до полной непробиваемости такие сердца?!
О Степа Сидоров, как я несправедлива к тебе.
Не ты ли идешь сейчас по тропинке ухоженного парка и вдруг ощущаешь странное покачивание деревьев, дорожки, травы… Так видит человек, когда идет вразвалку. Грузный человек — вразвалку. И губы его оттопырены, потому что подперты щеками. Толстыми щеками. Но ведь Сидоров тощ… Спокойно!
Степан Иваныч почувствовал некое переселение душ. Будто он уже не он, Сидоров, заместитель, а тот — Главный с тяжкими из-за толщины движениями.
Превращение кокона в бабочку… И почти тотчас же что-то сорвалось внутри. Небо, шатаясь, набежало на дорожку, а поперек лежал кто-то короткий, толстый, с застывшим лицом — точно такой, в какого за минуту до того радостно превращался Сидоров.
«Распустились. Не убрали», — успел подумать он. И уже теряя ощущение воздуха и тверди, понял вдруг, что ото он сам, сам лежит на дорожке, и его пальцы хватают прохладный утренний песок.
Очнулся Степан в больнице. Это была, несомненно, городская, столичная больница, лежал он в отдельной, довольно светлой, но не такой прекрасной, как в санатории, комнате. На столике возле кровати прямо на салфетке валялись пилюли рядом с тарелкой. Что было в тарелке, он не видел, но видел торчащую ложку.
— Слава те господи! — услышал он не особенно радостное восклицание. Вошла старая грузная нянька, села на кровать. — Ну что, доедать-то будем?
— Где я? — спросил Сидоров и сам себя не понял. Язык неловко шевелился во рту.
— Не обыкнет никак, — качнула головой нянька. — Какую уж недельку в больнице лежит!
Она не относилась с почтением. Нет, ничуть! Это сразу было видно. Значит, теперь так. И тяжелые слезы замутили его глаза. Теперь, значит, так.
Нянька отворила форточку, и из нее прямо на лицо упало несколько раздробленных капель.
— Закройте… — тихо попросил он. Очень тихо.
Нянька не закрыла. Она вывезла из угла таз со щеткой, намотала на щетку серую тряпку и стала подтирать пол.
Теперь, значит, так.
— Придет дохтур, врежет нам, — шептала старая не ему, а от привычки говорить с собой. — А что ж мне разорваться? Один немой, другой хромой…
Ев темные жилистые рука ходили возле его лица (она вытирала столик тоже серой, может, той же тряпкой). Они напомнили другие руки — белые, толстые, как они запахивают халат, как скрещиваются на груди, как поднимают тяжёлый желтый чемодан… И опять глазам стало жарко.
— Позовите… Пусть она…
Нянька остановилась. Поглядела тоскливыми глазами.
— Чего ты? Вот немой! Горюшко мое. Врача, что ли, позвать? А? Врача тебе?
Она тяжело вошла к двери, и он увидел её темные ноги без чулок, со вздутыми венами.
— На… Насти…
И теперь уже громко, со всхлипом, заплакал.
Родных не вызывали. Никто не знал, дорог ли он кому-нибудь. Ведь прошло так много времени. Без чина, без речи, без желании. Он лежал даже без маски — доктор снял ее с некоторой брезгливостью и сунул в тумбочку. И на лице никакой геометрической фигуры — одна только боль. Сначала-то очень старались спасти. Потом стало ясно. Перевели в другую больницу, поменьше. Но палату дали отдельную. И няньку приставили одну на троих. Здесь он и открыл глаза. Здесь и заплакал.
— Кончается немой, — сказала нянька врачу. — Настю какую-то зовет.
Доктор — молодой, черноглазый, быстрый — влетел в палату, увидел мокрое от слез, усохшее за последнее время лицо с узко прорезанными темными глазами, брюзгливым ртом. Сейчас лицо было желтым и не вмещало ничего, кроме беспомощности.
— На… Настя…
— Вы хотите, чтобы мы позвали ее? — спросил скороговоркой врач, привычно беря руку больного и щупая пульс. — Сейчас позовем. Сейчас позовем… Сейчас… Няня, сестру. Кислородную подушку, пожалуйста. Сестра, Тася, кордиамин… Да, да…
Потом Сидоров уснул, измученный заботами медиков. А доктор стал сам, лично звонить на бывшую работу, откуда изредка справлялись о Степане Ивановиче.
А Степан Иванович шел с маленьким флажком или с яблоневой веточкой, шел по песчаной тропе в коротких штанишках, каких не носил никогда, и в детской матросской шапочке с лентами. Он давно был мал, а теперь еще был весел и беззаботен, и это передавалось поступи, и он шел, как ходят дети под солнышком, по дорожке, посыпанной песком. Он знал, что в кармане его курточки свернута бумага, а в ней точно, абсолютно точно сказано, как жить. Не ему, а всем. Как всем быть. И он был счастлив и успокоен этим сознанием. И ему легко было подойти к любому человеку и протянуть руку:
— Здравствуй. Я — Сидоров.
Без чинов; без боязни, что глянут сверху вниз; без желания, чтоб оцепили. Зачем? Ведь в кармане его курточки… Он был богат и щедр.
— Здравствуй. Я — Сидоров.
Что-то холодное задело его по губам. Он мотнул головой. Может, листок яблоневой ветки? Как тогда, в трамвае. Тогда у кого-то была ветка. А он еще ездил в трамвае. И сквозь ветку увидел старика в тулупе. Ветка — значит, весна? А тот в тулупе. Топтался, задевал, спрашивал.
Пьян?
И все старались — подальше. И Степа (он тогда был Степа) отодвинулся. И вот старик один на площадке. И так — ни к кому почти (может, к парню, что стоял на ступенях) — вдруг взвыл, протянул руки:
— Жена у меня с дочкой на самолете летели — разбились. Жена с дочкой. Вот телеграмму дали…
Степа еще подумал: разбились, а телеграмму дали. Пьян. На водку просит. Потом понял: старик спрашивает, как проехать в больницу. Парень стал растолковывать, но старый махнул рукой, сошел. Он качался на ходу. И теперь Сидоров взял его под руку и повел, потому что бумага, которая в курточке, вмещала и это.
Но слова что-то задело по губам. Это не лист. Не ветка. Что-то твердое. Что-то ненужно твердое. Некий металл. В голосе, в жесте указующем:
— Сядь. Пригнись. Да я тебя!..
Сидоров не мог перенести этого. Это нельзя было. Это нельзя. С ним так? У которого в курточке… Он зашарил иссохшей рукой по груди, ища карман. Но в белой больничной рубахе кармана не было. И значит, не было бумаги. И значит, ничего не было. Ни солнца, ни пожатья чужой руки, ни этого старика в тулупе, которого теперь (не тогда, а теперь) он пожалел и повел, чтобы утешить, потому что даже если есть бумага, горе не так легко уходит из сердца.
Сидоров не поверил и опять стал искать карман. И вдруг зарычал, как зверь, и испугался своего рыка.
— Будет уж тебе. Пей сок, — сказала нянька и зевнула, закрыв рот свободной рукой.
— Я пойду, — попросил он. — Я хочу в поле, и васильки, головками качая… Темно-голубые.
— Пей, пей. И что плетет, немец. — И снова холодной ложкой в губы, толк, толк.
И тут вошла Настя.
— Милый мой! — По щекам ее текли слезы. — Маленький мой! Сыночек! — и припала теплой и мокрой щекой к его щеке. — Что с тобой сделали? — Она подняла его на руки, качнула: — Баю-баю!
И понесла, прижимая к большой груди, его — крохотный комочек из костей и слабого мяса…
— Мама очень плакала, когда он умер, — сказала с оттенком удивления Светлана. — Трудно поверить, но она его любила. Всю жизнь.
Глава XI
Так бывает, что яблочко от яблони падает далеко?
Бывает, бывает! Я сама это видела много раз!
Так и моя Светка. Я говорю «моя», потому что повернулся некий рычажок, и у меня точно выросло ухо: я стала слышать ее. А она — меня. И мы не могли наслушаться! Я уже знала о Светке много: знала, как она смущается пристального взгляда и покрывается от этого бурыми пятнами. Знала, как смущается затем этих пятен, и, тряхнув головой, скорей величественно, чем изящно посаженной, идет ва-банк, смело и резко. Дерзит, насмехается. Гордячка! Так все думают. И это правда, конечно, но не вся. Знала уже ее пристрастие к одинокому хождению, вернее, бегу по лесу. «Ходко грыбы сбирает», — говорит про нее моя хозяйка. И правда, летит по лесу, километры обегает с корзиной. А порой и без корзины.
И еще — резка. Вот диалог на опушке, близ деревни. Она, Светка, с корзиной грибов; он — местный красавец, один из немногих, оставшихся в городке парней, — только вышел, корзина еще пуста.
ОН. Всё собрала?
ОНА (без улыбки). Половину.
ОН. Ну, спасибо.
— Кушай на здоровье.
— Что ж корни-то не обрезаешь?
— Ножа не взяла.
— А не боишься?
— Кого?
— А хотя б меня. Вдруг нападу.
— Я не из тех, на кого ты нападаешь.
(Бурые пятна по лицу, гордое вздергивание головы и — пошла, пошла к деревне.)
— Это почему же? Эй?!
Не удостоила.
И как могло статься, что трудный ее характер пришелся мне впору?
Однажды было так: мы шли лесной дорожкой, пробираясь в соседнюю деревню за поросятиной — там не в срок зарезали поросенка и продавали мясо. И вот нас снарядили. Дорожка была одна, не собьешься. Мы шли молча. Я была благодарна ей за это легкое молчание, за которым было полное доверие, какого не бывает в необязательной болтовне.
Ее присутствие не мешало мне думать о Тебе. Нет, не думать, конечно, все слова Твои, движенья, повороты головы, поступки — все было мною обдумано, переакцентировано, в разные годы получило разные толкования — нет, не думать, а ощущать Твое присутствие, отчего сосна переставала быть просто хвойным, то есть деревом с иголками вместо листьев, а мое желание не уронить, не убить в себе главного поддерживалось необходимостью быть достойной Тебя. Того, что мы были. Все в жизни моей освещено зеленовато и немного призрачно тем единственным нашим летом, которое всегда болит во мне.
Больно, — значит, живу.
Живу и приникаю к удивительной древесной коре, на которой оставили чуть заметный след беличьи коготки; и следую движению травы, колеблемой ветром; живу и люблю тех, кого люблю, и дорожу теми крупицами доброты и привязанности, которые получаю как дар, дающийся даром; живу и радостно слышу Тебя во всей той гармонии, которая остается еще, несмотря, вопреки колючей проволоке и надолбам, выращенным на месте изведенных лесов и полей Земли.
Так вот, мы шли со Светланой по лесной дорожке, свободно думая каждая о своем. И где-то, вероятно, круги и полукружья наших мыслей совместились, потому что она вдруг повернулась ко мне и сказала:
— Он говорит, что наше подсознание в конечном счете включается в движение природы, космоса, всей Вселенной. Что древние это знали, и карта гороскопа, которую чертили они, по существу — карта нашего душевного бытия. Только я не очень поняла.
— Кто это он?
— Тут есть один… вроде бы старик. То есть не старик… Ну, как сказать?
Лицо ее, как всегда при волнении, покрылось пятнами. Она остановилась, помолчала, потом выпалила:
— Зияешь, к черту мясо. Хочешь — пойдем?!
И свернула с тропы, и побежала через малинник, потом через просвеченный солнцем березовый лес, дальше, дальше, не оглядываясь, уверенная, что я не отстану.
Это был странный бег наш — бег ветра вдоль листьев и веток, вдоль птичьих гнезд и лосиных мет; бег волка по следу, не оставленному на земле, а ловимому по воздуху; это было прекрасное превращение наше во что-то лесное, зеленое, вольное — с ветвями, рогами, перьями, шерстью, падающей на глаза.
— Стоп! — прошептала Светка.
Ее остановило не болото, кочковатое и мокрое, в которое мы влетели с размаху, а странный медленный звук, прошедший над лесом.
Это было бы похоже на простое человеческое «Ау!», если бы не звериная гортанная основа, постановка голоса, что ли.
— Это он. Для меня.
Мы еще постояли. Звук не повторился. Светка округло махнула рукой, и мы поскакали по кочкам.
— Не промахнись, — крикнула она шепотом. — След в след иди.
Тропы не было, но она была. Светка, может, чуяла ее, а вернее — знала. Кругом чернели бочаги и трясины, а мы едва замочили туфли. И вот уже сухая поляна и дальше — густой молодой сосняк, где земля пружинила от лежащей слоями хвои.
Светлана протянула руку, я поглядела в направлении ее руки. Там что-то прянично желтело.
Между деревьев, не потревожив их, был втиснут бревенчатый сруб, крытый щепой. Он ничего не нарушал, вписывался свободно. Тропы к нему не было.
В открытое окно я на миг увидала молодое темноглазое и узкое мужское лицо. Потом оно отошло в тень, как мне показалось, намеренно.
Мы не шелохнулись.
Вскоре дверь растворилась, и на пороге остановился высокий худой человек. Седоватая борода его прикрывала все лицо, прямая спина, казалось, вступала в противоречие с палкой, которую он держал. Тот, что в окне, был безбородый. О ком же из них говорила Светка?
— Погоди, леснушка, — сказал человек Светлане вместо приветствия. — А это кто?
Я не понимала, что она может ответить. Но она сказала твердо:
— Это мой друг.
Не «подруга», а «друг». И я, может, впервые ощутила эту твердую границу. Бывают подруги, а бывают друзья.
Человек легко сошел на землю, протянул нам навстречу худые, без морщин руки, и мы пожали каждая по руке. Он был какой-то не старик, хотя и — седая борода. А волосы были бриты наголо. Он пробурчал что-то вроде:
— Рад, рад… — Глаза его переходили с одной на другую, и в них, черных, молодых, светился ум пополам с сумасшедшинкой. — Садитесь, — пригласил он.
Мы сели между сосной и домом, и он опустился рядом в своей очень старой, обтрепанной и выцветшей одежде. Я думала, что от него должно пахнуть залежалым, но ошиблась. Он был опрятен. Опрятен, как лесной зверь. И смотрел, любопытствуя и удивляясь. Потом сказал:
— Все не так просто. Я ведь не сразу решился на это. — И развел руки, будто охватывая поляны, болота, лес. — Если ты родился от человека и тебя воспитала волчица, ты останешься зверем. Если ты воспитан людьми и уходишь от них, путь к зверю закрыт. Ты человек. Тебя тяготят их, твои, наши общие заботы. Ты ощущаешь вину, что живешь счастливее их, выше их, в гармонии и тишине.
Он задумался, будто ушел.
— А чувство вины разве не нарушает гармонии? — спросила я.
— А? — вернулся он. — Вина? Конечно, нарушает. Но я знаю, что Я, лично Я, хочу быть лучше себя. И знаю, что это хорошо. Но навязать этого другим не могу, потому что не хочу. Не навяжи птице скворечника, зверю вольера, пусть даже теплого; ближнему своему не навяжи верования. — Он опять помолчал и потом добавил: — Потому что мы знаем, во что это все обращается.
— Так что же, разброд? — спросила я.
— Нет, терпимость.
— Ко всему?
— О, нет. — Он немного рассердился. — Мы перешли на язык элементарный. Воспитать терпимость — вот что я предлагаю. Это труднее, чем что бы то ни было. Человечество не тренировано в этом направлении. Гармония мира всегда удивляла его, но не увлекала, — вот ведь чудо!
Он резко обернулся, и я заметила — ясно, — что борода, покрывавшая лицо, не последовала за этим движением. И то молодое, черноглазое, что увиделось в окне, осталось открытым во всей своей человечности. Меня и это не удивило. Почему бы нет? Если уж существует Мастер Масок…
Темнело. Мы со Светланой молча топали по игольчатой, пружинящей земле.
Я не философ и не мудрец. Потому, вероятно, не оценила в должной мере Мастера Масок, который простучал тросточкой вдоль всей моей жизни неумолимо, как время; который так удачно перелепил мой нос (если только все это мне не попритчилось). А Светке вот помочь отказался (а она просила, сама призналась мне) и оставил ее с этими пятнами, выдающими нутро.
Почему?
— Тебе не надо. Нет, нет, не надо.
Может, он и знал.
Я не философ и не мудрец. И много больше, чем все теории, мне интересна, к примеру, Светлана с ее пятнами и нелепыми выходками, потому что увлечение этим лесным философом, конечно, выходка.
— Если бы он предложил мне войти в свой дом, — сказала Светлана. Она стояла среди молодых сосен, красных, будто закат содрал с них кожу. — Если бы он… вот тут я бросила бы все городские блага. Помнишь наш разговор на берегу? — Губы ее были сжаты, глаза темны.
— У вас народятся волчата, — засмеялась я.
— Да! — вдруг щедро улыбнулась Светка. — Волчата с идеей терпимости в крови.
Мы рассмеялись и побежали по невидимой, одной ей известной лесной тропе.
Однажды Светлана спросила:
— Ты давно не была в Городе? (Она говорила о нашем с Тобой городе, который потом поглотил Тебя.)
— Довольно давно. А что?
— Я тут ездила насчет пенсии — маме дали пенсию — и прямо ахнула: он весь покрылся какими-то странными скульптурами.
Я почувствовала знакомое сдавливание в горле. Светлана сразу заметила.
— Что с тобой?
— Ничего. Посидим давай.
Мы сели на лавочку возле Светкиного дома. От скамьи шла дорожка к соседнему дому, протоптанная в траве, где желтели одуванчики. И эта трава, и одуванчики — все вдруг включилось, вписалось в мою внезапную и острую тоску.
— Меня даже познакомили со скульптором. — Светки, рассмеялась, вспоминая что-то.
— Ты чего?
— Честно?
— Да.
— Я в него чуть не влюбилась. Ведь это у меня быстро.
— Разве? — спросила я, чтобы немного отдышаться.
— Конечно. Я даже в папиного приятеля была тайно влюблена. Помнишь, приходил к нам — в светло-сером костюме? Знаешь, как он пел! Больше уж не поет.
— Умер?
— Нет. Отец обошел его в этих бегах, и тот, говорят, не поднялся.
И начала дурачиться. Она любила дурачиться и умела придумывать всякую нелепицу.
— Представь, — говорила Светка, — ведь этот человек одно время в своем заведении почти богом работал. Такой был величественный, как продавщица в галантерейном магазине. Я, бывало, с матерью зайду к нему — девчонка совсем, а у него там посетители, посетители. Одна старушка просит:
— Мне бы внимания от дочери.
ОН. Сколько?
— 28.
ОН. Чего?
— Лет, лет ей 28.
— При чем тут лет. Денег сколько хотите?
— Что вы. Мне бы ласки. Ну, как матери, инвалиду труда.
ОН. Пишите заявление. Обеспечим.
Или студент пришел:
— Я против равнодушия. Это же безобразие, сколько развелось равнодушия!
А наш красавец сразу:
— Заявление есть? С фактами? Хорошо.
И — резолюцию: «В участии отказать».
Тогда бедняга — хоть что-нибудь выпросить: «Дайте, — говорит, — ордерок на любовь».
Но тут появляется книга такая — гроссбух. «Фамилия», — спрашивает. «Имя и отчество. Та-ак… Что же вы, студент такой-то. В прошлом году отоварены были. Нет, нет, каждый год не можем».
А старик кошку просил оставить (соседи донимали) — это он разрешил. Так и написал: «Разрешить кошку, но ограничить. В собаке отказать». Хотя старик о собаке и не заикался.
Мы посмеялись. Стало легче. Теперь можно спросить.
— Свет, ты начала про скульптора.
— Да, собственно, говорить нечего. Ужасно он мне понравился, поэтому я сразу нагрубила.
— Как?
— Не помню точно. Мы встретились у бывшего папиного сослуживца. Помнишь, я рассказывала: смуглый, он еще на отцовском чествовании мне приглянулся. А теперь он в этом городе работает. Важный тоже стал. Лицо неподвижное. И этот скульптор — его зовут, между прочим, Юлий — тоже зашел к нему. И что у них общего? И вдруг среди разговора предложил вылепить меня. У него взгляд пристальный, ласковый, и я как-то не так расценила. Хотя он мне и понравился. То есть потому меня и обидел такой оценивающий взгляд, что понравился. И я ответила: лучше пусть меня высекут на камне.
Он засмеялся и сказал:
— Стоило бы высечь! — И откланялся. И глаза сразу другие, без всякого интереса ко мне с моим хамством. Мне бы извиниться, да ведь русский человек задним умом крепок. А он точно отщелкнул меня — вежливо, мягко, но насовсем.
Во мне болело, ныло, стоном стонало каждое ее слово. Понравилась она ему или — интерес художника? Наверное, понравилась, иначе не обиделся бы так быстро. Неужели это возможно? А почему нет?! И как все похоже на него!
Когда боль поостыла, я услыхала Светкины слова. Она собиралась поехать в город.
— Мне нужно там кое-что купить для мамы. Но если не хочешь, не езди, я, пожалуй, и одна справлюсь.
И мы поехали.
Вез нас красавец парень, с которым тогда Светка встретилась в лесу. Он, оказалось, прораб большой торфяной разработки, и у него в распоряжении смешной «бьюик» под брезентом. Машину он вел молча, не оглядываясь на нас, а уши его пылали, выдавая самолюбивое волнение.
— Как звать нашего шефа? — спросила я громко.
Светка пожала плечом.
— Его звать Петя, — ответил парень. — И он не берет чаевых.
Светка улыбнулась. Не знаю, увидел ли он в шоферское зеркальце.
— А как он думает, — опять спросила я. — Мы скоро доберемся до Города?
— Он постарается, — пробурчал Петя. — Он должен еще вернуться и поработать хоть часок. — И добавил, подумав: — Он довольно серьезный человек.
А мимо шли леса.
Автомобиль наш обгонял рабочих в телогрейках, иногда — женщин с мешками и ребятишек, которые непременно поднимали руки.
Вот мелькнул старик без поклажи. В руке — палка широкая и вверху с узором (уж не открытая ли львиная пасть?). И не зря вспомнила эту львиную голову, потому что городской крой костюма, полусапожки с ушками, шаркающая походка — все было знакомо. Петя притормозил.
— Садись, дедушка.
— Мне недалеко. Дотопаю.
— Ну, как знаешь.
За мутной оконной слюдой не разглядеть лица. Мы обе приникли к окошку.
Светка сжала мою руку.
— Не может быть, — прошипела я.
— Точно, Аня.
— Просто похож?
Что он мог делать здесь, такой похожий? Надо было крикнуть ему: «Авалала-карала!» Или про сварогов и чернобогов. Я вспомнила, как он обронил шоколадку и после поил меня чаем. Я ведь думала, он и правда ее потерял. Чепуха! Подбросил, конечно. Тоже не без хитрости, но мил. Мил! Только зря он так — по всем дорогам. Сидел бы возле своего шкафа. Или любопытствует поглядеть на дело рук своих?
А мимо шли леса.
— Ты этим путем ехала? — спросила я Светку.
— Другого вроде бы нет, — ответила она.
— Лесами здесь не пройдешь, — пояснил Петя. — Заболочено.
— А я вышла прямо в лес недалеко от нашей речки и от моста, — сказала я.
— Откуда вышла?
— Я покажу тебе. Это в Городе. Светка удивленно покосилась.
— Здесь такая охота! — заговорил Петя. — Медведи есть. А рыбы!..
Мимо шли леса.
Они шли долго, пока вдали не мелькнул белый дом с балкончиками и серый куличик помойки. Потом еще белый дом с балкончиками и помойкой…
Неужели здесь я бывала в той, имени Тебя, жизни? Не я — Мы. Мы здесь ходили!
— Ну вот ваш Город. Когда заехать-то? Завтра?
Петя остановил машину, мы попрощались, условились, где завтра встретимся.
— Взберемся сюда, — предложила Светлана. Мы влезли на поросший травой холмик и оттуда начали глядеть. Теперь этот город надо было глядеть сверху. (Лучше — с вертолета, чуть выше уровня крыш.) Его надо было обозревать. Странные, вытянутые, высоко поднятые фигуры, черные на серо-голубом, почти не касаясь черных постаментов, легко парили над городом, стремясь к его центру. Они бежали к пожарной каланче. К той, нашей с Тобой каланче! Они не попирали домов и парков, не довлели, но и не соединялись с городом. Город говорил свое, а они — свое. Не знаю, красиво ли это, вежливо ли, можно ли так. Но это было удивительно.
— Сюда будут съезжаться иностранцы, — сказала Светка.
Черные фигуры, издали похожие на огромные флюгера, приближались. Мы подходили к одной, к другой… Я их знала. Узнавала. Это — Бегущий Человек. Это — Птица. А это…
— Аня, это же ты! Как похоже!
— Разве?
Светлана покосилась на меня, но вопроса так и не задала, умница.
Я стояла напротив девчонки, той самой, которая, торопясь к Тебе, чуть не наступила на голубя. Неужели это я? Неужели я могла так бежать, так радоваться?! А как же! Разве теперь не побежала бы, если б ждали Твои глаза, Твои руки. Если б ждали.
Но, вероятно, именно теперь и не нужно было этого. Потому что мы встретились.
Встреча состоялась. Состоялась иначе, может быть, даже выше. Все не просто так. Ты хотел, чтоб я увидела это. Не зря же бегущая девчонка — возле пожарной каланчи, в центре городка, из которого, как мне казалось, я вышла. На той зеленой площадке, где прежде будто для нашего веселья белели куры, теперь были посажены кусты — диковатые, колючие, и среди них прямо без ограды — полевые цветы: клевер, ромашка, колокольчики. Разве что-нибудь уходит совсем?
Это была Твоя тоска. Твой рывок. Твой посыл мне — Юльке от Юлия. Издалека, Как с другой планеты. Монументальная телеграмма, остановившаяся во времени.
Все помню. Все живо. Только перешло, перелилось в иную форму.
Город говорил о своем: о давности, о наших неторопливых предках, сажавших картошку и украшавших жилища деревянной резьбой.
О вере, из которой выросли короткие, как куличи, и наивные, как грибы, белые церковушки с крохотными окошечками и широкими, не золотыми, нет — зелёными или сероватыми куполами.
И о новом, идущем с окраин и уверенно заявляющем о себе. А ещё город говорил о нас — о Тебе и обо мне и о том вечном, что не уходит просто так.
Не было тут противоречия. Они не вносили дисгармонии, эти скульптуры. (Мне поначалу показалось — и зря.) Они только чуть дополнили на свой лад, внесли лепту еще и этого доброго чувства. И впервые, может быть, я поняла, что не прихоть, не тщеславие, не обстоятельства разметали нас — Тебя и меня, а Твое желание сказаться. Нет, не желание — необходимость — насущная, больная, кричащая. Ощущение приближения родов.
В психологии творчества есть понятие — рембрандтизм, основанное на легенде, будто Рембрандт писал свою горячо любимую жену Саскию в то время, когда она умирала. Умирала у него на глазах. А любящие, но увлеченные творчеством глаза не видели этого. Одержимость художника, изобретателя, созидателя… А может ли быть иначе? Не этим ли движим мир?
И последняя, точащая капля несправедливости (Твоей ко мне) остановилась на полпути. Так в музыке бывает вдруг спокойное разрешение диссонанса. Глубокий вдох и ровный выдох.
И тут вдруг оказалось, что Тебя нет.
Я обо всем узнала от Светланы. Не помню, говорила ли, что она собиралась найти Тебя. Найти и извиниться. А может, она затеяла все это ради меня? Где ей знать, что не все подвластно нашей доброй воле?! Так или иначе, но она отправилась: сказано — сделано. Пошла к тому светлоглазому, смуглому, у которого встретилась с Тобой. Это он, как я теперь понимаю, соблазнил Тебя тогда грандиозностью работ. И не обманул, выполнил.
Я ждала Светлану в гостинице. Это была та же гостиница, и по странному стечению обстоятельств нам дали тот, мой номер.
В комнате с белой кисеей на окнах, а по краям — полосатыми шелковыми шторами — устойчивый запах сухарей, матрацных опилок, а может, крахмала от белья. Как всегда в гостинице. За окном сквозь ажурную занавеску знакомые домишки кивнули широкоглазыми окнами. Внизу захламленный ящиками двор — сюда выходила гостиничная столовка, называемая рестораном, — маленькая, уютная, темноватая и очень приветливая. Мы с Тобой почти никогда не успевали поужинать там — закрывалась рано. И, как в тот раз, со двора пахло свежими огурцами. Я тогда все это пропускала мимо, но оказалось, что оно впечаталось где-то глубоко и теперь шевельнулось, закопошилось.
Бывшая своя кровать, бывшая своя гостиница, бывший свой город… Я обняла все это, и оно билось, пульсировало под руками и болело, болело.
Я вышла на крылечко, потом — на деревянный помост тротуара.
Милый, несуразный, неповторимый город — деревянный центр, белоблочные окраины! Проросшая травой и кустарником полярная каланча, с которой давно уже никто не смотрит (есть телефоны); запах печеного хлеба; кружево наличников…
— Аня!
Я оглянулась. Светка была очень взволнованна.
— Странная история. Знаешь, Юлий пропал.
— Уехал?
— Нет. Вчера вечером был у этого моего знакомого, утром должен был зайти снова.
— Проспал, наверное.
— Подожди. Тут посложнее. Дело в том, что город будут сносить.
— Как — сносить?
— Не весь, но почти. И надо было решать со скульптурами. Он, говорят, очень волновался. И вдруг — не пришел. Он не мог не прийти, понимаешь? Это даже они усекли. Послали за ним — не нашли.
— Может, уехал?
— Поезда вечернего нет. И автобуса нет. Машины все на месте. Не на чем. Спросили всех, с кем он общался, — никто не видел.
Я оперлась рукой о стену гостиницы (нет, не мне разыскивать, но — как же так?) и отдернула руку, как от горячего: на белой штукатуренной стене как раз под пальцами чернели три линии незавершенной геометрической фигуры.
Глава XII
Мы сложили Светланины покупки (все больше городские съестные деликатесы вроде колбасы и пирожных да еще высокие резиновые боты, без которых в деревне осенью не жизнь) и пешком двинулись к условленному месту — белым домам окраины. Это недалеко, если бежать налегке да еще болтать о том о сем. Но я не могла втянуться в разговор, и мне путь показался длинным.
А может, залетел в город чужой автомобиль и прихватил Тебя? Ведь если очень попросить…
Петя подъехал не сразу, так что мы вдоволь насиделись на пустыре.
А может, Ты тоже знаком с Шалимовой и она выпустила Тебя на свой страх и риск прямо?
Петя подрулил неслышно. То есть я не услышала.
— Прошу, сеньориты.
— Спасибо, Петя. (Это сказала, разумеется, я.)
— О, благодарности не надо. Отдал перчатку, выхваченную из пасти льва, и удалился. У кого это — у Шиллера или у Гете?
— Убил эрудицией, — фыркнула Светка. И вдруг, как всегда неожиданно, щедро и широко улыбнулась без перехода от хмурости к доброте, сразу дивно хорошея. Конечно, конечно, она должна была понравиться Тебе.
— Ты чего, Аня?
— Устала. Простите, ребятки.
— Анечка, если б не Светлана, я бы влюбился в вас.
— Я бы тоже, Петя.
Мы тронулись. Удивительно долго тянулось пригородное шоссе, сначала с барачными ломами, потом с деревеньками по краям. И как могло оказаться, что там, за этим беленым сараем… Да отсюда даже не видно было леса. Не было его возле города. Еще одно наваждение. Чары. Колдовство.
Нет, никакая Шалимова со всей своей лихостью не могла так запросто выпустить Тебя. Ты — не я. Ты был нужен. Не решилась бы.
Мы ехали молча. Долго. И вот наконец спокойно и достойно, без подготовки и мельтешения низкорослых елочек, пошел, пошел живой, настоящий лес. Задышал свободно.
И вдруг неожиданно на пустынном шоссе — скопление машин, гудки, выскочившие из кабин шоферы. Что это? А может…
Может, Ты пошел пешком по этому шоссе, и теперь вот Тебя узнали, остановили, просят вернуться, требуют…
— Дорогу чинят, — вздохнул Петя. — Придется подождать. — И он тоже вылез из кабины, как я поняла, просто покурить, пообщаться. Впереди стоял грузовик с песком и еще каток, так что проехать можно было запросто, но первая — застрявшая — машина слишком круто свернула на обочину и вся покосилась, плохо держа равновесие, и теперь обсуждалось, как лучше поступить. Обсуждалось без спешки, всласть. А вдаль шоссе стоял лес. Лес зверья и птиц, борьбы за солнце, гибели и выживания.
Он сторонился шоссе, отгородившись зеленым лужком, без пней, покосов и других видимых дел рук человеческих. Одно только дерево — высокое, сучкастое, рукастое, с беспомощно и ласково склоненной листвянистой макушкой — вышло мне навстречу. Я не сразу поняла, на кого оно похоже. Оно было похоже: отлично от других (в сторону нелепости) размахивало руками, обрадованное пли возбужденное какой-то наполовину только древесной жизнью. Тянулось к людям, тянулось ко мне, да, ко мне больше, чем к другим, и все хотело рассказать, объяснить, одарить широко и безоглядно теплом, вниманием, доброй своей, даже, наверное, в ледяную пору незамерзающей энергией. Дать счастливо отразиться в себе, дать мне увидеть себя прекрасной, а все дела мои и мысли — значительными, имеющими огромный, не каждому доступный смысл. Каком странное, необъяснимое с точки зрения разумного сходство!
Но если верить тому лесному человеку, что весь живой и неживой мир вплетается в общий круг…
— Ты кем была раньше, Юлька?
— Я? Деревом. Прости, всего-навсего деревом.
— А я…
Это раньше Ты был кем-то большим и летающим. А может, теперь… Разве невозможно иное воплощение?
Я подошла и прижалась щекой к нагретому солнцем корявому и ласковому стволу. Неужели мы опять вместе?
И Ты увидал меня, и окликнул, и снова дал силы видеть и дышать в полную меру? Какая горькая радость! И какая тревога: а не опрометчиво ли Ты выбежал мне навстречу, незащищенный, открытый чужим взглядам?! Как я боюсь, что где-то неподалеку раздастся тонкий надтреснутый смех… Но мне все думается, что здесь — в косматом, зверином и птичьем, живучем и цепком, зеленом, переплетенном иными, нелюдскими судьбами — здесь не узнать Тебя, не дотянуться. Так оно ощущается, верится вдалеке от этого странного города.
— Аня! Мы ждем!
Затор рассосался. Петя включил зажигание. Я подбежала к машине, стряхивая и не умея стряхнуть странную, до малой черточки реальную эту кажимость. Оглянулась.
Дерево смотрело мне вслед.